- От автора
- Предполагаем жить
- Центральное явление нашей культуры
- Пушкин и судьба России
- Христианство Пушкина: проблема и легенды
- Введение в художественный мир Пушкина
- Пророк
- Под небом голубым
- Несколько новых русских сказок
- "Евгений Онегин" как "проблемный роман"
- Да ведают потомки православных
- Поэт и толпа
- С веселым призраком свободы
- Слово о Пушкине
Всяк дар совершен свыше есть.
Глаголом жги сердца людей.
Пушкин, «Пророк»
Зачем же ни Франция, ни Англия, ни Германия… не пророчествуют о себе, а пророчествует только одна Россия? — Затем, что сильнее других слышит Божью руку на всем, что ни сбывается в ней, и чует приближенье иного Царствия.
Гоголь, «О лиризме наших поэтов»
Валентин Семенович Непомнящий (р.1934) — писатель, доктор филологических наук, заведующий сектором изучения Пушкина, председатель Пушкинской комиссии Института мировой литературы Российской Академии наук (ИМЛИ РАН). Один из ведущих отечественных исследователей творчества Пушкина (первая работа о Пушкине опубликована в 1962 году), автор книг «Поэзия и судьба» (М.,1983,1987,1999) и «Пушкин. Русская картина мира» (М.,1999; удостоена Государственной премии Российской Федерации), десятков публикаций о поэте и о проблемах русской культуры. Основное качество работ В.С.Непомнящего — сочетание глубокого филологического анализа текстов с философским осмыслением Пушкина как центрального явления русской культуры, его места в отечественной истории, в судьбах России, его современного значения. В этих работах возобновился, впервые за советские десятилетия, христианский подход к проблемам, связанным с творчеством и ролью величайшего русского поэта.
От автора
Пушкин — не только моя специальность, но и мой учитель и поводырь в жизни, помогший мне, уже взрослому человеку, воспитанному атеистическим режимом, обратиться к вере, вспомнить о Христе. Отсюда мой постоянный интерес к религиозным основаниям пушкинского гения и пушкинского художественного мира, к изучению, с одной стороны, художнического мышления и творческого процесса поэта, а с другой — той активной роли, какую Пушкин поныне играет в судьбах нашего Отечества и в нашей жизни.
В этой книге собраны некоторые из работ, написанных начиная со второй половины 80-х годов по сие время. Они объединены темой, которая обозначена в подзаголовке: «Пушкин. Россия. Мы». К нам имеют отношение не только общенациональные духовные и культурные проблемы, затрагиваемые в книге, но и те смыслы, которые заключены в личном духовном пути поэта, в его лирике и других произведениях: нам, современным людям, слышно и понятно в Пушкине многое такое, чего не могли еще услышать и понять его современники. И себя самих, свое время, нынешние проблемы и нашу недавнюю историю мы лучше можем постигнуть с его помощью. Поэтому, наряду с размышлениями о самом поэте, о его произведениях, его художественном мире и творческой методологии, его месте и статусе в нашей истории и культуре, в книгу включен раздел VI, где на первый план выходит XX век — последний век второго тысячелетия от Рождества Христова.
Работы, составившие книгу, — разных жанров: исследования, устные выступления и лекции, литературоведческая публицистика, философский памфлет. Одни читаются легче, другие требуют известного труда мысли — и к тому же предполагают иногда обращение читателя к пушкинским текстам, которые цитируются и указываются у меня. Кое-где читатель может заметить возвращения к уже высказанным в других местах книги мыслям — эти повторы сохранены намеренно: при разнообразии тематики и материала, книга представляет собой развитие единого комплекса идей.
Ряд важных работ, соответствующих тематике книги, не мог войти в нее по условиям объема. Это, прежде всего, исследование романа «Евгений Онегин» (см. в моей книге «Поэзия и судьба», М.,1983,1987; в расширенном виде — в 3-м издании той же книги, М,1999), а также работы «Удерживающий теперь. Феномен Пушкина и исторический жребий России» и «Феномен Пушкина в свете очевидностей» («Новый мир», 1996,№5; 1998,№6). В заново отредактированном и дополненном виде указанные работы напечатаны в моей книге «Пушкин. Русская картина мира», М.,1999. При необходимости я отсылаю читателя к двум упомянутым книгам.
Пушкина я цитирую, как правило, по Большому академическому Собранию сочинений в 16-ти тт. (1937-1949).
Курсив в цитатах — мой, разрядкой (подчеркиванием — А.Л.) даются места, выделенные самим Пушкиным (или другим цитируемым автором).
В заключение выражаю искреннюю признательность Сестричеству во имя преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Феодоровны и лично протоиерею о. Димитрию Смирнову за предложение об издании настоящей книги.
1999 (Преображение Господне) — 2000 (Равноапостольного Великого Князя Владимира)
Предполагаем жить
Глава из книги «Да ведают потомки православных. Пушкин. Россия. Мы»
Приближающееся — в нынешних обстоятельствах надо бы сказать: неотвратимо надвигающееся — двухсотлетие со дня рождения Пушкина ставит наше национальное достоинство перед серьезным испытанием. Культурный мир вокруг нас плохо знает, что это такое — Пушкин; но он слыхал, что Пушкин — центр, глава, знамя и первая гордость русской культуры; и он, этот мир, будет внимательно следить, как и чем — в условиях распада государства, развала хозяйства и унижения культуры — встретят русские годовщину, величие которой в полной мере знает только Россия.
Дело, конечно, не в соображениях внешнего престижа, не в праздничной пальбе и юбилейных кликах. Какими мы придем к двухсотлетней годовщине человека, который всегда был для нас воплощением правды, красоты, величия и надежды?
«Пушкин… это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет».
Слова Гоголя цитировались часто, но неосмысленно. Они твердились как отвлеченный комплимент — то ли Пушкину, то ли «русскому человеку» — и воспринимались как некое приятное, хотя и туманное, прорицание прогрессистской пифии, что мало идет Гоголю. Так же отвлеченно принимался и срок — просто — напросто как нечто очень большое и круглое: приятное и туманное «когда — нибудь», не налагающее обязательств.
Оказалось, что срок вовсе не так уж велик и вот — уже почти исчерпан; и это совпало с эпохой нашего кризиса и смятения: «бывают странные сближения», — сказал бы Пушкин. Иные могут полагать, да и полагают, что отмеченное «сближение» есть, может быть, и случайная, но тем более забавная ирония истории, щелкнувшей «русского человека» по носу: вот тебе твои «пророки», твой Пушкин, твой Гоголь, вот ты сам, в своем «развитии»… «чрез двести лет». Таков детерминистски — эмпирический взгляд, видящий в истории лишь цепочку причин и следствий. Однако наши пророки видели в истории России процесс телеологический, целенаправленный, где всё, в том числе и «странные сближения», происходит не только «почему — то», а для чего — то. И если Гоголь сегодня указывает нам на глубокую метафизическую связь судьбы России с Пушкиным, если он видит в Пушкине нынешний ориентир «русского человека», то к его словам надо прислушаться всерьез.
* * *
Появились предвидения: в близком будущем статус Пушкина изменится. «Пушкинистика в условиях советского общества… занималась высшими ценностями… Изменение культурной ситуации с неизбежностью должно привести к резкому спаду массового интереса к Пушкину и к кризису пушкинистики как таковой» (О.Проскурин).
Что касается самого прогноза, то, как говорится, посмотрим. А вот постановка вопроса более чем справедлива: «спад» интереса к Пушкину и «кризис пушкинистики как таковой» должны говорить о духовном упадке в обществе.
Вот только — что понимать под «высшими ценностями»? Если в этой области у нас не существует ничего выше Пушкина — а именно такова была долгое время «культурная ситуация» в весьма широкой интеллигентской среде, — то дело наше плохо.
* * *
Два месяца назад, уже закаленный, кажется, ежедневным чтением нашей свободной печати, я от одной — единственной фразы вздрогнул.
Завершая центральную главу большой, на три газетных номера, статьи, полной жестоких истин и горьких размышлений о судьбе России, писатель Борис Васильев говорит:
«Приходится с глубокой горечью признать, что духовная мощь России погибла» («Известия», 14 июня 1990 года).
Пусть не посетуют на меня тени расстрелянных, замученных, погибших в мясорубках войн и иных побоищ, жертвы Афганистана и Чернобыля, калеки, брошенные дети и все уничтоженные, униженные и обездоленные России, — но такой жуткой фразы я давно не читал.
Принимаю пояснения автора, все вижу, понимаю, сам до головокружения думаю о судьбе моей страны и нации; ужасный образ этой судьбы, когда — то возникнув в воображении, не дает покоя: образ общества, живого организма, который, в результате социально — хирургического эксперимента на живом, разрушен, превращен в полутруп, в люмпен — общество, где жизнедеятельность осуществляется в форме распада — с выделением ядов, смрада и неизбежными тучами больших и малых паразитов. Но разделяя многие мысли автора, вывода не принимаю. Не могу и не верю.
Какой кризис веры должен произойти, чтобы родились слова: «духовная мощь России погибла»!
Нелегко было Чаадаеву изрекать свой суровый приговор Отечеству. Но и Пушкину не легче было, он не меньше видел и знал, однако выводов Чаадаева не принял. Можно ли сравнивать XIX век с нашим? — согласен, нельзя (ссылку в Михайловское Вяземский называет убийством, у нас это вызывает улыбку); но отсюда следует лишь т.о., что нам потребно еще большее мужество, нужна еще большая вера. Собственно, только это нам и остается: вера в то, что истина больше, чем наше знание о ней. Но вот с этим — то, с верой, у нас, как модно сейчас говорить, большие проблемы.
Что касается пушкиноведения, то оно, бесспорно, переживает кризис, и притом уже давно, с 60 — х годов. Но отнюдь не «как таковое».
* * *
Существуют два свидетельства об ответе Пушкина на известный вопрос императора Николая. Вот как передает А.Г.Хомутова рассказ, слышанный ею от самого Пушкина: «Государь долго говорил со мною, потом спросил: «Пушкин, принял ли бы ты участие в 14 декабря, если б был в Петербурге?» — «Непременно, Государь, все друзья мои были в заговоре, и я не мог бы не участвовать в нем. Одно лишь отсутствие спасло меня, за что я благодарю Бога!»
(То есть непременно участвовал бы, но — по причинам исключительно этическим: дружба важнее расхождений в идеологии и политике. После «Бориса Годунова» Пушкин, едучи на свидание, мог ожидать чего угодно, но «идейного противника» он в русском царе уже не видел.)
Этот рыцарский ответ никогда не был популярен у пушкинистов, неспециалистам же почти неизвестен. Известен, широко и хрестоматийно, другой пересказ — со слов Николая Г, который (человек военный), опустив все тонкости, рассказывает, если верить передающему, так: «Что сделали бы вы, если бы 14 декабря были в Петербурге? — спросил я его между прочим. — Стал бы в ряды мятежников, — отвечал он».
Запись эта принадлежит графу М.А.Корфу, не питавшему особой симпатии к своему лицейскому однокашнику.
Так вот, если, образно говоря, из этих двух пересказов предпочесть второй, то это и будет точка, опершись на которую можно при желании перевернуть представление о Пушкине с ног на голову. Формула, записанная Корфом, «Стал бы в ряды мятежников», идеально подходила советском)’ пушкиноведению, как нельзя более отвечала совершившемуся в 30 — е годы подключению Пушкина к идеологической системе, для которой путь Пушкина от «первого этапа русского освободительного движения», от декабристов к большевикам, выглядел едва ли не более коротким, чем его путь к декабристам. Возникло выражение «наш Пушкин». «Наш Пушкин» означало: наш, советский поэт; сразу за Пушкиным шел Маяковский.
«Наш Пушкин» был обязан стать в первую очередь ярым врагом «царизма» — это совершалось всеми правдами и неправдами, на всем пространстве от оды «Вольность» («гимна» Закону и союзу «трона» с Законом) до «Бориса Годунова» (где причина бедствий — цареубийство и узурпация законной царской власти), от сказок о царе Салтане и Золотом петушке до «Капитанской дочки». Он должен был исповедовать принцип «морально все, что на пользу революции»; «Капитанская дочка» трактовалась исключительно в духе протеста против самодержавия и в свете проблемы «крестьянской войны»; Пугачев заведомо ставился выше офицера, не желающего, даже под страхом смерти, нарушить присягу. В те времена (1984 год) мне пришлось идти на ряд ухищрений (впрочем, несложных: увеличение объема примечаний, набираемых петитом), чтобы провести через цензуру статью о послании «В Сибирь», где показывалось, в детальном анализе, что оно — не прокламация, как учили и еще учат, а попытка внушить сосланным свою уверенность в грядущей амнистии, — и вскоре я удостоился ядовитых нотаций, пространных внушений, кратких отповедей как нахал, посягающий разорвать связь «русской литературы с русским освободительным движением» (см., например: Б Бялик. Да были горы — то? Г.Макогоненко. Обратимся к пушкинскому поэтическому тексту. — «Вопросы литературы»,1985,№ 7. — В.Н.). Лучше было представлять Пушкина лицемером и двурушником, который заигрывает с царем и одновременно революционно подмигивает декабристам; такая точка зрения была и «научна», и «на пользу революции», и просто импонировала в условиях той жизни.
«Наш Пушкин» должен был быть материалистом и вольтерьянцем — ему упорно навязывалось пожизненное поклонение фернейскому «цинику поседелому» (так в 1830 году он назвал Вольтера). Он обязан был быть «интернационалистом»: пушкиноведение, в сущности, игнорировало национальную природу пушкинского гения, «русский дух» пушкинского мышления; Пушкин становился инструментом стирания культурных различий между нациями и народами, Западом и Россией, его «всемирная отзывчивость» превращалась в своего рода вселенскую смазь породившей его земле. Сегодня уже непостижимо, что до самого последнего времени вопрос о Пушкине как явлении национальном, в частности как о преемнике семисотлетней русской допетровской культуры, даже и не ставился в сколько — нибудь заметных масштабах.
И конечно, «наш Пушкин» должен был быть атеистом. Его интересовало все что угодно — от политики, истории и экономики (Маркс и Энгельс оказывали ему честь, читая про Адама Смита и «простой продукт») до «дней минувших анекдотов», от женских ножек до положения американских индейцев, — решительно всё, кроме последних вопросов бытия, которые и есть вопросы собственно религиозные. Все такое выносилось за скобки, в область метафор, или перемещалось в кафедрально — философическую плоскость, где теряло всякий духовный смысл, — тут сказывалось, помимо прочего, горделивое невежество в вопросах исповедания, бывшего на протяжении столетий основой национальной жизни (это при почти религиозном почитании «принципа историзма»). Сама проблематика такого рода считалась неуместной в серьезной науке — словно Пушкин писал исключительно для приват — доцентов.
Вся эта ложь, как вольная, так и невольная, то есть по убеждению, заставляла, учила и в самом поэте видеть лицемера. Он у нас бесконечно что — то скрывал, недоговаривал, прятал от цензуры, беспрестанно как — то ухмылялся, юлил и двоедушничал. Как только ему взбредало в голову сказать что — нибудь не укладывающееся в классово — марксистские головы — подозревалась военная хитрость, охотники кидались к черновикам, ища» там то, что могло их устроить. В сущности, беловому тексту Пушкина не очень доверяли: впереди отточенного и совершенного беловика то и дело ставились черновые строки, менее точные или менее многозначные, отброшенные автором, а впереди текста — «подтекст», который удавалось вчитать; то есть процесс творчества толковали попятно, а «жало мудрыя змеи» превратили в обыкновенный эзопов язык.
Могут сказать: я упрощаю и огрубляю, — допустим. На душе накипело. Но ведь детям — то и молодежи Пушкин как раз и преподносился в таком вот топорном облике, вызывавшем порой отвращение.
Так что кризис в пушкиноведении должен был настать, не мог не настать, трава и камень пробивает. Только это вовсе не кризис «пушкинистики как таковой» — это кризис пушкинистики позитивистской, не ориентированной на «высшие ценности». И то, что он настал, вселяет надежды.
* * *
Авторитет Пушкина в культуре сопоставим с царским. Ему как бы определен статус своего рода помазанника. Выводить этот факт из причин эстетических, идейных, социальных по меньшей мере наивно, по крайней мере в России. Впрочем, порой отчужденный взгляд извне может быть как раз парадоксально плодотворен; близко к истине подошел американский ученый И.Спектор («Золотой век в русской литературе», Нью — Йорк, 1971, на англ.яз.), довольно кисло определивший: «Пушкин — кобзарь, то есть народный певец, основа поэзии которого — национальный фольклор». С точки зрения советского пушкиноведения, «интернационального» по методу и социалистического по содержанию, такое утверждение должно выглядеть как настоящее открытие Америки.
Думаю, что главная причина подобного авторитета Пушкина — осознается она или нет, неважно — в том, что Пушкин глубже, шире, правильнее и гармоничнее всех ощущает священную, божественную природу бытия и человека — в том трагическом, страшном, часто постыдном противоречии с нею, какое являет реальная практика человеческого существования. Собственно, человеческая проблематика Пушкина в целом близка коллизии блудного сына, пользующегося своею частью отцовского имения на стороне, по своему убогому разумению. И это совершенно соответствует традициям русской допетровской культуры.
Такое утверждение может показаться голословным только по причине полной неисследованности наиболее фундаментальных особенностей художественного созерцания Пушкина, делающих его созерцанием религиозным — независимо от «идейной» позиции поэта в те или иные моменты его биографии. Если обойтись без евангельских аналогий, то есть более привычным современному сознанию языком, то универсальная коллизия Пушкина — человек перед лицом «высших ценностей». Данная формулировка — не вполне метафора. В мире Пушкина человек (привыкший, по крайней мере с эпохи Просвещения, считать себя безусловно единственным субъектом и, в общем, хозяином бытия) на самом деле существует, действует, поступает и мыслит перед Лицом действительного Субъекта бытия — Лицом не только все видящим, но и действующим. Такое представление о человеке само по себе старо как мир, но соль моего утверждения в том, что для Пушкина — то как творца оно вовсе не «представление», «убеждение», «идея» и пр., а — непосредственная данность его художественного опыта, являемая ему в творческом процессе.
Для того чтобы в этом убедиться, следует изучать как раз то, что наукой о Пушкине не тронуто совсем: законы пушкинской поэтики, и не только с ее статически — структурной стороны, но — как динамической системы; изучать пушкинское произведение — будь то «Борис Годунов», «Евгений Онегин», «Сказка о золотом петушке» или «Я помню чудное мгновенье» — не как идейный, эстетический, иной итог, а как творческий процесс. Я не имею в виду ни «историю создания» произведения, ни «психологию творчества»; речь идет о том творческом процессе, который представляет собою художественная целостность самого произведения: как, что и куда в произведении движется, какое в его ткани происходит поэтическое событие, почему и для чего это движение, это событие совершается.
Выражаясь сухо, речь идет об изучении художественной методологии Пушкина — она нам, в общем, неизвестна.
Такое изучение покажет, что человеческая жизнь у Пушкина и в самом деле есть предстояние и что трагические ситуации у Пушкина — результат слепоты или гордыни героев, забывших об этом своем предстоянии, считающих себя хозяевами в не ими созданном мире, во всяком случае претендующих — в отличие от евангельского блудного сына — не на часть, а на все отцовское имение. Здесь, кстати, метафизический смысл мотива «воров» — самозванцев, от Бориса и Гришки до Скупого рыцаря, от Сальери до Дадона, от «Пиковой дамы» до Старухи с корытом, от Алеко до Пугачева.
Можно сказать, что пушкинский художественный мир есть — не в буквальном, а в методологическом смысле — своего рода икона нашего, человеческого мира. Икона не как предмет поклонения и молитвы, а — по аналогии с «умозрением в красках» кн. Евг.Трубецкого — «умозрение в слове», где наряду с чертами нашего «звериного царства» воплощено, говоря его же словами, «видение иной жизненной правды и иного смысла мира».
Если это так, мы не можем смотреть на пушкинский художественный мир лишь как на объект (изучения, наслаждения, присвоения). Он написан с нас; не он — перед нами, а мы — его персонажи. Мы, утратившие чувство священности мира, в котором живет человек, потребляющие его по своим хотениям, доведшие его до порога экологической катастрофы, производящие над ним утопические эксперименты, ведущие к распаду, гниению, разбитому корыту, — мы должны наконец понять, что мы — внутри пушкинского мира, мы им предсказаны: ведь на этой «иконе» изображается, как люди забывают о «высших ценностях» и что в результате этого бывает.
* * *
С середины 70 — х годов меня просто — таки преследовал «Борис Годунов»; в начале 80 — х к нему присоединился «Пир во время чумы». И вот мы сегодня находимся внутри этих трагедий.
Замечательно, что из всей русской истории начинающий 25 — летний драматург выбрал для своей первой трагедии не что — нибудь (сюжетов и славных, и страшных достаточно, были и сюжеты либерально — обличительного рода), а — вот это: убийство мальчика — царевича, узурпацию власти при попущении народа и — что после этого бывает. Словно в этом сюжете о цареубийстве, которое в России всегда мыслилось как святотатство, «черная месса» (о. Сергий Булгаков), и его последствиях — увиделось какое — то страшное средоточие нашей истории, «модель», которая еще не исчерпана. Достойно также изумления, что молодой драматург построил произведение на версии, которая, как он хорошо знал, не подтверждена. Тут было какое — то непоколебимое убеждение, полное доверие своей интуиции. Словно кто — то сказал ему: «Пиши это — не ошибешься».
И он не ошибся. Сбылось все — не прошло и ста лет после окончания трагедии. И сбылось притом в масштабах, неслыханных в старину, в непредставимом, разбухшем виде: был убит не только мальчик, царевич, но и царь, и царица, и сестры, и приближенные; и полились реки крови, какие не снились XVII веку; и Смутное время, длившееся тогда полтора десятилетия, захлестнуло весь XX век (см. VI. «Да ведают потомки православных» — В.Н.). Ну не пророк ли?
«Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» — торжествовал он, закончив трагедию осенью 1825 года. И написал об этом Вяземскому — вот уж поистине «бывают странные сближения» — 7 ноября. Правда, по старому стилю. (А именно — в годовщину петербургского наводнения, которое потом, в поэме, будет увидено им как бунт природы, вставшей на дыбы в ответ на самоуправство человека, узурпировавшего власть над миром.)
Финал «Народ безмолвствует» появился, как известно, много позже окончания трагедии. Белинский, высмеявший тех, кто видел в «Борисе» тему совести, пенявший Татьяне за то, что не завела роман с Онегиным, как подобало бы передовой женщине, восторженно объявил народное безмолвие гласом «народной Немезиды», богини мщения (которое без новых рек крови уж наверно не обойдется, но разве жаль крови ради справедливости), — и тем положил начало советской трактовке. Но может быть, хоть мы, на своей шкуре испытавшие, что после этого бывает — после убийства, узурпации, террора, попущенных нами же, народом, — поймем смысл пушкинского финала.
Многие думают, что покаяние — это биение себя в грудь, посыпание себя пеплом и поливание грязью. Покаяние, в религиозном смысле, есть изменение сознания, «метанойя» по — гречески. Не это ли должно совершиться в финале трагедии? — но Пушкин опускает занавес, откладывая финал на какое — то будущее.
И «Пир во время чумы», уж разумеется, про нас. Это трагедия отступничества, трагедия попрания и извращения веры, всего, что свято, и — ко всему — трагедия об ответственности культуры, ее творцов и избранников; впрочем, об этом надо говорить отдельно (см. «Под небом голубым», «Поэт и толпа» — В.Н.).
* * *
Трагедия России — прежде всего духовная трагедия, и с нею связана печальная судьба «советского» Пушкина.
Коренной предпосылкой катастрофы было условие не политического или экономического характера; предпосылкой было безбожие отступничество, попрание веры, искоренение памяти о священных основах бытия — все то, чем полон мир в изображении Пушкина. И результате социальные и иные стихии взбесились — как Нева, как Чума, — произведя и продолжая производить неслыханное духовное опустошение, которого жертвами — но и достойными наследниками — мы сегодня являемся.
Однако свято место пусто не бывает, «духовную жажду» не отменить никакой системе, никакому режиму. Если официальная идеология вместо Святой Троицы учредила свою — с большим бородатым Марксом в роли «бога — отца», то в утесненном и изуродованном культурном сознании под «духовностью» стала пониматься прежде всего… любовь к искусству («духовная жизнь» трудового коллектива — совместные походы, скажем, в театр; а у интеллигента — посещение, предположим, консерватории); место же высшего «духовного» авторитета занял — в силу очевидного своего помазанничества — Пушкин, отсеченный от своих духовных корней, перетолковываемый в духе религии человекобожества — марксистском, потом «либеральном», потом диссидентском и так далее.
Христианская вера исключает поклонение человеку, даже такому, как Пушкин. Можно благоговеть перед гением, даром Божьим, который не заслуга того, кому он вручен; перед личным подвигом обладателя, достойно несущего такую ношу. Но ведь это совсем другое. Ни у кого из нас, будь он хоть трижды гений, нет права на поклонение со стороны других. Гений — это такое право, которое все состоит из обязанностей.
Много говорят о правах человека. Не боюсь сказать: слишком много. Забывается одна тонкость.
Есть книга, которую Пушкин дерзнул сравнить с Евангелием; это христианское сочинение, и оно называется «Об обязанностях человека». Не будем обсуждать, можно ли что — нибудь сравнивать с Евангелием, но таково уж было впечатление Пушкина; думаю, его поразила, помимо прочего, сама постановка вопроса: не права человека, но — обязанности его. Это — изменение точки отсчета, другая антропология.
Права человека — категория социальная и юридическая, то есть по отношению к человеку внешняя. Права человеку обеспечиваются извне его, в наружных условиях его существования. Это категория цивилизации.
Обязанности человека — категория культуры, вещь внутренняя; они могут быть реально осуществлены только изнутри человека. В этом смысле истинные обязанности человека есть категория религиозная, духовная, и сформулированы они в заповедях — как необходимые условия сохранности в человеке образа и подобия Бога. Никакие «права человека» немыслимы там, где не исполняются обязанности человека как духовного существа: любые усилия тщетны, любые законы бессильны.
* * *
«Пушкин не будет ни осмеян, ни оскорблен. Но — предстоит охлаждение к нему… Уже многие не слышат Пушкина… как мы его слышим, потому что от грохота последних шести лет стали они туговаты на ухо. Чувство Пушкина приходится им переводить на язык своих ощущений, притупляемых раздирающими драмами кинематографа… Это просто новые люди… Не они в этом виноваты… Между тем необходимость учиться и развиваться духовно ими сознается недостаточно, — хотя в иных областях жизни, особенно в практических, они проявляют большую активность».
Странно — это сказано не сегодня, это Ходасевич, его словам семьдесят лет, его речь «Колеблемый треножник» произнесена тогда же, когда Блок произнес свою — «О назначении поэта». Сегодня Ходасевич онемел бы, увидев, какую большую «активность» проявляют люди, умеющие не созидать культуру, а губить, как готовы они Пушкина и осмеять, и оскорбить. Но я хочу сказать о другом. В 1921 году Ходасевич пророчил «затмение пушкинского солнца», и история, казалось, готова была воплотить его предвидение. Однако Пушкин оказался сильнее истории. Он прошел сквозь нее, невообразимую в своей кровавости и лжи, прошел, сам обдираясь в кровь и волоча на себе клочья чуждых знамен, терпя урон на малых дистанциях, но победив на большой: он всегда был больше стратегом, чем тактиком. Он победил потому, что есть сила, которая больше исторических обстоятельств, — сила «высших ценностей».
Учительница Татьяна Морозова рассказывает мне, как она на уроке спрашивала учеников об их любимых литературных героях, какие разные ответы получала и как один сорванец, встав на ее вопрос и изменившись лицом, тихо, твердо и почтительно сказал: — Петр Андреич Гринев.
* * *
Духовная сила страны, которая, по выражению Пушкина, «своим мученичеством», «растерзанная и издыхающая», спасла христианскую Европу от нашествия «варваров»; которая позже спасла Европу снова и снова; которая, быть может в таинственных промыслительных целях, учинила над собой устрашившее весь мир жертвоприношение, семидесятилетнюю Голгофу, тем самым сказав всему миру — который, впрочем, вряд ли что — то услышал, — что бывает в результате попрания «высших ценностей», извращения «обязанностей человека», — и все же выжила, может быть, для того, чтобы дать оглохшему миру какой — то новый урок, — такая сила погибнуть не может.
Без России миру не быть. Это не мессианство, это просто служение человечеству. Оно, может быть, подобно служению юродивого, истязающего себя веригами.
Остается малость; остается нам самим осознать наконец сущность, смысл и цель нашего служения. История России, сказал Пушкин, «требует другой мысли, другой формулы», чем история Запада. Надо осознать себя, надо дать этой «другой формуле» работать, а для этого нужна духовная опора — вера в правду «высших ценностей». Правда эта, сказал Достоевский, выше Пушкина, выше России, выше всего. Надо выбирать: или «высшие ценности» — философическая абстракция, существующая лишь в наших головах, и тогда участь России безнадежна, или они реальность, — но тогда уж дело за нами.
Страшно вступать в новую эпоху, сходную по всем признакам с тою, когда в прорубленное Петром «окно» хлынуло все, что только могло хлынуть. Но Россия тогда осталась Россией, и она выдвинула Пушкина, давшего начало небывалой культуре, которая показала всему миру, что не в силе Бог, а в правде. То, что воплотилось в явлении Пушкина, — это что — то невообразимо огромное, какая — то и в самом деле сверхисторическая сила, данная моей прекрасной, моей многострадальной Родине в утешение, ободрение и поучение, — знак высокого жребия, положенный на ее чело.
Центральное явление нашей культуры
Глава из книги «Да ведают потомки православных. Пушкин. Россия. Мы»
Пушкиноведение необозримо, это поистине «вторая литература», во многом параллельная отечественной литературе XIX-XX веков. Огромную часть пушкиноведения составляют споры. Явление это в науке обычное и необходимое, но в спорах о Пушкине есть своя любопытная специфика. Споры идут не только по специальным вопросам (биография, датировка, текстология, творческая история произведений и пр. и пр.), но и о самом смысле произведений и его оттенках; правда, без этого и в других «персональных» областях литературоведения никогда не обходится — но дело в том, каковы масштабы и характер расхождений и, в конечном счете, сам их предмет. При всех разногласиях, порой очень острых, при всем многообразии взглядов на творчество Толстого или Гоголя, Достоевского или Чехова либо гениев других литератур, в каждом случае имеются некоторые представления фундаментального характера, общие для всех спорящих. Можно по-разному относиться к тому или иному произведению того или иного писателя (скажем, к «Выбранным местам…» Гоголя или «Воскресению» Толстого), по-разному оценивать ту или иную позицию автора, по-разному трактовать те или иные детали, но в конечном счете и спорящим, и читателю ясно, что речь идет об одном и том же предмете, который всеми сторонами понимается приблизительно одинаково.
С Пушкиным положение иное. Расхождения сплошь и рядом начинаются чуть ли не с первых же слов, полемика разворачивается вокруг представлений именно фундаментального и ключевого характера — таких, от которых зависит общее понимание Пушкина, общее представление об этом феномене, художнике, личности. Очень часто споры, имеющие по видимости смысл специальный и локальный, на самом деле обнаруживают глубочайшую разницу в понимании самого важного в Пушкине, самого сущностного в нем. Вот наиболее известные или близко лежащие примеры.
Для известного критика пушкинского времени Н.Надеждина «Евгений Онегин» — всего лишь калейдоскоп «прелестных картинок», вставленных в неудачную «раму»; для Белинского — «энциклопедия русской жизни», то есть, по существу, тоже «картинки», но в достойной «раме»; для Достоевского — произведение, исполненное пророческого, нравственного и религиозного пафоса; для Ю.Лотмана — реальность от начала до конца литературная (правда, с сильной окраской социологического, культурного и бытового «энциклопедизма»); эти подходы только на первый взгляд кажутся параллельными и друг другу «не мешающими» — напротив: во многом друг друга и впрямь дополняя, и порой очень плодотворно, на глубине они чаще жестко друг другу противостоят. То же — и об отдельных героях: так, для Белинского Татьяна- «нравственный эмбрион», для Достоевского же — идеал русской женщины, да и человека вообще, а вот кто нравственный эмбрион, так это Онегин, — и спор этот актуален до сих пор.
На протяжении всего существования литературы о Пушкине стихотворение «Пророк» для одних — глубочайшее и важнейшее у Пушкина лирическое произведение, где раскрывается его поэтическая миссия, для других — живописная поэтическая стилизация, плод минутного вдохновения.
Для одних Пушкин — явление ренессансного характера, другие категорически с этим не согласны: одни видят в нем преимущественно языческое начало, другие — христианское; одни считают его атеистом, или деистом, или пантеистом, или агностиком, другие — верующим; одни — либералом, другие — консерватором и государственником. Одни считают, что творчество Пушкина есть единое целое, в котором воплощена подлинная душевная и духовная жизнь автора, другие — что оно есть цепь перевоплощений в «чужие» образы, спонтанных творческих актов, если и связанных между собою, то чрезвычайно прихотливо. И так далее, примеры можно умножать до бесконечности.
Все это приводит к мысли, что о Пушкине, центральной фигуре русской культуры, у нас отсутствует целостное представление, которое было бы общим для всех хотя бы в самых основных чертах. Но в таких условиях какое-либо изучение и вообще какой-либо диалог невозможны.
На этом основании время от времени возрождаются предложения вообще отказаться от попыток что-либо в Пушкине «понимать», призывают изучать его «как он есть» — никаких «толкований», никаких «домыслов», «только факты» (биографические и иные реалии, механизмы поэтики и пр.), — то есть по сути дела, изъять из рассмотрения Пушкина как целостное явление (как будто его как такового нет), рассыпать здание на отдельные кирпичики и предоставить каждому составлять из них свои комбинации.
Но ведь именно это как раз и происходит много лет и на каждом шагу — отсюда и те бесконечные споры, о которых говорилось выше. В результате пушкиноведение густо заселено «моими Пушкиными». Обозначаемое этой притяжательной формулой явление полно смысла и значительно уже своей уникальностью (слышал ли кто-нибудь о «моем Шекспире» или «моем Данте»?), — но оно естественно лишь в области приватных вкусов и личных предпочтений, не влекущих за собой ответственности. Претендуя же на статус в науке (и явочным порядком уже его обретя), оно отменяет понятие истины, а стало быть, по определению, и самой науки: наука становится сферой споров не об истине, а о вкусах, что уже похоже на безумие.
В безумии этом, однако, «есть своя система». Она состоит в том, что «мой Пушкин» — не просто моя концепция, мой взгляд и исследовательский подход или даже мой «вкус»; «мой Пушкин» есть мой автопортрет, моя личность в ее хотя бы некоторых фундаментальных чертах, с ее натуральными и идеальными сторонами (порой самим мною не осознаваемыми); это моя система ценностей, но не в моем личном умозрении и мнении, а — в работе, в реальном интеллектуальном действии; «мой Пушкин» — это ворота в мой духовный мир, моя вера.
Поэтому все сколько-нибудь серьезные споры о Пушкине суть споры аксиологические, споры духовные (хотим мы признаться в этом или нет), споры религиозные в широком смысле (каковы бы ни были сами наши убеждения) — столкновения разных духовных миров и разных вер.
Но ведь это вот что означает: что ключ к целостному пониманию Пушкина, что ключевое и фундаментальное в самом явлении Пушкина лежит в области не специальной — филологической, эстетической, собственно литературной, — а в сфере духовной; что коренное в этом феномене — его духовная природа. Сказать это необходимо потому, что в пушкиноведении, особенно советском, установилась прочная традиция отвергать всякие попытки исследовать духовный мир Пушкина, явленный в его текстах, как поползновения «субъективистские» и «ненаучные».
Подобные упреки были неизбежны и даже по-своему логичны в эпоху и с точки зрения «научного материализма», на которой стояла и филология. Но сама-то наука много старше философского материализма: она возникла, тысячелетиями развивалась и делала фундаментальные, на века и тысячелетия, открытия, стоя на почве противоположного философского воззрения, на почве религиозной, признавая не только объективное существование духа и духовной реальности, но и их первенство. С такой, традиционной точки зрения духовный мир Пушкина — реальность сложнейшая, огромная, но вовсе не такая туманная и принципиально непостижимая, как это представляется с точки зрения материалистического агностицизма.
Что же касается методологии исследования духовного мира художника (да и личности вообще), то такая методология существует как реальность не менее твердая и не более подверженная опасности субъективизма, чем любая другая методология. Это — аксиологический, или ценностный, подход.
Ведь духовный мир человека осуществляет себя в поведении — жизненном, интеллектуальном, нравственном, деятельностном, а у художника — еще и в собственно творческом поведении. Речь идет вовсе не о той сфере рефлексов, которая в обиходе называется «психологией»; речь идет о ценностной иерархии: системе предпочтений и неприятий, представлений о добром и дурном, высоком и низком, черном и белом, об идеале и пользе, об интересах моего «я» и интересах «других», о характере и уровне идеалов — обо всем том, что диктует нам наши внешние и внутренние поступки: все это своего рода несущая конструкция духовного мира человека в его умопостигаемых чертах. И все это вещи чрезвычайно конкретные, они есть у любого из нас и, натурально, у Пушкина; все это у него развивается, изменяется, становится, выражается в его творчестве, художественной системе произведения и всего художественного мира в целом, одним словом, представляет собой реальность, явленную на деле («Слова поэта суть уже его дела», — выражение Пушкина в передаче Гоголя), а стало быть, в посильных нашему разуму пределах постижимую.
Исследование этой реальности вовсе не отменяет исследования филологического, наоборот, оно его углубляет, утончает, одухотворяет, исполняет смысла и само без него немыслимо. В результате в неисчерпаемом и внутренне бесконечном пушкинском творчестве мы можем увидеть не неопределенную, «эстетическую» туманность, не броуново движение красот, а то, что составляет, так сказать, внутреннюю форму его как целого: пушкинскую картину мира, — и представляет аналог нашего мира как такового: не хаотическое и случайное образование, а прекрасное, совершенное и гармоничное в своем замысле целое, в центре которого — человек, одновременно и венчающий Творение, и уродующий его. Творчество Пушкина, помимо прочих своих сторон и качеств, есть картина мира, построенная на ценностных основаниях. Это не означает присутствия указующего перста, это означает только то, что в этой картине мира все, как говорится, на своих местах: как высокое и светлое, так и низкое и темное; все соотношения и связи в этой картине естественны так же, как естественна связь и соотношение света и теней между собою и с неровностями ландшафта. Отсюда и возможность постижения, хотя бы частичного, хотя бы в основных чертах, этих соотношений, а стало быть, и картины в целом, и пушкинского духовного мира.
Вместе с тем картина эта — не готовая, а становящаяся, пронизанная сплошным движением в сознании и творчестве автора. Поэтому пушкинское творчество есть также пушкинская духовная биография, процесс постижения мира через себя, процесс, в котором поэт является одновременно и субъектом, и объектом художественного созерцания и исследования; его собственный душевный и духовный опыт есть своего рода «магический кристалл», сквозь который «различаются» и «даль» Творения, и глубины человеческой души. Будучи картиной мира и духовной биографией одновременно, пушкинское творчество тем самым есть — выражаясь сухим языком терминов — художественная антропология, концепция человека.
Наконец, творчество Пушкина есть явление глубоко русское, чуждое рационалистической жесткости, отвлеченной философичности, прагматического активизма, романтической экзальтации (все это свойственно, конечно, и явлениям нашей культуры, но не составляет ее доминирующих качеств); оно есть напряженное сердечное созерцание мира как Божьего творения и мира человеческого духа, осуществляемое исключительно художественным образом. Если говорить о некоем общем характере этого творчества, который Белинский определил как «лелеющую душу гуманность», то это — непрестанное, непосредственное, но целеустремленное движение к истине, признаваемой за самоцель и опознаваемой в добре и красоте. Движение это сочетается с глубоким внутренним покоем, образ которого нам знаком по Святой Троице Андрея Рублева.
То, что Пушкин по сию пору остается центральной фигурой нашей культуры (а по мнению И.А. Ильина — и нашей истории), означает, что само явление его прочно и глубоко связано с судьбами России, ее отношениями с окружающим миром и ее ролью в его судьбах [темы настоящего (и следующего) выступления подробно развиты в работах «Удерживающий теперь. Феномен Пушкина и исторический жребий России» и «Феномен Пушкина в свете очевидностей» (см. в кн.: В. Непомнящий. Пушкин. Русская картина мира. М., 1999). — В.Н.].
Пушкин и судьба России
Глава из книги «Да ведают потомки православных. Пушкин. Россия. Мы»
Недавно мы с моим коллегой Михаилом Филиным составили большую книгу. Называется она «Дар». Подзаголовок — «Русские священники о Пушкине». В этой книге собраны наиболее характерные речи, слова, проповеди, беседы, статьи и отчасти даже исследования творчества Пушкина, его судьбы, его пути, личности, созданные православными священниками начиная с 1880-х годов до нашего времени (упоминаемая в этом устном выступлении книга вышла в 1999 году; фрагмент послесловия к ней см. ниже, «Христианство Пушкина: проблема и легенды». — В.Н.). В ней есть, в частности, составленный М. Филиным раздел, где собраны письменные свидетельства (воспоминания, письма, документы и пр.) прижизненных отношений Пушкина с Церковью и Церкви с Пушкиным. Отношений сложных, потому что до конца жизни за ним тянулась репутация как минимум религиозного вольнодумца, а то и атеиста. Он был человек закрытый, ни в своих письмах, ни в произведениях не декларировал свое мировоззрение. Оно выражалось у него только художественно. И это ему в глазах некоторых православных людей очень вредило. Они не понимали, как это можно веровать и не очень часто произносить слова Бог, Господь, Христос, Спаситель.
Да и сейчас многие верующие люди не могут разобраться, какое же отношение эта гигантская фигура имеет к нашему российскому вероисповеданию. Одно дело — Хомяков, религиозный поэт в полном смысле слова. Или Державин, его оды «Бог», «Христос». Все понятно, все излагается в словах. А Пушкин ничего такого не говорит, но все равно он — центральная фигура в русской культуре. И без него представить себе Россию нельзя. Вот и приходится разымать Пушкина: вообще-то он человек, конечно, был так себе, но зато поэт — гениальный. Или: писал замечательно, но — неправильно… Часто вопрос о Пушкине как поэте православного народа ограничивается выяснениями, насколько веровал или не веровал Александр Сергеевич — выяснениями по цитатам… Однако в той же самой среде, в недрах православной церковной мысли со временем возник и развивается другой взгляд. Становится понятно, что как-то не так надо к Пушкину подходить, не надо делить это явление на составные части, на цитаты. А надо понять его целиком. «Пушкин — это наше все», — сказал Аполлон Григорьев. Это не значит, что в Пушкине все навалено, что в нас есть. Это значит, что он сосредоточивает в себе все главные черты нашего духовного строя как целого. Целое — это не сумма: это есть контекст, что по-латыни означает связность. Пушкин — «наше все» в том смысле, что в нем Россия выражается не в отдельных ярких чертах, а как связное целое.
Не случайно многие русские эмигранты, в том числе батюшки и владыки, именно в изгнании поняли феномен Пушкина. Потому что они не могли обойтись без России. Я умышленно говорю не «творчество Пушкина», а «феномен», то есть Пушкин как явление. Творчество Пушкина — это его деятельность, а явление Пушкина — это уже дело Божие, ведь не он сам себя создал, не он себя подарил России.
Так почему же он центральная фигура в русской культуре? Ни у одной нации, ни в одной культуре мира такой фигуры нет. Шекспир не является центральной фигурой британской культуры. Он — ее вершина, но британская культура не оглядывается на него все время, не сопоставляет себя с ним на каждом шагу, не соотносит, не спорит о нем, не дерется вокруг него. Разногласия главным образом в том, был Шекспир или нет, написал произведения Шекспира Фрэнсис Бэкон или еще кто-то. Все остальное существенное — вне сомнений и споров. То же самое мы можем сказать о Данте: он — гений, он — в начале, он фундамент, но он не является сейчас центром итальянской культуры. Ни он, ни Петрарка. И нигде, ни в какой культуре мира, такой фигуры, как для нас Пушкин, не существует.
Есть другое интересное явление. О Пушкине у нас вот уже полтора века идут бесконечные споры. Не так давно, когда в журнале «Октябрь» появилась глава из книги Абрама Терца «Прогулки с Пушкиным», в нашей культуре началась почти гражданская война — вокруг писателя, поэта, который умер полтора века назад!
Другой пример. Острых споров о Пушкине очень много, но я уже сейчас наблюдаю, что и в «профанной», и в научной среде может состояться очень острый спор, но очень часто этот спор может сойти на нет, как-то смягчиться, если будет сказано: «Ну, в конце концов, у каждого свой Пушкин». И все мирно расходятся, оставаясь, однако, каждый при своем. «Мой Пушкин» — это уникальное явление мировой культуры. «Моего Шекспира» не существует, «моего Сервантеса» не существует, нет «моего Гомера» и т.д., у нас нет ни «моего Гоголя», ни «моего Достоевского». Зато говоря о Пушкине, толкуя его, каждый пишет свой портрет. Говоря о Достоевском, мы тоже можем написать свой портрет — но это скорее будет портрет моей идеологии, системы взглядов. Говоря же и споря о Пушкине, мы воспроизводим не только свою идеологию, но главное — свой экзистенциальный портрет, внутренний, скрытый, потому что мы сами порой не понимаем, как мы глубоко высказываем себя, когда размышляем и спорим о Пушкине.
Есть еще одна очень интересная черта. Достоевского знает весь мир, и признает. Почитает Толстого, Чехова и т.д. Они все в переводе внятны. Пушкин в переводе, если говорить совершенно честно, недоступен. Человеку, не знающему русского языка и России, Пушкин чужд. Для него он в лучшем случае талант, замечательный, любопытный, занятный, окруженный какими-то загадками поэт, но не то, что он на самом деле для нас. Здесь — стена. Тот, кто не знает Россию, не может понять Пушкина, даже хорошо зная русский язык. Нужно обязательно знать, и лучше бы любить, Россию, чтобы понять, что такое Пушкин, как мы это понимаем. Да и мы сами-то его не очень хорошо понимаем, не случайны эти кровавые споры, длящиеся уже полтора века. Они показывают, что у нас нет целостного представления о Пушкине. Когда мы спорим о Достоевском, мы придерживаемся разных мнений, но по крайней мере, ясно, что речь идет о Достоевском, а не о ком-нибудь. Но в некоторых спорах о Пушкине люди, опираясь иногда на одни и те же тексты и факты, говорят такое, что, можно подумать, речь идет о совершенно разных явлениях. Это тоже всем знакомо (опять-таки — свой портрет). Но ведь чтобы спорить по поводу какого-то явления, нужно, по меньшей мере, иметь хоть какое-то общее основание, понятное для всех. В спорах о Пушкине очень часто таких оснований нет: «Вам кажется так, а мне представляется иначе».
Итак, Пушкин — загадка для всего культурного мира. Но есть другая загадка для всего мира, и не только в культурном — в широком смысле. Есть такая загадочная вещь: она называется «русская духовность». Весь мир знает, что у России какая-то «особая» духовность («загадочная русская душа»). Что это такое — никто толком определить не может. Нам довольно внятно, что такое, скажем, японская духовность, британская, итальянская, германская — все это можно охарактеризовать как-то более или менее предметно. Но что такое «русская духовность»? Какое-то облако, которое толком никто не охарактеризовал. И вот я прихожу к выводу, что есть некоторая аналогия между этой непонятностью Пушкина для всего мира и таинственностью русской духовности для всего мира. Все, кто занимается Пушкиным, говорят, что его черты трудно определить. Можно сказать: Лермонтов — мятежность, Тютчев — космизм, пантеизм, Толстой — диалектика души, психологизм. Есть «чеховские интеллигенты», «тургеневские девушки», «гоголевские типы»… Ничего подобного у Пушкина нет: нет «пушкинских типов», нет, скажем, «пушкинских дворян» или «пушкинских мужиков». Его трудно ухватить. Гоголь, обожавший и превозносивший Пушкина, говорил, что у него нет личности. Но ведь и русская духовность в мире признается несколько аморфной. Один человек много лет назад сказал: «Мы, грузины, оформленная нация, а вы — неоформленная». И это не он один так думает. Что-то такое растекающееся, что-то не затянутое в корсет внутренней формы, лишенное внутреннего скелета. Но то же примерно самое говорили и говорят о Пушкине: «поэт вообще».
Или, скажем, «всемирная отзывчивость» Пушкина, о которой сказал Достоевский. Ведь тот же Достоевский говорит, что всемирная отзывчивость характерна для русского человека вообще, для России. Здесь опять-таки Пушкин похож на вот эту русскую духовность. Одним словом, явление Пушкина и явление русской духовности, русской культуры, России — это явления из очень близких рядов.
Замечательно вот еще что: эта самая духовность, о которой мы говорим, имеет в мире этническое определение — «русская». Понятно почему: видимо, для всего мира это качество сосредоточено именно в России, ассоциируется именно с Россией. Но если внимательно читать Евангелие, если хорошо вникнуть в учение Православной Церкви, то мы увидим, что та духовность, которую называют русской духовностью, — это есть и Православие. Православие — это не конфессия, как нам навязывают. Православие — это изначальное христианство, христианство до схизмы, собственно христианство. А конфессии — это все остальное. Митрополит Иларион в своем «Слове о законе и благодати» говорит, что иудеи соделывают свое оправдание при свете свечи закона, а христиане соделывают свое спасение под солнцем Христовой благодати. То есть иудейское оправдание не распространяется за пределы этноса, а христианство светит всему миру.
Стало быть, тот факт, что православная духовность получила название «русской», случился в мире, как говорится, не от хорошей жизни. Мир вынужден был квалифицировать изначальное свойство православного христианства как этническое качество одной только России. В этом сказалась трагедия мира. Трагедия, которая совершилась формально во время схизмы, разделения христианства на «восточное» и «западное»…
К чему сейчас такой широкий контекст? Я не буду останавливаться на различиях между нашим христианством и западным. Просто, когда я рассказываю про это менее квалифицированной аудитории, я говорю: посмотрите на два распятия, православное и католическое: ведь на нашем распятии руки Христа раскинуты почти горизонтально, это символ объятия, а на западном — провисшее тело, то есть главное — телесная мука. Вспомним также: на Западе исчезла икона, а появилась картина. Картина — на которой изображен Спаситель, святые — является моим объектом, я на них смотрю, они передо мной предстоят. А перед иконой — ты предстоишь. И это условно называется «обратной» перспективой (а та — вроде «прямая»). Это не частность и не случайность, тут коренное различие духовных установок. В чем оно?
На Западе главный праздник — Рождество. «Нет гнезда выше орлиного, нет праздника выше Рождества», — говорит немецкая пословица. Почему? А потому, что Бог так любит меня, что Он мне уподобился. А раз так, раз Бог уподобился мне такому, каков я есть, — стало быть, я хорош таков, как есть…
А у нас главный праздник — Пасха, и это совсем другой подход: в Пасхе, в Своих страданиях, в Воскресении Бог зовет меня Ему уподобиться: «Возьми свой крест и иди за Мной».
Это разные точки отсчета. У них отсчет, грубо говоря, «снизу», от меня, а у нас — отсчет «сверху», от Бога (или, на светском языке, — от Идеала). Вот в чем разница западного и восточного христианства. Разные точки отсчета рождают и разную перспективу: у них — линейная, у нас так называемая «обратная». Не Бог предстоит мне на картине, а я предстою перед Богом. И я должен тянуться к Нему, а не Он мне уподобляться на каждом шагу.
Когда Русь выбрала веру (это произошло исторически мгновенно, потому что это было принято сразу всем сердцем, потому что в этом было услышано своё), — это был момент национальной самоидентификации. С этого момента возникла Русь. При всех войнах, междоусобицах, нестроениях — все равно культура была все-таки одна. Но в это же время, когда мы принимали христианство, на Западе назревали предпосылки того, что потом получило название схизмы. Возникло, осмелюсь сказать, два христианства: рождественское и пасхальное. Для рождественской культуры главная проблема — это как жить здесь, на земле. Это проблема судьбы, успеха, счастья, а оборотной своей стороной — проблема трагической участи человека. Западный человек чувствует, что он живет в ужасном, несовершенном мире, и поэтому, мол, он несчастен. Человек пасхальной культуры знает, что он живет в падшем мире, что Господь замыслил мир совершенным и замысел этот остается, но человек превратил этот мир в падший мир. И человек не только несчастен (хотя и несчастен), — он грешен. Он несчастен потому, что виновен. И вот в западной культуре, культуре безусловно великой, все-таки самая главная проблема — это счастье и несчастье. А у нас главная проблема — греха, совести и вины. Ни один поэт в мире не написал: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать», — это написал только русский поэт. И в этой одной строке больше Православия, чем во многих декларациях, где на каждом шагу употребляются слова Бог, Спаситель и т.д.: это не манифестация убеждений, а экзистенциальное, внутреннее выражение православного мироощущения, хотя автор, вероятно, и не думал об этом.
Раскол христианства шел постепенно, ползучим образом, и наконец совершился — примерно тогда, когда Русь крестилась. И вот прошло несколько веков…
В любой культуре, в истории любой нации есть какие-то переломные моменты, но ни в одной культуре Нового времени не было такой гигантской, такой глубочайшей катастрофы, какая совершилась в России в XVIII веке. Петр сделал попытку одним махом, сразу переделать всю нацию. Переделать на протестантский манер, ввести в употребление идеалы силы, успеха, богатства и т.д., а идеалы праведности и святости, проблемы греха, совести, покаяния вынести за скобки (Пушкин, скажем, приводит петровский указ сократить количество монастырей). Так сказать, «сменить приоритеты».
Замыслы Петра были по-русски широки, размашисты. Я вовсе не отрицаю необходимости многих реформ Петра. Но он хотел действительно переделать всю нацию по западному образцу. Не окно было прорублено, а стена рухнула. И хлынуло оттуда все, что могло.
Но без воли Божией ничего не делается. И поэтому в недрах новой русской культуры, говорящей европейским языком, усвоившей европейские манеры, так же исторически мгновенно, как было принято христианство и как Петр произвел свой переворот, возник Пушкин — не прошло и ста лет. И вот этот мальчик, который был воспитан совершенно в западном духе (мама, папа его были светскими людьми, окружение все было светское, и ничего другого он не знал, то есть знал, конечно, в церковь водили, как положено, но читал в основном французские книжки), все усвоил так, как полагалось по законам новой России. Но вот что-то удивительное происходит с ним — и совершенно не потому, что он так хотел, или его так учили, или ему так посоветовали, или он сам додумался до этого. Это просто происходит. В 1817 году, в Лицее, 18-летний мальчик, которого еще абсолютно не интересуют духовные проблемы, пишет экзаменационное стихотворение «Безверие», согласно заданию написать про неверующего человека. Он говорит о муках неверующего человека. О таком предмете, о котором он вряд ли думал глубоко за месяц до этого. Но перед ним стояла творческая задача, а он — очень творческое существо, его душа сразу стала работать. И он написал стихотворение, в котором удивительно точно описаны муки безверия. А написав его, пошел спокойно дальше — ничего с ним не случилось, потому что стихи родились из такой глубины его души, которая еще самому ему недоступна. Он еще сам не дорос до своей интуиции.
И это происходит с ним часто, все время, всю жизнь. Когда он писал «Бориса Годунова», он сам ощущал, что с ним что-то важное происходит: ни об одном другом произведении он не высказывался так много в том смысле, что это был решающий период в его жизни. Он писал в одном наброске: «Являюсь, отказавшись от прежней своей манеры». В другом случае он говорит: «Я чувствую, что душа моя развилась вполне — я могу творить». Еще: «Передо мной моя трагедия. Я прочел ее один, вслух, и бил в ладоши и кричал: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!» То есть он прочел и был потрясен тем, что вышло из-под его пера. Это знакомо творческим людям — изумление тем, что у тебя получилось. Семен Людвигович Франк говорил, что два основания были у пушкинской религиозности: первое — это сознание божественности своего дара, как бы взгляд снизу вверх на это свое свойство. А второе — это отношение к красоте и любви как к Божественной сущности (потому что для Пушкина — если любви нет, то и Бога нет. Тема любви сопровождала его всю жизнь, она была ему нужна как теодицея).
Ведь когда он писал «Бориса Годунова», нельзя сказать, что он был очень уж верующим. А написал трагедию, которая вся проникнута религиозным, христианским духом. Не только потому, что там три важнейших действующих лица-инок-летописец Пимен, Патриарх, который выступает в кульминационный момент всей трагедии, и Юродивый — это люди, имеющие прямое отношение к Церкви; а потому, что там православный взгляд на историю. Это не «историческая» трагедия, а трагедия об истории: что такое история и как она получается.
Все дело в том, как эта вещь построена. Не что говорится здесь и здесь, а как между собой все связано. У Пушкина главное — не сам строительный материал, а постройка. А мы очень часто и об искусстве судим по строительному материалу, из которого оно сделано, а не по архитектонике.
В этой трагедии два преступления: одно — убийство, другое — избрание убийцы на царство; одно преступление совершил герой заглавный, другое преступление совершил народ. Это народ попустил, чтобы Бориса избрали. А попустил потому, что надо было скорей свалить с себя ответственность. Начало трагедии построено так, что все думают только о себе. Это начинается с первой сцены, с разговора Шуйского с Воротынским, там все прорисовано четко, вся экспозиция, расстановка сил: никто не думает о России, все думают только о своих интересах. И так продолжается дальше. И кончается это тем, что народ попускает избрание Бориса на царство. И все действие трагедии есть следствие греха людей. Люди несчастны, потому что они сами виноваты. Вот о чем трагедия.
Борис появляется в трагедии шесть раз. И каждый раз, в каждой сцене, в которой он появляется, он обязательно делает одно и то же — он не слушает свою совесть. Она ему говорит то, что должна говорить человеку совесть, — а он затыкает уши. И как только он это делает — либо в следующей, либо в ближайшей сцене Гришка Отрепьев совершает новый шаг к победе.
Получается, что не обстоятельства влияют на нас, а мы влияем на обстоятельства. Духовная жизнь человека влияет на окружающую обстановку, а не наоборот. И трагедия в этом смысле построена по принципу «обратной перспективы», по принципу первенства духа над материей. Все в этом смысле построено четко, хотя как бы незаметно. Толстой говорил: «Борис Годунов» — холодная, рассудочная, выстроенная трагедия. И в самом деле, трагедия очень точно выстроена. Этот молодой человек, который только год назад писал в одном письме, что он учится атеизму, в построении трагедии ортодоксально православен — как Пимен. Автор «Бориса Годунова» смотрит на человеческую историю как бы извне (в отличие, например, от западной исторической трагедии — ведь Шекспир находится как бы «внутри» истории, им воссоздаваемой, он смотрит на падший мир изнутри самого падшего мира). И оказывается, что главное действующее лицо, режиссер всего — Божий Промысел. Все происходит так, как нужно. Процесс истории у Пушкина — это процесс искажения людьми Божьего замысла о человеке, но это процесс, над которым все время есть попечительный взгляд, который не дает человеку свалиться окончательно в пропасть. Промысел печется о человеке и дает ему возможность опомниться. Эта возможность — в финале, когда тот же самый народ, который избрал Бориса на царство, а потом отвернулся от него, стоит — и почти на его глазах убивают другого мальчика, царевича Феодора. И когда ему говорят: «Кричите: «Да здравствует царь Димитрий Иванович!» — он безмолвствует. В начале трагедии он кричал цареубийце: «Борис наш царь!» Сейчас он не хочет кричать. Казалось бы, народ должен пасть на колени: «Господи! Что мы натворили!» Однако тут занавес опускается. Нет покаянного вопля, но есть безмолвие, и в нем — надежда на прозрение.
Что было бы, если бы после всего того, что мы сделали с Россией и с собою в XX веке, у нас все пошло бы хорошо? Это значило бы, что Сальери прав: «…нет правды на земле, Но правды нет — и выше», то есть можно творить все что угодно. И вот «Борис Годунов» Пушкина — это та модель истории, которая показывает, что нельзя творить все что угодно.
«Борис Годунов» — это только один пример того, что художник может не говорить вслух «я православный, я христианин». Он излагает свое понимание, свое слышание Божьего мира. И если оно христианское, это можно понять вне деклараций.
Почему я говорю о феномене Пушкина в связи с историческим жребием России? В эпоху петровской революции, которая должна была переломить русскую историю, прервать нашу духовную родословную и построить новый мир, в это самое время в недрах той самой светской культуры, которую создала петровская революция, родился гений. А мы знаем, что культура для России — это самая важная вещь. Видимо, нужно было, если опять-таки судить в каких-то провиденциальных, промыслительных категориях, чтобы замысел Петра удался не вполне, чтобы он сработал только в известной мере. Чтобы Россия сохранилась как православная страна. Потому что без России как православной страны, без этой «русской духовности», вероятно, и мир не сможет существовать; потому что у России есть особая миссия по отношению ко всему миру. У Пушкина — особая миссия по отношению к России. Он связал то, что разрубил Петр. Вот почему он — центр нашей культуры, средоточие наших национальных ценностей.
Недавно минуло 1000-летие крещения Руси. Наступает XXI век, ему предшествует 1999 год — год 200-летия Пушкина. Гоголь говорил, что Пушкин — это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет. Обычно эти слова понимали как предсказание — мол, через 200 лет все будут такие, как Пушкин. Нет, это не предсказание — это переданное нам через Гоголя промыслительное требование, чтобы мы, в нашу эпоху испытания и искуса, держались. Ведь одна такая эпоха уже была, Петровская, и Россия сумела выстоять — во многом благодаря тому, что родила Пушкина. Значит, и сейчас сумеем, если у нас есть такое явление, как Пушкин.
1996
Христианство Пушкина: проблема и легенды
- Проблема
Конец эпохи государственного атеизма в России, прекращение открытых гонений на православную веру и Церковь, идеологического контроля государства над культурой, провозглашение свободы слова и свободы совести — все это высвободило самые разнообразные, разнонаправленные и разнокачественные силы, порой чрезвычайно опасные; в частности, крайне обострилась постановка той проблемы общественного и культурного сознания, которая издавна обозначается как «искусство и религия». В послесловии к упоминавшейся выше — в выступлении «Пушкин и судьба России» — книге (Дар. Русские священники о Пушкине. Составление, подготовка текстов и комментарии М.Д.Филина и В.С.Непомнящего. Послесловие В.С.Непомнящего. «Русскiй мiръ» — «Вече», М.,1999. — В.Н.) я попытался показать, что искусство как таковое и христианская религия как таковая не находятся ни в противоборствующих, ни в состязательных отношениях: такая постановка проблемы — факт нашего сознания, а не самой действительности. Никакой род деятельности сам по себе не может ни «противостоять» религии, ни «состязаться» с ней: вера — это не «деятельность», не профессия, вера — это жизнь и поведение. Вопрос не в том, дурно или хорошо — владеть пером, кистью или смычком, дурны ли спички или топор сами по себе; вопрос в том, в чьих руках все это находится и для чего используется. С верой может состязаться, вере может противостоять только другая вера: будь то вера в «богов иных», в науку или в искусство.
Между тем в последние годы в рассуждениях как позитивистов, так и верующих отношения искусства «вообще» и религии «вообще» приобретают вид именно неразрешимого конфликта, доходящего до взаимоотрицания. Это сказывается — иногда прямо, иногда сложно и опосредованно — в некоторых работах и спорах о Пушкине.
Порой возрождаются самые примитивные и начетнические представления и методы — вплоть до прямой «сверки» образной системы пушкинских произведений со Священным Писанием и догматическими положениями, в результате чего многим произведениям Пушкина, и не только его, грозит — в практике некоторых школ и преподавателей — чуть ли не отлучение от курса литературы. Вообще, то там, то здесь культивируется своего рода «православный снобизм» в отношении к светской культуре; в ходу бывает кичливое пренебрежение к специфике художественного мышления, когда простая некомпетентность и эстетическая глухота рядятся в одежды христианского правоверия. С другой стороны, если советская наука делала из Пушкина закоренелого атеиста (впрочем, некоторые православные и сегодня продолжают эту традицию), то теперь новую и активную жизнь получают старые легенды, искажающие подлинный облик поэта, создающие приторно-благочестивый портрет, жизнь из которого ушла. Самое прискорбное, что при этом порой не гнушаются никакими средствами — лишь бы достигнуть цели.
Недавно в одной лавке я увидел книгу духовных стихов русских поэтов, составленную неким духовным лицом. Туда вошло и знаменитое стихотворение Пушкина «Странник» — одно из поздних произведений поэта, исполненное глубокого религиозного смысла. Но вошло оно в «исправленном» составителем виде. У Пушкина:
…И я бежать пустился в тот же миг…
…Дабы скорей узреть, оставя те места,
Спасенья верный путь и тесные врата.
А у составителя так:
…Дабы скорей войти, оставя те места,
Спасения путем в таинственны врата.
Что не устроило нашего «редактора» в пушкинском тексте, чем он показался ему недостаточно «правильным», сам ли он придумал «исправление» или у кого позаимствовал — остается догадываться; а что, по-видимому, несомненно, так это его непоколебимая убежденность: раз на мне сан, стало быть, имею право переделать по своему разумению написанное-неважно кем: Ивановым, Петровым или Пушкиным…
Такое стремление «поднажать» на Пушкина, чтобы сделать его более «православным», не редкость. Мы не всегда даем себе труд задуматься о том, что связи Пушкина с нашим исповеданием куда более глубоки, чем думают иные доброхоты, — и именно в силу своей глубины менее очевидны, не выпирают, не лезут в глаза. Более того, среди части нашего духовенства и мирян распространено убеждение, что светская культура вообще-то может, да и должна бы, уподобиться культуре церковной — тогда-то, мол, она и станет совсем «правильной». Искусству, пишет сегодня протоиерей Владислав Свешников, следует «отказаться от культа автономности». Если такой логике быть последовательной (слово «культ» здесь по существу тактическая оговорка) — тогда светское искусство, не отказавшееся от «автономности» (то есть сохранившее свою собственную специфику, собственные свойства и средства), несомненно подлежит прещению и отмене — по крайней мере, в системе церковного просвещения. Между тем еще в 60-х годах протоиерей (позже — архимандрит) Александр Семенов-Тян-Шанский утверждал: для того чтобы «доходить до сердца человека», «искусство христианское должно быть автономным, то есть оставаться при своих средствах».
Ведь человеческое, мирское искусство есть не что иное как адамово воздыхание падшего мира: «Раю мой, Раю!», созерцание — «как бы сквозь тусклое стекло, гадательно» (1Кор.13,12) — мира истины, добра, красоты — созерцание, милостью Божией оставленное падшему, однако не утерявшему образа Божия человечеству. Искусству не под силу, по самому его происхождению, поставить падшего человека «лицом к лицу» (там же) с горним миром, познать его «подобно как я познан» (там же) — даже претендовать на это оно не должно: язык его опосредован, ибо «стекло», за которым утраченный мир, — тускло. Эта опосредованность и есть «автономность» мирского искусства: свидетельствуя, в меру сил, о мире истинном, само оно существует в мире падшем, больном, и обращается не к здоровым, но к больным, с эллинами говорит как эллин, с иудеями — как иудей. Требовать, чтобы земное искусство говорило непосредственно «небесным» языком — значит думать, что Царство Божие осуществимо — или «почти» осуществимо — в падшем мире; а потому подобные требования могут, с Долей условности, быть названы эстетическим хилиазмом.
Крайности, как известно, сходятся; это происходит и в нашем случае. Эстетический хилиазм есть общая точка, с одной стороны, «фундаменталистских» воззрений на отношения светского искусства, в том числе искусства Пушкина, с православной верой, а с другой — противоположных им воззрений либерально-обновленческих, так называемого «нового религиозного сознания». В решении вопроса об «искусстве и религии» эта традиция наиболее ярко выразила себя в знаменитой книге Бердяева «Смысл творчества» — необычайно талантливой, порой, в отдельных констатациях, идеях и прозрениях, может быть, и гениальной, но в целом, в своей общей концепции — представляемой автором как христианская, — поразительно неумной. Одно из оснований ее концепции состоит в настойчивом утверждении, что акт грехопадения — эта великая катастрофа и величайшая тайна, под знаком которой протекает история человечества и без осознания которой христианство перестает быть собой [Мотив грехопадения занимает важнейшее место в художественной системе Пушкина, хотя впрямую упоминается редко (впервые — в «Гавриилиаде»), со всей же силой он звучит в «Анчаре» (см. ниже, «Под небом голубым»). — В.Н.], — не имеет, мол, в нашу эпоху никакого значения. Ибо (согласно идее западного богослова XIII века, нашедшего, что человеческая история — это предопределенный процесс постепенного раскрытия нераздельно-неслиянной Троичности Бога по «раздельным» этапам, каковы: «эра Отца», «эра Сына» и «эра Святого Духа») наше время есть «эра Святого Духа», когда падшее состояние мира упраздняется или снимается и целью христианской жизни становится, или оказывается, не спасение, а — творчество под эгидой исторически «отделившегося» от Троицы Святого Духа; иными словами, в названную эру человек может творить так, словно ничего не случилось, не отягощая себя «бременем послушания последствиям греха» (как называет автор книги все связанное с грехопадением, с идеей спасения, с покаянием). «Смысл творчества», таким образом, объективно оказывается в том, что творчество вытесняет христианскую религию, как «религию Сына», и заменяет ее собою, творчеством, как «религией Духа», цель которой — «преображение» (логичнее бы сказать — усовершенствование) мира и человека в иных целях и иными средствами, чем спасение и воля к спасению; ибо там, где не имеет значения акт грехопадения, не нужен и Спаситель.
Все это — как и противоположный «сверхортодоксальный» взгляд, описанный выше, — несомненный хилиазм, мерцающий оттенками то протестантства, то марксистской утопии. Нынешние последователи традиций «нового религиозного сознания» не столь радикальны, как молодой Бердяев; идея спасения души не отвергается во имя творчества — творчество само по себе становится средством спасения, в творчестве «сгорают» (игумен Иоанн Экономцев) грехи художника. То есть в вопросе о спасении крестная жертва Богочеловека и следование Его заповедям уравниваются по действию и силе с человеческим искусством, со «смыслом творчества» человека.
Но того же, по существу, требует и наш православный «фундаментализм», призывая мирское искусство уподобиться церковному.
А ведь искусство — хоть ему и свойственно устремляться к небу — рождается в мире, который пал, который лежит во зле и в который пришел Спаситель. Поэтому в реальном своем бытовании искусство бывает разное: устремленное вверх и тяготеющее вниз; повинующееся Божественному заданию, отвечающее на жертву Сына Божия — и подчиняющееся лишь «природному» естеству, корень которого — чувственное начало, покорное любой из стихий этого мира. Власть естества, если она доминирует, отдаляет от неба даже гения; устремленность же к небу, к идеалу Христа, способна в истинном искусстве «заражать» собою и естество. В 1937 году в Париже протоиерей Сергий Булгаков говорил: «Человеческому сердцу дано растлевать красоту и растлеваться ею, и властью этой обладает искусство. В низинах его пресмыкается блуд, на вершинах горит заря бессмертия». А за полвека до этого, в 1880 году, священник П.Клепачевский говорил в кронштадтском соборе: «Когда церковное слово, призывая нас к небу и вечности, останавливалось на земной жизни человека, то светская литература… старалась осмыслить все земное и подвести его под известные нормы, которые она называла своими идеалами… Светская литература способствует нравственному совершенствованию людей».
Здесь важно употребленное священником понятие идеала. К чему обращено искусство художника — к «низинам» или к «вершинам», к растлению или к совершенству, — зависит от тех «норм», которые художник «называет своими идеалами». Ведь «назвать своим идеалом» кто-то может и не христианскую «истину» — что нередко и происходит с художниками. Здесь окончательно снимается абстрактное со- и противопоставление искусства «вообще» и религии «вообще». Оно точно так же нереально и беспредметно, как в отношении любой области человеческой деятельности (которая по существу всегда есть творчество): как «математика и религия», «медицина и религия», «торговля и религия», и т.д. и т.п. Реальны же и предметны отношения человеческой личности с Богом, которые проявляются в любом творчестве, в любой деятельности, будь это искусство, наука или ремесло каменотеса. Искусство здесь находится в «особом положении» — и притом именно в христианскую эпоху, когда сознание и породило проблему — прежде всего потому, что в художественной деятельности и ее плодах полнее, нагляднее и очевиднее всего, непосредственно и неотчужденно проявляется весь состав конкретной человеческой личности, а стало быть — вся конкретность ее личных отношений (или отсутствия таковых) с Богом, с Христом (отношений названных или не названных, являемых открыто или молчаливо сокровенных). Эта конкретность личных отношений художника с Богом и есть основа того, что называется его идеалами.
Идеал есть не то, что «больше всего нравится»; идеал — это понятие о связи истины, добра и красоты, то есть о той полноте совершенства, в которую верует человеческое сердце. Представления об истине, добре и красоте — индивидуальные, национальные, вероисповедные и прочие — могут различаться, и сильно; но само триединство, сама полнота его и степень, есть конкретное существо идеала, его содержание, его иное имя, символ всякой веры; неполнота или ущербность этих представлений есть степень поврежденности образа Божия в человеке, степень удаленности от Христа — поскольку реальная полнота идеала воплотилась во Христе.
«…Образ Божий в человеке есть нечто динамическое. Он есть устремление к Богу, к совершенству. Это движение, которое не может остановиться», — писал протоиерей Александр Семенов-Тян-Шанский. Мера устремленности, степень динамики воплощается в поведении человека, в том числе в его труде, который — в смысле личных усилий — всегда есть творчество. В самую способность человеческого творчества Бог заложил задание устремления к идеалу, то есть к Богу, к Христу; это — задание «в поте лица» (Быт.3,19) искупать грех отпадения от Бога, а со времени Боговоплощения — звать к преображению человека, к гармонии с Богом, но — «памятуя, что эта гармония уже вошла в мир… в личности Богочеловека», через Его крестную жертву, указывающую всякому человеку путь к идеалу (протоиерей Александр). Художническое ощущение целостности мира, его смысла и цели, художническая способность непосредственно ощущать присутствие Божественного идеала в мире и в человеческом сердце — есть художественный гений. Творящий гений — это потребность в идеале, указанном Христом, приведенная в творческое действие; творящий гений — это религиозная потребность человека, являемая в процессе, в пути его духа; она может воплощаться как в художественном, так и в ином творчестве, а на высших степенях возможностей человека — в христианской жизни, в христианском подвиге, святости как «высшем художестве». Искусство вовсе не «оспаривает духовное пространство молитвы», как пишет современный пушкинист, — оно порой усваивает функцию молитвы, непроизвольно стремясь уподобиться ей.
Гений есть потребность в молитве, жажда веры, дарованные человеку, приведенные в активное действие. Но связь религиозной потребности со своим Источником может быть, в силу поврежденности человеческой природы грехом, сама повреждена, извращена или вовсе разорвана, и это влияет на деятельность гения, ее плоды и его обладателя; в предельных случаях религиозная потребность меняет свой предмет, и Божья благодать, которою осенен человек и человеческий гений, подменяется тем, что С. Булгаков однажды метафорически назвал «черной благодатью».
В области искусства подобное происходит прискорбно часто, хотя и в разных степенях, — как в художественной практике и, соответственно, в судьбе художника, так и в теоретическом творчестве. Как бы ни был велик человеческий разум, он по природе дискретен и конечен: отдельное, множественное и сложное понятней ему и ближе, чем единое, целостное и простое; поэтому ему непосильно постигнуть простую целостность Бытия, заключенную в Первоначале всего сущего — Троице, Которая, по слову преподобного Андрея Критского, простое Существо, Единица присно покланяемая. В самом человеке эта простая целостность сказывается — в той мере, в какой человек сохраняет в себе образ и подобие Бога, — в нераздельно-неслиянном единстве ищущего, постигающего, изобретающего разума с воспринимающим, желающим, побуждающим чувством и с вопящей — к образу Божию, к Богу — совестью. Это единство дает человеку способность ощущать в самой жизни, своей и общей, присутствие нераздельно-неслиянной троичности Бога, проявляющейся, в доступных нам формах, как единство истины, добра и красоты. Тройственная целостность — разум, чувство, воля-совесть — лежит и в основе божественной способности всякого творчества, переданной человеку.
В силу поврежденностн человеческой природы ее троичность имеет тенденцию к утрате нераздельности, к распаду, к обособлению «ипостасей», при которой одни — в человеческом сознании и практике — гипертрофируются в своем значении, другие умаляются и каждая по-своему извращается и искажается: разум может тяготеть к бездушному рационализму и прагматизму, чувство оборачивается чувственностью, совесть подменяется голой бесчеловечной «волей» или, наоборот, безвольным «самоедством», и т.п. Деформируются отношения человека с окружающим миром, в том числе в сфере познания. Обособившийся разум стремится подвергнуть разъятию любую простую целостность, что-то в ней обособить в качестве более всего (или единственно) важного. Представляется, что путем разъятия облегчится познание — к примеру, познание того, что же такое искусство, каковы его сущность и цель.
На самом деле процесс познания таким образом запутывается. В качестве «самого важного» разум обособляет, как правило, то, что более всего у него «на виду», что наиболее явственно представительствует для него от лица всей полноты явления, в чем наиболее очевидна явленность познаваемого предмета.
Применительно к искусству такая наиболее очевидная явленность есть красота, воспринимаемая прежде всего началом чувства. Из полноты человечности, то есть печати образа и подобия Божия, воплощаемой в единстве разума, чувства и воли-совести, познающий разум выделяет и генерализует чувственное начало, которое, в случае искусства, представляется ему «наиболее» важным не только фундаментально, но и тотально. В результате художество как таковое целиком подводится под определение и специфику красоты, понятие искусства связывается целиком и исключительно с возможностями чувств. Та бытийственная полнота художественного творчества, в которой красота — как и другие «ипостаси» — не господствует над целым, а своим специфическим, особым образом служит полноте, втискивается в исключительно «эстетические» рамки. Таким образом искусство отчуждается от стремления к полноте идеала, от самого Источника этого свойственного человеку стремления, полнота идеала выглядит уже достигнутой, узурпируется, искусство претендует в человеческом сознании на роль религии — тогда как искусство есть лишь отблеск Божественной полноты и красоты.
Подобное может происходить и с другими «ипостасями» триады: наука, узурпируя начало истинности, начинает считать себя тоже «равноправным» (или «параллельным») с верою путем к «Абсолюту»; то же и с нравственным, политическим, экономическим учением, если оно обособляет из триады как «главное» — и присваивает себе как свое свойство — начало добра. Исторические примеры нет нужды приводить, и любой из них есть свидетельство того, что если речь и идет о каком-то «своем» пути, то не к Богу, и даже не к «Абсолюту», а к революции, ломке, смуте, к разрушению в человеческом сознании и сердце целостности Бытия, его троичного единства. Что же до красоты, то ее обособление как раз и превращает красоту в объект, за который «дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей» (Достоевский). Узурпация Божественного человеческим неизбежно оборачивается из акта «эстетического» — мировоззренческим и, значит, расползается из области суждений об искусстве на все другие области человеческого бытия. Не случайно эстетизм и «жизнестроительные» фантазии начала XX века оказались в числе обстоятельств, предшествовавших революции: ведь идеал блоковского «человека-артиста» вовсе не так, как иногда кажется, далек от пресловутого «строительства жизни по законам красоты» в учении Маркса-Энгельса.
Именно отождествление дела искусства прежде всего с функцией красоты и есть почва для проблемы «искусство и религия» в том ее мистифицированном виде, в котором она возрождается: в виде мифа о «двух религиях», двух параллельных путях к Богу — пути веры и пути искусства.
Понятно, почему проблема эта возникла и приобрела остроту в христианскую эпоху. Именно христианство открыло и сформулировало истину о Троичности Бога и именно оно постигло опасность тенденции к распаду образа и подобия Бога-Троицы в человеке. Постигнуть природу этой угрозы пытается, понятно, прежде всего разум; но, сам подверженный тенденции распада, захваченный энергией обособления, он не всегда в силах адекватно осмыслить процесс, внутри которого сам находится, — и в результате возникает мистифицированная проблема, где, с одной стороны, претензия эстетизма быть религией, а с другой — боязнь, ощущение «опасности» светского искусства, кажущегося и в самом деле «второй» верой, ложной религией, ересью, с которой надо бороться во имя истины Христа.
«…Цель художества есть идеал, а не нравоучение», — писал Пушкин. Он не написал, что цель художества есть красота, «а не нравоучение»; не написал также, что эта цель есть истина или добро, «а не нравоучение»; он сказал об «идеале», то есть полноте, неразрывности всех трех — полноте, к которой стремиться как к «цели» свойственно не тому или иному роду мирской деятельности человека, а — человеческой личности, реализующей себя в любой деятельности, в том числе — в «художестве»; ибо художество, как уже говорилось, может быть разное, и зависит это, ближайшим образом, от того, кто им владеет, от идеалов человека, от того, как они связаны с идеалом, воплощенным в Спасителе.
Ничего этого Пушкин не написал, ему принадлежит только процитированная фраза. Но в ней — его живой художнический опыт, который дал право протоиерею Александру сказать: «…Христианское искусство должно отражать целостность христианской души… Мир Пушкина построен иерархически, и это есть следствие не какого-либо, а христианского мировоззрения, мировосприятия. Пушкин дает нам один большой жизненный урок. Дает он его своим смирением в самом главном, что дано ему было совершить. Смирение это в том, что, получив свыше чудесный дар, он не покусился присвоить его себе безвозвратно для своего личного возвеличения или игры». Тот же автор говорит: «В христианском мире сила искусства имеет, конечно, свои границы», искусство «только призывает войти во храм христианской жизни, украшает его, но затихает, умолкает у самого жертвенника, у Престола… там да молчит всякая плоть». В свете этого достойно внимания, что перед тем как затихнуть, умолкнуть навсегда, Пушкин подвел итог своему делу в стихотворении, строение которого непоколебимо иерархично, в котором и авторское «я» («Я памятник себе воздвиг…»), и все высокие человеческие ценности, о коих идет речь, — все затихает, умолкает перед «Веленьем Божиим», все поглощается темой послушания созидательной Высшей воле.
В христианской природе пушкинского гения — печать его «особенного призвания» (Из речи митрополита Московского и Коломенского Макария (1880). — В.Н.) в России и мире, о котором в наше время ярко говорит архимандрит Константин (Зайцев):
«Все лучшее, что присуще России, создано до Петра. Русская душа… сложилась до Петра — та душа русская, которая уязвлена неистребимым устремлением к святости…
Сохранила ли петровская Россия те свои черты, которые позволяют ей по праву быть и Святой Русью — духовно старшей сестрой по сравнению с остальным культурным человечеством?
Положительный ответ и дает явление Пушкина.
Пушкин был европейцем большим, чем каждый отдельно взятый европеец… Но везде и всегда он оставался русским… по той памяти сердца, которая крепче всего определяет народную принадлежность. Он был русским в самой сердцевине своего духа. Он сумел сохранить… ту самую душу русского человека, свойством которой является потребность иметь глаза устремленными к Небу, и мерилом Правды неизменно имеющую устремленность к Царству Божию…»
Да, «житейские» и «теоретические» суждения Пушкина на христианские темы, некоторые его творческие поступки могут быть, с точки зрения буквы, странны, не очень «грамотны», порой даже предосудительны: взять хоть пресловутое именование невесты «Мадоной» (1830), или защиту протестантизма от нападок «Чаадаева с братией» (1831;XIV,204), или утверждение, что «греческая Церковь… остановилась и отделилась от общего стремления христианского духа» (там же), или неловкое приписывание Евангелию не более и не менее как «божественного красноречия» (XII,99), — примеры можно продолжать, все это было приметой общества, к которому он принадлежал. Но все это нисколько не колеблет того неоспоримого факта, что полнота и ясность непосредственного пушкинского созерцания Божьего мира, воплощаемые не в «теоретических» формулировках, а на языке искусства, отражают идеалы такой высоты, которая граничит с неотмирностью, составляющей одну из ключевых черт православного строя мысли и чувств.
Вообще, размышляя о пушкинском личном религиозном опыте, нельзя конструировать законченную и уже поэтому абстрактную «модель» пушкинской веры, соответствующую нашим собственным представлениям, — замалчивая одно, ретушируя другое, педалируя третье. Ведь может статься и так, что именно те камни, которые строитель отвергнет, окажутся теми, без которых не обойтись, постигая Пушкина как творца не только русской христианской культуры, но и себя самого как христианина. Можно дерзнуть, для примера, заявить, что без «Гавриилиады» не было бы многого великого и глубокого, что делает Пушкина «эхом русского народа»; что кощунственная эта поэма, написанная повесой, в котором «младая кровь играет», под своей соблазнительной и слепящей внешностью скрывает и таит — таит даже, может быть, от самого автора — отчаянную жажду веры, которою томится его неприкаянный еще гений; что с ней будет связано очистительное чувство стыда, без которого не было бы зрелого Пушкина. Не следует ни подвергать благочестивому подозрению пушкинский религиозный путь, ни изо всех сил доказывать, какой верующий и православный человек был Александр Сергеевич чуть ли не с отроческих лицейских лет; на каждый довод можно найти иной, противоположный, и мы не выйдем из порочного круга «стрижено-брито», из бесконечных дискуссий, профанирующих и Пушкина, и нашу веру.
И конечно, не стоит поверять Пушкина православной догматикой, понятой как кодекс правил и «принципов». Истина есть Сам Господь, Бог-Троица, Истина есть Сам Христос, Его Личность, Его Рождество, Преображение, Воскресение, Его Пресвятая Матерь, — все то, что мирское искусство «изобразить» не может; догматы же суть иконы Истины. Но Пушкин икон не писал, он был мирской, светский писатель, и если есть в его творчестве подобие иконописности, то его нужно искать не на уровне изображения или воспроизведения догматов нашей веры, а в области его художественной методологии, его способа мыслить.
Между тем в наше время, как выше уже говорилось, возрождаются некоторые не самые удачные способы осмысления религиозного духа пушкинского творчества.
Так, например, вопрос об объективном религиозном, христианском смысле творчества Пушкина, о его вкладе в православную культуру слишком часто подменяется вопросом о его личном исповедании, личной вере: вместо того чтобы изучать смысл написанного Пушкиным, ставят вопрос о том, насколько он был верующий человек, и, более того, пытаются самодеятельно решать этот вопрос. Оценка веры брата во Христе (по крайней мере, если на этот счет нет соборного суждения Церкви) есть, по слову Гоголя, дело страшное. Вера — не «состояние», а процесс и путь: ведь «все мы много согрешаем» (Иак.3,2), тогда как совершенная вера преграждает дорогу греху. Личная вера любого христианина, пусть находящая выражение в самых строгих видимых формах, это, в своем конкретном экзистенциальном существе, — тайна, которая велика есть. Определить и оценить веру брата во Христе — значит попытаться подвести итог процессу, представить «состоянием» то, что есть путь, «разоблачить» тайну; это есть суд, и здесь поистине «не судите, да не судимы будете» (Мф.7,1), — мы по существу подвергаем суду и оценке меру образа Божия в человеке — и тут уж какою мерой мерим, такою и нам отмеряется; ибо, судя, мы уже пожертвовали своею верой, своим доверием — своему «знанию», уже свидетельствуем о недостаточности нашей веры.
Ведь мало кто из нас, будь то мирянин или лицо духовного звания, может с чистым сердцем свидетельствовать о всегда равно незыблемой твердости своей веры: поистине, «все мы много согрешаем», все «падаем и восстаем». Но все это, как правило, остается в глубине и тайне нашей души: мы молчим, открываясь разве на исповеди или, в порыве откровенности, избранным ближайшим людям. А поэт Пушкин отличается от нас тем, что не молчит. Он не утаивает от нас самоотчета в преткновениях, сомнениях, падениях, блужданиях — он насквозь исповедален. Это не потому, что ему так нравится, — просто таково свойство его поэзии: слово не отражает его внутреннюю жизнь (с неизбежной частичностью, свойственной всякому «отражению»), а целостно являет эту жизнь. Такое свойство ставит поэта в крайне «невыгодное» по сравнению с нами положение: он не может произвольно отобрать из своего образа, из своей исповеди, наиболее «презентабельное», всякий может при желании ткнуть пальцем в то или иное слово и, заменив пушкинское «я» на отчужденное «он» («смотрите: напрасно он бежит к сионским высотам: грех алчный гонится за ним по пятам!»), тем самым представить поэта хуже и ниже нас — тогда как он лишь беззащитнее — и впасть в грех превознесшегося над мытарем фарисея.
А между тем если собрать самые откровенные пушкинские признания и самые суровые самобичевания и честно сопоставить получившуюся картину с нашим собственным, нелицеприятным по всей совести, портретом, с нашими духовными падениями — порой в такие бездны, какие, может быть, и не снились Александру Сергеевичу, — то, сравнивая, не поразимся ли мы чистоте человека, с таким «отвращением» взирающего на свои — в общем обычные, нам знакомые, едва ли не «рутинные» в условиях суетного мирского бытия — грехи; и не угадаем ли в этой совестливости, в непоколебимой иерархичности требовательного сознания — источник того очевидного для всех света, который излучается пушкинским словом невзирая на все падения и блуждания автора? Но довольно об этом. Оборотной — и как бы компенсирующей — стороной подозрений относительно степени личной религиозности поэта являются усилия противоположного рода, воплощающиеся в ряде легенд, которые наносят не меньший вред истине, чем названные подозрения.
- Легенды
У одного человека было два сына; и он, подошед к первому, сказал: сын! пойди, сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ: не хочу; а после, раскаявшись, пошел. И подошед к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: иду, государь; и не пошел. Который из двух исполнил волю отца?
Некоторые публикации последних лет, знакомя читателей с высказываниями церковных деятелей о Пушкине, напоминают об одной полузабытой мистификации, скорее всего невольной, получившей хождение в 80-х годах прошлого века. Речь идет о приписываемом Пушкину стихотворении «Я слышал, в келий простой», где в уста некоего «старика» вложено стихотворное переложение молитвы «Отче наш»:
Отец людей, Отец Небесный,
Да имя вечное Твое
Святится нашими устами,
Да придет Царствие Твое,
Твоя да будет воля с нами,
Как в небесах, так на земли,
Насущный хлеб нам ниспосли
Твоею щедрою рукою.
И как прощаем мы людей,
Так нас, ничтожных пред Тобою,
Прости, Отец, Твоих детей.
Не ввергни нас во искушенье,
И от лукавого прельщенья
Избави нас.
Чтобы понять, что в этом добросовестном и бледном сочинении нет решительно ничего пушкинского, надо представить себе, что же такое — «пушкинское», в применении к переложению священного текста. Для этого нет лучшего материала, чем знаменитое «Отцы пустынники и жены непорочны» — кажется, первое (или, по крайней мере, одно из первых) обращение русской светской поэзии к православной молитве (перелагать ветхозаветные тексты было давней традицией).
Величайший мастер перевода, переложения, пересказа, вариации, Пушкин ни разу в жизни не перевел чужого произведения только потому, что, мол, оригинал уж очень хорош и неплохо бы познакомить с ним русского читателя; тем более это касается церковнославянских текстов, которые большинству были знакомы или привычны (со школьной скамьи и благодаря церковным службам) и язык которых, в общем, перевода не требовал. Пушкин переводил только тогда, когда этого настоятельно требовала некоторая глубоко личная нужда в определенном высказывании, более того, он необычайно часто пользовался «чужим» словом, образом, фрагментом, замыслом — когда видел, что нужное ему высказывание уже существует; раз существует — выдумывать своего уже не надо, достаточно повернуть «чужое» слово необходимой в данном случае гранью, сохранив при этом изначальные его достоинства, но внеся свои коррективы; многие пушкинские произведения, в том числе «Евгений Онегин», представляют собою, с внешней стороны, буквально мозаику разнообразных «цитат». Перевод был для него актом не просветительского, а исключительно творческого, личного характера.
Так написано и стихотворение «Отцы пустынники…». Это прежде всего лирическое стихотворение, выражающее глубоко личное, можно сказать, интимное переживание поэтом молитвы, которую он любил всю жизнь, даже в молодости, когда считал себя неверующим, и полускрытую реминисценцию которой внес в последние строки ни более ни менее как «Гавриилиады».
Во вступлении чрезвычайно подробно излагается личное отношение поэта к молитве преподобного Ефрема Сирина — причем обнаруживается прекрасное знание автором порядка, чина ее произнесения в храме во время Великого Поста («…которую священник повторяет…») — и то действие, которое она на него производит: «И падшего крепит неведомою силой». Только после этого личного признания идет переложение самого текста. В нем все не случайно, и прежде всего — изменения, которые внесены в переложение сравнительно с оригиналом: вместо «Дух праздности, уныния…» — «Дух праздности унылой»; вместо «не даждь ми» — «не дай душе моей». В особенности важно дополнение: «Любоначалия, змеи сокрытой сей», — которое подчеркивает особое внимание автора, поэта, слывущего властителем дум, обладающего «могучей властью над умами», к грозящей ему опасности: соблазну духовного владычества над людьми. К тому же сами прошения подвергнуты такой перестановке, которая, по-видимому, отвечает духовным обстоятельствам просящего: так, например, прошение о «целомудрии» поставлено в финальную, то есть в самую сильную, позицию. Наконец, вместо «Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему» — «И дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи», — эта замена слова тоже не случайна: тема возрождения, оживления всего светлого, что Богом заложено в человеческую душу с ее «первоначальных, чистых дней» («Возрождение»), есть одна из важнейших лирических тем Пушкина, и напрасно один современный критик слышит в глаголе «оживи» «протестантские» веяния: царь Давид, кажется, не был протестантом, а сказал так: «…и дух прав обнови во утробе моей» (Пс.50,12). Думается, именно веяние «покаянного» псалма слышится в пушкинском переложении великопостной молитвы.
Каждому знающему, что такое личная молитва, известно, что в разных обстоятельствах, внешних и внутренних, мы можем по-разному произносить один и тот же молитвенный текст, по-разному его интонировать. Пушкинское стихотворение и входящее в него переложение молитвы дают нам как бы словесное изображение личной интонации поэта, его личной просьбы, выражаемой знакомым с детства текстом, — вот откуда лиризм всей вещи, в частности, ее вступления, занимающего больше половины текста; отсюда же и все изменения, говорящие о том, что перед нами не вычитывание — но и не переводческое «состязание» с оригиналом, — а глубокое, индивидуальное, конкретное переживание, творение молитвы, излившееся в стихах.
Можно ли сказать, что стихи «Отец людей, Отец Небесный» выражают чье-то сильное, ярко личное, сиюминутное переживание, момент личного общения с Богом через молитву? Что эти умелые и вялые строчки написаны по неотложной, непреодолимой, жизненной потребности? Что они есть личное обращение к Богу, личная просьба? Перед нами внушенное, конечно, самым благим намерением чисто литературное произведение, притом весьма среднего достоинства. Не менее важно и другое соображение — касающееся вкуса и такта. Молитва преподобного Ефрема — великое, но человеческое творение, и Пушкин дерзнул включить ее переложение в свое лирическое стихотворение; но «Отче наш» есть молитва Господня — может ли быть без ущерба «переложен» другими словами, в рифмованных и подчиненных иному ритму строчках, несравненный в своей мощной простоте и понятный всем до единого слова небесный глагол? Что здесь «переводить» или «пересказывать»? Отличительной чертой гения Пушкина было как раз творческое смирение, сознание своих возможностей и их пределов. Одним словом, можно сказать, что сам факт существования аккуратного и безликого «перевода» молитвы Господней есть неопровержимое свидетельство того, что Пушкин тут ни при чем.
Целая система устойчивых легенд, также сейчас возрождающихся и входящих в церковно-публицистический и просветительский оборот, связана, конечно, с эпизодом пушкинской жизни, который в церковном взгляде на Пушкина занимает центральное место: со стихотворным диалогом поэта со святителем Филаретом, митрополитом Московским. Эпизод этот и в самом деле необыкновенно важен и во внутренней жизни поэта, и для нашего ее понимания.
Стихотворение «Дар напрасный, дар случайный», написанное в 1828 году, явилось пиком острейшего духовного кризиса, переживавшегося поэтом в течение двух лет после написания «Пророка» и завершившегося стихотворением «Анчар», к которому можно применить греческое слово, соответствующее русскому «покаяние»: метанойя (изменение сознания); которое и в самом деле знаменует важнейший поворот в сознании, рождение позднего Пушкина (подробно см. ниже, «Под небом голубым»).
Спустя год после этого, в конце 1829 года, уже «пережитое» автором стихотворение «Дар напрасный, дар случайный» появляется в печати — и его читает митрополит Московский Филарет.
Знакомая Пушкина, Е. М. Хитрово, находящаяся в личном общении с Преосвященным, в не дошедшей до нас записке приглашает Пушкина к себе — ознакомиться со стихами, которые владыка написал в ответ на пушкинское стихотворение.
Ответная записка Пушкина к Елизавете Михайловне гласит (оригинал по-французски):
«Вы должны считать меня очень неблагодарным, очень дурным человеком. Но заклинаю вас не судить по внешности. Мне невозможно сегодня предоставить себя в ваше распоряжение — хотя, не говоря уже о счастье быть у вас, одного любопытства было бы достаточно для того, чтобы привлечь меня. Стихи христианина, русского епископа, в ответ на скептические куплеты! — это право большая удача. А.П.» (XIV, 57).
С этой-то запиской и связано первое из недоразумений, долго сопутствовавших трактовкам этого эпизода пушкинской биографии.
Написана она в стиле, который может вызвать смущение, и обоснованное. Отказ прийти сегодня же (это при том, что его приглашают прочесть послание, адресованное лично ему и принадлежащее не кому-нибудь, а фактическому главе Русской Церкви!); легкомысленная формулировка: «одного любопытства было бы достаточно, чтобы привлечь меня…»; далее, в восклицании: «Стихи христианина, русского епископа, в ответ на скептические куплеты! — это право большая удача», — вызывающе неприличным выглядит буквально все: и словно бы подчеркнутое пренебрежение высоким духовным саном, и это странное «христианина, русского…» — как будто сам Пушкин и не русский, и не в христианской стране живет; и игривое именование трагического стихотворения «скептическими куплетами» (вот, мол, из какой пушки — по каким воробьям); и, наконец, всякие границы переходящее: «это право большая удача», — во французском оригинале «c’est vraiment une bonne fortune», где «bonne fortune» на светском языке имеет совершенно точный, словарями фиксируемый, ходячий смысл: удачное волокитство, успех у женщины.
Многих советских пушкинистов, да и дореволюционных либералов, легкомысленный тон записки приводил в восторг; церковных же людей должен повергать в смятение. Чаще всего исходят из убеждения, что это — отзыв Пушкина на стихи «русского епископа»: на те самые стихи «Не напрасно, не случайно», о которых буквально через несколько дней Пушкин будет с благоговением и благодарностью писать в своем стихотворном ответе «В часы забав иль праздной скуки». Такое двуличие нисколько не смущало атеистов, наоборот, воспринималось как остроумная шутка, доказывающая, с одной стороны, духовный гнет, которому подвергался поэт, а с другой — его презрение к Церкви. Что касается верующих, то, касаясь этого эпизода, некоторые, вопреки нормальному слуху и здравому смыслу, пытаются насильно истолковать записку в «благочестивом» духе, как бы предлагая читателю закрыть глаза и заткнуть уши [cм.: В. Непомнящий. Слово о благих намерениях. Письмо в редакцию сборника «Пушкинская эпоха и христианская культура». — «Московский пушкинист», вып. II, М., «Наследие», 1996 (то же в книге «Пушкин. Русская картина мира»). — В.Н.].
Все на самом деле обстоит очень просто. До последнего времени как-то не замечали, что записка — вовсе не о стихах митрополита: поэт их еще не знает — он пишет ответ на приглашение прийти и прочесть их. Отсюда — все особенности письма. Пушкин смущен, встревожен, может быть, даже несколько напуган; полтора года назад он написал стихотворение мрачное, бунтарское, в сущности богохульное (неприятностями в то время грозили и куда более робкие проявления религиозного вольномыслия); и вот теперь, когда он уже пережил и оставил позади этот тяжкий момент (тем легче ему сейчас назвать «Дар напрасный…» «скептическими куплетами»), когда позади дело о «Гавриилиаде», подвергнувшее его совесть жестокому испытанию, когда он изрядно устал от целого ряда конфликтов с властями, от того, что любое начальство, от шефа жандармов до квартального надзирателя, непрестанно учит его, как себя вести, можно ли читать друзьям свои произведения или нельзя, куда ему ездить позволено, а куда нет (ибо он — после другого разбирательства, относительно стихотворения 1825 года «Андрей Шенье», — на всякий случай оставлен под надзором), — в это время высшее «церковное начальство» в лице первоиерарха, к тому же в светских гостиных пользующегося репутацией человека сурового и жесткого, тоже изволит его учить и делать — в стихах! — выговоры…
И он, растерянный и раздраженный, не решается прийти сразу, когда его зовут, а покамест, в записке, отчаянно гусарствует, заранее по-мальчишески дерзит: «…это право большая удача».
Но вот он получает от Е.М. Хитрово рукопись стихов митрополита и видит в них не гнев, не выговор, даже не поучение, а совет, увещание, тихую подсказку: «Вспомнись мне, Забвенный мною, Просияй сквозь сумрак дум…», — вовсе не то, чего он, заранее ощетинившись иронией, ждал.
И тогда появляется ответ: «…Я лил потоки слез нежданных…»
Пушкин был необыкновенно чуток на всякое доброе слово и даже намерение. И ответ на стихи святителя возник очень быстро.
С этим ответом тоже связано недоразумение — и не одно.
Есть предание, известное со слов прославленного оптинского старца Варсонофия: о том, как Пушкин, придя домой из Успенского собора, где владыка Филарет говорил проповедь, потребовал у жены бумаги и чернил и, рыдая, тут же сочинил свое стихотворение «В часы забав иль праздной скуки». История настолько трогательная, что некоторому ее распространению не помешала очевидная недостоверность. Стихотворение, обращенное к Филарету, датировано 19 января 1830 года, то есть тогда, когда Пушкин был не только не женат (свадьба состоялась через год с лишним), но даже и не помолвлен с Наталией Николаевной (это случилось на Пасху, 6 мая того же года).
Тем не менее легенда о каких-то личных встречах поэта со святителем, чуть ли не беседах, предшествовавших пушкинскому стихотворению, продолжает бытовать в среде православных почитателей Пушкина. Никто не учитывает, что такого рода события не могли бы не найти хоть какого-то отражения в дневниках или иных бумагах поэта, в воспоминаниях современников, — но ничего подобного не существует. Откуда же взялась легенда?
Нет сомнения, что она основывается на тексте послания к Филарету: «Бывало… звон я прерывал… твой голос… Меня внезапно поражал. Я лил потоки слез… Твоих речей… Отраден чистый был елей», — и впрямь создается впечатление, что поэт не раз внимал словам святителя, исторгавшим у него слезы.
Но все это рушится, когда мы перечитываем записку к Хитрово, написанную за неделю-две до стихотворения Пушкина: знай он лично митрополита, услышь он его хоть раз, со «слезами нежданными», с ощущением «елея», проливаемого на «раны совести», — невозможен был бы отчужденно-иронический тон записки.
Но откуда же тогда в стихотворении глаголы, форма которых говорит о неоднократности общения?
Вопрос этот касается заповедных глубин пушкинской духовной жизни и находит ответ именно в творчестве поэта.
Известно, что иже во святых отец наш святитель Филарет был прозорливцем. В стихотворном ответе на пушкинское «Кто меня враждебной властью Из ничтожества воззвал…» он писал:
Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал…
«Сам я… Сам…» — как будто автор этих строк помнит, знает, что одиннадцать лет назад юный лицеист в стихотворении «Безверие», описывая муки «отпадшего» от веры, писал:
Имеет он права на ваше снисхожденье,
На слезы жалости; внемлите брата стон,
Несчастный не злодей, собою страждет он…
И вот теперь автор стихотворения «Не напрасно, не случайно» как бы напоминает автору стихотворения «Дар напрасный, дар случайный», что тот «страждет» именно «собою»: «Сам я… Сам…» Мало того: он «внемлет» и той давней юношеской мольбе о «жалости» и о «снисхожденье», он слышит эту мольбу даже в глубине мрачного и, казалось бы, безнадежного стихотворения «Дар напрасный…» — и отвечает снисхождением и жалостью: ибо стихотворение Филарета написано не как поучение, но словно от лица самого Пушкина: «Вспомнись мне, Забвенный мною…»
И Пушкин, в ответ на этот взгляд прямо в глубины его души, словно вспоминает все то же свое «Безверие», где о забывшем Бога говорится:
Лишенный всех опор отпадший веры сын
Уж видит с ужасом, что в свете он один,
И мощная к нему рука с дарами мира
Не простирается из-за пределов мира…
И теперь в ответе владыке пишет:
И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты…
Здесь, думаю, и ответ на вопрос о неоднократности общения. Чья «рука… из-за пределов мира» имеется в виду в юношеском стихотворении?
Не Рука ли Того, Кто этот мир создал?
И не ту же ли Руку имеет в виду Пушкин теперь — но ныне уже милосердно «простертую» к нему через тихое увещание российского пастыря?
Это значит, что лирическая позиция Пушкина в ответе святителю определена не только волнением благодарности, покаянием, чувством облегчения, радостью, что тебя услышали, поняли, пожалели, ободрили; не только подлинно христианским смирением; эта позиция, можно сказать, догматически точна. Она чужда подобострастного человекоугодия: отвечая святителю, поэт обращается к Тому, против Кого он взбунтовался в своем стихотворении больше года назад и Кто внушил святителю его тихое увещание. И «голос величавый», о котором говорится в ответе Пушкина, — это в конечном счете тот «Бога глас», который и в самом деле не раз «внезапно поражал» поэта в разные моменты его жизни, — и тогда появлялись «Безверие», «Возрождение», другие произведения, где особенно явственно сказывается «духовная жажда», жажда веры; тот «Бога глас», который «поразил» его и «воззвал» к нему в «Пророке».
Не стоит — как это делают иногда «справа» — возводить ответ Пушкина Филарету в степень едва ли не самого лучшего или по меньшей степени самого дельного, что написал поэт; но не следует принижать его поэтические достоинства «слева». На стихотворении и в самом деле лежит печать сиюминутности, совсем не характерная для Пушкина, которому всегда нужна была, для точного и адекватного выражения, временная дистанция, порой немалая. И все же обыкновение глубоко продумывать всю художественную систему вещи, весь ее ход, каждое слово Пушкину не изменило и тут. И самым главным для него оказалась в этом ответе связь с собственным «Пророком», от которого он в стихотворении «Дар напрасный…» попытался «отречься», убежать, как пророк Иона от своего предназначения. Последняя строфа (у Пушкина всегда очень важная) ответа Филарету вся целиком построена на мотивах «Пророка» («пустыня мрачная», «угль, пылающий огнем» и т.д.):
Твоим огнем душа палима,
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.
Все знаменует возвращение к тому пониманию своей жизни, дара, служения, долга, какое запечатлено в «Пророке».
Все это необходимо видеть еще и потому, что с этой последней строфой ответа святителю связана еще одна легенда. Якобы у Пушкина был еще и другой вариант финала, который «остался в черновике»:
Твоим огнем душа согрета, Отвергла мрак земных сует, И внемлет арфе Филарета В священном ужасе поэт.
Из всей мифологии, связанной с диалогом святителя и поэта, данная легенда — самая распространенная и устойчивая. Между тем «вариант» наглядно демонстрирует глухоту его распространителей к поэтическому языку и голосу Пушкина и пагубность попыток не только истолковать, но и изменить пушкинский текст в соответствии с религиозно-«идеологическим» заданием.
Никакого «черновика» послания к святителю Филарету в природе не существует, он до нас не дошел и никому никогда известен не был. Текст стихотворения существует лишь в том варианте, какой Пушкин напечатал в «Литературной Газете» Дельвига 25 февраля 1830 года, затем без всяких изменений перепечатал в третьей части «Стихотворений Александра Пушкина» (1832) и, наконец, готовил к новому изданию в 1836 году. Так называемый «вариант» возник ровно полвека спустя (См. «Русский архив», 1881, №1, с.206. — В.Н.), когда Пушкин, после торжеств 1880 года, вновь становился «актуален» и вокруг него разворачивалась борьба «либералов» и «консерваторов» как светских, так и церковных. «Вариант» возник в среде людей, безусловно ценящих Пушкина, но желающих во что бы то ни стало представить его как можно более благочестивым во всех проявлениях, а к тому же не чутких к его слову. Четверостишие никаким образом не вяжется с совершенным поэтическим мастерством Пушкина, оно кричаще противоречит его безукоризненному, абсолютному такту, музыкальному слуху и чувству меры; оно безвкусно; наконец, что главное, оно не соответствует замыслу и смыслу как последней строфы, так и всего стихотворения.
Начать хотя бы с рифмовки: согрета — сует — Филарета — поэт. Подобный случай у Пушкина есть:
Но день протек, и нет ответа,
Другой настал; все нет как нет.
Бледна как тень, с утра одета,
Татьяна ждет: когда ж ответ?
Удручающее однообразие окончаний абсолютно соответствует положению: напряженное, нервически-тревожное ожидание Татьяной ответа на письмо Онегину озвучено словно тупо-монотонными ударами сердца или тоскливым стуком часов, отмеряющих неумолимо растягивающееся время. Поистине звук и смысл у Пушкина составляют одно целое. Может ли точно так же быть «озвучено» чувство потрясенности поэта, охваченности его «священным ужасом», сопровождающееся «слезами»? Получится либо тоскливая монотонность, либо — если добавить темперамента — нечто вроде марша; в любом случае выйдет почти пародия.
Далее. Ничто не мешает нам представить — пусть и весьма условно — некую обобщенную фигуру, скажем, Поэта, который «на лире вдохновенной… бряцал»; внятен нам и образ серафима: в «Пророке» с мечом, в ответе Филарету — с «арфой». Но реальный, во плоти, митрополит Московский, который — в высоко символическом контексте стихотворения — «бряцает на лире»? Играющий на арфе Филарет?
Уже одно созвучие «арфефи» говорит о том, что Пушкиным тут, что называется, не пахнет. Может быть, для иного читателя, особенно для его глаза, это «арфефи» проскакивает незаметно — но у Пушкина с его органической музыкальностью такая какофония попросту немыслима. И какой уж тут «священный ужас»…
Наконец, главное. Последняя строфа послания, как уже говорилось, построена на мотивах «Пророка», где речь идет об угле, «пылающем огнем». Отсюда — «Твоим огнем душа палима»; это тот же палящий, попаляющий огонь, который и в финале «Пророка» («Глаголом жги…»), и в «Воспоминании», где о мучительных угрызениях совести говорится: «горят во мне…» «Умеренное» тепло несовместимо со «священным ужасом», и нет здесь места вялому «согрета» — Пушкин точен, как всегда. Перед нами пример того, как замена лишь одного-двух слов разрушает всю тонкую и точную смысловую структуру его текста и к чему приводят иные благие намерения.
Легенды, как и искусство, бывают разные. Иной «возвышающий обман» хоть и не совпадает с «низкими истинами» реальных фактов, однако не уязвляет наше чувство правды, а возвышает душу, ибо исходит из веры и из жажды веры в образ Божий в человеке. Так, Пушкин в стихотворении «Герой» (из которого взяты процитированные слова) призывает: «Оставь герою сердце; что же Он будет без него? Тиран!» — потому что жаждет верить в то, что и в Наполеона, «тирана», узурпатора, губителя людей, изначально было вложено Творцом сердце «героя»; он видит, как искажается в «герое» замысел Творца, но страстно хочет все же увидеть в его сердце и отсвет Божьей правды; «возвышающий обман» есть в данном случае псевдоним идеала, который не осуществлен. Пафос пушкинского «Героя» — это пафос веры.
Есть и иные легенды. Они строятся на вере в некий готовый стереотип образа Божия, применимый к любому человеку без исключения, игнорируют единственность каждого человека и его духовного пути, отвергают сокровенную тайну личности, которая священна для христианской веры как веры персоналистической. Они исходят, можно сказать, из желания, чтобы у отца из евангельской притчи (см. эпиграф) было не два сына, о которых повествует евангелист Матфей, а три; чтобы третий ответил отцу: «пойду» — и пошел; и чтобы верующий человек был похож именно и только на этого третьего.
Отсюда и образ безупречно благочестивого, лампадным маслом пишущего стихотворца, в котором Пушкина узнать трудно: такому литератору лучше бросить сочинительство, а уж стреляться с кем бы то ни было этот раб Божий и помыслить не может.
Такие благонамеренные «обманы» вовсе не «возвышают» ни Пушкина, ни нас, а лишь говорят о горделивом желании «добавить» поэту религиозности, уделить ему веры от своих щедрот. Но как раз здесь дефект нашей веры. Истинно религиозное понимание предмета — это целостное его понимание, целостное во всех его противоречиях, в их связях с целым, в процессе и тайне. Сама вера и есть, собственно, воплощенная целостность, предполагающая уравновешенность души и сердечную непротиворечивость картины мира, как бы ни был мир непригляден и трагичен, — непротиворечивость, сказывающуюся в понимании Божественной иерархии ценностей и покоящуюся на любви к Богу, Его Творению и Его созданиям. И если я, будучи верующим, но все же не обретая иерархически целостного понимания или ощущения некоего явления как творения Божия, и притом во всех его противоречиях, все же пытаюсь насильно, в смятом или обструганном, ухудшенном или приукрашенном виде, втиснуть его в мою христианскую картину мира (или таковою представляющуюся) — значит, при всей моей вере, недостаточно религиозен мой к этому явлению подход; значит, мало еще моей веры в нем, значит, моя любовь не «все покрывает» в Божьем творении, не «всему верит» в нем, а потому к Божьему замыслу и промыслу о человеке как свободном существе хочет добавить, для «усовершенствования», что-то от своего собственного «замысла».
Истинно религиозный подход к явлению состоит не в приложении к нему наших — пусть самых наиправославных — «принципов». Христианский подход к познанию есть вопрос не «принципов», а методологии, не «христианских требований», а христианского мышления, основанного на любви. Реальный духовный путь Пушкина был не прост; и правда этого пути, правда самой жизни этой личности, противоречивая, но данная или попущенная Самим Богом, заключает в себе больше глубокого, подлинно религиозного смысла, больше истины, добра и красоты, чем самая красивая и благочестивая выдумка, принадлежащая людям. Личный путь Пушкина был не прост как раз потому, что Пушкин чувствовал и сознавал свой гений, свой творческий дар как не свою ношу, а на это не каждый художник способен. Пушкину было дано чувствовать и мыслить по-христиански, было дано благое иго (Мф.11,30) по-христиански «мыслить и страдать». Понимая это, мы не можем ни обожествлять, ни судить смертного и грешного, как мы, человека, одаренного божественным гением, мы можем только — как учит святой праведный Иоанн Кронштадтский — «восходить тотчас мысленно к высшей, личной Красоте Божией и Ею восхищаться».
1996
Введение в художественный мир Пушкина
Лекция учителю и ученику
Глава из книги «Да ведают потомки православных. Пушкин. Россия. Мы»
О Пушкине известно так много, как, может быть, ни о ком из великих писателей и мало о ком из великих людей вообще. Но остается прав Достоевский: «Пушкин… бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну». Причина не в том, что, наряду с нашим знанием о Пушкине, остается множество пробелов, загадок и секретов. Разгаданная загадка, раскрытый секрет исчезают как таковые; тайна остается тайной даже тогда, когда мы созерцаем ее лицом к лицу. Тайна — это не количество, а качество, не сумма и сложность, а целостность и простота. В тайну невозможно проникнуть, ею можно только проникнуться, и это уже проблема не ученая, а духовная. В сущности, любая простая истина заключает в себе тайну.
Тайна Пушкина проявляется, в частности, в том, что в нем необыкновенно много очевидного и простого — такого, что культурный наблюдатель улавливает, что называется, невооруженным глазом.
Очевидны не только уникальная высота закрепленного за Пушкиным в культуре царственного ранга, не только известные «заслуги» его: создатель русского литературного языка, родоначальник всех жанров отечественной литературы двух последних веков, оказавший решающее влияние на все области искусства, философской и общественной мысли России, писатель-пророк, центральная фигура русской культуры и т.д. и т.п.; очевидны и сами качества его гения. Настолько очевидны, что определения их звучат сами по себе общо и абстрактно:
— простота, совершенство, красота;
— сила, масштабность, глубина;
— точность, ясность, лаконизм;
— широта, неисчерпаемость, многозначность;
— сердечность, проникновенность, человечность;
— объективность, универсальность, мудрость… и т.д.
По отдельности и в разных сочетаниях эти качества свойственны многим произведениям и многим художникам; но соединяя их, перечисляя все эти «абстракции», мы тем самым словно набрасываем силуэт, в котором можно угадать только Пушкина и никого другого.
Для каждого великого художника можно подыскать одно или несколько определений, дающих представление о своеобразии его индивидуальности, ее оригинальных чертах; «индивидуальность» Пушкина представляется неуловимой, об «оригинальности» говорить неуместно. Зато нельзя не вспомнить, для аналогии, знаменитых слов Ломоносова о русском языке, чудесно сочетающем «великолепие Ишпанского, живость Французского, крепость Немецкого, нежность Италиянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость Греческого и Латинского языка». Пушкину бывает свойственна и могучая непосредственность Гомера, и головокружительная глубина, многообразие и темперамент Шекспира, и интеллектуальная мощь и спокойная мудрость Гете, и провидческая дерзость, мистическая напряженность, грандиозность архитектурных построений Данте, и музыкальное изящество Петрарки, и всепроникающий взгляд Достоевского в бездны человеческой души, и лукавая простота русской сказки, задушевность русской песни, и многое иное, в тол числе свойственное как динамическому Западу, так и созерцательному Востоку.
При всей этой универсальности о Пушкине можно сказать его же словами: «Там русский дух, там Русью пахнет». Пушкин наиболее полно и всесторонне выразил Россию — во всем объеме душевного и духовного склада ее, включающего самое, казалось бы, несовместимое?) безудержную страстность — и «верховную трезвость ума» (Гоголь), безбрежную широту — и тончайшее изящество, стремительность — и cозерцательность, «разгулье удалое» — и «сердечную тоску», «покой» — и «волю», земную крепость — и «духовную жажду», гордость — и тихое смирение, простодушие — и тысячелетнюю мудрость, пиршественость — и аскетизм…
И ни одно из названных качеств Пушкина не «выпирает», все слито в единый, целостный, гармонически устроенный мир.
Будучи единственным в мире «классиком», который для своего народа остается не достоянием истории, а в полной мере живым явлением, Пушкин в то же время есть, в определенном смысле, национальный миф, то есть выражение глубинных знаний и представлений народа о бытии; в сознании людей он порой роднится со знаменитыми героями мифологии, литературы, народной сказки и даже анекдота — оставаясь в то же время гигантским, величественным образом. При всем этом он — конкретная личность, единственная, неповторимая, не похожая ни на кого, кроме себя, личность живого человека, к которому и с которым у каждого могут быть, как в жизни, свои личные отношения.
В то же время с ним у нас связано представление о некоем человеческом идеале — не непогрешимости или святости, но жизненной полноты, в которой самые разные, может быть и противоположные, свойства и черты личности чудесным образом дополняют и уравновешивают друг друга, в которой все необходимо и нет ничего лишнего, все на своих местах, исполнено жизни, свободы, творческой энергии.
И хотя творческая индивидуальность Пушкина «неуловима», одно определение все же существует. Стоит сказать: солнечный гений, — и имени можно не называть, это приложимо только к Пушкину. Разумеется, в литературе немало радостных произведений и жизнелюбивых художников, немало шедевров и писателей, которые, изображая зло жизни, отвергают его и утверждают добро. Пушкин ничего не «отвергает» и не «утверждает»; но ни у кого больше не найдем мы — при столь плотной концентрации трагизма в изображении жизни — столь мощной солнечной энергии, источаемой вот этим самым художественным изображением. Здесь Пушкин решительно выделяется из всей литературы европейского Нового времени, насчитывающей тысячелетие.
В чем тут дело?
Основной темой европейской литературы — да и всей культуры — было трагическое противоречие между величием человека, его разума и духа, царственностью его положения в природе — и неблагополучием, катастрофичностью его реального бытия. Собственно, великая эта культура и возникла как выражение потрясенности загадкой, которую можно назвать парадоксом человека.
Пушкин отнесся к этому парадоксу иначе, чем вскормившая его культура. В этом причина (одна из главных, если не главная) его единственности, его — решимся на противоречие тому, что сказано несколько выше, — своеобразия, которое, однако, имеет совсем особый, выходящий за пределы литературы характер.
Чтобы уяснить это, надо иметь соответствующий фон и масштаб.
- Один из самых прославленных текстов древнегреческой литературы гласит:
Много есть чудес на свете,
Человек — их всех чудесней…
Мысли его — они ветра быстрее;
Речи своей научился он сам;
Грады он строит и стрел избегает,
Острых морозов и шумных дождей;
Все он умеет; от всякой напасти
Верное средство себе он нашел.
Это — Софокл, «Антигона». В его же трагедии «Эдип-царь» говорится:
Люди, люди! О, смертный род!
Жизнь людская, увы, ничто!
В жизни счастья достиг ли кто?
Лишь подумает: «Счастлив я!» —
И лишается счастья.
Рок твой учит меня, Эдип,
О злосчастный Эдип! твой рок
Ныне уразумев, скажу:
Нет на свете счастливых.
В античной трагедии ярко отразился кризис языческих представлений о мире и человеке. Древнее родовое языческое сознание относилось к бытию как к механизму, с которым надо уметь обращаться (без всякой, впрочем, гарантии успеха). С ростом индивидуального сознания, с накоплением достижений разума, с возрастанием роли человеческой личности такие отношения с бытием вызывали все большую тоску. Осознавая себя некой высокой, неповторимой, уникальной ценностью, человеческая личность все яснее ощущала свою беспомощность перед всемогущей, загадочной и совершенно безразличной к человеку силой — Судьбой, Роком.
То, что названо выше «парадоксом человека», стало наиболее мучительной из проблем, которые тревожили философскую и художественную мысль. Ведь античный человек очень высоко ценил свой разум, он был для него мерой всего, точкой отсчета и критерием истины. И «парадокс человека» для мыслителей и художников был не просто предметом переживания, но — вопросом рационального познания, своего рода интеллектуальной загадкой: как же устроен этот мир, который столь очевидно прекрасен, но в котором столь чудесному существу, как человек, так плохо? Несмотря на всю силу человеческого разума, загадка не разгадывалась. Противостояние гордого разума «секрету» бытия было настоящей мукой, что и отразилось в фатализме — трагическом представлении о непостижимом и бездушном Роке, который навязывает людям судьбу помимо их светлого разума и воли.
Это была драма разума, стремящегося овладеть тем, что ему по природе недоступно, попавшего в порочный круг; драма сознания, видящего загадку и секрет там, где на самом деле — тайна.
Однако в самой этой драме, в трагическом недоумении античного сознания перед непостижимостью и бесчеловечностью рока был страстный порыв к одухотворенному смыслу бытия. Это, в конечном счете, и способствовало торжеству христианства. Когда апостол Павел пришел в Афины проповедовать Христа, он обратился к собравшимся так: «Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны; ибо проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано: «неведомому Богу». Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я и проповедую вам» (Деян.17,22-23).
В самом деле, религия «неведомого Бога», религия Христа, пришла в Европу прежде всего через Грецию, которая была отчасти подготовлена к этому напряженными исканиями и предчувствиями культуры (среди которых, к примеру, прикованный к скале Прометей — смутный прообраз Распятия), выдающимися мыслителями языческого мира: отцом идеализма Платоном, учеником великого Сократа — «христианина до Христа», как называли его в средние века, — и их последователями.
(Впоследствии именно греческий вариант христианства был принят Русью: дух высокого «идеализма» и неотмирности характерен для нашего православного исповедания; в западном же христианстве возобладал более материалистический дух Рима с его первенством мирских ценностей. Забегая вперед, можно сказать, что это и повлекло принципиальную разницу в характере культур русской и западноевропейской.)
Христианство произвело переворот в европейском сознании и мышлении. Оно совсем иначе поставило проблему человека и его участи в мире. Точкой отсчета и центральным моментом оказались не человеческий разум и задача познания мироустройства, а как раз то, что разуму неподвластно: наличие тайны бытия. Стена, в которую уперся, о которую бессильно бился жаждущий всем овладеть разум, стала для нового мировоззрения фундаментом, краеугольный камень которого — величайшая тайна: вочеловечившийся Бог, крестной жертвой указавший людям путь к вечной жизни.
Новое представление о мире и человеческой участи в нем состояло в том, что Бог, сотворивший мир и создавший человека, изначально предназначал свое любимое творение для бессмертия, которое, однако, было утрачено человеком по его собственной вине. Любви к Богу человек предпочел хитроумие духа зла, сердечному доверию к Божьей тайне — овладение тайной, подчинение ее себе. Тем самым человеческое, рациональное, «естественное» было поставлено выше божественного, сверхъестественного; физическое — выше духовного; обладая свободой выбора, человек выбрал низшее, сочтя его за лучшее и высшее.
Совершив такой выбор — учило христианство, — отвернувшись от Творца, человек выбрал свой жребий. Он выбрал власть низших стихий «естества» (которые хоть частично и доступны желанному умственному познанию, зато безразличны к человеку) — власть законов «равнодушной природы» (Пушкин): стихийных сил, естественных инстинктов, биологического эгоизма, борьбы за существование, болезней и неизбежной смерти. Он выбрал закон той самой необходимости, которая в сознании античного человека приобретет мифологизированный облик Рока, повелевающего всем бытием.
Вместе с тем человек не превратился в результате грехопадения в существо, безотчетно живущее по животным законам: он лишился бессмертия в Раю, Царстве божественной любви и свободы, но личная внутренняя свобода, свобода выбора между добром и злом, осталась при нем вместе с разумом и другими дарами, отличающими человека от зверя, — только вот пользовался он этим даром в чуждых свободе условиях, где «необходимость», «польза», корысть побуждали на каждом шагу выбирать зло.
Так, по христианскому учению, началась история человечества — цепная реакция греха и зла, порождающего, по законам «естества», новое зло, тяготеющее на отдаленных потомках. И так возникло в сознании людей то, что названо выше «парадоксом человека». Истолковываться этот парадокс мог по-разному (античный фатализм — один из примеров), но истинная сущность его — это возникшее в падшем человеке противоречие между изначальной внутренней свободой — и той несвободой, тем миром необходимости и смерти, которые человек сам, своим выбором, предпочел.
До Христа «парадокс человека» казался неразрешимым потому, что на эту проблему смотрели с точки зрения наличных условий падшего мира, из сферы несвободы и зла, — смотрели как на нечто изначальное и роковое — забыв о грехопадении, породившем зло. Христианство «перевернуло перспективу»; участь человека на земле была увидена как бы «с другого конца» — из сферы свободы и добра, из перспективы вечной жизни или, как теперь говорят, из области идеала. Оказалось, что идеал — не отдаленная мечта, а то, что есть в каждом человеке, изначально заложено в него Богом при творении, — и все дело не в Роке, а в том, соответствует ли поведение людей этому идеалу; Царство Божие — внутри вас, сказал Христос (Лк.17,21). Оказалось, что корень «парадокса человека» — не в устройстве мира, не во всесилии Рока, а в рабстве человека греху, в противоречии между высоким призванием человека и его жизненной практикой, его поведением в жизни.
Жизнь человечества после грехопадения — непрестанный жестокий поединок между божественным и животным в человеке, между стремлением к идеалу, верой в него, и низшими интересами, между свободой, изначально дарованной человеку, и тиранией смертного физического естества. А рядом с эгоизмом, властью низших потребностей уживались высокий разум, стремление к добру, чувство красоты, способность к любви, подвигу, раскаянию и жертве, тоска и горечь от некой великой утраты — все то, что продолжает связывать человека с Богом, свидетельствует о высоком человеческом предназначении; все то, что Пушкин назвал «духовной жаждой» и что вечно «томит» человека в «пустыне мрачной», какою стал человеческий мир в результате греха.
Ответом на эту жажду, актом милосердия Бога к падшему человеку и было явление Христа — вочеловечение, искупительная крестная жертва, добровольно принесенная ради людей, и Воскресение — непостижимо таинственная, но очевидная победа божественного над «природным», закона любви над законами эгоистического «естества», жизни над смертью. Все, по чему томилось утратившее бессмертие человечество, что существовало для людей лишь в области мечты и идеала, во Христе воплотилось в реальность. Оказалось, что тайна бытия хоть и непознаваема, но исполнена любви к человеку, что зло и смерть не всесильны, мир замышлен и устроен прекрасно и человек, исказивший в себе Божий образ, может, если захочет, вернуть себе божественное достоинство и обрести вечную жизнь.
Переворот, совершенный христианством, был, помимо прочего, в том, что ум европейского человека перестал гордо противостоять тайне бытия, пытаться проникнуть в нее как в лагерь противника и уступил место вере — вере в истины, принесенные Сыном Божьим. В результате разум не уменьшил, а умножил свою силу — так доверие к интуиции ведет ученого и художника к открытиям. Христианство создало новый тип сознания, в котором «духовная жажда» из смутного и мучительного томления превратилась в ясную веру, в волевое усилие и энергию осознанной деятельности, направленной человеком как во вне, так и прежде всего внутрь себя, на свое совершенствование. Оно создало новую культуру.
Происхождение человеческой культуры не только в историческом, но и в духовном смысле связано с падшим состоянием мира. «Когда б вы знали, из какого сора Растут стихи, не ведая стыда» — эти слова Анны Ахматовой можно отнести ко всей культуре. Плод избранности человека, создание его богоподобного творческого дара, культура выросла, как изумительный цветок, из крови и грязи падшего мира, хранящего смутную и мучительную память или мечту о чем-то то ли несбывшемся, то ли несбыточном. Она возникла как выражение «парадокса человека», страданий его и сострадания ему, она придавала благообразие его страданию, стала органом самосознания и самообладания человечества.
С возникновением христианства культура стала осознавать и самое себя, осознавать, что она есть память об утраченном Рае, данная Богом человеку; и что как бы ни была она, культура, велика и прекрасна, она всего лишь менее или более бледное подобие той утерянной гармонии, по сравнению с которой даже Моцарт — слепой скрипач. Но все же — подобие, но все же — память; и призвание культуры — не только сострадать человеку и рефлектировать по поводу человеческой участи, но и напоминать человеку о том, для чего он был предназначен, что и почему утратил.
Возникшая на основе христианства культура средних веков преобразила или, лучше сказать, заново создала Европу, духовный строй ее наций, да и сами нации, их быт и государственность. Само мышление изменялось; осознание присутствия в мире тайны, небезразличной к человеку, дало мышлению новые масштабы, новую глубину. Средним векам мы обязаны, при всех темных сторонах (свойственных, впрочем, любой эпохе), многими открытиями и еще более — истоками последующих успехов; тогда была заложена глубинная основа всего великого в европейской культуре.
Все это не значит, что жизнь в христианском мире стала легче, — наоборот. Царство Божие — внутри вас, сказал Христос; но куда труднее обрести это Царство в борьбе с собственным злом, чем бороться с внешними врагами. «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною», — сказал апостол Павел (1Кор.6,12), и такова формула истинной свободы, рождающей не хаос, а целеустремленность. Величайшим открытием христианства как учения о свободе человека было открытие феномена совести. Ранее это свойство, присущее человеку, не было осмыслено: то жгучее чувство, что терзает нас в определенных случаях, древние греки понимали как боязнь позора и бесславия; Сократ первым сказал, что в человеке есть некий дух, подсказывающий ему, что должно и что не должно. Христианство осмыслило со-весть как безотчетное, но общее всем людям со-знание, со-ведение о существовании Высшей Правды, как проявление знания человека о его богосыновстве, как память о его грехопадении — память, предостерегающую каждого человека от повторения и укоряющую за него. Говоря иначе, совесть была осмыслена как принадлежность человеческой свободы, орудие никем и ничем извне не вынуждаемого выбора.
Однако осознанная свобода христианина, устремленного к идеалу оказалась тяжкой ношей — гораздо более тяжкой, чем несвобода язычника, возлагающего ответственность за все на то, как «устроен мир». Между тем материальный прогресс, другие успехи пробуждали в человеке сознание его безграничных возможностей, гордость своим разумом, инициативой и достижениями; успехи наводили на мысль, что для достижения идеала не обязательно уповать на будущую жизнь в невидимом и неведомом Царстве Небесном, жертвуя ради этого благами, которые гораздо доступнее, и что, в конце концов, вполне возможно реконструировать утерянный Рай средствами, предоставляемыми наукой, техникой, социальной и политической мыслью. Здесь исток всех утопических моделей счастливого общества и государства, земного рая, блаженство в котором хоть и не вечно, зато достигается не личными духовными усилиями, а правильным социальным устройством. И здесь же, спустя тысячелетие после того, как в Европе стало утверждаться христианство, в эпоху Ренессанса, вновь открывшего забытую культуру греческой и римской древности, оказался кстати идеал античного человека и античного общества, составившийся в основном из представлений о «золотом веке» Перикла.
Ошеломившая Европу неповторимая и неувядаемая красота античного искусства, гений трагиков и поэтов, архитекторов и скульпторов, философов, политиков и полководцев, мощная и разработанная мифология, величественная история, героические характеры, наконец демократические и республиканские черты античного общества — все это сложилось в идеализированную картину, представляющую некий утраченный Рай, в образ забытого, а вот теперь припомнившегося золотого века — мира радости, солнца, озаряющего белоколонные здания, мира свободы и творчества; в центре же этого мира был не Бог (поскольку многочисленные языческие боги — в сущности те же люди, только бессмертные, да и воспринимались они европейцами не всерьез) — в центре был Человек, сильный, свободный, разумный, «всех чудес чудесней». Античный фатализм, трагическое одиночество человека перед лицом Рока отошли в ренессансном сознании на задний план; незнание античным человеком Бога выглядело не источником трагизма, а наоборот — показателем свободы и самостоятельности (примерно так же, как афинская рабовладельческая демократия выглядела свободным обществом).
Возникла новая утопия, в высшей степени заманчивая для европейского человека, который, будучи вдохновлен успехами прогресса и цивилизации, начал в то же время духовно уставать — не только от власти западной Церкви с характерной для нее жесткой регламентацией всей жизни, но и от самого понятия о личной ответственности перед Богом, от сознания своего несовершенства, борьбы с грехом, необходимости покаяния и соблюдения заповедей. Воспитанная средними веками привычка, стоя на земле, тянуться к небу стала осознаваться как тяжкая обязанность, стеснение личной свободы, неуместное при таких достижениях цивилизации. Гораздо большей ценностью стали считаться природный ум, талант и практичность, деловитость и изворотливость, прочие личные способности, ведущие к земному благоденствию, славе и власти, питающие уверенность в себе и гордость. Все это понемногу вытесняло ценности христианские из практической области в умозрительную. Да и само понятие о Боге, по-прежнему оставаясь во всеобщем употреблении, на практике приобретало все более неопределенный и отвлеченный характер; христианство с течением времени все более понималось скептически: не столько как сердечная вера, сколько как идеология — и философская, и общепринятая, и официальная, — а христианская система духовных и этических ценностей, формально сохраняя общезначимость, практически становилась «чисто личным» делом каждого. Бурно развивалось философское направление, восходящее к античному материализму и гедонизму — учению о том, что главная цель человека — получить от этой жизни как можно больше выгоды и удовольствий («Миг блаженства век лови», — провозгласит лицеист Пушкин), прежде чем обратиться в глину, годную, как сказал Гамлет, на затычки для бочек.
Вместе с тем, абстрагировав Бога, человек не мог так же поступить с грозными стихиями бытия, природными, душевными и общественными, их буйство продолжало обрушиваться на людей. Смерть (по христианской вере — явление относительное, ступень в иное существование) приобретала смысл абсолютного конца существования, а бессмертие души превращалось в «великое Может быть», как выразился, умирая, Франсуа Рабле. Оттого вслед за верой в разум и прогресс, за культом наслаждений, за утверждением, что жизнь создана для счастья и удовольствий, снова ползло мрачной тенью трагическое сознание человеческого бессилия перед Судьбой и Смертью. В европейское сознание возвращались языческие представления о бессмысленной, бесчеловечной и безблагодатной силе, правящей миром, — Роке; человек вновь оказался заключенным в тюрьме времени — тесном промежутке между физическим рождением и физическим исчезновением; круг замыкался.
«Последнее время — а почему, я и сам не знаю — я утратил всю свою веселость, забросил все привычные занятия; и, действительно, расположение духа у меня такое тяжелое, что эта прекрасная храмина, земля, кажется мне пустынным мысом; этот несравненнейший полог, воздух, понимаете ли, эта великолепно раскинутая твердь, эта величественная кровля, выложенная золотым огнем, — все это кажется мне не чем иным, как мутным и чумным скоплением паров. Что за мастерское создание человек! Как бесконечен способностью! В обличий и движении — как выразителен и чудесен! В действии — как сходен с ангелом! В постижении — как сходен с Божеством! Краса вселенной! Венец всего живущего! А что для меня эта квинтэссенция праха?» («Гамлет»).
Этот вопль скорби и отчаяния раздался в начале эпохи, которой суждено было разработать и оформить философию, направленную «противу господствующей религии, вечного источника поэзии у всех народов» (Пушкин), философию материализма и рационализма, оборотной стороной которой стали фатализм, дурной мистицизм и разнообразные суеверия; в эпоху, признавшую единственной абсолютной реальностью небытие, из которого появляется на свет человек и в которое он возвращается, — и назвавшую себя эпохой торжества Разума, веком Просвещения.
Если христианство было, по выражению Пушкина, величайшим духовным переворотом в жизни Западной Европы, то теперь совершилась духовная катастрофа. Ведь все происходящее имело место не в языческом мире, не знавшем Бога, не среди людей, живших до Христа, а в таком мире, который существовал после Христа, знал Христа тысячу лет, да и возник-то, как таковой, благодаря христианству. В европейском сознании многое пошло так, словно никакого Христа не было, не было не только Евангелия, но и Ветхого Завета, не только тысяч христианских мучеников и подвижников, но и религиозных прозрений идеалистов Греции. Словно все вернулось далеко назад — к моменту грехопадения.
Вновь возникшее трагическое сознание пропасти между величием человека и его уделом на земле, между идеалом и реальностью (как понимало их новоевропейское сознание) было источником как вдохновеннейших дерзновений и открытий, так и мучительных и часто бесплодных поисков, путаницы, двусмысленностей и тенденций прямого нравственного, а порой и художественного упадка; «все высокие чувства, драгоценные человечеству, — пишет Пушкин, — были принесены в жертву демону смеха и иронии», «греческая древность осмеяна, святыня обоих Заветов (Ветхого и Нового. — В.Н.) обругана», поэзия превращалась в «мелочные игрушки остроумия», роман делался «скучной проповедью или галереей соблазнительных картин». Вольтер цинично осмеивал в своей поэме национальную героиню Франции Жанну Д’Арк, погибшую на костре; Байрон окружил романтическим «бунтарским» ореолом первоубийцу Каина; слова гетевского Мефистофеля: «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно творит добро», — истолковывались и стяжали авторитет в качестве оправдания зла. Это была эпоха и циническая, и трагическая — обе эти стороны ее получили выражение в словах пушкинского Сальери: «Все говорят: нет правды на земле; Но правды нет — и выше».
Но Христос был, Евангелие существовало, и уже ничто не могло сделать это не бывшим и уничтожить христианскую «закваску» европейского сознания — и оно металось между Роком и Богом, между Богочеловеком Христом и человекобогом Прометеем, между мечтой о бессмертии и жаждой получить все блага здесь и сейчас; металось, пытаясь то ли что-то выбрать, то ли как-то все сочетать, испытывая притом тайное чувство вины и тайную потребность оправдаться, — и в результате неудач выходя к агрессивной идее несовершенства мира. Идея эта, мрачная и демоническая, заключала в себе своего рода удобство: она была универсальна, то есть годилась для любого мировоззрения, от абстрактно-религиозного до безбожного, и, благодаря своей духовной пустоте, могла являться в разных вариантах: богоборчества или человекобожества, откровенного равнодушия ко всему кроме выгоды или призыва все разрушить, «все утопить» (Пушкин, «Сцена из Фауста»), утопических мечтаний или пафоса революционной переделки мира, откровенного аморализма («все дозволено» Ивана Карамазова) и уголовщины.
А этой разрушительной идее на каждом шагу противостояла очевидная красота мира, природы, человеческого творчества, проявлений высокого духа, разума и совести — все то, что было объяснено только христианской верой и непротиворечиво вписывалось только в христианскую картину мира. И все это с необыкновенной силой выражалось в лучших созданиях культуры Европы. Однако в ее художественном мире зло было, как правило, не только преобладающей, но наиболее действительной, наиболее действенной и активной реальностью; добро же чаще всего оказывалось в высокой и далекой области мечты, которую столь безуспешно стремился воплотить Рыцарь Печального Образа; добро, подобно солнцу в зеркальце, вспыхивало в душах героев, их чувствах и поступках, являя нечто близкое к идеалу, пробуждая надежду, но в то же время озаряя мрак жизни во всей ее далекости от мечты. Художник чаще всего творил свою картину жизни изнутри ее мрака; но из окна тюрьмы виден лишь клочок неба. Иная картина мира — мира, освещенного солнцем Высшей правды, — в таких координатах была невозможна, требовала условных приемов разного рода; такой условностью выглядит, к примеру, вторая часть «Фауста» Гете (особенно финал, где Мефистофель терпит поражение, а душу Фауста уносят ангелы) по сравнению с первой частью, где полновластно хозяйничает дух зла.
Трагизм новоевропейского сознания был иной, чем трагизм языческого фатализма: там была «загадка» мироустройства, неразрешимая интеллектуальная проблема, возникшая из незнания Бога, — здесь была духовная драма бунтующего сознания. Сознание это хотело бы обойти Бога, перешагнуть через Христа, переосмыслив христианские ценности, приспособив их к преходящим земным нуждам, — но не может этого сделать до конца, будучи сознанием христианским.
В результате единое Бытие было расколото надвое: все темное и мрачное в нем, все совершаемое в обход Бога, порожденное человеческим грехом, своеволием, ложью было отнесено к области действительности, подлинной и основной реальности (оттого «реализмом» нередко именовалось именно воспроизведение мрака жизни); а все причастное Богу как Источнику жизни, правды и добра — к области идеала, понимаемого притом как нечто не вполне реальное или вовсе недостижимое, доступное не практике, а мечте. Возникла фундаментальная коллизия художественной культуры нового времени: «противоречие между идеалом (мечтой) и действительностью».
Это противоречие выражала, им мучилась, его пыталась разрешить европейская культура — прежде всего литература; в этом стремлении — основа ее величия и ее трагизма.
Русским наследником ее оказался Пушкин. И в его лице культура совершила неожиданное; об этом выразительно сказал на рубеже прошлого и нынешнего веков в статье, посвященной столетию Пушкина, Лев Шестов:
«Пушкину нужно показать нам, что идеалы существуют на самом деле, что правда не всегда в лохмотьях ходит и что наряженная в парчу неправда на самом деле, а не только в мечтах склоняет свою голову перед высшим идеалом добра. Пушкин нашел в русской жизни Татьяну, и Онегин ушел от нее опозоренный и уничтоженный в своем бессмысленном отрицании. Он знает теперь, что ему нужно возвыситься, а не снизойти к Тане. В этом его спасение и наша великая отрада»; «Там, в Европе, лучшие, самые великие люди не умели отыскать в жизни тех элементов, которые бы примирили видимую неправду действительной жизни с невидимыми, но всем бесконечно дорогими идеалами, которые каждый, даже самый ничтожный человек вечно и неизменно хранит в своей душе. Мы с гордостью можем сказать, что этот вопрос поставила и разрешила русская литература, и с удивлением, с благоговением может теперь указать на Пушкина: он первый не ушел с дороги, увидев перед собой страшного сфинкса, пожравшего уже не одного великого борца за человечество. Сфинкс спросил его: как можно быть идеалистом, оставаясь вместе с тем и реалистом, как можно, глядя на жизнь, верить в правду и добро? Пушкин отвечал ему: да можно, и насмешливое и страшное чудовище ушло с дороги» (Лев Шестов. Умозрение и откровение. Религиозная философия Владимира Соловьева и другие статьи. YMCA-Press, Париж, 1964, с.337, 334. — В.Н.).
Размышляя о том, каким образом Пушкин, по словам того же Л.Шестова, «введший идеализм в нашу литературу, основал в ней также и реализм», какова художественная природа сочетания того, что ни у кого другого не сочеталось, — не следует искать никакого специфического «секрета»: Пушкин весь на виду и все основные присущие ему творческие особенности очевидны, они встречаются в том или ином качестве и сочетании у других художников — это общие свойства искусства, ничего небывалого Пушкин не выдумал. Другое дело — как и чему служат они у Пушкина.
- Общеизвестна феноменальная пушкинская точность: ни одного слова нельзя заменить иным или переставить на другое место. Вероятно, поэтому в начале нашего века одного исследователя (А.Тамамшева, автора обзора «осенних мотивов» у Пушкина — сб. «Пушкинист», вып.II, Пг., 1916 — В.Н.) привели в недоумение знаменитые строки «Осени»:
Октябрь уж наступил; уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей…
Указывая на «невозможность что-либо отряхнуть с нагих ветвей», исследователь причислил эти стихи к «неясным». Конечно, «яснее» и точнее было бы сказать о ветвях, на каждой из которых сохранилось два, три, несколько листочков. Однако такая точность уничтожила бы живой и эстетически полнокровный образ. Да и в бытовой речи, говоря об обнажающейся осенью роще, мы вряд ли будем говорить о количестве листьев и скажем, наверное, о голых или почти голых ветвях, то есть предпочтем выразиться «неточно». Пушкин пользуется для создания художественного образа обычным бытовым зрением, приблизительно фиксирующим некоторую очевидность.
С точки зрения рациональной, логической, выходит парадокс. Фактически точное определение, указывающее на количество листьев, не создает истины образа, а впечатляющий образ — листья, падающие с нагих ветвей, — неточен, не отвечает «фактам». Где же вся истина, полная и исчерпывающая? Выходит, что она непостижима: мы можем ее наблюдать, созерцать «бытовым» зрением, но овладеть ею логически, рационально не можем. Полная истина не вмещается ни в нашу логику, ни в наше слово: находясь совсем рядом, лицом к лицу с нами, доступная созерцанию, она в то же время находится словно в заколдованном пространстве.
Но Пушкин и не пытается в это пространство проникнуть. Подчиняясь предстоящей ему тайне, он лишь обозначает «заколдованное» пространство истины доступными ему координатами: двумя «неполными» и «неточными» определениями, которые к тому же состоят в парадоксальных отношениях, отрицая друг друга; в результате получается живая картина, которую мы можем увидеть внутренним взором: образ облетающих деревьев, полностью отвечающий истине — как художественной, так и фактической. Не «овладевая» истиной рассудочно и словесно, не проникая в нее рационально, мы проникаемся ею, попадаем в поле ее тяготения, в ее таинственное пространство.
На этом принципе парадокса — когда нам даются лишь некоторые «противолежащие» границы пространства истины — пространства тайны, — построено все стихотворение «Осень»:
Унылая, пора! очей очарованье,
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье…
Образ очерчивается, «обводится» определениями, каждое из которых не смыкается с другим, не дополняет другое, а резко другому противовесит. «Контур» получается прерывистым, пунктирным, равновесие — неустойчивым, качающимся, пространство — подвижным, мерцающим, незамкнутым и — втягивающим в себя. Истина — очевидная, но снова «непостижная уму», не названная «точно» никаким словом, но явленная, — овладевает нами.
Вряд ли можно найти другое стихотворение, которое было бы одновременно столь смиренным и столь страстным, умиротворяющим и пронзающим, как «Я вас любил; любовь еще быть может…»; мы никогда не сможем ни назвать, ни даже для себя решить окончательно, что же преобладает, что выражается здесь в итоге: подавляемая ревность или самоотвержение, понимание или обида, горечь неоцененного и потому затухающего чувства или его скрытое пламя, «любил» или «люблю». Мы в силовом поле, образуемом «разнозаряженными» реальностями, которые противостоят и взаимодействуют, борются и ведут диалог, в результате чего мы проникаемся истиной, созерцаем ее прекрасную непостижимость.
В известном эпизоде «Капитанской дочки» Гринев видит и слышит, как сидящие за столом «Пугачев и человек десять казацких старшин… разгоряченные вином, с красными рожами и блистающими глазами», поют народную песню о виселице, которая ждет и разбойника, героя песни, и их самих: «Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, — все это потрясало меня каким-то пиитическим ужасом». «Красные рожи» и «пиитический ужас» — стилистически несовместимые выражения, две правды, относящиеся к разным уровням жизни, между ними огромная внутренняя дистанция, эмоциональная и эстетическая. И снова «разряды», проскакивающие между этими «полюсами», образуют в контексте эпизода не нечто «третье» и не «сумму», а напряженное поле, где ужас и мрак жизни связаны с ее же светом и красотой какою-то парадоксальной трагической гармонией — «непостижной уму», но проникновенной и потрясающей.
Вспоминается «жало мудрыя змеи» («Пророк») — двойной, раздвоенный язык, которому дано поведать о тайне. Мудрость Пушкина в том, что он не берется выразить истину — он выражает ее невыразимость; он указывает на ее тайну — и тогда истина является сама: «Печаль моя светла».
Описанное есть одно из общих качеств искусства, природное его свойство, встречающееся нередко и у других художников. Но одно дело — природное свойство огня испускать свет, другое — использование огня для освещения. Природное свойство искусства для Пушкина уже не только свойство, но — творческое орудие, взятое у природы и усовершенствованное: принцип построения образа. В том числе — образа человека. И — что для нас в данном случае особенно важно — человека грешного, «падшего».
В мире Пушкина очень много таких людей — преступников, убийц, предателей. Деяния их несомненно ужасны, но сами эти люди вызывают не только антипатию (как, например, шекспировские Яго, Ричард III, Клавдий из «Гамлета», Эдмунд и другие персонажи «Короля Лира» и пр.). Пугачев и ужасен в своем зверстве, и прекрасен в бескорыстии, широте и благородстве. Барон из трагедии с откровенно парадоксальным названием «Скупой рыцарь» совмещает стяжательство с рыцарским духом, величие с низостью. Борис Годунов преступен, но и несчастен, он и знает свою вину, и катастрофически ее не понимает. Анджело, добивающийся Изабелы, сознает свою бесчестность, но не может бороться с собой, в финале же сурово говорит, что заслужил смерть.
Противостоянием злого и доброго художественно создается пространство личности, имеющее иррациональную глубину. Оказывается, что Пушкин, не умаляя зла, творимого героями, в то же время сочувствует им.
Однако здесь не то сочувствие, что знакомо нам по греческой трагедии, представлявшей человека жертвой Рока; не скорбь Гамлета над несчастной человеческой участью. В судьбах героев Пушкина нет фатальной неотвратимости, в мире Пушкина нет зла, которое совершалось бы по «роковым» причинам, по склонности характеров, будь то смерть Графини в «Пиковой Даме», или предательство Князя («Русалка»), или отравление Моцарта. Зло всегда обусловлено — наводнение ли это (результат горделивого произвола Петра, воздвигшего город в опасном месте, «под морем», «назло» не только «надменному соседу», но и самой природе) или иное стихийное бедствие («Бог насылал на землю нашу глад», — говорит царь Борис, втайне зная, за что). Зло всегда имеет свой «резон» и творится людьми сознательно, с вполне постижимыми целями, по свободному выбору. И делают этот выбор у Пушкина личности яркие, характеры могучие; в них есть качества, противоположные их преступлению; сквозь мрак их деяний различима печать человеческой силы и красоты, высокого духа; еще немного — и о них можно было бы сказать словами Гамлета: «Что за мастерское создание человек!»… Но к ним же применимы слова Татьяны: «Как с вашим сердцем и умом Быть чувства мелкого рабом?»
Понять «механизм» этого противоречия, составляющего суть пушкинских «злодеев», нередко пытались через анализ их психологии. Пушкин и в самом деле несравненный знаток человеческой души — но он не «психологический» писатель: то, что называется психологизмом — анализ душевных состояний, описание их, — не является его художественной целью.
Чужая душа — потемки, говорит пословица. Художник-«психолог» спускается в потемки чужих душ, чтобы докопаться, сквозь общее всем людям, до замкнутого мира личности, до тайны, которая у каждой души своя. Предмет анализа как такового — человек как именно другой человек, то есть как объект познания, интересный тем, чем он отличен от иных людей. То, что людей объединяет — некая общая для всех истина, — как бы выносится за скобки либо предстает преломленным через многие «частные» истины, которые, в свою очередь, преломлены через сознание художника, увидены и истолкованы так, как свойственно только ему.
Пушкин идет иным путем. Он не делает душу героя объектом анализа, предметом разъятия и изучения, как что-то чужое себе; не входит в «потемки» души со светильником своего понимания и истолкования, не посягает на ее недра. Точка зрения Пушкина помещается «снаружи» героя — так сказать, в другой перспективе. Смиряясь перед тайной человеческой души, он всматривается в то очевидное и простое, что доступно (вспомним листья, падающие с «нагих» ветвей) обычному «житейскому» взгляду. Он наблюдает в человеке то, что находится на поверхности, на свету, то, что выражает внутреннее в человеке внешним образом, общеизвестным и общеузнаваемым; он не доискивается в герое черт, которые лежат глубоко, а обращает внимание на те, что делают этого человека сопоставимым с другими.
Наиболее же сопоставимым и общим, а также и наиболее очевидным, в каждом человеке являются его действия и поступки, то есть его поведение, доступное нам во внешнем выражении, — будь то деяние практического характера, или воплощенное в слове, или проявленное каким-либо образом чувство [например, чувство, выраженное в простом физическом движении: «Он молча медленно склонился И с камня на траву свалился» («Цыганы»); «Она вскрикнула: «Ай, не он! не он!» — и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви без всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал: «Пошел!» («Метель»). Пушкин придавал большое значение изображению, как он говорил, «физических движений страстей». Этим было, кстати, положено основание реализма на русской сцене: краеугольный камень системы Станиславского — «метод физических действий». — В.Н.], и пр. Сообщаются, конечно, и мысли героев, и не высказанные в словах чувства, и внутренние монологи, но все это занимает у Пушкина довольно скромное место, появляется при крайней необходимости, подчиняется очень сходным принципам сопоставимости, выразимости, аскетической простоты.
В результате там, где у другого писателя могли бы быть целые абзацы, а то и страницы блестящего анализа или описания, мельчайшие детали, тончайшие нюансы, — у Пушкина несколько слов. «Ух, тяжело!., дай дух переведу… Я чувствовал: вся кровь моя в лицо Мне кинулась и тяжко опускалась…» «Германн глядел в щелку. Лизавета Ивановна прошла мимо его. Германн услышал ее торопливые шаги по ступеням ее лестницы. В сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести и снова умолкло. Он окаменел». Дон Гуан, увидев, что Статуя Командора кивнула головой, говорит всего лишь: «О Боже!» и «Уйдем».
Отсюда монолитность, монументальность пушкинских образов, порой парадоксально сочетающаяся с какой-то облачной воздушностью. Это, кстати, нередко ставит в тупик художников-иллюстраторов — Пушкин описывает внешний облик героев тоже в общих и внешних чертах: одежда, высокий рост Петра («Арап Петра Великого»), «кудри черные до плеч» у Ленского, «сорочка легкая», спустившаяся с плеча Татьяны, — вот и все; исключения редки и всегда имеют особые причины. Отсутствует портрет Онегина; Ю.Тынянов даже писал, что заглавный герой романа в стихах — пустота, обведенная «кружком имени»; он объяснял это по-своему, не обратив внимания на характер поведения Онегина, у которого поступки в сущности отсутствуют: все, что делает Онегин, лишь условно может быть названо поступками, на самом деле это лишь реакции, вызванные обстоятельствами, а не поступательные действия: герой романа похож на щепку, несомую течением обстоятельств.
Итак, можно формулировать два связанных между собой фундаментальных принципа изображения человека у Пушкина: человек есть тайна, на которую не следует посягать; изобразить человека можно только опосредованно — через его поведение, притом прежде всего в чертах, доступных нам во внешнем (в том числе словесном) выражении. Разумеется, эти принципы также выдуманы не Пушкиным, они — в природе искусства и в той или иной мере действуют в нем всегда, но у Пушкина они играют принципиально главную роль, являются не только натуральным свойством его искусства, но и целенаправленно используемым орудием автора.
Есть разные пути к достижению художником сопереживания читателя, у Пушкина они тоже бывают различны, но в основе у него — как раз наличие «пустоты» в том месте, где у других писателей — психологический анализ, описание, подробности и нюансы. Прикоснувшись к тайне личности, проявляющей себя вовне на языке поступков (общем для всего человечества, от злодея до праведника), попав в напряженное «поле», где пульсирует и прекрасное, и ужасное, причастное и «красе вселенной», и «квинтэссенции праха», встав на эту твердо очерченную почву, мы обнаруживаем, что и детали, и нюансы здесь есть, но — не «заданные» нам автором, а возникшие сами, возникшие у нас в процессе нашего личного вживания в обстоятельства героя — вживания, для которого автор, так сказать, «оставил место». Сопереживая герою, мы таким образом и его постигаем, и спускаемся в «потемки» собственной души, получая тем самым возможность познать самих себя, и притом не в мелких, случайных, суетных, проскальзывающих мимо сознания обстоятельствах и проявлениях, не в частных масштабах нашей личной отдельности от иных людей, а в заданном гением масштабе проблемы человека. Каждый из нас невольно акцентирует в пределах темы или ситуации, «заданной» Пушкиным, разные варианты и оттенки — и так проявляется неисчерпаемая многозначность Пушкина, в которой сама жизнь, в том числе — и наша жизнь, наша личность.
Отсюда и многочисленные разногласия относительно того, что Пушкин «хотел сказать» тем или иным произведением или образом. Пушкин ничего не «хочет сказать», он вообще не столько «говорит» о тайне бытия, мира, человека, сколько предъявляет нам ее. Каждым сюжетом, каждым образом предъявляется нам не только художественная, но прежде всего человеческая проблема, которую мы должны лично решить; а уж каждый смотрит в это «волшебное зеркальце» по-своему, каждый судит, размышляет, выносит оценки в пределах своих понятий.
Как это происходит — тому немало примеров в самих пушкинских произведениях. Герою поэмы «Цыганы» Алеко, горожанину, бежавшему от «неволи душных городов» и в поисках свободы приставшему к табору, мудрый старый цыган объясняет, что «не всегда мила свобода Тому, кто к неге приучен», что свобода нелегкая вещь, — и в подтверждение рассказывает о горькой участи Овидия, высланного из Рима в эти свободные, но скудные и дикие края. Выслушав рассказ, Алеко горестно восклицает, как бы обращаясь к тени прославленного поэта:
Так вот судьба твоих сынов,
О Рим, о громкая держава!..
Певец любви, певец богов,
Скажи мне, что такое слава?
Вопрос, конечно, справедливый (старик цыган даже не помнит имени Овидия), но куда более важно другое: старик хотел рассказать о том, что такое свобода, но Алеко не услышал этого. Только и говорящий о свободе, только ее, по его словам, и жаждущий, Алеко, выслушав рассказ, думает не о свободе, а о славе. И тем самым выказывает свое — быть может, неосознанное — истинное стремление: стремление не к свободе, а к славе и первенствованию; свою главную страсть: не свободолюбие, а себялюбие, — что подтверждается потом убийством Земфиры. Нехитрая история становится зеркалом души героя: реакция его на рассказ, выраженная в слове, отзывается затем в поступке.
Дистанция между словом и делом для Пушкина вообще исчезающе мала. Оттого и говорил он, по свидетельству Гоголя, что «слова поэта суть уже его дела». И наше восприятие «слов поэта», наши суждения о Пушкине, его слове, его мире, его героях тесно связаны с нашим внутренним миром. «Мой Пушкин» есть прежде всего мой автопортрет. Восприятие пушкинского слова, образа — немыслимое, понятно, вне восприятия эстетического — есть, по существу, акт духовный, осуществляемый каждым в пределах своих представлений о поведении и человеческих ценностях, в конечном счете в меру требовательности каждого к себе как человеку.
В ином случае — когда мы подходим к Пушкину как явлению «чисто художественному», призванному лишь удовлетворять наши интеллектуальные, эмоциональные, эстетические потребности и интересы, — все описываемые свойства его воспринимаются иначе. В частности, совсем по-другому трактуется его способность быть нашим «зеркалом»: он представляется художником, не имеющим, так сказать, своего мнения, пассивно отражающим все что угодно, стоящим по ту сторону добра и зла, — в конечном счете пустым; а многозначность его образов, их универсальность, обращенность ко всем, к каждому предстает неким духовным «плюрализмом», сущность которого в том, что единой для всех Истины не существует: сколько людей, столько и истин.
Такой вариант понимания тоже предусмотрен Пушкиным.
Глядя на пишущего летопись Пимена, Григорий Отрепьев сравнивает его с чиновником, который
Спокойно зрит на правых и виновных,
Добру и злу внимая равнодушно,
Не ведая ни жалости, ни гнева.
Но ведь все иначе: ни тени равнодушия к добру и злу нет ни в рассказе Пимена, ни в восклицании, которым заканчивается этот рассказ:
О страшное, невиданное горе!
Прогневали мы Бога, согрешили,
Владыкою себе цареубийцу
Мы нарекли.
Это голос личной и народной совести, вопль ужаса, в котором призыв к покаянию перед Богом. И летопись свою Пимен составляв в качестве исторического, нравственного, религиозного урока:
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро,
А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют.
Вовсе не «спокойно» «зрит» Пимен «на правых и виновных»; и за грешников молится, испытывая к ним «жалость», в которой ему отказывает Гришка. Будущий Самозванец ничего не понимает в человеке, с которым живет в одной келье как с духовным руководителем и о котором так легкомысленно судит. Пимен не «равнодушен», он — нелицеприятен, потому и четко отделяет «труды», «славу» и «добро» от «грехов» и «темных деяний», — но «Спасителя… умоляет» за всех, более всего за грешников.
И беспощаден он не к Борису (слово «цареубийца» — всего лишь констатация, всего лишь правда) — он беспощаден в самообвинении: «Прогневали мы Бога, согрешили… Мы нарекли».
Это беспристрастие, эту правду будущий Лже-димитрий, «вор» и узурпатор московского престола, и принимает за «равнодушие». Потому что для него-то, Гришки, воистину правды нет, это понятие для него лишь орудие в честолюбивых замыслах: ведь в восклицании Пимена он не слышит полной правды — но только ту ее часть, что ему, Гришке, на руку: обвинение Борису. Своим восприятием рассказа Пимена, пониманием выслушанного слова правды Гришка рисует свой истинный портрет.
Вот так пристрастно и частично понимается иными толкователями и пушкинская объективность.
«Борис Годунов» очень много значил в творческой судьбе Пушкина, и поэт отдавал себе в этом отчет, считая трагедию переломным моментом в своей жизни. Сцену с Пименом он опубликовал отдельно, задолго до выхода в свет всей трагедии — и был крайне огорчен реакцией критики, которая, вроде Гришки, ничего в Пимене не поняла. Образ старика-летописца, инока, созданный двадцатишестилетним поэтом, который еще недавно считал себя атеистом, был для него небычайно важен и дорог, был своего рода творческим «символом веры» художника, исповедующего правду и объективность в качестве художественного принципа.
Пушкин, конечно, не Пимен, а светский человек послепетровский эпохи, отмеченный многими ее чертами. Эпоха эта усвоила систему воззрений, перенятых у европейского «века Просвещения», у философии рационализма, материализма, атеизма, и передала их юному Пушкину. Его раннее творчество было во многом безотчетным исканием «неведомого Бога» человеком, воспитывавшимся, по существу, в неведении Бога. Поисками этими руководила интуиция, а она — пользуясь словами из «Гамлета» (в переводе Б. Пастернака) — есть «собственное место» веры.
Обращаясь в своей трагедии к допетровской России, Пушкин находит там тип глубоко верующего человека, который видит и оценивает все происходящее в жизни не со своей пристрастной «точки зрения», а в беспристрастном свете Божьей правды; человека, который и сам грех понимает как отступление от этой правды, от ее света, во тьму. Слово Пимена, которого Гришка считает равнодушным к добру и злу, есть слово света, огненное слово правды о народном грехе, о своем грехе. Такое слово могущественно вне зависимости от того, кто как его истолкует, — здесь у Пушкина поистине сама Высшая правда вмешивается в дела людей. Григорий ложно понял слово инока — но именно в силу этого оно, вне ведома Пимена, подвигает молодого честолюбца на замысел выдать себя за убитого Димитрия, делает его «бичом Божьим». В результате глухоты Григория слово правды становится искрой Божьего гнева, свет его превращается в пожар Смуты, пламя которого осветит наконец — в финале трагедии — безмолвствующему в ужасе народу картину его греха.
Здесь центральный момент наших рассуждений. Словами Пимена установлена у Пушкина «точка отсчета» в изображении человека и его поведения в мире — Высшая правда, правда Бога, сотворившего человека и предназначившего его не для «темных деяний».
Нет смысла сейчас рассуждать о том, сознательно ли, убежденно или интуитивно-безотчетно исходит сам Пушкин из наличия Высшей правды как всеохватывающей реальности; можно говорить лишь о том, что именно при такой «точке отсчета», в такой «перспективе» получают свое объяснение особенности и свойства пушкинских художественных построений.
Выдающийся кинорежиссер Л. Кулешов, учитель многих мастеров нашего кинематографа, анализировал в своих лекциях эпизод поэмы «Полтава»:
Тогда-то свыше вдохновенный Раздался звучный глас Петра: «За дело, с Богом!» Из шатра, Толпой любимцев окруженный, Выходит Петр. Его глаза Сияют. Лик его ужасен. Движенья быстры. Он прекрасен, Он весь, как Божия гроза.
Это место, считал Кулешов, есть наглядный образец искусства монтажа, раскадровки, игры планами: общий план — Петр, выходящий из шатра в «толпе любимцев»; максимально крупный — глаза; крупный — лицо, затем фигура; затем все более общий план, вписывающий героя в картину исторического события.
Одновременно перед нами образец описанного выше способа построения образа — «очерчивание» определениями, различными до парадоксальности. Особенно поразительно «ужасен» — «прекрасен»: словно молнии проскакивают между двумя «полюсами», перенося значения этих противоположных определений друг на друга; в двух рифмующих словах мерцают, вспыхивают противоположные смыслы, и все вместе складывается в образ надчеловеческого величия, вызывающего и восторг, и трепет. Мы не только чувствуем прикосновение истины, которую не определить и страницами прямого описания, — мы ощущаем, как условны наши слова, привычные представления о жизни, которая и сама-то на каждом шагу является нам одновременно и «ужасной», и «прекрасной».
В данном же случае истина еще и в том, что человек, о котором говорится, в исторической реальности чудовищно противоречив, в его личности и деяниях прекрасное сочетается с тем, что поистине ужасно и отталкивающе. Пушкин хорошо это знал, о Петре он думал всю жизнь, его отношение к царю-революционеру — сложное, меняющееся, но всегда потрясенное. Все это отразилось в «портрете» Петра в эпизоде Полтавского боя — отразилось вплоть до физического правдоподобия («Лик его ужасен» — вспомним лицо находящейся в Эрмитаже восковой фигуры Петра: это очень страшное лицо). Замечательно, что художественная мощь образа несомненно связана с присутствием слова «ужасен», которое и само по себе выглядит здесь парадоксально — да еще поставлено в центре всего «портрета», — и которое испускает невероятную энергию, и притом — положительного характера. Окруженное, очерченное, словно магическим кругом, двумя положительными определениями («сияют» и «прекрасен»), слово «ужасен», будто в инфракрасном излучении, «проявляет» как бы таившийся в нем возможный положительный смысл силы, твердости, энергии, — и оттого возникает образ мощной красоты человека — творца и воина.
Дело, однако, не только в чисто словесном искусстве Пушкина. Попробуем-ка представить строки: «Его глаза Сияют. Лик его ужасен. Движенья быстры. Он прекрасен», — отдельно, вне контекста всего эпизода: сохраняя художественную эффектность, фрагмент уподобится осколку неведомой прекрасной скульптуры, представляющему чисто «лабораторный» интерес, или великолепной безделушке, лишится одухотворяющего смысла, который сообщается ему связью с целым: с образом великого человека, воодушевленного великой целью, охваченного бурей вдохновения.
Природу такого душевного подъема Пушкин знал, разумеется, как никто: «Признак Бога, вдохновенье», — сказано в одном из стихотворений.
Обратим теперь внимание: на протяжении эпизода всего из восьми строк троекратно повторяется один и тот же мотив: «свыше вдохновенный» — «За дело, с Богом!» — «Божия гроза». Собственно, весь эпизод, один из важнейших в поэме, образован именно этим мотивом, который и четко обрамляет картину (первая и последняя строки), и звучит внутри эпизода, из уст Петра; Петр является вслед за своим возгласом о Боге, словно выводящим его из шатра. «Признак Бога, вдохновенье» — это и «рама», и стержень образа Петра, возглавляющего великую битву за Россию, ведомого великой целью, «вдохновенного» чем-то высшим, чем он сам.
Построение получается в своем роде концентрическое. Мотив присутствия Бога «охватывает» весь эпизод; Петр охвачен вдохновением, «признаком Бога»; отрицательное определение «ужасен», «охваченное» положительными, светится, как темная Луна, отражающая свет Солнца. Свет — тоже «признак Бога»; и даже «ужасное» оборачивается у Пушкина возможностью «прекрасного», когда человек ведом Богом и за Богом идет.
Здесь объяснение скрытого обаяния пушкинских «отрицательных» героев. Недостатки — продолжение достоинств, говорит пословица. Сатана — это бывший ангел, возгордившийся и падший. Самый свирепый гонитель Христа Савл стал самым пламенным апостолом Христа — Павлом. Великий злодей замышлен Богом как, может быть, великий подвижник, но избрал другой путь. Пушкинские злодеи преступники — люди прекрасных возможностей, только вдохновленные не «свыше». «Как с вашим сердцем и умом Быть чувства мелкого рабом?» («Евгений Онегин»); «Оставь герою сердце; что же Он будет без него? Тиран!» — говорится в стихотворении «Герой». Все «ужасное» в человеке есть извращение того «прекрасного», что дал ему Бог.
Гармоническое совершенство эпизода из «Полтавы» — опять-таки не изобретение Пушкина, не просто его «личный» взгляд на вещи. Еще один эксперимент: попробуем переставить, поменять местами слова «ужасен» и «прекрасен» («Его глаза Сияют. Лик его прекрасен Движенья быстры. Он ужасен. Он весь…» и т.д.). Тогда отрицательное определение «ужасен» из центрального станет итоговым; изъят из обрамления двух положительных, оно вернет себе прямую буквальность, гармоническое равновесие определений разрушится, герой, о котором говорится, что он «свыше вдохновен», предстанет исчадием ада с «прекрасным» «ликом»; наконец, отблеск «ужасного» неизбежно падет на рядом стоящую заключительную строку «Он веси как Божия гроза» — и тогда все окажется поставлено с ног на голову Ибо Божье может быть «прекрасно» и может быть «грозно», но не может быть синонимом того, что в мирском языке называется «ужасным» — иначе нет границы между добром и злом.
Но граница между добром и злом для нормального сознания очевидна; и значит, построение Пушкиным образа отражает мир как объективно гармоническую «систему». Систему, где есть свой священнный порядок, иначе говоря, иерархия, где все — в том числе прекрасное и ужасное — на своих местах относительно Высшей правды. Тайна человека, символизируемая у Пушкина «пространством» взаимодействия противоположных начал, «охвачена» другим «пространством», другою тайной, находится в «поле» высшей реальности, знаменуемой словом Бог.
У Пушкина это может быть прямо указано, как это трижды сделано в описании Петра, или обозначено косвенным образом, или вообще обойдено молчанием, — но именно эта «исходная позиция» Пушкина «задана» его гением, интуицией. Петр в «Полтаве» руководим Богом и отдает себе в этом отчет; Борис Годунов и поминает Бога, и хотел бы обойтись без Бога; Пимен, Патриарх и Юродивый все видят в свете Божьей правды, а Марине Мнишек до нее нет дела. Петр Гринев в чудесных обстоятельствах, устраивающих его судьбу, видит вмешательство Провидения, а Германну высшая сила представляется «очарованной фортуной», у которой можно «вынудить клад» с помощью темной силы карт. Свою любовь к Онегину Татьяна осмысливает как религиозное прозрение («То в вышнем суждено совете, То воля неба… Я знаю: ты мне послан Богом»), Онегину же религиозное чувство чуждо, и потому он проглядел то, что «было так возможно, Так близко». Сюжет «Пира во время чумы» построен вокруг религиозного отступничества главного героя. Но суть не в этих примерах, которые можно умножать, а в понимании Пушкиным тайны человека.
Прекрасно море в бурной мгле
И небо в блесках без лазури;
Но верь мне: дева на скале
Прекрасней волн, небес и бури, —
говорится в стихотворении «Буря». Необсуждаемая, доступная только вере («Но верь мне…») данность, из которой исходит Пушкин, состоит в простой очевидности того, что человек настолько, говоря словами Гамлета, «сходен с Божеством», настолько выше прекрасной, но «равнодушной природы», настолько свободен, что от него самого зависит отказаться от своей свободы, от своего сходства с Божеством — и приравнять себя «квинтэссенции праха».
Исходя из этой данности, мы и получаем ответ на вопрос о том, как появляется, как выбирается зло.
- Исследователи трагедии «Моцарт и Сальери» уделяют много сил рассмотрению Сальери как личности и как типа, анализу его психологии, его пути к преступлению; все это важно и интересно, но для исследователя порой чревато дурной бесконечностью, поскольку каждый вносит в ситуацию собственные нюансы. Важнее другое — самое начало трагедии, где Пушкин, по своему обыкновению, берет, что называется, быка за рога:
Все говорят: нет правды на земле;
Но правды нет — и выше. Для меня
Так это ясно, как простая гамма.
Оказывается, для преступления нужно не так много: всего лишь отвергнуть существование правды «на земле» и «выше». Выбор между добром и злом есть выбор между верой в Высшую правду и неверием в нее. Произнеся свои первые слова, Сальери готов к убийству.
Это значит, что всякое преступление имеет своим прообразом «сюжет», который в пушкинском творчестве не очень заметен только потому, что не лежит на поверхности, а присутствует в глубине: акт грехопадения, когда человек поверил не Богу, а сатане. Сальери — жертва демонической идеи, состоящей в том, что мир устроен Богом — если Бог вообще существует — дурно, несправедливо, неправильно и что, стало быть, «ошибку» следует исправить; это и сделал в свое время первоубийца Каин, обвинив перед тем Бога в несправедливости. Уверовав в эту идею, Сальери тоже убивает. Другого пути к преступлению нет: преступление — это окольный и ложный путь сделать мир лучше, чем он сделан, — хотя бы для одного меня. Преступление — это всегда отвержение Высшей правды во имя устроения, пользы, удобства («для меня» или «для всех» — разница не имеет значения).
Но когда такой акт совершается, с пушкинскими героями происходит нечто причиняющее им крайнее неудобство, нечто странное и противоестественное. Они не испытывают радости от достижения цели. Разрушив иерархию ценностей, перевернув ее вверх ногами, они лишаются спокойствия, мечутся, испытывают страх, подходя порой к грани безумия. Не веруя в правду, которая «выше», отвергнув правду, которая «на земле», они выстроили другой мир, в котором и в самом деле — говоря словами булгаковского героя — «ничего нет», то есть получили то, во что уверовали: «по вере вашей да будет вам» (Мф.9,29). Против ожиданий, это стало их катастрофой.
Отсюда — и наше сострадание к ним, и неравнодушие к их добрым свойствам, и ощущение их человеческой значительности. Ведь тот мир неправды и хаоса, в который они пали, должен был бы устраивать их, казаться им удобным, как мутная вода для рыбака, — если бы в них самих не было Правды, которую они преступили; и вот они бьются, как рыбы, выброшенные на песок. Сквозь темный мир преступных помыслов, идей и деяний, из недоступной тайны человеческой души через все ужасное мерцает свет прекрасного, который есть там потому, что правда есть и выше. Это отражение в душе солнечного света Божьей правды есть совесть, «генетическая память» человечества о своем божественном происхождении.
Совесть — не только свет Правды, но и ее открытый огонь. «Пожарный огнь их домы истребил», — говорит Борис о народе; но посланное Богом бедствие не пробудило в людях, избравших на трон цареубийцу, сознание вины — и тогда пожаром Смуты оборачивается слово совести, сказанное Пименом, искра правды, брошенная им простодушно в жаждущую славы и власти душу будущего самозванца. «Как язвой моровой Душа сгорит», — жалуется Борис. «…Живей горят во мне Змеи сердечной угрызенья» («Воспоминание»). «Глаголом жги сердца людей», — велит поэту «Бога глас». Солнце Правды отражается в человеческой душе, но душа — не мертвая, холодная Луна, и от мощного света она горит тем невыносимее, чем она темнее.
Человек оказывается в замкнутом кругу истинного, не мифического «парадокса человека»: человека падшего, поправшего свое высокое предназначение — и страдающего от того, что он еще сохраняет в себе образ и подобие Бога.
Собственно, парадокс человека в том, что, имея совесть, человек порой не хочет расстаться с миром неправды. Несмотря ни на что, этот мир все же в какой-то степени удобен — прежде всего своею темнотой, где все перемешано и неразличимо; где что возможно, то и позволительно.
Совесть побуждает Сальери после ухода Моцарта заново вслушаться в его реплику о гении и злодействе — и, вспомнив легенду о преступлении Микеланджело, в ужасе предположить:
…или это сказка
Тупой, бессмысленной толпы, и не был
Убийцею создатель Ватикана?
Это страшный вопрос. До сих пор поведение Сальери было поведением богоборца, стремящегося, отвергнув правду «выше», утвердить свою «правду». И вот ему приходит в голову: а вдруг правда есть?
Что в этом вопросе? Только ли отчаянный страх остаться без удобной «сказки», где злодейство — для гения естественное занятие где не место «неким херувимам», где все так, будто правды и в самом деле нет? Или это — очищающий «священный ужас» при звуках арфы серафима» (о котором в том же году писал Пушкин в стихотворении «В часы забав иль праздной скуки»)? Голос ли это «чада праха»; которого сорвалось, провалился замысел, — или «Бога глас», раздавшийся в падшей, но сохранившей все же богоподобие человеческой душе?
Тут не «простая гамма», тут снова — поле тайны и драмы человеческого духа, «тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей» (Достоевский).
Напряжение этого поля — напряжение между сердцем и совестью человека, с одной стороны, и безблагодатным, корыстным стремлением выпытать у «мироустройства» его «загадку»: есть ли некий «секрет», позволяющий преступать грань между добром и злом, между гением и злодейством? Нет ли «закона», который санкционирует попрание образа Божия в человеке? Существуют ли «три карты», помогающие «вынудить клад у очарованной фортуны»?
Последние слова Сальери, слова о Бонаротти, нагруженные все» внутренней драмой человека, попытавшегося поставить на место Бога себя, свой разум и интерес, а в результате цепенеющего пере простым для веры, но неразрешимым для рассудка вопросом: есть ли правда или ее нет? — все это объективно символизирует судьбу новоевропейской культуры.
Эта культура богата прозрениями своих гениев, высокими религиозными и нравственными устремлениями, «великими борцами человечество» (Л.Шестов); и все же общий пафос ее — рациональный и интеллектуальный. Он определяется тем, что наличие Высшей правды для этой культуры — в основном не столько факт, сколько проблема. Эта культура не столько верует в наличие Высшей правды и переживает извращение ее в падшем мире — хотя и верует, и переживает, — сколько утверждает свое понимание правды «на земле» и изучает вопрос о правде, которая «выше».
Идеальной же предпосылкой для того и другого является само наличие падшего мира, где царят мрак, зло и неразбериха «относительности». Падший мир — лаборатория и строительная площадка новоевропейской культуры; поэтому культура эта — невольно, в силу своей природы, несмотря на все устремления гениев — крепко держится за «видимую неправду жизни», за ее трагизм и ужас, эту вечную почву, на которой произрастают цветы искусства и чудеса цивилизации. Более того, культура эта чем дальше, тем все больше увлекается этим трагизмом и ужасом, все упорнее эстетизирует то и другое как некую подлинную, последнюю правду о человеке и мире.
У Пушкина мир, как уже говорилось, выглядит не менее ужасающим, но отношение к нему — другое. Оно выражено в покаянии монаха-летописца: «Прогневали мы Бога, согрешили…» Пимен смотрит на наш мир «снаружи», с точки зрения Высшей реальности не как «мечты», а как факта — такого, который доступен только вере. Именно неверие и породило Смуту — так же как грехопадение породило падший мир. Покаяние Пимена напоминает о существовании другого мира, который был изначально предназначен для человека и утерян им, отчего существование человечества превратилось в смуту. Этот другой мир не нуждается ни в каком совершенствовании, ибо он совершенен, — человек лишь может в него вернуться, верой и духовным усилием восстановить в себе соответствие попранному Замыслу.
* * *
Не стоит искать подтверждения всех этих размышлений на поверхности словесного текста самого поэта — в противном случае он не был бы поэтом. Все рассмотренное естественно для Пушкина как дыхание, как голос и походка, полученные от природы. Впрочем, то, что необыкновенные свойства пушкинского художественного гения именно получены, зрелый Пушкин сознавал ясно — это отражено в «Пророке»: «…И виждь, и внемли, Исполнись волею Моей», — повелевает Бога глас, — гений Пушкина руководим не «своей» волей. Строго говоря, в идеале всякий творческий талант есть способность внимать воле Творца всего; в этом смысле природа таланта близка к природе совести; все дело в том, насколько обладатель таланта это чувствует. Не всякий человек слушает свою совесть, не всякий художник духовно соответствует высоте своего таланта, нередко божественный дар становится орудием не Бога, а самого человека, его личных интересов и страстей, его себялюбия, гордыни, корысти. Не только от самого дара, но и от взаимоотношений с ним зависит масштаб художника, его творческая судьба, роль в культуре и истории. Чем внимательнее художник прислушивается к своему таланту как «Бога гласу», тем ближе он к подлинной правде, или — словами Достоевского — к «реализму в высшем смысле». У Пушкина безупречный слух на правду, его гений поистине «послушен» «веленью Божию» («Памятник»), его художественная совесть абсолютна. Это не значит, что лично он, поэт, непогрешим в жизни, совсем нет, — это значит, что он способен сознавать и видеть свои грехи, что бесконечно взыскательна его личная совесть. «Даже и в те поры, — писал Гоголь, — когда метался он сам в чаду страстей, поэзия была для него святыня — точно какой-то храм. Не входил он туда неопрятный и неприбранный; ничего не вносил он туда необдуманного, опрометчивого из собственной жизни своей; не вошла туда нагишом растрепанная действительность. А между тем все там — история его самого. Но это ни для кого незримо. Читатель услышал одно только благоуханье. Но какие вещества перегорели в душе поэта затем, чтобы издать это благоуханье, того никто не может услышать». Можно говорить о совершенно особого рода реализме, присущем Пушкину, — реализме онтологическом (бытийственном), который сквозь всю «растрепанность» человеческой жизни прозревает красоту и совершенство заложенных Богом основ бытия, величие божественного замысла о мире и человеке. Такой реализм и есть способность Пушкина «быть идеалистом, оставаясь вместе с тем и реалистом… глядя на жизнь, верить в правду и добро», о которой писал Л.Шестов и которая, по его мнению, ставит нашего поэта на совершенно особое место во всей европейской литературе. В то же время Пушкин — поистине европейский писатель, давший в русской культуре новую, исполненную смысла жизнь всем лучшим и высоким началам культуры Европы. Его творчество стало явлением, в котором европейская культура преодолела трагическое противоречие своего христианского сознания, разрывавшегося между мрачной действительностью и светлым идеалом. Напомним, что тот экскурс в духовную историю европейской культуры, что был предпринят у нас в самом начале, России не касался: Русь приняла христианство значительно позже Западной Европы. В силу этого «отставания» духовные процессы на Западе и в России шли по-разному и как бы в противоположных направлениях. Пока в Европе назревал кризис христианского сознания, о чем шла речь в своем месте, на Руси шло стремительное становление такого сознания; в то время как в Европе духовные ценности вытеснялись из области идеалов ценностями прагматическими, «заботами века сего», в культуре Руси происходило обратное: земные блага, отнюдь не отвергаясь, осмыслялись как ценность относительная, высшим же благом признавалась праведность. В культуре Европы нарастал трагизм — древнерусская же культура, вовсе не уклоняясь от изображения трагического и мрачного в жизни, в целом была светлой и полной радости жизни — вспомним несравненную красоту православных храмов, их яркое, праздничное убранство, сияние мира и гармонии, исходящее от «Святой Троицы» Андрея Рублева и других творений русской иконописи, жизнеутверждающую мудрость первого произведения русской христианской литературы — «Слова о законе и благодати» митрополита Илариона, могучую поэзию «Слова о полку Игореве». Это была высоко человечная культура, потому что основой ее была вера в человека как образ и подобие Бога, в Божью правду, в Божью любовь к человеку, пусть падшему, но все равно высшему творению Создателя, и надежда на Божье милосердие. Мрак падшего мира не ослеплял древнерусскую литературу, не толкал ее к трагизму или яростному обличительству: «нет убедительности в поношениях и нет истины, где нет любви» — пушкинские слова вполне применимы к характеру и пафосу этой литературы, которая поистине призывала «милость к падшим». Но настал момент, когда была предпринята попытка, кое в чем удавшаяся, радикально изменить весь строй этой культуры, переломить хребет «старой» Святой Руси с ее духовными традициями — «революция Петра» (определение Пушкина). Культура Руси с ее православными идеалами была расценена как нечто отсталое, не способствующее материальному прогрессу, не соответствующее стандартам европейской цивилизации, где ведущую роль играли уже не «невидимые идеалы», а интересы земного устроения. Петр несомненно хотел России добра, всего себя положил на то, чтобы страна стала сильной, богатой, современной державой, способной противостоять многочисленным недругам, быстро развиваться и крепнуть. Но он не видел к этой цели иного пути, как — переделать нацию по чужому образцу, перестроить не только ее жизнь, нравы, но и саму душу народа, не считаясь с привычным и глубоко народным убеждением, что на первом месте в жизни должно быть духовное, а не материальное. Он не понимал (да и сейчас это мало кто понимает), что культура нации — это не роскошь, не внешнее украшение ее материального бытия, а условие полноценного существования державы, в том числе и материального. И в этом была нешуточная угроза судьбам России. Но семь веков после Крещения (которое, собственно, и создало русскую нацию и ее культуру) не могли уйти одним махом в небытие — даже «по манию царя», и даже такого, как Петр Великий. Христианская, православная «закваска» исторически очень скоро дала себя знать — и притом в той новой, уже чисто светской культуре, что родилась в петровской России. Возникшая в XIX веке новая русская литература со временем поразила весь мир новой художественностью, новой правдой, новой духовностью, сочетающей «реализм» с «идеализмом», — и предъявила Европе христианский идеал в качестве «хорошо забытого» Европой «старого». Новой русской культуре принадлежит неоценимая заслуга в том, что Россия осталась Россией, не изменила своим православным идеалам — и именно благодаря этому стала мировой державой. Устремленность к этим идеалам, которая по-разному и порой противоречиво, но неизменно сказывается в русской литературе, будь то Лермонтов или Гоголь, Гончаров, Островский, Достоевский и другие, — эта глубоко народная черта и есть, собственно, основа загадочной «русской духовности», которая побудила Томаса Манна назвать русскую классику; XIX века «святой литературой». Употребив это слово, немецкий писатель оказался точен: ведь русская классика унаследовала — в новых условиях и новых формах — духовность культуры Святой Руси.
Ключевую роль здесь сыграл Пушкин. Проделанный выше анализ некоторых основных черт художественного мира Пушкина показывает, думается, что, будучи «по букве» писателем чисто светским, ярко и исключительно светским, он в то же время «по духу» унаследовал христианскую систему ценностей допетровской русской культуры, ее религиозную точку зрения на мир, жизнь и человека; но это проявляется не в «верхнем», идеологическом, слое пушкинского творчества, а на наиболее глубоком его уровне — в самом способе художественного мышления, в характере реализма, основанного на ощущении священности Бытия и обращенного к Высшей правде, в поэтической архитектонике и «строительных приемах», в голосе и походке пушкинского гения. «России определено было высокое предназначение», — сказал Пушкин, имея в виду спасение Европы от нашествия с Востока.
Высокое предназначение самого поэта состояло в том, чтобы залечить рану, нанесенную петровским переворотом, восстановить национальную преемственность и духовную родословную культуры, а значит — и самой России. Организм реагирует на травму, вырабатывая в самом себе залечивающие вещества, — культура России, отвечая на попытку изменить ее духовный строй, выдвинула Пушкина. Его творчество связало «концы» русской культурной истории, разрубленной Петром, и воссоединило ее в единое целое. В то же время все лучшее, что пришло из культуры Европы, получило у нас, благодаря Пушкину, свое место, свои русла, функции и пределы, стало работать на Россию, участвовать в строительстве новой великой культуры, которая, войдя в семью европейских народов на правах не только равной, но и «власть имеющей», явила в светских формах убереженные от катастрофы христианские идеалы. Все это и сделало Пушкина «солнечным центром нашей истории» (И. Ильин), определило его особую связь с судьбами России, его царственное место в национальной культуре и непрекращающуюся жизнь в народном сознании, в сердцах людей. Ведь история России продолжается; стало быть, и центр этой истории продолжает нести свою службу — независимо от того, осознаем ли мы, откуда, почему и зачем у нас такой центр, или только чувствуем его тепло и свет.
В заключение вспомним слова Достоевского о Пушкине как «некоторой великой тайне». Тайна пушкинского гения и в том, что столь великую миссию — историческую, культурную, духовную и в известном смысле религиозную — исполнил писатель, которого невозможно назвать ни религиозным, ни духовным писателем в специфическом смысле этих слов, который не перелагал псалмов, не размышлял в стихах, как Ломоносов, «о Божием величестве», не писал, как Державин, религиозных од, напротив — воспитывался в духе европейского Просвещения, скептицизма и материализма, в молодости писал о своем безверии, был автором «Гавриилиады» и на самом пороге «Бориса Годунова» склонялся к атеизму как «системе… более всего правдоподобной». Разумеется, все было бы понятней, если бы речь шла о деятеле, глубоко и ортодоксально верующем, благочестивом, вдохновленном высокими религиозными убеждениями и целями; правда, в таком случае мы, может быть, имели бы дело более с литературным проповедником — удалось ли бы ему сделать для России то, что сделал Пушкин, чей художественный мир, при всех сложностях личной духовной биографии автора, сам по себе пронизан светом божественной Правды? Как раз драматизм личного пути Пушкина особенно ясно показывает, что он делал свое дело, исполнясь не своей волей, повинуясь «веленью Божию»; в этом смысле миссия, совершаемая через Пушкина, — дело Промысла, который — говорит Гоголь — «лучше печется о человеке», нежели сам человек.
1994
Пророк
Глава из книги «Да ведают потомки православных. Пушкин. Россия. Мы.»
Когда-то А.С.Хомяков, прекрасный поэт и глубокий мыслитель, упрекнул пушкинскую поэзию в отсутствии «басовых нот» — то есть в беззаботной легкокрылости, в недостаточном внимании к темному и мрачному в жизни, в малой глубине и основательности. Это было время «поэзии мысли», когда ценились стихи, впрямую философствующие, содержащие сильный рационалистический элемент; но главное, это был XIX век: «жестокий» и «железный», он все же был веком упований и перспектив, надежд на прогресс, на гармоническое, светлое и благоустроенное будущее. Слыша в Пушкине то, что рядом лежало, — гармоничность, ясность, легкость, — все остальное этот век слышал и понимал хуже и с неохотой — по тем же причинам, по каким считал Достоевского «жестоким» фантазером. Все, что мешало разумному благоустроению, представлялось чем-то отдельным от самой жизни и человека, каким-то временным явлением, вроде нарыва или опухоли, — так сказать, «пережитком», который унаследован от дикого прошлого жестоким настоящим и который необходимо удалить. Такая операция, естественно, требовала отдельного и повышенного внимания ко всему не светлому и не гармоническому, в художественном выражении — внятных «басовых нот».
Мироощущение и поэтика Пушкина совсем иные. Не «басовых нот» нет у него, а — их «отдельного» и акцентированного звучания (немногие исключения подтверждают это правило): у него — оркестр, в котором низы звучат в полную силу лишь в единстве с верхами, образуя то, что и в переносном, и в буквальном — музыкальном — смысле называется гармонией: «И пусть у гробового входа Младая будет жизнь играть»; «…Лик его ужасен. Движенья быстры. Он прекрасен», — ничто не выпячивается нарочито, везде покачивающееся, подвижное, живое равновесие живой жизни, в которой всегда есть верх и низ, свет и тень. Нам не навязывается тяжелая сосредоточенность на одной из чаш весов, нас не призывают ни отвернуться от «гробового входа» как вещи враждебной или даже просто чуждой жизни и ее радостям, ни упереться в этот вход взглядом, размышляя, как бы его упразднить насовсем и оставить только младую жизнь с ее игрой. Для Пушкина бытие есть единство и целостность, где нет ничего «отдельного» и самозаконного — такого, что можно было бы, для «улучшения» бытия, отрезать и выбросить. Это — основная, конституирующая черта пушкинского художественного мира; сегодня можно говорить об экологичности этого мира.
Единство и целостность и есть главный камень преткновения в рационально-научном изучении Пушкина, ибо принцип такого изучения — как раз выделение и обособление. Отсюда и непримиримые разногласия в толкованиях смысла произведений, и множество неясностей и спорных моментов в понимании творческой биографии Пушкина в целом, логики его духовного пути.
По этой же причине остается необъясненной и одна первостепенно важная, совершенно беспримерная особенность художественного мира Пушкина — и вот какая.
Смерти и убийства, измены и предательства, виселицы и яд, распад семейных связей, трагические разлуки влюбленных, бушевание природных и душевных стихий, крушение судеб, холодность и эгоизм, смертоносное могущество мелочных предрассудков и низменных устремлений, наконец, многочисленные безумцы, сумасшедшие — все это буквально наводняет мир Пушкина; продвигаясь по этому миру, мы на каждом шагу сталкиваемся с проблемами, которые до сих пор зияют как пропасти; «басовые ноты» звучат фортиссимо, на многих лицах, поступках и событиях лежит инфернальный отблеск, и вообще такой мир походил бы на ад, если бы… Если бы, невзирая на это, а точнее, со всем этим, он не был бы, в нашем общем и необратимом ощущении, самым светлым и жизнерадостным из всех, быть может, известных нам художественных миров.
Почему это так? Почему мы обращаемся к Пушкину не как к «трагическому гению», а как к гению света, рыцарю Жизни? Почему согласно повторяем вслед за В.Одоевским — «солнце русской поэзии», за А.Кольцовым — «солнце», за Ап.Григорьевым — «Пушкин — это наше все», за А.Блоком — «веселое имя»? Почему чувствуем, что пушкинский мир, столь неблагополучный, часто ужасный, светел, а не мрачен?
Чтобы понять это, следует сперва определить — что же такое мрачный художественный мир?
Дело вовсе не в количестве теней: где тени, там свет. Мрачный мир — это мир, в котором царит мрак. Это мир, погруженный во мрак. Такой художественный мир частичен, а не целостен: во мраке человеческому восприятию окружающее доступно не целиком, а лишь в отдельных своих частях, воспринимаемых наугад и связываемых гадательными связями. Мир во мраке — хаос, не организованный (в данном случае — в сознании художника) никаким объективным порядком. В таком мире нет ни закона, ни свободы, это мир случайный и фатальный: художник нащупывает во мраке то, что попалось, так сказать, под руку, на что он наткнулся особенно больно, и составляет из этих отдельных элементов мира некую комбинацию, соответствующую его представлениям и догадкам о связях и взаимном расположении нащупанного. Чем больше талант и интуиция, тем ближе автор к истинным связям и соотношениям; но в принципе это мир, в котором все само по себе, все схвачено во тьме, все зависит от субъективных взглядов, «идей», воли и чуткости автора: в сущности, тот же хаос, которому видимость некоего «порядка» сообщается лишь авторским единоначалием — по-гречески монархией.
Иными словами, мрачный художественный мир всегда есть творение единоличной воли художника, воплощение его пристрастной позиции.
Вспомним кредо Ап.Григорьева «Пушкин — это наше все» и прочно связываемую с Пушкиным солнечную образность, — это не плоды поэтических эмоций, не красоты стиля. В самом деле, мир Пушкина — это действительно все, это мир всеобщей связи и единства: образ целостного бытия, той самой действительной Жизни, которая всегда ведь неблагополучна, но всегда прекрасна, ибо она — Жизнь, и само присутствие в ней любого количества теней говорит все же о присутствии света. Это в точном смысле слова универсум, где нет ничего «отдельного», самодовлеющего и пристрастно кем-то размещаемого: все видимое и невидимое связано свободной, естественной связью, обусловленной не автором, а исключительно отношениями и поступками самих героев; никто не очерняется и не обеляется авторскими характеристиками, — да и самих характеристик, по существу, нет: только события и поступки; все освещается единым светом, перед которым всё и все равны и свободны, как перед солнцем, посылающим свои лучи и высотам, и низинам. Этот мир залит светом и оттого сам сияет, поэтому его неблагополучие не лезет в глаза.
Но что это за свет, равный для всех? Не имеем ли мы дело с всеобщей относительностью или пресловутой «амбивалентностью», когда все на свете имеет разнообразные и равноправные «стороны», из которых можно выбрать наиболее удобную, и никакая блоха не плоха? Не «полифонизм» ли это того рода, который будущий расстрига и самозванец подозревал в смиренном иноке, полагая наивно, что тот пишет свою летопись, «Добру и злу внимая равнодушно»? То есть — присутствует ли здесь позиция автора, не отменяет ли целостность этого мира — его ценностности?
Подобные грехи (по-нынешнему- просто «особенности») в Пушкине видели нередко. Причина — в свойствах нашего сознания: роль критерия и ключевой ценности для нас чаще всего играют наши собственные убеждения и взгляды, а не то, что есть на самом деле. Мы выстраиваем определенную субординацию «истин» и «ценностей» и «места» в ней распределяем по «монархическому» принципу: фавор для одних, опала для других. Эту пристрастность и необъективность мы называем «позицией». Чем крупнее личность, в том числе творческая, тем менее властна над ней эта слабость. У Пушкина она сведена к минимуму. Мир его в самом деле необычен для нас — «слишком» целостен и объективен. Говоря о «драматическом поэте», он излагал свое общее творческое кредо: «беспристрастный, как судьба», писатель «не должен… хитрить и клониться на одну сторону, жертвуя другою… Не его дело обвинять и оправдывать, подсказывать речи»; его дело — «глубокое, добросовестное исследование истины»; именно «во всей… истине» он «воскрешает» изображаемые события («О народной драме и драме «Марфа Посадница» — В.Н.).
Вся истина — это не только эмпирическая, историческая правдивость. Это есть основа ценностной позиции Пушкина. Если у большинства из нас роль точки отсчета играет какая-то часть истины, понятная нам и устраивающая нас, то у Пушкина такой точкой является «вся истина», вся правда целиком, никому из людей, в том числе и автору, персонально не принадлежащая — и не могущая принадлежать: ведь «вся истина» — это не сумма «отдельных» фактов (из которых мы можем отобрать какие-то «для себя»), а единое, неразымаемое целое, общая связь всего.
Это и есть солнце пушкинского мира.
Ведь правда, полная правда, дает ясность — то есть верное представление о реальном порядке и реальной связи вещей вокруг и внутри нас. Без такого представления невозможна осмысленная и свободная жизнедеятельность и ясность духа, одним словом — полная жизнь, в которой человек только и может находить радость и свободу. Мир Пушкина светел потому, что это не хаос, из которого можно извлечь любые комбинации элементов — вызывающие ужас или ненависть, тоску или скепсис, ощущение бессмыслицы и безнадежности, желание «Все утопить» («Сцена из Фауста») или все перестроить по-своему («Моцарт и Сальери»); мир Пушкина — это космос, что по-гречески означает «порядок», «устроенность», «украшенность»: устроенное целое, в котором все не случайно, все неспроста, все осмысленно и по своей сути прекрасно.
И преступление происходит в этом мире тоже не случайно и неспроста. Но отнюдь не потому, что оно обусловлено сутью и правдой этого мира, — напротив. Преступление начинается как раз с убеждения, что правду можно отвергнуть, что «нет правды на земле. Но правды нет — и выше». Всякое преступление есть пере-ступление правды, попрание ее. Совершивший это теряет почву под ногами — и падает, проваливается в область мрака и хаоса — в область, где все видится смутно, ложно, вверх ногами — и потому творятся вещи, здоровому уму и совести представляющиеся бредом: один удивляется и даже возмущается тем, что, убив младенца-царевича и узурпировав престол, не может купить за «злато» и «новые жилища» любовь народа; другой, набив сундуки золотом, за которое пролит целый «потоп» «слез, крови и пота» должников, последними словами честит свою совесть — «незваного гостя», «докучного собеседника», «заимодавца грубого», «эту ведьму» — и умирает оттого, что мальчишка-сын уличил его во лжи; третий, отравив друга, приходит в ужас от светлой мысли, которая всякого обыкновенного человека должна обрадовать и обнадежить: а может быть, рассказ о преступлении Микеланджело всего лишь «сказка» — «и не был Убийцею создатель Ватикана?»; четвертый, употребив всего себя на погоню за большим состоянием, обманув чувства и надежды девушки, запугав до смерти беззащитную старуху, вверив свою судьбу магическим силам, кончает тем, что «не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: «Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!..» Этот мир преступивших — поистине безумен, а его «обитатели» несчастны. Но они не были бы несчастны, а были бы довольны, если бы в последней глубине души были убеждены, что поступали по правде. Но в последней глубине души им известно, что они совершили «злодейство», — и известно им это потому, и мучаются они оттого, что правда есть.
Такова авторская позиция Пушкина. Она радикальна, как ни в какой художественной «монархии». Свет истины, общей для всех, заставляет тени ложиться не так, как угодно кому-то, вооруженному «взглядом» и «мнением», но — в точном соответствии с действительным положением вещей; он являет нам истинные соотношения человеческих идеи и деянии, явственно отделяя вершины и то, что на них, от ущелий и того, что в них.
В пушкинском мире становится зримым объективное ценностное неравенство под равно изливаемым на всех светом: оно возникает не в результате навязанного извне, автором, ценностного порядка, а — свободно, ибо оно зависит от самого освещаемого, от того положения, которое герой, его поступок, его помысел, его «идея» заняли относительно Солнца правды, озаряющего пушкинский мир с его вершинами и ущельями человеческого духа.
Свобода эта простирается очень далеко и глубоко: ведь в пушкинском мире нет практически ни одного до конца «осуждаемого», однозначно «отрицательного» героя (за очень редкими исключениями); более того — все пушкинские «преступники», мы знаем, личности крупные, порой выдающиеся, на них печать человеческой силы и красоты, высокого духа, они словно замышлены и предназначены для величия и подлинной, светлой свободы. И если есть что поистине трагическое в пушкинском мире, так это как раз то, что попрание правды происходит по тому же закону, который указывает путь к высотам духа, — по закону свободы, то есть не вслепую, не нечаянно. Правда попирается свободно, потому что правду знают все. Можно не знать каких-то «отдельных», частных, эмпирических «истин», но «вся истина», вся правда целиком — благодаря знанию-которой человек является человеком — ведома всем. Вот почему Пушкин упорно употребляет обороты такого рода: «Не оживит вас лиры глас!», «Что чувства добрые я лирой пробуждал», «И дух смирения, терпения, любви И целомудрия мне в сердце оживи». Он говорит так потому, что единая правда, «вся истина» есть в каждом человеке, она ни от кого не скрыта — но она не всеми открыта для себя и в себе, ведь это требует определенного самоотречения. «Вся истина» не находится, как отдельные и частные «истины», в преимущественном ведении рассудка и потому не передается как «информация», как чужое и готовое знание: нужно «пробуждать», «оживлять» ее в сердцах людей — там она находится в их совместном ведении — соведении, которое называется совестью. [Вот почему Пушкин последовательно выступал против «нравоучений»: они обращены именно к рассудку и являются не более чем «информацией». В середине 20-х годов, возражая Вяземскому, утверждавшему, что «обязанность… всякого писателя есть согревать любовию к добродетели и воспалять ненавистию к пороку», он писал весьма резко: «Ничуть. Поэзия выше нравственности — или по крайней мере совсем иное дело», — имея в виду, что «нравственность», как система оценок и требований, предъявляемых к личности, есть не исходная ценность человеческого бытия, не «вся истина», но одно из необходимых следствий, или проявлений, «всей истины», сформулированное человеческим рассудком; поэзию же интересует «вся истина», которая «выше». Спустя несколько лет следует существенное уточнение: «Поэзия, которая по своему высшему свободному свойству не должна иметь никакой цели кроме самой себя, кольми паче (тем более. — В.Н.) не должна унижаться до того, чтобы силою слова потрясать вечные истины, на которых основаны счастие и величие человеческое»; обратим внимание на то, что содержание «вечных истин» не раскрывается подробно — оно есть то общее знание, которое именно «вечно» и для всех едино. И наконец, в 30-х годах возникает глубокая, краткая формула: «Цель художества есть идеал, а не нравоучение». «Идеал» — это, собственно, и есть содержание «всей истины», полной и целостной правды, которая есть не что иное, как правда высокого предназначения человека, хранимая в сердцах людей и постигаемая совестью.] Мера глубины и сердечности этого ведения, его «пробужденности» и «оживленности» — и есть ценностная мера всего человеческого в пушкинском мире. Мера эта объективна и абсолютна — недаром миссии пробуждать в человеческих сердцах знание правды посвящено стихотворение, которое можно смело назвать самым необычным в мировой поэзии, единственным в своем роде поэтическим рассказом о некоем откровении, какого не удостоился ни один другой поэт. Миссия эта представлена в стихотворении как прямое выражение Высшей воли, она Самим Богом возложена на человека, Богом же облеченного в высшее из человеческих званий; и выражена она неслыханным, неповторимым и загадочным образом, «темным», как слова пророчеств: «Глаголом жги сердца людей».
- С «Пророком», очевидно, связано было какое-то ослепительное озарение, потрясшее душу и интеллект: не «мысль», не «идея», но именно переживание, по содержанию своему и мощи не умещавшееся ни в понятийные, ни даже в привычные «поэтические» формы, выразимое только на языке мифа. Мы никогда не узнаем, какое это было событие, что за озарение, — у нас нет никаких данных, черновик отсутствует (есть лишь вариант первой строки: «Великой скорбию томим»). Да и вообще все, что говорилось здесь о пушкинском художественном мире, для самого поэта было не убеждением, или установкой, или идеей, а переживанием, качеством дара и духовным процессом. Переводить же все это в понятия приходится нам, пристальнее вслушиваясь в текст, — это-то нам доступно.
Обычно главное место мы отводим судьбе самого героя стихотворения — тому, что с ним происходит. Но ведь это только часть сказанного; ясно, что происходящая с томимым «духовной жаждой» захватывающая и устрашающая метаморфоза важна не только для него и не сама по себе — а тем, ради чего она происходит. Но об этом обычно говорится в общих словах, хотя это и есть самое главное: ради чего.
Ради чего же?
Небольшое отступление. Существует любопытный и по-своему курьезный пример непонимания художественного мира Пушкина — книга В.Вересаева «В двух планах» (М.,1929). Она замечательна сочетанием, с одной стороны, перевернутой, разорванной логики (которая делает «мир» рассуждений автора, исполненных самого плоского позитивизма, как бы прямым антиподом мира пушкинского), а с другой — несомненного чутья. Правильно чувствуя нерв той или иной проблемы, Вересаев неизменно ставит на голову самую проблему. Так происходит у него и с «Пророком». В отличие от других Вересаев всерьез задумался над строкой «Глаголом жги сердца людей» — «самым непонятным и загадочным» местом в стихотворении. Что такое «жечь сердца»? Путем долгих размышлений и даже своего рода психологических опытов Вересаев пришел к выводу, что это вовсе не значит (как обычно принято думать) «зажигать», «воспламенять»: большинство людей, на восприятии которых он экспериментировал, сошлось на том, что это означает: «обжигать», причинять «острое, как ожог, страдание». На этом основании писатель сделал вывод, что речь идет о чисто эстетической мощи искусства, его почти демонической способности бесцельно «волновать» и «мучить» сердца людей сознанием человеческого ничтожества, «бескрылым желанием» «улететь с крепко держащей их земли». Вересаев сознательно пользуется здесь «терминологией» Сальери и Черни из «Поэта и толпы» («К какой он цели нас ведет?.. Зачем сердца волнует, мучит?.. Какая польза нам?..»), откровенно присоединяясь к ним.
Замечательно, что, при прямо антипушкинском подходе, Вересаев опирается на правильное наблюдение: во всем стихотворении, говорит он, нет и намека на «чистые ученья любви и правды», на «дела любви и просвещения», на «требования обличительной проповеди», то есть на все то, что характерно для миссии ветхозаветного или мусульманского пророка! Это не просто совершенно верная — это фундаментальная для понимания «Пророка» мысль.
А вывод из нее делается необыкновенно плоский: «Если Пушкин действительно имел в виду пророка, то приходится признать, что он совершенно не справился с задачей».
Вересаев (как, впрочем, и большинство исследователей) почему-то думает, что Пушкин ориентируется на пример, опыт и миссию ветхозаветных или мусульманских пророков (отсюда — ссылки Вересаева на Моисея, Исайю, Иеремию и Магомета). Но ведь то были не поэты-художники, а проповедники, прямо обращавшиеся со словом Божьим к религиозному сознанию, настроенному именно на такое прямое слово. У Пушкина же речь идет об искусстве, обращающемся к сознанию обмирщенному; прямой проповеди в искусстве грозит снижение до «нравоучения»; с учительного слова, сказанного «прямо», в искусстве чаще всего стирается печать божественного происхождения. Вот почему Бог не дает пророку-художнику таких же «заданий», как пророкам-проповедникам, но требует от него выполнения миссии, осуществимой только средствами искусства, — однако внушаемой тою же Высшей волей, которой поэт должен «исполниться». «Дары различны, но Дух один и тот же» (1Кор.12,4).
Так что же означает последняя строка?
Задаваясь этим вопросом, Вересаев не догадывается о том, что Жжение сердца (связанное, конечно, и с «волнением», и с «мучением») может быть как-то связано с совестью, с ее угрызениями: «Живей горят во мне Змеи сердечной угрызенья» («Воспоминание») — здесь все «взято» из «Пророка»: и «угль, пылающий огнем», водвинутый «во грудь» («горят во мне»), и «жало мудрыя змеи» («Змеи сердечной»), и жжение сердца; последняя строка «Пророка» развернута здесь на себя!
Главная ошибка Вересаева есть ошибка не личная, а традиционная, методологическая, подготовленная временем и наукой, которая никогда не занималась такой несерьезной вещью, как тема совести у Пушкина; ошибка, до крайности характерная: чисто книжный, головной подход к такому произведению, в котором о «голове» как раз ничего не сказано, в котором все записано из сердца, говорится о сердцах и к сердцам обращено. Поэтому и не пришло в голову, что речь идет о совести (ведь она, по общим и давним представлениям, обитает в сердце).
Прав Вересаев, повторяю, лишь в своем наблюдении. В самом деле, Бог не дает Пророку никаких конкретных «поручений»; Он не велит ему — как Вяземский — «согревать любовию к добродетели и воспалять ненавистию к пороку». Он велит ему видеть и слышать — и, исполнившись Его, Бога, волею, жечь словом сердца людей. Каким словом, о чем?
Очевидно, о том, что теперь видит, слышит и знает Пророк.
Но что он видит, слышит и знает?
Физическому преображению поэта в пророка посвящено 24 из 30 строк. В точном центре этих 24 строк —
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
Вот что внял поэт-пророк своим новым слухом (слух — главное для поэта). Перед нами — вертикальная картина мироздания, «услышанная» вся разом, но не просто физически, от верха до низа, а метафизически — от горнего до дольнего. Дав поэту-пророку ее услышать, Бог и повелевает ему глаголом жечь сердца.
Стало быть, глагол этот — о знании всего мироздания? Прекрасно; однако почему слово о таком знании должно жечь? Или оно призвано раскрыть людям какой-то «жгучий» секрет мироздания, почему-то не раскрытый в самом стихотворении? Но секреты — не дело пророков. Пророчества имеют дело с тайнами. Секрет — дело ума и знания, тайна — дело веры и сердца. Не сказано ведь: жги умы людей — ибо знать весь мир разом невместимо никаким человеческим умом, и «жечь» таким знанием разум, если это вообще возможно, означало бы испепелить его, — но сердца людей. Этими словами заканчивается стихотворение, в них оно втекает целиком, они знаменуют цель и итог всего, что произошло и о чем нам рассказано. А значит — все, о чем нам рассказано, совершилось единственно ради человеческих сердец.
Об этом же говорит концентрический мир стихотворения. Один круг — от полета ангелов до «гад морских». Другой — от «неба содроганья» до неслышного прорастанья лозы. В центре же — человек; а над всем — «Бога глас», обращенный к человеку и призывающий обращаться к человеку. Выходит — весь мир, все, что в нем есть, горнее и дольнее, и гремящий над ним «Бога глас» — все это устремлено к человеку, к сердцам людей.
Из этого может следовать только одно: у Пушкина вся громада мироздания звучит, существует, происходит и совершается ради человека (ср.: «Прежде нас, ради нас Он простер над всем этим чувственным миром небо… Ради нас, прежде нас Он сотворил великое светило в начале дня, и — меньшее в начале ночи, и установил их и прочие звезды на тверди небесной… Ради нас Он основал землю, простер море, над ним богато излил воздух и над ним затем премудро свесил стихию огня…» — «Беседы (омилии) святителя Григория Паламы«. Ч.I,M.,1993,с.32-33. — В.Н.).
Это и есть тайна, которую услышал, узнал и постигнул Пророк и о чем велено ему говорить людям — сердцам людей. Ибо что же еще способно вместить непостижную уму громаду этой тайны (ум сочтет ее сказкой, бредом, ум вообще предпочтет иметь дело скорее с тысячей секретов, чем с одной тайной), как не человеческое сердце?
И как может это сердечное знание не жечь сердца людей, если оно неизбежно напоминает, что человеческое существование на каждом шагу очевидным и постыдным образом не отвечает предназначению и достоинству существа, для которого совершается все бытие?
Отдавал ли себе Пушкин сознательный отчет в том, что именно в этом смысл откровения? Слова «Пророка» на этот вопрос не отвечают; отвечают его логика и структура; отвечают другие слова, написанные спустя десять лет:
Вращается весь мир вкруг человека —
Ужель один недвижим будет он?
В точности та же истина, высказанная в ином контексте (последней «лицейской годовщины»: «Была пора: наш праздник молодой», 1836) и потому в иной, логической и афористической, форме.
В «Пророке» она не сказана, а явлена.
Весь мир ради человека — этот главный смысл «Пророка» и есть, осмелюсь сказать, вся истина художественного мира Пушкина, о которой шла речь. Это есть его суть, «точка отсчета» ценностей и конечный смысл. Отсюда вытекают для Пушкина все «вечные истины, на которых основано счастие и величие человеческое». Это та Правда, которая знакома, ясно или смутно, каждому человеческому сердцу, овеществляясь в нем в форме совести.
Считается, что совесть есть способность различать добро и зло в, своих поступках и с этой точки зрения их оценивать. Понимание Пушкина глубже, совесть для него не что иное, как сознание человеком, пусть смутное, но сердечное, — что он цель и венец творения, что для него — всё; но сознание не надменное, самодовольное и потребительское, а, напротив, налагающее ответственность, обжигающее сердце страданием, когда не удается соответствовать человеческому предназначению и достоинству, побуждающее стремиться к такому соответствию [В «Поэте и толпе» Чернь говорит Поэту: «Мы малодушны, мы коварны, Бесстыдны, злы, неблагодарны; Мы сердцем хладные скопцы, Клеветники, рабы, глупцы; Теснятся клубом в нас пороки…» Здесь совершенно ясный комментарий к пушкинскому пониманию совести: в словах Черни есть и различение добра и зла, и оценка себя с этой точки зрения, притом оценка правильная, есть даже страдание («Зачем сердца волнует, мучит, Как своенравный чародей?..»), — а совести нет: нет памяти о своем высоком происхождении, о достоинстве человека как цели Творения, поэтому умерла потребность соответствовать предназначению человека — совесть. Вместо раскаяния и сокрушения о своих пороках Чернь испытывает лишь бессмысленную, неодухотворенную муку, тупое и темное волнение сердец. Отсюда и недовольство Поэтом, глухота к его «глаголу» («Зачем так звучно он поет?.. К какой он цели нас ведет? О чем бренчит? чему нас учит?»), требование прямых нравоучений, «смелых уроков». Отсюда же — отповедь Поэта: «В разврате каменейте смело: Не оживит вас лиры глас! Душе противны вы, как гробы…» Отсюда, наконец, — первые же слова, которыми характеризуется Чернь: «хладный и надменный… народ»: «надменность» — Это извращенная память о высоком человеческом достоинстве. — В.Н.]
Тема специфики художественного мира Пушкина была начата с. вопроса, почему мир этот, невзирая на свой трагизм, светел, а не мрачен. Я попытался ответить на этот вопрос, начав с целостности пушкинского мира, освещаемого целостной, полной и общей для всех истиной. Теперь можно увидеть, что то, что показано Пророку, — и есть именно целостный — и ценностный — мир; ибо у мира этого есть цель и главная ценность — человек. Эту истину, полную и общую для всех, и должен Пророк напоминать людям, жечь ею сердца, в которых можно «пробудить» и «оживить» совесть. Эта «вся истина» художественного мира Пушкина и есть солнце этого мира; она есть — и мир светел.
Можно теперь понять, почему «Пророк» написан этими огненными письменами и строки будто источают кровь, почему он стоит особняком в мировой поэзии, на том пределе, где кончается человеческое творчество. Будучи символом веры зрелого Пушкина, сутью его художественного мировозрения, центром и смыслом его мира, заключая в себе истину в полном смысле пророческую, он не идея, не декларация, не вывод ума или греза воображения, но — непосредственное и целостное переживание откровения, неведомым нам образом явленного поэту через художнический дар. В «Пророке» мир дан поэту — через непосредственное переживание — как одухотворенное, полное смысла целое.
«Вращается весь мир вкруг человека…» В самой этой идее (в структуре «Пророка» воплощенной буквально), собственно говоря, ничего нового для культуры нет. Более того, культура никогда и обходиться без нее не могла, если хотела быть — или хотя бы выглядеть — человечной, то есть утверждающей, а не отрицающей то, что в пушкинское время называлось «вечными истинами», если она хотела быть — или хотя бы выглядеть — вдохновляемой «целью художества» — «идеалом». Ведь сама природа понятия идеал связана с идеей достоинства человека как венца творения, вокруг которого «вращается весь мир»: идеал — это и есть состояние соответствия человеческого поведения и существования этому высокому достоинству, соответствия обитателя своему прекрасному Дому. В ином случае (скажем, в случае экзистенциализма, пытающегося идею достоинства человека удержать в пустоте) идеал — фикция, абстрактная головная фантазия. Но ведь идеал — живая потребность человеческого сердца, совести. Вот ведь и карточный шулер («На дне» Горького), едва только в его заплутавшем сознании брезжит полузабытое чувство человеческого достоинства, потрясает своды ночлежки озарением: «Все — в человеке, все для человека!» — изрядно, впрочем, путаясь («Существует только человек, все же остальное — дело его рук и мозга») и приходя к выводам, решительность которых равна их двусмысленности, — и все же не умея обойтись без этой древней истины, без сопоставления с нею постыдной реальности человеческого существования, попирающей эту истину, а значит — основы бытия.
Формы воплощения и бытования в искусстве фундаментальной идеи человека как цели мироздания разнообразны и по степени сознательности или бессознательности выражения, и в меру декларативности его или органичности, и, наконец, по уровням искажения, достигшего в новое время огромных масштабов, вплоть до превращения этой идеи в свою противоположность: рационализм вывернул ее наизнанку и преобразил в идею человекобожества. Хотелось бы предположить, что именно мера органичности художественного воплощения этой идеи (точнее — органичности, с какою она руководит художественным миром того или иного писателя) определяет подлинные художественные масштабы этого мира при прочих равных условиях. Думаю, именно такое ощущение руководило Толстым, писавшим по поводу Пушкина: «Область поэзии бесконечна, как жизнь; но все предметы поэзии предвечно распределены по известной иерархии, и смешение низших с высшими, или принятие низшего за высший, есть один из главных камней преткновения. У великих поэтов, у Пушкина эта гармоническая правильность распределения предметов доведена до совершенства» (Л.Н. Толстой. Полн. собр. соч. в 90 тт. Т.62, с.22 — В.Н.).
Здесь с рациональной точностью (исключая, может быть, слово «предметы»; для Пушкина нет «высоких» и «низких» предметов, В; смысле тем или реалий жизни; речь идет скорее о «низших» и «высших» человеческих отношениях с миром) сформулировано представление об иерархичности художественного мира «великого поэта», в особенности Пушкина, то есть о главенстве в таком мире «предвечных» ценностей («вечных истин»), которые и дают «гармоническую правильность» «распределению» — взгляду художника на поступки и отношения людей. Толстой говорит о ценностной природе гармонии, которая часто считается категорией чисто эстетической, на самом же деле связана с человеческими идеалами, их уровнем. Чем более полно, сильно, творчески органично и чем менее декларативно воплощается в художественном мире устремление к идеалу, к соответствию человека своему предназначению, чем более уступает монархическая воля автора руководящую поэтическую роль воле идеала, воле высших ценностей, «предвечной» иерархии, тем этот художественный мир — при любом трагизме — выше, светлее, значительнее и гармоничнее, тем он целостнее и жизненно полнее, тем менее он искусствен и более близок истине жизни, с которой стерты «случайные черты». Малость дистанции между поэтической ролью «вечных истин» и ролью личной авторской воли — признак величайших художников. У Пушкина эта дистанция, кажется, исчезает совсем. «Вечные истины», связанные с идеей человека как «венца творения», становятся у него как бы объективными сущностями, непосредственно работающими в художественной системе; они освещают пушкинский художественный мир — собранный в «Пророке» как в фокусе — и главенствуют в нем, давая всему в этом мире место и роль, направляя и притягивая к себе волю автора. В отличие от художественных миров, являющихся монархиями, находящихся под «единоначалием» автора, этот мир, включая своего творца, подчиняется «вечным истинам», их «священноначалию» — по-гречески иерархии.
Попутно надо обратить внимание на достойную сожаления путаницу, которая часто встречается: говоря о творческой свободе Пушкина, восхищаясь его художнической мощью и жизненной правдой, нередко говорят, что он якобы «нарушает иерархию», переворачивает, меняет ее и пр. Рассуждающие так путают иерархию с субординацией — вот ее-то Пушкин действительно и нарушает, и меняет, и переворачивает. Ведь субординация есть тот относительный, временный и внешний «порядок» ценностей, который людям в жизни видится или который они сами сознательно или невольно устанавливают (порой даже думая, что он таков и есть или должен быть), — в то время как иерархия есть порядок, по Толстому, «предвечный», то есть абсолютный и объективный. Ни нарушить, ни изменить его невозможно — можно нарушить правильное представление о нем, и тогда возникнет очередная субординация. Пушкин никогда этого не делал, напротив: нарушая субординацию, он приводил ее в соответствие с иерархией. И думается, многие споры и ошибки в понимании пушкинских произведений коренятся как раз в том, что мы часто руководствуемся своей субординацией ценностей, которая сильно расходится с иерархией ценностей, которой руководствуется Пушкин. И вот почему, при всей сложности проблем, которые он ставит, он так прост. Он прост потому, что иерархия — вещь простая. Ее суть — различение черного и белого, низкого и высокого. Нарушить иерархию — значит поставить на голову соотношение между ними. «Есть упоение в бою… Все, все, что гибелью грозит… таит Неизъяснимы наслажденья — Бессмертья, может быть, залог…» («Пир во время чумы») — это, бесспорно, одна из высших ценностей. Но разве высшая истина — абстракция, силлогизм, одинаково верный в любых устах, как таблица умножения? Ведь это разные вещи, когда «Ищу человека» говорит Диоген — и когда «Дайте мне человека!» кричит Фома Опискин. Одно дело, когда молодой Пушкин пишет: «Во цвете лет, свободы верный воин, Перед собой кто смерти не видал, Тот полного веселья не вкушал. И милых жен лобзаний недостоин», — и совсем другое, когда об «упоении в бою» и о таящемся в нем «бессмертья залоге» говорит несчастный, деморализованный ужасом и одиночеством, павший духом (ведь он сам потом в этом признается: «…мой падший дух…») человек, который потерялся, оставил поле брани, где борются с бедой и страдают его собратья, забыл об их нужде в помощи, сочувствии, утешении и стремится утопить свое горе и страх в вине, ласках «погибшего, но милого созданья» и, наконец, «гимне», который призван украсить эту достойную если не осуждения, то жалости позицию, придать ей, в глазах окружающих и самого Вальсингама, видимость некоей высшей ценности. Вальсингам пытается сделать своею служанкой одну из «вечных истин, на которых основаны счастие и величие человеческое». Он не злодей, не трус, он потерялся от горя, он запутался, но отчего же мы часто видим в нем героя, отождествляем гимн со звучащими в нем святыми словами, всю трагедию с этим гимном, а позицию несчастного — с позицией автора «Пира во время чумы»?.. Да не потому ли, что сами мы порой нечетко различаем низшее и высшее?
- «Исчезла… истина, — писал Фолкнер. — …Истина — эта длинная, чистая, четкая, неоспоримая и сверкающая полоса, по одну сторону которой черное — это черное, а по другую белое — это белое, — в наше время стала углом, точкой зрения, чем-то, что не имеет ничего общего не только с истиной, но даже и с простым фактом, и целиком зависит от того, какую позицию ты занимаешь, глядя на нее…» (эти слова приводит Валентин Распутин — «Современная драматургия», 1985,№3,с.256. — В.Н.).
Я начал с того, почему катастрофический мир Пушкина светел. Теперь можно ответить и на вопрос о том, почему светлый мир Пушкина так катастрофичен. Основа всех трагедий — путаница ценностей, «смешение низших с высшими, или принятие низшего за высшее» (Толстой), превращение черного в белое в зависимости «от того, какую позицию ты занимаешь» (Фолкнер), стремление поставить высшие истины на службу интересам. Трагедия совершается тогда, когда человек, преступая через свою совесть, преступает тем самым через свое достоинство цели и венца мироздания. Высокий чин человека не позволяет ему бесчинствовать. Поэтому как только мы отворачиваемся от Истины, говорит Фолкнер, Истина отворачивается от нас.
У Пушкина это звучит так: «Нельзя молиться за царя Ирода — Богородица не велит».
Стоит воздвигнуть город — прекрасный, любимый и самим автором, — но воздвигнуть его «назло» (на важную поэтическую роль этого слова, стоящего в самом начале «Медного всадника», обратил внимание А.Архангельский — В.Н.), неважно кому, надменному ли соседу или «Божией стихии», — как сотрясаются основы земли и на беззащитный город обрушивается зло — «злые волны», столь же своевольные в разрушительной мощи, сколь своевольна была созидательная сила; [Обратим внимание на мирный и тихий пейзаж, открывающий поэму («Пред ним широко Река неслася…» и т.д.); первые же слова монолога: «Отсель грозить мы будем… прорубить окно…», — словно взламывают его; в образовавшуюся брешь (не «окно» ли?) и хлынут затем «злые волны» (в самом деле: «злые волны, Как воры, лезут в окна…»).] и вот уже человек, обездоленный и обезумевший, «Как обуянный силой черной» грозит («Отсель грозить мы будем…») кулачком бронзовому истукану и, «злобно задрожав», шепчет угрожающее слово, страшный перевертыш: «Добро, строитель чудотворный…» И снова, как по цепной реакции, в ответ на злобу несчастного, «назло» которому оказался построен дивный град, мертвый металл возмутился — как возмутились неодушевленные волны — и сдвинулся со своего места, и погубил окончательно бедного Евгения… И какая разница, наяву это произошло или в помраченном сознании: истина остается истиной — «назло» есть «назло», и ничего сверх этого, и отвечает за это «венец творения».
Природа «высших истин» такова, что они суть простые истины. Но с некоторого — давнего уже — времени человечество убедило себя, что они-то и есть самые сложные. Ведь очень часто со сложным удобнее и легче иметь дело, чем с простым, — меньше ответственности. Поступить по совести, по правде, по простым понятиям о добре бывает трудно, это так, но вовсе не сложно: ведь правду знают все.
Правду знают все. На этой простой истине как раз и построен пушкинский художественный мир, отсюда и солнечность его, и трагизм.
Если так, то Пушкин — современнейший писатель, и слушать его надо так, как слушаем мы врача, объясняющего природу нашей болезни.
Вальсингаму нужно было ужаснуться собою, чтобы прозреть и погрузиться «в глубокую задумчивость». Пушкин так и оставляет его на пороге.
Ныне человечество подошло к порогу. Экология — уже не отрасль» биологии, а наука выживания. Она есть не что иное, как попытка мирскими средствами, средствами науки осмыслить мир как целостную и ценностную структуру, попытка научно отразить факт существования высших и простых истин, существования Правды, не зависимой от «точек зрения» и «позиций».
Эту-то задачу решил, этот-то факт отразил мирскими — художественными — средствами Пушкин. Его пророческая интуиция словно прямо обращена к нашей эпохе, когда только простая правда и может достойно противостать вселенской смерти.
1986
Под небом голубым
- Много лет одним из популярнейших пушкинских стихотворений была «Вакхическая песня»:
Да здравствует солнце, да скроется тьма!
Эти слова играли роль эмблемы времени. В последние годы я редко слышу эти стихи. У каждого времени свои песни и свой Пушкин. Сейчас чаще слышу другое: «Пир во время чумы». Эмблема сменилась.
Это хочется осмыслить. Не только в контексте нашей эпохи — тут-то все более или менее ясно, — но и в контексте Пушкина, творчество которого — единый мир.
Для этого придется вспомнить одну из главных лирических тем Пушкина, к которой не раз обращались исследователи, в том числе и я. Первые слова поэта, когда он узнал, что рана его смертельна, были: «Мне надо привести в порядок мой дом».
Дом для Пушкина ценность важнейшая, коренная, бытийственная. Дом — жилище, убежище, область покоя и воли, независимость, неприкосновенность. Дом — очаг, семья, женщина, любовь, продолжение рода, постоянство и ритм упорядоченной жизни, «медленные труды». Дом — традиция, преемственность, отечество, нация, народ,» история. Дом, «родное пепелище», — основа «самостоянья», человечности человека, «залог величия его», осмысленности и неодиночества существования. Понятие сакральное, онтологическое, величественное и спокойное; символ единого, целостного большого бытия.
На протяжении лет Дом представал у него в разных обликах и масштабах. В Лицее — шутливо стилизованное под «келью» жилище молодого и беззаботного «мудреца»-вольнодумца. В стихотворении 1819 года «Домовому» впервые появляется «семьи моей обитель». «Узнике» — «темница сырая», откуда хочется улететь. Во второй главе «Онегина» (1823) с юмором и даже иронией, но и со скрытой завистью рисуется устойчивость домашнего деревенского быта.
Вскоре после приезда в Михайловское, в двойном изгнании и огромном одиночестве, возникает новый образ:
Земля недвижна; неба своды,
Творец, поддержаны Тобой,
Да не падут на сушь и воды
И не подавят нас собой.
Авторское примечание: «Плохая физика; но зато какая смелая поэзия!» — сегодня можно прочесть решительнее: плохая физика — но зато какая верная метафизика. В «Подражаниях Корану» эта метафизика Дома развита и разработана: «Зажег Ты солнце во вселенной, Да светит небу и земле, Как лен, елеем напоенный, В лампадном светит хрустале». Солнце — «святая лампада» Дома, которая горит всегда. В качестве Дома предстает все Творение — Мир, или, по-древнегречески, ойкос (дом); тема впервые обнаруживает свой сакральный характер.
Однако после этого, словно спрыгнув с неба на землю, автор резко сужает масштабы. 1825 год: «Наша ветхая лачужка И печальна и темна. Что же ты, моя старушка, Приумолкла у окна?» Маленькое убежище двух одиноких людей, окруженное извне бурею, мглой, вихрями, — почти экзистенциалистское ощущение сиротства; единственное утешение- «Спой мне песню… выпьем, добрая подружка…». Наш классический вариант: грустно, одиноко, безвыходно? — выпьем и споем. Лучший выход, когда от тебя ничего не зависит.
«Зимнему вечеру» предшествует как раз «Вакхическая песня». Вот тут открывается нечто совсем неожиданное.
Что смолкнул веселия глас? Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Раздайтесь, вакхальны припевы! Спой мне песню…
Да здравствуют нежные девы
И юные жены… Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей…
Полнее стакан наливайте!… …Где же кружка?
Что смолкнул веселия глас? Сердцу будет веселей.
Да скроется тьма! Буря мглою небо кроет…
И печальна и темна…
«Зимний вечер», выходит, своего рода вариация «Вакхической песни». И там и там — некое ограниченное пространство: в «Зимнем вечере» материальное, в «Вакхической песне» идейное: замкнутый круг единомышленников, друзей «муз» и «разума», за пределами его — «тьма» («Буря мглою…»). От участников пира ничего не зависит, они лишь ожидают «ясного восхода зари» с полными стаканами и вакхальными припевами.
В «Вакхической песне» мне всегда чудилась какая-то тайна; или секрет; или странность. Лучезарное, сверкающее, словно отлитое из золота, стихотворение светит как бы отраженным светом, изнутри же излучает темную ауру одиночества. В нем, вполне годном быть гордым гимном просветительства, есть свойственная этой идеологии эйфорическая безопорность и абстрактность. Не столько жизнь, сколько эмблема. Неудивительно, что, проецируясь в «Зимнем вечере» на обыкновенную человеческую жизнь, эта эмблема даже тему Дома заставляет горчить и отдавать заброшенностью.
Тут просматривается, вероятно, процесс роста, в котором дар то и дело опережает своего обладателя, видя и зная больше, чем он. В «Подражаниях Корану» поэт был выведен на уровень темы Дома как метафизической, сакральной темы Творения, где «святая лампада» Солнца, зажженная Творцом для человека, никогда не гаснет и где человек никогда не одинок. Но воплотив то, что знает дар, сам поэт словно бы забывает об этом: «Вакхическая песня», похоже, — попытка силовым приемом преодолеть момент уныния, обернувшись на тот просветительский оптимизм, с которым в ходе кризиса начала 1820-х годов произведен расчет (хотя, по-видимому, и не полный).
Дар, однако, и тут оказывается мудрее и сильнее «идеологии». Пирующие пируют во «тьме», которую освещает «лампада», но не «святая», а обыкновенная и к тому же символизирующая «ложную мудрость»; при ее-то свете они и воспевают просветительский кумир «разума»; однако в конце откуда-то возникают совершенно не свойственные Просвещению ноты: истинное Солнце, которого ждет автор и свет которого затмит лампаду «ложной мудрости», — оно, оказывается, «святое» и «бессмертное» солнце «ума» («ум», греческий «нус», есть категория не рациональная, а духовная, от неоплатоников перешедшая в христианское учение). Интуиция дара чуть ли не контрабандой, помимо намерений автора наводит свой порядок: одухотворенность одерживает верх над «идеологией» (как в «Зимнем вечере» тоска и грусть одухотворяются простой человеческой нежностью к живому и близкому человеку).
Проходит год — и то, что было обретено в «Подражаниях Корану», не только возвращается, но и осмысляется по-новому.
В последней строке стихотворения «Пророк» — «Глаголом жги сердца людей» — речь идет о пробуждении в людях совести. В произведениях Пушкина художественно уловлена онтология совести. Совесть есть способность человека сознавать себя человеком — венцом, центром и целью Творения. Это — чувство богосыновства, сознание себя образом и подобием Божьим, притом сознание не спесиво-дурацкое, а глубокое, трепетное, налагающее сыновнюю ответственность за свое поведение и помыслы и потому связанное с понятием греха. Такое сыновство включает чувство Отчего Дома как космическое — в древнем и буквальном смысле слова «космос»: устроенность, порядок, осмысленность и красота. Грех есть нарушение порядка, разрушение Дома.
Человек, влачившийся в «пустыне мрачной», существовал в плоском эмпирическом мире, совершал путь по горизонтали жизни наличной, текущей, преходящей — «утомительной» и «однозвучной».
Встреча с шестикрылым серафимом дала ему Дом — большое бытие: на горизонтали восставилась вертикаль — не только физическая («неба содроганье» — «гад морских подводный ход»), но и метафизическая («горний ангелов полет» — «дольней лозы прозябанье»). Человек оказался на пересечении, в центре открывшейся вселенской сферы, ойкоса, — и увидел, что все это — для него, что Дом этот — Отчий. Иначе — зачем посылать ангела к ничтожной твари, взывать к ней: «Исполнись волею Моей» — и велеть глаголом жечь сердца… других ничтожных тварей?
Творение осмысляется теперь в связи с человеком — единственным во вселенной существом, обладающим совестью — чувством Дома.
«Ойкос» в новогреческом произносится «экое». То, что скрыто в недрах «Пророка», с очевидностью содержится в том чувстве, которое сегодня заставляет нас поминать совесть, говоря о проблеме планетарных судеб Земли, формулируемой как «проблема экологии».
Сделав от «Пророка» скачок на три года вперед, мы встретимся со стихотворением, заставляющим вспомнить и лицейскую «келью», и «темницу» «Узника»: «Монастырь на Казбеке» (1829), где монастырь парит, «Как в небе реющий ковчег».
Лицейская «келья» сменилась «заоблачной кельей», «темница» «Узника» — «ущельем».
…»Давай улетим!
Мы вольные птицы;
пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда…»
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!
Горизонтально-физическое измерение сменилось вертикальным, «морские края» стали небом (море и небо у Пушкина всегда рядом), а «гора» — символом спасения: к горе, как к «вожделенному брегу», пристал ковчег Ноя, спасшийся от всемирного потопа.
Еще через год появляется «Пир во время чумы».
Многозначительна исходная ситуация. Посреди бушевания грозных внечеловеческих сил, сродни потопу (раньше это была «тьма», потом «Буря… Вихри снежные»), — небольшая группа людей пирует, отгородившись от остального мира каким-то отдельным, особым убеждением, которое они, по-видимому, считают единственно верным — но которое никуда не ведет. Они пассивно ждут- но не «восхода зари» и не конца бури, а конца жизни, и приветствуют смерть поднятыми стаканами: «…спой Нам песню, вольную, живую песню, Не грустию шотландской вдохновенну, А буйную, вакхическую песнь, Рожденную за чашею кипящей».
«Такой не знаю…» — отвечает Председатель и поет гимн.
Он не знает, а автор знает. В трагедии и гимне чуме причудливо переплетаются мотивы «Вакхической песни» (тоже своего рода гимна) и «Зимнего вечера».
Начальный монолог Молодого человека, призывающего выпить в память Джаксона «С веселым звоном рюмок, с восклицаньем», отсылает к призыву: «Что смолкнул веселия глас?»
Дважды звучащие в трагедии обращения: «Спой, Мери, нам уныло и протяжно…» и «спой Нам песню, вольную, живую…» — к дважды повторенной просьбе: «Спой мне песню, как синица…», «Спой мне песню, как девица…»
Гимн чуме начинается с «могущей Зимы», в «Зимнем вечере» «Вихри снежные».
В гимне — чума «к нам в окошко… Стучит могильною лопатой»; «Зимнем вечере» — буря, «как путник запоздалый, К нам в окошко стучит».
В гимне чуме — «Зажжем огни…» (не «лампады» ли?), а что до «солнца… ума», то — «Утопим весело умы» (это вместо «заветных колец», бросаемых «в густое вино»).
Наконец, вместо «Да здравствует солнце, да скроется тьма» прямо в рифму: «Итак, — хвала тебе, Чума; Нам не страшна могилы тьма а «дева-роза» с ее «дыханьем», быть может полным Чумы, — эхо «нежных дев» и «юных жен».
Гимн чуме, а затем «глубокая задумчивость» Председателя в финале — мрачно-романтический апофеоз, а затем крушение просветительской утопии, попытавшейся изъять из жизни людей ее священные основания, обойтись без них.
Первые слова трагедии — «Улица. Накрытый стол…»
Стол всегда стоял в доме и был принадлежностью дома, сакральной, как и сам дом. В «Пире во время чумы» действует бездомное человечество, уличное человечество. Дом утрачен не из-за эпидемии, а из-за того, что утрачено чувство священности дара жизни и таинства смерти; бездомное человечество — это человечество, потерявшее святыни. Все, что делается, делается наоборот: мертвых предлагают поминать весельем, смерть прославляют в гимне, на призыв не лишать себя надежды «встретить в небесах Утраченных возлюбленные души» откликаются насмешками; перед лицом грозящего конца люди не становятся лучше, не думают друг о друге и о душе: Луиза так же суетна, завистлива и злобна, как была, и, может быть, еще хуже: «…ненавижу Волос шотландских этих желтину». Все продолжается так, как будто ничего в мире не изменилось. О Председателе, очнувшемся от наваждения, говорят: «Он сумасшедший, — Он бредит о жене похороненной», — для этих людей ничего реального, кроме смерти, не существует, это поистине мертвецы, которым остается лишь хоронить своих мертвецов. Эти люди больны — и не чумой; чума лишь обнажила их внутреннюю, духовную болезнь, она сама вызвана этим состоянием; она у Пушкина так же не случайна, как не случаен всемирный потоп. Люди «Пира во время чумы» забыли свое божественное происхождение, назначение и достоинство, иначе говоря — потеряли совесть и живут без нее, думая, что так тоже можно. Это и есть их бездомность. От этого и чума.
«Пир; его картина», писал Достоевский, картина «общества, под которым уже давно пошатнулись его основания. Уже утрачена всякая вера; надежда кажется одним бесполезным обманом; мысль тускнеет и исчезает: божественный огонь оставил ее; общество совратилось и в холодном отчаянии предчувствует перед собой бездну и готово в нее обрушиться. Жизнь задыхается без цели. В будущем нет ничего; надо требовать всего у настоящего, надо наполнить жизнь одним насущным. Все уходит в тело, все бросается в телесный разврат и, чтоб пополнить недостающие высшие духовные впечатления, раздражает свои нервы, свое тело всем, что только способно возбудить чувствительность. Самые чудовищные уклонения, самые ненормальные явления становятся мало-помалу обыкновенными. Даже чувство самосохранения исчезает».
Странно даже, что тут имеются в виду только «Египетские ночи», а не «Пир во время чумы», — настолько каждое слово соответствует смыслу и тексту трагедии-предостережения. Но здесь мы, кажете уже перешагнули границу веков.
- В январе (1989 года, после спитакского землетрясения — В.Н.) в газетах промелькнуло сообщение: в одной из разрушенных армянских деревень оставшиеся в живых люди решили, что наступил конец света и они — последние жители Земли.
У них были основания так думать. Сегодня и академику, и крестьянину ясно, что вечность земного существования не есть неотъемлемое достояние человечества. «Неба своды» могут пасть «на сушь и воды». Бессмертие человечества (заменившее нам бессмертие души) может прекратиться.
Остается удивляться, до чего совершенны наши механизмы психологической защиты. Никто ничего не осознает. Никто не слышит тех, кто стремится осознать. Все идет своим чередом, «пир продолжается». Продолжает насиловаться природа, продолжают расстреливаться небеса. Продолжается распространение орудий убийства людей, социальная злоба и семейная вражда. Продолжается похоть тела, похоть престижа, комфорта и власти, культ удобств, развращение людей прагматической «моралью» и бесчинство «свободы слова»; продолжается все, что не требует труда души, все, что помогает убедить себя и других, что души не существует, — «как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех» (Мф.24,38-39). Уже земля встает на дыбы то там, то здесь, уже звезда полынь (чернобыль — вид полыни — В.Н.) пала на источники вод, и воды стали горьки (Откр.8,10-11), но Луиза продолжает ненавидеть Мери и желтину ее шотландских волос. Никто не думает, что сегодняшние слова могут стать последними.
Озонная дыра — это, может, еще не конец, может, обойдется и с прочими плодами прогресса; но если изживается понятие о совести («разрешено все, что не запрещено») — это конец. А как он будет — перегрызем ли друг другу глотки, или сойдем на нет, вымрем, словно какие-нибудь ящеры, от неведомой чумы, или деградируем до биологической приставки к компьютеру, — в любом случае это будет позорная гибель: люди исчезнут оттого, что осквернили прекрасно устроенный Дом.
«Разврат последних упований… и — даже не щадя последних мгновений сознания! — содрогается Достоевский в рассказе «Бобок». — Им даны, подарены эти мгновения и… Нет, этого я не могу допустить…»
И правда, не хочется верить. Ведь это удивительное существо, человек, он так прекрасен в замысле своем, так может быть разумен, добр, отважен и мудр, так способен на любовь беззаветную, на самопожертвование даже до смерти; невозможно же допустить…
И последние слова «Пира во время чумы»: «…Председатель остается погружен в глубокую задумчивость», — ведь это все-таки слова надежды, не так ли?
У Пушкина последние слова вообще значат страшно много. «Мне что-то тяжело; пойду, засну. Прощай же!» («Моцарт и Сальери»); «Где ключи? Ключи, ключи мои!..» («Скупой рыцарь»); «Я гибну — кончено — о Дона Анна!» («Каменный гость»), — все это почти формулы.
Сократ перед смертью напоминает ученику о петухе, обещанном в жертву богу врачевания; Вольтер, у которого кюре надеется хоть перед смертью вырвать признание божественности Иисуса Христа, отворачивается к стенке с требованием никогда не говорить ему «об этом человеке»; Пушкин, вспоминает А. Тургенев, «умирал тихо, тихо». Все слова, сказанные им за эти сорок пять часов, символичны — и просьба: «Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше — ну, пойдем!» — и ответ Данзасу, обещающему отомстить убийце: «Нет, нет, мир, мир», — и предпоследние: «Кончена жизнь… Жизнь кончена» (это ведь, точно, слова эсхиловской Кассандры); и, наконец, самые последние: «Тяжело дышать, давит». Блок истолковал эти слова в общественно-историческом смысле: «Его убило отсутствие воздуха». А другой смысл — внутренний, личный, он ведь тоже был? Что, помимо надвигающейся телесной смерти, могло давить его — ведь даже врага своего он простил?
Зимой 1987 года мне позвонила незнакомая женщина. Сначала робко извинилась, потом сказала, что она не москвичка, из Псковской области, и очень просит, если нетрудно, о встрече на несколько минут: ей необходимо задать мне очень важный вопрос — о Пушкине. Хорошо, сказал я, приходите, и подумал, что это студентка или учительница.
Она пришла и, размотав с головы толстый серый платок, повязанный поверх черной шубейки, оказалась молодой, круглолицей, светлорусой, голубоглазой и необыкновенно привлекательной; на мгновение в моем воображении возник портрет Авдотьи Панаевой, но тут же исчез: здесь не было этой гордости, этого сознания неотразимости, а взгляд — такой чистый, светлый взгляд сегодня редко встретишь.
Она села на диван, положив руки на колени, как девочка. Я спросил, откуда она. Оказалось, из села в Опочецком районе. Нет, она не учительница и не студентка, к филологии и литературе отношения не имеет (спустя несколько лет я имел радость повидаться с нею в Пскове; она бывшая актриса, работает в храме — В.Н.). Ко мне обратилась потому, что прочла в «Новом мире» статью «Пророк», держала в руках мою книгу «Поэзия и судьба».
Я видел, что она волнуется; дело заключалось вот в чем: она хотела спросить, существуют ли точные, документальные, неопровержимые доказательства того, что именно Пушкину принадлежит (тут меня словно в сердце стукнуло: я как-то сразу догадался, что она имеет в виду) «Гавриилиада».
Я зачем-то сообщил ей о своей проницательности. Это не очень задержало ее внимание, она ждала ответа.
Как ей хотелось услышать, что доказательств нет! Я рассказал ей, что они есть. Рассказывал и чувствовал себя человеком — бывают такие, — в котором самое противное то, что он всем всегда говорит правду. Я стал утешать ее — объяснять, что он тогда был просто мальчишкой в «этой теме», что «это» для него было вроде как греческий миф, с которым делай что хочешь, говорил о воспитании, о среде, о состоянии умов, — все это она слушала внимательно, но как-то понуро, и тень не сбегала с лица. Я рассказал, что раскаяние его было искренним и, по всему судя, началось задолго до разбирательства «дела» об анонимной богохульной поэме; что, быть может, не в последнюю очередь стыд мешал ему признаться перед чиновниками (другое дело — царь); что он потом всю жизнь не мог забыть своего проступка, раздражался и краснел, когда упоминали, а тем более хвалили поэму; что след этих переживаний идет через его произведения, свидетельствуя о свободном, никем не вынужденном покаянии.
В конце концов мне, кажется, удалось немного загладить перед ней его вину; она посветлела — и так горячо и трогательно благодарила, словно я помог ей в жизни.
Стесняясь отнимать у меня время, она начала собираться, заматывать свой платок. Уезжать ей нужно было завтра утром; у нее были увесистые сумки — наверное, с продуктами, она ведь приехала в Москву из деревни. Сколько времени она потратила на то, чтобы разыскать мой телефон, дозвониться, добраться со своими сумками? Мне неловко рассказывать об этом, как будто я залезаю в чужую душу, — но и оставить эту встречу при себе тоже не могу. Когда она, еще раз поблагодарив, с легкими полупоклонами и пожеланиями всякого добра, ушла, мне в сердце словно ударила волна праздничной радости, надежды, благодарности и веры — и вместе с тем тонкой и смутной тревоги, что в дальнейшем не раз заставляла оглянуться на этот разговор и в конце концов прямо на середине писания первого варианта вот этой работы (слабый проблеск замысла которой мелькнул много лет назад) неожиданно изменила ее, казалось бы, прочно сложившийся план.
- «Как скучны статьи Катенина!» — сказал умирающий Василий Львович Пушкин, когда увидел у своей постели племянника. После чего племянник «вышел из комнаты, чтобы (так передает Вяземский. — В.Н.) дать дяде умереть исторически».
Живо представляю, как потрясенного Пушкина тихо, на цыпочках прямо-таки выносит за дверь, у него лицо человека, не знающего, смеяться или плакать.
Однако что-то коробит. Человек умирает, а тут…
Ведь не наплыв противоречивых чувств заставляет племянника покинуть комнату. Тут кое-что посильнее любых эмоций человечности: нагло топчущий все на своем пути бес художества, это чудовище, заставляющее известную породу людей обливаться слезами над вымыслом и цепким взглядом наблюдать особенно выразительные черты живой, невымышленной агонии. Слова, сказанные литератором, оказываются важнее жалости к умирающему человеку, важнее даже приличий. Тут ни до чего: сотворяется образ — умирающий литератор: «Как скучны статьи Катенина!», — все прочее немедленно тушуется, иссякает.
«Пушкин был, однако же, — тактично заступается Вяземский (тоже, значит, чувствует!), — очень тронут всем этим зрелищем и во все время вел себя как нельзя приличнее».
Менее чем через месяц, уже из Болдина, Пушкин в веселую минуту пишет Плетневу: «Около меня Колера Морбус. Знаешь ли, что это за зверь? того и гляди, что забежит он и в Болдино, да всех нас перекусает — того и гляди, что к дяде Василью отправлюсь, а ты и пиши мою биографию. Бедный дядя Василий! знаешь ли его последние слова? (Рассказывает. — В.Н.)… Каково? вот что значит умереть честным воином, на щите, le cri de guerre a la bouche! (с боевым кличем на устах, франц. — В.Н.)»
Итак, «Нестор Арзамаса, В боях воспитанный поэт… Защитник вкуса, грозный Вот» («арзамасское» прозвище Василия Львовича; стихи — лицейские) запечатлен в привычном со времен «Арзамаса» ореоле ироикомической доблести, овеянной славой древних («на щите»). И что бы еще ни говорил «бедный дядя» на смертном одре, «последними словами» его отныне будут вот эти, декретированные Пушкиным, про Катенина и его скучные статьи, все прочее никому не интересно. Образ сотворен, и притом самого излюбленного Пушкиным сорта: образ-анекдот, образ-слух, образ-миф — и условный, и опирающийся на абсолютно безусловную реальность, ибо выражающий основной пафос жизни В. Л. Пушкина — литературного бойца и вообще литератора по преимуществу. Встань на минуту из гроба автор «Опасного соседа», сам не последний шутник в литературе, он первым делом расцеловал бы нашего поэта за остроумие, за оказанные воинские почести, за верность словесности — а легкомыслии простил бы. А Что бы тот ответил? Наверное, отшутился бы.
Отношение его к смерти выглядит странным по сравнению со многими современниками. Чаще всего это отношение спокойное или равнодушное (в юности — легкомысленное, вообще свойственное возрасту). «Когда дело дошло до барьера, — вспоминал Липранди, — к нему он являлся холодным как лед… подобной натуры, как Пушкина в таких случаях, я встречал очень немного».
О казни декабристов: «…повешенные повешены; но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна». Каково? «…повешены», и — мимо, к более важному «но…».
О недавнем кумире: «…тебе грустно по Байроне, а я так рад его смерти…», потому-то и потому-то — речь идет о творческой эволюции Байрона… Так что же — коли развивался не так, то… туда ему и дорога, что ли?..
Кто-то назвал Грузию врагом нашей литературы — она лишила нас Грибоедова; так что же, без запинки отвечает Пушкин, ведь Грибоедов сделал свое дело, он уже написал «Горе от ума»…
«Ох, тетенька! ох, Анна Львовна, Василья Львовича сестра!» — милая шутка, сочинена на досуге вместе с Дельвигом, название — «Элегия на смерть Анны Львовны».
Все это нельзя списать на молодость — она уже позади; к тому же молодость глядит мимо смерти, скользит по ней взглядом; а он смотрит ей прямо в лицо.
Главное же вот что. Ему и живого человека нетрудно представить умершим: «Придет ужасный час… твои небесны очи Покроются, мой друг, туманом вечной ночи…» Что же он будет делать, если это случится? Вот что: «В обитель скорбную сойду я за тобой И сяду близ тебя, печальный и немой, У милых ног твоих — себе их на колена Сложу — и буду ждать печально… но чего? Чтоб силою ……..мечтанья моего…» — перо его спотыкается, останавливается, наконец немеет; набросок — 1823 года, того периода, когда он отчаянно мечется между «ничтожеством» (небытием) и бессмертием души. Тут и обнаруживается впервые какая-то детская вера в «силу мечтанья» и жажда воззвать к умершему.
В 1830 году в Болдине, когда он шутит о дяде, эта жажда доходит чуть ли не до визионерства: «Я тень зову, я жду… Ко мне, мой друг, сюда, сюда! Явись… Приди… сюда, сюда!» Ткань «Заклинания» трепещет от этих ударов, кажется, слова прорвут дыры, и там что-то проглянет, что-то случится, ибо она у него и в самом деле не совсем мертва, — так сильна связь их душ.
Тогда же обращение к другой женщине — «Прощанье». «В последний раз» дерзая «мысленно ласкать» ее образ, он тут же произносит: «Уж ты для своего поэта Могильным сумраком одета, И для тебя твой друг угас». И дальше: «Как овдовевшая супруга», -уславливаясь, что отныне они друг для друга — мертвые. То есть сам нежно, но твердо рвет сердечные, духовные связи, расстается глубоко, до конца, до смерти. Стало быть, смерть для него бывает и в жизни. Запомним.
Теперь назад — к знаменитой элегии 1826 года.
- Под небом голубым страны своей родной
Она томилась, увядала…
Увяла наконец, и верно надо мной
Младая тень уже летала:
Но недоступная черта меж нами есть.
Напрасно чувство возбуждал я:
Из равнодушных уст я слышал смерти весть,
И равнодушно ей внимал я.
Так вот кого любил я пламенной душой
С таким тяжелым напряженьем,
С такою нежною, томительной тоской,
С таким безумством и мученьем!
Где муки, где любовь? Увы, в душе моей
Для бедной, легковерной тени,
Для сладкой памяти невозвратимых дней
Не нахожу ни слез, ни пени.
Не правда ли, она так же, если не более, жива, чем это будет в «Заклинании»? «…и верно… уже летала» — повергает в трепет категорической достоверностью факта (только задним числом постигнутого: я еще не знал, а она верно уже летала!) — факта присутствия живой «младой», «бедной» и не условно поэтической «легкокрылой», нет — легковерной тени (на неожиданность сдвига из «поэтичности» в реальность давно указала Л.Я.Гинзбург: см. «О лирике». Изд.2-е.Л.,1974,с.203. — В.Н.) — легковерной потому, что она уже побывала, уже веяла над ним, а он, даже узнав об этом, не только не воззвал, нет, даже и не почувствовал ничего кроме равнодушия.
Объясняли: он, мол, тогда же узнал о казни декабристов — до возлюбленной ли тут? Здесь, помимо морального безразличия, любопытный принцип позитивистской методологии: все в произведении выводить из окружающих текст обстоятельств, а от самого текста держаться подальше.
Ну, а если заглянуть все-таки в текст? — есть же в нем, наверное, свой порядок, логика, постройка, связи смыслов…
Кстати — насчет пушкинских лирических построек. Их порядка, связности, внутренней иерархии. Внимание к этому предмету в пушкиноведении не очень распространено, скорее наоборот. Чаще всего стихотворение воспринимается как лирический гул, из которого можно извлечь те или иные фрагменты и составить из них композицию, отвечающую моим представлениям о смысле этого гула, — меняя и порядок, и связи, и внутреннюю иерархию текста. Логика, алгоритм пушкинской постройки остаются в стороне. В результате элегия «Под небом голубым…» чаще всего понимается как отражение, или рассмотрение, некоего психологического парадокса (любил страстно, а о смерти узнал равнодушно) — и все. Или как ламентация по поводу непрочности наших чувств — и все. В обоих случаях стихотворение превращается в горестное «ах!», в художественное междометие.
Если же отнестись к пушкинским стихам как к постройкам, можно увидеть бездну необыкновенно важных вещей.
Встречается, к примеру, любопытная особенность: то, что является главным, по смыслу ключевым, порой проскальзывает в общей фабуле высказывания незаметно, сглаживаясь в ней, что называется, заподлицо. К примеру, повествовательная фабула II главы «Онегина» организована таким образом, что центрального эпизода — строф о Татьяне — может как бы и не быть: рассказ до и после них великолепно обходится без Татьяны, словно ее и нет. Или история с посланием «В Сибирь»: ходило более двадцати списков стихотворения, но в некоторых было не четыре строфы, а всего три — то есть после слов «…Разбудит бодрость и веселье, Придет желанная пора» сразу шло «Оковы тяжкие падут…»; то есть самая лиричная строфа, «Любовь и дружество до вас Дойдут сквозь мрачные затворы, Как в ваши каторжные норы Доходит мой свободный глас», исчезла, выпала под «прямым углом» чисто «гражданского» зрения; в остальных же списках она неприкаянно маялась, меняя свое место: в одних на третьем, в других на втором. Она воспринималась как излишне «личная» в столь «общественном» контексте. А между тем ее лиризм и есть та материя, в которой воплощено самое главное сообщение: надежда на амнистию, вынесенная автором из приватного разговора с новым императором, и весть о том, что его, автора, «любовь и дружество» не сидят сложа руки (подробно см. в книге «Поэзия и судьба», изд. 2-е и 3-е: «Народная тропа», глава «Судьба одного стихотворения» — В.Н.).
Иначе говоря, лирически центральный момент порой как бы утаивает свою семантическую центральность. На самом деле таким моментом в «линейный» контекст вводится новое измерение, требующее от нас поднять голову и посмотреть, откуда берутся желуди. Такой случай представляет собой и наша элегия.
Сначала говорится, что она, верно, уже была тут, «уже летала». Потом — о «недоступной черте», о равнодушии. Говорю о его трепете, недоумении, ужасе. Отвечают: ничего особенного: любил, а потом разлюбил, и вот теперь напрасно чувство возбуждает, — печально, конечно, но с кем не бывает, вот об этом и элегия, и зачем усложнять (см.:С.Бочаров. О чтении Пушкина. — «Новый мир»,1994, № 6. — В.Н.).
Ну что ж, дело и впрямь обычное; только стоило ли автору в таком случае столько распинаться? если обычное? Можно ведь было и покороче:
Под небом голубым страны своей родной
Она томилась, увядала…
Увяла наконец, и верно надо мной
Младая тень уже летала;
Но недоступная черта меж нами есть.
Напрасно чувство возбуждал я:
Из равнодушных уст я слышал смерти весть,
И равнодушно ей внимал я.
…..
Где муки, где любовь? Увы, в душе мое!
Для бедной, легковерной тени,
Для сладкой памяти невозвратимых дней
Не нахожу ни слез, ни пени.
Вот так совсем хорошо; во всяком случае, благополучно укладывается в печальную и без усложнений формулу «любил, а потом разлюбил» — и притом без малейшего остатка! То есть, при определенном понимании элегии, под известным углом зрения нанес, текст Пушкина может быть сокращен на целую строфу и при этом ничего, в сущности, не потеряет! — как если бы строфа была приятной, но необязательной деталью всего этого художества.
Но стоит лишь пожелать услышать не лирический гул, а — что человек хочет сказать, стоит лишь попытаться понять, зачем он это пишет и почему именно так пишет, а не иначе как-нибудь, — как тут же эта лишняя строфа оглушит:
Так вот кого любил я пламенной душой…
Что это?!
Что означают слова: «Так вот кого…»?
Ведь мы говорим так, когда узнаем о ком-то нечто заставляющее изменить свое отношение к этому человеку, свой взгляд на него, нечто неожиданное, может быть страшное: так вот кто это!
Если нужен пример — вот он, по времени совсем рядом. Как нарочно.
«Из Ариостова Orlando furioso» («Пред рыцаре блестит водами») — единственный переведенный Пушкиным отрывок прославленной итальянской поэмы. Зачем-то понадобилось перевести эпизод, в конце которого Орланд узнает, из надписи на камне пещеры, об измене Анжелики и в ужасе не может поверить:
…Два, три раза, и пять, и шесть
Он хочет надпись перечесть;
Несчастный силится напрасно
Сказать, что нет того, что есть.
Он правду видит, видит ясно,
И нестерпимая тоска,
Как бы холодная рука,
Сжимает сердце в нем ужасно,
И наконец на свой позор
Вперил он равнодушный взор.
Готов он в горести безгласной
Лишиться чувств, оставить свет.
Ах, верьте мне, что муки нет,
Подобной муке сей ужасной.
На грудь опершись бородой,
Склонив чело, убитый, бледный,
Найти не может рыцарь бедный
Ни вопля, ни слезы одной.
Сходство, перевода — сделанного, в общем, с замечательной точностью (благодарю Р.И.Хлодовского за подстрочный перевод Ариостова текста — В.Н.) — с элегией разительно, оно не могло остаться незамеченным, но почти не осмыслено. Два момента сходства видны как на ладони: «Вперил он равнодушный взор» — «И равнодушно ей внимал я»; «Найти не может… Ни вопля, ни слезы одной» — «Не нахожу ни слез, ни пени». Есть и третий момент: вся гамма чувств Орланда буквально вопиет: «Так вот кого любил я…» Эти слова, будто «пропущенные» у Ариосто, — всплывают в элегии, как раз в той «лишней» ее строфе, которая может быть «пропущена» при поверхностном чтении, но представляет собою, по-видимому, лирический центр элегии, ее сердце и тайну. Ведь именно эти слова означивают тот новый взгляд на нее, то новое знание о ней, которые поражают автора элегии, как Орланда; как если бы автор узнал, например, подобно рыцарю, что ома его предала, ему изменила, его оставила. «Так вот кого любил я…»
Но он узнал о другом; он узнал, что она оставила его — оставив жизнь. Ситуации, что и говорить, разные. Почему же реакции так схожи? И что это за новый взгляд и новое знание, окаменяющие его Орландовым равнодушием?
Я говорю: «окаменяющие», — но этого образа у Пушкина нет: ни в переводе, ни в элегии. А вот в оригинале Ариосто он есть; и здесь единственная явная вольность, которую позволил себе переводчик. У Ариосто говорится:
Наконец глазами и мыслями
Уставился он на камень, сам подобный
равнодушному камню.
Пушкин оба «камня» устранил и сказал вот как:
И наконец на свой позор
Вперил он равнодушный взор.
Это чрезвычайно странно, особенно на фоне общей точности перевода. Пушкин снова вытаскивает наружу то, что в оригинале может лишь подразумеваться, откровенно меняет текст оригинала.
Одним словом, в перевод из Ариосто явно вкраплена личная лирика.
Вообще говоря, Пушкин, как правило, для того и переводит, чтобы высказаться самому. Но здесь, повторяю, при общей точности переделка выглядит кричаще. Переводчик передает Орланду некое собственное чувство, которое он называет чувством позора. И это происходит в том как раз месте перевода, который непосредственно перекликается — темой «равнодушия» — с элегией «Под небом голубым…».
В итоге картина получается такая.
Несчастный силится напрасно
Сказать, что нет того что есть.
Он правду видит, видит ясно,
И нестерпимая тоска, Напрасно чувство возбуждал я:
Как бы холодная
рука,
Сжимает сердце в нем ужасно,
И наконец на свой позор Из равнодушных уст
я слышал смерти весть,
Вперил он равнодушный взор. И равнодушно ей внимал я.
Готов он в горести безгласной
Лишиться чувств, оставить свет.
Ax, верьте мне, что муки нет,
Подобной муке сей ужасной… Так вот кого любил я…
Найти не может рыцарь бедный
Ни вопля, ни слезы одной. Не нахожу ни слез, ни пени.
Совпадения — порой текстуальные — основных мотивов и общность всего хода очевидны. Перевод и элегия проникают друг в друга, образовавшийся сегмент разрастается, включая по меньшей мере пять мотивов:
— равнодушие;
— «напрасные» попытки обмануть себя («Сказать, что нет того, что есть» — «Напрасно чувство возбуждал я»);
— отсутствие слез;
— новое знание о ней и связанные с этим мука и недоумение;
— наконец, «позор», скрыто присутствующий в элегии (предательское равнодушие былого страстного любовника), но по имени названный в переводе (у Ариосто и намека на такое нет).
В сущности, элегия и перевод образуют единый контекст [Академическое собр.соч. (Н.В.Измайлов) датирует перевод «январем — июлем (?) 1826 г.» Конечно, следует оставить только июль, даже конец июля, и избавиться от знака вопроса — то есть признать, что перевод мог быть сделан только после получения вести о смерти Амалии Ризнич. Кстати, именно июлем, а не «январем — июлем» Т. Г. Цявловская датировала черновые строфы перевода («Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты», М. — Л., 1935, с.500), а Р.В.Иезуитова — и беловые («Пушкин. Исследования и материалы», т. XV, СПб., 1995, с.255). В издании «Academia» (1935, т.2) перевод помещен и вовсе после элегии, а не до нее, как в Академическом издании. Точную последовательность, впрочем, вряд ли можно установить; важно, что перевод и элегия соседствуют самым ближайшим образом. — В.Н.].
Необходимо подчеркнуть то, что, собственно, разумеется само собой, но при разборе стихов Пушкина часто забывается. Элегия, конечно, не могла быть написана сразу, в момент известия о смерти; она не есть первая непосредственная реакция, она — рефлексия над реакцией, отделенная каким-то временем: не «отражение» испытанных чувств, а — постижение их. Вероятно, для этого и оказался нужен перевод, где описывается чужой — Орланда, — но сходный опыт: такое переживание, в котором — и равнодушие, и потрясение.
Возможно даже, что здесь — движение души понять (или простить?) себя, уподобив себя Орланду: ведь его равнодушие — не следствие каменной толстокожести, напротив! — вот и оправдание…
Но оправдание — дело «человеческое, слишком человеческое», а потому непоэтическое. Не дело гения. Человек может остановиться на оправдании, а творческий гений — нет, он идет дальше, идет мимо оправдания, вплоть даже до «позора».
Человек и хотел бы, может, приравнять смерть былой возлюбленной к ее измене — весьма даже поэтично, — но творческий гений и на поэтичности не задерживается, идет сквозь нее, к правде переживания как она есть. Человек хочет «выйти из положения», выглядящего сомнительно, — гений стремится понять саму природу положения: в чем его сомнительность, его «позор».
Два стремления — гения и его обладателя — накладываются друг на друга, переплетаются; и поэтому переплетаются элегия и перевод, взаимоотражаясь и обмениваясь мотивами, словами, определениями: так, ощущение «позора» есть у автора элегии, но появляется это слово не в ней, а в переводе; «так вот кого любил я» мог бы сказать Орланд, но говорит это автор элегии о себе; а к чему говорит — не очень понятно.
Но на фоне сходства, переплетения, чуть ли не путаницы, все ярче проступает простое различие: Орланд равнодушен оттого, что потрясен, а автор элегии потрясен тем, что равнодушен.
То есть — Орланд чист, а автор элегии — нет. Ибо причина потрясения и равнодушия Орланда — вне его, а у автора элегии она — внутри, в нем самом; отсюда и «позор», и потрясение.
Но если такова разница — отчего же путаница? Чем обоснованы переплетения элегии и перевода? Ведь сами ситуации несопоставимы: одна — изменила, другая — умерла! Одна — жива, другая…
Но вот в том-то и дело, что другая — тоже жива. Он сам это сказал. Он даже почти уверен, что она была здесь: «Младая тень уже летала». Уже летала — только он не «внимал». Он «внимал» лишь «смерти весть»; лишь это, а не незримое веяние ее тени, оказалось для него Действительным и внятным. Иначе говоря, не живая душа предстала ему, а женщина во плоти, которую он страстно любил, — только теперь мертвая.
В таком случае понятно, что значит: «Так вот кого любил я…» Так вот что я любил… Взгляд на труп.
Здесь у этого ощущения огромный объем. Ища его границ, нахожу с одного края — «Сцену из Фауста» с мучительным, близким к самоистязанию, анализом:
На жертву прихоти моей
Гляжу, упившись наслажденьем,
С неодолимым отвращеньем… —
и дальше «жертва прихоти» сравнивается, конечно, с трупом.
А с другого края — заупокойная стихира:
«Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижду во гробех лежащую, по образу Божию созданную нашу красоту, безобразну, и безславну, не имущу вида…»
Расстояние между «Сценой…» и стихирой необозримо — но лишь по житейским меркам. По духовным — иначе. И там, и там — протест духа против смерти, безобразящей и бесславящей «по образу Божию созданную нашу красоту». Разница в том, что Фауст, со своею «прихотью», со своим «наслажденьем», оказывается непосредственно причастен смерти, ее безобразию и бесславию, оказывается заодно с ней, оттого дальше и сравнивается с грабителем и убийцей. Это говорит ему Мефистофель. Он говорит Фаусту правду, и тот, не выдержав пытки, его прогоняет. Прогоняет, однако, не сразу после ужасных и циничных слов об «ободранном теле» зарезанного «нищего», о «продажной красе» и «разврате» — это Фауст еще вынес, — а после следующих слов:
Потом из этого всего,
Одно ты вывел заключенье…,
Фауст.
Сокройся, адское творенье,
Беги от взора моего!
Мефистофель не договорил, и Фауст знает — чего именно тот не договорил, и страшится услышать это. Из всего контекста явствует, что он боится собственного «заключенья»: любви нет, это красивая выдумка, мечта, есть лишь «наслажденье» телом.
Если же так — и в самом деле впору «Все утопить»…
История постижения Пушкиным того, что такое любовь, история драматическая, длительная, полная трагических сомнений в том; способен ли он на истинную любовь, то есть такую, которая захватывает все существо (в то время как его существо «захвачено» Музой), история и породившая, как я убежден, лирический миф об «утаенной любви» (который есть не что иное, как жажда истинной любви), — эта история требует отдельного, шаг за шагом, уяснения (начать такое уяснение я отважился в цикле статей «Лирика Пушкина»: «Литература в школе»,1994,№4-6; 1995,№ 1. — В.Н.). «Сцена из Фауста» (1825) — один из самых отчаянных ее шагов. Элегия «Под небом голубым…» — не менее, если не более, отчаянный момент в стремлении постигнуть — что же такое настоящая — то есть не чреватая смертью — любовь.
Но такое стремление есть стремление религиозное, познание любви есть богопознание, жажда истинной любви — духовная жажда. Любовь не просто связана с верой, любовь есть вера в действии.
И в элегии тема любви есть тема веры: ведь он не слышал и не знал, как летала над ним младая тень, — он в это верит, и безусловно верит; в данном случае это прежде всего тема веры в наличие иного мира, невидимого. И с этим связано величайшее духовное напряжение элегии как лирического процесса. В ней приходят в непосредственное, как говорится жесткое, соприкосновение здесь и там. Это любимые слова Жуковского — можно сказать, из его поэтического символа веры. В элегии Пушкина здесь и там не символичны, это реальность, осязаемая перстами души, и она причиняет боль, ибо персты натыкаются на «недоступную черту» — черту между живым и мертвым: так вот кого любил я!.. «Где муки, где любовь?»
Обычно, повторяю, толкуют о «парадоксе»: мол, любил с такою страстью, а о смерти узнал с равнодушием — как странно! Может быть, даже наверное, он и сам чувствовал «парадокс» и странность. Но для его гения ни парадокса, ни странности нет. Объясняя его чувства, гений говорит:
Так вот кого любил я пламенной душой
С таким тяжелым напряженьем,
С такою нежною, томительной тоской,
С таким безумством и мученьем!
Из всех определений той любви гений выбирает (кроме одного-единственного «нежною») сплошь отрицательные, связанные не с здоровым и живительным, а с болезненным и смертельным. Может ли быть столь безысходно мрачной характеристика истинной любви в ее полноте, радости, жизненной силе? «Тяжелое напряженье» — в родстве с совсем другим: с «неодолимым отвращеньем» («Сцена из Фауста»), с «тяжелым умиленьем», которое появится в VII главе «Онегина»
Как грустно мне твое явленье,
Весна, весна, пора любви!
(Вариант: Как тяжко мне твое явленье)
…
С каким тяжелым умиленьем
Я наслаждаюсь дуновеньем
В лицо мне веющей весны…
…
Все, что ликует и блестит,
Наводит скуку и томленье…
(А дальше будет: «…весной я болен; Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены…» — «Осень», 1833). Комплексом отрицательных ощущений сопровождается определенное плотское состояние («Кровь бродит»), которое чем дальше, тем яснее осознается как нездоровое («болен»), враждебное, мешающее жить и творить, отзывающее! смертельным.
В сущности, описание страсти к ней, данное в элегии, есть каталог черт самодовлеющей чувственности, в обиходе на каждом шагу самозванно присваивающей имя «любовь».
И тогда, в самом деле, никакого парадокса — любил страстно, а смерти отнесся равнодушно — нет; связь здесь не парадоксальная, прямая: чем сильнее власть чувственности над духом, тем естественнее равнодушие, когда «объект» исчезает как чувственный: с глаз долой — из сердца вон. Вот она, «недоступная черта».
Пастернак мечтал написать «восемь строк о свойствах страсти». В шестнадцати пушкинских строках явлено одно лишь свойство одной страсти, страсти чисто плотской: свойство превращать живое в мертвое. Ведь автор элегии только что говорил о «младой тени», и тут же выходит, что он равнодушен — и не к камню какому-нибудь или, в самом деле, к трупу (на труп он как раз взирает с ужасом: «Так вот кого…»), — нет, он равнодушен к ней, к этой тени, к живой душе. В физической жизни она умерла лишь физически, лишь телом; в его «пламенной душе» она умерла совсем; вот в чем «позор».
В обыденном, нижнем, душевном плане он, подобно Фаусту, еще склонен отождествлять страсть с любовью и недоумевать (вроде нас): как же так, было тяжелое напряженье, нежная, томительная тоска, было безумство, было мученье — одним словом, любовь! — а теперь ничего? Но в высшем, духовном плане он, точнее его гений, чувствует другое: что же это была за любовь, столь бренная, столь просто исчезнувшая? Так вот как любил я…
Так чувствует его гений, слышит его интуиция (пока он сам недоумевает и содрогается над «парадоксом», ищет ответа и обращается за помощью к Ариосто) — и оттого элегию переполняет боль и жалость к ней, «бедной, легковерной тени», что доверчиво летала над ним. Вся элегия — сплошное рыдание по ней и по себе: ее живая душа, младая тень, и его «пламенная душа», оказывается, ничем не связаны… Он рыдает о том, что не может рыдать над ней.
Это высшее «я» человека рыдает над низшим, это скорбит о нас Царство Божие, что внутрь нас есть, скорбит Бог, Который есть любовь. Элегия не говорит этого, она это являет — клубящаяся стихия мыслящего чувства, вихрь духовных ощущений, для самого автора покамест лишь отчасти постижимых.
Устремления духа слишком часто невнятны душе, и чувства свои мы нередко толкуем превратно. Так случится с Онегиным в VIII главе романа: ведь он поистине любит Татьяну, его «Душе настало пробужденье», — но свое собственное чувство к ней он еще не постиг: судя по его письму, он продолжает понимать и расценивать это чувство в привычном плане «страсти нежной» — оттого Татьяна и называет его «чувства мелкого рабом». Что такое любовь — это ему, может быть, объяснит последний разговор с Татьяной.
И высший план элегии «Под небом голубым…», в котором гений автора, его дух уже постигает, «от противного», истинную сущность любви, — самому автору еще предстоит лирически осваивать. Вот почему у элегии будет продолжение, в котором автора ждет то же, что, может быть, ждет Онегина за пределами романа. А именно: в «Заклинании», через четыре года, ему откроется высший, духовный план той любви, которая в элегии явилась лишь в натуральном естестве низшего, душевного бытия. Там он осмыслит свое чувство по-другому, он будет звать ее — «Явись… Приди…» — перелететь через «недоступную черту» физического: там этой черты, в сущности, нет, отсюда — свобода и уверенность взывания, открытость финала, как распахнутость объятий: вот-вот явится.
Не будет в «Заклинании» и мотива чувственности, подменяющей любовь. Ведь он зовет ее «не для того», чтобы овладеть миром невидимым на своей, так сказать, территории, но совсем для другого:
Хочу сказать, что все люблю я…
Того же, кому видится в «Заклинании» декадентского толка эротизм, спрошу: не случалось ли переживать или видеть объятия и поцелуи горячо любящих друг друга людей после казавшейся безнадежной или просто очень-очень долгой разлуки — войны, болезни с угрозой смерти, после тюрьмы, ссоры или разрыва? В эти мгновения счастья, поистине причастные вечности, не божественный разве эрос, чуждый всякого телесного эротизма, нисходит на людей, будь то стосковавшиеся супруги или просто любящие друзья? Что же сказать про мечту о свидании с теми, кого от нас отделяет черта, недоступная для земной, преходящей чувственности, но бессильная перед любовью? Кто не верит в высший, божественный эрос, тот толкует об изощренной некрофильской чувственности «Заклинания».
Вчуже это можно понять: уж слишком остро сочетание мертвенного, холодного, лунного, сине-фиолетового колорита с трепетом и пламенностью взывания. Но прислушаться: «Явись, возлюбленная тень… Искажена последней мукой. …Иль как ужасное виденье…», — он готов на все теперь, лишь бы загладить то равнодушие, тот отстраненный, отчужденный взгляд на мертвую плоть: «Так вот кого любил я…»: он готов встретить ее любою — лишь бы сказать, что тогда он ошибся, что «все люблю я».
А посреди этих взываний:
Не для того, что иногда
Сомненьем мучусь…
Каким сомненьем, в чем? Сама необъясненность слова говорит о том, что оно и так должно быть понятно: «сомнение», без дополнений и определений, есть, в сущности, термин: религиозное сомнение: есть ли жизнь там? есть ли бессмертие души? — все то, что мучило его в лирике начала 20-х годов («Надеждой сладостной младенчески дыша», «Ты, сердцу непонятный мрак» и др.).
Вопрос о любви снова оказывается един с вопросом веры. Следующий шаг он сделает в «Для берегов отчизны дальной».
- Собрав теперь вместе разнообразные равнодушия к смерти — своей ли, чужой, поэтического кумира, повешенных, возлюбленной, — легкомысленные шуточки, граничащие с кощунством, надежды на оживляющую «силу мечтанья», страстные призывы, обращенные туда, можно найти всему этому общий знаменатель. Он, конечно, есть. Это не идея или убеждение, а чувство, во всей суверенности и специфике этого понятия, — чувство, могущее быть выражено им только художественно, что и происходит, — чувство, говорящее, что смерти, в сущности нет. То есть она, конечно, существует, но — лишь в горизонтальном, физическом мире и имеет, стало быть, частичное, условное бытие; это лишь «ночлег» («Телега жизни»); это — граница, или черта, которая непреодолима физически, но может быть проницаема духовно. Чувство это намекает: человек, полагающий в физической смерти абсолютный конец, сам уже не совсем жив; оно говорит: предоставь мертвым погребать своих мертвецов.
Тут мне обязательно скажут (если уже не сказали): нельзя же так буквально толковать поэтическое чувство и то, что является всего лишь художественным образом… Подобное снисходительное мнение о «художественности», о том, что она не столько выражает, сколько замещает правду, встречается особенно часто, по моим наблюдениям, как раз у людей, изучение «художественности» сделавших своей профессией. В ответ им повторю сказанное В. С. Соловьевым о том «раздвоении между мыслью и чувством, которым с прошлого (XVIII — В.Н.) века и до последнего времени страдает большинство художников и поэтов. Простодушно принимая механическое мировоззрение за всенаучное и единственно научное, а потому несомненное, веря ему на слово, эти служители красоты не верят в свое дело. Как художники они передают нам жизнь и душу природы, но при этом в уме своем убеждены, что она безжизненна и бездушна, что их чувство и вдохновение их обманывают, что красота есть субъективная иллюзия. А на самом деле иллюзия только в том, что отражение ходячих мнений на поверхности их сознания принимается ими за нечто более достоверное, чем та истина, которая открывается в глубине их собственного поэтического чувства».
Художественный образ — не Эвклидова реальность, он сверхдостоверен и именно потому кажется «условным» с точки зрения Эвклидовой логики; отсюда и «раздвоение между мыслью и чувством». «Поэт, — говорит современный поэт, — как и всякий человек, живущий сердцем и умом, всю жизнь колеблется между «да» и «нет», между верой и неверием. Но поэт, может быть, чаще других ощущает себя орудием высших сил: он и сам пишет, и кто-то как будто подсказывает ему, водит его рукой. Как писал Баратынский, «дарование есть поручение» (Александр Кушнер. «Иные, лучшие мне дороги права…». — «Новый мир» 1987,№1,с.234. — В.Н.). Что касается Пушкина, то существует прямое, без всякого «художества» и очень горькое собственное его свидетельство такого «раздвоения». Это знаменитый отрывок письма об «уроках чистого афеизма» (от апреля — первой половины мая 1824 года: — «…беру уроки чистого афеизма. Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный афей (атеист), которого я еще встретил… Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но к несчастию более всего правдоподобная. «. — В.Н.). Обычно этот отрывок привлекают у нас как раз для доказательства «чистого афеизма» (хотя в таком случае зачем «уроки»?). В другой своей работе я уже пытался прочесть его, обращая внимание на моменты, всеми обойденные, кроме (как я узнал позже) С.Л.Франка, проделавшего сходный анализ полвека назад, поэтому сошлюсь на него: «Своего наставника в атеизме «англичанина, глухого философа» он (Пушкин. — В.Н.) называет «единственным умным афеем, которого я еще встретил», а о своем мировоззрении он отзывается: «Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастию, более всего правдоподобная». Сердце Пушкина влеклось, очевидно, уже в то время к совсем иному мировоззрению» (С.Л.Франк. Этюды о Пушкине. Изд.3-е, Париж, 1987,с.37. — В.Н.). «Несчастие», о котором пишет Пушкин, в том, что «неутешительную» систему приходится принимать — она, как сказал бы Соловьев, отвечает «механическому» мировоззрению как «всенаучному и единственно научному, а потому несомненному». Видно, как Пушкин, явно считающий свой «афеизм» не очень «чистым», отчаянно ищет истину, пусть хоть «неутешительную», но чтобы это была доказанная истина.
О том, что такая потребность в истине, жажда избавиться от «раздвоения» существовала издавна, говорит написанное еще восемнадцатилетним лицеистом стихотворение «Безверие», где, рисуя душевные муки «отпадшего от веры», «собою страждущего» человека, он все эти переживания вмещает в формулу: «Ум ищет Божества, а сердце не находит» — и требует «снисхожденья», а не порицания.
Герой стихотворения нигде не исходит из того, что отсутствует сам предмет веры, что «Божества», которого «ум ищет», не существует объективно, — все время говорится лишь о том, что его «сердце не находит». А близко к финалу — прямая речь, посвященная вожделенной, но недостижимой мечте: «С одной лишь верою повергнуться пред Богом!» Таким образом, название концептуально точно: стихи не о безбожии, а о безверии («Бабушка, а Бог знает, что мы в Него не верим?» — вопрос современного ребенка. — В.Н.).
Все это у нас привычно списывали на «заданную тему» (выпускной экзамен 1817 года), тем самым видя в стихах акт лицемерия (что, впрочем, никого не беспокоило); внешние обстоятельства снова впереди текста. Но что в таком случае мешало изобразить законченного безбожника и осудить его? — лицемерить так лицемерить. Однако Пушкин выбирает более лирический и, видимо, отвечающий требованиям совести ракурс; объемность и драматизм стихов связаны с этичностью позиции. Но еще важнее другое: созданная в юношеском стихотворении духовная ситуация будет в точности повторена зрелым поэтом в элегии «Под небом голубым…». Разница лишь в предметах: в «Безверии» это «Божество», в элегии — «младая тень»; но отношения совпадают совершенно. «Божество» в «Безверии» явно существует в действительности — его как бы нет только для «несчастного», который «Безумно погасил отрадный сердцу свет»; «младая тень» в элегии тоже несомненно существует, но ее как бы нет для автора, который воздвиг в своей душе «недоступную черту» равнодушия. «Недоступная черта», собственно, и есть причина терзаний героя «Безверия», к которому «мощная… рука с дарами мира Не простирается из-за пределов мира…» Отсюда — если автор элегии равнодушен, то и герой «Безверия» — «Холодный ко всему и чуждый к умиленью». Наконец, «толстовская» по своему аналитизму деталь элегии — «Напрасно чувство возбуждал я» — есть не что иное, как свернутое, сплющенное, но адекватное воспроизведение центральной формулы «Безверия»: «Ум ищет… а сердце не находит».
Можно утверждать, что перед нами вырисовалась одна из главных коллизий духовной жизни Пушкина — притом то и дело сознательно объективируемая и остро переживаемая. Она состоит в том, что — пользуясь определениями В. С. Соловьева — «поэтическое чувство», достигая известной «глубины», неизменно обнаруживает в этой глубине некое таинственное свойство, постоянно атакуемое с «поверхности… сознания», но неистребимое, хоть и не находящее никаких «доказательств», кроме как в себе же самом.
Вера, по одному из определений апостола Павла (Евр.11,1), есть уверенность в невидимом. Свойство, обнаруживаемое в глубинах духа поэта его «поэтическим чувством», в точности соответствует такому определению; так, в «Безверии» «невидимое» есть «Божество», в элегии «Под небом голубым…» и в «Заклинании» — это бессмертная душа.
Думается, формула «Ум ищет Божества, а сердце не находит» не есть целиком пушкинская мысль (в дневнике под 9 апреля 1821 года почти такая же мысль отмечается как убеждение Пестеля), а скорее максима в духе западного XVIII века (не случайно в дневнике она дана на французском), выдержанная в рационалистически-просветительском духе и построенная на довольно грубых в данном случае абстракциях «ума» и «сердца». Духовная сущность «раздвоения» более понятна, если обратиться к категориям души и духа. Душа человека «ищет» (или не ищет), находит (или «не находит») то, что духу известно отроду, по его божественному происхождению.
Вера дана Пушкину — как вообще человеческому духу — изначально, как дар, то есть даром, ни за что. Душа — которая, по слову другого поэта, «обязана трудиться» — должна распознать этот дар, возделывать его собственным усилием. Любой дар, любой талант, если он не распознан, не возделан, не применяется по назначению, часто ведет к трагическим, безобразным и разрушительным странностям поведения (вспоминается Достоевский с его «парадоксальным» убеждением, что именно в «мертвом доме», полном преступников, обитает, быть может, самая талантливая и духовно значительная часть русского народа. — В.Н.). Есть вера угнетаемая и деформируемая и потому сказывающаяся в сниженных, профанных формах, которые тем причудливее и даже предосудительнее, чем сильнее прирожденный дар веры. Отсюда все «странности» поведения, житейского и поэтического, — от кощунства над смертью до кощунства над самим предметом веры, — оставившие обильные следы в поэзии лицейской и начала 1820-х годов; здесь мы и находим истоки «Гавриилиады».
- «Россия, в лице Пушкина, создавшего «Гавриилиаду», пережила Ренессанс», — писал В.Ходасевич; «…из всех оттенков его атеизма тот, который проявился в «Гавриилиаде», — самый слабый и безопасный по существу, хотя, конечно, самый резкий по форме. Чтобы быть опасным, он слишком легок, весел и неприкровен. Он беззаботен — и недемоничен. Жало его неглубоко и неядовито»; «…я бы сказал, что это есть подлинный дух Ренессанса».
Под «духом Ренессанса» Ходасевич разумеет «нежное сияние любви к миру, к земле… умиление перед жизнью и красотой», проявившиеся в пушкинской поэме и побуждающие «спросить: разве не религиозна самая эта любовь?». Но ведь качества, тут перечисленные, свойственны — и именно религиозно свойственны — и «Песни Песней», и Давидовым псалмам, и Иоанну Дамаскину, и безымянному иконописцу (по преданию — апостолу Луке) Владимирской Божьей Матери, и Андрею Рублеву, а вовсе не только Ренессансу. Ходасевич под так понимаемым «подлинным духом» Ренессанса не подразумевает ли скорее формы — живописные, пышные, пиршественно-плотские, — в которых действительно выражались чувства «любви к миру, к земле»? Впрочем, Рафаэль скажем, совсем не пышен, скорее Даже аскетичен по-своему, тем не менее он носитель подлинного «ренессансного духа»; более того, именно в Рафаэле (а до него в Леонардо) этот «дух» как верование нашел свое исчерпывающее воплощение, притом концептуальное. От ранних флорентийских мадонн (См.: С.М. Стам. Флорентийские мадонны Рафаэля. Саратов, 1982. В этой работе проведен детальный анализ композиции, мизансцен, пластики ряда рафаэлевских мадонн, великолепно показывающий высокую степень секуляризованности художественного мышления великого мастера. В особенности интересен разбор картин, где Мадонна изображена с двумя младенцами — Иисусом и Иоанном: он демонстрирует, что младенец Иоанн — Предтеча и Креститель Иисуса — всегда трактуется у Рафаэля как крайне нежелательный для матери гость, едва ли не враг, от которого она оберегает своего ребенка; таким образом, евангельская история осмысляется не в провиденциальном, а в чисто житейском плане несчастья, грозящего мальчику по имени Иисус. Достоверность такого анализа нисколько не умаляется тем, что автор книги приписывает Рафаэлю собственные атеистические убеждения.) до Сикстинской, этого несравненного апофеоза подвига (но не в духе беззаветной веры и высокого смирения, а в духе героического самопожертвования, предвещающем романтизм), искусство Рафаэля воплощает евангельскую тему в таких решениях, которые, в сущности, ставят под сомнение акт, являющийся с христианской точки зрения центральным событием истории и краеугольным камнем вероисповедания, а именно добровольную крестную смерть Сына Человеческого во искупление грехов людей. И представляет этот акт как жертву в лучшем случае вынужденную — или как гордое противостояние безликой силе, родственной античному Року. Из художественного мира ренессансной картины вытеснялась идея богочеловеческой природы Христа и его божественного назначения, а образующуюся пустоту заполнял ужас физической смерти, преодолеваемый не столько верой, сколько героикой долга. Воскресение и бессмертие души, по существу, отменялись; Сын Божий превращался в обыкновенного мальчика; образ, который должен был говорить о вечной жизни, напоминал о власти смерти; исподволь разваливалось все здание христианского вероучения, вся его система ценностей, иерархия горнего и дольнего.
Нет сомнения, что Рафаэль был убежденным христианином. Однако убеждение и верование — разные вещи; и если убеждения принадлежат лично художнику, то от имени верования говорит его дар; в этом и разница между тем, что хочет сказать художник, и тем, что у него сказывается. «Подлинный дух» Ренессанса, его мировоззренческое кредо состоит не в «любви к миру, к земле» и «умилении перед красотой» (это лишь качества, а не дух) — он состоит в веровании, что человеческое может быть мерой божественного. Не небо сходило на землю, а земля проецировала себя на небо. Икона, «окно в мир горний», сменилась картиной — зеркалом мира дольнего. То, что не умещалось в зеркале, оказывалось лишним, вытеснялось в область абстрактно-спекулятивную у философов, в сферу мифа и аллегории у художников. Величавые движения, которыми ренессансные мадонны заслоняли младенца Христа от опасности, исходящей от младенца Иоанна, тем самым незаметно превращая божеское в человеческое, со временем преемственно сменились размашистым издевательством Эвариста Парни над самой идеей божественного, мифологически-карикатурно воплощенной в его «Войне богов».
Поставив «Гавриилиаду» рядом с этим яростным памфлетом против христианства — одним из непосредственных литературных образцов пушкинской поэмы, — нетрудно увидеть, какая пропасть отделяет кощунственную выходку Пушкина от просветительского манифеста Парни. Старательно наследуя пародийное начало от «Войны богов», Пушкин «не дотягивает» до ее идеологичности: у него выходит комическая сказка. И как почти в каждой сказке, тут возможны подстановки, подмены персонажей. Перед нами «модель» (сказка, собственно, всегда «модель») некоего соблазнительного события, героями которого могут быть кто угодно: хоть архангел, хоть «затянутый… адъютант». В дальнейшем Пушкин таким же образом «смоделирует» в «Графе Нулине» событие римской истории. Одним словом, то, что у Парни является содержанием — а именно сознательная дискредитация святынь христианской веры, — Пушкиным берется только как форма. Это, безусловно, кощунство, но такое, поверхностность которого не просто «неприкровенна», а прямо очевидна. Иначе говоря, это игра. И действуют в ней соответственно не лица (в «Войне богов» пародийное изображение Лиц Троицы мыслится как разоблачение догматов с позиции «разума»), а маски или ряженые, разыгрывающие пародию на сюжет Благовещения — своего рода «мистерию-буфф», типологически связанную со средневековым карнавалом.
Конечно, автор «Гавриилиады» здесь совершенно ни при чем: он оглядывается не на средневековье, а на Вольтера и Парни, во многом обводя их прописи; но в отличие от них святыня для него, в общем, безразлична и привлекается лишь как материал для фантазии или тема для вариации. (Неудивительно поэтому, что под именем «царя небес» выступает, в сущности, Зевс, а под маской Гавриила — Гермес.) Вопрос о святыне, ее подлинности или ложности для него пока вообще всерьез не стоит. Он не выдает зеркало за окно — он резвится, отвернувшись от окна. И это коренным образом отличает дух «Гавриилиады» от духа Ренессанса — духа секуляризации святыни изнутри самого о ней понятия.
Эта внутренняя отчужденность от святыни, принимаемой лишь как «тема» или «материал» (наподобие, повторюсь, греческого мифа), дает ему безграничную свободу: он безобразничает вовсю, можно сказать, con amore (с увлечением); следуя за своими учителями атеизма и литературной эротики, он может сделать с образом героини все, что способно подсказать его «французское» воспитание, — но эффект получается довольно неожиданный. Соблазняемая у нас на глазах героиня удивительным образом оказывается вне сферы глумления и кощунства, вне иронии и пародии, вызывая скорее улыбку, с которой мы глядим на ребенка, не разумеющего ни иронии, ни прямой насмешки. Соблазнение касается лишь ее тела, но не души, по-прежнему наивной, — отсюда и юмор, окрашивающий ее образ и клонящий некоторые места поэмы к бытовой стилистике «Графа Нулина» и «Домика в Коломне».
Ходасевич справедливо объясняет все это «богомольным благоговением Пушкина перед святыней красоты» — чувством, в котором С.Л.Франк видел прежде всего оттенок прирожденного религиозного преклонения перед божественным эросом, нисходящим на землю в облике красоты. А поскольку у Пушкина где «святыня красоты», там и святыня правды, то происходит самое, быть может, удивительное и непредвиденное. Посреди откровенно бутафорских фигур, пародийных масок, на фоне стилистики то условно литературной, то ренессансно-пышной, то гобеленной, героиня глядится как живое яблоко, вставленное в натюрморт, — совершенно живая, исполненная очарования, женственности и простодушия. Перед нами не пародия на лицо евангельского рассказа, а просто совсем другое лицо, милая тезка.
Если это и похоже на Ренессанс, то на ранний: не случайно «Гавриилиаду» связывают со второй новеллой четвертого дня «Декамерона» Боккаччо (о проказнике, выдавшем себя за архангела Гавриила) — произведения хоть и фривольного, но еще не затронутого десакрализующими мотивами.
Ренессансный художник, пиша «церковную» картину, проходит сквозь святыню как через неощутимую воздушную среду; русский поэт, надевая бесовскую маску, натыкается на нечто, кощунству не поддающееся. Дар, обнаруживающий связь с национальной духовной традицией и соприродность «тайному» верованию автора, ограничивает бесчинство «убеждений».
Тем лучше для русского читателя; «Гавриилиада» «соблазнит» его, только если он к этому уже хорошо подготовлен (так случилось с Блоком. До него «Гавриилиада», несмотря на авторитет Пушкина и на притягательность запретного плода, не давала «традиции» (вспомним слова Ходасевича о «неглубоком жале» пушкинского кощунства). Единственное в большой русской литературе подлинное, «глубокое» кощунство, совершаемое Толстым в «Воскресении» над таинством Евхаристии, осуществляется на совсем иных основаниях. Блок же — человек новой эпохи, и в своем «Благовещении» с его подлинно кощунственным эротизмом, несравнимым с «Гавриилиадой», он тем не менее именно на нее оглядывается. — В.Н.).
И тем хуже для автора. Все, что у него «не получилось» в его надругательстве над религиозной и народной святыней — образом Богоматери, — не получилось вопреки его стараниям. В отличие от Рафаэля он изрекает хулу вопреки глухому голосу совести, в итоге не позволившему ему осквернить героиню. Если как произведение «Гавриилиада» есть продукт исторических, культурных и иных внеличных факторов, то как поступок и намерение она целиком на совести автора. Тем более что поступок этот преследует определенную личную цель, которая связана с главной темой поэмы.
Выше уже говорилось, что происходящая в сюжете вакханалия касается только тела героини, ее плоти, над которой и одерживается «победа».
Могущество плоти — основная тема «Гавриилиады»: та сила, перед которой бессильно все и вся — от повелителя вселенной до самой чистой и невинной девушки. Это — то, про что написана кощунственная поэма и ради чего использован в ней священный сюжет. Здесь — личный интерес молодого автора с его «необузданными страстями» и, мягко говоря, беспорядочной жизнью. Профанация святыни совершается не только сознательно, но и небескорыстно.
Впрочем, корысть эта особого свойства: нравственного. Автор испытывает смутную неловкость за эту свою беспорядочную жизнь — и обращается, как к высшему авторитету, к нравам античных богов, только имена дает им библейские. Мол, если те, кто там, проделывают такие штуки, что спрашивать с нас грешных? То есть ему хочется оправдаться, в финале же — о котором ниже — он едва ли не кается и, кажется, намерен исправляться.
Это очень важно. Пушкин никогда не был способен путать черное с белым, нарушать иерархию верха и низа (отсюда отмечаемая Ходасевичем «недемоничность») («В нем был… — писал С. Л. Франк о нравственном облике Пушкина, — какой-то чисто русский задор цинизма, типично русская форма целомудрия и духовной стыдливости, скрывающая чистейшие и глубочайшие переживания… Бартенев метко называет это состояние души «юродством поэта» («Этюды о Пушкине», с.12).). У него есть чувство греха, иначе называемое совестью. Совесть в какой-то степени и есть побудитель замысла этого, так и хочется сказать «молодежного», произведения — и она же принесена ему в жертву.
О внутренних противоречиях автора поэмы внятно говорит ее завершение. Рядом с продолжающимися мальчишескими выходками («Аминь, аминь! Чем кончу я рассказы?») появляются интонации серьезные, глубоко лирические и… чуть ли не заискивающие. Крупно набедокурив и еще не отдышавшись, он начинает просить прощения: «Раскаянье мое благослови!» (хотя тут же снова ерничает: «Не то пойду молиться сатане») — и вдруг, мгновенно сменив тон, заговаривает о том времени, когда «важный брак с любезною женою Пред алтарем меня соединит». Готовясь к будущему Дому, он не только то знает, что грешен, но и то, что как аукнется, так и откликнется. Тут-то и рождается самое замечательное — финал: «Даруй ты мне беспечность и смиренье, Даруй ты мне терпенье вновь и вновь, Спокойный сон, в супруге уверенье, В семействе мир и к ближнему любовь!» — финал, который вот что напоминает: «Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему… Даруй ми… не осуждати брата моего…», — ту самую молитву преподобного Ефрема Сирина, которую он с детства знает, любит и через пятнадцать лет, незадолго до смерти, переложит в стихотворении «Отцы пустынники и жены непорочны».
Конечно, он и здесь ерничает. Но принять этот финал только как шутку, как усмешку значило бы счесть автора поэмы безнадежно толстокожим молодым человеком. Мне другое сдается: ему, верно, иногда очень хочется помолиться, но он стесняется. Поэтому паясничает и охальничает, как мальчишка, желающий показать, что ему все нипочем, — и прежде всего перед тем, к чему втайне тянется. Почитать святыни не принято, несовременно, его не учили этому, а у него есть смутная в этом потребность. Его натура, возраст, опыт повесы, художнический кураж и культурное чутье подсказывают путь завлекательный, древний до дикости, опасный и дразнящий: фамилъяризацию святыни (связанную в данном случае со смехом и темой «телесного низа»). Все это, конечно, совершенно стихийно: в верхних этажах сознания, то есть в «убеждениях», используемый им сюжет не более чем «предрассудок», входящий в официальную идеологию российского «самовластья».
Но дар не позволил довести кощунство до уровня французских образцов. В дальнейшем у него немало попыток как-то исправить, что натворил, «извиниться», отмыться, покаяться: не отсюда ли все его Марии, эти почти идеальные женщины, в которых главное — чистота и верность?
Так или иначе, появление «Гавриилиады» объясняется прежде всего причиной глубоко личной, в конечном счете духовной. Проблемой для него стала власть плоти, сила земного притяжения.
Но сила низа начинает быть проблемой и тяготить, когда пробуждается влечение к верху. Он может еще не отдавать себе в этом отчета-но идет 1821 год; скоро начнется «кризис 20-х годов», кризис мировоззрения. И кажется, первые зарницы грозы блеснули в кощунственной поэме.
- Во второй половине 20-х годов появляется упоминавшаяся выше тема: «Весна, весна, пора любви, Как тяжко мне твое явленье». Это — про обожаемую поэтами пору вдохновенья, роз и соловьев.
В третьей главе «Онегина» он самое любимое и возвышенное из своих созданий, Татьяну, подвергает испытанию страшной силой — «волшебным ядом желаний», ожиданием «блаженства темного», сотрясающим все существо.
Через два года — пятая глава: кошмарный сон, происходящий «карнавально», на святки, в крещенский сочельник: чудища, собравшиеся на свой шабаш, кричат, указывая на чистую девушку: «мое! мое!» — странно думать, что при этом была забыта «Гавриилиада», где претенденты на невинную «добычу», ряженые, маскированные, оспаривали ее (до драки) друг у друга; а если так, то богохульная поэма отзывается тут как пережитое автором бесовское наваждение («Друг демона, повеса и предатель» называет он себя в финале «Гавриилиады». Любопытно, что «выпадание» образа героини из ряда масок словно нарочно подтверждает святоотеческое учение о том, что бесы могут являться в любом облике, кроме облика Богоматери. — В.Н.).
В этом году и появляется элегия «Под небом голубым…», где смерть — реальность посюсторонняя, обретающаяся здесь, в жизни. Смерть опознается в собственном равнодушии к «младой тени» — равнодушии, тождественном отрицанию ее бытия. Смерть как явление жизни он находит, таким образом, в собственной «пламенной душе», догадываясь, что небытие («ничтожество», по-пушкински) начинается для человека там, где властвует не бессмертный дух, а смертная плоть; и что раз он, страстно любивший ее во плоти, равнодушен к ее живой душе, то выходит, что мертва не она, а он, что смерть — не в ней, умершей, а в нем, живом, что не она, а он — труп… Пусть не покажется жесткой метафора: она не мне принадлежит; а Пушкину, и им самим применена к себе. Правда, он сделает это значительно позже. Вспоминая в начале VIII главы «Онегина» историю своих отношений с Музой (сначала он ее, «вакханочку», «привел На шум пиров» — а потом уже она его «водила слушать… Хвалебный гимн Отцу миров»), — вспоминая об этом, он говорит:
Как часто по скалам Кавказа
Она Ленорой при луне
Со мной скакала на коне…
На эту Ленору если и обращали внимание, то лишь как на эмблему «эпохи романтизма» в творчестве Пушкина. Но все-таки — зачем именно Ленора?
Затем, что героиня знаменитой баллады Бюргера скачет на коне вместе с мертвым женихом. Муза-Ленора вывезла его, мертвого душой, из смерти — и повела слушать «хвалебный гимн». Еще через несколько лет, в 1835 году, в варианте «…Вновь я посетил», повторяется то же самое: Муза, «Поэзия как ангел утешитель Спасла меня, и я воскрес душой»; воскресшим называют то, что было мертвым.
Собственная мертвая душа — это как раз коллизия элегии «Под небом голубым…», определяемая, однако, с такою жесткостью лишь тогда, когда элегия далеко позади. В самой элегии автор слишком еще внутри этой коллизии, чтобы дать ей столь прямое название. «Под небом голубым…» — своего рода сон Татьяны; Татьяна проживает, чувствует, знает во сне то, «название» чего безуспешно ищет у Мартына Задеки; то, что ей только еще предстоит осмыслить в VII главе: «И начинает понемногу Моя Татьяна понимать (Теперь яснее, слава Богу)…», — и подвести итог: «Ужели слово найдено?»
Вот так и он, говоря о Леноре, находит «слово», определяющее, для него самого, то состояние собственной души, которое он наблюдал в элегии «Под небом голубым…».
В том же наброске «…Вновь я посетил», где говорится о воскресении души, он напишет: «…здесь меня таинственным щитом Святое провиденье осенило» (ср. «Хвалебный гимн Отцу миров»). Место, где это произошло, указано: Михайловское, где написана элегия «Под небом голубым…», где зародился «Пророк».
Связь между двумя стихотворениями оказывается неожиданно тесна.
Есть предание: молодой послушник прибежал к старцу и с трепетом поведал, что такой-то брат во Христе видит ангелов. Что ж, отвечал старец, это не великое диво, больше бы дивился я тому, кто видит свои грехи.
В элегии «Под небом голубым…» поэт оказывается близко к подобному диву. Пусть он еще не может найти слово, подвести итог тому, что открывает ему собственный гений в беспощадном исследовании состояния его души, — однако главное ему так же очевидно, как Татьяне в ее сне об Онегине: зрелище своего катастрофического духовного недостоинства, наводящее на образ «позора» (перевод из Ариосто), вызывающее неумышленные ассоциации со смертью, чреватое образом трупа.
Увидеть такое в себе — это надо осмелиться. Породившая элегию способность и готовность увидеть свой «позор», взглянуть столь прямо в лицо своему низшему «я» — высочайший взлет души. Это, может, и в самом деле большее диво, чем видеть ангелов.
Впрочем, будет и это: через месяц с лишним появится «шестикрылый серафим».
«Пророк» назревал в напряженном внутреннем процессе, начало ведущем еще из лицейских вещей (в том числе «Безверия»), включающем «Гавриилиаду» и мятущуюся лирику 20-х годов о смерти и бессмертии, историко-религиозную концепцию «Бориса Годунова», онегинские главы, — из этого ряда наиболее непосредственно, ближе всего по времени предшествует «Пророку» именно наша элегия, где собственная «пламенная душа» предстает автору поистине «пустыней мрачной» и где поистине нестерпимо томление «духовной жаждою». В чисто личном смысле «Пророк» — эманация элегии, порожденный ею порыв и прорыв.
Здесь пора вспомнить о моменте, ранее оставленном в стороне. Как напоминалось выше, «равнодушие» автора элегии было принято выводить из тогда же полученного известия о казни декабристов («личное», так сказать, перевешено «общественным»). А с этим известием связывали замысел «Пророка» (точнее, единственную дошедшую до нас строку-вариант «Великой скорбию томим»). Тем самым элегия и «Пророк» виделись в совсем разных рядах, мысли об их связи не возникало.
Но все дело в том, откуда смотреть.
Да, то, что «Пророк» был замышлен как прямой отклик на казнь, более чем вероятно. Однако настоящая лирика не повинуется плану, заданному первым импульсом, — это точно выражено Цветаевой: «Поэт — издалека заводит речь. Поэта — далеко заводит речь». И Пушкин-лирик вышел из того возраста, когда мог — точнее, думал, что может — «привести» Музу туда, куда ему хочется. Пусть стихотворение было задумано под впечатлением вести о казни; но в эту сторону оном не пошло, в этом поле жить не захотело. «Великую скорбь» сменила «духовная жажда».
- Событие повешения и ссылки «друзей, братьев, товарищей», обрушившись на поэта летом 1826 года, преследовало его всю остальную жизнь как проклятие. Об этом много написано, но роль события в собственно духовной жизни Пушкина почти не тронута, масштабы такой роли не уяснены.
Это был разлом во внутреннем бытии, в том числе в представлении о собственной судьбе. Две чаши весов колебались, то перевешивая друг друга, то пребывая в неустойчивом, тревожном равновесии.
На одной — чувство вины, невольной, но неизбывной и невыносимой, перед теми друзьями, с кем он, по справедливости, по «составу преступления», должен был бы разделить их вину и их участь, если не смертную (хотя вспомним его многочисленные виселицы), то каторжную, — но не разделил. Тот факт, что идейно он давно не с ними, вины не облегчал — наоборот: оказавшись исторически «умнее» их, он словно бы им изменил.
На другой — упорное, повелительное сознание, что так произошло не случайно, что здесь не «судьба» (названная им в этом же году «огромной обезьяной, которой дана полная воля»), а — промысел («святое провиденье»), что так было для чего-то нужно. Иными словами — давнее сознание своего особого призвания, необычности своего гения, его «таинственной» (о чем будет сказано в «Арионе») предназначенности. Но это опять-таки нисколько не умаляло чувства вины, а может, и обостряло.
Одним словом — сознание своей промыслительной избранности связалось, на фоне трагедии декабрьского бунта, с пыткой для его совести, с сознанием вины.
Но случилось это не сразу.
«Бывают странные сближения», — скажет он о «Графе Нулине», написанном в дни событий на Сенатской площади, куда он едва не «бухнулся» лично (последняя по времени основательная работа на эту тему — И.3.Сурат. «Кто из богов мне возвратил…». Пушкин, Пущин и Гораций. — «Московский пушкинист», вып.II, М.,»Наследие», 1996. — В.Н.). Следующее странное сближение случилось спустя несколько месяцев, летом 1826 года, когда он одновременно «Усл<ышал> о см<ерти>» пятерых декабристов и женщины, его возлюбленной во дни былые.
Одно из этих известий его, в момент получения, потрясло, наполнив «великой скорбию», а другое — нет. Но этому другому посвящена элегия, полная «великой скорби». А о первом не написалось ничего: автор было ринулся, но гений не пустил, у него были другие планы.
Автор ринулся прежде всего в сторону общественной, гражданской скорби (Не зря существует легенда о «гражданском» варианте «Пророка» («Восстань, восстань, пророк России»), в мутной генеалогии которой, может быть, и брезжат какие-то отзвуки истории замысла. Последняя работа на эту тему: В.М.Есипов. «К убийце гнусному явись». — «Московский пушкинист», вып. V, М., «Наследие», 1998.), с другой же стороны, возник страх за собственную судьбу, нежелание «охмелиться», говоря его словами, в чужом пиру (поскольку от движения он внутренне отошел). В этой сумятице внешних реакций он не сразу обратился к духовной сути страшного события, не сразу приметил, что на пороге — пожизненная пытка совести, «великая скорбь» о своей вине уцелевшего (еще не знал точно — уцелеет ли), отошедшего, изменившего.
Но его гений, его дар все расслышал и все приметил сразу. «Гражданская» реакция на смерть «друзей, братьев, товарищей» лирически не состоялась, растворилась в его готовности смотреть «на трагедию взглядом Шекспира» (Дельвигу, начало февраля 1826) — а реакция духовная, совестная, оттесненная чувствами «общественными», клубилась в интуиции, мучила неосознанностью, невысказанностью, неоформленностью.
И вдруг она нашла форму — форму вопроса (имеющего совсем другой предмет, но точно так же обращенного к совести и чувству вины): их смертью он потрясен — но ведь и она, которую он так любил, тоже умерла — отчего же к этой смерти он равнодушен?
И он «бухнулся» в глубины собственной души — и нашел там то, о чем написана элегия, заместившая, выходит, отклик на их смерть. «Великая скорбь», обретя свой изначальный, истинный — духовный — характер, вылилась в боль совести, в бесслезное рыдание виновного перед «легковерной тенью», отошедшего, изменившего ей. Не без смысла, видно, запись об обеих смертях — их и ее — нашла себе место как раз на том листке, где записана элегия: то ли эпиграф к ней, то ли примечание.
И вот после этого появился «Пророк» — другое стихотворение, заместившее отклик на их смерть.
По С.Л.Франку, отношение Пушкина к своему гению как к чуду, божественному дару — одно из двух главных оснований глубокой внутренней религиозности поэта. Другое основание — такое же пушкинское отношение к любви: она для него — как и «вдохновенье» — «признак Бога» («Разговор книгопродавца с поэтом»). В элегии и «Пророке» оба основания представлены в предельной, до страдания, выраженности: в элегии (любовь) — как богооставленность, в «Пророке» (дар) — как богоприсутствие.
В элегии — беспощадно пристальный анализ состояния собственной души, с ее любовью, анализ, обнаруживающий для автора, на какой «позорно» низкой духовной ступени он, с этой своей любовью, находится.
В «Пророке» — последовательное описание беспощадной операции (В.Турбин когда-то сравнил ее с казнью), цель которой — преобразить влачащееся в «пустыне мрачной» и томимое «духовной жаждою» человеческое существо, поднять его на новую духовную ступень.
Операция эта, кстати, начинается со слуха:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет…
В элегии «ангелов полета» он не «внял» (ведь «ангел» у него нередко то же, что и «тень»: «Две тени милые, два данные судьбой Мне ангела во дни былые» — «Воспоминание», 1828, черн.), — в ней он «внимал» лишь «смерти весть», а как «младая тень» над ним летала, не слышал.
В элегии «недоступная черта» между ним и «тенью», между ним и «ангелами» — это власть страсти над любовью, плоти над духом, он упирается в эту глухую стенку, в тупик, жаждет перешагнуть («Напрасно чувство возбуждал я») и не может.
В «Пророке» «недоступная черта» преодолена с той стороны: в ответ на его «духовную жажду» ангел, серафим нисходит к нему (не этим ли «опытом» будут вдохновлены полные надежды призывания «сюда, сюда!» в «Заклинании»?), нисходит — и через кровавые муки преображает грешную, глухую, празднословную и лукавую плоть; в эту плоть — власть которой превращает, в элегии, «пламенную душу» в «равнодушное» естество, едва ли не живой труп, — водвигает угль, пылающий огнем, и плоть лежит «как труп», чтобы после смертных мук восстать, по гласу Бога, обновленной и одухотворенной.
«Поэт — издалека заводит речь». Написанный автором «Гавриилиады» «Пророк» может быть соотнесен не только, как это принято, с Исайей и другими ветхозаветными книгами, но и с главой 9 «Деяний апостолов». Гонитель Христа Савл был осиян «светом с неба», «упал на землю», услышал с неба укоряющий Бога глас и повеление: «встань и иди», — и узнал, что он, Савл, для Господа «есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое пред народами» («…обходя моря и земли…» — словно формула дальнейшей судьбы апостола Павла; «Глаголом жги…» — тоже именно о нем могло бы быть сказано). И все это произошло с Савлом на пути («Пророк»: «на перепутье»; VI глава «Онегина»: «Пускаюсь ныне в новый путь»). «Поэта — далеко заводит речь».
Все, что будет происходить дальше, говорит о том, что, написав «Пророка», он еще не вполне отдал себе отчет в том, что, собственно, он написал. (Ничего удивительного в том нет: любому даже просто хорошему поэту такое знакомо; кому незнакомо — тот не поэт.)
То есть он, конечно, понимал, что написанное — это нечто грандиозное и, может быть, неслыханное («Памятники», скажем, писали многие поэты, и он напишет, но тут совсем другое); он ощущал гигантский общий смысл своего озарения: впервые его давнее восприятие своего собственного дара как чего-то перерастающего пределы привычного понимания поэзии обрело адекватную форму, язык, образный масштаб: «слово» было «найдено», и это было главное, что он ощутил сразу. Но то был, повторяю, лишь самый общий смысл сказанного (Лишь общий смысл, и притом в самом поверхностном виде, впоследствии был усвоен читателями, да и многими исследователями, преображаясь часто во впечатляющую метафору в библейском стиле, и только. В конечном счете все сводилось, как правило, к «роли поэта в обществе», к «задаче» поэзии «жечь сердца» в смысле — «воспламенять», «зажигать», на что-то «вдохновлять» и куда-то «вести». Кровавая операция преображения толковалась как метафора тяжелой жизни поэта, «духовная жажда» проскакивала без всякого смысла, поскольку неясен был смысл слова «духовный»; та же судьба постигла строку «Исполнись волею Моей» (не без помощи орфографии, упразднившей прописную букву). В итоге читательское, а во многом и научное, восприятие «Пророка» остановилось на предельно упрощенном, искаженном понимании того, с чего отношения Пушкина со своим творением лишь начались.). Ему только предстояло понять, что произошло в его жизни с появлением «Пророка» и, главное, в какое тяжелое положение он, написав эти стихи, себя поставил.
- Происходит почти невероятное: его, ссыльного, тесно связанного с заговорщиками, осужденными, казненными, сосланными, вызывает к себе коронованный недавно новый император, только что казнивший и сославший их, ведет с ним долгую и милостивую конфиденциальную беседу, закончившуюся своего рода джентльменским соглашением о сотрудничестве на благо Отечества; в обществе его носят на руках и чуть ли не тоже коронуют; он как на крыльях, пишет стансы «В надежде славы и добра», где без тени смущения и на глазах всего общества учит самодержца, как надо тому жить, что делать, кому подражать и как следует вести себя с побежденным противником; посылает каторжанам стихи («Во глубине сибирских руд»), в которых через голову правительства обещает амнистию, намекая, что имеет на это основания; одним словом, находится в эйфории и соответственно ведет себя.
Основания для этого были, и притом — если иметь в виду его внимание к «странным сближениям» и веру в неслучайность всего с ним происходящего — едва ли не мистического характера.
За последние два года с ним произошел внутренний поворот, духовный, творческий и политический, связанный в первую очередь с «Борисом Годуновым» и онегинскими главами; в частности, работая над трагедией (где, кстати, Романовы названы «отечества надеждой», и это не только тактический шаг опального, жаждущего прощения автора, но и маркировка замысла: исследовать как раз ту эпоху, что предшествует воцарению нынешней династии с ее собственной более чем непростой историей), — работая над трагедией, погружаясь в поток российской истории, постигая дух ее, он окончательно избавляется от революционистской психологии и идеологии, — вот откуда его готовность «условливаться» с правительством не как с врагом, а как с законной властью, и отсюда же — его поведение с императором, соединяющее трезвость вассала с достоинством дворянина.
Далее. Автор «Андрея Шенье», он назвал себя пророком, узнав о смерти Александра, — но до того, через три-четыре месяца после «Андрея Шенье», он простил Александру «неправое гоненье», и это случилось в стихотворении с датой 19 октября: день в день за месяц до таганрогского события 19 ноября, — и тем он словно напророчил себе прощение от преемника Александра.
В VI главе романа он прощается с Ленским, в котором воплощена «юность легкая моя», и готовится в какой-то «новый путь» (о чем сказано будет в заключительных строфах главы) — и вот прошлая жизнь кончается, и новый царь заключает с ним, поэтом, союз.
Он и в самом деле на новом пути; словно за ним следят и его ведут. И на вершине всего — «Пророк», где путь ему указывает Бог. Все cxoдится.
Но странно: в лирических стихах первых лет свободы никакого торжества нет — совсем наоборот. Нарастает глубоко меланхолическая — говоря мягко — доминанта.
В «Зимней дороге», которую он пишет, ненадолго возвратясь в Михайловское, все бесконечно грустно, преходяще и непрочно. Единственное пятно живого света («…Завтра, Нина…» и проч.), едва возникнув, тут же исчезает в ночном сумраке, волнистом тумане — будто мелькнуло на миг чужое теплое окно, и снова: «Грустно, Нина: путь мой скучен…» (это между «…обходя моря и земли» и «Пускаюсь ныне в новый путь»). «Колокольчик однозвучный Утомительно гремит»: «скуЧной», «пеЧальные», «навстречу», «ЗвуЧно», «полноЧь», «раЗлуЧит» — все шепот, в котором тонет звон; и, снова повторенное в финале «одноЗвуЧен» одним тоскливым шепотом-звоном сменяет «шум и звон» «Пророка».
«Другие, хладные мечты, Другие, строгие заботы», — напишет он вскоре в окончании VI главы романа. И словно с комом в горле: «Дай оглянусь…» Здесь, в «Зимней дороге», он пытается «оглянуться»: «Что-то слышится родное… То разгулье удалое, То сердечная тоска…», — это то, с чем бы надо проститься, как с Ленским; ведь он «Познал… новую печаль», новую тоску, «Другие, хладные мечты». «Чем; ближе к небу, тем холоднее», — говаривал Дельвиг. После «Пророка» становится холоднее.
Следует набросок о еще одном путнике:
В еврейской хижине лампада
В одном углу бледна горит,
Перед лампадою старик
Читает Библию. Седые
На книгу падают власы.
…..
На колокольне городской
Бьет полночь. — Вдруг рукой тяжелой
Стучатся к ним. Семья вздрогнула.
…..
И входит незнакомый странник.
В его руке дорожный посох.
Снова дорога, снова звон. Часы бьют полночь, и в это нехорошее время на пороге дома появляется человек, который «видел Христа, несущего крест, и издевался»; осужденный за это на бессмертие до Второго пришествия, он тяготится жизнью: «не смерть, жизнь ужасна». Так излагал свой замысел поэмы о Вечном Жиде поэт, несколько лет назад «издевавшийся» над Благовещением и непорочным зачатием.
(Другой долгожитель новозаветного предания, Симеон, переводя книгу Исайи, не поверил словам «Се, Дева во чреве приимет», решил в переводе «Деву» заменить «женой» и за это должен был жить до тех пор, пока не увидит Деву и не примет на руки Младенца; его «Ныне отпущаеши» — благодарность за милость и прощение, за возможность узреть исполнение пророчества, которым пренебрег, за окончание земного бытия. «Гавриилиада» связана с евангельской историей непорочного зачатия, «Пророк» — с книгой Исайи, которую переводил Симеон Богоприимец.)
Тема жажды смерти будет продолжена в следующем 1827 году в «Трех ключах» («В степи мирской, печальной и безбрежной»; ср. пустынный и печальный пейзаж «Зимней дороги»). С христианской фразеологией («В степи мирской») соседствуют античные образы: «Кастальский ключ» и «ключ забвенья», родной брат Леты, реки забвенья, текущей по ту сторону жизни; этот «холодный ключ» «слаще всех жар сердца утолит» — после «Пророка», где «сердцем» стал «угль, пылающий огнем»…
В «Арионе», написанном, почти в годовщину казни, о чудесном спасении от смерти, вариация на тему античного мифа помогает обрести такую поэтическую формулу его причастности к исторической драме последних лет, которая лишена мучительной для него и соблазнительной для окружающих противоречивости («Арион» обычно трактуется как манифест «верности идеалам декабризма». В свое время я пытался показать, что и текст, и подтекст, и мифологический источник этому сопротивляются (см.: «Поэзия и судьба». Изд. 2-е (М., 1987) и 3-е (М., 1999), где в разделе «Народная тропа» помещена работа о послании «В Сибирь»). Сама «расстановка сил» в стихотворении иная, чем в декабрьских событиях: мятежники вовсе не плыли мирно по своим делам, как плывет «челн» в «Арионе», и отпор государства («вихорь шумный») вовсе не последовал «вдруг», ни с того ни с сего, и заговорщиков было не «много», а мало. Все становится на свои места, если — в полном соответствии с античной традицией — понимать под гибнущим «грузным» челном пли кораблем не заговорщиков, а все государство в годину бедствий (грянувшую 19 ноября 1825 года в Таганроге). Тогда молчаливый — и погибший первым — «кормщик» это не кто иной, как Александр; а «таинственный певец» пел свои «гимны» («гимны смелые» — «Вольность») не сепаратному сообществу, а всей нации, включая власть и оппозицию, и это были «гимны» Закону («Вольность»), которые он и теперь продолжает петь, называя «гимнами прежними».) — и в то же время по-иному оборачивает тему смерти: «таинственный певец» не подлежит общей участи в «лоне волн», жизнь его не ему принадлежит и остается не сетовать, а благодарно недоумевать, суша влажную ризу на солнце.
И тут же следует, на ту же тему спасения, новая вариация, но в совсем ином материале, на ином языке, помеченном церковнославянизмами: «Акафист Е.Н.Карамзиной«, где автор, оставляя в стороне тему «певца», смиренно сравнивает себя просто с «пловцом» (ср. «Погиб и кормщик, и пловец»), спасшимся по милосердию «Провиденья» и несущим дар благоговейной хвалы «Святой Владычице» — чистой Деве; тяготение к этому образу стало с некоторого времени неотвязной слабостью автора.
Изложение одного и того же комплекса переживаний параллельно, в двух разных культурных языках, античном и библейском, настойчиво ведет к вопросу: не приходила ли ему в голову, на слух; в поэтическое воображение богатейшая рифма поэтики бытия, образуемая созвучием античного мифа и книги Священного Писания: челн — и корабль; «вихорь шумный» и воздвигнутый Господом «крепкий ветер»; «гроза» и «великая буря», сделавшаяся на море; погибающий в волнах человек; дельфин и кит; «таинственный певец» Арион и избранный Господом пророк Иона? «И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу» (Иона2,11) — «На берег выброшен грозою…»
Но, рифмуя, две судьбы обнаруживают свою разность. У Ариона (пушкинского), что называется, все в порядке: он как до «грозы», так и после, поет одни и те же «гимны» (в плане биографии автора имеется в виду гражданская позиция). У Ионы совсем иначе: «…встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем…» (Иона1,2), — сказал ему Господь («Восстань, пророк… И, обходя моря и земли, Глаголом жги…» — велел, без всяких гражданских заданий, «Бога глас» в «Пророке»). Но Иона не пошел: «И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня» (Иона1,3), — и вот тогда-то разразилась на море буря. А когда Иона по молитве своей был спасен — «было слово Господне к Ионе вторично: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что Я повелел тебе» (Иона3,1-2). Рифма бытия словно прямо окликает его.
Появляется «Ангел» — будто во исполнение просьбы Жуковского, написавшего когда-то, прочитав «Демона»: «Прощай, чертик, будь ангелом». Образ Ангела изумительно проникновенен, в духе Рублева. Но «герой» стихов — Демон: ему дано явление Истины (которого ждет, терзаясь бессмертием, Вечный Жид; которое дано было Ионе; которое узрел Симеон; которому посвящено стихотворение о явлении шестикрылого ангела поэту), мир его поколеблен…
Вся эта лирика 1827 года — единый и трепещущий клубок, и в нем — «Поэт» («Пока не требует поэта»), где автор выходит к прямому диалогу с собственным «Пророком».
Это — иной взгляд на дело поэта, другая концепция поэзии, ее разовьет «серебряный век».
Перекликаются некоторые внешние черты: «пустыня мрачная» — «суетный свет», «ничтожные» дети «мира»; «Бога глас» — «божественный глагол»; «испуганная орлица» — «пробудившийся орел»; но внутри все различно.
В «Пророке» герой томим в пустыне «духовной жаждою» — в «Поэте» «малодушно погружен» в заботы суетного света. Там — однократное и необратимое преображение в пророка; здесь — многократный, так сказать регулярным порядком, пифический транс; там — Единый Бог, здесь — Аполлон; там поэт-пророк посылается к людям, здесь — бежит от людей; там — очищение и одухотворение раз и навсегда; здесь — равные права высокого и низкого на душу поэта, их натуральный «паритет». Наконец, в отличие от «Пророка», в «Поэте» от поэта никакой личной жертвы не требуется: единственное лишение, которому он подвергается, — расставание с «забавами мира» и «заботами суетного света», от которых он, впрочем, и сам «тоскует»; во всяком случае, ни о каких муках пророческого служения речи нет. «Испуганная орлица» превращается в «пробудившегося орла», ветхозаветно-евангельское представление о душе как сущности женственной, в ее отношении к Богу, сменяется античным, горделиво-мужественным.
Все это, вообще говоря, чистая правда — правда естества поэта; перед нами — природная сущность поэтического дара как способности воспринимать и оформлять стихии бытия (ср. «О назначении поэта» Блока), и эта природная правда общезначима, относится к любому поэту. Оттого, может быть, и изложение ведется не в первом, как в «Пророке», а принципиально (как заметила И.Сурат) в третьем лице: «он».
Но в «Пророке» речь шла вовсе не о любом поэте, а об этом, обозначенном как «я», — только о нем одном; и о некой его особой, не как у «любого» поэта, миссии: оттого природные способности и были заменены сверхприродными.
И вот теперь этот поэт особого рода оглядывается на гильдию «поэтов вообще», от которых их дело особенных жертв не требует.
Противостояние «Пророку» продолжает перевод из Шенье «Близ мест, где царствует Венеция златая». Он полон перекличек с окружающими стихами на темы удела и жизненного пути: «На море жизненном…» (ср. «…моря и земли», «В степи мирской, печальной и безбрежной», «Арион», «Акафист…»), «тайные стихи» (ср. «таинственный певец») и пр. Но «тайные стихи» — «без отзыва утешно я пою», всего лишь «для забавы, Без дальных умыслов…», словно это беспечный лицейский «мудрец», никому ничем не обязанный, поющий ни для кого, ни для чего — для себя, а никакой не пророк.
И черновой — точный, соответствующий французскому оригиналу — вариант «Бога полн» (ср. «Исполнись волею Моей») заменяется: «И тихой думы полн…»
И почти тут же раздается другой голос:
Блажен в златом кругу вельмож
Пиит, внимаемый царями…
…..
Он украшает их пиры
И внемлет умные хвалы.
Меж тем за тяжкими дверями,
Теснясь у черного крыльца,
Народ, гоняемый слугами,
Поодаль слушает певца.
Словно встрепенулась, отверзла очи испуганная орлица.
- Как раз к этому времени относятся его попытки жениться, устроить семью, обрести очаг, Дом, осознаваемый им как святыня. В 1826 году он сватался к Софье Пушкиной, с 1827-го увлечен Ек.Ушаковой, в будущем 1828 будет предлагать руку и сердце Анне Олениной, в конце года увидит Наталью Гончарову. А параллельно — с азартом и какой-то яростью догуливает и проматывает остатки холостой жизни, словно стремясь впрок насытить все свои страсти, все стихийное и темное, словно страшась оставить для будущего брака даже клочок прежней «гибельной свободы». Размышляя над устной повестью «Уединенный домик на Васильевском», Ахматова говорит о периоде, когда происходит «некое осознание своей жизни как падения (карты, девки, гульба), которое, если не спасет какая-нибудь Вера, кончится безумием», когда «исследователю грозит опасность заблудиться в прелестном цветнике избранниц, когда Оленина и Закревская совпадают по времени, Пушкин хвастает своей победой у Керн (в печально знаменитом даже у невежд письме к Соболевскому. — В Н.), несомненно как-то связан с Хитрово (которая на 16 лет старше его. — В.Н.) и тогда же соперничал с Мицкевичем у Собаньской. И все это только в Петербурге… Все эти «мгновенные» страсти не могли у человека с характером Пушкина протекать безболезненно» (Анна Ахматова. О Пушкине. Статьи и заметки. М., 1977, с. 209, 213-214. — В.Н.).
Один из памятников этого периода — жанровая картинка «Сводня грустно за столом», навевающая ассоциации с «малыми голландцами», а сама навеянная визитами в дом терпимости известной Софьи Остафьевны и, соответственно, не ограничивающая себя в непечатных выражениях. Вещица эта блистательно забавна, а одно место — главное — просто уморительно:
Сводне бедной гость в ответ:
«Нет, не беспокойтесь,
Мне охоты что-то нет,
Девушки, не бойтесь».
Это не просто смешно — здесь вся соль картинки, обманывающей живописно подготовленное читательское ожидание. Гость, «хороший человек», который у «девушек» «как дома», нынче пришел совсем не за тем, за чем сюда ходят, нынче ему охоты что-то нет — просто заглянул, видно, на огонек, как бывает, когда некуда себя деть. И забавная картинка оканчивается тоскливо. Вот вроде бы и все.
Но «неохота» зазвучит иначе, если вспомнить еще раз тот текст, что приводился в связи с элегией «Под небом голубым…», — он относится к этому же году:
Весна, весна, пора любви,
Как грустно мне твое явленье.
…..
Как чуждо сердцу наслажденье…
Все, что ликует и блестит,
Наводит скуку и томленье.
Признание «Мне охоты что-то нет» представляется травестийным, пародийным вариантом того же мотива.
В нашем контексте это и само по себе значительно — но как раз тут контекст может быть внутренне расширен. К жанровой картинке по времени вплотную примыкает другой опус: «Рефутация г-на Беранжера» — тоже шутка, но уже не из частной жизни, а в государственно-патриотическом духе: роскошная стилизация военного фольклора, грубого солдатского юмора, «разгулья удалого», для которого невелика разница между посещением борделя воспитанным человеком и «визитом» русских войск в Париж. Казалось бы, сверх временного соседства, две эти выходки ничто существенное не объединяет кроме яркой колоритности и юмора, да еще откровенной и функциональной нецензурщины, — но дело оборачивается иначе в виду VII онегинской главы.
Ведь, как видели мы в своем месте, набросок «Весна, весна, пора любви» превратился во II строфу этой главы и определил тональность ее более чем печального начала. Что же касается ее эксцентрического финала: «Благослови мой долгий труд, О ты, эпическая муза… Хоть поздно, а вступленье есть», — то подчеркнутая шутливость («Я классицизму отдал честь») здесь не более чем шутка, ибо правды в этом финале гораздо больше, чем пародии. В VII главе сюжет романа выходит на совсем новый уровень, обнаруживает и в самом деле эпический масштаб: сквозь историю частных лиц просвечивает тема судеб России — об этом явственнее всего говорит роль и место в главе образа Наполеона, темы двенадцатого года, пожара Москвы, — судеб, в которые вплетается судьба Татьяны. Этот-то исторический план и составляет основу «Рефутации…», которая, стало быть, находится в таком же пародийно-травестийном отношении к «эпическому» плану VII главы, заявленному в ее финале, как картинка из частной жизни «Сводня…» — к лирической теме, введенной одною из начальных ее строф. За двумя непристойными шутками — бездна серьезности.
Это лишний раз говорит о том, что параллельные прямые у Пушкина, как правило, где-то пересекаются и что лирика периода, о котором идет речь, составляет тесное единство, где самое внутреннее и интимное неотделимо от внешнего и сверхличного.
Впечатляющий пример — стихотворение, возникшее — если следовать академической традиции — между «Ангелом» и наброском «Весна, весна, пора любви». Это — «Какая ночь! Мороз трескучий», — вещь, содержащая не характерные вообще для Пушкина черты жестокого натурализма:
Мучений свежий след кругом:
Где труп, разрубленный сразмаха,
Где столп, где вилы; там котлы,
Остывшей полные смолы;
Здесь опрокинутая плаха;
Торчат железные зубцы,
С костями груды пепла тлеют,
На кольях, скорчась, мертвецы
Оцепенелые чернеют…
Через кровавую, после массовой казни, площадь Москвы беспечно «летит… на свиданье» царский опричник, «кромешник молодой», накануне участвовавший в истязаниях и убийствах; успокаивая коня, испугавшегося виселицы с трупом («Но борзый конь под плетью бьется, Храпит, и фыркает, и рвется Назад…» — ср. в VI главе «Онегина»: «Почуя мертвого, храпят И бьются кони…»), он весело уговаривает его:
«…Чего боишься? Что с тобой?
Не мы ли здесь вчера скакали,
Не мы ли яростно топтали,
Усердной местию горя,
Лихих изменников царя?
Не их ли кровию омыты
Твои булатные копыты!
Теперь ужель их не узнал?..»
И преодолев сопротивление коня, «Спешит, летит он на свиданье, В его груди кипит желанье», он по трупам скачет дальше — «удалое», полное сил и похоти молодое животное, для которого трупы и кровь — не препятствие для «желанья» и «свиданья», азарт зверского убийства и любовная страсть — едва ли не одно и то же. Тут с особенной выразительностью звучит «яростно топтали», обнаруживающее в этом контексте, призвук того значения, которое слово «топтать» имеет в крестьянском употреблении, на птичнике.
Это написано, как и «Арион», в непосредственном соседстве с годовщиной казни декабристов (виселица — центральный эпизод), написано поэтом, который, избежав наказания, обласканный тем, кто казнил и сослал «Лихих изменников царя», вкушает радости жизни на свободе и в славе, светские удовольствия, волочится за женщинами, в «прелестном цветнике» которых исследователь может заблудиться, — и все это в то время, когда «друзья, братья, товарищи» влачат кандалы во глубине сибирских руд и минул лишь год со дня повешения.
Через некоторое время — прелестный набросок «в народном духе» «Всем красны боярские конюшни». Тут ни площади, ни казни — просто «младой конюх» скачет каждую ночь «К красной девке в гости…», как тот опричник, — и после этого
Конь не тих, весь в мыле, жаром пышет, С морды каплет кровавая пена…
Коллизия «любовь — кровь», грянувшая при получении известий о казни декабристов и о смерти любимой некогда женщины, продолжается; «эротическая» и «гражданская» темы по-прежнему связаны одним лирическим контекстом.
Ничего странного в этом нет: ведь это Пушкин в свое время осмелился, вразрез с декабристской идеологией, соединить «общее» и «частное»:
Но в нас горит еще желанье
…..
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Теперь (про опричника) — как эхо:
Спешит, летит он на свиданье,
В его груди кипит желанье…
Власть плотского естества, представшая в элегии «Под небом голубым…» как власть смерти — и отмененная в «Пророке» во имя высокого призвания, в ответ на духовную жажду, — обретает в этом всаднике на коне уже апокалиптический облик; она вторгается в тему общественных бурь и кровопролитий и в то же время сохраняет связь с образом насильника, грабителя и убийцы, который в «Сцене из Фауста» «Бранит ободранное тело» («…топтали… Лихих изменников царя…»). «Интимное» сплетается с «гражданским» в кровоточащий ком.
Жизнь создает всему этому подходящий фон. Из всех ударов, которые она наносит посреди радостей свободной жизни, самый тяжкий — не дело об «Андрее Шенье», истолкованном как сочувственный отклик «на 14 декабря», не иные притеснения, которым вовсе не помешало «соглашение» с государем, а кампания общественной клеветы по поводу «Стансов» «В надежде славы и добра», написанных как «программа» и поучение молодому царю, а обществом прочитанных (включая близких людей) бездумно и трусливо и потому расцененных как лесть и лицемерие, как измена либеральным идеалам, поворот флюгера. Триумфатор и автор «Пророка» чувствует себя, может быть, одиноким как никогда: с большой высоты больнее падать.
Клевета тем ужаснее, что никакой порок не внушает ему большего отвращения, чем измена (именно в это время обдумывается и пишется «Полтава», самая патриотическая и государственническая его поэма, где изменник рисуется едва ли не сплошь черным — прием, почти отсутствующий у Пушкина). Клевета — проявление психологии толпы, не понимающей, что он не изменил, а изменился, не предал убеждения молодости, а вырос из них. Ему стал чужд декабристский либерализм западнической закваски; его умеренный, но твердый монархизм, его позиция «либерального консерватизма» (как Вяземский скажет позже) — во многом предвосхищение славянофильских воззрений, и это не случайность или власть внешних обстоятельств, а органическое следствие его внутреннего развития. С молодых лет, с уже напоминавшегося послания к Чаадаеву, он не мыслит «общее» и «частное» раздельно, в нем зреет идея единства «судьбы человеческой» и «судьбы народной» в ее чисто русском понимании. Повинуясь этой идее — а скорее чувству — национального единства, он вышел из стана «друзей, братьев, товарищей», чтобы оказаться между двумя станами. Словно провидя, за двадцать лет до «Коммунистического манифеста», наступление эры «классовых битв», надвигающейся на Европу, он мечтает о роли миротворца, помогающего сблизиться царю и дворянству, дворянству и народу, установить и упрочить классовый мир в России.
Однако, делая это, становясь между станами, он ведь не по воздуху перелетел — он перешагнул через «судьбы человеческие», судьбы мертвых и живых, отдалился от побежденных и приблизился к победившим — таковы были условия истории, заставившей-таки общее возобладать в этом случае над частным, «народное» над «человеческим». Но его совесть, для которой народное и человеческое, общее и частное едины, взбунтовалась против истории. В послании «В Сибирь», в «Арионе», в «Друзьям» он, твердо придерживаясь новых своих воззрений, в то же время пытается найти какую-то точку равновесия между собой нынешним и собой прежним, то лезвие, на котором можно удержать в единстве новую гражданскую позицию и прежние человеческие идеалы. Как тонка и деликатна эта материя, доказывается тем, что верность человеческим идеалам у нас сплошь и рядом толковалась и толкуется как «верность идеалам декабризма», то есть опять же под «прямым углом» чисто идеологического взгляда, породившего клевету, которая приписывала «Стансам» льстивость, посланию «В Сибирь» — смысл прокламации, «Ариону» — рефлексы декабристской идеологии, «Друзьям» — тактическое лицемерие, а всему вместе — комплекс двурушничества, или, как выражались «научно», сложность позиции.
Но его совесть жаждала простоты. И отвергая клевету, она была беспощаднее чужих мнений: читая лирику 1827-1828 годов, трудно уклониться от впечатления, что поэта преследует его собственный образ, увиденный глазами тех «друзей», которые обвиняют его в измене, что какая-то жестокая сила то и дело заставляет его с содроганием оглядываться на кривое зеркало, отражающее искаженный, чужой и все же чем-то знакомый лик.
Эту трагическую двусмысленность положения и самочувствия можно было бы счесть — принимая во внимание чистоту его собственных помыслов — грубой и бессмысленной игрой судьбы, злобной шуткой истории — если бы не одно обстоятельство, которое в нашем контексте является самым существенным.
Бунт совести ведет к восстанию памяти. Он быстро разрастается за пределы «гражданской» темы — подобно тому, как реакция на известие о казни сыграла роль в появлении элегии «Под небом голубым…», заместившей отклик на казнь. Другими словами, ощущение пятна на совести гражданской расползается на всю предшествующую частную жизнь.
В лирике этих двух лет бродят, словно продолжая элегию, мотивы «тени», или призрака, или трупа, мотивы смерти — сопровождаясь притом мотивом вины — измены, греха, чуть ли не причастности к смерти.
Это было в стихотворении об опричнике — которое бросит свой отсвет и на стихи о «младом конюхе» с его ночными свиданьями. Это будет в «Не пой, красавица, при мне», где проплывут «Черты далекой, бедной девы» (ср. «…бедной, легковерной тени»), ее «призрак милый, роковой», который, «Тебя увидев, забываю» (опять как в элегии: с глаз долой — из сердца вон). Это отзовется в переложении шотландской баллады «Ворон к ворону летит», где «хозяйка молодая» изменяет побежденному, убитому богатырю с другим — верно, с победившим «недругом». Это мелькнуло усмешкой в стишках о сводне и даст свою вариацию в «Клеопатре» («Чертог сиял, Гремели хором» — позже это войдет в «Египетские ночи»), где любовь и смерть уже в открытую предполагают и едва ли не замещают друг друга. Это воплотится, конечно, в предательстве Князя («Русалка») и, наконец, — ночным кошмаром в «Утопленнике», где непогребенный мертвец каждый год является мужику, чтобы напоминать об измене христианскому долгу. (Спустя несколько лет подобная же тема будет повернута иначе: «Но отшельник, чьи останки Он усердно схоронил, За него перед Всевышним Заступился в небесах», — «Родник», 1835.)
В «простонародной сказке» (подзаголовок «Утопленника») трудно пройти мимо одной детали, поданной с изощренной небрежностью и потому едва ли заметной, но если заметить — приводящей содрогание. Мужик, открыв окно, видит мертвеца:
С бороды вода струится,
Взор открыт и недвижим.
Все в нем страшно онемело,
Опустились руки вниз,
И в распухнувшее тело
Раки черные впились.
В ком все «страшно онемело»? У кого «Опустились руки вниз»? У мертвого? Онеметь всем телом, руки опустить может только живой — от страха. Значит, в описание мертвеца встроено описание ошалевшего от ужаса мужика — а дальше (всего через запятую) опять мертвец с его «распухнувшим телом» и впившимися раками, — и уже не разберешь, кто поистине труп — мертвый или живой.
Одним словом, в годы после «Пророка» идет ревизия всей собственной прошлой жизни. О том, что это действительно так, говорит датированное 19 мая 1828 года «Воспоминание».
- В черновом продолжении «Воспоминания» появляются, как известно, …два призрака младые,
Две тени милые, два данные судьбой
Мне ангела во дни былые;
Но оба с крыльями и с пламенным мечом,
И стерегут — и мстят мне оба,
И оба говорят мне <внятным> мертвым языком
О тайнах <вечности> счастия и гроба.
Это не те ангелы, что серафим в «Пророке», и другой меч. «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни» (Быт.3,24).
Но связь с «Пророком» остается. Стихотворение — само как меч, только рассекающий не грудь, а душу; и не сердце трепетное извлекается, а свиток воспоминаний, и его невозможно читать без трепета сердца, отвращения и проклятий.
Если же перевести коллизию «Воспоминания» в житейски-предметный план — получится «Утопленник», позже и написанный.
Мужик каждый год, ночью, когда «буря настает», слышит стук своего покойника — автор «Воспоминания» каждую ночь, «в тишине», но в буре душевной, созерцает свиток своих грехов. Он читает свою жизнь, «трепеща и проклиная», — в «Утопленнике» то же самое: «Так и обмер: «Чтоб ты лопнул!» — прошептал он, задрожав». Только вот если мужик «окно захлопнул, Гостя голого узнав», то автор «Воспоминания» ничего такого сделать не может: муки совести приходят не извне; и не «Раки черные впились» в тело мертвого «гостя», а
…живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья.
(Ср.: «И угль, пылающий огнем, Во грудь отверстую…» и «жало мудрыя змеи».) Самосуд так нелицеприятен, что акт поэтический тут и в самом деле на грани пророческого — та же беспощадная правда. «Так говорит Господь Бог Израилев: Я помазал тебя в царя над Израилем и Я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего… и дал тебе дом Израилев и Иудин, и… прибавил бы тебе еще больше; зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами Его?., итак не отступит меч от дома твоего…», — так сказал пророк Нафан царю Давиду, согрешившему в «частной жизни» (2Цар.12,7-10) — и тоже пророку (после чего и появился 50-й, покаянный, псалом). Содержание приведенного обличения должно бы было быть внятно «помазанному» в пророка автору «Пророка». Ведь в «Воспоминании» и в самом деле явно содержится память покаянного Давидова псалма. Можно даже сказать, что все стихотворение содержится в одном стихе этого псалма:
«Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну» (всегда; Пс.50,5).
Связь здесь вовсе не литературная, стихотворение не перефразирует псалом, это не реминисценция — это совпадение духовных ситуаций: у «Воспоминания» тот же внутренний строй, как у покаянного псалма, Пушкин сейчас чувствует то же и так же, как чувствовал кающийся царь и пророк; стихи Пушкина есть Давидово покаяние — по силе, глубине и беспощадности.
Сходство огромно — но разница не меньше. Чувствуя, как Давид, автор стихов совсем иначе разумеет свое чувство: его покаяние безысходно. Последний стих:
Но строк печальных не смываю, — противоречит самому понятию о покаянии и его цели — как ветхозаветному, так и евангельскому.
О последнем стихе были споры: «не смываю» — это что: не хочу смыть или не могу смыть? У каждой из спорящих сторон были вполне убедительные и для поэта лестные резоны, но опору они находили отнюдь не в тексте стихов, а исключительно в личных предпочтениях спорящих; проблема ставилась в чисто психологическом плане и потому была неразрешима, ибо предмет «Воспоминания» — вовсе не психология.
Предмет финала «Воспоминания» («не смываю»), а стало быть, по существу, всего стихотворения, является нам лишь на фоне покаянного псалма:
«Наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя… омывши мя, и паче снега убелюся…» (Пс.50,3-4,9).
И в ветхозаветном, и в христианском понимании, цель и смысл покаяния — очищение, омовение души от греха, которое возможно не самому человеку, но только Богу. Покаяние без такой цели и, следовательно, без молитвы об очищении, просьбы о помощи — не имеет смысла.
В «Воспоминании» грех не смывается, ни обращения, ни молитвы, ни просто просьбы, ни даже надежды нет: «И горько жалуюсь, и горько слезы лью» — не обращено ни к кому, направлено никуда: в нем самодостаточность безнадежности. Речь не о том, может ли, хочет ли (или не может и не хочет) автор смыть печальные строки своей жизни; автор говорит просто: «не смываю», — как если бы лишь от него самого зависело смыть или не смыть. Как если бы больше это сделать было некому.
Это значит, что «Воспоминание» есть не сразу явное, но прямое противостояние Давидову псалму: исповедь без адреса и цели, жалоба без надежды, покаяние без молитвы об очищении, слезы без облегчения; псалом в отсутствие Бога, в сущности — антипсалом.
Но тем самым это и противостояние собственному «Пророку». Взяв из «Пророка» художественный язык для выражения мук совести («…горят во мне Змеи сердечной угрызенья»), автор оставил без внимания само событие «Пророка»: личную встречу своего духа и гения с Богом. Словно «Пророк» был всего лишь поэтическая фантазия, метафора, реальность чисто художественного, а не духовного опыта (как это часто и понимается); словно никакого события не было и обращаться не к кому: полное одиночество. Это, похоже, как раз тот случай «раздвоения между мыслью и чувством», о котором писал цитированный выше В. Соловьев. «Чувство» (точнее, дух и творческий гений) вопиет к Богу Давидовым воплем, а «мысль» (точнее, может быть, душа) этому воплю не внемлет, его не слышит, продолжая маяться в одиночку. То ли античный фатализм стоической окраски, то ли предвосхищение принципиального сиротства экзистенциализма.
Снова думаю: тогда, осенью 1826 года, автор «Пророка» испытал, в стихах воплотил могучее наитие Святого Духа, полноту которого душа вместить еще не могла. Понято было лишь то, что по природе умопостигаемо, а именно — только художественно-философская сторона записанного. Сама же встреча, в качестве реального духовного события, предполагающего некоторые реальные же последствия, была хоть и записана, но не постигнута. Да и не могла быть постигнута умственным или даже художественным образом. Она должна была быть не понята умом или прочитана в тексте — она должна была быть явлена в душевном и духовном опыте жизни.
Этот опыт и начался после рождения «Пророка». «Пророк» оказался не констатацией свершившегося (как нам издавна кажется), а пророчеством на будущее: предварением душевных и духовных мук, через которые обретается истинное — не в стихах, а в жизни, — посвящение.
Проходя эту инициацию — когда его совесть, подобно Орланду из его перевода, на каждом шагу вперялась в «свой позор», сталкиваясь со зрелищем чудовищного несоответствия жизни и поведения тому, что он постиг о себе в «Пророке», ибо личная жизнь его и поведение оставались такими же, что у всех «детей ничтожных мира» (словно, повторяю, «Пророк» был величественные слова и ничего больше); когда открывалось его недостоинство в отношениях с любовью, с милыми «тенями» и «призраками», с тяжестью возвещенного в «Пророке» призвания, становящейся невыносимой; когда все это усугублялось страданиями счастливца, избежавшего общей с политическими заговорщиками участи, взысканного милостью, славой и двусмысленным положением в глазах общества; когда вся прошлая жизнь стала разворачиваться по-новому — под знаком не «судьбы», а совести, и читать ее стало невозможно без отвращения, — проходя столь жестокий искус и неизбежно честно запечатлевая эти шаги в своем искусстве, отдает ли он себе отчет в том, что все это и есть те именно муки и та именно боль, которые должен был испытывать преображаемый в «Пророке»? что вот сейчас касаются его ушей, исторгают язык празднословный и лукавый, рассекают мечом трепетную душу? что возросшая жестокость совести — уже и есть дело посвящения? Сознает ли, наконец, что именно в «Воспоминании» — которое не столько покаяние, сколько самоказнь, вопль бесконечной безнадежности, в сущности отчаянная манифестация безверия, — что как раз в этом «антипсалме», именно в нем, божественный глас пушкинского гения впервые прямо и вслух вопросил своего обладателя о его личном соответствии предназначению такого поэта — поэта, о котором написан «Пророк»? Сознает ли?
И нет, и да. Это как у его Моцарта: сам Моцарт ничего не знает об умысле Сальери, дух же Моцарта, его гений знает все — и больше даже, чем сам Сальери. Разница лишь в том, что у нас речь идет о не о двух, а об одном и том же человеке. Есть высшее «я» в человеке, которое знает об этом человеке все, в то время как сам он мечется и ничего не понимает. Оно есть в каждом человеке, оно является, оплотняется в совести — и может быть явлено в действии, в том числе в действии творческого гения, который есть печать Святого Духа в человеке; но совесть тоже есть печать Святого Духа в человеке; совесть — это гений каждого человека как образа Божия. Человек знает о себе не все, а его совесть, его гений знают все. Так было в элегии «Под небом голубым…», так было в «Пророке». В терминах Соловьева: «чувство» опережает, «мысль» отстает. От духа отстает душа — так бывает всегда и со всеми; собственно, в стремлении души не отстать совсем, и совершается истинная духовная жизнь человека на земле, и стремление это бывает полно мук и чревато драмами.
В «Воспоминании» великая, пророческая духовная жажда — жажда не отстать — соединилась с великим отчаянием души. Отчаянием человека, который своим человеческим разумом полагает, что его ввели в заблуждение: позвали, вознесли — а потом бросили. Как в насмешку. Об Иове «сказал Господь сатане: вот он, в руке твоей, только душу его сбереги» (Иов2,6) — а тут и душу не жалеют.
В черновом продолжении «Воспоминания» есть не очень понятные, но очень страшные слова:
Но оба с крыльями (Вариант: И оба грозные),
и с пламенным мечом —
И стерегут — и мстят мне оба —
И мертвую любовь питает их (?) огнем
Неумирающая злоба
(Вариант: И мертвую любовь сменила
Неугасающая злоба).
«Мертвую любовь» «питает» (напитывает?) огнем или «сменяет» вечная (неумирающая, неугасающая) злоба! — это до жути напоминает «Русалку», замысел которой не покидает его как раз с 1826 года, года элегии и «Пророка». Но мстящая Русалка и Дочь мельника — не одно и то же, это уже разные существа; точно так же и «тени милые», «два ангела» не могут «мстить» сами от себя, и не может им самим принадлежать, от них самих исходить «неумирающая» или «неугасающая» («пламенный меч») «злоба»: в грозных мстителей преображает их (как Дочь мельника в Русалку) чья-то «злоба», злоба внешней, могучей, высшей силы…
И он, раскаиваясь в своих грехах и винах, чувствуя свое недостоинство, как Давид, страдая, как Иов, не следует примеру согрешившего пророка Давида и непорочного человека Иова: не хочет никого ни о чем просить, ни к кому обращаться, ни у кого даже вопрошать, и с каким-то упоением безысходности вперяется в проклятый свиток. Его слезы — сухое рыдание, а жалоба не адресована никому — ибо кому пожаловаться на Бога?
В таком существе, в такой душе, как он, подобное чревато взрывом.
Взрыв происходит спустя неделю, в день рождения. Во всяком случае, именно эта дата, «26 мая 1828», предваряет, в качестве эпиграфа, новое стихотворение.
- «Дар напрасный, дар случайный»
Относиться к смыслу этих стихов серьезно давно отвыкли: все, что пишет Пушкин, прекрасно, и это тоже прекрасные стихи, написанные в тяжелый момент жизни; вот, собственно, и все. В советской науке было принято объяснять стихотворение «тягчайшим общее венным кризисом, глубокой депрессией передовых кругов» (Д.Д. Благой. Творческий путь Пушкина (1826-1830). М.,1967, с.179. — В.Н.) — внешние обстоятельства снова на первом месте. Но от депрессии «общественной» автор стихов был как раз далек, он рвался к деятельности, а конфликт у него был (в частности, по поводу «Стансов») как раз с «передовыми кругами». Да, было трепавшее нервы полтора года дело об элегии «Андрей Шенье», был запрет на выезд в армию на Кавказ и за границу и другие неприятности; но отвергнуть из-за всего этого жизнь — такое, может, и бывает, да только это на Пушкина не похоже.
Правда, и у Пушкина ничего, подобного этому стихотворению, да сих пор не было; был трагизм, были сетования, была тоска по смерти — но такой, самоубийственного спокойствия (в котором вопль) декларации отвержения у него больше не встретить. Если «Воспоминание» — «анти-псалом», то спустя неделю написан анти-«Пророк». Все происшедшее в «Пророке» переосмыслено в духе отрицания и отвергнуто.
Говорится о случайности и бессмысленности жизни, отсутствии в ней «цели» — после того как в «Пророке» поэту дана новая природа и возвещена цель жизни.
Говорится о «казни» — после преображения плотского естества поэта в «Пророке».
После: «Как труп в пустыне я лежал, И Бога глас ко мне воззвал», — «Кто меня враждебной властью Из ничтожества (небытия. — В.Н.) воззвал?»
«Душу мне наполнил страстью, Ум сомненьем взволновал…», «Сердце пусто», — это в ответ на: «угль, пылающий огнем, Во грудь отверстую водвинул» — и на повеление: «Исполнись волею Моей».
«Празден ум» — после того как вырван «празднословный» язык.
«Однозвучный жизни шум» (ср. «Колокольчик однозвучный») отменяет весь тот «шум и звон», в котором «неба содроганье» и «горний ангелов полет».
Наконец, финал «И томит меня тоскою» — прямая антитеза началу «Пророка»: «Духовной жаждою томим».
«Пророк» отрицается «по всем пунктам» подряд, дары, полученные в нем, отвергаются. Как будто это была злая шутка, бытийный подвох. Д. Благой сопоставлял «Дар напрасный…» с книгой Иова: «…открыл Иов уста свои и проклял день свой. И начал Иов, и сказал: погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался человек!.. Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева?.. На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого Бог окружил мраком?» (Иов3,1-3,11,23). Но автор стихотворения знает, что Иов был праведнейший из людей земли Уц и страдал неповинно. У него была чистая совесть, воспоминание не развивало перед ним длинный свиток его жизни, заставляющий трепетать от отвращения. Бог попустил сатане испытать крепость его веры — будет ли она такова же в лишениях, как в достатке и счастье. У автора стихотворения все иначе. Он полжизни считал себя неверующим — а его тоже испытывают; и не отъятием богатства, детей и здоровья, а, напротив, дорогим подарком, в котором подсунута отрава (приходят на ум «змеиные» метафоры «Пророка» и «Воспоминания»); его, с его слабой верой и нечистой совестью, испытывают непомерным даром, который соприроден дару веры, с его воздушной невесомостью и нечеловеческой тяжестью; который соприроден дару совести, а совесть — это «ведьма, от коей меркнет месяц, и могилы Смущаются и мертвых высылают!» («Скупой рыцарь»). Для чего? — вопиет он как Иов; и как Иона, которому ни за что ни про что велено быть пророком, бежит от лица Господня.
Но «Пророк» уже есть, смыть его строки невозможно: они, как сам дар, слиты с жизнью, они лишь раскрывают задание этой жизни, которое до того было неведомо, лишь смутно предчувствовалось («Иная, высшая награда Была мне роком суждена — Самолюбивых дум отрада! Мечтанья суетного сна!» — «В.Ф.Раевскому»,1822). Отвергнуть задание, отказаться от послушания, данного в «Пророке», стать беглецом и расстригой — значит отказаться от жизни. В этом смысле «Дар напрасный…» есть посягательство на духовное самоубийство. Внешней формой отвергая жизнь как дар напрасный и случайный, а внутренней формой отрицая «Пророка», стихотворение предвосхищает бунт Ивана Карамазова, возвращающего Богу «билет».
Нет, «Он застрелиться, слава Богу, Попробовать не захотел»; продолжает роман (VII глава), пишет «Полтаву», ведет светскую жизнь, очередной раз влюблен (мадригал Олениной «Ты и вы» — в промежутке между «Воспоминанием» и стихами о даре напрасном), жизнь идет своим чередом. Но лирика — тоже жизнь, не менее жизнь, она тоже идет, и слово бунта уже сказано.
- И как только оно сказано — тут же, «бездны мрачной на краю», следует приступ великолепной бодрости, радости, жизнелюбия. Восторженный дифирамб «Ее глаза». Короткое стихотворение «Кобылица молодая» — горделивый апофеоз мужественной силы, хозяйской власти над жизнью; ему явно сопутствует набросок «Как быстро в поле, вкруг открытом, Подкован вновь мой конь бежит!», который спустя пять лет прорастет в «Осени» (и вот как преображается тревоживший его образ несущегося всадника!). И наконец, открывающее эту трилогию (может быть, сразу после стихов о даре) одно из самых светлых, нежных, радостных стихотворений зрелого Пушкина — «Еще дуют холодные ветры» — про «первую пчелку», летящую «О красной весне поразведать: Скоро ль будет гостья молодая? Скоро ли луга позеленеют?..» — он вдруг полюбил весну!
Бунт совершился, все сказано и выговорено, все названо своими словами, расставлено по местам — и будто иго свалилось с плеч, и все стало ясно, просто и легко. И мир засиял новыми и свежими красками. (Такой опыт будет запечатлен позже, когда он будет описывать самочувствие безумца: «И я глядел бы, счастья полн, В пустые небеса» — «Не дай мне Бог сойти с ума».)
«Я не Бога не принимаю, пойми ты это, я мира, Им созданного, мира-то Божьего не принимаю и не могу согласиться принять», — говорит Иван Карамазов, приближаясь к своему «бунту». И — еще раньше, словно подводя под бунт мировоззренческий фундамент: «Жить хочется, и я живу, хотя бы и вопреки логике. Пусть я не верю в порядок вещей (то есть в «мир Божий». — В.Н.), но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо, дорог иной человек…», — и опять: «Клейкие весенние листочки, голубое небо я люблю, вот что! Тут не ум, не логика, тут чревом любишь…»
Любовь к «голубому небу» как «пустым небесам», к миру вне Бога, к миру не как к Творению, а как к дару случайному, напрасному и потому как-то особенно прекрасному и аппетитному; любовь вне духа, чревная, в сущности животная, — воспевается поистине вдохновенно: пусть я не могу посмотреть вверх, не знаю и не хочу знать, что там, — но жить хочется, и я живу и… желуди люблю, вот что!
Так обозначается Достоевским начало пути Ивана к преступлению; и от окончательной духовной гибели Ивана спасает лишь безумие — следствие его «глубокой совести», по мнению Алеши. Словно Алеша Пушкина начитался.
Да ведь клейкие-то листочки — и правда из Пушкина! Из стихов о пчелке:
Скоро ль будет гостья молодая?
Скоро ли луга позеленеют?
Скоро ль у кудрявой у березы
Распустятся клейкие листочки,
Расцветет черемуха душиста?
Выходит, у Достоевского почти в точности воспроизведена «структура» духовной катастрофы, пережитой Пушкиным весною 1828 года; воспроизведена не в порядке литературной реминисценции, а как, очевидно, прожитая и самим Достоевским; воспроизведена с той лишь разницей, что тема «клейких листочков» у Ивана бунту предшествует (ибо Достоевский демонстрирует, и сознательно, «идеологическую платформу» совершающейся катастрофы), а у Пушкина эта тема следует сразу после «бунта» — не идеологически, а органически и спонтанно, как у «первопроходца», точнее — первой жертвы.
Самое замечательное в этой истории с листочками у Пушкина — то противоречие (или драматическое напряжение, или — контрапункт), которое делает стихотворение о пчелке нежным и ослепительным лучом света в темном царстве.
В ответ на мрачную логику бунта, совершившегося в стихотворении «Дар напрасный…», гению его автора было тут же явлено — в стихах о пчелке — не что иное, как образ мира в качестве изумительного, сплошь одушевленного Божьего Творения, в котором всякое дыхание да хвалит Господа, — словно восклицание Алеши: «Ты не веришь в Бога. Как же клейкие листочки?»; но душа автора, объятая страстью победившего карамазовского отрицания, даже этот ликующий, увещевающий ответ своего гения, эту милосердную подсказку заблудшему восприняла и истолковала как утешительный итог бунта, его законное следствие и чуть ли не поощрение. Так Сальери, услышав экспромт Моцарта («Какая глубина! Какая смелость и какая стройность!»), отнюдь не отступается от бунта («…правды нет — и выше»), а, напротив, утверждается в своем мрачном умысле.
То, что все так, подтверждается краткостью этого эйфорического всплеска. Дальше — «Не пой, красавица, при мне», «Предчувствие», «Утопленник», «Ворон к ворону летит» с их уже названными мучительными мотивами; сухая и какая-то апатичная «лицейская годовщина» («Усердно помолившись Богу»); и еще — странный эскиз «Уродился я, бедный недоносок, С глупых лет брожу я сиротою…»: тоже ведь своего рода «Дар напрасный…», вопль сиротства. Конечно, тут сразу вспоминается более поздний «Недоносок» Баратынского («сокрушенное сознание неполноты и бедности сил, происходящее от взгляда на жизнь не шутя» — [С. Бочаров. «Поэзия таинственных скорбей» — в кн.: Е. Баратынский. Стихотворения. М., 1976, с. 280. — В.Н.]), который предстает едва ли не прямым продолжением пушкинского наброска:
Я из племени духов,
Но не житель Эмпирея,
И едва до облаков
Возлетев, паду, слабея.
Как мне быть? я мал и плох;
Знаю: рай за их волнами,
И ношусь, крылатый вздох,
Меж землей и небесами.
…Бедный дух! ничтожный дух!
Дуновенье роковое
Вьет, крутит меня как пух,
Мчит под небо громовое
[Ср.: «Снова тучи надо мною…» («Предчувствие»). — В.Н.]
И, наконец, группа стихов, осененная образом Клеопатры, продающей свою любовь за жизнь (и несомненно являющейся ипостасью Музы, поэзии, требующей, по словам Батюшкова, «всего человека»): «Портрет» («С своей пылающей душой»), «Наперсник» («Твоих признаний, жалоб нежных») и «Счастлив, кто избран своенравно» -три коротких как стон обращения к А.Ф.Закревской, которую Ахматова отнесла к типу «женщин-вамп», «анти-Татьяны». Последнее особенно выразительно звучит на фоне «анти-псалма» «Воспоминания» и «анти-«Пророка» «Дар напрасный, дар случайный»: ведь явление Татьяны в романе в известном смысле предваряет явление серафима в «Пророке» [cм. статью о второй главе «Евгения Онегина» («Поэзия и судьба». М., 1999; «Пушкин. Русская картина мира». М., 1999). — В.Н.].
Так или иначе, восторг после учиненного Богу и жизни разноса быстро проходит, чувство освобожденности и легкости уступает место чувствам мрака, тревоги, вины, гибельного упоения «бездны на краю».
Но еще раньше — и, может быть, именно в момент «гибельного восторга» после бунта — происходит в его жизни одно из самых невероятных «странных сближений».
Едва отзвучал бунт, как его прошлое — отнюдь не в своих «первоначальных, чистых днях» («Возрождение»), а в несмываемых («Воспоминание») строках — постучалось к нему в окно, как непогребенный покойник. На его бунт ответили.
Не успевают высохнуть чернила, которыми пишется дата «26 мая 1828» над стихотворением «Дар напрасный…», как ровно через день, 28 мая, Серафим, но не шестикрылый, а митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский, извещает статс-секретаря Н. Н. Муравьева, что получено «весьма важное на Высочайшее Государя Императора имя прошение с приложенной при нем рукописью, в коей между многими разного, но буйного или сладострастного содержания стихотворениями… помещена поэма под названием Гаврилияда, сочинение Пушкина», исполненная «ужасного нечестия и богохульства».
«И отвечал Господь Иову из бури и сказал: препояшь, как муж, чресла твои: Я буду спрашивать тебя, а ты отвечай Мне» (Иов 40, 1-2).
…Все в нем страшно онемело,
Опустились руки вниз…
(«Утопленник», кстати, и пишется как раз в это время.)
И начинается следственное дело о богохульстве семилетней давности.
Современники свидетельствуют, что Пушкин не любил, когда «Гавриилиаду» при нем вспоминали, тем более хвалили. Во время разбирательства стыд был сугубый.
Пришлось унизительно изворачиваться, трижды письменно лгать о своей непричастности к своей поэме (дважды — в официальных ответах следствию (А.С.Пушкин. Полн.собр.соч. в 10-ти тт., т.10, М.,1958, с.635,636. — В.Н.), один раз в письме к Вяземскому от 1 сентября, сваливая авторство — в ожидании перлюстрации письма — на покойного и не могущего защитить себя от клеветы Дм.Горчакова, — о чем мне напомнила как раз моя псковская гостья). Вряд ли был в его жизни момент большего в собственных глазах позора. И это было величайшее благодеяние.
Несмотря на отпирательства, от него не отставали, ему не верили. В конце концов он написал лично царю — ему признаваться было не так унизительно: то был царь (См.:В.П.Гурьянов. Письмо Пушкина о «Гавриилиаде». — «Пушкин. Исследования и материалы»,т.VIII,Л.,1978. — В.Н.). Царь его простил и никому ничего не сказал. «Дело это мне подробно известно и совершенно кончено» — так завершил он следствие.
Дело было кончено — но не для автора. Момент и обстоятельства встречи с кощунственной выходкой молодости не могли быть расценены автором стихотворения «Дар напрасный, дар случайный» как чистая случайность: на «странные сближения» слух у него был безукоризненный, «случай» же, как он скажет позже, есть «мощное, мгновенное орудие провидения» (XI,127).
Как бы то ни было, к периоду следственного дела о «Гавриилиаде» относится (конец августа — первая половина октября) работа над вещью, связанной неразрывно как с «Даром…», так и с «Пророком», — и может быть, столь же этапной, как «Пророк».
- «Анчар»
В традиционном представлении «Анчар» — художественно-философский образ мирового зла, столь же впечатляющий и зловещий, сколь и отвлеченный, то есть нечто такое, чего у Пушкина никогда не бывало, тем более в лирике. В качестве стихотворения лирического «Анчар», насколько помнится, не рассматривался никогда. Думается, это просто потому, что лиризм здесь слишком глубокого свойства; единственное свидетельство лиризма, и весьма откровенное — об этом речь впереди, — автором из белового текста убрано.
Начнем издалека. Со стихотворения (1829), которое, как потом увидим, не могло бы появиться, не будь «Анчара», и принадлежащее уже Пушкину позднему.
Кавказ подо мною.
Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины.
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
Далее предстает — с невероятной высоты (когда орел, даже «поднявшись» с вершины, все равно лишь «со мной наравне») — картина мира, предстает в вертикальном, так сказать, разрезе. Это само по себе необычайно важно для понимания позднего Пушкина, но сейчас главное другое. Исходное положение стихотворения — одиночество героя, одиночество надмирное, планетарного масштаба, и без малейшего призвука романтизма (ср. сходную, но явно романтическую, «мизансцену» в «Кавказском пленнике»). И вот, это величественное одиночество повторяет (не семантически, а структурно) ситуацию «Анчара»:
В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит — один во всей вселенной.
Проведенная параллель преследует сейчас лишь одну цель. Тема, одиночества у Пушкина, разумеется, не нова — в частности, в лирике последних лет, тех, о которых здесь идет речь. От одиночества страдал герой «Безверия» (1817), который «видит с ужасом, что в свете он один, И мощная к нему рука с дарами мира Не простирается из-за пределов мира»; в «Пророке» герой тоже одинок — но рука из-за пределов мира к ; нему простирается; в «Воспоминании» — муки нового одиночества, но- более жестокого и принятого сознательно, ибо исключающего просьбу , о помощи; наконец, автор стихотворения «Дар напрасный, дар случайный» одинок окончательно и почти агрессивно перед лицом «враждебной власти», «воззвавшей» его к бессмысленному существованию.
Разные степени одиночества объединены — до «Анчара» — общей чертой: страдательностью. Одиночество — причина страданий.
В «Анчаре» главный «персонаж» неслыханно одинок: он «один во всей вселенной». Но это одиночество не страждущего, а причиняющего страдания; не претерпевающего зло, а источника зла. Это у Пушкина впервые. Пушкин впервые от переживания одиночества обращается к метафизике одиночества, к онтологии одиночества — не пропущенной через человеческое переживание. Оттого и появляется древо.
Было, однако, стихотворение, где, при очевиднейших поводах к самому мучительному переживанию героя, описания страданий нет ни в одной строке — есть «только факты»: «вырвал… язык», «грудь рассек мечом…» и т.д. В «Пророке» — сплошная метафизика, а ее переживание, душу сотрясающее, автор целиком передает нам. Так же передается одиночество в «Анчаре» — только еще более глубинно, с меньшим участием наших столь трепетных эмоций. Можно сказать: здесь переживает более наш дух, чем душа.
Теперь пора сопоставить «Анчар» с «Пророком».
Перекличка начинается с первых же строк: «В пустыне мрачной…» — «В пустыне чахлой и скупой».
Дальше: «Духовной жаждою томим» — «Природа жаждущих степей».
Томимый духовной жаждою герой влачится в мрачной пустыне. Порожденное природой жаждущих степей древо яда стоит в чахлой и скупой пустыне.
Жажда духа вызывает явление серафима; жажда естества, «природы» — явление древа смерти.
Подробному описанию в «Пророке» сверхъестественного преображения плоти героя, сходного с умерщвлением, соответствует подробное описание «естественной» смертоносности анчара.
В результате преображения плоти герой «Пророка» с трепетом внимает, сразу и вдруг, все мироздание. Результат действия анчара — трепет всей живой плоти, всего мироздания перед источником зла.
«Бога глас» оживляет лежащего «как труп» героя и дает ему новую жизнь. «Властный взгляд» князя дает повеление, обрекающее живого человека стать трупом.
Бог посылает к человеку шестикрылого серафима — князь посылает к анчару раба. Шестикрылый серафим вырывает язык героя, извлекает трепетное сердце — раб извлекает из анчара отраву.
Герой «Пророка» по велению Бога должен двинуться из пустыни к людям, нести им глагол правды, — «бедный раб» по велению «непобедимого владыки» несет из пустыни предназначенную для «соседей» смертную смолу.
Посылая героя обходить «моря и земли», Бог велит ему исполниться Его волей; «владыка» рассылает в «чуждые пределы» стрелы, напитанные отравой.
Соответствия многочисленны, очевидны и имеют сквозной характер. В то же время некоторые из них — смещенные и как бы перепутанные. С героем «Пророка» соотносится то анчар, стоящий в пустыне, то раб, несущий вместо жгучего глагола смертную смолу, то опять анчар, из которого не сердце извлекается, а яд, то стрелы, рассылаемые владыкой. Раб соотносится то с серафимом, посланцем Бога, то с героем «Пророка», то с теми же стрелами. Князь — то с Богом, то с распространяющим смерть анчаром. Линии то совпадают, то пересекаются: «образ входит в образ» и «предмет сечет предмет» (Пастернак), причем блуждание соответствий происходит и внутри «Анчара». Бедный раб дублирует облик древа смерти: у того с ветвей «ядовит, стекает дождь», «Яд каплет сквозь его кору, к полудню растопясь от зною», — у этого, вернувшегося «к утру», «пот по бледному челу Струился хладными ручьями». Но и господин похож на анчар: принеся смертную смолу, раб умирает у ног князя, князь ядом напитывает стрелы — и отрава словно повторяет свой путь от корней — ног — к ветвям — стрелам.
Одним словом, отношения между «Пророком» и «Анчаром» построены как отношения двух разных миров, из которых второй представляет собой сдвинутое, смещенное, смятое подобие первого.
Это прослеживается и в соотношении фабул. В «Пророке» фабула имеет вектор и развивается по восходящей: от «влачился» — к «Восстань…», от «духовной жажды» к пророческому дару, от томления к призванию. Собственно, вся фабула есть единое действие Бога, в котором каждая ступень выше предыдущей, а все завершается открытым финалом, устремляющим к высокой цели.
В «Анчаре» фабула замкнута. Финал — напитанные ядом стрелы — смыкается с началом — напоенными ядом ветвями и корнями; действие князя есть повторение действия «природы», напоившей древо ядом: движение по кругу. Единое действие Бога расщепляется на одинаковые действия «природы» и «человека». «Природа» и «человек» делят между собой функции Бога.
Отсюда и различие двух миров. Если в «Пророке» основное измерение — вертикальное (Бог — серафим — «я»), если мир «Пророка» сферичен, объемен («я» — центр сотворенной вселенной, а вокруг все на своих местах: горнее и дольнее, физическое и метафизическое, «гады морские» — «ангелы», «подводный ход» — «горний… полет», и т.д.), то в «Анчаре» все горизонтально. Вертикали — лишь чисто физические: анчар стоит в плоской пустыне, по нему стекает ядовитый дождь; вверху — «туча», но ее движение горизонтально, как и у «вихря черного»: одна «блуждает», другой «бежит» и «мчится». Все расположено на плоскости: древо смерти, непобедимый владыка и совершающий путь между ними раб. Иерархической разницы нет: древо и князь совершенно сходны по функции: оба сеют смерть. Иерархии нет нигде, это подчеркнуто: «Но человека человек…» — зато есть земная субординация, ознаменованная физической вертикалью: «бедный раб» умирает «у ног Непобедимого владыки» (пародия на: «Как труп… я лежал, И Бога глас ко мне воззвал: Восстань…»).
В «Пророке» то, что похоже на убийство, приводит к новой жизни и на «восстающего» возлагается послушание (не случайно в «Памятнике»: «Веленью Божию… будь послушна») — фабула «Пророка» вертикальна. В «Анчаре» она сплюснута в горизонтальную: убийственное поручение («послушно в путь потек») приводит к новой смерти, и только смерти, и ценой гибели одного смерть («послушливые стрелы») распространяется дальше.
«Пророк» — это фабула жизни, отсюда его открытый финал. Фабула «Анчара» замкнута, это фабула смерти. Объемный, иерархически устроенный мир «Пророка» спроецирован в «Анчаре» на плоскость, образуя на ней порочный круг. Метафизические координаты сменяются физическими, верх и низ совмещаются, все оказывается «рядом», сдвигается, перемешивается, пересекается. «Анчар» — это плоский, лежащий мир, поистине воплощенная формула Иоанна Богослова «весь мир лежит во зле» (1Ин.5,19). Другой образ такого мира — у того же апостола, в Апокалипсисе, где мы встречаем мотивы, ставшие у Пушкина в стихах этого времени («Какая ночь!..», «Воспоминание») центральными, и где словно бы предуказан даже способ изображения Пушкиным такого мира: «…и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним… И звезды небесные пали на землю… И небо скрылось, свившись как свиток, и всякая гора и остров сдвинулись с мест своих…» (Откр.6,8,13-14). Мир «Анчара» — сдвинутый, скрученный, сплющенный мир «Пророка», мир готовый к гибели, чреватый смертью.
Ключевое слово «Пророка» — Бог, оно звучит в его конце. Ключевое слово «Анчара» звучит в начале: «природа». Мир «Анчара» написан как мир сплошной «природы», где Богу места не оставлено.
В «Пророке» то, чего человек не может сделать сам, делает Бог, и в этом — движение и жизнь. В «Анчаре» князь может делать то же, что делает «природа»; дерево и человек — одинаково «природные» явления («Так деревцо свои листы Меняет с каждою весною», — объясняет Онегин Татьяне природу ее любви в главе IV. — В.Н.), имеющие одинаковую функцию — сеять смерть. Смерть есть конечное свойство «природы», тогда как свойство Бога — жизнь. Бытие в «Анчаре» лишено божественности, а значит, лишено для человека и жизни. Мир сплошной «природы» есть мир смерти: где нет места Богу, нет его и человеку. Жизнь человека в таком мире — недоразумение, поистине
Дар напрасный, дар случайный…»
Так обнаруживается в «Анчаре» лиризм — эхо стихотворения о даре напрасном, которое было отречением от «Пророка», опровержением «Пророка», бегством от него.
«Анчар» — отповедь автора «Пророка» автору стихотворения «Дар напрасный, дар случайный».
— Вот (гласит эта отповедь), вот, я показываю тебе мир, из которого возникают такие стихи, как твой «Дар напрасный…»: это мир сплошной смерти, сплошного зла, и ты сам — гражданин этого мира Если бы из стихотворения о даре мог возникнуть реальный мир, он, был бы таков, как в «Анчаре»; ты стал бы демиургом мира, недостойного существовать, пародии на мир Божий. Пусть этого не случилось, пусть стихи о даре напрасном остались стихами — но в них ты признал, что «правды нет — и выше», что нет ничего кроме неправды, кроме «враждебной власти». И, значит, вы, «мира-то Божьего» не приемлющие, — мир зла принимаете, и принимаете по своей воле. Ты принял мировое зло как последнюю истину, неправду принял как правду. Тем самым ты стал соучастником в торжестве мировой неправды и пособником враждебной власти зла. Благодаря таким, как ты, мир, изображенный в «Анчаре», существует реально. Ибо взгляд на жизнь как на дар напрасный и случайный, на мир как на сплошное зло — сам есть зло, есть кощунство, умножающее зло в мире. Тебе не на кого пенять, анчар — в твоей душе.
Таков ответ. Вспомним разъяснения, которые Мефистофель дает Фаусту относительно природы его увлечения Гретхен; там такой же диалог с собой. «Анчар» — лирика в той же мере, как и «Сцена из Фауста». И метаморфозы, что претерпевает в «Анчаре» созданная в «Пророке» картина мира — когда с героем «Пророка» соотносится то анчар, то раб, то стрелы, а то и князь, эти стрелы рассылающий (слово поэта не раз уподоблено у Пушкина стреле), — эти метаморфозы имеют лирическую природу: и древо яда, и князь, и раб, и стрелы — все это не что иное, как смятые, изувеченные осколки авторского «я» «Пророка». В «Анчаре» «я» «Пророка» размножилось, раздробилось, исчезло — ибо в мире вне Бога не может быть никакого «я».
Обращусь теперь к тому авторскому свидетельству о лиризме «Анчара», которое упоминалось выше. В рукописи стихотворения имеется английский эпиграф — цитата из Кольриджа. Он гласит:
«Это — ядовитое дерево, которое, будучи пронзено до сердцевины, плачет только ядовитыми слезами».
При публикации эпиграф снят. Почти наверняка — снят (говоря словами автора) «по причинам, важным для него, а не для публики» («Отрывки из Путешествия Онегина». — В.Н.). Снят потому, что явственным образом интимен, пожалуй даже исповедален. Название произведения Кольриджа не указывается, а оно важно. Это — трагедия, она называется «Remorse», то есть «Раскаяние», а лучше — «Угрызения совести». У автора «Анчара» есть стихотворение, которое могло бы называться в точности так же, если бы не называлось «Воспоминание». Эпиграф может служить метафорой того состояния души, какое и дано в «Воспоминании»: душа поистине «пронзена до сердцевины», в ней «горят… Змеи сердечной угрызенья» (мотив яда), есть и «слезы», которые, при том безысходном самоистязании, каким является в этих стихах раскаяние, впору и ядовитыми назвать; а последовавший за «Воспоминанием» «Дар напрасный…» — что это как не ядовитая слеза?
Основа сюжета трагедии Кольриджа — отношения двух братьев (за помощь в части работы, относящейся к трагедии Кольриджа, выражаю сердечную признательность Н.В.Перцову и М.М.Кореневой. — В.Н.). Действие (оно относится к эпохе после избавления Испании от владычества мавров начинается возвращением старшего, дон Альвара, из изгнания в родную Гранаду (любопытно: мавры, Испания, Гранада — все это имеет отношение — через Новеллу В. Ирвинга — к «Сказке о золотом петушке», по пафосу близкой к «Анчару». — В.Н.). Младший брат, Ордонио, злоумышлял против старшего, но дон Альвар, вернувшись, не хочет творить возмездие, которого требует его преданный оруженосец. Помни, говорит дон Альвар, я его брат, поистине глубоко оскорбленный, но все же брат! — Да ведь это, отвечает оруженосец, делает его вину еще чернее! — Тем нужнее, возражает дон Альвар, чтобы я разбудил в нем угрызения совести. — Угрызения совести, говорит слуга, таковы, каково сердце, в котором они пробуждаются. Если оно мягко, то способно к истинному раскаянию, но если оно гордо и мрачно, то это — ядовитое дерево, которое, будучи пронзено до сердцевины, плачет только ядовитыми слезами!
Поставив последние слова в эпиграф, Пушкин тем самым уподобляет свой анчар сердцу «гордому и мрачному», раскаяние которого ядовито. Чье же это сердце? Странно было бы думать, что имеется в виду кто-то другой (ведь «Анчар» не эпиграмма!), а не сам автор жестокого, но безадресного раскаяния в «Воспоминании» и «гордого и мрачного» стихотворения о даре напрасном.
Если это так, то надо дополнить пересказ диалога. Дон Альвар не хочет карать брата, «не сделав никакой попытки спасти его… Вот эту самую жизнь, которую он замыслил отнять, он сам же однажды спас от свирепого потопа…». Теперь, говорит дон Альвар, «я должен спасти его от него самого».
Спасти от него самого… Вот, кажется, ключевой мотив. Не являют ли — для Пушкина — отношения двух братьев подобия отношений поэта с самим собой? Не «злоумышлял» ли автор «Воспоминания» против автора «Пророка», не умыслил ли «отнять жизнь» у него в стихах, где жизнь названа даром напрасным? И не спасение ли от себя самого — цель диалога автора «Пророка» с автором «Воспоминания» и «Дара…» в стихотворении «Анчар»? [думается, исследователь темы «Пушкин и «Remorse» Кольриджа» найдет в английской трагедии — сверх темы спасения от бури («Арион») и возвращения из изгнания — немало созвучий внутренним коллизиям поэта, могущих дополнить или скорректировать излагаемое. Что до меня, то одно из подобных созвучий приходит в голову немедленно. Возвращение на родину, в Испанию, вместе с верным слугой, из изгнания — это ведь первая сцена «Каменного гостя», который будет написан два года спустя и представляет собою самую «лирическую», по справедливому мнению А. Ахматовой, из «маленьких трагедий». Вот только героя зовут не дон Альвар — это имя присвоено Командору (который в двух главных для поэта «Дон Жуанах» — Тирсо де Молина и Мольера — имени вовсе не имел). — В.Н.].
Я отдаю себе отчет в жесткости сопоставления, но что делать? Мысль изреченная — известно что (для поэта особенно), но без нее бедный наш разум обойтись не может. И разве вся поэзия Пушкина — от лицейских «Желания» и «Мечтателю», от двух посланий к Чаадаеву, «Под небом голубым…» и «Заклинания», и т. д. до «Онегина», где одна ипостась авторской души убивает другую, читает мораль третьей в ответ на ее письмо, а затем сама выслушивает ее отповедь, и пр. и пр., — разве это не беспрестанный диалог с самим собой, как в той же «Сцене из Фауста»? (Да и в «Каменном госте» не случайно Командор назван дон Альваром. В ситуации Кольриджа Пушкин «делит» себя между дон Альваром и его братом, а в «Каменном госте» — не исключено — между дон Гуаном и Командором дон Альваром. — В.Н.).
Сознаю и то, что соблазняю некоторых оглянуться на ветхую концепцию «двух Пушкиных» — от которой открещиваюсь сейчас же: это — детище позитивизма, который не знает иного измерения кроме горизонтального, иного подхода кроме количественного, у которого двоится в глазах от созерцания качественного различия между душой и духом, между обладателем гения и самим, Богом данным, гением, от ощущения их разноприродности, этой квадратуры круга, в которой не «двойственность», а единство — дорого стоящее носителю гения, но только и могущее излучать свет из самой порой безнадежной, казалось бы, темноты, давая нам отдаленное подобие того «сверхъестественного сияния Божественного Мрака», в который облечена Истина (Послание к Тимофею святого Дионисия Ареопагита. — Мистическое богословие. Киев, 1991, с. 5. — В.Н.).
«Анчар», где явлен мир без Бога, — несомненно своего рода художественная теодицея апофатического характера (оправдание и прославление Бога, опирающееся на отрицательные суждения), то есть высказывание, содержание которого предельно сверхлично. Вместе с тем содержание это прожито самым непосредственным, кроваво личным образом, предвозвещенным в «Пророке»; оно лирично. Дерзну назвать «Анчар» лирическим богословствованием. Это новое, после «Пророка», капитальное событие в духовной жизни и лирике Пушкина. «Дар напрасный…» — это «Как труп в пустыне я лежал»; «Анчар» — это «Восстань… Глаголом жги…»
«Пророк» был чистым наитием божественного гения, которое автору пришлось постигать, грубо говоря, на своей шкуре. В «Пророке» пушкинский гений слишком опередил своего обладателя. В «Анчаре» поэт осознает качественное различие между собою самим и своим гением — и тем самым сокращает это различие; в «Анчаре» душа на деле стремится догнать дух; это делается не только по наитию, но и собственным духовным усилием: работой не только художественной интуиции, но и человеческой совести и разума. Оттого в «Анчаре» нет трепетной импульсивности, характерной для чистой лирики; это жесткое стихотворение, поистине модель мира, выстроенная с инженерной точностью, потому и неявен лиризм: кровавый личный опыт скрыт, как скрыт в здании труд и пот каменотеса; лирический эпиграф убран.
Эта модель мира осознанно нова. В «Анчаре» прямо назван начальный и одновременно центральный момент трагической истории всего человечества — увиденный теперь и как факт личной биографии.
Мы поймем это, сопоставив вторые строфы двух стихотворений: «Дар напрасный…» и «Анчар»:
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?
Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила
И зелень мертвую ветвей
И корни ядом напоила.
Вопрос — ответ (почти полный синтаксический параллелизм). Но ответ — не только ответ. В нем еще и оценка вопроса, который сам по себе кощунствен, ибо порожден логикой падшего мира. В ответ на обвинение «власти» во враждебности — напоминание о «дне гнева».
Эти слова обычно означают конец времен, Страшный суд (см. в Апокалипсисе ту же главу, где «конь бледный» и небо, свернувшееся «как свиток» — В.Н.). Но здесь имеется в виду не будущее, а прошлое, не конец, а начало времен — тот день, когда возникло древо яда: день, когда была преступлена первая по времени заповедь, когда вместо Бога послушали сатану («будете, как боги» — Быт. 3, 5; ср. пародирование Бога князем в Анчаре»), вместо Отца вняли «природе» («И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно» — Быт.3,6; ср.: «Природа жаждущих степей») — и так возник падший мир, покорный власти «природы», лежащий во зле, сплющенный и изуродованный настолько, что благая воля Творца может быть в нем представлена и осмыслена как «враждебная власть».
В «Анчаре» посреди этого мира растет «древо смерти», наоборотное отражение «древа жизни», растущего посреди Эдема. «Древо яда», — поясняет Пушкин название стихотворения в публикации «Северных Цветов» — как будто все не ясно из самого контекста. Но он делает это, открыто рифмуя «Анчар» с библейским рассказом о грехопадении.
Этот мотив уже мелькал: в черновом продолжении «Воспоминания» был ведь «пламенный меч» из того же библейского рассказа, преграждающий путь к «древу жизни». Но это был лишь мотив, и он скорее служил замыслу, чем строил его. В «Анчаре» событие грехопадения впервые становится в центре, играя, осмелюсь сказать, методологическую роль. Эта тема строит новый взгляд Пушкина на окружающий мир и на себя: картина мира строится в свете события грехопадения. Раньше у Пушкина такого не было, «Анчар» начинает новый этап.
Однако вряд ли автор «Анчара» забыл, что в самый первый раз о грехопадении у него было рассказано в центральном эпизоде кощунственной поэмы молодости, рассказано бесом, и притом в самых привлекательных красках; рассказано так, что Творец представлен не чем иным, как «враждебной властью».
Теперь два упоминания о дне гнева встретились. Один из черновых вариантов «Анчара» записан прямо на листке с черновиком официальных показаний Пушкина по делу о «Гавриилиаде» (август) [см. статью В.Б.Сандомирской в кн.: «Пушкин. Исследования и материалы», т.X,Л.,1982, с.244 — В.Н.]. Перебеленный автограф «Анчара» датирован автором 9 ноября 1828 года — месяц с лишним с тех пор, как было написано письмо с признанием в авторстве «Гавриилиады».
(Через какие-то недели он впервые видит женщину, о которой, оказывается, и шла речь когда-то в ерническом, но одновременно и молитвенном, финале «Гавриилиады»:
И важный брак с любезною женою
Пред алтарем меня соединит.
Поистине — дар и жизнь составляют одно пространство.)
…Но что такое «ветвь с увядшими листами», которую принес бедный раб вместе со «смертною смолой»? (О эти клейкие листочки!..) Ветвь в руках — символ примирения и добра, призыв к миру и милосердию, напоминание о человечности человека. Что значит «с увядшими листами»? Мертвая, не годная быть таким символом? Или — уже не ядовитая?
А родной брат этой ветви — да и клейких листочков тоже — «Цветок засохший, безуханный» (ведь он пишется одновременно с «Анчаром»)?
Что это — жалость к эфемерному, исчезающему навсегда, безвозвратно? «И жив ли тот, и та жива ли?»; «Или, не радуясь возврату Погибших осенью листов, Мы помним горькую утрату, Внимая новый шум лесов?» (это из того самого места VII главы «Онегина», где ему тяжела «Весна, весна, пора любви»)…
Или напротив: такая щемящая нежность к отцветшему и уходящему, к живущим и отжившим — бессмертья, может быть, залог? Может быть, эфемерность и единственность «того» и «той» — это и есть доступное нам выражение их вечности? Ведь в этих стихах, в их нежности и любви, они, «тот» и «та», такие эфемерные, так живы — неужели у Бога они мертвы? Не может быть.
- Поздний Пушкин
Начало самостоятельного творческого пути его я отношу к 1816 году («Желание»). Стало быть, весь путь — двадцать лет.
В самой сердцевине этого срока и находится двухлетний период (осень 1826 — осень 1828) описываемого духовного кризиса: «Пророк» — «Воспоминание» и «Дар напрасный…» — «Анчар». В этом кризисе родился поздний Пушкин.
Одна из главных черт этого поэта — эсхатологический элемент. Не прямо, не тематически, а — тонально, в настрое, в угле зрения. Проявляется некая суровая трезвость во взгляде на мир и на себя («спокоен и угрюм»). Порой какая-то даже холодноватая созерцательность, «изучающая» отстраненность: ну-ка, мол, посмотрим, где это я…
Кавказ подо мною. Один в вышине…
[Покойный Кайсын Кулиев, смеясь, говорил: горцы обижаются на эту строку. А для Пушкина Кавказ был первой ступенькой в монотеизм («Подражания Корану»). — В.Н.]
Вертикальный, как уже было сказано, разрез мира; почти космический масштаб: люди «гнездятся», овцы «ползают». Все — в порядке, все — устроено, все — на своих местах; только вот в самой бездне, в «ущелье», — Терек играет, как зверь, хаос шевелится «в клетке железной» всего этого порядка и устройства: антипод и антитеза «неба содроганью» в «Пророке»; и в этом тоже — свой порядок…
«Обвал» — тоже картина мира, но — в динамике и звуке. Порядок на мгновение нарушается, становится как будто легче и удобнее для тех, кто «гнездится» и «ползает»:
И путь по нем широкий шел,
И конь скакал, и влекся вол,
И своего верблюда вел
Степной купец… —
но через мгновение же все становится как было, как изначала устроено:
Где ныне мчится лишь Эол,
Небес жилец.
Везде — дух орлиной высоты, взгляд гостя, у которого свои мерки, своя система отсчета, другой масштаб. «Делибаш»:
Посмотрите! каковы?
Делибаш уже на пике,
А казак без головы.
Мол, ведь я же вам говорил: не надо! — как о бессмысленной, хоть и азартно наблюдаемой, детской возне. Это словно обо всех нас, от Адама, и во всей трагикомической бренности.
И наконец, «Монастырь на Казбеке» с его бегством из «ущелья» в «соседство Бога», с необъявленной (хотя, впрочем, упомянут «ковчег») темой спасения от потопа — о чем шла речь в самом начале этих заметок.
Здесь же — «прощальная» тематика: и «Брожу ли я…», и переводы из Соути: «Медок» (где возвращение домой настойчиво видится в плане «Мы близимся к началу своему», в плане заката) и набросок «Еще одной высокой важной песни» (где он собирается «повесить» «смолкнувшую лиру» — ср. «Еще одно, последнее сказанье» Пимена, собирающего «погасить лампаду»), а также «Родрик» с его темой спасения души, отказа от мира и с примыкающим загадочным «Чудный сон мне Бог послал», с чисто евангельской трактовкой смерти. И «Чем чаще празднует Лицей» («И мнится, очередь за мной…»), и «мой закат печальный» (ср. в «Медоке» — «Садится солнце»). Все эти предчувствия надо осмыслить не просто в привычном биографически-психологическом плане: все это личный обертон общего эсхатологического мотива, мотива конечности земного бытия как такового. Он звучит все сильнее: в сказках о рыбаке и рыбке и о золотом петушке, в «Страннике», в «Анджело», в «Медном всаднике» наконец.
Что до «Медного всадника», который уже, кажется, растворился, расточился в интерпретациях социального, политического, исторического, психологического и пр. рода, то, думаю, его нерастворимого ядра — или, может быть, точнее, зерна, откуда поэма растет, в котором ее онтология, — не увидеть без того же «Анчара». Начать хоть с начала:
В пустыне чахлой и скупой
…..
Анчар, как грозный часовой,
Стоит — один….. На берегу пустынных волн
Стоял он…
«Отсель грозить мы будем…»
«Стоял он…» — то есть «непобедимый владыка»; а кто же еще? Дальше:
Природа жаждущих
степей
Его в день гнева породила…
К соседям в чуждые пределы. «…Природой здесь нам
суждено…»
Отсель грозить…
Назло надменному соседу.
С горизонтальным «порядком» лежащего мира соотносится роскошный порядок земного града, который «пышно, горделиво» «вознесся»: творение «непобедимого владыки», который всего лишь продолжает природу (ср. «Анчар»), делая одно с ней дело («Природой… суждено»), однако претендует быть подобием Творца, то есть «с Божией стихией… совладеть», подчинив ее себе.
Можно, вероятно, продолжать и дальше по деталям и частностям, но лучше сразу обратиться к зерну.
Прояснились
В нем страшно мысли. Он узнал
И место, где потоп играл….
…..
и того,
Кто неподвижно возвышался
Во мраке медною главой,
Того, чьей волей роковой
Под морем город основался…
Город основался под морем? Но ведь:
«Господня земля, и исполнение ея, вселенная и вси живущий на ней. Той на морях основал ю есть и на реках уготовал ю есть» (Пс.23,1-2), — а не под морем!
«Кто взыдет на гору Господню? Или кто станет на месте святем Его? Неповинен руками и чист сердцем… Сей приимет благословение от Господа и милость от Бога, Спаса своего» (там же, 3-4).
И прямо в темной вышине
Над огражденною скалою
Кумир с простертою рукою
Сидел на бронзовом коне.
Человек, руководимый лишь «природой», взошел на гору Господню и стал на святом месте Его, чтобы тою же «природой» повелевать. «Медный всадник» — это мир «Анчара», явленный в действительности: мир, где все наоборот.
И получается как в «Обвале»: сначала все изумительно — и «юный град», и «со всех концов земли», одним словом: «И путь по нем широкий шел…», — но потом… Потом — то, что написал когда-то один лицеист — в шутку:
Ведь в мрачный ад дорога широка.
(«Монах», 1813)
«И вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним» (Откр.6,8):
И озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется всадник медный
На звонко скачущем коне.
Думал ли он о чем-либо подобном, когда в письме к А.И.Тургеневу (7 мая 1821, Кишинев) назвал, шутник, «сочинением во вкусе Апокалипсиса» свою «Гавриилиаду»? Уж верно нет. Но был ли бы «Медный всадник» без «Гавриилиады»? — вот вопрос. Во всяком случае, убежден, что «Медного всадника», как и всего того, что мы называем «поздний Пушкин», не было бы без «Анчара», созданного тогда, когда шло дело о кощунственной юношеской поэме, когда прозвучал нему голос «из бури» (Иов40,1).
Создав «Анчар», он, в сущности, был уже готов к тому диалогу, который предстоял ему спустя год с лишним, когда ему ответили — уже не из бури.
- Филарет
Когда в январе 1830 года Е.М. Хитрово известила Пушкина о том, что «Дар напрасный, дар случайный» («Северные цветы» на 1830 год) прочел и отвечает ему стихами митрополит Московский, он, по-видимому, растерялся; это видно из его развязного, почти наглого ответа (см. «Христианство Пушкина: проблема и легенды», ч.2: «Легенды» — В.Н.). Последнее время все его учат, все указывают ему, что можно и чего нельзя, он уже получил целый ряд выговоров от начальства — и вот заранее ощетинивается; но из бравады, с ее шутовским самоуничижением («скептические куплеты»), как раз и выглядывает растерянность: что он там написал?
Положение и впрямь было опасное и, что того хуже, неловкое: человек, который мог при желании стереть его в порошок за новое (вспомним, что письмо о «Гавриилиаде» лежит у царя) богохульство (Булгарин уже успел где-то вякнуть на эту тему), первоиерарх Русской Церкви, рангом равный, по существу, местоблюстителю Патриарха (при отсутствии патриаршества, уничтоженного Петром) и обладающий соответственным непререкаемым авторитетом, — этот человек величественно снисходит к нему со стихотворением! К чему бы это? и что там, в этих стихах? и — что немаловажно — каковы сами стихи, в ответ на которые нужно будет непременно как-то поступить?
Через какие-то дни он эти стихи получил — не знаем, как это было, — и прочел:
Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана.
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.
Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.
Вспомнись мне,
Забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум, —
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светел ум.
[«Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей» (Пс.50,12) — В.Н.].
Мне почему-то кажется, что первым делом он испытал облегчение: стихи были хорошие. Не шедевр — но отнюдь не благочестивая графомания. Более того: они были искусны и в каком-то смысле остроумны. Наследуя традицию древней церковной учености (в которую входила и версификация), автор умело воспроизвел структуру, лексику и рифмовку стихотворения «Дар напрасный, дар случайный», но сменил его смысловую ось; а в конце напомнил своему адресату тот самый, Покаянный, псалом, противостояние которому было неявной осью «Воспоминания» — этого пролога к стихам о даре (хотя знал ли Филарет «Воспоминание», читал ли?). В «Воспоминании» был сдвинут с места и перевернут на голову псалом пророка Давида, в стихах о даре то же было сделано с «Пророком» Пушкина; автор ответа разом, властно и простодушно, перевернул и поставил на место и то и другое («Стихи хорошие, крепкие», — сказал мне когда-то поэт Борис Слуцкий. — В.Н.).
Само содержание ответа вряд ли было открытием для Пушкина: все, что было в нем сказано, он мог сказать, да собственно уже и сказал, себе сам — больше года назад был написан (еще не напечатан) «Анчар», месяц назад — «Монастырь на Казбеке». Но ведь именно так и звучал ответ — как ответ поэта себе самому, а не поучение со стороны! Словно автор в душу ему заглянул.
Тут и было, думаю, потрясение: прозорливостью и тактом. Вообще — поступком. Когда в своем ответе «В часы забав иль праздной скуки» он говорит про «потоки слез нежданных», здесь нет лукавства. Судя по цитированной записке Елизавете Михайловне, такого он и в самом деле никак не ждал. Его не обвинили в богохульстве, как обвиняли Иова его друзья, ему не прочли нотацию, не сделали выговора — с ним поступили так, как поступил с Иовом Господь, со всею твердостью поставивший его на место — «Ты хочешь ниспровергнуть суд Мой, обвинить Меня, чтобы оправдать себя?» (Иов40,3), — но простивший и благословивший: ведь все свои речи Иов обращал прямо к Всевышнему, говорил с живым Богом; и за веру Бог оправдал его.
Подобие такого же прямого обращения к Богу и услышал в бунтарских, богохульных стихах о даре напрасном и «враждебной власти» автор ответа на них. Вера, по апостолу Павлу, есть «удостоверение в уповаемом и уверенность в невидимом» (Евр.11,1). «Уверенность в невидимом», как уже говорилось, у Пушкина была едва ли не отродясь — а вот с упованием бывает всегда труднее, оно требует духовных усилий. Не жажду ли такого усилия, не потребность ли в уповании, скрытую в парадоксальной, одиозной форме, прозрел в стихотворении Пушкина святитель Московский, выдающийся церковный деятель и христианский мыслитель, великий проповедник, «отец русского богословия» (В.Н.Лосский), а ныне иже во святых отец наш Филарет?
Ходили слухи, что он нравом крут и чуть ли не жесток, — впрочем, распространены они были более в светских кругах, чем в церковных, где без строгости и нельзя, — но вот свидетельство мирянина: «Как кротко выслушивал он мои мнимофилософские лжеубеждения! Как мирно возражал он на все нелепости, бережно прикасаясь к молодому самолюбию и осторожно умеряя во мне гордость безумия. Другие на его месте, изо ста 99, с гневом удалились бы от меня. Но он… вынес мой бред и терпеливо подламывал мало-помалу подпорки моего полудеизма, полуматериализма, фатализма и т.д.» (И.Корсунский. Черты из жития святого праведного Филарета Милостивого в жизни Филарета, митрополита Московского. Сергиев Посад, 1893, с.59. — В.Н.). Это относится как раз к концу 20-х годов.
Акт сострадания — вот, думаю, то главное, что на Пушкина, с его впечатлительностью, горячей отзывчивостью на малейшее участие, всякое доброе слово или движение души, должно было произвести глубочайшее впечатление в стихах и самом поступке Филарета. Его расслышали, верно поняли, ему протянули руку — и откуда! Верховный пастырь, без чьего благословения Синод не принимал ни одного важного решения (хотя Филарет покинул Синод), нелицеприятный к сильным мира, в том числе и к государю, внял его воплю о помощи, спустился со своей высоты, умалился до второстепенного стихотворца и приблизился к нему с увещеванием — понимая, по всей вероятности, что здесь случай непростой и человек непростой — избранный человек, нужный Богу, Отечеству и людям.
Стихи митрополита Московского были прочитаны Пушкиным в первой половине — середине января 1830 года. Ответ, «В часы забав иль праздной скуки», датирован 19 января. Здесь нет той дистанции времени, которая, как правило, нужна ему, особенно в серьезных случаях, чтобы воплощать переживаемое не в гуще его, а хотя бы на шаг отступя («Прошла любовь, явилась муза»). Это стихи, написанные врасплох. Советское — и либеральное — мнение о них кислое: они недостаточно для Пушкина хороши, в строках о «струне лукавой», о слезах и «ранах совести», о «чистом елее» и «священном ужасе», во всем слышат звон лукавой струны, принужденность, искусственность, не смущаясь тем, что в итоге выходит самый непотребный цинизм — не в стихах, а в поступке. Спорить не трудно, но бесполезно: все это и в самом деле можно прочесть — и даже неизбежно так прочтется — при одном простом условии: если не верить (в любом смысле этого слова или в обоих вместе).
В ином случае, то есть в случае веры, — стихи прекрасны каким-то «нежданным», как «слезы», юношески возвышенным простодушием, не успевшим спрятать себя (не случайна реминисценция юношеского «Безверия»: «И мощная к нему рука с дарами мира Не простирается из-за пределов мира» — «И ныне с высоты духовной Мне руку простираешь ты»); хороши даже и очевидной громоздкой неуклюжестью пассажа «Твоим огнем душа палима Отвергла мрак земных сует», в котором, как и в «арфе серафима», явственно прочитывается и язык, и возрожденный смысл «Пророка» с его пустыней мрачной и углем пылающим; ясно, что через Филарета ответ обращен дальше и выше: «Когда твой голос величавый Меня внезапно поражал» — о том же, о чем: «И Бога глас ко мне воззвал».
«Из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой» (Иона2,3).
Вообще с этим стихотворением неуютно тем, для кого поэзия Пушкина — лишь (или прежде всего) совершенное художество. Это стихотворение — прежде всего факт его жизни, а не художества. Верить же ему или не верить — это уже по части жизни нашей собственной.
Впрочем, в известной мере это относится и к большинству стихотворений, которые затронуты в этих заметках, особенно к основным, в том числе в первую очередь к «Пророку». Если не верить, что «Пророк» написан о себе, а не является лишь живописной картиной в библейском духе, — тогда все внутренние связи между стихами 1826-28 годов, показанные здесь, мною выдуманы.
Вскоре после окончания (октябрь 1928) дела о «Гавриилиаде» (написанной, кстати, Великим Постом 1821 года) и «Анчара», перебеленного 9 ноября 1828 года, он впервые видит Наталью Гончарову. Спустя неполных три месяца после ответа Филарету, весной 1830 года, Великим Постом (6 апреля), он получает согласие на брак с нею; помолвка совершается через месяц, 6 мая, на Пасху.
«…И знала рай в объятиях моих», — скажет Вальсингам о Матильде, глядящей на него с небес. Наталья Николаевна такого рая еще не знает. Тем не менее как раз об объятиях написано стихотворение, по общепринятой традиции относимое именно к ней: самое интимное, самое откровенное, едва ли не бесстыдное (во всяком случае, не менее в своем роде смелое, чем эротика «Гавриилиады»); стихотворение, являющееся в то же время последним эротическим и вообще любовным стихотворением Пушкина и датируемое во всех списках (автографа нет) 19 января, тем самым днем, каким датирован ответ Филарету.
- «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем»
«В сущности, перед нами подробнейшее, чисто физиологическое описание полового акта. А между тем читаешь — и изумляешься: «какое произошло волшебство, что грязное неприличие, голая физиология претворились в такую чистую, глубоко целомудренную красоту?» (В.Вересаев. В двух планах. Статьи о Пушкине. М.,1929,с.138. — В.Н.).
Оставим и грязь, и неприличие, и физиологию, и фразеологию доктору Вересаеву — точнее, медицинскому натурализму его зрения. Но вот что точно смущало людей, так это вопрос о годе: может быть, все-таки это не 1830? Ведь тогда в январе и о помолвке речи еще не было, и ничего такого между поэтом и предметом его страсти быть не могло. Если бы могло — тогда, прощай брак: тут Пушкин был человек серьезный. Тогда как же? Ведь стихи-то — вот они, в них все рассказано…
И вот в одном из списков год 1830 целомудренно заменен на 1831 (свадьба, однако, состоялась только в феврале 1831; была попытка — у П. Ефремова — датировать и 1832-м). В другом списке стихи адресуются «Прелестнице», еще в одном названы «Антологическим стихотворением». В иных — твердо: «Жене» (а она еще и не невеста, если это 1830).
Все это от привычки думать, что лирика Пушкина — «отражение» действительности: сначала было в «биографии», потом «отразилось» в поэзии («автобиографичность»).
Но ведь это заблуждение. Совершенно не обязательно, чтобы «было». «Во тьме твои глаза блистают предо мною» и прочее, создающее почти физическое ощущение присутствия возлюбленной, — на самом деле только плод воображения: «Ночь» (1823) — это стихи не о ночи любви, это стихи о том, как он ночью пишет стихи о любви, — и только. И вообще, у него есть прямая декларация, которую почему-то никто не воспринял всерьез:
Замечу кстати: все поэты —
Любви мечтательной друзья.
Бывало, милые предметы
Мне снились, и душа моя
Их образ тайный сохранила;
Их после муза оживила…
Это из первой главы «Онегина» (а курсив мой). Для того чтобы «милый предмет» был воплощен в стихах, ему вовсе не обязательно наличествовать в действительности, он может быть поэтом воображен, музой «оживлен» — и так начать существовать, а нам кажется, что он есть на самом деле; здесь, думаю, природа мифа об «утаенной любви».
То же можно сказать и об акте любви: он может быть воплощен в стихах, не имев места в действительности. Ничего странного в этом нет, дело обычное; просто у непоэтов это бывает не в стихах.
Пушкину, поэту, тут на память может прийти Пигмалион: вообразил (изобразил) — полюбил — оживил. Он и припоминается автору «Онегина» и его музе, когда они сочиняют IV главу романа (строфы о женщинах, в окончательный текст не вошедшие):
Все в ней алкало слез и стона,
Питалось кровию моей…
То вдруг я мрамор видел в ней
Перед мольбой Пигмалиона
Еще холодный и немой,
Но вскоре жаркий и живой.
Прямое предвосхищение «Нет, я не дорожу…».
Здесь — «вамп», а там будет «змия»; здесь — «Перед мольбой Пигмалиона» — там «…склоняяся на долгие моленья»; здесь «мрамор… холодный и немой», там «стыдливо-холодна… Едва ответствуешь…»; здесь — «вскоре жаркий и живой», там «И оживляешься…».
Предвосхищение — не только исчерпывающее, но и объясняющее: акт любви — не всякой, а такой и своей — приравнивается Пушкиным к акту творчества; «я» — художник, любовью оживляющий холодную статую. «Смиренница» здесь — нечто вроде белого листа бумаги.
(Между прочим, Пушкин, более чем в полтора раза старший Наташи Гончаровой, будет относиться к ней, уже жене, если и не совсем как к белому листу, то во всяком случае как к существу, которое надо еще воспитать, создать как женщину и личность.)
Сверх этого, рельефно выступает одна из магистральных пушкинских тем глубокого метафизического значения: оппозиция двух типов женщин — страстного (Зарема) и кроткого (Мария). Впрочем, не только женщин: демонического и ангельского начал в человеке.
Или вот еще сопоставление:
Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем,
Восторгом чувственным, безумством, исступленьем…
«Нет; решительно нет: восторг исключает спокойствие, необходимое условие прекрасного» («Возражение на статьи Кюхельбекера в «Мнемозине»), — отвечает он «критику», который «смешивает вдохновение с восторгом». Как вдохновение предпочитается им восторгу, так «смиренница» для него «милее» «вакханки».
Значит, «эротика», сама по себе, — вовсе не главное в этих стихах; и для их появления совершенно не обязательно было наличие житейского основания; «теория отражения» искусством «действительности» (случилось в жизни — «отразилось» в искусстве) применительно к Пушкину не очень-то работает. Его стихи не «отражают», даже и не «выражают» жизнь — даже и духовную, — а образуют и строят ее. И что «первичнее» здесь: фактическая материя внешней жизни или дух жизни внутренней, — это еще вопрос; да и вопрос ли?
Так что можно не сомневаться: «Нет, я не дорожу…» написано 19 января 1830 года, когда между ними ничего еще не могло быть. Просто он увидел или угадал в ней вот эту «смиренницу» — и запечатлел угадку в стихах. В его выборе это был очень важный момент. Он увидел в этой девочке ту ипостась своей многоликой музы, которая стала ему, в пору его зрелости, дороже и милее всего. Ведь в этом же году он пишет восьмую главу романа, где музу юности, что «как вакханоч-ка резвилась», сменяет «барышня уездная» «С печальной думою в очах».
Вот и выходит, что это стихотворение — интимнейшая личная (а не «антологическая») лирика, ни на чем житейском не основанная, рожденная «единством и теснотой стихового ряда» (Тынянов) его внутренней жизни. И не «вообще» внутренней, а — творческой.
Здесь опять возникает пигмалионова тень, «греческая» тема.
Недавно — спасибо Олегу Чухонцеву, с которым у нас как-то вышел разговор об этом стихотворении, — я разыскал читанную когда-то, даже цитированную (см.: «Поэзия и судьба», раздел «Космос Пушкина»), но нелепо затем забытую мною статью Н.М.Ботвинник, где убедительно показано: «Нет, я не дорожу…» — реплика в поэтическом диалоге («Временник Пушкинской комиссии. 1976». Л., 1979, с. 147-156. — В.Н.).
Диалог — с Батюшковым, он давний, с молодых лет, и продолжается сейчас, в 30-е годы. Есть у Батюшкова, в цикле «Из греческой антологии», вольное переложение по-русски французского перевода, сделанного С.С.Уваровым, тогда еще членом «Арзамаса», из греческого поэта Павла Силенциария (VIв.), в стихотворении которого любовная опытность женщины в летах предпочитается «цветущей свежести» молодых красавиц. С пятой свой строки батюшковские стихи («Тебе ль оплакивать утрату юных дней» (К.Н.Батюшков. Опыты в стихах и прозе. М., 1977; «Литературные памятники», с.347. — В.Н.) выглядят так:
Твой друг не дорожит неопытной красой,
Незрелой в таинствах любовного искусства.
Без жизни взор ее стыдливый и немой,
И робкий поцалуй без чувства.
Но ты, владычица любви,
Ты страсть вдохнешь и в мертвый камень;
И в осень дней твоих не погасает пламень,
Текущий с жизнию в крови.
Достаточно положить эти стихи рядом с пушкинским «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем», чтобы согласиться с Н.М.Ботвинник: «Пушкин своим стихотворением прямо возражает Батюшкову» («Временник Пушкинской комиссии», с.150 — В.Н.). В самом деле, Пушкин все поменял местами: «пламень» у него исходит не от женщины, а от «я», и «дорожит» он как раз «неопытной красой». И такая перестановка происходит не в первый раз. Кажется, он уже спорил с Батюшковым — тогда, в строфах о женщинах, в строках о Пигмалионе. Пигмалион оживляет «мрамор», а у Батюшкова в этой роли «владычица любви», оживляющая «мертвый камень», то есть «меня». У батюшковской «владычицы любви» пламень течет «с жизнию в крови», а у Пушкина — «Все в ней… питалось кровию моей».
И вот теперь Пушкин снова вступает в старый спор. И вовсе не из «любви к искусству» — скорее из любви к правде: правде о любви. Спор с Батюшковым — спор об истинных ценностях в любви. У того «любовь» и «страсть» — синонимы: и та и другая равно тождественны чувственному наслаждению и им исчерпываются; «любовь» начинается с сексуального возбуждения и с ним же заканчивается; отсутствие «любовного искусства» равно отсутствию любви. Пушкина же как раз отсутствие «искусства» пленяет и умиляет: «О как милее ты…»; поздний Пушкин не «искусство» любит, а чистоту, ему нужна не готовая страсть, а любовь, свободная от страсти, сама любовь, собственно любовь, из которой страсть высекается, как из кремня, его любовью.
У позднего Пушкина первична любовь — страсть вторична. В споре с Батюшковым он утверждает свою иерархию ценностей.
Оттого строки о «вакханке» завершаются определением чисто физиологическим, нагруженным семантикой отрицательной, «болезненной» — по пушкинскому же слову [«Стерн говорит, что живейшее из наших наслаждений кончится содроганием почти болезненным. Несносный наблюдатель! Знал бы про себя; многие того не заметили бы» (XI, 52). — В.Н.]: «миг последних содроганий» — так можно сказать и о миге смерти; близость эроса телесного со смертью — один из важнейших пушкинских мотивов (вспомним «Сцену из Фауста» или «Каменного гостя»). Последние же строки — «И оживляешься потом все боле, боле И делишь наконец мой пламень поневоле» — это не конец, а начало, не смерть, а возникновение, рождение, жизнь (ср.: «И мысли в голове волнуются в отваге, И рифмы легкие навстречу им бегут, И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, Минута — и стихи свободно потекут» — «Осень»)… «Дремавший» корабль плывет, холодный мрамор оживает. «В «эротическом» стихотворении обнаруживается единство двух уже названных основных, по С.Л.Франку (С.Л.Франк. Этюды о Пушкине, с.21. — В.Н.), «мотивов… религиозности поэта»: «чувства божественности любви» (любви, а не страсти) и ощущения божественности своего творческого дара, чуда вдохновения.
Два стихотворения помечены одним днем, 19 января 1830 года. Завершение их — кто знает — разделяется, быть может, какими-нибудь часами:
Нет, я не дорожу мятежным
наслажденьем, …Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Восторгом чувственным,
безумством, исступленьем… Безумства, лени и страстей.
О как милее ты,
смиренница моя… …И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.
И делишь наконец мой пламень… Твоим огнем душа палима…
Две темы излагаются почти одним языком. Религиозное чувство говорит языком любви, и наоборот: как в «Песни песней».
Второе стихотворение, прямо обращенное к ней (теперь уже невесте), отделено от «Нет, я не дорожу…» четырьмя месяцами; но в пространстве первой половины 1830 года, занятом всего лишь каким-нибудь десятком «значащих» стихотворений, они выглядят близкими соседями.
Тем более близкими, что это второе стихотворение (о нем ниже) тоже явно восходит к Батюшкову. Мало того: к тому стихотворению Батюшкова, которое в цикле «Из греческой антологии» непосредственно предшествует стихам о «владычице любви» — тем самым, с которыми Пушкин спорит в «Нет, я не дорожу…». Н.М.Ботвинник, впрочем, сближает с этим батюшковским стихотворением (его первая строка: «В Лаисе нравится улыбка на устах») совсем другие пушкинские стихи, давние, 1819 года, «Дорида»; и совершенно справедливо сближает:
БАТЮШКОВ ПУШКИН
В Лаисе нравится улыбка на устах,
Ее пленительны для сердца разговоры
….. В Дориде нравятся
и локоны златые, И бледное лицо,
и очи голубые.
Я в сумерки вчера,
одушевленный страстью,
У ног ее любви все клятвы повторял
И с поцалуем к сладострастью
На ложе роскоши тихонько увлекал…
Я таял, и Лаиса млела…
Но вдруг уныла, побледнела
И — слезы градом из очей!
…..
«…Я мыслию была
встревожена одною:
Вы все обманчивы, и я…
тебя страшусь». Вчера, друзей моих оставя
пир ночной,
В ее объятиях я негу
пил душой;
Восторги быстрые
восторгами сменялись, Желанья гасли вдруг
и снова разгорались; Я таял; но среди неверной
темноты
Другие милые мне виделись черты,
И весь я полон был таинственной печали,
И имя чуждое уста мои
шептали.
«Сюжет» один и тот же, но во второй своей половине он видится по-разному: у Батюшкова — со стороны «ее», у Пушкина — с «его»: «та же тема, — замечает автор статьи, — развивается как бы «для мужского голоса» («Временник Пушкинской комиссии», с.150. — В.Н.).
«Дорида», повторяю, это 1819 год. Думаю, что «имя чуждое», приходящее на уста в объятиях Дориды (так будет в «Кавказском пленнике»: «В объятиях подруги страстной Как тяжко мыслить о другой!»), означает не совсем то, чего боится батюшковская Лаиса («Вы все обманчивы…»): это зарождается пушкинский лирический миф: «утаенная любовь» — единственная, неповторимая, идеальная, почти нездешняя. Не лишне заметить, что в этом же 1819 году впервые поэтически воплощается и тема Дома, домашнего очага, семьи — в стихотворении «Домовому».
К чему я все это говорю? А к тому, что теперь, в 1830 году, на пороге Дома, Пушкин снова возвращается к диалогу с Батюшковым — но теперь уже прямо повторяет ситуацию его стихотворения («Но вдруг уныла, побледнела… Вы все обманчивы…» и проч.), и это происходит в стихах, обращенных к невесте:
Когда в объятия мои
Твой стройный стан я заключаю
И речи нежные любви
Тебе с восторгом расточаю,
Безмолвно от стесненных рук
Освобождая стан свой гибкий,
Ты отвечаешь, милый друг,
Мне недоверчивой улыбкой.
Прилежно в памяти храня
Измен печальные преданья,
Ты без участья и вниманья
Уныло слушаешь меня.
(Разумеется, слухи о его прошлой жизни, «Измен печальные преданья», не могли не доходить до нее.)
И дальше следует пламенное покаяние:
Кляну коварные старанья
Преступной юности моей,
И встреч условных ожиданья
В садах, в безмолвии ночей.
Кляну речей влюбленный шепот…
и проч.
Два пушкинских, обращенных к Н.Н., стихотворения параллельны двум подряд батюшковским. И сами они идут почти подряд. Между ними («Нет, я не дорожу…» и «Когда в объятия мои») — всего четыре завершенных стихотворения.
Из них два — «на случай» (эпиграмма «Не то беда, что ты поляк» и «Новоселье»), одно — монументальное «К вельможе», где автор в своем орлином полете над всею Европой и ее историей не забывает все же о «прелести Гончаровой», и одно… странное, особенно в том контексте, который я здесь пытаюсь обрисовать; да и вообще какое-то не очень для Пушкина характерное.
- Три сонета
И называется оно занятно: «Сонет» — с подзаголовком «сонет». То есть — и само сонет, и посвящено сонету, и ничего другого автор не хотел. Стихотворение превосходное: мастерское, безупречно респектабельное. Как на экзамене. О стихах, о стихотворной форме. О том, какие замечательные люди этой формой пользовались: семь поэтов, от «сурового Данта» до друга Дельвига. Один изливал в сонете «жар любви», другой облекал им «скорбну мысль», третьему эта форма необходима, «Когда вдали от суетного света Природы он рисует идеал» («Суетного» — «рисует» — эффектно, но в общем строфа не из самых у Пушкина вдохновенных), и т.д. Красиво, стройно, точно и парадно-фрачно. Уверен: стихи эти никому не приходило в голову читать публично вслух, с эстрады.
Особенно это относится к двум катренам. В терцетах что-то немного меняется, голос теплеет. В заключительном теплота струится вокруг — конечно — имени Дельвига: какая-то домашность в строке «У нас еще его не знали девы», а рядом оттенок трепетности: «Гекзаметра священные напевы». Но вот предыдущее трехстишие, о Мицкевиче:
Под сенью гор Тавриды отдаленной
Певец Литвы в размер его стесненный
Свои мечты мгновенно заключал.
Эти строки как-то уж совсем выделяются — тем более после аккуратного четверостишия о том, как «Вордсворт его орудием избрал», — выделяются ощутимой вибрацией интимности, непринужденности — словно вдруг развязался скованный язык — и в то же время доверительной недоговоренности; это единственное в сонете место, где содержание не равно тексту, перерастает его, в нем что-то происходит — но что?
Конечно, и «певец Литвы» звучит в этом контексте с явной задушевностью (отсутствующей в «творце Макбета»), и «Таврида» (Крым) — не просто география, а часть жизни — и своей, и автора «Крымских сонетов»; и «мгновенно заключал» навеяно восхищенной памятью об импровизациях Мицкевича, — все это так, все дает теплоту интонации, входит в ее состав — но где сам источник этой теплоты, очевидной и вместе таинственной? Стихи-то — не о Тавриде, не о Мицкевиче; они о сонете, о стихотворной форме, и источник вибрации должен быть где-то здесь…
Не здесь ли: «…в размер его стесненный Свои мечты мгновенно заключал»? Ведь и в самом деле: в сонете, посвященном сонету, сам сонет как форма до сих пор только называется, но никак не характеризуется, и в этом некая почтительная отчужденность; и только в одном этом месте отчужденность пропадает, автор мягко, чуть ли не нежно, прикасается к предмету, который воспевает: вот он, мол, какой, сонет, «…размер его стесненный…».
Я некоторое время кружил вокруг этого места, ощущая, как в детской игре: тепло, тепло… И вдруг сразу стало горячо:
Певец Литвы в размер его
стесненный
Свои мечты мгновенно заключал Когда в объятия мои
Твой стройный стан я заключаю
…..
Безмолвно от стесненных рук
Освобождая стан свой гибкий…
В том локальном лирическом пространстве, которое образуется в эти месяцы всего несколькими стихотворениями и овеяно темой любви к Н.Н., такое не может быть случайным. Я не к тому, что совпадение сознательно: просто о любви он говорит языком поэзии, а о поэзии — языком любви: тоже своего рода «песнь песней». То, что происходит на белом листе бумаги, обдает пламенем интимного акта или объятия, а «другие милые… черты» музы просвечивают в образе невесты так же неоспоримо, как в «барышне уездной» или «неторопливой» княгине.
Так, может быть, из этих интимных глубин поэзии-любви, любви-поэзии и выплыла тема сонета — строгой и изысканной стихотворной формы, которая есть образец сочетания свободы с самоограничением, полета чувств с порядком в мыслях, вдохновения с трудом и расчетом; формы, требующей от стихотворца того же, чего от мужчины требует супружество? Формы, таившей себя в онегинской строфе и вдруг выступившей открыто, со скромной парадностью сватовства?
«Чем кончился «Онегин»? — Тем, что Пушкин женился» (Анна Ахматова. О Пушкине. Статьи и заметки. Л.,1977,с.188. — В.Н.).
Чем кончается лирика Пушкина-жениха перед творческим и жизненным (в преддверии свадьбы) рубежом Болдинской осени?
Двумя сонетами подряд: 7 июля — «Поэту», 8 июля — «Мадона».
И дальше, в течение ровно двух месяцев — ничего (если не считать единственной эпиграммы).
Два сонета — как два столба, ворота в другую, новую жизнь, на болдинский тракт.
В двух июльских сонетах ясно обозначены те самые основания «религиозности поэта»: мотив творчества и мотив любви. Все в этих основаниях непросто.
В сонете «Поэту» (7 июля) связываются нити, идущие от совсем разных трактовок своего призвания: в «Пророке» и в «Поэте» («Пока не требует поэта»). Трактовок, как уже говорилось, едва ли не противоположных.
В «Пророке» преображение поэта в пророка совершается раз и навсегда, и «Бога глас» — тоже отныне и навсегда.
В «Поэте» Аполлон может требовать к священной жертве, а может и не требовать; божественный глагол звучит время от времени, в промежутках предоставляя возможность — если даже не законное право — быть всех ничтожней.
В «Пророке» поэт посвящается в посланника Единого Бога. В «Поэте» он — заведомо подобие языческого жреца или пифии, время от времени впадающей в транс.
В «Пророке» поэт посылается обходить моря и земли, жечь сердца людей — в «Поэте» он, наоборот, от людей бежит, дикий и суровый, на берега пустынных волн, в широкошумные дубровы.
«Поэт» написан спустя год после «Пророка» и в споре с «Пророком» — приведшем к «бунту» («Дар напрасный, дар случайный»). Сейчас бунт позади, он «снят», и мы можем увидеть отношения между «Пророком» и «Поэтом» в иной перспективе — которая делает очевидным, что эти стихотворения находятся в разных измерениях. «Пророк» — метафизическое событие, «Поэт» — идейно-художественная концепция. «Пророк» -духовное озарение, «Поэт» — душевная реакция. «Пророк» причастен онтологии творчества, «Поэт» — его психологии. У одного стихотворения голос задыхающийся, с явным хрипом, у другого — великолепный, тончайше разработанный ораторский тембр. «Пророк» написан пророком, «Поэт» — поэтом. И там и там — своя правда: в «Пророке» библейски-сакральная, в «Поэте» — «натуральная» (близкая, повторю, любому поэту, чего о «Пророке» не скажешь. Когда-то давно, на одном из михайловских праздников, вышел на эстраду Сергей Наровчатов — пришибленный какой-то, обиженный, раздраженный — и, конечно, прочитал «Поэта»: всем вмазал).
И выражаются обе правды — вполне соответственно — в «терминах» библейских и антично-языческих.
Сонет «Поэту» (в отличие от стихотворения «Поэт») с «Пророком» ни в чем не спорит, напротив: говорит с тою властью, какою поэт облечен в «Пророке»: «Ты царь…», «Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд» — так можно сказать только о раз и навсегда посвященном и рукоположенном («Исполнись волею Моей»); отсюда же и «Дорогою свободной…» («Обходя моря и земли»), и «свободный ум», и умение «Всех строже оценить… свой труд», и отсутствие потребности в «наградах» (пророк и «награды» — две вещи несовместные), и, наконец, «подвиг» — понятие из христианского лексикона, в сущности монашеское.
От «Поэта» («Пока не требует…») в этом сонете, пожалуй, лишь пафос одиночества — но не только на берегах пустынных волн, в моменты служения Аполлону, а — всегдашнего, принимаемого как сущностный удел: «Живи один».
Сонет «Поэту» продолжает тему «Поэта и толпы», зерно которой было брошено в «Поэте» («Пока не требует…»). В «Поэте и толпе» раздражение било через край, переходя в ярость. В сонете — мужественное усилие воли: обрести власть над собой, уговорить и дисциплинировать себя (оттого и форма сонета), взять себя в руки, пусть до «угрюмства» (не отсюда ли блоковское слово пошло?).
«…Женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью» (Кривцову, 10 февраля 1831). «Но ты останься тверд, спокоен и угрюм». Сонет строится как оборонительное укрепление, долженствующее защитить «будущность»: мой дом — моя крепость; в то же время его вызывающая интонация («Поэт! не дорожи…») связана с надеждой на обеспеченность и защищенность личного «тыла». Ведь перед нами не абстрактная и для всех годная поэтическая декларация-манифест — это личная лирика, ее автор и герой — один такой на свете, один — автор «Пророка». Как жить такому поэту дальше, как иметь силы жить дальше, будучи пророком, но оставаясь поэтом, — попытка решить эту проблему и есть сонет «Поэту».
Попытка эта упирается, повторяю, чуть ли не в монашеский идеал подвижничества. Впрочем, слову «подвиг» придан в сонете эпитет «благородный» в том оценочном смысле, который понятийному лексикону христианства чужд. «Система ценностей» сонета выведена из «Пророка», но художественная органика сонета, горделиво-аполлоническая пластика, твердость антично-стоического толка от «Поэта».
И в финале сонета треножник дельфийской пифии — рядом с библейским алтарем, на котором библейский «огонь горит». Этот огонь — третье пламя, горящее в лирике этого года:
Твоим огнем душа палима
И делишь наконец мой пламень поневоле
…алтарь, где твой огонь горит
Три языка пламени, конечно, не слиянны. Но и не раздельны.
На следующий день, 8 июля, мы попадаем в обстановку опять же чуть ли не затворническую: «В простом углу моем, средь медленных трудов… Пречистая и наш Божественный Спаситель… под пальмою Сиона».
«В… углу» обычно бывает икона. Но тут не икона — картина; и «Пречистая» — не Богородица, а «Мадона». Сонет, это ясно, наследует тему «рыцаря бедного», которому «Несть мольбы Отцу, ни Сыну, Ни Святому Духу ввек Не случалось…», но который обходным, так сказать, путем был все же «впущен» «в Царство Вечно» милостью «Пречистой», оценившей его веру («верен сладостной мечте») и любовь. Этот обходный путь повторен в последнем терцете сонета: «Исполнились мои желания», — говорится во множественном числе: стало быть, очевидно, Творцом ниспосланный вместо «картины» дар, «моя Мадона», жена, вмещает в себя все.
Через несколько месяцев сонет напечатан; цензура отнеслась к нему спокойно (может, именно потому, что — не икона, а картина, не Божья Матерь, а мадонна) — чего нельзя сказать о многих читателях прошлого и настоящего; бывают самые жесткие мнения, притом не только духовного, но и художественного порядка: «Неудача языковая неизбежно влечет за собой неудачу структурно-композиционную; если во второй строфе говорится о желании (одном!) лицезреть картину с Пречистой и Божественным Спасителем, то в заключительном пассаже сообщается об исполнении желаний (многих? всех?) о Даровании Поэту образа Мадонны в лице возлюбленной жены. Что происходит в таком случае с образом Спасителя? Куда он исчезает и на кого накладывается? О пульсации в слове «желания» навеянного любовной лирикой и опасного в данном случае смысла говорить не приходится» (Александр Архангельский. Огнь бо есть. Словесность и церковность: литературный сопромат. — «Новый мир», 1994, №2, с.232. — В.Н.).
Насчет «неудач» сказано явно неудачно, и «желания» рассмотрены с действительно «опасной» в данном случае специфической заинтересованностью; вообще, попытки прямых наложений «церковности» на «словесность» (пользуясь словами из подзаголовка цитированной статьи) бывают поистине «опасны», дискредитируя, а подчас и забрызгивая грязью и ту и другую, а заодно того, кто пытается такие наложения делать, — и не затрагивая Пушкина: он-то всегда сам производит с собою расчет. Как это объяснить?..
Глубина проникновения Бога в его жизнь и судьбу, в его труд, а может быть, в каждый его шаг и ответная глубина его религиозной интимности, сказавшейся в этих вот стихах, в этом сонете, — неимоверны и на языке мирском, на языке светского художества, невыразимы. А он все же дерзает выразить — и дерзость эта также неимоверна: до кощунственной фамильярности. Он никогда не декларировал стремления «дойти до самой сути», но он почти всегда до нее доходил. Его влечет дойти до нее и здесь — видимо, это было сильнее его.
И в выражении сути на грубом и немощном человеческом языке он отважился перешагнуть тот порог иного мира, ту грань иноприродности, которые так, таким вот образом перешагивать — метафизически опасно; как физически опасно совать руку в огонь (чей образ трижды посещает его в лирике этого времени). Осуждать этот шаг, «критиковать» или вообще оценивать его и то, как он сделан, — это похоже на реакцию священника, который в ответ на известие Андрея Карамзина: «Александр Сергеевич Пушкин убит на дуэли!» — воскликнул: «Как же это можно-с, ведь дуэли запрещены-с» («Последний год жизни Пушкина. Переписка. Воспоминания. Дневники». М.,1988, с.528. — В.Н.).
«Оценивать» пушкинскую дерзость не имеет смысла потому, что «оценка» в данном случае была произведена самим поэтом; точнее, его интуицией. Творческим гением.
Сонеты «Поэту» и «Мадона», как уже сказано, написаны подряд, 7 и 8 июля; после них два месяца — ничего.
Первое, что возникает ровно через два месяца, 7 сентября (пятый день в Болдине), — «Бесы».
Первый приступ к ним был осенью прошлого года, и сначала стихи были о каком-то «путнике», они то шли, то плутали, меняли размер, снова меняли и наконец где-то на «одичалом коне», сами, как кони, стали, — и он оставил их. А вот теперь они вернулись.
Много лет назад я попытался бегло проследить, как он стремится указать набрасывающейся на него «бесовской» теме другую дорогу, направить ее по ложному следу, умалить ее лиризм. Личную тревогу он пытается то передать «путнику», то разбавить безличным «мы» («едем, едем»), то аранжировать в фольклорном, сказочном духе, да еще под названием «Шалость». Но тема все же настигла его — как хандра, что «Поймала, за ворот взяла» (восьмая глава романа заканчивается тоже здесь, в Болдине), — «и стихи стали такими, какими единственно могли стать… «Шалости» не вышло» [См.: «Поэзия и судьба». М.,1987, с.222 (М.,1999, с.187). — В.Н.].
Впрочем, тогда я не сообразил вспомнить зловещий смысл народного словоупотребления: разбойники «шалят», нечистый тоже «шалит». Вот это-то как раз осталось в стихах: «скачет», «толкает» (вариант: «кувыркаясь толкает»), «играет», наконец «Дует, плюет на меня».
Последнее особенно замечательно. Бес пародирует таинство крещения, при котором иерей, в частности, говорит крещаемому: «Дуни и плюни на него» (сатану). А тут — наоборот: он — «на меня».
А дальше — юмор совсем уж изуверский: такой, что я, только расслышав его, но еще не совсем поняв (См.: «Поэзия и судьба». М.,1987, с.163 [и 136]. — В.Н.), ужаснулся:
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?
Это какой же такой «домовой»? Не тот ли:
Поместья мирного незримый покровитель,
Тебя молю: мой добрый домовой,
Храни селенье, лес и дикий садик мой,
И скромную семьи моей обитель!
(«Домовому», 1819)
Это его хоронят накануне женитьбы автора?
И какая еще такая ведьма, выдаваемая замуж в преддверии бракосочетания автора не с кем-нибудь — с Мадоной!
Он написал: Мадона, а услышал: ведьма.
Неужели это — про нее, про ту, с которой его «важный брак… пред алтарем… соединит»?
Нет, конечно, не про нее.
А «Пречистая» («Моя мадона») — про кого?
Два месяца назад, 8 июля, он сунул руку в огонь. И как только, спустя два месяца, взялся за стихи, его обожгло: вот тебе Бог, а вот — порог (а не в стихах — не обжигало: в письмах и быту он и позже называл ее «мадоной» — см. письмо к ней около (не позднее) 30 сентября 1832 года. — В.Н.).
- Болдинская осень
На следующий день после «Бесов», 8 сентября (день в день два месяца после «Мадоны»), он пишет «Элегию» («Безумных лет угасшее веселье»). Здесь — вершина его смирения, без малейшей примеси стоицизма, смирения подлинного и потому о цене своей умалчивающего; благодарного и готового благодарить за любое «наслажденье» как за милость («Всякая радость будет мне неожиданностью»).
Когда-то (см.: «Поэзия и судьба», глава «Предназначение». — В.Н.) я сопоставлял «Элегию» с «Желанием» («Медлительно влекутся дни мои», 1816) — стихотворением, с которого начался собственно Пушкин. Собственно Пушкин начался с того, что стал расти внутри этого стихотворения, как Гвидон в плывущей по морю бочке; стал меняться на протяжении текста.
Сначала — сетования на «горести несчастливой любви» и «мечты безумия» (так теперь и в элегии: «Безумных лет… Мне тяжело… смутное похмелье…»).
Потом: «Но я молчу; не слышен ропот мой; Я слезы лью; мне слезы утешенье… наслажденье…» (а в элегии: «Но не хочу, о други, умирать… слезами обольюсь… мне будут наслажденья…»).
И наконец вышиб дно и вышел вон — из стихов — другим:
Пускай умру, но пусть умру любя!
Не печаль «несчастливой любви», а само счастье — любить.
И в элегии: «Блеснет любовь улыбкою прощальной», — то есть опять: «умру любя»; в обоих стихотворениях — вошел одним, а вышел другим (см. об этой особенности пушкинской поэтики в тезисах «Время в его поэтике». — «Пушкин. Русская картина мира». — В.Н.).
Он по-прежнему мечтает о любви — великой и единственной, о которой всю жизнь мечтал — и которая ему не дана, ибо два медведя — любовь и Муза — не живут в одной берлоге, ибо велик и единствен его творческий дар, за обладание собой требующий всей жизни — как Клеопатра. Но он все равно мечтает. Только это какая-то другая любовь. Стихотворение «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем» — самый сильный, но последний чувственный всплеск в его лирике.
Зато осенью в Болдине возвращается, снова слетает к нему та «младая тень», к которой он остался холоден, как труп, четыре года назад («Под небом голубым…»). И не потому, чтобы она была лучшей или избранной из всех; но в самих его отношениях с нею, с этой тенью, воплотилось нечто бесконечно важное в его духовной жизни.
В «Заклинании» он зовет ее «сюда, сюда», чтобы просить прощения, сказать, что все любит. Почти через полтора месяца, в конце ноября, уже перед самым отъездом, — «Для берегов отчизны дальней». Здесь он уже и не зовет, он говорит иначе: «Но жду его; он за тобой» — «поцелуй свиданья». Он говорит это накануне женитьбы на женщине, которую любит, которая даст ему Дом, — но тут не измена ей; это совсем Другой поцелуй, и он будет в ином мире — там, где ему предстоит опять
В пиру лицейском очутиться,
Всех остальных еще обнять
И новых жертв уж не страшиться.
(«Чем чаще празднует Лицей», 1831)
Там, где скоро будет его ждать и «Дельвиг милый», с которым они, встретившись когда-то в Михайловском, руки друг другу целовали. Там, где любовь — не страсть с ее «безумством и мученьем», с ее печалью и воздыханием, а радость, бесконечная как жизнь. Здесь об этом можно только мечтать; здесь всякая радость есть неожиданность — вот его новый и трезвый взгляд на мир, в котором живут люди и который не вечен.
Эта новая трезвость и есть эсхатологичность позднего Пушкина; отсюда и не характерный для него обычно прямой взлет «Туда, в толпу теней родных» («Чем чаще празднует лицей»), «В соседство Бога» («Монастырь на Казбеке»). Дальше это не повторится в таких формах, приобретет другие («Родрик», «Чудный сон мне Бог послал», «Странник» и пр.), и это уже иной разговор.
А с 1830 года в его лирике происходит невообразимое: исчезает любовная тематика личного характера. «Нет, нет, не должен я, не смею, не могу Волнению любви безумно предаваться…» (1832), «Благоговея богомольно Перед святыней красоты» («Красавица», 1832), «Я ужасаюсь неги властной» («Я думал, сердце позабыло», 1835, вариант) — вот теперь его взгляд на женщину. В 1833 — знакомые интонации:
…Забыл бы всех желаний трепет,
Мечтою б целый мир назвал —
И все бы слушал этот лепет,
Все б эти ножки целовал…
(«Когда б не смутное влеченье»)
И слушал бы, и целовал бы —
Когда б не смутное влеченье
Чего-то жаждущей души…
Куда влеченье, что за жажда его томит теперь — не говорит: видно, слов таких нет, даже у него.
Поэт, лирик — без любовной лирики! это, может, и понятно на склоне лет с их «хладными мечтами» и «строгими заботами», немощью и мудростью — но ему-то, поэту и потомку африканца, всего за тридцать! Где это видано в поэзии?
У него это получилось. Он автор «Пророка», он «вышиб дно».
И в конце концов вышел в такое творческое пространство, в каком еще никто не бывал. Что такое Болдинская осень, удачно говорит Андрей Битов, «как не попытка написать вообще все, чтобы ничего не осталось?» Это, думаю, оттого, что ему вдруг стало видно все из нового пространства или, точнее, с нового уровня обзора. Сидя в бочке, ты видишь только то, что внутри нее, и это есть твоя картина мира. Он — вышел наружу и увидел, как все на самом деле. Недавно он с высоты обозревал физическую вертикаль Кавказа — теперь ему предстала структура человеческого бытия на земле, стал слышен алгоритм падшего мира, где все перевернуто с ног на голову, где «В беспредельной вышине» жалобно визжат и воют, «Надрывая сердце мне», низшие силы бытия — тоже, видно, страдающие в этом исковерканном мире, где все не на своих местах.
«Бесы» открывают Болдинскую осень. Последняя, завершающая ее вещь большой формы — «Пир во время чумы». Этой темы в довольно давнем уже замысле цикла «драматических опытов» не было; с драмой Вильсона «Чумный город» Пушкин познакомился лишь в прошлом 1829 году — и тогда произошло нечто подобное процессу мгновенной кристаллизации раствора: был найден финал цикла, а с ним — его структура, смысл, воплощение, перспектива. Перспектива уходит в вечность. Это не метафора. Тема трагедии — отношения человека с вечностью, иначе — с бессмертием. С жаждой бессмертия, которая есть память человека о своем божественном происхождении.
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!
Великие слова. В них интуиция бессмертия, для которого и был сотворен человек; интуиция, оставленная ему и после грехопадения, за которым в мир вошла смерть. В них память о том, что смерть может быть вратами в бессмертие. Но в гимне Чуме они — обман и самообман: они взяты из одного контекста и вставлены в другой, наоборотньш. Данная Богом интуиция изъята из мира, где Бог, и применена к Миру, где только «природа»; где анчар стоит в пустыне чахлой и скупой, где нет ничего кроме смерти и несущих смерть стихий. О «бессмертии» толкуется в антимолитве («Всякое дыхание да хвалит Господа» — «Итак, хвала тебе, Чума!.. И девы-розы пьем дыханье…»); именно так объемный и вертикально устроенный мир «Пророка» превращается, на плоскости горизонтального мира «Анчара», в порочный круг.
Вряд ли Пушкин вспомнил о драме Вильсона, сцена из которой ляжет в основу трагедии, когда в январе 1830 года писал Е.М. Хитрово: «Стихи христианина, русского епископа, в ответ на скептические куплеты! это право большая удача».
Удача, и правда, оказалась большая.
Сюжет сцены из Вильсона сошелся с его личным опытом. В трагедии происходит диалог между автором гимна, вместившего в себя вопль «падшего духа», для которого жизнь есть дар напрасный и случайный, — и священником. Когда творец антимолитвы на увещания Священника, заклинающего пир «Святою Кровью Спасителя» («Вспомнись мне, Забвенный мною», — призывал «русский епископ» в своем стихотворении), отвечает:
Я здесь удержан
Отчаяньем, воспоминаньем страшным,
Сознаньем беззаконья моего, —
то надо оглянуться на страшное стихотворение «Воспоминание» — антипсалом, где автор оцепенело противостоял Покаянному Давидову псалму, и сообразить, что этот псалом Вальсингам сейчас прямо цитирует («Сознаньем беззаконья моего» — «Яко беззаконие мое аз знаю» — Пс.50,5). И дальше:
Сердце чисто созижди во мне, Боже,
и дух прав обнови…
(Пс.50,12) И созиждется Тобою
Сердце чисто…
(Филарет)
Священник.
Матильды чистый дух тебя зовет.
«И ныне с высоты духовной Мне руку простираешь ты», — отвечал Пушкин Филарету; Священник произносит слова о Матильде «с подъятой к небесам… рукой».
Священник указывает туда, где живая Матильда — как Дженни из песни Мери («А Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах»). А в песне Мери сходятся мотивы элегии «Под небом голубым…» («Младая тень уже летала») и рождающегося стихотворения «Для берегов отчизны дальней» («Но жду его; он за тобой»). Восставляется вертикаль, и автору гимна Чуме вновь открывается небо — вместе с глубиной собственного падения:
Где я? Святое чадо света! вижу
Тебя я там, куда мой падший дух;
Не досягнет уже…
В остальном же мире:
Он сумасшедший, —
Он бредит о жене похороненной, —
все остается как было.
И председатель пира, очнувшийся — надолго ли? — благодаря видению возлюбленной, тоже остается «погружен в глубокую задумчивость» — оставляется Священником на волю Божию — ибо перед открывшимся Священнику страданием человеческая воля бессильна. Цикл, представивший своего рода художественную феноменологию духа падшего человечества, завершается открытым финалом, в который автор вписывает себя наравне со всеми, не ища оправданий и лазеек, записывая все как есть.
Болдинскую осень открывает, вместе с «Бесами», элегия «Безумных лет угасшее веселье». Два стихотворения — две темы, заявляемые в начале большого музыкального опуса: как отчаяние и надежда, как улыбка сквозь слезы. «Бесы» — бездна отчаяния, элегия — вершина смирения.
У этой вершины есть своя вершина. Всем известная строка, которая написалась не сразу.
Я жить хочу, чтоб мыслить и мечтать…
Этот вариант — из какой-то другой поэзии: в которой подобных строк хоть отбавляй, но нет «Пророка». В поэзии, где нет «Пророка», может ли быть сказано: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать»? Жить, чтоб страдать?
В поэзии, где это возможно, — возможна Болдинская осень.
В сущности, вся Болдинская осень — вариации на две темы; точнее — на тему отношений между относительным и абсолютным, «здесь» и «там», землею и небом жизни, низкими так называемыми истинами и так называемым возвышающим обманом, «мышьей беготней» жизни и ее «смыслом». В конечном счете — между образом Божьим в человеке и «падшим духом» его; между бытием сотворенным и бытием изуродованным. Неслыханная быстрота, с какой в течение трех месяцев возникает универсум, создается целая великая литера- тура во всех основных жанрах, которой иной культуре хватило бы на столетие, а то и больше, — эта быстрота говорит о верности, универсальности некой общей формулы судеб этого пирующего во время чумы, этого падшего, но еще не покинутого Богом мира — формулы, которая, будучи уловлена, работает уже сама — только успевай записывать, и только хватило бы крови.
1989, 1999
Несколько новых русских сказок
Глава из книги «Да ведают потомки православных. Пушкин. Россия. Мы»
У зрелого Пушкина есть три четко определившихся цикла крупной формы: «Повести Белкина», «маленькие трагедии» и сказки. Два первые цикла созданы единовременно, в течение Болдинской осени 1830 года, и отдельные произведения, составляющие их, разделены неделями, а то и днями; третий цикл создавался в течение пяти лет («Сказка о попе и о работнике его Балде» — 1830, «Сказка о царе Салтане…» — 1831, «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне…» — 1833, «Сказка о золотом петушке» — 1834), — что вовсе не мешает его цельности, напротив, подчеркивает ее. Параллелизм и внутренняя связь этих трех циклов заслуживает отдельного исследования, но и сейчас можно — для краткости схематизируя — сказать, что материал «Повестей Белкина» — «быт» («естество»), «маленьких трагедий» — «бытие» («существо»), сказок — «сверхбытие» («сверхъестество»); можно заметить также, что в «Повестях Белкина» материал организуется в форме прозы, в «маленьких трагедиях» — в форме театра, в сказках — в форме поэзии. Таким образом, в трех циклах представлены три основные рода, в которых действительность отражается искусством: эпос, драма и лирика.
«Грозные вопросы морали» — так сформулировала Анна Ахматова одну из главных тем «маленьких трагедий». Тема эта — общая для всех трех циклов, только звучит она в них по-разному.
В «маленьких трагедиях» — звучание открыто философское и к тому же всемирное: разные страны, разные эпохи, «мировые» образы, пафос Истории.
В «Повестях Белкина» — аспект как бы локальный и «бытовой»: обычная жизнь обычных людей; однако характер, смысл и масштабы того, что происходит в этой повседневной жизни, так значительны, что поневоле видишь: «быт» обнаруживает столь же взрывчатую силу, что и История. Исследователи «Повестей Белкина» отмечают (нагляднее всего это у Н.Берковского, в его книге «Статьи о литературе».Л.,1962), что специфика русского быта и рождаемых им проблем словно бы пробивается в повестях сквозь «чужие», иноземные наслоения.
Сказки же — это прежде всего русская поэтическая стихия, сконденсировавшая веками накопленные и проверенные ценности народа, его этическую философию, хранящая национальные нравственные устои.
В «маленьких трагедиях» «грозные вопросы», оставаясь вековыми, предстали современными. В «Повестях Белкина», оставаясь великими, они обернулись будничной, прозаической стороной. В сказках, оставаясь общечеловеческими, эти вопросы оказались насущной национальной заботой.
В «маленьких трагедиях» Пушкин грандиозен.
В «Повестях Белкина» — непринужден, почти фамильярен.
В сказках, сотворенных из материала близкого, детски узнаваемого, лежащего — как земля отцов — под ногами, он интимен и лиричен. Сама идея обратиться к этому жанру не могла бы возникнуть без воспоминаний детства, впервые запечатленных им еще в лицейском стихотворении «Сон»:
Ах! умолчу ль о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей,
Когда в чепце, в старинном одеянье,
Она, духов молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня
И шепотом рассказывать мне станет
О мертвецах, о подвигах Бовы…
От ужаса не шелохнусь, бывало,
Едва дыша, прижмусь под одеяло,
Не чувствуя ни ног, ни головы.
…Я трепетал — и тихо наконец
Томленье сна на очи упадало.
Тогда толпой с лазурной высоты
На ложе роз крылатые мечты,
Волшебники, волшебницы слетали,
Обманами мой сон обворожали.
Терялся я в порыве сладких дум;
В глуши лесной, средь муромских пустыней
Встречал лихих Полканов и Добрыней,
И в вымыслах носился юный ум.
«Вымыслы» эти вновь окружили его спустя несколько лет, когда в Михайловской ссылке он слушал и записывал сказки Арины Родионовны, которую называл «мамой». «Батюшка ты, за что ты меня все мамой зовешь, какая я тебе мать?» — удивлялась она. «Разумеется, ты мне мать: не то мать, что родила, а то, что своим молоком вскормила», — отвечал он.
Он не был в семье любимым ребенком. Матери и отцу было не до него. Они были заняты собой; и он не посвятил им ни строчки, ему нечего было о них сказать. Няня заменила ему семью. Нет, она не была его кормилицей. Но как материнское молоко, он впитал ее голос и образ, ее язык, нравственные представления и предания «православной старины» — древнюю культуру народа, от имени которого она, не думая о том и не ведая, представительствовала перед «родоначальником новой русской литературы». И сказками Пушкина мы в первую очередь обязаны ей.
Но не только ей. Мы обязаны ими и его тоске по семье, его мечте о семье. Семья, очаг, Дом были одной из главных его святынь; обрести семью значило для него обрести если не счастье, то хотя бы «покой и волю», прочность жизни, опору «самостоянья». Вторая сказка его, о царе Салтане, самая радостная, с самым безоблачным концом, написана в первый год семейной жизни.
И все они, сказки, так или иначе связаны с заповедными глубинами его душевного быта: начиная от первой, о Балде, — которая написана сразу после душераздирающих «Бесов», представляя собой, в известном смысле, «заклятье смехом» бесовской силы, — и до последней, о золотом петушке, созданной в один из самых тяжких годов его жизни, в бесплодную Болдинскую осень 1834 года. Все они — факты не только его творчества, но и его жизни, в них встают те жизненные, нравственные, философские, метафизические, в конечном счете религиозные проблемы, которые были его личными проблемами, те «грозные вопросы», что мучили и вдохновляли его, человека и творца, были неотъемлемы от личного внутреннего быта его как русского человека и русского писателя. Отсюда — этот свойственный им то в большей, то в меньшей степени удивительный лиризм; отсюда — сочетание громадности масштабов, в которые вмещается чуть ли не все бытие человеческое, с интимной душевной теплотой, поистине лелеющей душу. Потому и «грозные вопросы» могут тут выглядеть — пусть и на первый взгляд — не только грозно. Сказка есть сказка.
Владимир Даль передал нам такие слова Пушкина: «Сказка сказкой, а язык наш сам по себе, и ему-то нигде нельзя дать этого русского раздолья, как в сказке. А как это сделать?.. Надо бы сделать, чтобы выучиться говорить по-русски и не в сказке…»
«Выучиться говорить по-русски и не в сказке»… Это и пришлось ему делать. Несколько лет лежали у него записи сказок няни; несколько лет он не мог заняться ими — как будто не был еще к этому готов. И только тогда приступил он к ним, когда ему было уже за 30 лет и он почувствовал, что его гению доступна любая высота — и по плечу простодушие сказочника. Именно тогда, когда рождались шедевры Болдинской осени — «Бесы», «Метель», «Для берегов отчизны дальней…», последняя глава «Евгения Онегина», «Моцарт и Сальери», — под его пером возникло:
Жил-был поп,
Толоконный лоб.
Пошел поп по базару
Посмотреть кой-какого товару.
Навстречу ему Балда,
Идет, сам не зная куда…
…Дикий стих непонятного размера, чуть ли не раёшник, грубые простонародные выражения («Со страху корячится»! — ведь еще совсем недавно ему приходилось отстаивать перед критиками «Онегина» даже невиннейшее выражение «Людская молвь и конский топ»), лубочные приемы и краски, в которых Поэзия (это слово любили тогда писать с большой буквы), кажется, и не ночевала…
Десятью годами раньше критик, скрывшийся под псевдонимом «Житель Бутырской слободы», возмущался «грубостью» «Руслана и Людмилы», называя поэму «гостем с бородою, в армяке, в лаптях», затесавшимся в Московское Благородное собрание и кричащим зычным голосом: «Здорово, ребята!» А теперь и в самом деле в чертог Поэзии, на ее блестящий паркет, вломилось цветастое, горластое, мужицкое, в лаптях и армяках и просто босиком, разудалое, лукавое и простодушное — и затрещал паркет, и запахло базаром, и хлебом, и синим морем, и русским духом. Нужды нет, что тут были не только мужики и бабы, а и цари и князья: у этих тоже вполне простонародные, мужицкие физиономии и психология: и у царя Салтана, что подслушал девичью беседу, стоя «позадь забора» (а зачем он, собственно, остановился? у забора?); и у Гвидона с его простецкостью, выражаемой порою простецкими же стихами: «Князь Гвидон тогда вскочил, Громогласно возопил: «Матушка моя родная! Ты, княгиня молодая! Посмотрите вы туда: Едет батюшка сюда!» Ведь для народной сказки что Иван-царевич, что Иванушка-дурачок — все едино: был бы человек хороший. А Старуха? — кто скажет, что из нее не могла бы выйти еще одна глупая и злая, но все же заправская царица?
Стихия национального устного творчества стала для Пушкина своей. Многие строки и впрямь производят впечатление только что сказанных, прямо сразу из уст излетевших: «Ветер весело шумит, Судно весело бежит…»; сказавшихся без затей, как Бог на душу положит: «В город он повел царя, Ничего не говоря…»; по-детски бесхитростно: «А теперь пора нам в море. Тяжек воздух нам земли». Все потом домой ушли».
Захочет — польется нехитрый бытовой рассказ: «Ей в приданое дано Было зеркальце одно; Свойство зеркальце имело…»; «Та призналася во всем: Так и так…» Захочет — и строки, слова, слоги начнут друг с дружкой играть, лукаво перемигиваясь и пристукивая каблучками: «Не убила, не связала, Отпустила и сказала… Поднялася на крыльцо И взялася за кольцо… Усадили в уголок, Подносили пирожок…» Захочет — пойдет наперекор старинной поговорке «Скоро сказка сказывается…» и, наоборот, станет сказывать не скоро, а долго и так разохотится, что из тысячи — примерно — стихов «Салтана» чуть не половина придется на повторы. А то вдруг обожжет подлинностью, сиюминутностью переживания, когда, описывая смерть Царицы-матери, словно коснеющим языком выговорит:
«Восхищенья нес-нес-ла…»
А торги, которыми начинаются первые сказки? Сколько в них характерного, неповторимо русского!
Первый торг — на базаре, где два мужика — Поп и Балда — одинаково мечтают объегорить друг друга, один — на выгоде, другой — на «щелках». Второй — в доме трех девиц: царь послушал ткачиху, послушал повариху (семь раз отмерь, один отрежь), послушал третью — и решил, что вот это ему годится. Дело в том, что ему очень нужен богатырь, и поскорее — лучше бы всего «к исходу сентября»… «Здравствуй, красная девица, — Говорит он. — Будь царица…» А дальше — дальше все совсем не так, как в том же «Руслане»: «Вы слышите ль влюбленный шепот, И поцелуев сладкий звук, И прерывающийся ропот Последней робости? Супруг Восторги чувствует заране, И вот они настали…» — нет, ничего такого мы не слышим; просто: «А потом честные гости На кровать слоновой кости Положили молодых И оставили одних… А царица молодая, Дела вдаль не отлагая, С той же ночи понесла». Русский человек, говорил Гоголь, «немногоглаголив на передачу ощущений». Но это не значит, что «влюбленного шепота» не было; просто дело это семейное, интимное, не наше дело, — тут характерное простонародное целомудрие. Но зато вместо звука поцелуев и прочего мы слышим, как «В кухне злится повариха, Плачет у станка ткачиха, И завидуют оне Государевой жене», — завидуют, заметим, в то самое время, когда государь с женой расположились на своей роскошной кровати; и это, надо сказать, не менее выразительно, чем роскошно-чувственная фривольность ночной сцены в «Руслане». Вот они, те «отличительные черты в наших нравах», которые отмечал Пушкин: «Веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться». И все же самое главное здесь в том, что для русской сказки бог брака Гименей, так сказать, важнее бога чувственной любви Амура. Поэма — про любовь, а сказка — про семью, главный оплот человеческого существования.
Третий торг ведет Старуха: «Не умел ты взять выкупа с рыбки!» — это совсем другая логика, чем у Старика («Не посмел я взять с нее выкуп…»); тут работает хватательный инстинкт, по соседству с которым — жажда власти, раскрывающаяся в свою очередь как инстинкт, родственный рабству и хамству. А ведь поначалу торг и вовсе не соетоялся: «Не посмел я взять с нее выкуп: Так пустил ее в синее море». И как величественно, что именно в том месте, где Старик отпускает Рыбку, появляется неожиданная в этой сказке рифма: «Ступай себе в синее море, Гуляй там себе на просторе!» Ведь не просто от испуга «не посмел», а оттого, что есть святое за душой.
Сказки Пушкина — это и своего рода азбука национального характера, где уже содержатся (как, по словам Пушкина, «весь язык содержится в лексиконе») коренные вопросы нравственной жизни; и — музыкальное произведение, поистине симфония русской души: по-медвежьи неуклюжий, но насыщенный четким ритмом скомороший речитатив «Сказки о попе…», скерцозное, порой почти плясовое рондо «Салтана», заунывный и протяжный напев «Сказки о рыбаке и рыбке», акварельное адажио «Сказки о мертвой царевне…», сверкающий сарказмом грозный финал «Сказки о золотом петушке». Это целый мир. Здесь своя земля, на которой живут цари и мужики, сварливые бабы и удалые богатыри, повелители и холуи, да еще целый животный мир — зайцы, волки, белки, собаки, серые утки; да еще неведомые иноземные люди — «сорочины», татары, пятигорские черкесы; да еще какое-то загадочное, но реальное житье «за морем»: «Ладно ль за морем, иль худо?» — «За морем житье не худо…» Здесь и морская стихия, тоже своя и тоже заселенная — то чертями, а то богатырями; и она изменчива от сказки к сказке, как от погоды к погоде: то безликое и пассивное поле деятельности человека, который своей веревкой может ее «морщить» и вообще делать что угодно; то синий простор, несущий на себе веселые кораблики, благожелательный к герою и могущий внять его мольбам: «Выплесни ты нас на сушу!»; то могучая и высокая сила, чутко реагирующая на притязания человеческой гордыни и вершащая над нею справедливый суд… Здесь свои небеса, в которых живут Солнце и Месяц: Солнце вежливое и ласковое, Месяц — доброжелательный и учтивый, но, пожалуй, педантичный и холодноватый: «Не видал я девы красной. На стороже я стою Только в очередь мою. Без меня царевна, видно, Пробежала…» <вшк> Здесь, наконец, своя вселенная:
«В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут,
Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет.
Наивное, грандиозное мироздание, округло рифмующее низ с верхом (синее небо — синее море, звезды — волны, туча — бочка), простое, словно сразу после сотворения; словно недавно, только что, земля, как говорится в Книге Бытия, «была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». А в центре сферического мира, как на иконе, — мать и дитя.
Мысль о том, что пушкинские сказки могли когда-то считаться неудачными, бледными, искусственными, с трудом укладывается в сознание современного читателя. Но так было: созданные в пору полного творческого расцвета Пушкина, они были напрочь не поняты практически всеми современниками. История, однако, распорядилась по-своему; сказки вошли в фонд русской классики на правах шедевров высшего ранга, притом таких, о которых с полным правом можно сказать: здесь русский дух, здесь Русью пахнет.
Войти-то вошли, но — только как «детское» чтение. Правда, для литературного произведения высочайшая честь стать чтением для детей, особенно если автор к этому специально не стремился (а в данном случае это именно так). И все же факт есть факт: глубокого, «взрослого» содержания в пушкинских сказках никогда не только не видели, но, по существу, и не искали; исключения можно перечесть по пальцам.
О причинах такой судьбы рассуждать долго. Не углубляясь в необъятную тему причин непонимания зрелого Пушкина его современниками и — в не меньшей степени — нашего длящегося (а порой и растущего) отставания от него, изученного, казалось бы, вдоль и поперек, — надо выделить причину ближайшую, наиболее в данном случае специфическую. Она связана с тем, как в пушкинское время — да и много позже — понимался фольклор.
Для большинства пушкинских современников творчество неграмотного народа — прежде всего деревенского — являло собой главным образом занятную экзотику «старины», обаятельную, но отжившую, не созвучную серьезным вопросам и важным запросам современности, милое несмышленое «детство» нации. Кстати, природу детства, феномен ребенка тогда тоже понимали очень слабо: дитя было не человеком, а только заготовкой человека; соответственно и фольклор был не столько культурой, сколько преддверием культуры. Мысль о том, что в фольклоре, в частности в сказке, содержится вековая мудрость народа, что здесь в «наивной» форме заключены те первоосновные представления о мире и жизни, из которых складывается своего рода «таблица элементов» духовной жизни человека, рода, нации, человечества, — такая мысль с трудом входила в широкое культурное сознание и только недавно начала в нем укореняться. А если учесть, что ребенку с его «наивным», еще не поврежденным, чистым мироощущением эти смыслы и истины, эти первоэлементы бытия бесконечно ближе, понятней и роднее, чем раздробленному житейской суетой сознанию родителей, то можно понять, почему не кто-нибудь из взрослых, а именно дети скоро и естественно ввели пушкинские сказки в гражданство великой русской литературы.
Трагикомическое отставание взрослых от детей видно по литературоведческому подходу к содержанию сказок — как народных, так и пушкинских. В то время как дети всей душой переживали в сказках борьбу добра со злом, правды с ложью, света с тьмой, жизни со смертью, другими словами, каждую минуту ставили и по-своему решали «вечные вопросы» жизни, — взрослые упорно и тщетно выискивали в тех же сказках элементы «классовой борьбы» и мотивы «сатирического разоблачения царского самодержавия». Тем и ограничивалось изучение, поскольку сверх того ничего достойного внимания в сказках не обнаруживалось.
Есть, впрочем, и ряд серьезных исследований, однако все они касаются узколитературных — фольклористических, источниковедческих, языковых, стилистических, жанровых и прочих специальных проблем, весьма важных с точки зрения филологии, но от «вечных вопросов», как правило, достаточно далеких. Все это было связано с недопониманием роли фольклора в культуре и духовной жизни народа. О том, что сказки — неотъемлемая, более того — капитальная часть пушкинского творчества, речь не заходила никогда.
А ведь достаточно иметь в виду всегдашнее тяготение Пушкина к стихии сказочного и фантастического, вспомнить, что первым крупным его произведением была сказочная поэма «Руслан и Людмила», а затем вглядеться в последнее его крупное произведение — роман из эпохи пугачевщины, — чтобы подойти к уяснению того, в каком масштабе и контексте нужно оценивать значение пушкинских сказок.
Почти каждый из нас, порывшись в своих ребяческих впечатлениях от «Капитанской дочки», извлечет оттуда стихийное ощущение чего-то сказочного. И это детское ощущение — правильное: разве не сказочным образом, словно из самой стихии бурана, появляется в романе таинственный «вожатый»? Разве не оказывается он потом чем-то вроде бабы Яги, которая добра молодца не съела, а накормила, напоила и спать уложила, или Серым волком, что за однажды оказанную услугу не раз спасает героя? Разве герой не так именно ведет себя, как положено герою сказки: слово держит, обещания выполняет, все поставленные ему условия соблюдает, верно любит, щедро дарит, храбр, благороден и добр? Разве нет и верной красной девицы (так, кстати, и называет Пугачев Машу Миронову), и Черного злодея, и царской милости, и благополучного конца? Построение сюжета, вся поэтическая структура романа — первого нашего реалистического романа в прозе — явно ориентированы на сказку. Долгое время это не останавливало почти ничьего внимания (Первые догадки о сказочной природе романа высказал А. Смирнов («Русская мысль», 1908, № 2). Почти через 30 лет был опубликован — за рубежом — очерк М. Цветаевой «Пушкин и Пугачев», где указывалось на сказочность облика»мужицкого царя», — но это указание дошло до нас спустя еще 30 лет. В академическом издании «Капитанской дочки» (серия «Литературные памятники» 1954, переиздано в 1984 году) на тему, о которой идет речь, — ни слова. Во второй половине 60-х годов, в предисловии к пушкинским сказкам, изданным «Художественной литературой», пишущий эти строки попытался в общих чертах указать на связь романа с народной сказкой. Единственное основательное исследование этой темы — работа И. Смирнова «От сказки к роману» («Труды отдела древнерусской литературы», т. XXVII, 1972). — В.Н.).
Между тем в фольклорной ориентации «Капитанской дочки» получила завершение одна из становых линий всего творчества Пушкина, который потребовал от европеизированной послепетровской литературы, с ее более чем вековым уже возрастом, вспомнить, на какой почве она произрастает, откуда ведет родословную, какому народу принадлежит, чему она должна у этого народа учиться и чему учить его.
Петр, чтобы преобразовать русскую жизнь, отправился учиться в Европу, работал плотником на амстердамских верфях. Пушкин, чтобы преобразовать русскую литературу, на новом историческом витке восстановить ее «самостоянье», вернуть ее к национальным нравственным идеалам и тем создать чудо русского реализма, пошел в мастерскую фольклора, стал учиться у русской сказки. В сказке он увидел правду. Только гораздо более крупную, простую и весомую, чем та, которую люди черпают с поверхности своего житейского, социального и психологического опыта; это была правда сверхисторического, большого бытия.
Современники Пушкина сочли, что его сказки — неудачное подражание, точнее, копирование или стилизация, и потому отказали им в признании. Однако Пушкин и не думал копировать фольклор (в котором, кстати, жанр стихотворной сказки отсутствует). Более того, однажды он прямо сказал, что написал «несколько новых русских сказок». Новых. То есть не таких, как «старые». Значит, наследуя опыт фольклора, Пушкин не ограничивался наследованием, а, будучи преемником народной традиции, творил нечто свое.
Народная сказка — жанр чрезвычайно условный, нисколько не претендующий на так называемую «жизненную правду». Сказочная установка — установка на небылицу, байку, вымысел (см. В.Я.Пропп. Фольклор и действительность. — «Русская литература» 1963,№ 3. — В.Н.). Однако под вещами, которые заведомо невероятны (в этом и интерес), скрываются глубинные законы бытия. Одним словом, «Сказка ложь, да в ней намек».
Отсюда особые качества сказочной фабулы и характеров персонажей. Характеры лишены психологических глубин и вообще всякого рода нюансов, они не разрабатываются глубоко, ограничиваясь одной-двумя основными чертами: Иван-дурак простодушен и порядочен, «работник» сметлив и находчив, «хозяин» жаден и туповат и т.д. Собственно, вместо характера сказка предлагает монументальную социально-этическую характеристику, своего рода амплуа. Герой представляет собою, в сущности, не лицо, а тип жизненного поведения. Поведение, как известно, складывается из поступков. Поэтому, в отличие от литературы, где материалом построения образа героя служат и поступки, и слова, и чувства, и помышления, и мотивировки действий, сказка строит образ героя прежде всего и почти исключительно из самих поступков. Все остальное — размышления, мотивировки и прочее — может привноситься тем или иным рассказчиком, а может и не привноситься. Поступок, действие — генеральный принцип построения сказочного образа.
И в этом отдельный образ совершенно однороден со всею фабулой сказки. Фабула тоже строится на действии, поступках. Как установил великий русский фольклорист В.Я.Пропп в книге «Морфология сказки», главное в построении сказки — не действующие лица, не отношения между ними или что-нибудь иное, а — функции действующих лиц. Функции — это поступки героев, значимые для хода действия. Пропп вычленил и сформулировал все эти поступки: похищение, отгадывание загадок, борьба с неприятелем и т.д. — всего тридцать две функции, которые тем или иным образом распределяются между персонажами, могут входить в сказку все вместе или частично, в разных сочетаниях, но всегда располагаются в одной и той же последовательности (например, отгадывание загадок не может быть прежде похищения). Эти функции и есть фабульный «скелет» любой волшебной сказки, — то есть каждая сказка есть очередная вариация некой универсальной «прафабулы», отражающей, по всей видимости, древнее понимание структуры и динамики жизненного процесса в человеческом мире.
Выработанная фольклорным (в конечном счете мифологическим) сознанием «действенная схема» сказки мыслилась как непреложная, годная навсегда схема пути героя к победе или успеху, являлась своего рода «каноном», который, при правильном поведении героя, безошибочно обеспечивает его торжество, удовлетворяет наше нравственное чувство, отвечает традиционным представлениям о правде, справедливости, добре.
Дело в том, что в мифологическом сознании бытие мыслится как некий «механизм», с которым нужно обращаться умеючи, и все будет хорошо. Впрочем, в это «умение» входят и качества, определяемые как нравственные: помочь просящему помощи, сдержать данное слово и пр.
Таким образом, и сами сказочные герои, и рассказ о них скроены по одному и тому же принципу: и то, и другое — цепь поступков, действий. Все остальное — детали и подробности, индивидуальные свойства характеров, портретные черты, пейзаж, настроение и пр. — в сказочный «канон» не заложено: все подчинено его монолитности и универсальности. Этой же монолитностью определен и запрет на «разветвление» сюжета: поворот типа «а в это время…» сказке чужд,она сохраняет, в принципе, полное единство действия и «следит» только за главным героем.
Все это сообщает структуре и образам сказки эпическое величие и монументальность, сообщает им вечность, известную «неподвижность», означает, что многовековой опыт народа незыблем и непреходящ, что «возвышающий обман» сказки выше, а главное — истиннее любых «низких истин» очевидной действительности.
Приведенные курсивом слова из пушкинского стихотворения «Герой» (написанного, кстати, в том же 1830 году, что и первая из сказок) напоминаются здесь не случайно. Вряд ли можно найти другого великого писателя, которому поэтика фольклорно-сказочного «обмана» была бы так же близка и сродна, как Пушкину. У него тоже — универсальность, монументальность, главенство большой, бытийственной правды над эмпирическими «низкими истинами», такой правды не несущими (при виртуозном мастерстве в использовании деталей, порой микроскопических, если они важны); наконец — решающая роль действия (в лирике — глагола) в построении как сюжета, так и образа. Ведь любой образ Пушкина, особенно зрелого, построен прежде всего на поступках персонажа: система поступков героя, его поведение — несущая конструкция образа, а все остальное — мысли, мотивировки, описание чувств и пр. — согласуется с этим «каркасом», одевая его в художественную плоть. «Молодые писатели не умеют изображать физические движения страстей», — писал Пушкин; это требование изображать внутреннюю жизнь через «физические движения» справедливо связывают с реализмом — а ведь таков и принцип фольклора («Закручинился Иванушка, голову повесил»)… Поиски новых способов выражения правды жизни, как внешней, так и внутренней, — одна из причин тяготения Пушкина к фольклору. Однако, как уже было сказано, это обращение не только ученика (в большой мере и исследователя), но — творца.
При чтении пушкинских сказок поражает, помимо прочего, ощущение удивительной житейской достоверности, чуть ли не бытового правдоподобия, порой чуть ли не до психологического реализма (вспомним хотя бы смерть Царевны: «…Пошатнулась не дыша, Белы руки опустила, Плод румяный уронила, Закатилися глаза, И она под образа Головой на лавку пала И тиха, недвижна стала»), — и все это без потери монументальности общего рисунка и универсальности общего смысла (что может быть монументальнее и универсальнее, чем, скажем, «Сказка о рыбаке и рыбке»?).
Пушкин почувствовал то, что можно назвать диалектикой сказки, может быть — парадоксом сказки: она «одновременно постоянна и текуча» (см. Э.В.Померанцева. Судьбы русской сказки. М.,1965,с.20-23. — В.Н.). Постоянство реализуется в описанной выше структуре фабулы и образа, текучесть — в устном, индивидуальном исполнении. Устная сказка имела исполнительскую природу, акт рассказывания всегда был в какой-то мере импровизацией на заданную, четко очерченную тему, и значительную роль играла здесь живая интонация рассказывания. Иными словами, одна и та же сказка как бы растворена в потоке множества устных версий, «сказываний». Это поистине река, в которую нельзя войти дважды; остановить и письменно зафиксировать ту или иную сказку в ее твердо единственном и в то же время животрепещущем виде — все равно, что поймать жар-птицу.
Сказки Пушкина вызывают ощущение, что такая задача им выполнена. Во всяком случае, они практически обрели статус народных, оставаясь «авторскими», как бы устными версиями, причем функцию «устности» выполняет их стихотворность (ибо стихи издавна рассчитаны именно на устное произнесение).
Как это у Пушкина получается?
Народная сказка — цепь поступков, динамическая связь действий. Иван-царевич пошел туда-то и сделал то-то. Царевна взяла яблочко, надкусила да и умерла. Царевич, как записывает Пушкин со слов няни, «избрал место и с благословения матери вдруг выстроил город и стал в оном жить да править». Дело делается не скоро, не «вдруг», а сказка сказывается скоро. Что касается персонажей, то «для изучения сказки важен вопрос, что делают сказочные персонажи, а вопрос, кто делает и как делает, — это вопросы уже только привходящего изучения» (В.Я.Пропп. Морфология сказки. М,1969, с.24. — В.Н.). Не важно кто и не важно как: не важно то именно, что определяет индивидуальность героя.
Пушкин почувствовал эти законы сказки; именно потому он их нарушил.
Во-первых, ему не всегда важно как раз то, что делают персонажи: так, семь богатырей почти ничего не «делают» в «Сказке о мертвой царевне» — сравнительно с тем местом, какое занимают в сюжете.
Во-вторых, ему важно, кто делает: например, он «отбирает» у Гвидона строительство города — город возникает сам, в накраду за спасение Лебеди (которой в няниной сказке не было).
В другой пушкинской записи, сделанной от няни, говорится: «Соглашается Балда идти ему в работники, платы требует только три щелка в лоб попу. Поп радехонек, попадья говорит: «Каков будет щелк»; мы видим, что черты персонажей строго разграничены: «хозяин», как ему и полагается, жаден и туп, «баба» хитра и осмотрительна. Но Пушкин «отбирает» у попадьи осмотрительность и «отдает» попу: «Призадумался поп…»
Тут следует сказать, что, в-третьих, Пушкину, в отличие от народной сказки, важно, как делается то, что делается:
Призадумался поп,
Стал себе почесывать лоб.
Щелк щелку ведь розь.
Да понадеялся он на русский авось.
Но ведь это уже психологическая мотивировка, что сильно меняет дело: сделка состоялась и сюжет «завязался» словно бы не потому, что так положено по сказочному «канону», а — из конкретных жизненных обстоятельств: «как в жизни».
Эту живую жизнь мы находим у Пушкина на каждом шагу. Подробнейшим образом описывается, как живет и что делает Балда в поповом доме, как к нему относятся домочадцы и хозяин. Изготовление Гвидоном лука рисуется в мельчайших деталях. Царевна не просто «выросла», а, «Тихомолком расцветая, Между тем росла, росла, Поднялась и расцвела». Вопреки правилам народной сказки, действие разветвляется: пока богатыри «Выезжают погулять, Серых уток пострелять», Царевна «В терему меж тем одна Приберет и приготовит»; рассказчик «следит» и за Гвидоном, и за Салтаном, находящимися на разных концах земли; и за Царевной, и за Мачехой, и за тем, что делают богатыри. «В синем небе звезды блещут, В синем море волны хлещут, Туча по небу идет, Бочка по морю плывет» — это, во-первых, пейзаж, вещь, сказке не свойственная, а во-вторых, это живое пространство, где идет сразу несколько жизней — от игры вольных стихий до невидимого прозябания узников. Жизнь идет всюду, и ничто не стоит на месте; и сама сказка начинается уже не по «правилам», не с «Жил-был царь…», а: «Царь с царицею простился, В путь-дорогу снарядился…», — прямо из жизни.
Самое замечательное здесь то, что все «нарушения», которые Пушкин производит в поэтике сказки, делаются в полном соответствии с фундаментальным принципом самой этой поэтики — с принципом действия, движения, поступка. Если народная сказка, ее сюжет, состоит из действий, то пушкинская сказка — из действий, превращенных в сюжеты. Там, где народная сказка обходится несколькими словами, у Пушкина- «Бьется лебедь средь зыбей, Коршун носится над ней; Та, бедняжка, так и плещет, Воду вкруг мутит и хлещет… Тот уж когти распустил, Клев кровавый навострил… Но как раз стрела запела, В шею коршуна задела — Коршун в море кровь пролил, Лук царевич опустил»… Это своего рода «сказка в сказке», притом построенная строго по законам действия — не случайно обилие глаголов. Масштаб действия изменяется, но функция остается основополагающей.
Если же это действие — жест, то оно строит не только сюжет рассказа, но и «сюжет» внутренней жизни персонажа, то есть заменяет сказочную условность жизненной достоверностью: «Призадумался поп, Стал себе почесывать лоб…» — этот жест проникает в следующие строки: «Щелк щелку ведь розь» — это говорится прямо под жест: рука почесывает лоб, в котором неуклюже ворочается смутная опаска. Наконец удается кое-что выскрести: «русский авось»… Остановилась рука: решаться, что ли? И — прямо ото лба, словно сбросив груз, — была не была: «Ладно; Не будет нам обоим накладно…»
Так, «нарушая» законы народной сказки, Пушкин в то же время по-новому реализует ее художественный потенциал, заключенный в исполнительской природе сказывания, — ибо у него получается своего рода театр, театр народного, площадного типа, генетически связанный и с импровизационным характером сказительского искусства, и со структурой сказки, построенной на действиях — действиях сил, находящихся в противоборстве (а конфликт — основа драматического действия).
Не лишне тут заметить, что сказки творятся Пушкиным как раз в ту пору, когда автор «Бориса Годунова» и «маленьких трагедий» размышляет о природе театра, его специфике, его происхождении от площадного народного представления. Не лишне вспомнить и то, что одним из краеугольных камней системы Станиславского является «метод физических действий» (прообраз этого термина — пушкинское выражение «физические движения страстей»); напомним, что душевную жизнь своих героев, ее детали и повороты, «движения страстей» Пушкин чаще всего передает как раз через физическое действие. Наглядный и простой пример — почесывание лба незадачливым героем первой из пушкинских сказок.
Результат этого немудреного жеста огромен: перед нами уже не только условный «отрицательный» персонаж, тупой и жадный, однозначно противопоставленный «положительному». Получается действительно глуповатый, действительно прижимистый, но какой-то очень уж по-русски безоглядный и в чем-то даже обаятельный «эксплуататор». Он сам мужик, как и Балда, с той лишь разницей, что у него есть должность; оба они шатаются без дела и определенного намерения, оба стремятся одурачить друг друга и оба заключают дикую сделку с размашистой решимостью: была не была. И ни тому, ни другому не откажешь в своего рода бескорыстии: поп цростодушно полагается на авось, а Балда не ищет, сверх вареной полбы, никакой выгоды, кроме, что называется, морального удовлетворения.
Иначе говоря, в пушкинской сказке герой перестает быть условным. Он не только «функционирует» в сюжете — он живет.
Это влечет за собой очень важные следствия. Сказка начинает захватывать более глубокие пласты человеческого восприятия, активно апеллировать к все более тонким человеческим эмоциям, или, выражаясь словами Пушкина, «чувствам души».
Фабула народной сказки, фабула небылицы, фантастического вымысла, обращена в первую очередь к интеллекту слушателя, его соображению, догадливости и пр.; главное в ней — интерес занимательности, приключенческого эффекта. Эти первичные воздействия могут дополняться эмоциями страха, порой юмора; наконец, в той естественной способности к сопереживанию, без которой немыслимо ни рассказывать, ни слушать сказку, врожденно присутствует наша жажда справедливости и правды. Однако существуют и иные, наиболее тонкие и человечные эмоции, которые выше не только авантюрного интереса, не только страха или смеха, но даже и чувства справедливости и правды (если правда, как часто бывает, отождествляется со справедливостью): сочувствие, сострадание, жалость, милосердие, любовь к человеку как своему ближнему. Апелляция к этим чувствам, которые, будучи «чувствами души», в то же время причастны уже к области духа, в «каноне» народной сказки не заложена: тут все зависит от конкретного рассказчика и конкретного слушателя — то есть высшие, духовные восприятия могут рождаться в процессе сказывания, а могут и не рождаться. Так, мы нередко встречаем в сказках очень жестокие кары злодеям, и это не уязвляет нас: условность, схематичность персонажей служит словно «охранной грамотой» нашего нравственного чувства.
Атмосфера пушкинских сказок иная. «Ожившие», превращенные в живые индивидуальности герои осложняют и углубляют наши чувства, рождают в нас такие эмоции, на которые народная сказка не была рассчитана.
Царевна входит в лесной терем. Для народной сказки этот момент есть лишь предмет информации. У Пушкина это очередной «сюжет в сюжете», пронизанный действием, движением; и как это происходит в кинематографе, движение порождает жизнь:
Пес бежит за ней, ласкаясь,
А царевна, подбираясь,
Поднялася на крыльцо
И взялася за кольцо.
«Подбираясь» — значит, подбирая подол платья. Жест этот так трогателен в своей естественности, живости, незащищенности и красоте, он так безусловен, что ни о каком вымысле мы уже не помним, мы видим живую прекрасную девушку и то, с какой любовью автор следит за своей героиней (вся сцена эта, кстати, очень напоминает посещение Татьяной имения Онегина в седьмой главе романа). В такой — лирической, задушевной, интимно-человеческой — функции действие в народной сказке не выступало никогда.
Отсюда — живая и личная интонация рассказа о смерти Царевны: «Вдруг она, моя душа, Пошатнулась не дыша…» Но почти так же — и о Лебеди: «Та, бедняжка, так и плещет…» Более того: даже там, где герой, по законам сказочного действия, не должен вызывать нашего сочувствия, оно появляется: будучи «на стороне» Балды, мы тем не менее с удивлением замечаем, что жалеем бесенка: «Бедненький бес Под кобылу подлез, Понатужился, Понапружился, Приподнял кобылу, два шага шагнул, На третьем упал, ножки протянул». Сказки Пушкина апеллируют к нашей человечности.
Критикам «Сказки о царе Салтане…» очень не нравились повторы («Ветер по морю гуляет…» и пр.), которые занимают чуть ли не половину текста. Тут не виделся смысл, виделось формальное копирование. Но нам эти повторы не надоедают, мы читаем их и слушаем каждый раз с новым увлечением, не очень отдавая себе отчет — почему. А дело в том, что эти повторы сгруппированы вокруг «заочных» отношений Гвидона с Салтаном, вокруг одиночества отца, потерявшего семью, и тоски сына, потерявшего отца, — вокруг человеческих отношений. Одни и те же слова, одинаковые эпизоды связаны каждый раз с нарастанием напряженности этой ситуации, с ростом тоски Салтана, с ростом тяготения Гвидона («Видеть я б хотел отца»), нарастающим желанием «заманить» Салтана к себе на остров. Если в народной сказке повторы играют поэтически-ритуальную роль или создают ретардацию (замедление) действия в целях усиления занимательности, то у Пушкина они служат пробуждению человечности в читателе и слушателе сказки, взывая к нашему участию и сочувствию.
Это участие достигает степени драматической, если не трагической, в «Сказке о рыбаке и рыбке», где монотонное движение Старика к морю — от моря, туда — сюда одновременно и строит живой образ покорности, и замыкает сюжет в круг, из которого, кажется, нет выхода. Здесь скорбь, подобная скорби, выраженной тяжкой строкой «Анчара»: «Но человека человек…».
Тема человеческих отношений — главная в «Сказке о мертвой царевне…», где в начале Царица-мать в момент свидания с мужем умирает от восхищения, а в конце Царевна воскрешается силой чувства («И о гроб невесты милой Он ударился всей силой») верного жениха; это поистине сказка о любви, которая «сильна как смерть» («Песнь песней»).
Именно в этой сказке мы снова встречаемся с несвойственным народной сказке преобладанием гуманности над справедливостью: эпизод смерти Царицы-мачехи, весь построенный — по сказочным законам — на действии («вскочив… разбив… побежала… повстречала. Тут ее тоска взяла, И царица умерла»), дает нам такую наглядность акта смерти, смерти от тоски, что, при всем торжестве справедливости, никакого особого ликования мы не испытываем…
И здесь следует вернуться к первой сказке, к ее финалу: «Лишился поп языка… Вышибло ум у старика…», — неужели нас не коробит этот «веселый» и «справедливый» конец? Неужели нам совсем не жалко героя сказки? Ведь перед нами уже не условная, одноцветная фигура жадюги хозяина, знакомая по народным сказкам, — это живой человек, который совсем недавно так уморительно почесывал вот этот самый свой толоконный лоб! Не страшновата ли беспощадная расправа?
А ведь сначала было еще страшнее. Сначала Пушкин попробовал строго следовать традиции народной сказки, которая работает в основном двумя цветами, приговоры которой однозначны и бескомпромиссны, а жестокость кары не подлежит этическим оценкам. Заглянув в черновик сказки, мы не сразу поверим глазам: пушкинская ли рука это написала:
А с третьего щелка
Брызнул мозг до потолка.
Написано и тут же зачеркнуто. Такого даже в народной сказке не встретишь: ведь подробности ей чужды. Пушкин, создавая ощущение житейской достоверности («Но как раз стрела запела, В шею коршуна задела…»), должен был достоверно передать и действие богатырского «щелка» — и в результате получился жестокий натурализм. Следует более мягкий вариант: «Вышибло дух у старика», — но все равно это убийство. Наиболее «гуманным» оказывается: «Вышибло ум у старика». Озорная, балаганно-веселая сказка заканчивается, в сущности, мотивом безумия — одним из самых трагических пушкинских мотивов.
Преодолев схематизм и одноцветность народной сказки, условность ее персонажа, Пушкин тем самым словно снял охрану, оберегавшую наше сознание, нравственное чувство, наши высшие, духовные эмоции от «жесткого излучения» суровой, подчас страшной правды, таящейся под сказочной условностью. Выяснилось, что создавшее сказку мифологическое сознание, с одной стороны, и то мироощущение, которое воплощается в пушкинском методе, с другой, — совместимы лишь до определенной границы.
Народная сказка порождена языческой эпохой, мыслившей мироздание, как уже говорилось, неким великим и безликим механизмом, в обращении с которым необходимо соблюдать определенные правила. Нарушившему их (например, погнавшемуся, как поп, «за дешевизной», то есть вознамерившемуся получить много, ничего не платя) грозила неминуемая беда: сунул голову в огонь — погибай, никакие тонкости и нюансы не в счет. Причем гибель часто грозила, вместе с героем, всему его роду, который на нем прерывался; не зря счастливый конец связан в сказках, как правило, со свадьбой — темой семьи, продолжения рода. Человек здесь прежде всего представитель рода, продолжение рода — продолжение жизни на земле. Отсюда — отсутствие в персонаже индивидуальных, тем более личностных, черт, а в нашем восприятии сказки — тонких и высоких чувств, духовных эмоций: в сказке важно лишь одно — успех героя в сохранении и продлении физической жизни, обеспечиваемой правильным обращением с механизмом бытия.
Пушкин — человек совсем другой эпохи, человек христианской культуры. Для христианского мировоззрения бытие вовсе не безликая система, работающая по раз навсегда данным законам: в жизни есть не только законы, в ней есть смысл и цель, не ограниченные физическим существованием, над миром царят воля и разум Творца этого мира, Творца этих законов и самого человека. Творец не безразличен к своим созданиям: он может покарать, но может и помиловать, как строгий, но любящий отец. Для Творца каждый человек — не только часть рода, не просто песчинка человечества, но самостоятельная ценность, уникальная индивидуальность; даже если этот человек — грешный («падший», если использовать пушкинское слово), он может заслужить снисхождение, испросить для себя или своих ближних милость. Знаменитые слова «И милость к падшим призывал» можно осмыслить как невольный пересказ молитвы: «…помилуй нас грешных».
В пушкинских сказках произошло, таким образом, столкновение двух мировоззрений — языческого, создавшего народную сказку, и христианского — пушкинского. И произошло оно в первой же из сказок, где под могучим «щелком» дюжего мужика оказался не условный тип «хозяина», а живой человек, которому больно и которого жалко. Практическое торжество «справедливости» потребовалось оплатить такою моральной ценой, которая для автора-христианина слишком высока.
Мы видели, как, «споткнувшись» о языческое, «варварское» решение проблемы расплаты, Пушкин пытался смягчить его жуткую суть. Но саму проблему из сказки не выкинешь — и Пушкин в дальнейшем это учитывает. В няниной сказке «про царя Султана» не было сестер-злодеек «с сватьей бабой Бабарихой», а была злодейка-мачеха, и в конце сказки она умирала, побежденная. В пушкинском «Салтане» конец совсем другой: раскаявшиеся злодейки прощены. В «Сказке о мертвой царевне…» Царица-мачеха умирает, но эта смерть, как мы видели, есть не только торжество правды, а и своего рода человеческая драма, что в языческой сказке немыслимо. Старуха в «Сказке о рыбаке и рыбке» наказана не жестоко: ей возвращено ее собственное разбитое корыто, но даже и такой финал отбрасывает рефлекс печали, чуть ли не жалости, смешанной с каким-то умиротворением. В отличие от народной сказки, которая скора на суд и расправу, подчас жестокую, Пушкин стремится как можно меньше судить своих героев. Он не обличает их, а показывает, сколь пагубны для них самих их злые и лукавые поступки.
Иначе говоря, центр тяжести перемещается у Пушкина из сферы, условно говоря, физической, в сферу душевной (граничащую со сферой духовной) жизни. Интерес сказочной интриги, интерес приключения дополняется — а порой и перевешивается — интересом внутренней жизни героев, интересом нравственных проблем, «грозных вопросов морали» (Ахматова). В народной сказке эти вопросы имеют большое, но, так сказать, прикладное значение (от поведения героя зависит его успех или победа), у Пушкина они претендуют на первое место. Нравственные качества героя начинают играть в построении его образа большую, чем в народной сказке, роль. Так, в первой сказке решающее значение имеют активность и хитроумие Балды, побеждающие даже чертей; что касается героя второй сказки, Гвидона, то его сила — прежде всего в бескорыстии и благородстве: после того как он пожертвовал единственной стрелой («добрым, ужином») для спасения неведомой Лебеди, все само плывет ему в руки (позже сходную роль сыграет заячий тулупчик Гринева). В третьей сказке у Старика — труженика и созерцателя (по современной терминологии — «чудака») все плывет уже мимо рук — по крайней мере, с точки зрения жадной Старухи. В четвертой сказке королевич Елисей ищет Царевну, но никакой борьбы с врагами не ведет. Вообще прагматическая «активность», свойственная Балде, постепенно как бы передается «отрицательным» героям (сестрам с бабой Бабарихой, Старухе, Мачехе), сила же «положительных» — внутренняя, нравственная. Главное их качество -любовь и верность (в противоположность ненависти, зависти, обману, свойственным их антиподам). Гвидон верен своей любви к отцу, святыне семьи. Старик верен своему пониманию семейного долга. Тема верности и любви пронизывает «Сказку о мертвой царевне…» всю от начала до конца: ожидание мужа и смерть матери от «восхищенья», долгие поиски Елисеем невесты и ее воскрешение, царевнин отказ сватающимся к ней семи богатырям (она любит их как «братьев», но ей «всех милей Королевич Елисей» — здесь своеобразно перемешались онегинское «Я вас люблю любовью брата» и Татьянин отказ Онегину: «Но я другому отдана»), вплоть до пса Соколки, пытавшегося спасти Царевну и пожертвовавшего собой, чтобы показать богатырям смертоносность яблочка…
Тема верности в творчестве Пушкина необычайно важна. Верны брачному обету Татьяна, Марья Кириловна («Дубровский»), Марья Гавриловна («Метель»). Верна Маша Миронова Гриневу, верен Гринев своей присяге, Пугачев верен своим нравственным обязательствам перед Гриневым. Неверность, предательство — самые страшные грехи: ужасен Мазепа, ничтожен Швабрин, предательство Князя губит Дочь мельника («Русалка»).
Понятие верности как одной из основ прочности жизни и нравственного здоровья, даже судеб человечества, связано у Пушкина с сакральностью слова. Слово священно. Это не только произнесенный звук, не только название чего-либо, не только данное обещание. В слове сосредоточена вся полнота бытия. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков» (Ин.1,1). Верность Слову есть верность Богу, Правде, верность жизни и свету, основа несокрушимости бытия. Нарушающий Правду оскорбляет Слово и тем разрушает бытие, свое и общее. Царица-мачеха пытается уничтожить ту правду, которую ей говорит зеркальце, но погибает сама. Верная своему слову Царевна воскресает, когда приходит жених. Слово верно тому, кто верен Богу и совести, и наоборот: когда ненасытная Старуха переходит границу и притязает на владычество над морем и Рыбкой (в сущности — над миром) — данное Рыбкой обещание («Откуплюсь чем только пожелаешь») не выполняется. Более того: все, что для Старухи «начало быть» по слову Рыбки, все ее новое житье исчезает, и она остается опять с разбитым корытом; слово отменяется, точнее — возвращается к своему источнику.
Верность слову — будь это «уговор» в результате торга, или брачный обет, или чувство супружеской или сыновней любви (в христианском исповедании «Слово было Бог» и «Бог есть любовь») — это верность предвечным основам бытия; не случайно так важно в народной сказке выполнение героем своих обещаний и уговоров. У Пушкина это стало одной из сквозных тем всех сказок, и наиболее обнаженно тема эта прозвучала в последней сказке — о золотом петушке, в начале которой Дадон со спесивым легкомыслием дал слово выполнить любое желание Звездочета («Волю первую твою Я исполню как мою», — словно он, Дадон, всесилен!), а в конце столь же спесиво отказался выполнять эту самую «волю первую» — и это кончилось плохо, ибо со словом шутить нельзя.
Другая сквозная тема пушкинских сказок — тема семьи. Здесь Пушкин тоже следует за народной сказкой, для которой семья — средоточие, центр и символ жизни. У него семья — главное «место действия» всех сказок. Балда становится чуть ли не членом поповской семьи («Попенок зовет его тятей»). Сюжет «Салтана» вяжется в единое целое не столько внешними событиями, сколько именно темой семейного тяготения и воссоединения, семейной любви, семейного счастья, семейных уз («Но жена не рукавица…» — говорит Лебедь в пространном и серьезном разговоре с Гвидоном о женитьбе; снова вспомним, что сказка написана в первый семейный год Пушкина). «Сказка о мертвой царевне…» начинается гибелью доброй и любящей жены, приходом злой и себялюбивой, а заканчивается нарождением, возрождением настоящей, доброй семьи. «Сказка о рыбаке и рыбке» — тоже о семье, существующей «тридцать лет и три года». С семейной темой Пушкин связывает важнейшие проблемы душевной и духовной жизни человека, в том числе те, которыми древняя сказка была еще не очень озабочена. Так, он радикально изменяет коллизию померанской сказки Гриммов «О рыбаке и его жене», где рыбак и его жена составляли, в сущности, одно целое и вместе наслаждались полученными от рыбы Камбалы благами; пушкинские Старик и Старуха в духовном смысле антиподы. Это — семейная драма. Но не только семейная. Как и тему верности слову, унаследованную от народной сказки, тему семьи Пушкин тоже расширяет до масштабов всемирных. Семья становится художественным образом всего человечества, в котором действуют и силы центробежные, разделяющие — силы эгоизма, властолюбия, гордыни, — и центростремительная сила любви, верности и правды.
Если вспомнить эволюцию двух противостоящих рядов героев — «положительных» («бескорыстных») неотрицательных» («активных»), то соотношение их можно выразить строками пушкинского стихотворения «Ангел» (1827):
В дверях эдема ангел нежный
Главой поникшею сиял,
А демон, мрачный и мятежный,
Над адской бездною летал.
Ангел, существо высокого, божественного мира, «пассивно» сияет «главой поникшею» (чтобы понять религиозную глубину этого образа, надо вспомнить склоненные головы ангелов боговдохновенной «Святой Троицы» Рублева), а дух зла находится в беспрестанном, беспокойном, «мятежном» движении. Ангел — символ осуществленного, самодовлеющего блага, но не горделивого, а счастливо смиренного, тихого, «нежного»; демон поражен ущербностью, которая не дает ему успокоиться, ибо уязвляет его гордыню.
Так и у Пушкина в сказках: один ряд героев — благородно-смиренных — ведет к ангельски чистому образу «кроткой» Царевны, другой — деятельный, «мятежный» — эволюционирует к демоническому образу Царицы-мачехи.
Смирение и гордыня — вот, в конечном счете, водораздел между двумя рядами, и он особенно ясно виден в срединной сказке, третьей из пяти, — о рыбаке и рыбке. В померанской сказке, служившей Пушкину источником, притязания Старухи доходили до требования сделать ее сначала «римскою папой», а потом — богом. Пушкин отказался от этих эпизодов и предпочел вариант менее «жесткий», но не менее многозначительный: Старуха хочет повелевать морем и Рыбкой, символизирующими высшие, божественные силы бытия.
И все же есть смысл привести один из черновых набросков:
«Добро, будет она римской папой».
Воротился старик ко старухе —
Перед ним монастырь латынский,
По стенам латынские монахи
Поют латынскую обедню.
Перед ним Вавилонская башня;
На самой на верхней на макушке
Сидит его старая старуха,
На старухе сорочинская шапка,
На шапке венец латынский,
На венце тонкая спица,
На спице Строфилус птица.
Поклонился старик старухе,
Закричал ей голосом громким:
«Здравствуй ты, старая баба,
Я чай твоя душенька довольна».
Необычайно значительно присутствие Вавилонской башни, которая в Священном Писании (Быт.2) является символом богохульства, святотатственной человеческой гордыни, самозванства, ведущего к саморазрушению.
Птица же Строфилус (или Страфиль) упоминается в знаменитом издавна на Руси «духовном стихе» о божественной Голубиной Книге, которая, как говорится в стихе, упала с неба, чтобы возвестить людям тайны происхождения мира и пророчества о его конце:
Страфиль птица вострепехнетца,
Все сине море восколыхнетца,
Тады будя время опоследняя.
Так проясняется связь сюжета пушкинской сказки с темой эсхатологической, с темой тайны бытия, смысла земной жизни, конца земной человеческой истории. В дальнейшем эта тема, возвещаемая мотивом птицы («Закричит и встрепенется»), определит атмосферу, пафос, смысл «Сказки о золотом петушке» (Петух в мифологии разных народов — то символ солнца и света, то птица, возвещающая — как и Строфилус — конец мира и Судный день. Петух возвещает зарю, петух прогоняет нечистую силу, петух прокричал апостолу Петру, когда тот отрекся от Христа. Особо заметим: в новелле, послужившей источником сказки, петух не играет столь значительной роли в сюжете, как у Пушкина. — В.Н.), герой которой наследует черты глупой и себялюбивой Старухи.
А Старик? Его смирение оказывается силой. Ведь если бы не это христианское, в сущности, смирение — когда он покорно выполняет даже последний, самый дикий приказ своей глупой и сварливой половины, — его Старуха так и осталась бы царицей! И правда бы не восторжествовала — как будто ее и нет.
Именно смирение, эта внешняя «немощь» (за которую Старика исследователи и читатели часто осуждают), оказывается орудием Высшей правды. Здесь художественно выразилась глубочайшая истина, переданная апостолами Иаковом: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак.4,6), — и Павлом: — «Господь сказал мне: «…сила Моя в немощи совершается» (2Кор.12,9).
В наше время эта сказка звучит как пророчество и предупреждение всему человечеству, которое притязаниями на удовлетворение всех своих прихотей, на власть над всем миром «видимым и невидимым», поставило себя на ту грань, за которой «разбитое корыто» — еще не самый худший финал.
Мощный философско-религиозный пафос этой сказки делает ее произведением, далеко выдающимся за пределы собственно сказочного жанра. В сущности, это можно сказать не только о ней; в каждой из сказок есть этот глобальный, как говорят сегодня, смысл. Просто в других он не так очевиден. И каждая сказка, в связи с теми преобразованиями, которым подвергает сказочную систему Пушкин, перерастает свой жанр, хотя фундамент остается прежним, древним. В сущности, весь цикл сказок словно бы воспроизводит на наших глазах гигантский процесс вырастания литературы на фундаменте фольклора, возникновения ее из живого сказывания сказочного сюжета. Ведь каждое конкретное сказывание, каждая живая устная версия той или иной сказочной фабулы были, начиная с древности, не только исполнительством, родственным театру, но, в какой-то мере, и личным словесным творчеством сказителя. А личное словесное творчество, зафиксированное письменно, — это и есть литература. И каждая из пушкинских сказок близка к какому-либо литературному жанру: первая похожа на басню, во второй есть что-то от лубочного романа, третья клонится к притче, четвертая своим лиризмом напоминает поэму.
А пятая, последняя?
«Сказка о золотом петушке», неразрывно связанная со всем циклом, в то же время стоит особняком, замыкая процесс и вместе с тем как бы переводя его в новое измерение. Меньше всех других она похожа на русскую народную сказку, и источник ее совсем иной: как установила А. Ахматова, основой для Пушкина стала новелла американского писателя Вашингтона Ирвинга («Легенда об арабском звездочете»), которая написана в духе восточной легенды и повествует об Испании времен мавританского владычества. Единственная ярко русская черта сказки — колоритный характер центрального героя, Дадона. Уже одна эта пестрая «география» — Россия, Америка, Испания, Восток — предполагает поистине мироохватывающий характер сказки. В самом деле, чем глубже вдумываешься в эту странную — и страшную, прежде всего своей загадочностью, своей таинственностью, — историю, тем яснее видишь, что здесь и в самом деле словно закодирован некий всеобщий закон нашего бытия, что в молчаливой глубине этой притчи покоится простой и великий смысл, равно касающийся и отдельной человеческой жизни, и существования всего людского рода. Этого нельзя не почувствовать, но это очень трудно выразить в понятиях. Отчасти тут можно выйти из положения, поставив такой вопрос: почему так случилось с Дадоном? За что он столь сурово наказан?
А. Ахматова утверждала, что кара постигла царя за нарушение слова, данного Звездочету: «Волю первую твою Я исполню как мою». «Первой волей» Звездочета была просьба: «Подари ж ты мне девицу». Дадон отказался ее выполнить, мало того: в гневе убил Звездочета, — за это и был беспощадно казнен Золотым петушком, «А девица вдруг пропала, Будто вовсе не бывало».
Но ведь это лишь самый конец истории — и нарушение слова, и убийство; а все, что привело к такому концу: нападения врагов, исчезновение одного сына, пропажа другого, страшное зрелище их взаимного братоубийства (вспомним о теме семьи в пушкинских сказках!), от которого «Застонала тяжким стоном Глубь долин, и сердце гор Потряслося», содрогнулась даже «равнодушная природа», — все это произошло до того, как Дадон нарушил данное слово; иными словами, кара началась гораздо раньше. За что же?
Именно такой вопрос задал автор этих строк много лет назад детям, собравшимся послушать его рассказ о Пушкине-сказочнике. И девочка лет десяти так ответила на этот вопрос:
— За то, что Дадон, когда был молодой, обижал всех соседей. Ответ — абсолютно точный, простой и единственный, к которому взрослый человек, профессиональный пушкинист, подошел путем долгих, напряженных размышлений, — ребенком был найден в мгновение ока.
В самом деле, судьба Дадона есть своего рода модель человеческой судьбы — такой судьбы, которая складывается в результате необыкновенно распространенного типа поведения. Все, что делает Дадон, диктуется исключительно его желаниями, хотениями, его вожделениями (в широком смысле слова) — вожделениями властолюбия, сластолюбия, гордыни, — и больше ничем. Хотел соседям «наносить обиды смело» — наносил; после этого захотелось как ни в чем не бывало «отдохнуть от ратных дел», не неся ответственности за свои бесчинства, — потребовал отдыха, «покоя»; захотелось насладиться обществом «девицы» — наслаждается прямо в виду мертвых, друг друга убивших собственных сыновей; когда хочется — дает любые обещания, когда неохота их выполнять — отрекается; и «смолоду», и «под старость» ведет себя так, словно все на свете создано и существует в расчете только на него. Это судьба человека, который, существуя в не им созданном мире, тем не менее считает себя полным в этом мире хозяином и распорядителем, могущим беспрестанно от него брать, ничего не отдавая, ничего не платя, — и в конце концов полной мерой расплачивается за это злостное заблуждение.
«Модель» эта, в сущности, универсальна: все мы — в своем роде Дадоны, почти для всех нас наши интересы и хотения — на первом месте, остальное, как правило, менее важно, а если жизнь встает поперек наших хотений, мы обижаемся на невезение, а то и гневаемся на «коварство» судьбы, как разгневался Дадон на преградившего ему путь Звездочета.
Кстати о Звездочете. У Пушкина он почти лишен личных, характерных черт, едва ли не бесплотен. Между тем у Вашингтона Ирвинга чародей — вполне реальный старик, с характером, и к тому же привередливый сластолюбец, охотник до восточной роскоши и до женской красоты, — оттого ему и хочется отнять у султана прекрасную пленницу.
У Пушкина Звездочет — скопец, и это единственное, что о нем доподлинно известно. Прекрасная женщина ему не нужна. Ему нужно, чтобы Дадон выполнил свое обещание.
Но ведь на самом деле это нужно не столько ему, сколько Дадону.
А Дадон этого не понимает — и гневается на Звездочета. И так решается его судьба.
Собственно, вся сказка — о том, что такое человеческая судьба, в сказке спрессован многовековой опыт человечества в постижении смысла этого понятия.
Судьба героя народной сказки складывалась удачно и счастливо постольку, поскольку он правильно вел себя. Бытие было великой магической системой, совершенно безразличной к человеку, существующей сама по себе, и сказка учила человека «всматриваться» в эту систему, подлаживаться, говоря современным языком, к ее алгоритму: говорить те слова и выполнять те действия, которые полагается говорить и выполнять, не делать того, чего делать нельзя; это обеспечивало успех и счастливую судьбу.
Пушкинский герой создан в христианскую эпоху. Христианство не отвергло языческое знание, а дало ему свое место, иные координаты. Оно дало человеку сознание того, что бытие и его Творец небезразличны к нему, человеку, что человек, более того, есть любимое дитя Бога, «венец творения», ради которого, в сущности, создан весь мир. Это сознание налагало на человека огромную ответственность за себя и за весь мир. Со временем эта ответственность была забыта, хуже — она превратилась в безмерную гордыню, доходящую порой до соперничества с Богом (вспомним «Сказку о рыбаке и рыбке»). Таков Дадон — он ведет себя так, будто весь мир находится в его полной воле и подчиняется его хотениям. Он «смолоду» поступает как герой первой сказки, погнавшийся «за дешевизной», и кончает тоже тем, что пытается уйти от выполнения уговора: герой первой сказки придумывает несуществующий оброк с чертей, герой последней бросает Звездочету: «Или бес в тебя ввернулся?» — за что оба должны жестоко поплатиться: один получает «по лбу», другой — «в темя». Вспомним также «Сказку о рыбаке и рыбке»: Старуха своим последним желанием захотела, в сущности, отменить то «ласковое слово», которое Старик дал Рыбке, отпустив ее («Бог с тобою, золотая рыбка!»), и закабалить Рыбку — Дадон отменил слово, данное им Звездочету, и тем самым, как и Старуха, перешел границу, которую безнаказанно переходить нельзя.
Жизнь идет вопреки хотениям Дадона, подчиняется не его воле,, а иной, высшей, — потому что он, делая все то, чего делать нельзя, совсем не делает того, что должно делать человеку, оставаясь человеком. Так складывается его «несчастливая» судьба, и в этом нет ни странности ее, ни «коварства».,
В отличие от народной сказки, судьба эта воплощена не только в рисунке сюжета, но и в персонажах. Это, конечно, таинственная троица: Звездочет, Золотой петушок и Шамаханская царица, — группа, придающая сказке жутковатую загадочность. Все эти «герои» как-то бесплотны, схематичны и одноцветны, почти как персонажи древней народной сказки (кстати, цвет здесь важен: Звездочет — белый, «поседелый», как вечность, Петушок — царственно-золотой, Царица — сияет «как заря», на ней словно отблеск «кровавой муравы», на которой лежат сыновья Дадона); но это иная схематичность, это скорее, призрачность, фантомность (что народной сказке чуждо). Вспомним, что в конце девица «вдруг пропала, Будто вовсе не бывало», И притом пропала как раз в тот момент, когда «пропал» («охнул раз — и умер») сам Дадон. То есть ее самой по себе как бы и не было, она — часть жизни Дадона, его помыслов и хотений, часть души героя, который, вот уж поистине, «Не боится, знать, греха»; не обычная сказочная героиня, а фантастическое воплощение жизненных вожделений Дадона. Они-то, вожделения, и есть подлинный, главный «враг», о котором так настойчиво кричит петушок, — ведь, по желанию самого героя, он должен был охранять его не только от соседей, не только от «набега силы бранной», но и от «другой беды незваной». Этой «бедой незваной» и оказывается сам Дадон, «беду» свою он несет в себе — и словно сам себя же убивает: «хватив» Звездочета «жезлом по лбу», тут же получает удар «в темя».
Каковы поступки, желания, помыслы человека — такова и его судьба. В сущности, все три странные фантома — не герои, а символическое воплощение исполнения желаний героя, а тем самым — и его судьбы. Судьба совершилась, герой обратился в ничто — исчезли и они: один «упал ничком, да и дух вон», другой «взвился», третья «пропала».
Но это уже не сказка. Это в полном смысле литература, возникшая из сказки. По идейно-художественным приемам это близко, скажем, к «Шагреневой коже» Бальзака, к «Портрету Дориана Грея» Уайльда, это, наконец, близко к философской фантастике XX века: припомним, например, «Солярис» Ст.Лема, где «мыслящий океан» (ср. тему и роль моря у Пушкина) отзывается на тайные помыслы героев, воплощая их в реальность.
Сходная с современной фантастической философской притчей, эта сказка в то же время напоминает древний жанр учения или поучения, где жизненные и нравственные уроки увязывались с религиозной концепцией мироздания; недаром последнее слово сказки — «урок». «Урок» этот, однако, вовсе не языческого мифологического свойства. Для языческого сознания, как уже говорилось, бытие безразлично к человеку; и потому человеческая судьба — вещь необратимая, ее не исправишь и не искупишь, такой вопрос даже и не ставился, человек словно попадал в капкан. У Пушкина не так. У Пушкина бытие не ставит человеку ловушку, а ведет с ним диалог. В финале пушкинской сказки совершенно ясно, что Дадону дается возможность выбора. Если бы он сдержал свое слово, если бы впервые в жизни поступил по правде, предпочел бы не ударить, а отдать — вся его жизнь была бы искуплена, ибо он сам стал бы другим, оплатив ее добровольно. Но он остался таким, каким был, и потому расплатился за эту жизнь иначе — обратившись в прах, поскольку ни во что другое такая жизнь перейти не может.
Мрачность подобного финала подчеркивает, оттеняет наличие той светлой возможности, которая у человека есть, которая ему предлагается. В мире «Сказки о золотом петушке», в пушкинских сказках вообще (вспомним: «Тут они во всем признались, Повинились, разрыдались… Царь для радости такой Отпустил всех трех домой») судьба — в отличие от мира языческого, мифологического — вещь в принципе обратимая, искупление — реально, даже в самый последний момент: у человека всегда, пока он жив, есть возможность раскаяться, стать иным, исправить свой путь, свою душу и тем открыть ей тропу к бессмертию; все зависит от желания и готовности к этому.
Завершающая цикл «Сказка о золотом петушке» многим отличается от остальных сказок — прежде всего своим суровым, даже грозным пафосом, заставляющим вспомнить то Ветхий завет, то (в связи с ее восточными оттенками) Коран, — но внутренне она неотъемлемо принадлежит христианской культуре, воплощает христианский взгляд на мир и человека, на бытие и человеческую судьбу.
Ее таинственность и драматизм — не чисто литературный прием, в них отразился драматический, нередко и трагический, жизненный опыт самого поэта, опыт, обретенный в личном пути — пути, руководимом «духовной жаждой» и взыскательной, порой до жестокости, личной совестью гениального, но смертного и грешного, как все мы, человека. «Сказка о золотом петушке», как и «Сказка о рыбаке и рыбке», касается не только индивидуальной судьбы — в ней явственно символическое, эсхатологическое, даже апокалиптическое начало, она — о человеке, о целях бытия, о том, как понимать смысл и цель земной жизни человека. Это делает ее одним из главных произведений позднего Пушкина с его сосредоточенностью на том, что Достоевский называл «последними вопросами».
В цикле пушкинских сказок повторилась, в своеобразном и сжатом виде, история разрушения жанра древней сказки и возникновения литературы. Пушкин не всуе назвал эти произведения «новыми русскими сказками». Непризнанные сами, они оказали мощное опосредованное (в первую очередь — через роман «Капитанская дочка») влияние на становление русского реализма с его стремлением не только к эмпирической «правде жизни», но и к высокой правде духа, — становление, в котором фольклор получил, во многом с легкой руки Пушкина, роль активной творческой силы.
Сохранив опору на древние мифологические представления о бытии как системе твердых законов, Пушкин в своих сказках преодолел ограниченность создавшего сказку языческого сознания: построил картину мира, в котором любовь и верность превыше законов, а главное чудо — человек: существо, одаренное не только физическим естеством, обреченным разрушению, смерти, но и душой, духом, истинная природа которых — жизнь, вечность.
Последняя сказка цикла сурова. Но ее суровость еще ярче оттеняет красоту и добро мира пушкинских сказок. Это светлый мир. То есть — такой, в котором ясно, что светло, а что темно, что высоко, а что низко. Это не мир сплошного добра — это мир ясности духа. Благодаря развернутости к жизни духа, в которой есть возможность добра, истины, красоты, милосердия, искупления, бессмертия, художественный мир сказок Пушкина, несмотря на «разрушение жанра», остается целостен и нерушим, неразъято прекрасен, вечен и полон неиссякающей радости бытия (более детальное рассмотрение пушкинских сказок см. в моей работе «Добрым молодцам урок» («Поэзия и судьба». М.,1987; М.,1999). — В.Н.).
1991, 1999
«Евгений Онегин» как «проблемный роман»
В середине февраля 1825 года в лавке петербургского издателя и книгопродавца Ивана Васильевича Оленина поступила в продажу новая книжка, небольшая, в стихах. Герой ее был дворянин — молодой, состоятельный, полный сил человек, которого неожиданно поразил странный и тяжелый недуг — апатия, угрюмое равнодушие ко всему на свете.
Он более или менее образован, умен, разбирается в литературе, великолепно танцует, имеет громадный успех у женщин и великий мастер кружить им головы. Бывает во всех модных — или, как сказали бы сейчас, «престижных» — домах столицы, встает когда хочет, хоть заполдень, обедает в знаменитом французском ресторане, на столе все, что душе угодно. Потом — театр, где молодой человек проводит половину времени за кулисами, в обществе очаровательных артисток. Поздним вечером, скорее даже ночью, — в гости, на бал, где веселье до утра. Чем не жизнь?
А ему тошно: жизнь потеряла для него всякий смысл.
На этом рассказ обрывался.
В кратком авторском предисловии говорилось:
«Вот начало большого стихотворения, которое, вероятно, не будет окончено».
Это была только первая глава. Все ждали продолжения.
Но никто не предполагал огромности события, происшедшего в отечественной литературе. Вряд ли и сам автор — ему в момент выхода книжки было всего 26 лет — догадывался об этом.
С тех пор прошло около полутора веков. Роман в стихах «Евгений Онегин», став центральным произведением Пушкина (даже время работы над ним — это центральное семилетие пушкинского творческого пути), оказался также и центром всей классической русской литературы, которую один западноевропейский писатель назвал святой литературой и которая до сих пор — чудо и загадка для всего мира. Эта книга стала бесспорной вершиной национальной поэзии, и в то же время она заложила основы и дала своего рода «программу» русского классического романа как главного жанра литературы и центра всей русской культуры. Она создала вокруг себя сферу влияния, которую составила, в сущности, вся русская классика и к которой не смог остаться безразличным практически ни один из крупнейших художников последующего времени. От «Героя нашего времени» до «Поэмы без героя» Ахматовой, от «Обломова» до «Бесов» Достоевского, от «Возмездия» Блока до «Василия Теркина» Твардовского и пьесы «Медведь» («Обыкновенное чудо») Е.Шварца и дальше — вся наша литература пронизана «Евгением Онегиным».
Мы сегодня очень много знаем об этом романе. Знаем, что он писался свыше семи лет, с 1823 по 1830-1831 годы, знаем время работы над каждой главой; знаем творческую историю, то есть — что задумывалось и что изменялось автором в ходе работы, от чего автор отказывался и что проявлялось в сюжете неожиданно для него самого, как сокращалось задуманное количество глав; нам известно, как принимались читателями и критикой выходившие в печать главы, как влияли на работу над романом события истории и литературной жизни и как он сам влиял на отечественную культуру, отзываясь в творчестве писателей, художников, композиторов, мыслителей. Подробно исследованы черты романа как «энциклопедии русской жизни» (Белинский) начала XIX века, его связи с европейской и мировой культурой; его место в творческой эволюции Пушкина и в его жизни, как и чем перекликается роман с другими пушкинскими произведениями; существуют обширные комментарии к роману, имеющие энциклопедический характер, благодаря которым нам понятно и то, что было ясно только для современников, и то, что им было еще не видно, в чем Пушкин их опередил; нам нетрудно узнать, к кому обращается автор и кого имеет в виду там-то и там-то, на что намекает вот здесь и здесь, и кто такие Ричардсон и Мармонтель, Юлия Вольмар и Мельмот, и что такое «онегинская строфа» и «лирическое отступление», и как понимать слова «другие сени», и многое-многое другое. Но часто ли мы задаем себе вопрос: а про что это произведение, почему оно до сих пор
волнует сердце читателя и слушателя? Какой вопрос, какая человеческая проблема строит его содержание, дает роману его вечную жизнь? Что в нем заставляет порой вздрогнуть и почувствовать: это — правда, это — про меня, про нас всех? Ведь написан-то роман более чем полтора столетия назад, написан не про нас, а про совсем других людей!
- Хандра
Итак — что же произошло с молодым человеком по имени Евгений Онегин? Почему обрушилась на него хандра, почему опротивела ему жизнь — бесценное сокровище, вручаемое человеку даром, ни за что?
«Первая глава, — поясняет Пушкин в своем предисловии к ней, — представляет нечто целое. Она в себе заключает описание светской жизни петербургского молодого человека…» То есть автор предупреждает, что сейчас для него главное — не сам этот молодой человек, не его личные качества, внутренняя жизнь, характер и т.п., а описание того, как живет этот человек. Говоря иначе, автор в первой главе романа занят не столько «образом героя», сколько образом его жизни.
Как же он живет? Автор отвечает:
Среди блистательных побед,
Среди вседневных наслаждений…
Жизнь Онегина описывается в первой главе как непрерывное пиршество за праздничным столом.
Кстати, обозревая описанный в первой главе день Онегина (он начинается со слов: «Бывало, он еще в постеле…», а кончается словами: «Спокойно спит в тени блаженной Забав и роскоши дитя»), мы можем заметить: в этом описании главное место занимает как раз мотив стола.
Вначале это обеденный стол:
Пред ним roast-beef окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым.
Еще бокалов жажда просит
Залить горячий жир котлет,
Но звон брегета им доносит,
Что новый начался балет…
Мы и не заметили, что балет тоже оказывается своего рода аппетитным блюдом — наряду с ростбифом, страсбургским паштетом и котлетами…
После балета — еще один стол, на этот раз — туалетный:
Янтарь на трубках Цареграда,
Фарфор и бронза на столе…
…..
Гребенки, пилочки стальные,
Прямые ножницы, кривые
И щетки тридцати родов
И для ногтей, и для зубов…
Все — для удовольствия, наслаждения.
Новое «блюдо» — бал, развлечения, любовные похождения:
Как рано мог он лицемерить,
Таить надежду, ревновать,
Разуверять, заставить верить,
Казаться мрачным, изнывать…
…..
Как он умел казаться новым,
Шутя невинность изумлять,
Пугать отчаяньем готовым,
Приятной лестью забавлять…
Не правда ли, все это сильно похоже на меню, перечень лакомств и деликатесов? Это искусство наслаждения, гурманства, только несколько иного рода, чем удовольствие от жирных котлет и золотого ананаса, — и называется это иначе: «наука страсти нежной»…
Выходит, стол и в самом деле символ того образа жизни, что описывается в первой главе романа. Символ жизни-потребления. Потребляется весь мир:
Все, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный
И по балтическим волнам
За лес и сало возит нам,
Все, что в Париже вкус голодный,
Полезный промысел избрав,
Изобретает для забав,
Для роскоши, для неги модной… —
Вся «просвещенная Европа» на столе нашего героя.
Потребляется искусство: театр, балет; потребляется «нежная страсть», которую называют любовью; потребляются даже самые простые человеческие отношения. Вспомним здесь первую строфу романа («Мой дядя самых честных правил…»), эту «визитную карточку» героя, его нравственный портрет: онегинский дядя «уважать себя заставил» только тем, что «не в шутку занемог» и, быть может, собирается умереть, оставив Евгению наследство. Из этого внутреннего монолога героя ясно, что Онегину нет ровно никакого дела до самого дяди — важно лишь ожидаемое наследство (потому-то он и готов, как говорится позже, «денег ради, На вздохи, скуку и обман»). То есть — другой человек, его жизнь (точнее, его смерть) — тоже предмет потребления, повод для удовольствия, наслаждения, удобства. Не случайно ведь приезд Онегина в деревню описывается так:
Но, прискакав в деревню дяди,
Его нашел уж на столе,
Как дань готовую земле.
Стол (на который обычно ставят гроб) поминается не зря: на одном столе — «трюфли, роскошь юных лет», на другом «фарфор и бронза», а вот на этом — богатый дядя…
Так завершается в главе тема стола, тема потребления всего на свете. В то же время этот последний стол — мрачный символ конца жизни, который должен навести на мысль: так в чем же цель жизни? Неужели весь смысл человеческого бытия на земле — это есть, пить, веселиться, получать удовольствие от этих занятий, не требующих от человека ничего, кроме физического здоровья и ненасытности?
Предвижу удивление, а может быть, и несогласие: и это — Онегин?! Ведь сложилась традиция видеть в пушкинском герое человека сложного, глубокого, умного, благородного, страдающего, а тут — примитивное, почти животное существование…
Но ведь выше сказано: в первой главе описывается не столько сам Онегин, сколько его образ жизни; а ведь человек и его образ жизни — часто вовсе не одно и то же.
Более того, именно такой случай и взят Пушкиным: несовпадение личности и ее образа жизни — это и есть основа романа.
При чтении первой главы у вдумчивого читателя не может не возникнуть вопрос: что же это за жизнь, в которой человек, «царь природы», «венец творения», складывается из того, что он ест и пьет, куда ходит развлекаться и как умеет обольщать, — одним словом, из того, что он потребляет? И неужели такая жизнь и есть настоящая, достойная человека жизнь? Автор так прямо и ставит этот вопрос:
Но был ли счастлив мой Евгений,
Свободный, в цвете лучших лет,
Среди блистательных побед,
Среди вседневных наслаждений?
…..
Нет…
Вот здесь-то и проясняется, почему автор любит героя, ведущего столь бессмысленную жизнь, более того, почему он подружился с ним. Ведь подружился, надо заметить, не когда-нибудь, а именно тогда, когда Евгению такая жизнь опротивела, когда «ему наскучил света шум». Так и говорится:
Условий света свергнув бремя,
Как он, отстав от суеты,
С ним подружился я в то время…
Подружился потому, что увидел: Онегин больше той «сладкой Жизни», которой он живет, она ему, в сущности, не по нутру, и это в нем основное. Ведь низкая натура купалась бы в онегинском существовании и ничего лучшего не желала бы. Онегин — натура высокая, он постепенно начинает интуитивно чувствовать, что с ним происходит что-то не то, что в его жизни что-то не так. Тут и нападает на него тоска, хандра, равнодушие — и, наконец, презрение к самой жизни, к этому дурному, неправильно устроенному миру.
Но вот здесь он и ошибается. Дурен не мир — дурно миропонимание, которое усвоил герой с детства и которое определило его образ жизни — такой, как у множества образованных людей того времени.
- Философия
Миропонимание это распространилось в России особенно широко в результате революции Петра I, целью которой было уподобить Россию во всем Западной Европе, где оно, это миропонимание, формировалось в течение нескольких веков, да и сейчас является господствующим. Суть его состоит в перетолковании, в измененном понимании христианского учения о человеке.
Во втором тысячелетии христианская истина о том, что человек создан по образу и подобию Бога, была переосмыслена: человек, в сущности, равен Богу, его свобода — это практически полная независимость от Бога, человек — хозяин вселенной, имеет право ставить себе любые цели, достигать их всеми доступными средствами, приспособить весь мир к своим потребностям.
Потребности — вот, пожалуй, главное в этом понимании человека, его предназначения и цели его жизни. На словах, теоретически, сохранялась вера в Бога, в христианские истины, в бессмертие души и вечную жизнь. На деле же люди уже не очень во все это верили и вели себя так, как будто короткое земное существование есть единственная жизнь, а дальше ничего не будет. Люди словно сказали себе: да, человек, может быть, и потерял когда-то Рай, но мы построим себе новый рай — здесь, в этой жизни, и построим его не переделывая себя, не искореняя свои грехи и пороки, не преодолевая свое себялюбие ради любви к ближним, — мы построим рай, переделывая окружающий нас мир, ибо главное в жизни — как можно лучше и полнее удовлетворять свои потребности. Да, вероятно, этот рай не будет вечным, как не вечна и жизнь человека на земле, — но по крайней мере мы в отведенный нам отрезок времени, называемый жизнью, получим столько удовольствий, сколько у нас потребностей, — во что бы то ни стало. Ведь живем-то один раз!
Наиболее яркое и законченное выражение такие взгляды получили во французской материалистической философии XVII-XVIII веков, о которой Пушкин писал: «Ничто не могло быть противуположнее поэзии, чем та философия, которой XVIII век дал свое имя. Она была направлена противу господствующей религии, вечного источника поэзии у всех народов, а любимым орудием ее была ирония холодная и осторожная и насмешка бешеная и площадная… все высокие чувства, драгоценные человечеству, принесены в жертву демону смеха и иронии, греческая древность осмеяна, святыня обоих Заветов обругана…» Высокая духовная сущность человека как образа и подобия Бога была отодвинута на задний план, так сказать «вынесена за скобки» (то же самое происходило и с самою верой в Бога), а на первый план вышло представление о человеке как бесконтрольном «пользователе» мира, как потребителе вселенной.
Возник удивительный парадокс: описанное выше мировоззрение начало с того, что приравняло человека к Богу — Творцу и Хозяину мира, по существу подменило Бога человеком, — а кончило тем, что на практике приравняло человека к животному.
Ведь именно животное руководствуется в своем поведении элементарными потребностями, то есть — желаниями, хотениями: есть, пить, размножаться, играть, отдыхать и пр. Если все эти потребности удовлетворяются — животное довольно, ему хорошо, оно достигло всего, чего ему надо.
Оглянемся теперь на описанный в первой главе романа «день Онегина». Оглянувшись, мы увидим, что все действия героя, вся его жизнь определяется в конечном счете именно элементарными хотениями, простейшими потребностями в наслаждениях разного рода — будь то в ресторане или театре, на бале, при любовных похождениях и т. д. Он ест и пьет, развлекается, переодевается, красуется перед женщинами, обольщает их, спит «в тени блаженной», снова ест, развлекается, гуляет, обольщает, спит и т.д. — и это все. В жизни Онегина воплощается описанная выше философия потребления мира человеком, «философия удовольствия» (на научном языке — гедонизм), которую Достоевский позже назовет «пищеварительной философией» и в которой на главном месте — мое хотение, мое желание, мои страсти и потребности. (Единственное, чему подчиняется герой Пушкина, кроме собственных желаний, — это «недремлющий брегет», часы, мертвый механизм, который повелевает герою делать то или другое, управляет его жизнью и вносит некую видимость порядка в это бессмысленное существование.)
Человек, воспитанный в таком миропонимании, озабочен только тем, чтобы взять от жизни как можно больше для себя, прежде чем бесследно исчезнуть, превратившись в горсть праха. Такой человек
И жить торопится, и чувствовать спешит.
Таков, как мы помним, эпиграф к первой главе романа.
- Homo usurpator
Итак, что же такое человек: подобие Бога или животное? При материалистическом подходе этот вопрос неразрешим: ведь очевидно же, что хотя в человеке много черт, свойственных зверю, но его сущность этими чертами не исчерпывается; что существует нечто, решительно отличающее человека от всего остального живого мира. Что же это за отличие?
Западноевропейская философия попыталась-таки ответить на этот вопрос — ответить в знаменитой формуле французского философа Дени Дидро: человек — это животное, которое рассуждает.
Надо сказать, это весьма лукавый логический ход. Ведь способность рассуждать ровно ни к чему не обязывает: с помощью искусного рассуждения (или, как сейчас модно говорить, «дискурса») можно объяснить и оправдать все что угодно, представить себя и любой свой поступок в самом выгодном свете.
Роман Пушкина дает этому пример. Онегин ведь по-своему «рассудителен»: вспомним отмеченную в первой главе способность «коснуться до всего слегка», то есть рассуждать о чем угодно, только бы произвести впечатление. А на деле он эту свою способность демонстрирует в четвертой главе, в своем «нравоучительном» монологе перед Татьяной, где он с неподражаемым искусством умудряется и красиво, «мило» (как здесь же говорит автор), «благородно» (как скажет потом Татьяна) отвергнуть любовь девушки, которая ему неинтересна, не в его вкусе, и в то же время предстать перед ней в мрачно-завлекательном свете и заронить в ее сердце на всякий случай искру надежды («Я вас люблю любовью брата И, может быть, еще нежней»), и блеснуть учительской мудростью и знанием жизни, — и все это без всякого коварного умысла — просто по привычке, и с наилучшими намерениями, и для своей пользы и удовольствия. А началось все с самого чистого побуждения: «…обмануть он не хотел Доверчивость души невинной». Онегин словно двоится: в его сердце есть, как скажет позже Татьяна, «и гордость, и прямая честь», и в то же время он на каждом шагу оказывается, по ее же словам, «чувства мелкого рабом»…
То же самое и в шестой главе: получив вызов Ленского и без всякого раздумья приняв его, Онегин тут же понимает, какой ужасный, неблагородный, неумный поступок совершил, жестоко корит себя, но рассуждение убеждает его в том, что менять решение «поздно»: «шепот, хохотня глупцов» оказываются важнее, чем вопрос жизни и смерти, чем укоры совести.
Воззрение на человека как на существо, отличающееся от зверя (вспомним, кстати, укор Онегина самому себе: «Он мог бы чувство обнаружить, А не щетиниться, как зверь») не совестью, а способностью к «рассуждению», воззрение, ставящее на первое место интерес, удобство, выгоду материальную или моральную, было усвоено русским обществом послепетровского времени. Унаследованное из европейского XVIII века, оно считалось передовым, истинным, трезвым — то есть лишенным всяческих «предрассудков». Предрассудками считались, говоря словами Пушкина, «все высокие чувства, драгоценные человечеству», все представления о человеке как существе духовном, не ограничивающемся элементарными физическими и эмоциональными «потребностями». Во второй главе романа Пушкин характеризует миропонимание «онегинской» эпохи так:
Все предрассудки истребя,
Мы почитаем всех нулями,
А единицами — себя.
Мы все глядим в Наполеоны,
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно;
Нам чувство дико и смешно.
Имя Наполеона появляется не случайно. Это гениальное дитя Революции, «мятежной вольности наследник и убийца», как назвал его Пушкин, стало практическим воплощением философии потребления мира человеком, философии свирепого эгоизма, который для удовлетворения своих желаний, себялюбия, властолюбия не останавливается ни перед чем, готов всех окружающих людей превратить в свое «орудие»: ведь они для него не более чем «двуногие твари», только и годные быть орудием. Прозвищем Наполеона, его, по существу, вторым именем в Европе было — узурпатор, то есть человек, незаконно присвоивший власть; так обычно переводится это латинское слово. На самом деле буквальное значение слова гораздо шире: латинское «usurpo» значит пользуюсь, использую, употребляю — и, значит, «узурпатор» можно перевести как «потребитель». Вот Наполеон и стал символом человечества, подменившего Бога человеком, узурпировавшего власть над миром, который Богом — а не человеком — сотворен; символом человека-потребителя. «Мы все глядим в Наполеоны…»
«Наполеоновский» взгляд на все окружающее как на нечто, существующее только для моей пользы и удовольствия, усвоен героем романа с юности — и чем дальше, тем больше начинает, пусть неосознанно, тяготить его, а в конце концов приводит к разочарованию и «русской хандре».
«Страдающим эгоистом» назвал Онегина Белинский. Евгений действительно страдает — но сам не понимает отчего. Ему кажется — оттого, что жизнь дурна сама по себе, что мир устроен плохо; на самом же деле плохо устроена жизнь самого Евгения, неестественная, бессмысленная, унижающая человеческое достоинство; он страдает от усвоенного им искаженного воззрения на жизнь и назначение человека, страдает оттого, что истина подлинно человеческой жизни ему неведома. И автор любит этого человека именно за его страдание: оно означает, что Онегин не до конца испорчен плоской философией жизни, которая им усвоена, что в нем немало внутреннего, нравственного здоровья, — иначе Евгений не тяготился бы своим «недугом», причину которого, как говорит автор, «давно бы отыскать пора». И автору хочется, чтобы его герой «отыскал» эту причину своей тоски, чтобы он прозрел, нашел себя, увидел истину.
Но путь к истине лежит у каждого через собственный — порой, увы, горький — опыт.
- Поступки
Жизнь человека есть цепь поступков — то есть таких действий, которые что-то меняют вокруг человека и (или) в нем самом. Если говорить о сюжете романа, то любопытно вот что: в нем у героя не так уж много действий, которые с полным правом могли бы назваться поступками (хорошими или дурными — не в этом дело), — их едва ли не меньше, чем количество глав в романе. Это первое. Второе: Онегин производит, в общем, впечатление личности незаурядной — но вот поступки его говорят чуть ли не об обратном. Возьмем третью главу, в которой сюжет романа начинает активно разворачиваться. Как это происходит?
Онегин, впервые побывав у Лариных, возвращается оттуда чрезвычайно раздраженным: в этой обожаемой Ленским семье все точно так, как он, Онегин, и предполагал («К гостям усердие большое, Варенье, вечный разговор Про дождь, про лен, про скотный двор…»):
Явились; им расточены
Порой тяжелые услуги
Гостеприимной старины.
Обряд известный угощенья:
Несут на блюдечках варенья,
На столик ставят вощаной
Кувшин с брусничною водой, —
и дальше до конца строфы — шесть строк точек: словно дальше можно не досказывать — все в точности так, как и предполагал разочарованный герой, который все в жизни уже знает и которому все надоело. И вот Евгений возвращается, полный гордой и презрительной правоты, и в дороге раздраженно брюзжит на своего простодушного друга, испортившего ему настроение: «Какие глупые места… Кругла, красна лицом она, Как эта глупая луна На этом глупом небосклоне».
Все вокруг плохо, и виноват Ленский. Достаточно внимательно прочесть диалог друзей по дороге, чтобы увидеть: Онегин сознательно и искусно строит разговор так, чтобы в конце его непременно оскорбить Ленского, поиздеваться над его любовью к Ольге; совершенно очевидно — это делается в отместку за испорченное настроение. Едва ли это можно назвать поступком умного, незаурядного человека; к тому же Евгений оскорбляет юношу, которого, как свидетельствует автор, искренне полюбил, — как же так?
Все дело в том, что Евгению сейчас не до Ленского, вообще ни до чего: он весь под властью раздражения, ему некогда хоть на секунду остановиться и подумать о влюбленном мальчике, сидящем рядом с ним, о его чувствах, о его настроении: важнее всего потребность выплеснуть свою досаду. Другими словами, на первом месте — моя досада, мое хотение, мое «я»: хочу — значит, сделаю. Как ни странно, это и впрямь похоже на реакцию животного, которое мгновенно ощетинивается, оскаливается, когда что-то не по нем…
Здесь — ключ почти ко всем действиям Евгения. Это не столько осмысленные поступки в полном смысле слова, сколько реакции на некие внешние, как сказал бы психолог, раздражители; и реакции эти всегда весьма эгоистичны, в них отсутствует мысль о другом человеке, они всегда продиктованы своим интересом, желанием удовлетворить себя.
Таков и следующий поступок героя — его объяснение с Татьяной после получения ее письма, когда он, не дав ей и слова сказать, произносит свое вполне искреннее, но пронизанное безграничным самолюбованием «рассуждение», совершенно не интересуясь тем, что же она-то в это время испытывает, — словно перед ним не живой человек, а… впрочем, дадим слово герою:
Послушайте ж меня без гнева:
Сменит не раз младая дева
Мечтами легкие мечты;
Так деревцо свои листы
Меняет с каждою весною…
Если человек — «животное», то почему бы и не «деревцо»? Спросим у любой женщины или девушки, испытавшей искреннее, глубокое, пламенное чувство: что бы она почувствовала, если бы тот, кого она полюбила, сравнил ее с деревом?
Эта сцена удивительна: Пушкину удается разом показать и субъективное благородство Онегина — ведь он не воспользовался любовью и доверием чистой девичьей души, — и его глубокую нравственную слепоту, в которой виновато усвоенное им мировоззрение, его холодное пренебрежение «рассудительного» человека к живому чувству. Поистине: «Нам чувство дико и смешно»… Снова на первом плане — мое «я», до другого человека герою дела нет.
Своим ответом Онегин, можно сказать, убил Татьяну — не зря она стоит молча, «едва дыша»: не отказом он ее уничтожил, а вот этим вежливо-отстраненным, бесчувственно-холодным взглядом на нее как на некое неодушевленное естество, этим эффектным, учтивым и безжалостным «уроком».
Именно под впечатлением этого разговора (больше они не виделись вплоть до Татьяниных именин) героиня и видит страшный сон, где ее любимый — «кум» медведя, зверя; сон, где он — в компании бесов; сон, где он — убийца…
И это (совершенно безотчетное и неосознанное) впечатление от благородного поступка Онегина оказывается правильным — ибо сон сбывается.
На именинах Татьяны Евгений совершает еще одну жестокую бестактность, а если быть точными — то две сразу, и притом — всего лишь от скуки и — опять-таки — раздражения. Посмеявшись однажды невольно над любовью Татьяны, приравненной к «деревцу», — как раньше он сознательно обидел влюбленного Ленского, — он теперь, снова в угоду себе, своей прихоти, своей досаде, только чтобы развлечься и «порядком отомстить» другу, грубо флиртует с Ольгой, намеренно глумясь над чистой любовью Ленского к Ольге, а заодно и над чувствами Татьяны (которой он ведь все-таки дал слабую надежду и которую теперь «тревожит… ревнивая тоска»). Следует вызов на дуэль.
Эпизод получения вызова и странен, и необычайно показателен: в нем предельно обнажена природа онегинского поведения:
Онегин с первого движенья,
К послу такого порученья
Оборотясь, без лишних слов
Сказал, что он всегда готов.
То есть Онегин ни на секунду не задумался, что вызов — от друга, наивного, пламенного, влюбленного юноши; что повод — по крайней мере, с точки зрения самого Онегина — пустяковый; что из-за его, Онегина, жестокой шалости ставится на карту человеческая жизнь — либо Ленского, либо его самого; ничего такого даже не успело промелькнуть в его сознании — а он уже обернулся и произнес типовую фразу, которую было принято произносить в таких случаях, если ты человек чести, если ты не струсил. Иными словами, он отнесся к записке Ленского не по-человечески, а так, как требуют правила; это — реакция на уровне рефлекса, свойственная животным, или действие механизма в ответ на нажатие нужной кнопки. И опять в основе — «я», мой личный, и притом сиюминутный, интерес: выглядеть так, как полагается, не ронять «престижа». И даже поняв, что он наделал, Евгений не находит в себе сил признать свою неправоту перед Ленским, помириться: мнение «глупцов» для него важнее, чем правда и сама жизнь.
Казалось бы, все это противоестественно — ведь под угрозой жизнь и самого Евгения, — но таков уж парадокс эгоизма, пекущегося лишь о своем интересе и удобстве. На именинах Евгению хотелось развлечься и отомстить Ленскому за приглашение на скучный праздник — и он оскорбил друга; теперь ему не хочется рисковать своей репутацией — хотя бы в глазах такого ничтожества, как Зарецкий, — и он нелепо принимает вызов.
Обратим внимание: перед нами несколько поступков героя, и ни в одном из них, каков бы он ни был, мы не найдем, что называется, «состава преступления», это вовсе не деяния злодея или подлеца — это мелкие поступки, в жизни такое встречается на каждом шагу, и сходны они между собою уже названным выше качеством рефлекторности. Стремление охранить себя, свой интерес, свое удобство и покой, во что бы то ни стало оказаться правым, поставить на своем — проявляется настолько мгновенно, что все остальное оказывается вне поля зрения, другие люди не важны, их интересы, достоинство, жизнь ничего не стоят, «Двуногих тварей миллионы Для нас орудие одно» — по крайней мере, в данную минуту. Рефлекс опережает, а человеческая, нравственная реакция запаздывает. Так и случается с Онегиным, когда он после ухода Зарецкого понимает ужас совершившегося — но ничего уже не в силах сделать: барьер «общественного мненья», мнения «света», его совесть перешагнуть не может.
Постепенно цепочка мелких, ничего преступного в себе не заключающих, но нравственно ущербных поступков начинает вдруг стремительно скатываться в снежный ком. Гремит выстрел, и Ленский падает:
Так медленно по скату гор,
На солнце искрами блистая,
Спадает глыба снеговая.
Мгновенным холодом облит,
Онегин к юноше спешит,
Глядит, зовет его… напрасно:
Его уж нет…
И все это происходит — как и раньше, когда Онегин своими «рассуждениями» убил Татьяну морально, — каким-то странным, невольным образом (ведь Онегин не хотел убить друга!), происходит, «Как в страшном, непонятном сне», словно от героя уже ничего не зависит, как будто работает мертвый, но неумолимо функционирующий механизм, повелевающий поведением героя так же, как в первой главе им управлял брегет:
Вот пистолеты уж блеснули,
Гремит о шомпол молоток,
В граненый ствол уходят пули,
И щелкнул в первый раз курок.
Вот порох струйкой сероватой
На полку сыплется. Зубчатый,
Надежно ввинченный кремень
Взведен еще…
Все происходит само. И герой не в силах этому противостоять, он сам становится орудием, едва ли не механизмом.
Парадоксальным образом воля человека, живущего только «по своей воле», по своему хотению, уважающего только себя, сводится к нулю, исчезает. И хотя Онегину не чужды «души высокие порывы» и угрызения совести, хотя он не злодей, не бесчестный человек — его миропонимание, диктуемый им образ жизни, привычки, характер мышления, духовная лень делают из него убийцу.
Только два человека в романе понимают Онегина: автор и Татьяна — потому что любят его таким, каким он мог бы быть. Именно Татьяне суждено открыть Онегину глаза; правда доступна только любящему взгляду.
- Татьяна
«Евгений Онегин» — может быть самый необычный роман в мировой литературе. И автор, вероятно, отдавал себе в этом отчет. Роман всегда был жанром прозаическим поскольку проза больше годится для описания именно других людей, на которых автор смотрит как бы со стороны. В прозе больше возможностей создать впечатление жизни «как она есть». Стихи — дело другое: создавая стихи, автор — о чем бы он ни писал — вольно или невольно изображает и себя самого, раскрывает свой внутренний мир, и поэтому как бы ни старался он описать жизнь других людей — она все равно предстанет перед нами в свете его внутреннего мира, прожитая поэтом, прошедшая через его сердце. Поэтому роман и стаи всегда существовали отдельно, и никто никогда не писал романе в стихах. Пушкин первым решился создать картину исторической эпохи (что всегда было предметом романа) как картину — а точнее процесс — своей собственной внутренней жизни; он ощущал ход эти эпохи в себе самом, постигал историю России и ее жизнь в собственном опыте, жизненном, интеллектуальном и духовном, — и у него получился роман в стихах. В нем действуют вымышленные герои, но они почти неотделимы от автора, и их жизнь, создаваемая авторота наших глазах, есть дневник авторской души, летопись авторе ков духа на протяжении семи лет; в каждом из них — часть личного опта и собственной души. Не случайно, например, в финале шестой ивы, где гибнет Ленский, автор прощается со своею молодостью, «юностью легкой». И онегинский опыт не выдуман Пушкиным и не списан с кого-то постороннего: все, что пишет поэт об Онегине, он знает себя, картина поведения Онегина — суд над самим собой, суд с точки зрения того идеала человека, к которому стремится душа поэта.
Идеал же человека воплощен Пушкиным в Татьяне: он так и говорит — «мой верный идеал».
Почему же этот идеал воплощен в женщине?
Потому, вероятно, что женщина во многом сильнее мужчины, часто бывает мудрее его — ибо она более цельное существо, в ней меньше разлада между мыслью и чувством, ее интуиция бывает глубже, ей более свойственна верность своему чувству и убеждению, она нередко взрослее и ответственнее, чем мужчина. Но это не все. Женщина всегда была для Пушкина — как и для любого большого художника — великой тайной, которая подчас выглядит обманчиво просто. Но и все бытие — непостижимая тайна, и каждая человеческая душа — тоже тайна, и Россия — великая тайна для всего мира, да и для нас самих, и для Пушкина тоже. В Татьяне Пушкин выразил чувство тайны: тайны бытия, тайны человека, тайны России; в ней он воплотил свою мечту об идеальном, прекрасном человеке. Создание этого образа было огромным событием во внутренней жизни поэта.
Дело в том, что «Евгений Онегин» был начат Пушкиным (май 1823 года) в сложный момент жизни, который называется в науке «кризисом 20-х годов». Говоря кратко, это было время, когда поэт, воспитанный как раз в том духе, в каком воспитывался Онегин, — а именно в духе европейского материализма и атеизма, стал остро ощущать убожество этого мировоззрения. Нельзя сказать, что это был вполне сознательный процесс, — нет, гений поэта, его душа интуитивно чувствовали, что привычные представления о мире, о человеке, о любви, о жизни перестали отвечать действительности, соответствовать тому, что ощущает гений поэта; так взрослеющий подросток чувствует, что одежда становится ему тесна. И не случайно именно в это время у Пушкина появляются стихи на тему, которая до того у него не встречалась: его начинает волновать вопрос о смерти и о бессмертии души; все бытие предстает его гению как великая тайна.
Но сознавая негодность привычного мировоззрения, усвоенного вместе с «проклятым воспитанием» (слова Пушкина), он пока не находит ничего, чем можно было бы его заменить, его душа мечется в поисках; чувствуя духовную немощь и бесплодие атеизма, она еще не готова к религиозному взгляду на мир: слишком еще сильна привычка считать такой взгляд «предрассудком». Эти метания частично отразились во второй главе романа, где в финале говорится:
Покамест упивайтесь ею,
Сей легкой жизнию, друзья!
Ее ничтожность разумею
И мало к ней привязан я;
Для призраков закрыл я вежды…
Здесь — и понимание временности, «ничтожности» земных забот и интересов, и сомнение в правильности религиозных воззрений («призраки»), и в то же время отчаянная жажда веры — веры в то, что в бытии существует некая Высшая правда, некая разумная и благая сила устроения, некий высокий, прекрасный и таинственный смысл; замечательно, кстати, то, что в этой главе чаще всего встречается слово «тайна».
И как раз в этой главе впервые появляется Татьяна. Она появляется необыкновенным образом — неожиданно для читателя (и едва ли не для самого автора), ибо ее явление решительно ничем не подготовлено: автор ни с того ни с сего прерывает описание Ольги и говорит:
Позвольте мне, читатель мой,
Заняться старшею сестрой.
И описывает необыкновенную девушку, ни в чем не похожую на окружающих: ей не интересно то, что интересно обычным людям, но
Она любила на балконе
Предупреждать зари восход,
Когда на бледном небосклоне
Звезд исчезает хоровод,
И тихо край земли светлеет,
И, вестник утра, ветер веет,
И всходит постепенно день…
«Она в семье своей родной Казалась девочкой чужой», но в храме мироздания, перед лицом неба, зари, звезд — она своя.
И потом, до самого конца главы, она исчезает из повествования — как будто ее и не было. Словно она и в самом деле существует в каком-то ином, высшем мире.
В Татьяне воплотилась пушкинская жажда веры в высший смысл бытия. Такая вера не может быть почерпнута из книжек или разговоров, она не рождается теоретическим путем, в голове и не может быть усвоена из чужой головы. Чтобы обрести веру, нужно иметь живой ее пример. Таким живым примером для Пушкина стала Татьяна, созданная им самим. Ничего удивительного в этом нет: настоящий художник способен наделить своего героя такими чувствами, такими достоинствами, о каких он сам может только мечтать. Татьяна потому и «верный идеал» Пушкина, что она воплощает его мечту о том, каким надо быть человеку — в частности, ему самому, поэту.
И главная, может быть, черта Татьяны — это ее способность к великой, самоотверженной любви.
Вопрос о любви был для Пушкина одним из самых важных вопросов жизни. Он, увлекавшийся женщинами много раз, имевший огромный опыт в этой области (вот откуда его познания в «науке страсти нежной»), прекрасно знавший женщин, — он всю жизнь мечтал об одной-единственной, полной, всепоглощающей, великой любви — и всю жизнь сомневался, способен ли он на такую любовь. Не зря накануне женитьбы в знаменитой элегии «Безумных лет угасшее веселье» он писал:
И может быть — на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.
Он очень надеялся, что любовь, ведущая его к браку, станет наконец той самой, настоящей любовью. Вот откуда удивительный факт, который, кажется, не встречается ни у одного другого поэта в мире: после женитьбы из лирики Пушкина — которому всего-то за тридцать лет — исчезают стихи о любовных увлечениях!
Созданный задолго до женитьбы образ Татьяны воплотил пушкинскую мечту о настоящей любви. Стоит обратить внимание на то, как в третьей главе автор долго не осмеливается подойти к «письму Татьяны». Вот няня принесла Тане «перо, бумагу», вот, «облокотясь, Татьяна пишет», вот «письмо готово, сложено» — казалось бы, время познакомить с ним читателя — но нет, автор издалека затевает разговор на целых десять строф (почти четверть всей главы!), словно старается отдалить волнующий и ответственный момент, словно боится: получится ли у него, удастся ли ему «перевесть» с французского необыкновенное письмо, которое… он сам сочиняет от лица героини, и вовсе не по-французски, а удивительными русскими стихами.
И когда мы наконец узнаем это письмо, то поймем волнение автора. Пушкин сам поражен глубиной, силой, искренностью и чистотой того чувства, которое ему удалось выразить от лица Татьяны и о котором он сам мечтает. Он словно смотрит на Татьяну, на ее любовь, на ее письмо снизу вверх, восхищенно завидует, благоговейно любуется этой любовью.
В самом деле, письмо это столь же необычайно, сколь и просто, в нем поразительная красота и сила высокого чувства, которая заставила современника-критика, одного из первых читателей третьей главы, написать: «Сии стихи, можно сказать, жгут страницы». За полтора века многие тысячи девушек и женщин плакали над этими строками, потому что узнавали себя, находили в этих стихах выражение своих чувств, сами писали письма, захваченные примером Татьяны, твердили наизусть это признание в любви. Между тем оно и в самом деле необыкновенно просто — в чем же загадка его могучего обаяния, его человеческой силы?
Конечно, объяснить этого до конца нельзя, всякое великое творение есть тайна, которая рациональному объяснению не поддается. Однако можно кое-что сказать уверенно.
Письмо Татьяны — это акт веры, веры могучей и безраздельной. Чтобы понять, что это значит, вспомним, с чего обычно начинаются такие великие и драгоценные человеческие чувства, как любовь или чувство дружбы. Ведь очень часто взаимное влечение людей друг к другу — будь это интимное тяготение или дружеское чувство — начинается до близкого знакомства. Что в человеке нас притягивает, по-, чему мы повинуемся этому чувству — ведь мы не знаем, каков этот человек?..
Потому что душа наша независимо ни от чего верит, что этот человек хорош, что он не зря нам нравится, что он, как говорит Гамлет, «человек в полном смысле слова».
Вот так и с Татьяной: впервые увидев Онегина, она поверила, что «это он», что перед ней прекрасный человек, человек в полном смысле слова, а для нее — самый лучший на земле, и что они созданы друг для друга. Эта ее вера — и есть любовь. Любовь — как и дружба, как и всякое доброе чувство — есть вера в действии. Не случайно письмо Татьяны насквозь проникнуто религиозными мотивами: «То в вышнем суждено совете… То воля неба: я твоя… Ты мне послан Богом… Ты говорил со мной в тиши, Когда я бедным помогала Или молитвой услаждала Тоску волнуемой души…»
Правда, на миг ее поражает страшное сомнение:
Кто ты, мой ангел ли хранитель
Или коварный искуситель:
Мои сомненья разреши.
Быть может, это все пустое,
Обман неопытной души!
Но она так отважна, так безоговорочно готова отвечать за свой выбор, что никакие сомнения ее не могут остановить: «Но так и быть! Судьбу мою Отныне я тебе вручаю…» Так сильна и велика ее вера.
Написав это письмо, испытывая столь могучее и чистое чувство, поверив в своего избранника как в идеал человека — как могла Татьяна воспринять учтивое нравоучение, прозвучавшее в ответ? Как насмешку, оскорбление, бессердечность, глухоту души? Трудно сказать. Во всяком случае, она услышала в этом ответе нечто прямо противоположное тому, во что поверила в Онегине. Дело не только в том, что он отверг ее любовь; дело в том, что он к тому же предстал перед нею совсем не таким, каким явился ее душе, ее интуиции, ее вере. Как ни тяжел для нее смысл разговора, еще тяжелее то, что этот смысл посягает разрушить ее веру в этого человека, в образ Божий, увиденный ею в нем. Ничего, может быть, не поняв еще разумом, она глубокой женской интуицией почувствовала в онегинской «исповеди» («Примите ж исповедь мою»), которая незаметно превратилась в «проповедь» («Так проповедовал Евгений»), и самолюбование, и эгоистическое равнодушие ко всему, кроме себя самого, и леность души, не желающей сделать ни малейшего усилия, чтобы понять другого, и привычную манеру опытного обольстителя («…и, может быть, еще нежней»), и дикое, нелепое в этой ситуации сравнение с «деревцом», и, наконец, благородно-высокомерный, хотя и безукоризненно учтивый тон… Она почувствовала, что он ничего не услышал, ничего не понял в ее письме, в ее признании, что она молила и рыдала в пустоту.
Если бы она после всего этого разочаровалась в нем! Насколько бы ей стало легче! Но она не разочаровалась. Ее вера сильнее, чем то, что называют «фактами». Она не поверила, что Онегин именно таков, каким явился ей в саду, — она продолжает верить своему сердцу. Вера, как писал апостол Павел, есть уверенность в невидимом. Татьяна не поверила «видимому» в Онегине, она верит в «невидимое» в нем — и это приносит ей невыразимые муки. Конечно, дело тут и в непреодолимой страсти, овладевшей Татьяной («…пуще страстью безотрадной Татьяна бедная горит»): эту чистую, идеальную, нездешнюю какую-то девочку Пушкин бросает в третьей главе поистине в костер любовного влечения:
Погибнешь, милая; но прежде
Ты в ослепительной надежде
Блаженство темное зовешь,;
Ты негу жизни узнаешь,
Ты пьешь волшебный яд желаний,
Тебя преследуют мечты:
Везде воображаешь ты
Приюты счастливых свиданий…
Она не ангел, а человек, такая же женщина, как и все; но как бы ни была сильна ее страсть, сама Татьяна сильнее, и чувство ее выше страсти — это видно в письме, это мы увидим в конце романа.
Так или иначе, Татьяна попадает в жестокое положение: она мечется между внешним, «видимым» в своем избраннике — и тем прекрасным «невидимым» в нем, что самому Онегину неведомо, но видно ее любящему сердцу. Кто же он, в самом деле, — «ангел ли хранитель Или коварный искуситель»?
Тут и возникает пророческий сон, в котором сама Татьяна — то есть рассудочная часть ее существа — ничего не поняла («Дней несколько она потом Все беспокоилась о том»), а там и забыла странный сон.
Но душа Татьяны все поняла и все запомнила (так в повести Гоголя «Страшная месть» Катерина наяву не знает о своем отце то ужасное, что ведомо ее душе в снах). Она поняла, что Евгений опутан какою-то чуждой, страшной, злобной и насмешливой силой; что он вроде бы повелевает этой силой («Он там хозяин, это ясно»), но на самом деле он — ее пленник («Онегин за столом сидит И в дверь украдкою глядит» — словно ждет избавления, и может быть — от нее, Татьяны); что он действует как бы по своей, но на самом деле не по своей воле: как только он сказал вместе с бесами: «Мое!» — бесы исчезли, словно переселились в него, — и вот уже в руке его «длинный нож» (вспомним «копыта», «клыки», «рога и пальцы костяные» бесов), от которого гибнет Ленский.
Но смысл этого видения Татьяне, повторяем, непонятен. Он станет проясняться позже — после дуэли, а особенно — когда в седьмой главе Татьяна посетит, в отсутствие Онегина, его дом и станет читать те книги, которые читал он, которые участвовали в формировании его взглядов на жизнь и созвучны его убеждениям.
Здесь Пушкин затрагивает тему, вся значительность которой становится особенно ясной сегодня: тему роли культуры (в данном случае книг) в судьбах людей, наций, человечества — пользы или вреда, добра или зла, которые она может вносить в человеческую жизнь. Творения таланта — художественного, научного, технического — могут как украшать и совершенствовать, так и уродовать жизнь и души людей. Одни и те же талантливые творения могут в одних условиях и на одних людей влиять хорошо, а в иных случаях — дурно. Книги, которые читал Евгений, те самые романы,
В которых отразился век
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой, —
эти книги, благодаря онегинскому воспитанию и привычкам, не отвратили его от пороков «современного человека», а приобщили к ним, утвердили Евгения в справедливости его «себялюбивой и сухой» философии жизни. Татьяна же, «русская душою», живущая не в столице, а в деревенской глуши, впитавшая совсем другие представления о жизни, — Татьяна, читая эти книги, видит в них то, что говорит нам автор романа: она ощущает духовную драму европейской культуры и цивилизации, утрачивающей христианские идеалы, скатывающейся к культу эгоизма и потребительства. Знакомясь с этой литературой, Татьяна приближается к разгадке того, что она увидела, но не поняла в своем вещем сне: Онегин, кажущийся «хозяином» своей жизни, — на самом деле пленник:
И начинает понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснее — слава Богу —
Того, по ком она вздыхать
Осуждена судьбою властной…
…..
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон
Уж не пародия ли он?
Ужель загадку разрешила?
Ужели слово найдено?
Татьяна догадалась о главном: Онегин живет не свою жизнь — жизнь, навязанную ему, чуждую ему, хотя с детства привычную. Весь облик и все содержание этой жизни — «чужая причуда». Татьяна и сама не подозревает, сколь глубоко она заглянула, как угадала драму образованного русского человека послепетровской России, усвоившего чужие нравы, чужие понятия о жизни, чужое представление о человеке. То миропонимание, которое формировалось в Западной Европе столетиями и породило тип человека-потребителя, заинтересованного прежде всего в удобствах своей земной жизни, сосредоточенного на своих желаниях и выгодах, а от христианского учения о человеке как образе и подобии Бога оставило лишь форму и фразу, — это миропонимание, будучи единым махом пересажено на почву православной России (где многовековой традицией было совсем иное — превосходство духовного над материальным), дало во многих человеческих душах уродливые всходы и горькие плоды. Онегин — живой тому пример. От этого он и страдает: не может быть счастлив человек, живущий по чужому уставу, как не может береза расти в Сахаре. Разум Онегина не ведает об истинной причине постигшей его исторической и духовной беды — а душа болит и ропщет. Ведь так и сказано в четвертой главе: Онегин живет,
Внимая в шуме и в тиши
Роптанье вечное души.
Все это почувствовала гениальной интуицией любящего сердца Татьяна: «Чужих причуд истолкованье», «пародия»…
Но под чужими причудами она чувствует все же нечто подлинное, глубокое, близкое себе: ведь слово «пародия» — не осуждение, оно означает, что тот Онегин, который явился ей в саду, во сне, который из-за «причуды» убил друга, который остался глух к ее письму, — это не настоящий Онегин, это человек, жизнь которого воспроизводит некий чуждый «стандарт» — и выходит пародия. Но есть подлинный Онегин, которого она прозрела при первом же взгляде, которого она продолжает любить; только вот он словно отгорожен от нее — и скрыт от самого себя — заемным «Гарольдовым плащом», и не в ее силах изменить это. Не без глубокого значения автор говорит:
И ей открылся мир иной.
Это и напоминание о том «ином мире», мире нечисти, бесовского шабаша, в котором Татьяна увидела Евгения в своем сне, и одновременно знак того, что Татьяна и Онегин живут в разных мирах. И хоть Татьяна по-прежнему верит, что они предназначены друг для друга, между ними — непроходимая стена.
И тогда ей становятся «все жребии равны», и она — из жалости к матери, из чувства женского долга, а еще потому, что такой женщине, как она, в подобном случае оставалось и в самом деле лишь два пути: в монастырь или замуж, — соглашается ехать на «ярмарку невест». Кроме Евгения, ей никто не нужен, иной любви не будет, а стало быть, и в самом деле все равно. Татьяна едет в Москву.
И здесь обнаруживается, словно вышедший на поверхность пласт руды, новый уровень сюжета романа.
- Эпическая муза
Возок Лариных въезжает в древнюю столицу России. Рассказывая об этом, автор вспоминает, как он сам недавно (седьмая глава пишется в 1828 году) въезжал в Москву после долгой ссылки, как он ехал по той же самой, как сказали бы сейчас, «трассе», по которой едет Татьяна (только ему предстояла не «ярмарка невест», а встреча с новым императором), проезжал те же самые места, несся по той же Тверской, — и в продолжение этого рассказа уже, кажется, не разберешь, кто же едет в возке Лариных — Татьяна или автор, кто любуется на «старинные главы» «церквей и колоколен», кто чувствует волнение в груди, выраженное знаменитым восклицанием: «Москва! Как много в этом звуке Для сердца русского слилось…», чей взгляд падает на Петровский замок, проносящийся слева… Впрочем, нет, здесь явственно чувствуется голос и взгляд самого автора — конечно, это он говорит:
Вот, окружен своей дубравой,
Петровский замок. Мрачно он
Недавнею гордится славой.
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва мояi
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар:
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он.
Великое, славное, дорогое русскому сердцу воспоминание! Но ведь до сих пор, на протяжении шести глав, речь шла о частной жизни частных людей — почему же тень Наполеона вдруг осенила дорогу Татьяны и зарево московского пожара на миг осветило ее? Как бы ни был лиричен роман Пушкина, как бы ни был он богат авторскими личными размышлениями, признаниями, воспоминаниями, следует помнить, что Пушкин ничего не делает просто так, не нагромождает в роман все, что приходит в голову (об этом говорят черновые редакции глав, в которых множество прекрасных строф, не вошедших в беловой текст), — он строит свое повествование так, как диктует ему его движущийся, развивающийся замысел, который не допускает ничего лишнего. Если что-то сказано — значит, это необходимо для понимания смысла романа.
К примеру, в пятой главе, во время именин, между послеобеденным отдыхом и чаем, автор неожиданно заявляет:
И, кстати, я замечу в скобках,
Что речь веду в моих строфах,
Я столь же часто о пирах,
О разных кушаньях и пробках,
Как ты, божественный Омир,
Ты, тридцати веков кумир!
То есть автор сравнивает свой роман с эпическими поэмами великого Гомера — «Илиадой» и «Одиссеей», где и в самом деле немало описаний пиров, как на земле, так и на Олимпе, в обители греческих богов, но где все же самое главное — грандиозные события истории, битвы и подвиги героев, судьбы не только людей, но целых народов… В шутливом, казалось бы, замечании оказывается скрыт намек на то, что сюжет романа — может быть, не просто история частного характера, что истинный масштаб его иной, чем кажется на поверхностный взгляд.
И вот это эпическое начало снова возникает в седьмой главе. «Портрет» Наполеона, стоящего, видимо, на стене Петровского замка — конечно, как принято его изображать, в треугольной шляпе, со скрещенными на груди руками и мрачно взирающего на пожар, — помещен во второй половине главы. Но оглянемся на первую половину — и мы увидим там еще один, и притом в точности такой же, «портрет». Вот интерьер деревенского кабинета Онегина, увиденный Татьяной:
И стол с померкшею лампадой,
И груда книг, и под окном
Кровать, покрытая ковром,
И вид в окно сквозь сумрак лунный,
И этот бледный полусвет,
И лорда Байрона портрет,
И столбик с куклою чугунной
Под шляпой, с пасмурным челом,
С руками, сжатыми крестом.
Татьяна долго в келье модной
Как очарована стоит…
Построение картины чрезвычайно многозначительно. Комната Онегина названа кельей, светильник — лампадой, сама Татьяна чуть ниже будет названа пилигримкой (то есть паломницей к святым местам). Все это — слова религиозного, церковного языка (Татьяна воспитана в православной вере, и ей такие обозначения привычны), словно героиня и впрямь находится в святом месте (что и не удивительно, ибо Татьяна, несмотря ни на что, сохраняет веру в высокую сущность своего избранника). Но место это — очень странное.
«Келья» — но «модная». «Лампада» — но не та, что во всех русских домах теплится перед иконой; и освещает она «груду книг» — но таких, которые, как потом узнает Татьяна, могут лишить веры в человека. Да и иконы нет — вместо нее «лорда Байрона портрет». Наконец — не распятие, не Христос, умирающий на кресте ради людей, а изображение — «с руками, сжатыми крестом», — Наполеона, кумира хозяина дома.
Все это увидено глазами Татьяны, но только увидено, а не осмыслено сразу (как — но уже в течение многих лет — и исследователями). Она «как очарована стоит», испытывая, по-видимому, беспокойство непонимания, смутную потребность проникнуть в смысл непривычного мира, открывшегося ей. Не зря, покидая дом, она
…просит позволенья
Пустынный замок навещать,
Чтоб книжки здесь одной читать.
И только прочитав эти книжки (поразительная, необыкновенная для молодой, без памяти влюбленной девушки черта — эта пытливость, воля к познанию и пониманию, эта готовность к труду разума и души!) — только прочитав их, она понимает и то, что знает из своего сна, и то, что увидела в онегинском кабинете: понимает, что ей «открылся мир иной» — мир перевернутых ценностей. И в центре этого мира — фигура Наполеона.
Второй раз эта фигура встает, как мы видели, в строфах о Москве. Такая «рифма» не может быть случайна. Это станет очевидным, если заметить, что два «портрета» узурпатора размещены совершенно симметрично: «чугунная кукла» — в XIX строфе, а Наполеон, ждущий, когда горящая Москва придет к нему «с повинной головою», — в восемнадцатой строфе от конца.
Но там, где есть симметрия, должен быть и центр ее.
Этим, можно сказать, «геометрическим центром» седьмой главы является строфа, находящаяся на равном «расстоянии» (с разницей в одну строфу) как от начала, так и от конца главы и на равном же (с такою же разницей в одну строфу) от обоих «портретов» Наполеона, — строфа XXVIII:
Вставая с первыми лучами,
Теперь она в поля спешит
И, умиленными очами
Их озирая, говорит:
«Простите, мирные долины,
И вы, знакомых гор вершины,
И вы, знакомые леса;
Прости, небесная краса,
Прости, веселая природа;
Меняю милый, тихий свет
На шум блистательных сует…
Прости ж и ты, моя свобода!
Куда, зачем стремлюся я?
Что мне сулит судьба моя?»
Почему это трогательное прощание с родными местами оказалось в центре главы? И соотносится ли оно с темой Наполеона?
Образованному читателю того времени было ясно (нынче это известно, пожалуй, только знатокам), что в прощании Татьяны не все «придумано» Пушкиным: у него был литературный «образец», которым он сознательно воспользовался. Это трагедия Шиллера «Орлеанская дева», незадолго до того, в 1824 году, напечатанная в переводе В.А.Жуковского. Вот как прощается с родными местами героиня трагедии Иоанна:
Простите вы, поля, холмы родные;
Приютно-мирный, ясный дол, прости;
С Иоанной вам уж больше не видаться,
Навек она вам говорит: прости…
…..
Места, где все бывало мне усладой,
Отныне вы со мной разлучены…
…..
Так вышнее назначило избранье;
Меня стремит не суетных желанье…
Стоит сопоставить два прощания, и станет ясно, что они сходны, порой до слов. Это отмечалось исследователями; но никто никогда не задавал, кажется, вопроса: зачем же Пушкину понадобилась такая перекличка?
Теперь на этот вопрос можно ответить, надо только еще раз взглянуть на композицию седьмой главы.
В центре ее, в прощании Татьяны, мерцает образ Иоанны — Жанны д’Арк, национальной героини Франции, Орлеанской девы, как назвал ее народ, спасшей в XV веке свою родину от английского нашествия, сожженной предателями на костре, а спустя несколько веков (уже в начале XX столетия) причисленной к лику католических святых. А по обеим сторонам этого центра — изображения Наполеона, французского завоевателя, возглавившего нашествие на Россию, но обращенного вспять сопротивлением народа и героическим самосожжением Москвы.
Нетрудно увидеть, что в такой композиции главный мотив — мотив спасения Отечества от иноземного нашествия, притом спасения, которое требует от спасающего принести себя в жертву.
На таком фоне и разворачивается сюжет главы о том, как и почему Татьяна принимает решение ехать в Москву, сознательно отказываясь от мечты об Онегине и о счастье.
Сходный поступок совершает и героиня «Орлеанской девы» Иоанна (Жанна), полюбившая Лионеля, воина армии захватчиков, но перешагнувшая через свою страсть во имя призвания, возложенного на нее, по сюжету трагедии (как и по народному преданию), Богом.
Таким образом, сюжет седьмой главы и в самом деле выводит роман на новый уровень смысла. Поступку Татьяны — ее решению, ее поездке в Москву — Пушкин придает символический, исторический, героический характер (о котором сама Татьяна, конечно, и не подозревает) , помещает этот поступок в контекст темы спасения Отечества, жертвы во имя Родины, жертвы, сходной с жертвой Жанны д’Арк и Москвы — горящей, но не склоняющей головы перед чужеземцем, задумавшим поработить Россию.
Ибо роман «Евгений Онегин» — как теперь оказывается — не только о любви, но и о судьбах России. Сюжет романа строится на притяжении-противостоянии «полурусского героя» (так назван Онегин как раз в этой главе, в варианте ее последней строфы), «ушибленного» «европейским» воспитанием, усвоившего чуждое России мировоззрение, — и уездной барышни, оставшейся русской по своим идеалам, жизненным и религиозным представлениям, несмотря на французский язык и английские романы. Никаких «исторических» событий в сюжете не происходит, он весь, повторяем, разворачивается в области обычной частной жизни — но само это притяжение-противостояние заключает в себе огромный исторический смысл.
Евгений, будучи незаурядной, в глубине души здоровой и цельной личностью, способной на добро, на прекрасные порывы души, на любовь, наделенный многими из тех качеств, которые характеризуют русского мыслящего человека, неосознанно страдающий оттого, что приучен жить по чужому уставу, оторвавшийся от национальных духовных корней — которые сохранила Татьяна, — Евгений есть поистине «Петра творенье». «Революция Петра» (выражение Пушкина) была попыткой коренным образом переделать нацию, сотворить из России некую другую страну, во всем похожую на Голландию, Германию, на европейские цивилизации, у которых Петр брал уроки не только науки, экономики, строительства, военного дела, управления, политики и пр., но и отношения к жизни, к человеку, к человеческим ценностям, к религии, ко всему, что составляло на протяжении веков духовный и нравственный стержень России как великой нации. Революция Петра была попыткой переломить этот хребет нации, перестроить душу народа — исторически сформировавшегося в православных воззрениях и благодаря им, — перестроить по западному, протестантскому образцу; иначе говоря, это была попытка заменить свойственную России устремленность к высоким духовным идеалам устремленностью к прагматическим интересам, научить русского человека не только брить бороду, носить парик и камзол и курить табак, но и, образно говоря, думать прежде всего о теле, а уж потом, если останется время, о душе. Многое Петру удалось -в чисто практической области — и принесло государству немалую пользу; но человеческая цена за это была заплачена слишком высокая. И одной из жертв явился (в качестве лица уже собирательного) Евгений Онегин, «страдающий эгоист», внимающий «Роптанье вечное души», ибо живущий в перевернутом мире, где Христа заменяет Наполеон — «сей хладный кровопийца» (как назвал его Пушкин), гениальный «сверхчеловек», воплотивший в себе все то, что нам в Европе чуждо и враждебно, — а для нашего героя ставший идолом.
Да, на почве петровских реформ возникла новая Россия и ее новая великая культура — но это именно потому, что, приняв экономические и иные преобразования, Россия не склонила головы перед царем-революционером, «первым большевиком» (как назовет Петра поэт Максимилиан Волошин), не поддалась на его попытки упразднить национальный духовный опыт и идеалы: все полученное ею чужое она использовала для укрепления и строительства своего. И центральное место в этом процессе борьбы и творчества сыграл Пушкин — не зря выдающийся русский мыслитель И.А.Ильин считал, что Пушкин «был дан нам для того, чтобы создать солнечный центр нашей истории»; именно Пушкин заложил фундамент той великой культуры, которая помогла России остаться Россией, а не уподобиться какой-либо западной цивилизации и тем самым исчезнуть как неповторимое явление (каким в идеале должна являться любая нация, любая культура).
А для самого Пушкина, автора романа «Евгений Онегин», таким воплощением России, не склоняющей головы, не поступающейся своими ценностями, стала Татьяна. Вот почему ее судьба в седьмой главе романа приобретает — конечно, неведомые ей самой — черты исторического подвига, героической жертвы; вот почему и само слово «жертва» появляется в этой главе: «Природа трепетна, бледна, Как жертва, пышно убрана»; и вот почему в финале седьмой главы, таком, казалось бы, шутливом, на самом деле говорится истинная правда:
Благослови мой долгий труд,
О ты, эпическая муза!
…..
Хоть поздно, а вступленье есть.
Ведь и в самом деле, повествование, близящееся уже к концу, вступает здесь в новую, высшую, эпическую фазу — ибо дело коснулось судеб России и русского человека, а это — проблема всемирно-исторического масштаба.
В таком масштабе, на таком фоне и следует увидеть последний акт драмы героев.
- Развязка
«Хоть поздно, а вступленье есть». Начало последней, восьмой главы и впрямь могло бы быть вступлением к роману: «В те дни, когда в садах Лицея Я безмятежно расцветал…» — автор обозревает свою жизнь с юности и описывает ее как некий путь, руководимый высшею силой, ближайшим, непосредственным проявлением которой оказывается Муза, диктующая ему его творение. В юности ему казалось, что он идет по жизни сам, а Муза ему служит и за ним следует:
Я Музу резвую привел
На шум пиров и буйных споров,
Грозы полуночных дозоров;
И к ним в безумные пиры
Она несла свои дары
И как вакханочка резвилась…
Но потом оказалось, что он — не ведущий, а ведомый:
Она меня во мгле ночной
Водила слушать шум морской
Хвалебный гимн Отцу миров.
Путь творчества оказывается религиозным путем — автор говорит об этом, приступая к завершению своего романа, который и сам — путь, совершаемый автором вместе с героями, путь постижения — через ошибки, драмы и озарения — таинственной и священной сущности бытия, в котором ничто не происходит случайно, все имеет свой смысл и свое назначение, а человек — не ничтожная песчинка, обреченная исчезнуть, но чудесное, бессмертное творение Отца миров — ибо само способное творить.
Творить — не только в смысле поэзии, художественного творчества. Татьяна — не поэт, но именно в ее облике — уездной барышни «С печальной думою в очах, С французской книжкою в руках» — является автору и нам его таинственная и бессмертная водительница и учительница — Муза; и под ее взглядом разворачивается действие последней главы «Евгения Онегина».
Перед Онегиным — новая Татьяна: блестящая княгиня, «законодательница зал»; она царит над всем окружающим ее обществом и в то же время отделена от него каким-то огромным невидимым пространством — такой же отдельной, «чужой» для жизненной суеты она явилась нам впервые во второй главе романа. Уже тогда, в деревне, она поразила нас — да и самого автора; но — не Онегина, оставшегося глухим даже к ее письму, написанному гением любви.
А вот теперь она очаровывает Онегина. Он уже не может спокойно рассуждать о своей любви, как рассуждал перед уездной барышней о ее любви: ведь речь-то идет не о чужом — о своем! Свое ценнее, чем чужое, над своим невозможно пошутить, мимо своего нельзя равнодушно пройти, как мимо «деревца»! А самое главное — это то, что объяснит ему в последнем разговоре сама Татьяна; самое главное — то, что эта женщина, в отличие от той девушки, ему нравится.
Та — «не нравилась», и он поступил с нею «мило» и «благородно», ведь это ему ничего не стоило. А эта — нравится, и вот он, невзирая на то, что она замужем, не понимая, что она — из тех людей, которые, давши слово, остаются ему верны перед Богом и совестью, — он, пренебрегая священностью христианского брака, забыв о том, что ее муж — его, Евгения, «родня и друг», начинает преследовать ее, мечтая добиться ее благосклонности, склонить к адюльтеру, к измене. Теперь ему так хочется, такова теперь его потребность.
Когда-то она написала ему письмо. Теперь он пишет ей. Различие этих писем заново дает нам представление, какая стена разделяет их. Прежде всего: ее письмо — это письмо любви; его письмо — письмо страсти.
В чем разница между любовью и страстью?
Она проста. В страсти главное — «я». В любви главное — «ты».
Этим и различаются письма.
Главный «герой» письма Татьяны — Онегин: в нем она предполагает и видит все самое прекрасное, что может быть в человеке как образе Божьем, — вплоть до того, что он, ее избранник, являлся ей в святые минуты жизни — «Когда я бедным помогала Или молитвой услаждала Тоску волнуемой души»; и даже сомнение («Кто ты…») не колеблет ее веры.
В письме Онегина главный «герой» — он сам; речь идет только о моих чувствах, моих переживаниях, письмо полно жалости к себе самому; а в Татьяне — и это поразительно до трагикомизма — видится и уверенно предполагается все самое дурное: «Предвижу все: вас оскорбит… Какое горькое презренье Ваш гордый взгляд изобразит!.. Какому злобному веселью, Быть может, повод подаю!., в мольбе моей смиренной Увидит ваш суровый взор Затеи хитрости презренной — И слышу гневный ваш укор…», — словно он обращается к неумной и мелочной светской кривляке, вроде тех «самолюбиво равнодушных» дам, о которых говорилось в третьей главе, на подступах автора к письму Татьяны. Ничего удивительного тут нет, таково свойство эгоцентрического и эгоистического взгляда: человек, видящий в мире только себя, словно глядится в зеркало — на что бы он ни смотрел, во всем видит свои пороки, все мерит по себе. И оттого все перед ним предстает в ложном свете, даже очевидные факты; человек, сам того не замечая, лжет другим и себе самому. Ну разве можно сказать о любви Татьяны: «В вас искру нежности заметя», — после ее-то огненного письма? Ничего бы он к тому же не «заметил», если бы не это письмо, строки которого «жгут страницы»! И «Я ей поверить не посмел» — ложь, хоть и невольная, а точнее — аберрация эгоистического сознания, дело ведь вовсе было не в том, «посмел» или не «посмел»…
Дальше:
Еще одно нас разлучило…
Несчастной жертвой Ленский пал…
Ото всего, что сердцу мило,
Тогда я сердце оторвал;
Чужой для всех…
Этот пассаж тоже удивителен: Ленский, оказывается, вовсе не убит Онегиным, а… как-то сам «пал» «несчастной жертвой» (чьей?); к тому же Онегин, пожалуй-, выглядит в письме не менее «несчастным»: и «сердце оторвал» «ото всего, что сердцу мило» (от чего?), и «чужой для всех», и «ошибся», и «наказан»…
Но самое, наверное, поразительное — это:
Когда б вы знали, как ужасно
Томиться жаждою любви…
И это он говорит ей! Ей, которая испила до дна всю горькую чашу этой неутолимой жажды, ту чашу, которая теперь, может быть впервые в жизни, предстоит ему…
Евгений сам еще не понимает, что возвращается бумеранг: он осужден познать на себе страдания Татьяны; и никто, кроме него, не виноват, что — уже поздно…
Поздно потому, что он всю жизнь видел в мире только себя — и поэтому был слеп, и поэтому прошел мимо своего счастья. Он и сейчас таков же:
Нет, поминутно видеть вас,
Повсюду следовать за вами…
…..
Пред вами в муках замирать,
Бледнеть и гаснуть… вот блаженство!
И я лишен того…
Все та же формула онегинской жизни: хочу — значит, должен иметь; если же я «лишен того» — значит, происходит нелепость, так не должно быть! И, в отличие от Татьяны, которая писала: «Перед тобою слезы лью, Твоей защиты умоляю», он в заключение своего письма словно подарок ей делает:
Но так и быть: я сам себе
Противиться не в силах боле;
Все решено: я в вашей воле
И предаюсь моей судьбе.
И ждет ответа, и удивляется, что его нет; и, встретив ее, недоумевает: «Где, где смятенье, состраданье? Где пятна слез?..»
Одним словом, письмо Онегина, «рисунок» которого во многом повторяет общий контур письма Татьяны, на самом деле есть зеркально-обратное, перевернутое его подобие, так же как деревенский кабинет героя — перевернутое подобие монашеской «кельи».
Но все же самое удивительное в письме Онегина — то, что оно превратно отражает сами онегинские чувства. С другой стороны, это не вовсе удивительно: мы очень часто плохо понимаем самих себя и собственным эмоциям, реакциям, ощущениям даем неверное истолкование. В Онегине как бы борются две его сущности — высшая и низшая: та, которую угадала когда-то Татьяна, увидевшая в нем своего суженого («ты мне послан Богом»), и другая — сформированная уродливым воспитанием, мировоззрением, образом жизни. Из всего контекста восьмой главы, из всего поведения Евгения, даже из его письма, с этими чудесными строками:
Я знаю: век уж мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я… —
из всего этого видно, что ничего подобного Евгений никогда не испытывал, не знал, не чувствовал, одним словом, что это — любовь, а не очередное увлечение. Но то же самое письмо и то же самое поведение внятно говорят о том, что сам Онегин не отдает себе отчета во всей серьезности, всем величии переживаемого им момента жизни: он продолжает осмыслять свои чувства в привычных ему, что называется «отработанных», категориях «науки страсти нежной». Поэтому-то его письмо, побудителем которого стала любовь, выдержано в выражениях и понятиях страсти, поэтому оно так эгоистично по окраске, так, по сути дела, неуважительно по отношению к Татьяне, подозреваемой и в презрительной «гордости», и в «злобности», и Бог весть в чем еще. Любви Онегина не удалось выразить себя в этом письме: любовь в нем не хозяйка, а бедная родственница. Евгений по-прежнему путает любовь и страсть, вечное, бесконечное — с временным и непродолжительным, готовность отдать себя другому — с желанием присвоить другого себе. Он испытывает, он претерпевает чувство огромной любви, не понимая — что такое эта любовь и какая путаница царит в его душе. Зато это видит Татьяна:
Как с вашим сердцем и умом
Быть чувства мелкого рабом?
Что она отвечает на его письмо? Она отвечает признанием:
Я вас люблю (к чему лукавить?)…
Отвечает так же смело, как когда-то смело открыла ему в письме свое сердце, — но:
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна.
Этот ответ никого из читателей не оставлял равнодушным: одних восхищал, других изумлял или даже возмущал, у иных вызывал усмешку непонимания, а то и презрения, упреки в «отсталости»: «передовая женщина», чуждая «предрассудков», конечно же, должна в угоду свободному чувству нарушить обет верности, данный перед Богом, предать мужа и сделаться любовницей Онегина, завершив таким образом историю, начатую ее отчаянным и чистым девичьим признанием…
Думали также, что этот ответ — дань приличиям света, страху перед мнением людей, в лучшем случае — «чувству долга»…
Нет, нет и нет. Каждое из этих мнений — не более чем привычка мерить любой поступок на свой аршин, судить по себе.
Все, что мы знаем о Татьяне, говорит, что это — бесстрашный человек, женщина могучих чувств, способная на подвиг и самоотвержение и не боящаяся никакого человеческого суда. И самое огромное из ее чувств — это любовь к Онегину. Никому не пришло в голову, что эта любовь и есть причина ее отказа: не единственная (ибо Татьяна и в самом деле человек, верный своему слову, своему долгу, и нарушить брачный обет, который для нее свят, она не может), но — главная. Ведь она видит, что Евгений ничего не понял в собственной своей любви, что он стоит на той же нравственной ступени, что и тогда, при их объяснении в саду, что — как возражал Достоевский Белинскому, назвавшему Татьяну «нравственным эмбрионом», — Евгений сам поистине «нравственный эмбрион»; а это значит, что пойди она ему навстречу — он не выдержал бы этого испытания (как верно говорит Достоевский) и все обернулось бы очередным для нашего героя любовным приключением. Слишком велика и подлинна любовь Татьяны, чтобы она могла пойти на это: в таком случае и Евгений остался бы таким же, каким был, и упал бы еще ниже, и она потеряла бы веру в него и уважение к себе — и тогда, в грязи и измене, наступила бы смерть этой любви — возмездие за то, что страсть поставлена выше совести и любви.
Татьяна — страстная натура, и она по себе знает, в чем различие страсти и любви, и навстречу страсти пойти не может.
«Нет, — говорит Достоевский, — есть глубокие и твердые души, которые не могут сознательно отдать святыню свою на позор, хотя бы из бесконечного сострадания. Нет, Татьяна не могла пойти за Онегиным».
Когда она говорит Евгению «нет», когда окончательно и навсегда расстается с тем, кому мечтала отдать всю себя, — она жертвует собою ради Онегина. И именно этим и себя сохраняет, спасает как личность.
Смысл этой жертвы указан в одной из последних строф романа:
Она ушла. Стоит Евгений,
Как будто громом поражен.
В какую бурю ощущений
Теперь он сердцем погружен!
Это последнее, что мы о нем узнаем: не убит отказом, не обижен, не разочарован, не разгневан, не смущен или опечален, но — как будто громом поражен. Ничего подобного поступку Татьяны он не мог себе представить — он, для кого главный закон жизни это закон хотения, закон угождения своему «я». Она любит его, вторично призналась в этом; а теперь и он любит ее и признался в этом ей; стало быть, они на пороге «блаженства», а значит, никакие преграды не в счет — ведь так всегда должно быть, когда два человека пылают взаимной страстью!
Но она говорит «нет».
Потому что есть преграда, которую она перейти не может и не хочет: любовь, слитая с совестью, — или совесть, облеченная в любовь.
Герой Достоевского («Сон смешного человека») говорит: «Я видел истину!» Нечто подобное случилось с пушкинским героем. На его глазах перевернулся мир: поступок Татьяны показал ему, что существуют иные ценности, иная жизнь, иная любовь, чем те «чужие причуды», к каким привык он, «Москвич в Гарольдовом плаще», страдающий от «несовершенства мира». Он увидел это — а значит, не все потеряно, и Можно перестать быть «пародией», и найти себя, и «верить мира совершенству». Иначе говоря, «гром», поразивший героя со словами Татьяны, может преобразить его.
Может… но большего нам знать не дано: как раз в этот момент заканчивается, обрывается, как туго натянутая струна, роман, где история мыслящего человека послепетровской России — с судьбой которого связаны и судьбы самой России — только начата.
Теперь мы можем заново и сполна оценить тот мощный и гениально неожиданный эпический разворот, какой придан сюжету темами Наполеона, Жанны д’Арк и Москвы, горящей, но не поступающейся своей честью; темой иноземного нашествия и жертвы во имя Отечества. В конечном счете — темой России, которая воплощена в Татьяне.
И теперь же — только теперь, когда роман весь перед нами, — можно увидеть, что жертва Татьяны была не единственной: ей предшествовала другая — о ней, сам не сознавая глубины своего прозрения, говорит Онегин в письме: «Несчастной жертвой Ленский пал…»
- Жертва
Пути Господни неисповедимы, говорится в Священном Писании. Неисповедимым образом Ленский стал той жертвой, которая, может быть, спасла Татьяну.
Это страшно сказать — но иначе зачем автор в третьей главе предупреждает сотрясаемую страстью чистую девушку: «Погибнешь, милая…»? А ведь это только начало. В шестой главе, после именин, после проделок Онегина на бале, Татьяна оказывается на краю бездны:
Его нежданным появленьем,
Мгновенной нежностью очей
И странным с Ольгой поведеньем
До глубины души своей
Она проникнута; не может
Никак понять его; тревожит
Ее ревнивая тоска,
Как будто хладная рука
Ей сердце жмет, как будто бездна
Под ней чернеет и шумит…
«Погибну, — Таня говорит, —
Но гибель от него любезна.
Я не ропщу: зачем роптать?
Не может он мне счастья дать».
Она готова «погибнуть»: переживания этого дня, «чудно нежный» («И, может быть, еще нежней») взгляд Онегина, его флирт с Ольгой, ревность — все это отняло у нее последние силы, отняло способность к сопротивлению овладевшей ею страстью, она готова на что угодно — без любви с его стороны, без счастья, без всяких условий; но для девушки ее склада потерять свою честь — безусловная гибель, после этого незачем жить, — так пусть будет гибель, раз ничего другого ждать она от него не может!
Это — Татьяна. Не небожительница, а женщина из плоти и крови, с могучими страстями и кристально цельным характером, человек, способный сделать выбор и отвечать за него. Зная о ней это, мы можем оценить, чего ей стоил ее последний ответ любимому ею Евгению.
Но ведь она могла погибнуть — потому что была готова, потому что решилась на это.
Она не погибла потому, что погиб Ленский.
Ленский погиб — и его убийца уехал из тех мест, где могла совершиться гибель Татьяны; и в его отсутствие Татьяна узнала и поняла Онегина, и тогда было принято решение выйти замуж; и теперь, став блестящей княгиней и предметом его безумной любви, пережив великую драму сердца, она своим поведением открывает Онегину великую истину подлинной жизни и подлинной любви — и его потрясенное безмолвие дает нам надежду на его прозрение.
Ничего этого не было бы, если бы не погиб прекрасный, простодушный, пламенный, чернокудрый юноша-поэт, «русский мальчик» с возвышенной геттингенской душой.
Сколько еще мальчиков погибло в бурях российской истории!
Две жертвы — и какие жертвы! — положены к ногам Онегина — русского мыслящего человека, с неведомой для автора судьбой которого связана судьба Отечества, от духа, сердца и разума которого зависят пути России.
- «Вот начало большого стихотворения, которое, вероятно, не будет окончено», — писал Пушкин о первой главе. И — как в воду глядел. Сюжет романа окончен, но «большое стихотворение» не окончено, оно продолжается. Оно продолжается в русской культуре, русской литературе, в которой едва ли не все истинно великое так или иначе — сюжетами, проблемами, мотивами, героями — тяготеет к «воздушной громаде» романа как к своему «солнечному центру», как к тихому подземному огню. Оно продолжается в нашей жизни, в судьбе России, в ее нынешней истории, в нашем времени, столь ясно, драматично и страшно напоминающем об эпохе петровской революции. Оно, это «большое стихотворение», как оказывается сегодня, неимоверно опередило свое время — не зря оно так плохо понято было современниками и даже близкими потомками, усвоившими чрезвычайно ограниченную исторически формулу Белинского: «энциклопедия русской жизни». Энциклопедия есть свод остановленных знаний, стареющих со временем; «Евгений Онегин» есть, по слову того же Белинского, «вечно живущее и движущееся явление».
К сожалению, однако, мысль Белинского о «вечности» пушкинского романа часто на практике остается лишь красивой декларацией. В комментариях и в большинстве литературоведческих работ «Евгений Онегин» рассматривается как явление скорее «остановленное» в исторической ретроспективе, в своем времени, чем «движущееся» сквозь время; как великий «памятник литературы», тесно связанный со своей эпохой, а не живое слово, обращенное из своей эпохи в будущее.
Настоящая работа призвана хотя бы отчасти уравновесить этот перекос, сосредоточив все внимание на том сверхвременном и сверхлитературном содержании романа, которое делает его явлением и впрямь «вечным», выводит из тесных рамок «своей эпохи», из внутрилитературных, внутрифилологических пределов — в область живой, движущейся жизни, частью которой являемся мы с вами, уроки которой действительны для каждого из нас.
А поскольку, как говорится, нельзя объять необъятное, ради названной цели пришлось оставить в стороне темы эстетического совершенства романа как литературного шедевра, как гениальной словесной музыки; как неповторимого интонационного и эмоционального единства, включающего всю необъятную гамму человеческих чувств — от упоительной веселости до глубочайшей печали, от пронзительной горечи до сверкающего остроумия; как неотразимо обаятельного сочетания интимного, «домашнего» разговора о своем времени, своей жизни, своих заботах («беседа сладкая друзей») с серьезностью мыслителя и пророка; как гигантских гармонических вариаций на темы русской и мировой литературы, воплощающих культурный опыт человечества; как неподражаемо виртуозной, мудрой и детски свободной игры стихом, словом, звуком, тишиной; наконец, как великого торжества прекраснейшего из языков. Всего этого не пришлось коснуться в той мере, как следовало бы. Оправданием служит лишь то, что все это легче будет воспринять и осмыслить — как непосредственно, так и из имеющейся литературы — как раз на том фоне, который предлагается в этом рассказе, призванном показать, что пушкинский роман сегодня обращен к нам и, возможно, именно нами и может быть понят во всей глубине и во всем объеме (Более подробное исследование романа мною еще не закончено; опубликованы лишь работы о двух первых главах (см. мои книги «Поэзия и судьба». М., 1987; М., 1999, а также «Пушкин. Русская картина мира». М., 1999). — В.Н.).
Главное — понять, что этот роман — не только и не столько «энциклопедия» жизни России в первой трети XIX века, сколько русская картина мира: в ней воплощены, в ней действуют — строя ее сюжет и судьбы героев, образуя ее неповторимо прекрасный, живой и вечно движущийся облик — те представления о мире, жизни, любви, совести, правде, которые выстраданы Россией, всем ее огромным опытом, историческим и духовным, ее судьбой и верой. «Евгения Онегина» можно назвать поэтому первым русским «проблемным романом»; на его протяжении Пушкин ставит и решает для себя — и для нас — проблему человека.
Что есть человек? Потребитель мира, узурпатор вселенной, животное, которое рассуждает — и, рассуждая, жертвует всем на свете ради любой своей прихоти — или подобие Бога, принесшего Себя в жертву ради людей? Сотворенный по образу Бога — сохранит ли человек в себе этот образ?
Это не отвлеченный философский вопрос. Для нас это вопрос кровный и огненно насущный, который на научном языке формулируется как вопрос нашей национальной духовной идентичности. Сегодня он звучит так: что есть Россия? Несчастная страна, терпящая неудачи в строительстве «рая на земле», где исполняются все прихоти и похоти, — или это место, где не все подвластно «безнадежному эгоизму», где не вовсе утерян христианский идеал, могущий спасти человечество от грозящего ему тупика? Останется ли Россия Россией?
Две России взаимно притягиваются и взаимно противостоят в «Евгении Онегине»: Россия Татьяны и Россия Онегина.
Онегин стоит как будто громом поражен поступком Татьяны, явившим ему истину жизни, любви, истину человеческого образа. Что он понял? Куда пойдет? Как теперь будет жить? Обретет ли себя?
Роман не дает ответа — он закончен. Но история России продолжается. Поэтому продолжается и роман. Он не дает ответа — он его ждет.
1999
Да ведают потомки православных
Глава из книги «Да ведают потомки православных. Пушкин. Россия. Мы.»
«О какое удивительное то было утро, оставившее следы на всю жизнь. Не помню, как мы разошлись, как закончили день, как улеглись спать. Да едва ли кто и спал из нас в эту ночь. Так был потрясен весь наш организм».
Так писатель и журналист Михаил Погодин вспоминал о чтении Пушкиным «Бориса Годунова» 12 октября 1826 года, через месяц с небольшим после возвращения поэта из Михайловской ссылки. Примерно через месяц после чтения Погодин записывает в дневнике: «Переписывал с восхищением «Годунова». Чудо!» — и еще не раз поминает в дальнейшем пушкинский шедевр.
Через четыре года трагедия Пушкина издана, в январе 1831 года он дарит ее Погодину, и тот отмечает это событие в дневнике. А через четыре месяца, 30 апреля, Погодин записывает: «К Пушкину, и с ним четыре битых часа в споре о «Борисе»…» Речь шла о вине или невиновности Бориса Годунова в смерти царевича Димитрия. Еще в 1829 году Погодин напечатал статью, где доказывал, что Борис к этой смерти непричастен; сохранились замечания Пушкина на полях этой статьи: Пушкин спорит с нею, он твердо стоит на той позиции, с какой написана его трагедия, — однако среди его возражений нет, пожалуй, ни одного неопровержимого. Но и у Погодина убедительные аргументы отсутствуют. И вот после выхода в свет пушкинской трагедии спор возобновляется с новой силой.
Вопрос о смерти Димитрия так же неясен и сейчас; юридически не доказана ни виновность Годунова, ни непричастность его к драме, послужившей толчком эпохе, получившей название Смутного времени.
Достойно изумления — об этом уже говорилось выше (см. «Предполагаем жить»), — что, задумав написать трагедию об истории России, молодой Пушкин из всей громады возможных сюжетов выбрал именно этот, с точки зрения строгой истории считающийся неясным, построил произведение на версии, которая, как он хорошо знал, не подтверждена, и сделал это вовсе не в порядке «поэтической вольности» («Клевета и в поэмах казалась мне непохвальною», — писал он), а повинуясь, думается, интуитивному пророческому чувству. Через неполных сто лет после окончания его трагедии, в 1918 году, был убит не только наследник престола, была расстреляна вся семья во главе с последним российским царем.
Как и большинство пророчеств, пушкинское пророчество не было услышано — даже когда сбылось. Не понимали его и мы. Хотя читали «Бориса Годунова». Хотя знали о расстреле царской семьи.
Но вот с недавних пор это событие все больше занимает нас, волнует и ужасает. Точно мы очнулись от наваждения.
Но еще в 70-х годах в одной литературной аудитории я своими ушами слышал от автора нашумевшей тогда книги на эту тему:
— Понимаете, Алексей был законным наследником и мог стать знаменем; к тому же, не забывайте, мальчик был очень красив, это тоже имело значение. Поэтому его обязательно надо было уничтожить…
И никто из присутствовавших слова не вымолвил. Легкая неловкость, впрочем, была, но носила характер естественной жалости к ребенку; все остальное никого особенно не смутило: мало ли крови пролилось «в то суровое время». Не встретило заметной реакции и утверждение, что организатор избиения Юровский был «кристально чистый человек».
Словно мы пребывали в каком-то вывернутом, извращенном мире, где все стоит на голове, где совести, этому — говоря словами пушкинского Барона — «незваному гостю, докучному собеседнику», отказано от дома.
Пушкин такое сознание описывал не раз, и впервые — именно в «Борисе Годунове»: в знаменитом монологе «Достиг я высшей власти» Борис, пытаясь понять природу своих тяжелых предчувствий, мрака на душе, находит все причины исключительно вне себя — прежде всего в «неблагодарности» народа, «черни», в «молве», одним словом, в «мирских печалях». И только в самом конце монолога вспоминает о совести — но видит в ее угрызениях не указующее и спасительное начало, а бессмысленное истязание, от которого «рад бежать, да некуда…» — остается лишь жалеть себя: «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста» (слово «жалкий» в пушкинское время означало — достойный жалости).
Это — обратная логика мира «антиподов», в котором оказывается человек, совершивший грех; мира, из которого все видится наоборот: черное — белым, ложь — правдой, а беззаконное убийство беззащитных людей — извинительной необходимостью «сурового времени».
И вот теперь, когда мы делаем попытку выкарабкаться на свет Божий из мира, где физический и духовный террор был законом и нормой, идеологической и чуть ли не «моральной», — совесть людей стало тревожить преступление, совершенное семьдесят с лишним лет назад. Более того, народная интуиция понемногу постигает, что начало террору как норме было положено не в 30-е, ни даже в 20-е годы, — начало было положено в 1918 году бессудным расстрелом русского царя и его семьи.
Могут возразить: сопоставимо ли это с террором против сотен тысяч, миллионов?
Ведь человеку советскому трудно понять, что такое, на протяжении ряда досоветских веков, было для русского человека — царь.
В одной из самых напряженных сцен «Бориса Годунова» Борис, встревоженный тем, «Что в Кракове явился самозванец И что король и паны за него», интересуется вовсе не тем, чем — с нашей современной точки зрения — должен интересоваться в такой ситуации «лидер» государства: вовсе не численностью угрожающих ему сил, не тем, какие иные силы за ними стоят, чьи интересы представляют, — нет, его волнует только одно: «Узнал ли ты убитого младенца, — спрашивает он Шуйского, посланного им когда-то, после гибели царевича, в Углич, — И не было ль подмена?» Трижды он задает этот один-единственный вопрос, добиваясь от Шуйского, под страхом казни, откровенного ответа. То есть самое главное для Бориса — кто ему угрожает. Если самозванец — все решает сила. Если чудом уцелевший наследник, то есть законный царь, — с ним Бог, и дело Бориса безнадежно.
«Никто против Бога да против царя», «Один Бог, один государь», «Бог на небе, царь на земле» — такие пословицы, а их у нас было не счесть, выражали народное отношение к царской власти, народное понимание ее сущности. Царская власть мыслилась не как административная, понимание ее было не политическим, не юридическим, вообще не мирским — оно было связано с духовной основой России — православной верой.
«Царство Мое не от мира сего» (Ин.18,36). Эти слова Христа определяют существеннейшую черту православного христианства — его «неотмирность», свободу от излишней привязанности к временному, преходящему, острое сознание того, что все земное непрочно и заслуживает лишь относительного внимания в перспективе Царства, которое не от мира сего. Отсюда характерное преобладание идеализма над прагматизмом, черта, глубоко соответствующая национальному характеру как в его лучших, так и в прискорбных проявлениях. Жизненная практика редко соответствовала высоте православного идеала — отсюда огромная роль понятия греха в народном сознании и в русской культуре. В силу высоты устремлений, высоты требований к человеку — рядом с сознанием нашей греховности — допетровская Русь, при всем темном, что в ней было, называлась Святой Русью, и название это было народным.
Церковь была абсолютным центром русской жизни; это было не «учреждение», не общественный институт или идеологическая платформа, но совокупное, соборное единство всех православных, от крестьянина (видоизмененное христианин) до царя. Перед Богом и Церковью все считались равны, ее духовным и нравственным руководством была проникнута вся жизнь, ее пастыри перед Богом отвечали за души людей.
Заботой же царя было отвечать за те земные условия, при которых могла осуществляться христианская жизнь народа; царское звание возлагалось на монарха — через Церковь — Богом.
Конечно, все это — в идеале; и царь — человек, и Церковь — люди; но когда в человеческой истории удавалось людям воплотить неотмирный идеал в мирской действительности? «Бог на небе, царь на земле» — это вовсе не значило, что царствующий свят или непогрешим, — церковные иерархи обличали и царей. Но люди знали, что Бог дает такого царя, какого они заслужили («Владыкою себе цареубийцу Мы нарекли», — говорит Пимен). Царь и народ — одно: «Народ тело, царь голова». Свят не сам царь по своим качествам — свята воля царская, свято служение царя, его место в жизни страны и народа, свят царский престол в миру, как в храме — алтарь с престолом Бога. Каждый православный перед личным Богом, Христом, отвечает за свою бессмертную душу; царь — единственный, кто несет личную же ответственность за весь народ. «За царское согрешение Бог всю землю казнит, за угодность милует».
В царской власти виделась, в идеале, наиболее гуманная власть: соблюдая закон человеческий, она в то же время — выше закона: «Одному Богу государь ответ держит».
«Зачем нужно, — говорил Пушкин Гоголю, — чтобы один из нас стал выше всех и даже выше самого закона? Затем, что закон — дерево; в законе человек слышит что-то жесткое и небратское. С одним, буквальным исполнением закона недалеко уйдешь; нарушить же или не исполнить его никто из нас не должен; для этого-то и нужна высшая милость, умягчающая закон, которая может явиться людям в одной только полномощной власти. Государство без полномощного монарха — автомат; много, много, если оно достигнет того, до чего достигли Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? — Мертвечина. Человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит».
Слог, конечно, гоголевский, но мысли — пушкинские (в том числе — оценка Штатов), из них самая горячая — о милости, превышающей закон, она проходит через все пушкинское творчество конца 20-х — 30-х годов, ради нее, быть может, написана целая поэма — «Анджело», которую сам Пушкин ставил очень высоко. Екатерина в «Капитанской дочке» милует Гринева, который по закону должен быть судим за личные связи с бунтовщиком.
Пушкин глубоко проник в народное, православное понимание власти и закона. Закон необходим, чтобы жизнь не превратилась в хаос, — но он не должен быть ни «жесток», ни «милостив», иначе это плохой закон, — он должен быть справедлив. Однако жизнь только «по справедливости», без милосердия, есть ад. Необходима милость, которая не нарушала и не обходила бы закон, но стояла бы выше его; право на такое милосердие есть право не юридическое, а харизматическое, религиозно обоснованное, его может иметь только такой властитель, который Богом, через Церковь, сам поставлен выше человеческих законов.
К такому пониманию царской власти шел автор «Бориса Годунова», чья юношеская поэзия была рупором декабризма. Пушкинская трагедия — первая в истории, если не единственная, подлинно христианская по нравственным и историческим воззрениям драма — что поразительно, ибо, приступая к работе над ней, Пушкин в своих умственно-идейных убеждениях был, по его собственному выражению, «весьма посредственным христианином»; но ведь в творчестве им руководили не головные убеждения, а сердце и интуиция. И думается, «Борис Годунов» был решающей вехой не только в художественной и духовной, но и в политической эволюции поэта. В процессе работы над «Борисом», погружения в исторический материал — летописи, произведения старинных писателей, «Историю» Карамзина, — вживания в мысли и чувствования персонажей, Пушкин познавал духовный мир старой Руси, постигал, что такое на Руси царь и как в понимании царской власти сказывалась религиозная вера русского человека. Не удивительно, что именно после «Бориса Годунова» Пушкин является нам убежденным сторонником монархической власти как наиболее органичной для России; либерализм его касается лишь частных свобод личности и особой роли дворянства как народного предстателя перед монархом. Поражаться надо другому — глубине духовной интуиции, которая шла у Пушкина впереди убеждений «посредственного христианина»; она помогла ему четко отделить от ветхозаветного законничества православную устремленность к благодати, упование на образ Божий в человеке, а стало быть и во властителе, сказавшееся в пословице: «Бог милостив, а царь жалостлив». Такое упование — и в теме «милости к падшим», пронизывающей пушкинское творчество от «Стансов» «В надежде славы и добра» до «Памятника».
Один из видных деятелей русской эмиграции, историк и мыслитель архимандрит Константин (Зайцев) в своей книге «Чудо Русской истории» (1970) говорит о процессе драматических отношений между духовностью допетровской Руси и мирскою государственностью созданной Петром Империи, о том, что Святая Русь стала заслоняться имперской Великой Россией, о том, что духовная связь Церкви — как высшей духовной инстанции и как верующего народа — с государством слабела, распадалась, сходила на нет, пока наконец от этой связи не осталось одно-единственное звено: православный царь; символично, что последний русский государь Николай II был одним из относительно немногих глубоко верующих людей русского «просвещенного» общества.
В ходе бурных событий начала века царь и в самом деле остался совсем один. Постепенно его предали и оставили все: общество, чиновный аппарат, военачальники, приближенные. Ради гражданского мира в стране он принес себя в жертву, отрекшись от престола, и был вскоре вместе с семьей и несколькими преданными людьми расстрелян — без суда, быстро и тайно. Династия, унаследовавшая шапку Мономаха в 1613 году в монастыре святого Ипатия, была пресечена триста пять лет спустя в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге.
Цареубийства случались и раньше — разумеется, не только в России, — но впервые в нашей истории убийство монарха, пусть и «бывшего», означало уничтожение самого престола — места, которое, по вере наших отцов, было свято, места ответчика перед небом за весь народ, за всю Россию. Подобное событие для предков, говоривших: «Без Бога свет не стоит, без царя земля не правится», — означало бы конец Руси и могло представляться им, пожалуй, лишь как апокалиптическое видение. Но вот это произошло — и множество русских людей отнеслось к этому так, будто ничего святого у предков никогда не было. Люди согласились, что святыни отцов можно отменить, что их и нет, и не было, что они — фикция, связанная с выдумкой о милосердном Боге, сотворившем человека по Своему образу и подобию, реальность же в том, что человек произошел от зверя. Преступление, совершенное в подвале, отразило катастрофу, давно уже совершавшуюся в душах и сознании людей, отразило соответственным образом и поэтому было принято как норма. Возникало сознание «нового человека», человека «без креста», по слову Блока. «Я разрушу храм сей рукотворенный и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный», — такие слова приписывали Христу (Мк.14,58), — «Весь мир насилья мы разрушим… Мы наш, мы новый мир построим», — мечтал «новый человек».
«Новый» мир оказался поистине перевернутым миром. «Кто не со Мною, тот против Меня» (Мф.12,30) превратилось в большевистское «кто не с нами, тот против нас»; «Многие же будут первые последними, и последние первыми» (в Царстве Небесном; Мф.19,30) — в «кто был ничем, тот станет всем» (здесь, на земле, в пролетарском раю); появились свои, черные заповеди: ненавидь, убий, лжесвидетельствуй, укради (экспроприируй, перераспредели), свои боги и евангелия, свои иконы («руководителей партии и правительства») и даже «нетленные» мощи в Мавзолее. Образовавшееся тоталитарное государство стало, по мысли архимандрита Константина, оборотнем самодержавной Российской Империи, ее извращенным подобием. Политически существуя в мире живых, духовно этот монстр был персонажем «нижнего» мира, чем-то вроде пушкинского («Песни западных славян») мертвеца-вурдалака, питающегося человеческой кровью. Такого извращенного сознания, и в таких масштабах, как в большевистской идеологии, история до того не знала. Это было коллективное помрачение на почве безбожия, оттого и стал возможен великий обман: многомиллионный, бесконечно одаренный, добрый, бескорыстный, терпеливый, великий народ оказалось возможным обвести вокруг пальца, одурманить на многие десятилетия, подвергнуть неслыханному террору и построить с его участием грандиозное царство лжи, с наследием которого пришлось иметь дело нам.
Вместилищем и источником этой черной энергии стал в июньскую ночь 1918 года екатеринбургский подвал: там сгустилась вся тьма извращенного сознания, в котором Бог, царь, человек — все становится ничем.
Сурово сказал однажды Достоевский: русский человек без Христа — проходимец. На нашей истории, на нас это подтвердилось, и жестоко. Мы продолжаем жить в зоне преступления, в мире перевернутых представлений и ничем не ограниченной лжи.
Некоторые поговаривают о восстановлении монархии как пути к «возрождению России». Но забывают, что монарх на Руси — не другое наименование президента или генерального секретаря. Царь — титул сакральный, природа царской власти связана с православным учением о человеке, царская власть может в России осуществляться в неподменном виде лишь над народом верующим и по вере живущим. Для того чтобы возродить Россию, надо возродить в себе образ Божий, а мы до сих пор живем по лжи и злобе. И пока мы сами не взыщем с себя за отступничество все до последнего кодранта (Мф.5,26) — мы будем платить и платить, и будет плач и скрежет зубов (Мф.8,12). И пусть хоть все храмы откроются, и все колокола зазвонят, и хоры запоют — не будет возрождения России, будет продолжение погибельного пути, ведущего в наши дни через расстрел в ипатьевском доме.
Как известно, в первоначальной редакции «Бориса Годунова» был безнадежный финал: народ, на глазах которого только что бессудно убили беззащитных родичей Бориса, послушно славит нового узурпатора: «Да здравствует царь Димитрий Иванович!» Так действие замыкалось в порочный круг: ведь с того же самого — «Борис наш царь! Да здравствует Борис!» — трагедия началась. Выходило, что русский народ забыл о совести: избрав однажды на престол преступника, он снова, ничем не наученный, ни в чем не раскаявшийся, готов сделать то же самое. Какие жернова повернулись в мастерской пушкинского гения, мы не знаем, но гений этот продиктовал поэту другой финал, тот, который мы знаем: в ответ на приказ: «Кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!» — «Народ безмолвствует». Это выход из порочного круга. В народном безмолвии — не только отказ признать царем нового узурпатора; здесь, может быть, преддверие народного покаяния: «Прогневали мы Бога, согрешили…» Этот финал дает надежду, представляет — говоря словами Гоголя — «русского человека в его развитии», а не в его деградации. В нем сегодня слышится подсказка нам, кого Пимен назвал «потомками православных».
1990
Поэт и толпа
Глава из книги «Да ведают потомки православных. Пушкин. Россия. Мы.»
В журналистике и публицистике, как печатной, так и звучащей, наблюдается любопытное явление: индекс цитирования Пушкина, частота ссылок на него, заметно сократившись применительно к области внутрикультурной, ощутимо возросли в сфере насущных проблем жизни; из русских классиков здесь, пожалуй, никто не поминается и не цитируется так часто, как Пушкин, — порой в ранге безымянной народной мудрости. Было что-то наивно-символическое в призыве одного депутата к российскому президенту: придя домой, перечитать «Бориса Годунова». Пушкин выступает в привычной для народного сознания сверххудожественной роли. И теперь, когда никто уже не наводит на наши отношения с поэтом официального глянца, когда государству не до Пушкина, вообще не до культуры, об этих отношениях можно судить без внешних помех.
На первых, однако, порах освобожденная от присмотра напряженная актуальность этих отношений проявилась весьма неприглядно, — но с тем культурным и нравственным багажом, что мы нажили в XX веке, иначе, пожалуй, и быть не могло. Я имею в виду то, что в числе первых детонаторов нынешней жестокой идеологической междоусобицы была журнальная публикация отрывка из книги о Пушкине (Абрам Терц. Прогулки с Пушкиным. Фрагмент. — «Октябрь», 1989, № 4. — В.Н.).
Правда, междоусобица и без того оказалась неизбежна — это так; и «Прогулки с Пушкиным» необходимо было напечатать; но не так. Осуществленная с той самовлюбленной бестактностью (по отношению и к полуторавековой культурной традиции, и к простому народному чувству), — которая в духе самой книги, продолжающей, на мой взгляд, самые разрушительные традиции культуры начала века, — эта акция массового журнала повлекла не только безобразный и опять-таки морально разрушительный скандал в среде литераторов; она была болезненным ударом по национальному культурному достоинству и потому вызвала широкую (нарочито игнорированную) ответную реакцию читателей, почувствовавших себя оскорбленными, и породила — уже тогда, в пору не иссякшей еще эйфории «гласности», — нараставшее впоследствии недоверие к «свободной», «демократической» прессе, сомнение в ее культурном и моральном авторитете. Все это вместе, повторяю, выглядело крайне уродливо, что усугублялось очевидным присутствием идеологических спекуляций. Но ведь спекуляции возможны лишь там, где насущность ценности равна ее подлинности.
В итоге подтвердилось, что Пушкин по сию пору одна из самых горячих точек нашей душевной жизни, своего рода солнечное сплетение русской культуры.
Мудрость слов Гоголя о Пушкине как русском человеке «чрез двести лет» — в том, что они не о литературе, а о жизни; в них зеркально повернуто, опрокинуто в будущее пушкинское: «История народа принадлежит Поэту»; они требуют от русского человека взглянуть на себя глазами Пушкина.
Попытавшись сделать это сегодня, мы обязательно столкнемся с самым, может быть, пророчественным из сравнительно немногих сверхсюжетов Пушкина, который я назову сюжетом исполнения желаний. Приближаясь к названному Гоголем сроку — «двести лет», — мы увидим себя и в «Сказке о рыбаке и рыбке», и в «Пиковой даме», и в «Медном всаднике», и в «Сказке о золотом петушке», и в иных вариантах названного сверхсюжета. И конечно, мы увидим себя в качестве делателей, жертв и продукта эпохи, по отношению к которой пушкинская трагедия о Смутном времени является своего рода предварительным конспектом.
Безмолвствование народа в финале «Бориса Годунова» — как известно, вовсе не отражение исторической реальности, Пушкин шел к этому финалу долгим и непростым путем, это финал не исторического, а пророческого рода, русский человек тут у Пушкина не в наличном историческом состоянии изображаемой эпохи, а — «в его развитии», как сказал бы Гоголь (снова будто заимствовавший формулировку у Пушкина: «Что развивается в трагедии? какая цель ее? Человек и народ…»). В пушкинском финале есть «цель», относящаяся к русскому «человеку и народу». В нем, может быть, своего рода указание: взглянуть на себя, увидеть, что желания исполняются всегда — по заслугам и по вере; увидеть, ужаснуться и тем обрести надежду на развитие.
Иначе — финал утверждает безнадежную бессмысленность русской истории и жизни русского человека; но тогда «Борис Годунов» принадлежит какому-то другому писателю.
Ниже сделана попытка взглянуть, с помощью Пушкина, на наше «развитие» в один из моментов, близких к указанному Гоголем сроку. Речь в первую очередь пойдет о том, у кого в этом развитии центральная роль и с кого главный спрос; о человеке культуры, которого я условно назову поэтом.
* * *
Из пушкинских реминисценций чаще других мелькает на печатных страницах и в эфире словосочетание пир во время чумы. Уже одно это побуждает внимательнее вглядеться в пушкинскую трагедию.
Вглядевшись, мы обнаружим, что трагическая ситуация, имеющая место на сцене, состоит не в самой чуме, не в эпидемии, не в надвигающейся смерти: ни того, ни другого в сюжете нет, никто не болеет и не умирает, поминаемый в начале Джаксон умер до того, как действие началось; «телега, наполненная мертвыми телами», проезжает и исчезает, никого из присутствующих на ней не увозят. То же, что происходит на сцене, состоит в поведении действующих лиц, совершивших совместное и согласное духовное отступничество. «Я заклинаю вас святою кровью Спасителя, распятого за нас», — взывает Священник, но это ни на кого не производит никакого впечатления, хотя действие происходит в христианской стране. Священник напоминает Вальсингаму о матери, умершей всего три недели назад, но даже память о матери ставится героем ни во что.
Среди падших женщин и не имеющих имен «молодых людей», пирующих на улице посреди страдающего города и страдающих сограждан, Вальсингам — человек особый, человек другого мира, других повадок, иного полета; потому-то он у них и председатель, лидер, потому и выполняет миссию «идеолога» их пира — выполняет на таком уровне, который им не вполне даже понятен и тем более лестен. Венец миссии Председателя — гимн Чуме. Возникает он замечательным образом:
…Я написал его
Прошедшей ночью, как расстались мы.
Мне странная нашла охота к рифмам Впервые в жизни.
Ночью, внезапно, странно. Почти как у пушкинского Моцарта: «Намедни ночью Бессонница моя меня томила, И в голову пришли мне две, три мысли. Сегодня их я набросал». Но у Моцарта это не странно и не «впервые». А тут… человек никогда в жизни не писал стихов — и вдруг нечто сокрушительно гениальное: как у Моцарта, как у Пушкина; может быть, даже лучше, чем у Пушкина, — как у… Татьяны. Пушкин тут был бы вправе вспомнить ее письмо, ошеломившее его: «Кто ей внушал?.. Я не могу понять» [«То есть как?! Каким образом Пушкин может быть «ошеломлен» письмом Татьяны, написанным им самим?» — воскликнул один оппонент, считая, по-видимому, что «Я не могу понять» есть поэтическая условность. Но только рядовой или посредственный художник до конца «понимает» созданное им. Гений часто неожидан сам для себя; Пушкин, с юных лет познавший чувство изумления перед тем «огнем небесным», который «хранит» его чернильница в своем «заветном кристалле», дает множество примеров подобного отношения к своему дару (вспомним хотя бы «ай да Пушкин…» и пр. по поводу «Бориса Годунова»). Так что «Я не могу понять» по поводу Татьяны — дело вполне обычное, по крайней мере для гения, — а вовсе не условность. И дело не только в гениальности «текста» письма, а прежде всего в характере, в гениальной натуре, родившей такое письмо и способной на такую любовь, о которой сам автор может только мечтать. Изобразить мечтаемое, недостижимое чувство как реальное, сбывшееся (только вот не с тобою самим), создать образ гениальной натуры — разве это не чудо и тайна, перед которыми невозможно не склониться самому художнику? — В.Н.]. Вопрос оправданный: девочка вдруг стала гениальным поэтом. Как Вальсингам. Но ему-то «кто… внушал»?
«Как! Чужая мысль чуть коснулась вашего слуха и уже стала вашей собственностью… Удивительно, удивительно!» — говорит Чарский Импровизатору («Египетские ночи»). На что тот резонно отвечает: «Всякий талант неизъясним». В самом деле, ситуация «гения одной ночи», как и феномен импровизации, это частные случаи, особые разновидности вдохновения (которое и прирожденных поэтов посещает не каждый день). Но в большом контексте Пушкина проблема вдохновения непростая. Вдохновение может быть и «признак Бога» (как в «Разговоре книгопродавца с поэтом», 1824, когда, кстати, само-то существование Бога было для Пушкина под вопросом), но «слезы вдохновенья» могут посещать и тогда, когда созерцаешь «двух бесов изображенья» (стихотворение «В начале жизни школу помню я…» — написано в ту же осень 1830 года, что и «Пир во время чумы») [Впрочем, в том же «Разговоре книгопродавца…» с вдохновением как «признаком Бога» «мирно» соседствуют такие признания: «Какой-то демон обладал Моими играми, досугом… Мне звуки дивные шептал, И тяжким, пламенным недугом Была полна моя глава…» Из современных и широко известных случаев прямого «надиктовывания» можно вспомнить одну из самых духовно соблазнительных книг нашего века — «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха. — В.Н.].
Удивительно, что к этой непростой проблеме подходит вплотную именно Татьяна в с ноем письме: весь свой сердечный ум автор отдает здесь ей, и она, вдохновленная любовью к Онегину, просто, прямо и трезво спрашивает о природе своего вдохновения:
Кто ты, мой ангел ли хранитель Или коварный искуситель: Мои сомненья разреши.
Вопрос этот для нее — страшный; и все же она не боится ни вопрошать, ни решать («Но так и быть…») — она ничего не боится: все письмо ее — на которое Пушкин смотрит явно снизу вверх, с той завистью, что когда-то была описана им в стихотворении «Безверие», — все это письмо, пронизанное мотивами простой и чистой веры в Бога, есть акт веры, пламенной и чистой, в человека, которого она полюбила. В этом, и ни в чем ином, неотразимая, непобедимая поэтическая мощь письма, разгадка того, почему сии стихи, как выразился один критик, жгут страницы. В этой импровизации (а письмо — конечно, импровизация) вдохновение поистине — «признак Бога».
Гимн Чуме — тоже импровизация. И тоже непостижимо, нечеловечески гениальная. Все пламенные уподобления, примененные Цветаевой к пафосу гимна в статье «Пушкин и Пугачев», можно возвести в квадрат, и преувеличения не будет. Цветаева права: в Чуме, этом образе гибели, воспеваемой в гимне, есть и «мятеж», «и метель, и ледоход, и землетрясение, и пожар, и столько еще, не перечисленного Пушкиным!». Притом у нее выходит, будто Пушкин сам восславил Чуму и прочие прелести, перечисленные и «не перечисленные» им. Но Пушкин — устами самого Председателя пира — «перечислял» еще и другое: и «отчаянье», и страх («воспоминаньем страшным…»), и «сознанье беззаконья», и «ужас… мертвой пустоты», и «новость сих бешеных веселий», и «благодатный яд» отравленной кощунством «чаши», и «ласки… погибшего… созданья»…
Все это в гимне есть. Нет только одного. Нет веры, нет любви. Письмо Татьяны — акт веры, облагородившей ту грозную страсть, которая сотрясает ее в третьей главе; веры, которая из страсти сотворила высокую любовь, — чему явно завидует Пушкин. Гимн Вальсингама — акт безверия, породившего страсть (страх) смерти, «ужас», «отчаянье», «сознанье беззаконья».
Но ведь этот гимн — чудо, как и письмо Татьяны. Его воздействие так же неотразимо, его обаяние могущественно, его красота магична. Обольщенные этим, поколения читателей и исследователей и слышать не желали последующих слов Вальсингама, обращенных к умершей Матильде — и к себе самому:
О, если б от очей ее бессмертных
Скрыть это зрелище! Меня когда-то
Она считала чистым, гордым, вольным —
И знала рай в объятиях моих…
Где я? святое чадо света! вижу
Тебя я там, куда мой падший дух
Не досягнет уже…
Женский голос.
Он сумасшедший —
Он бредит о жене похороненной!
Поколения читателей и исследователей судили о покаянии Вальсингама с этого «женского голоса». Когда Вальсингам воспевал Чуму, смерть — он был для нас «нормальным» (в свое время — и для пишущего эти строки). Теперь же, когда он увидел ее, увидел там, в свете, бессмертную, когда устыдился своего падения и магия кощунственного гимна рассеялась, — он стал для них «сумасшедшим».
Вершина гимна — строфа «Все, все, что гибелью грозит, Для сердца смертного таит Неизъяснимы наслажденья — Бессмертья, может быть, залог…». Извлеченная из контекста гимна, эта строфа заключает в себе великую правду: в наслаждении смертельной опасностью душа догадывается о том, что она сотворена бессмертной. Но внутри гимна правда интонационно извращена — ибо разрушена иерархия ценностей, все сдвинулось со своих мест, — и для этого употреблены три могучих художественных средства. Во-первых, сам контекст — контекст хвалы бедствию, несущему страдания не только мне (нам), но и другим людям; во-вторых, сокрушительная энергия стиха, его сила и стремительность, его напор, которые сметают на своем пути простые связи между словами (так смазанные чернила соединяют несколько ясных слов в одно приблизительно угадываемое), — и в результате выходит, что не только мое человеческое восприятие угрозы гибели («неизъяснимы наслажденья») намекает на бессмертие, нет, — сама угроза, и притом любая, сама гибель, и притом всякая, они-то обещают бессмертие — обещают сами по себе! И это усиливается третьим средством — двумя мощными ударами: «Все, все, что гибелью грозит… Бессмертья, может быть, залог!» Цветаеву восхищало это «двоекратное» «все, все…» — упорное, не терпящее возражений и словно само с кем-то или с чем-то пререкающееся.
Собственно, предмет пререкания и есть та «система ценностей», от которой отступился Вальсингам.
В этой другой «системе» бессмертие и в самом деле может быть обеспечено гибелью — но не всякой, не самой по себе; не все, «что гибелью грозит», заключает в себе бессмертие — а только такая гибель, которая освящена верой и любовью. Как бы в ответ на гимн Священник напоминает о добровольной крестной смерти Спасителя, «распятого за нас», смертию смерть поправшего.
Вальсингам же воспевает связь смерти и бессмертия за вычетом духовных основ этой связи — веры и любви; и потому под видом правды у него поется ложь, под именем бессмертия воспевается смерть — черная, окончательная, абсолютная. Это и прочла в гимне Цветаева, это ее и увлекло, это она Пушкину и приписала, «переведя» интонационное извращение правды на словесный язык: «…Пушкин говорит о гибели ради гибели нее блаженстве».
Да, «сии стихи», как и письмо Татьяны, «жгут страницы». Но от такого пламени впору отшатнуться: «…хвала тебе, Чума»; тут излишне спрашивать: «Кто ты?..», «кто… внушал» сии стихи герою трагедии, «надиктовав» ему черную литургию?
Но ведь гимн Чуме гениален — «А гений и злодейство — Две вещи несовместные. Не правда ль?»
Правда. Но не стоит забывать завет апостола Иоанна Богослова: «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они» (1Ин.4,1), — завет о различении духов. Ибо тот, кого Евангелие называет «отцом лжи» (Ин.8,44), может порой из простой правды сотворить гениальную ложь.
Русское культурное сознание эта проблема всегда волновала, всегда тревожила. Да и в языке русском искусство и искушение одного корня. Лингвистика объяснит это исторически, но духовное историческим не исчерпаешь. Искушение — это ведь испытание; а искусство — разве не испытание? для нас и для художника — и часто более для художника?
В рамках сюжета трагедии — и в той компании, куда попал Вальсингам, — он человек культуры. Культуры, понятой, помимо прочего, как идейное водительство и духовная власть. Такому пониманию вполне соответствует и титул Председателя, и, конечно, гимн Чуме. Это не только поэтический, но и жреческий акт. Не случайно Пушкин тут в очередной раз применяет свой характерный сценический ход «лобового» типа («…О Моцарт, Моцарт! Входит Моцарт»): в ответ на «черную литургию» молодого Председателя — «Входит старый священник». Гимн Чуме — это и «великое славословие», и проповедь, и «тайная вечеря», и, наконец, незримо реющий намек на Причастие (превращающий, в частности, «бокалы» в «чашу» с «благодатным ядом» [См.: Марина Новикова. Пушкинский космос. Языческая и христианская традиции в творчестве Пушкина. М., «Наследие», 1995 («Пушкин в XX веке», вып. I), с. 234. — В.Н.].
Вряд ли все это внятно участникам пира — их устраивает и им льстит главное: в качестве обоснования их занятия предлагается нечто возвышенное. До всего остального им дела нет. Культура выполняет здесь, во внешнем облике водительства, противоположную этому облику роль рупора толпы, ее неодухотворенных стихий. Этим стихиям средствами культуры сообщается подменный, ложный облик высокой одухотворенности — сообщается с тем большей убедительностью, что ложь и подмена, как это всегда и бывает, используют, так сказать, структуру правды, воспроизводя, однако, эту структуру из подменного материала. Правда духа, долженствующего управлять природными стихиями человека и толпы, подменяется другою «правдой» — натуральной, «дикой» правдой самих этих стихий и страстей, одичавших без своего падшего властелина («мой падший дух», говорит Вальсингам), ищущих, как водится, облагороженности облика — и находящих ее в экстазе «мятежного» романтизма и дионисическом эстетизме.
В результате гимн Чуме с магической силой захватывает нас — не только эстетически, но и до душевных глубин. Мы открываем и опознаем в себе соучастников кощунственного пира, в душе подымается ответное вдохновение, какие-то «пузыри земли», ложь незрима в сиянии ослепительной и высокой правды, нас сладостно влечет и притягивает то, что Вальсингам назовет «сознаньем беззаконья», захватывает прелесть горделивой исповеди без покаяния, признание в падении, но в падении вверх, в надзаконную высоту, где позволено, красиво и хорошо все. Из таких темных вдохновений и складывается чудовище толпы, то духовное поле, в котором «отец лжи» может орудовать как у себя дома, придавая подмене ценностей и насмешке над верой («Он мастерски об аде говорит. Ступай, старик!., пошел! пошел!» — хохочут пирующие в ответ на слова Священника) облик духовной высоты, характер подвига, ореол святости: «святости» черной, но оттого еще более влекущей — как разврат.
* * *
Этот ореол, или нимб, притом в его «канонической» расцветке, и был описан позже в стихах, чрезвычайно сходных по теме и пафосу с гимном Чуме:
Есть в напевах твоих сокровенных
Роковая о гибели весть.
Есть проклятье заветов священных,
Поругание счастия есть.
И такая влекущая сила,
Что готов я твердить за молвой,
Будто ангелов ты низводила,
Соблазняя своей красотой…
И когда ты смеешься над верой,
Над тобой загорается вдруг
Тот неяркий, пурпурово-серый
И когда-то мной виденный круг.
…..
Я хотел, чтоб мы были врагами,
Так за что ж подарила мне ты
Луг с цветами и твердь со звездами —
Все проклятье своей красоты?
…..
И была роковая отрада
В попираньи заветных святынь…
При всех сложностях духовного пути «русского человека в его развитии», свою систему ценностей он всегда строил на признании «влекущей силы» Христа и отталкивающей — сатаны, антихриста, а «влечений» обратного рода боялся и стыдился, видя в них метафизическое «беззаконье». Блок прекрасно знает это («Я хотел, чтоб мы были врагами…») и в стихотворении «К Музе» (1912) рисует свои отношения с нею в свете трагическом, — однако уже не боясь и не стыдясь их, скорее наоборот. Но интересует меня сейчас другое: факт безоговорочного, добровольного и многолетнего подчинения нашего культурного сознания этому стихотворению и представленному в нем открыто сатанинскому образу. Факт этот, как и само стихотворение, ярко свидетельствует о катастрофе, созревавшей в русском сознании на протяжении более двух веков и совершившейся в начале нашего столетия.
Одной из парадоксальных составляющих этого бедствия было то, что люди культуры отучались и отучали своих собратьев слышать в словах их прямой, нефигуральный смысл, — двадцать лет назад об этом написал Н.Коржавин в статье «Игра с дьяволом». За словами «поругание счастия», «проклятье заветов», «попиранье… святынь» и пр. молчаливо предполагалось не собственное содержание, а как бы некое другое, на самом-то деле чрезвычайно привлекательное («муки творчества») — но только выраженное сильными, пронзительными, трагическими средствами; все это называлось «художественный образ» и освобождало от моральной ответственности (в таком вот «метафорическом» духе понимался и гимн Чуме). Парадоксальным же явлением «непрямое» понимание слова было потому, что в нем «влекущая сила» сатанического обаяния встречалась с исконно русским почитанием слова, доверием к его смыслу, боязнью произнести или даже понять кощунственное слово всерьез.
Примирение этих двух различных начал происходило в эстетизме. Не случайно в советскую эпоху именно эстетизм — как правило, самый отвлеченный, беспомощный и вульгарный — призван был компенсировать и украшать ложь и грубый социологизм многих литературных и литературоведческих сочинений. Однако именно в начало века, в пору расцвета «тонкого» эстетизма, уходит корнями та нынешняя неудержимая девальвация слова, то сознательно пропагандируемое — под лозунгом «все гораздо сложнее» — презрение к слову, к его прямому смыслу (когда, скажем, талантливый молодой критик высоколобо посмеивается в «Литературной газете» над теми, кто «на полном серьезе» возмущен порнографией на печатных страницах) — весь тот словесный блуд, выкормыш лживой эпохи, свидетелями которого мы сегодня являемся.
Упомянутая выше статья «Игра с дьяволом» Н.Коржавина представляет собой подробнейший, строфа за строфой и чуть ли не строка за строкой, «разбор содержания» стихотворения «К Музе». Разбор этот обнаруживает как точность, прямоту и буквальность кощунственных слов и поэтических формул стихотворения, так и туман в тех местах, где есть угроза слишком жесткого столкновения кощунствённости с нашим доверием к слову и правдой нравственного чувства. Это взгляд прямо в лицо блоковскому слову и художественному миру, в нем воплощенному: по отважному и разоблачительному простодушию — поистине «взгляд Татьяны».
В свое время статья производила ошеломляющее впечатление на тех, кто мог ее прочесть. Напечатать ее тогда же было немыслимо: не заключая в себе никакой «политики», она выглядела крамольной до крайности. Ведь речь шла о стихотворении, входившем, так сказать, в основной корпус тех произведений Блока, что составили его «вид на жительство» в мире, который был построен на месте разрушенного «до основанья» старого мира с его «священными заветами» и «заветными святынями»; мира, которому, как показала история, и была подана поэтом «Роковая о гибели весть». Стихотворение попало в круг тех произведений, в которых идейные основания «нового» мира, его новая религия санкционировались на самом, что называется, высоком уровне, самой «тонкой» культурой. Культура эта не только освящала «пролетарское» мировоззрение импозантно-«мятежным» пурпурово-серым сиянием — вместе с этой культурой «новый» мир втаскивал в свои пределы и «Луг с цветами и твердь со звездами», придавая себе облик мира подлинного, где все как у людей.
Не подвергая сомнению трагическую искренность блоковского стихотворения, Коржавин показал концептуальность, «преднамеренность» той метафизической лжи, в плен которой попал поэт, лжи, неизбежно заключенной в принципе «неразличения духов»; стихотворение и само аттестует себя как антиевангелие (Н.Коржавин приводит проницательное замечание математика Н. Нагорного о том, что «Роковая о гибели весть» — буквальная антитеза «благой вести о спасении»).
Заслуживает внимания то, что антиевангельский пафос тут же оказывается и антипушкинским. Автор строк о «проклятье заветов» (ср., кстати, слова Вальсингама Священнику: «Но проклят будь, кто за тобой пойдет»), «попиранье заветных святынь» и «поругании счастия» не мог не знать пушкинских слов о «святыне обоих Заветов», «обруганной» философией XVIII века, и других слов: о том, что «Поэзия… не должна унижаться до того, чтоб силою слова потрясать вечные истины, на которых основаны счастие и величие человеческое».
Вообще стихотворение «К Музе» есть настоящая духовная трагедия: ведь для Блока слово не было игрушкой, он сказал то, что на самом деле чувствовал и знал. Надо, видимо, верить и словам «…когда-то мной виденный круг», такие вещи тоже не говорятся «для красоты», тем более великими поэтами: им изредка и в самом деле что-то «показывают» — или дают услышать. «Шум и звон», наполнившие слух пушкинского Пророка, не просто «художественный образ», как и шумы и звоны Ахматовой («Бывает так: какая-то истома…»), — важно, кто показывает и дает услышать.
Да ведь и Блока однажды, спустя примерно пять лет после стихотворения «К Музе», увлек странный — но не звенящий, а жужжащий — звук.
Из этого звука и возникло произведение, возможность (быть может — и неизбежность) которого была уже заключена в стихотворении «К Музе» — а предсказана Пушкиным.
* * *
Это произведение, в котором Блок, по его признанию, очередной раз в жизни «отдался Стихии», — своего рода двойник песни Вальсингама. И странное возникновение, «надиктованность», и осознание авторами (Вальсингамом — смутное, Блоком — уверенное) своей медиумичности, и «метельный» колорит «могущей Зимы» — все это так похоже, и даже голос автора похож на Вальсингамов («Охриплый голос мой приличен песне»), — где еще у Блока более «охриплый» голос, чем в «Двенадцати»?
Если блоковское «Благовещение» — это «Гавриилиада», написанная всерьез, то «Двенадцать» — гимн Чуме, пропетый на самом деле: не в драме, а в жизни.
В обоих гимнах — Чуме и «музыке Революции» — поражают безукоризненное совершенство, огненный дионисийский темперамент, мятежность (в гимне Чуме романтическая, в поэме — фольклорная, разгульно-разинская по размаху, фабрично-кабацкая по происхождению), наконец, неотразимая власть «гибельного восторга» над нашими чувствами, мгновенно плененными этой духовной агрессией. И там и там — воспевание антиценностей и антисвятынь (у Вальсингама — стихии чумы, смерти, у Блока — стихии социальной, хаоса, буйства, в сущности — уголовщины), вплоть до называния черного белым: смерти — бессмертием (Вальсингам), «черной злобы» — «святой злобой» (Блок). Вслед за Вальсингамом, у Блока — мотивы черной литургии, черной вечери («Черный вечер. Белый снег», двенадцать «антиапостолов»).
Нет, кстати, никакого сомнения — это ясно из ситуации «Пира…» и ввиду знаковости пушкинского художественного языка, — что первая ремарка Пушкина «Несколько пирующих мужчин и женщин» (из них персонально обозначены пять или шесть, один раз названо «несколько голосов» и дважды — «многие») на сцене должна материализоваться в числе двенадцать.
«Пир во время чумы» начинается озорным предложением помянуть умершего Джаксона так: «…выпить в его память С веселым звоном рюмок, с восклицаньем…» А поэма «Двенадцать» начинает у Блока писаться, по свидетельству К.И. Чуковского, именно с «озорного» эпизода поминания убитой Катьки, который был подсказан Блоку тем самым жужжащим звуком: «Ужъя времячко Проведу, проведу… Ужъя ножичком Полосну, полосну…» Сходно эти эпизоды и оканчиваются: «Пускай в молчанье Мы выпьем в честь его… Все пьют молча» — «Выпью кровушку За зазнобушку… Упокой, Господи, душу рабы Твоея… Скучно!»
После упоминания имени Матильды взор Вальсингама, следуя (как впервые заметила в уже названной книге М. Новикова) за «подъятой» рукой Священника, обращается «к небесам» — в ответ же на монолог Председателя звучит «Женский голос. Он сумасшедший — Он бредит о жене похороненной!». У Блока: после гибели Катьки Петька, совсем раскиснув («…Эту девку я любил…» — ср.: «И знала рай в объятиях моих»), тоже едва ли не готов воззвать к небу: «Ох, пурга какая, Спасе!», — а в ответ следует немедленное вразумление: «От чего тебя упас Золотой иконостас? (Ср. издевательские ответы пирующих Священнику. — В.Н.) Бессознательный ты, право («Он сумасшедший…». — В.Н.). Рассуди, подумай здраво — Али руки не в крови Из-за Катькиной любви?» — это напоминание о повязанности Петьки общим «беззаконьем» похоже на недавнюю угрозу самого Вальсингама («…проклят будь, кто за тобой пойдет») в ответ на слова Священника, напомнившего пирующим как раз о «Спасе». Кстати, в «Двенадцати» есть и «свой» Священник: «Что нынче невеселый, Товарищ поп?» — могли бы сказать пушкинские пирующие вслед за отповедью своего Председателя: «…юность любит радость».
Это лишь некоторые из «странных сближений» пушкинской трагедии и блоковской поэмы, у которых и место действия общее — «улица».
Любопытно и соотношение финалов гимна Чуме и поэмы «Двенадцать». Предваряются они сходными мотивами: «Итак, хвала тебе, Чума! Нам не страшна могилы тьма, Нас не смутит твое призванье» — «…И идут без имени святого… Ко всему готовы, Ничего не жаль…»
А сами финалы гимна и поэмы выглядят словно нарочито восходящими к общему источнику — последним строчкам самого кощунственного стихотворения молодого Пушкина, его послания к декабристу В.Л.Давыдову («Меж тем как генерал Орлов»,1821), которое выражает надежду на успехи революции в таких словах: «Вот эвхаристия другая… Мы счастьем насладимся, Кровавой чаши причастимся — И я скажу: Христос воскрес».
Здесь пародия, как видим, сразу на два мотива: Евхаристии и Пасхи.
Именно эти два мотива звучат и у Вальсингама и у Блока: финал гимна Чуме с его «бокалами» (ср. «Кровавой чаши причастимся» — с «благодатным ядом этой чаши»; у Блока — «Выпью кровушку За зазнобушку». — В.Н.) намекает на черную («другую») евхаристию, а в финале блоковской поэмы «белый венчик из роз» — мотив пасхального украшения икон.
Послание Пушкина к Давыдову вписывается в «блоковский» контекст и другими деталями: в начале стихотворения появляется «поп» — кишиневский митрополит, о кончине которого рассказывается с безжалостной издевкой, к тому же в духе «Гавриилиады», которая как раз в это время и пишется; поэтому нечего и говорить, что в цитированном выше конце послания имя Христа обозначает все что угодно, только не Христа на самом деле, — и это, вместе со словами о «другой» евхаристии, словно бы предвещает знаменитые слова Блока о Христе как финальном образе «Двенадцати»: «…Он идет с ними, а надо, чтобы шел Другой», «другого пока нет…»
Я убежден, что все эти соответствия и совпадения — «случайны»: речь идет не о «продолжении традиций» Пушкина Блоком, а о предвосхищении Пушкиным того типа сознания, который нашел выражение в поэме Блока.
Поэтому не прав будет читатель, если упрекнет меня в некорректности анализа на том основании, что, назвав «Двенадцать» гимном Чуме, я затем сопоставляю поэму не только с гимном Чуме, но с текстом трагедии в целом. А как же иначе? Для начала напомню, что всю трагедию Пушкина советский человек понимал как большой гимн Чуме; гимн воспринимался как выражение «последней истины» трагедии [Наглядный пример такого советского понимания дает трактовка «Пира во время чумы» в известном телесериале М.Швейцера «Маленькие трагедии»: режиссер разрушил пушкинскую композицию и перенес гимн Чуме из середины трагедии в самый конец — на правах окончательного и «жизнеутверждающего» смысла вещи. — В.Н.] — истины чуть ли не в ранге «другой» Нагорной проповеди: блаженны гибнущие («И как один умрем»); целое трагедии подменялось ее частью. Но именно такой тип сознания, такую мировоззренческую установку, такой способ мышления как раз и явила поэма Блока, ибо «Двенадцать» — это такой гимн Чуме, который, так сказать, разросся на всю драму жизни, который считает себя окончательной истиной по отношению к окружающей его жизненной трагедии — к России, терзаемой чумой революции, — и потому стремится исчерпать собой всю эту духовную трагедию, поглотить весь ее смысл своим смыслом, узурпировать ее правду, выдать себя за нее. Ведь поэма «Двенадцать» воспевает Стихию, выражает ее, а выше Стихии для автора поэмы ничего нет.
Именно так, по-блоковски (и по-цветаевски), с точки зрения Стихии, чумы, и понимал советский человек пушкинскую трагедию. Методологически таким же было и традиционное советское понимание поэмы самого Блока: мол, в «Двенадцати» нет или почти нет автора как субъекта художественного высказывания, нет авторской концепции, авторского голоса — нет ничего кроме «Стихии», «музыки Революции», ее «величавого рева»: сама эпическая объективность.
То, что это — заблуждение, убедительно показал С.Ломинадзе (см. статью «Концептуальный стиль и музыка «мирового пожара» в кн.: С.Ломинадзе. О классиках и современниках.М.,1989. — В.Н.) — как и то, что заблуждение восходит к самому «отдавшемуся Стихии» Блоку. И тем оно важнее — в частности, для понимания происхожде ния и смысла финала, поэмы, который своей «загадочностью» измучил советское литературоведение.
Здесь пора заметить важное различие между гимном Чуме и поэмой Блока: в финале «Двенадцати» есть образ Христа, а в финале гимна ничего подобного нет.
Да и быть не может: гимн Чуме — это песня поистине «Эх, эх, без креста!». Имя Спасителя появляется, но только после гимна, в словах Священника. И хотя оно не производит никакого действия, однако играет важнейшую роль в структуре трагедии, восстанавливая перевернутую гимном Чуме шкалу ценностей, с которой трагедия соотносит себя. Что же до финала «Двенадцати», то автор, как говорится, и рад бы обойтись, как Вальсингам, без Христа — но ведь образ этот, по признанию Блока, «надиктовывается» Блоку насильно, вопреки его личной авторской воле…
И какая тут может быть «личная воля», если поэма, как уже сказано, сознает себя выражением той самой Стихии, которая есть высшая эпическая объективность! В отличие от гимна Вальсингама, «гимн» Блока не опускается до того, чтобы противостоять Христу, напротив: он готов, способен — и вправе — уже и Христа включить в себя, в свою эпическую, окончательную, высшую правду. «Я только констатировал факт: если вглядеться в столбы мятели на этом пути, то увидишь «Исуса Христа». Но я иногда сам глубоко ненавижу этот женственный призрак», — писал Блок. Следует обратить внимание на кавычки, в которые помещен «Исус Христос»: здесь это — условное, вынужденное, общепринятое обозначение чего-то другого, с чем по праву надлежит связывать «Луг с цветами и твердь со звездами» и все те ценности, что по традиции еще приписываются «женственному призраку».
Это снова напоминает молодого Пушкина, который в послании к Давыдову вынужден чаемое торжество революции «условно» обозначить пасхальным приветствием. Но у Пушкина не более чем типичное либеральное вольнодумство, лишенное всякого напряжения, — просто «младая кровь играет». У Блока все неизмеримо серьезнее: новый этап борьбы с Христом — путем не отрицания, а поглощения, растворения. Это в духе вошедшей тогда в моду давней концепции «трех эр», сменяющих друг друга: «эры Отца», «эры Сына» и вот-вот наступающей «эры Духа», которая вбирает и поглощает предыдущие. Учение это объективно отменяло завет о «различении духов», предвосхищало нынешнюю жажду духовного «плюрализма». В финале «Двенадцати» он уже реализован: Христос появляется из «столбов мятели», откуда, по народному поверью (хорошо известному Блоку) появиться может только бес, «Другой».
Столкнувшись с «метельным», «зимним» мотивом (которым открываются и гимн Чуме, и поэма Блока), мы выходим к новому повороту темы: «столбы мятели», колорит «могущей Зимы» приводят к пушкинским «Бесам», законченным осенью того же 1830 года, когда написан «Пир во время чумы». А это стихотворение в свою очередь влечет за собой немало известных «сближений» с темой истории и судьбы России.
Одно из таких «сближений» относится к той жизненной ситуации, в какой оказались автор гимна Чуме и автор «Двенадцати».
* * *
Человек необыкновенно высокого душевного строя и духовного дара, человек элиты в лучшем смысле этого слова, один из тех «избранных», кому, быть может, говоря пушкинскими словами, «определено было высокое предназначение», — такой человек нисходит в толпу, опускается до нее, совершает духовное в нее падение («…мой падший дух», — говорит, напомню, Вальсингам, избавившийся от наваждения). Свой талант, свои духовные дары он употребляет на услужение стихии и страсти толпы, исполняя роль идеолога-певца или идеолога-вожака, оформляющего эти стихии и страсти в виде высоких ценностей. По существу, это пародия на Божественный кеносис (умаление: вочеловечение Сына Божия для искупления грехов и спасения блудного сына Бога — человека): перед нами — нисхождение самого блудного сына к свиньям (в стадо свиней Христос, как известно, изгнал легион бесов), его готовность метать перед ними бисер своей избранности, в конечном счете — отвержение жертвы «Спасителя, распятого за нас», пренебрежение ею. Пародийность еще и в том, что если Бог Сын, Бог Слово вочеловечился, чтобы принести Себя в жертву ради спасения людей, то оба «гимнопевца» — сами, может быть, того не сознавая — «жертвуют» своим духовным даром и своим словом толпе ради того, чтобы самим спастись — от собственного ужаса перед Чумой, гибелью, «мировым пожаром»: спастись от одичавшей стихии как бы в ней самой, примкнув к ней, в нее вписавшись, ее воспев и прославив, одним словом — ей «отдавшись».
В результате с изменившим происходит соответственное изменение: Вальсингам записывает и поет свой гимн, будучи в каком-то «другом» качестве, так что Священник, узнавая его (своего прихожанина), в то же время и не узнает: «Ты ль это, Вальсингам? ты ль самый тот…» Блок записывал свою поэму также не вполне сам; безусловный «аристократ духа», он «играет» кого-то другого:
Мужик на амвоне.
Народ, народ! в Кремль! в царские палаты!
Ступай! вязать Борисова щенка!
Народ (несется толпою).
Вязать! топить!..
(«Борис Годунов»)
В зубах — цыгарка, примят картуз,
На спину б надо бубновый туз!
…..
Эх, эх, без креста!
Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем.
Мировой пожар в крови —
Господи, благослови!
…..
…Так идут державным шагом…
(«Двенадцать»)
То, что «несется толпою» у Пушкина, облагораживается и украшается «державным шагом» у Блока. Так гимн Вальсингама: «…хвала тебе, Чума!» — облагораживает и украшает «безбожный пир», вместе с тем точнее всего выражая его суть.
Блоковская «роль» в «Двенадцати», роль идеолога толпы, рупора стихии, тоже имеет отношение к «Бесам». Но уже не пушкинским. В подобную ситуацию, как в мальстрем, затягивает героя романа, носящего пушкинское название и предваряемого двумя эпиграфами — из пушкинских «Бесов» и из евангельского эпизода об изгнании бесов в стадо свиней. Между автором гимна Чуме и автором гимна Революции оказывается Ставрогин, автор исповеди без покаяния [фамилия — от греческого stauros (крест) — объективно символизирует пародию на Божественный кеносис (что не исключает иных смыслов). — В.Н.].
Устами Петра Верховенского толпа, чернь вербует Ставрогина в идеологи и вожди — и это звучит как предисловие к «Двенадцати»: «…мы сделаем смуту»; «Мы провозгласим разрушение… Мы пустим пожары»; «Аристократ, когда идет в демократию, обаятелен!.. Мы проникнем в самый народ… мы, пожалуй, и вылечим… Но одно или два поколения разврата теперь необходимо; разврата неслыханного, подленького… А тут еще «свеженькой кровушки», чтоб попривык».
Как эхо этого монолога звучит дневниковая запись Блока от 4 марта 1918 года (года «Двенадцати»): «Требуется длинный ряд антиморальный… требуется действительно похоронить отечество, честь, нравственность, право, патриотизм и прочих покойников, чтобы музыка согласилась помириться с миром».
Я не хочу опошлять позицию Блока, в его «антиморализме» есть своя метафизическая правда, и глубокая, — но она хороша на своем месте, как лава под корой земли: в сфере философской или богословской; она не должна выходить на «улицу», где черный вечер и белый снег и где за столом поется гимн, в котором рифмуют «Зима» и «Чума». Она не должна соблазнять. Блок не хотел ничего дурного, он хотел «музыку» помирить с «миром». Но ведь и Ставрогина Петруше Верховенскому не удалось втянуть в свою банду, посвятить в вожди.
Дело, однако, не в этом, а в совсем другом:
«Если бы не глядел я на вас из угла, — признается Верховенский, — не пришло бы мне ничего в голову!..»
Вот где главное. Человек высокого предназначения, Ставрогин не соблазнен Петенькой — он сам всех соблазняет.
Так Вальсингам соблазняет своим гимном соседей по столу.
И как Вальсингам перед Священником, так Ставрогин перед теми, кто его знал, предстает другим — и перед Шатовым, и перед Марьей Тимофеевной. Не узнавая его, она кричит: «У тебя нож в кармане… Гришка От-репь-ев — а-на-фе-ма!»
Знает ли она, что цитирует «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова»?
Ставрогин ведь тоже предсказан Пушкиным — и не только в «Пире во время чумы»: он есть ступень деградации человека онегинского типа (cм. в работе о «Евгении Онегине» в моих книгах «Поэзия и судьба» (М., 1983, 1987, 1999) и «Пушкин. Русская картина мира» (М.,1999). — В.Н.).
Все поняли, что роман «Бесы» содержит пророческий анализ предпосылок катастрофы, постигшей Россию в XX веке; однако мы еще не вполне отдаем себе отчет в том, что предпосылки эти в концентрированном, свернутом, как пружина (и потому не очень явном на узкофилологический взгляд), виде содержатся уже в пушкинской картине мира, частью которого является судьба «русского человека в его развитии» (Гоголь). Они предусмотрены так точно, что порой кажется, будто история послушно воплощала эту картину, перенося ее элементы в жизнь в качестве фактов культуры, исторических событий и человеческих судеб.
Предусмотрено у Пушкина даже то, что произошло с Блоком после «Двенадцати», к концу жизни, — предусмотрено в финале «Пира во время чумы», когда Вальсингам покидает пир и «остается погружен в глубокую задумчивость».
* * *
Отношение Блока к «Двенадцати» незадолго до кончины — если больше верить Андрею Белому, чем К. Федину и Е. Книпович, — в чем-то сходно с тем, что испытывал Пушкин при воспоминании о «Гаври-илиаде». А последнее (или одно из последних) стихотворение — наверное, самое тихое, что есть у Блока:
Вот зачем, в часы заката
Уходя в ночную тьму, С белой площади Сената
Тихо кланяюсь ему.
(«Пушкинскому Дому»)
В этих строках — те же цвета, что в «Двенадцати» («Черный вечер. Белый снег». «Винтовок черные ремни», «Черная злоба», «В очи бьется Красный флаг» и пр.): но красный — не флаг и не бубновый туз, а закат; но черный исчез с переднего плана, перестал главенствовать — и все стихотворение, полное и грусти, и тихого мажора, последними своими строками делается белым; и вместо «величавого рева» мы слышим тишину, «глубокую задумчивость» уходящего поэта.
Заметим, что нечто подобное было ведь у Пушкина: его ответ митрополиту Московскому Филарету («В часы забав иль праздной скуки…»), в котором поэт приносит покаяние за стихотворение «Дар напрасный, дар случайный…», осознанное им как духовное отступничество:
И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты…
Что-то столь же смиренное говорит, обращаясь к Пушкину, Блок.
В тихом стихотворном увещании («Не напрасно, не случайно…») московского святителя автор стихотворения «Дар напрасный, дар случайный…» внял «неба содроганье»; через несколько месяцев им будет написана трагедия «Пир во время чумы», где решающим моментом является диалог отступника веры со священником.
«Не твоих ли звуков сладость Вдохновляла в те года? Не твоя ли, Пушкин, радость Окрыляла нас тогда?» — писал Блок. Он хорошо слышал в Пушкине «звуков сладость» и музыку «тайной свободы». Но он не услышал в художественном мире Пушкина «неба содроганья», не внял пушкинским предостережениям. Он внял «музыке Революции», пропел свой гимн ее «величавому реву», а потом взглянул в лицо стихии, издававшей этот рев, — и умер.
Он умер, говорит где-то Ходасевич, не от старости или болезни — он умер от смерти.
Такая смерть была частью биографии той культуры, которая устами Блока, и не только его, пропела гимн Чуме нашего столетия.
Пушкин, прошедший «великолепный мрак чужого сада» европейского Просвещения и преодолевший искусы романтизма, слышал, куда тянет культуру послепетровского времени, он предсказал — в том числе в своей трагедии — неизбежности, подстерегавшие на таком пути. Ответить на пушкинские предостережения мог только великий поэт, и таким был Блок. Он лучше всех мог услышать Пушкина — ибо обладал трагическим и пророческим даром. Но тяготения Блока и его культуры были иные. Гений Пушкина создал произведение-диалог, а культура Блока и Цветаевой восприняла из него лишь один монолог — гимн Чуме. Пушкин произносил предостережения, а культура начала века расслышала в них призыв. Трагедия этой культуры состояла в том, что если Пушкин умел и учился различать духов, то культура начала века считала это занятие наивным и устарелым, недостойным своих «бледных со взором горящим» (Брюсов) творцов.
Ведь и тихое «покаяние» Блока, при всей значительности и чистоте этого поэтического поступка, адресовано, в сущности, неизвестно кому. Пушкин в своем стихотворном ответе митрополиту Филарету обращался (это понятно из текста) через святителя к Богу — Живому Богу, с Которым у него произошла встреча в «Пророке», обращался лично. Но к кому лично обращался в стихотворении Блок? К Пушкину? Да; но — отбросим лукавство метафор — ведь не к Пушкину, а к «сладости звуков», «радости», «тайной свободе», — к явлению культуры. Но возможно ли личное в полном смысле слова обращение к явлению, пусть самому изумительному?
И вот свои предсмертные, полные чистого душевного порыва стихи, свой последний тихий поклон великий поэт адресует «реальному» объекту — «Пушкинскому Дому в Академии Наук», почтенному учреждению, где хранятся драгоценные рукописи и изучаются великие традиции культуры. В этом есть что-то почти детски трогательное — но, воля ваша, это напоминает мне и отчаянное предложение, сделанное героем «Утиной охоты» А.Вампилова жене: давай обвенчаемся в Планетарии.
Личное обращение, но уже совсем иное, прозвучало из уст Блока в адрес тех, чьему делу он так истово послужил в своей поэме, кого поэтому тем яростнее возненавидел и в своей речи «О назначении поэта» заклеймил пушкинским словом чернь: «Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу…»
«Когда он читал свой знаменитый доклад, — писал мне К.И. Чуковский, — он сидел (в Доме литераторов) за тем же столом, за которым сидел председатель комиссар Кристи. И в тех местах, где он выражал свою ненависть к казенным злодеям, задушившим Пушкина, он гневно обращался к злополучному Кристи (Кристи был неплохой человек, но для Блока он был — по своему положению — воплощение зла, насилия, бесчеловечия)» [датировано 21 сентября 1966 года. Фрагмент этот по условиям времени не мог войти в мой мемуар «Учитель» (в кн.: «Воспоминания о Корнее Чуковском». М.,1977,1983). — В.Н.].
Блок в своей речи говорил о «предсмертных вздохах» пушкинской эпохи. Вздохом было и его стихотворение «Пушкинскому Дому». Сама же речь о Пушкине — другое. Ее отчаянные и грозные заклинания — это скорее вопль, вроде «Ужо тебе!» бедного Евгения.
С личными словами веры, надежды, покаяния, мольбы Блоку — как и большей части той культуры, гением которой он был, — обратиться было не к кому: каждому дается по его вере.
* * *
Изведав лично бездну проблемы «поэт и толпа» (или «чернь и культура»), Блок (как показывает, в частности, его пушкинская речь) в конце концов ужаснулся за судьбу культуры.
И все же она не погибла, не выродилась, не направилась вся теми руслами, по которым ее стали направлять уже при жизни Блока. В своей лучшей части она (я намеренно касаюсь только подцензурной литературы советского периода) продолжала — в условиях, когда чернь требовала «услужения» ей, — старую, Пушкиным окончательно утвержденную великую традицию служения, как она его понимала. И если она честно понимала его как служение народу, отечеству, даже коммунистической мечте, то большой талант купно с честностью даже и в самые страшные годы порой создавал нечто похожее на чудо — например, бессмертного «Василия Теркина», или «Голубую чашку», или сказы Бажова (не говоря уж о «Днях Турбиных», Платонове и многом другом). Во всем своем беспримерном унижении — а может быть, отчасти как раз и в силу унижения, сменившего гордыню «серебряного» века, — она непостижимым образом умудрялась сохранять черты преемственности величия, присущего «старой» традиции, черты, затем нараставшие и крепнувшие начиная с конца 50-х годов и ярче всего воплотившиеся в «деревенской» литературе (не только в ней); и никто кроме тех, кто не изжил еще комплекса выпущенного из загона раба или чей «духовный» багаж ограничивается высшим образованием, не смеет отрицать, что русская литература советского периода оставалась, не только в лучших, но подчас и просто в честных произведениях, по меньшей мере одной из человечнейших культур мира.
Решающую роль (помимо объективной духовной генетики) сыграли тут оглядка и опора на авторитет, опыт и традиции литературы, отцом которой был Пушкин. Одной из роковых ошибок большевиков было то, что они не вняли пролеткультовским призывам, не стерли с лица земли русскую классику XIX века, не истребили память о ней (что это было возможно, показывает пример истребления Достоевского), ведь она спасла русскую культуру — тем самым в известной мере и Россию — в XX веке.
Но отсюда следует и то, что заслуги подцензурной литературы советского периода были в первую очередь наследственными — как аристократизм, который русские князья и графини сохраняли, работая таксистами и посудомойками. А на одной наследственности далеко не уедешь, когда-то должно начаться и вырождение. Да, русская классика спасала — но ее художественные традиции и нравственные ценности усваивались, как правило, за вычетом той духовной основы, какою было для русской классики православное христианство. Питаясь желудями, не помнили, а часто и не знали, откуда они взялись.
Если говорить о каком-то собственном духовном векторе «либеральной» части культуры второй половины XX века, то он, за немногими исключениями, был направлен не вверх, как, скажем, у летописца Пимена, и не вниз, как, скажем, у Вальсингама, а словно бы куда-то вбок — в сторону «общечеловеческих ценностей». Эта мутная категория (навеянная, припоминается, Марксом), неопределенностью своей сходная с флогистоном, выдуманным когда-то для объяснения природы огня, в пору запретов маскировалась различными псевдонимами и в таком качестве маскировала, в свою очередь, самые разные ценностные представления — от умеренно-диссидентских до сдержанно-религиозных. Это было не трудно в силу условности и безопорности самой категории и совершенно отвечало безопорности и скудости распространенных понятий о «духовных ценностях» вообще: под таковыми люди культуры сплошь и рядом чистосердечно и упорно разумели ценности прежде всего эстетические и интеллектуальные — но, конечно же, и социальные, и главным образом свободу: ценность ценностей и предел мечтаний.
И вот грянула свобода; и — «Вот эвхаристия другая» — случилось «другое» чудо: на этот раз напоминающее то ли «Портрет Дориана Грея», то ли известную русскую сказку. Едва успевшая расцвесть Василиса Премудрая во мгновение ока превратилась в одну из своих сестер, у которых вместо слов изо рта извергались жабы и змеи. Произошла духовная катастрофа: вся система ценностей христианской нации была отменена во имя свободы как одной-единственной ценности, которая, оставшись одна, повиснув в пустоте, немедленно обернулась чудовищем, на овечьей шкуре которого написано: «разрешено все, что не запрещено», — и в результате возникло уголовное государство. В сфере же культуры свобода, понятая как позволение болтать все что угодно, как санкция на словоблудие, оказалась Молохом, в жертву которому принесено решительно все, от личной морали до благополучия Отечества. Пробуждать «добрые чувства» стало немодным и почти неприличным, ибо «тоталитарным», «добрым чувствам» отвели, на почтительном расстоянии, место, получившее наименование ретро. А «мастера культуры» под знаменем свободы, толкаясь, ринулись делать все то, против чего предостерегал Пушкин, — «…потрясать вечные истины, на которых основаны счастие и величие человеческое», и «превращать… божественный нектар в любострастный, воспалительный состав», — то есть воплощать мечту Петруши Верховенского: «…одно или два поколения разврата теперь необходимо…»
Памятуя, что выше «в паре» с цитатой из Петруши приведена цитата из дневника Блока («…требуется длинный ряд антиморальный…»), вернемся в начало XX века.
Автор «Пира во время чумы» знал из своего опыта, что тень Чумы уже коснулась русской культуры. В начале XX века это была уже не тень, а эпидемия. Я заранее согласен с тем, кто напомнит мне о гениях и драгоценных открытиях литературы «серебряного» века (который сегодня стал у нас драгоценнее «золотого»), я с готовностью и радостью подтвержу, что он прав; но и оппонент не должен, по совести, отрицать, что Блок, истинный и трагический гений эпохи, наиболее полно выразивший ее, выразил (и не один он) именно то, что являлось главным духовным вектором ее культуры: «проклятье заветов», «попиранье… святынь», «поругание счастия», осознанное поклонение «и Господу, и Дьяволу» (Брюсов). Все это, под знаменем духовной свободы, перекрывая подлинно духовные тенденции, в том числе работу русской религиозной философии (но порой и ее заражая «благодатным ядом»), становилось своего рода специальностью «человеков-артистов» [«…намечается… новая человеческая порода… не этический, не политический, не гуманный человек, а человек-артист» (Блок,»Крушение гуманизма»). — В.Н.], млевших в объятиях Ницше и Вагнера (так — из огня да в полымя — расплачивалась обезвоживающаяся русская мысль за то благотворное влияние немецкой философии, которое, как писал Пушкин, в прошлом веке спасло нашу молодежь от «холодного скептицизма» философии французской). Все это объединялось пафосом антиправославия, антихристианства — то откровенно агрессивного, то изысканного, искавшего способов гармонично сочетать Христа с Дионисом, то стремившегося реформировать «архаическое» Православие в плане наступающей «эры Духа»; и все это, будучи падением, принятым за свободный полет (Н.Коржавин, «Игра с дьяволом»), гимном Чуме, слепой стихии, расчищало «духовные» пути буйству стихии социальной.
Пафос разрушения, переполняющий поэму «Двенадцать», был тем, что объединяло блестящую, артистическую, рафинированную культуру с террористами в пенсне, со шпаной в пулеметных лентах, с чиновниками в сапожищах. «…Не живи настоящим, — призывал Брюсов «юношу бледного со взором горящим». — Только грядущее — область поэта»: совершенно большевистский призыв.
Пафос разрушения объединял — но и разделял. Ибо довершать дело разрушения «старого мира» и строить «новый» должен был кто-то один: «Строить мы будем, мы, одни мы!» (П.Верховенский). И тонкая, рафинированная, артистическая культура была растоптана теми самыми сапогами, расстреляна из тех самых «винтовочек стальных», выгнана на чужбину, загнана в лагеря и в петли — если не из «крепкого шелкового снурка», что у Ставрогина, так из простой пеньковой веревки для белья. Вообще самоубийство есть, пожалуй, наиболее выразительный образ того итога, той смерти «от смерти», к которому ведет русского человека культуры неразличение духов и попиранье святынь — и тем вернее ведет, чем подлиннее и масштабнее его дар, чем очевиднее «высокое предназначение». В трагической судьбе этой культуры в очередной раз реализовался пушкинский сюжет исполнения желаний. Не глядел бы Петруша Верховенский «из угла» на Ставрогина — не пришло бы ему ничего в голову…
В то же время — страшно сказать — катастрофа этой культуры была, может быть, жертвой, спасительной для культуры последующей, которая должна была, в какой-то степени минуя опыт «игры с дьяволом», обращаться в поисках опоры и преемственности напрямую к традициям классики XIX века с ее системой ценностей, генетически связанной с Православием — вместилищем и источником загадочной для всего мира «духовности» русской культуры. Что же касается судьбы самого Православия, то — лучше уж прямое гонение на веру, чем тонкое разрушение и разложение ее со стороны артистической и блестящей культуры.
Все это я говорю вот к чему. Нынешнее время наводит на мысль, что «игра с дьяволом» возобновилась чуть ли не с самого того места, на котором прервала ее воспетая ею же Чума. Словно внутри культуры проснулось — или разморозилось, как знаменитые замерзшие слова, — что-то такое, что немедленно потребовало «излиться наконец свободным проявленьем»: что-то мучительно недоизлитое, недосказанное, недопетое — тот самый гимн разрушения с его проклятьем заветов, попираньем святынь и пр., со стремлением объединить «Господа и Дьявола», упразднить границы между благом и грехом: «Свобода, свобода, Эх, эх…»
Не случайны настойчивые атаки, которым то и дело подвергаются: традиционное русское понимание культуры как служения добру и правде; «литературоцентризм», то есть первенство слова, доверие к слову в русской культуре; «великая русская литература» (иронические кавычки); в главном и конечном счете атакуется опять-таки Православие — и притом вовсе не в силу его вероисповедного содержания (оно атакующих не интересует), а просто в силу того, что это твердая система ценностей. Впрочем, один теоретик постмодернизма ставит вопрос о Православии не агрессивно: объявив представляемое им направление итогом и венцом культуры, теоретик обосновывает это тем, что постмодернизм упраздняет всякую систему ценностей: он универсален и может включить в себя все на свете — в том числе, если угодно, и Православие.
Что-то вроде сказки про белого бычка: мы имеем дело не с чем иным, как с неумышленной пародией на отношения поэмы «Двенадцать» с «включаемым» в нее Иисусом Христом. Казус этот, может быть, и забавен, но — «Боже, как грустна наша Россия!».
Смешно и стыдно видеть, как нынешние «мастера культуры», и не только молодые, но порой и довольно-таки убеленные, носятся с этой безграмотной, плебейской идеей насчет того, что хватит, мол, литературе (культуре) служить чему-то, что, мол, «свобода, свобода!..». И так же горько, что внутри культуры столь слабо противостояние этому «верховенству», этому рабству навыворот. Помня о подвиге «деревенской», «почвеннической» литературы, можно, кажется, было бы ожидать достойного ответа с этой стороны — но его (если не считать публицистических и иных выкриков) почти не слышно. Потому, думаю, не слышно, что для этой славной, сердечной, благородной, героической литературы главной опорой была — именно прежде всего, а порой и исключительно — почва. Да, без почвы русскому человеку и русской культуре нельзя; но почва, бывает, колеблется под ногами — тут и классика не поможет. Остается то, что когда-то советовал Пушкину Чаадаев: «Возопите к Небу — оно отзовется». Но вот с этим-то у нас большие сложности. Слишком многие у нас убеждены, что вера вообще — а православная по преимуществу — тоже идеология, только другая. Но тоже тоталитарная. Разница лишь в том, что одним это не нравится, а другим очень подходит. Мы ведь научены верить в идеи. Но это все равно что венчаться в Планетарии.
* * *
«Цель художества есть идеал…», — писал Пушкин; и культура в России так и понималась. Культура есть, по определению, служение; культура по-латыни возделывание, в России это понимается как возделывание человеческой души. Цивилизация — возделывание внешних условий обитания человека, его удобств и утех. Мировая культура — в целом, как таковая — переживает кризис своей природы, ей грозит, и с ней происходит, превращение из культуры в цивилизацию, в предмет потребления, в добычу толпы. Ответственность за то, чтобы культура не вся перестала быть собой, а значит, чтобы человечество не все превратилось в толпу, ложится на Россию — разваленную, обнищавшую, смятенную, развращаемую, но все еще не переставшую быть собой, — ложится потому, что в России еще живо понимание культуры как служения. Понимание это связано у нас с верой в Христа — не нашей собственной, сегодняшней, так наших дедов и прадедов. Вере этой тысяча лет, и благодаря ей Россия стала великой нацией, а ее культура до сих пор чудо и загадка для всего мира. Сегодня русская культура переживает дни позора и унижения. Наверное, это было неизбежно — чтобы Вальсингам пропел свой гимн Чуме, чтобы Блок воспел хаос и уголовщину как «музыку», чтобы «заветные святыни» великой культуры были попраны, чтобы уроки «серебряного» века, усвоенные лишь со стороны «неразличения духов», помогли нам вляпаться в объятия антропологической порнографии масскульта, обеспечивающей «одно или два поколения разврата». Все это — исполнение желаний, плата за отступничество — сверх морей «кровушки»; без этой катастрофы тоже, видно, нельзя было обойтись.
«Пир во время чумы» — образ катастрофы, вот почему так часто мелькают сегодня эти слова. Художественный мир Пушкина вообще катастрофичен, оттого что Пушкин — поэт сущностей; ничто так не способствует проявлению сущности — личной, национальной, духовной, — как катастрофические обстоятельства. В катастрофичности, как ее понимает и воплощает Пушкин, есть смысл. Катастрофы не происходят без причин и не попускаются Богом без цели. Вальсингам должен был пройти через катастрофу, чтобы иметь возможность вновь обрести себя. Пушкин знал это из собственного опыта. Его трагедия обязана появлением не только тому, что он прочел английскую драму «Чумный город»; трагедия возникла благодаря не литературе, а диалогу поэта с попом, который воззвал к нему и сказал ему: «Не напрасно, не случайно Жизнь от Бога мне дана, Не без воли Бога тайной И на казнь осуждена… Вспомнись мне, Забвенный мною… И созиждется Тобою Сердце чисто, светел ум».
И Священник в «Пире во время чумы» воззвал к «падшему духу» Вальсингама»: «Матильды чистый дух тебя зовет».
И слова Гоголя о Пушкине, отразившем дух России «в такой… чистоте, в такой очищенной красоте», — не прорицание, а воззвание; это — пророчески услышанное Гоголем, через него переданное нам требование, провиденциальное и историческое.
Сегодня как никогда грустна наша Россия — но не напрасно как раз на эту ее пору, когда на весах лежит будущее России (будет ли Россия), падает двухвековая годовщина человека, воплотившего в себе гений нации. Не напрасно, не случайно. И впрямь «веселое имя: Пушкин» — Блок прав.
Блок и в другом прав: Христос и в самом деле ведет Россию, — Блок это увидел в своей гениальной до рыдания, душераздирающей поэме.
Он видит: Россия превратилась в стихию — дикую, слепую, очумевшую.
Он видит: Россия забыла, что впереди — Христос; она Его не знает и знать не хочет; она вообще ничего не знает — и того не знает, куда и зачем идет своим «державным шагом». Она слепа, больна, несчастна; Блок видит эту правду.
Более того: он эту правду записывает, — но он не верит ей. Он верит в идеи, в Вагнера и Ницше; он верит в Стихию. В слепоте, несчастье и очумелости он видит величавую, дикую мощь и кипение жизни. Он пишет Россию, забывшую о Христе, так, словно ей и забывать было нечего, словно Христа не существует [«…»отвлеченное», вроде Христа» (Блок, «Искусство и Революция») — В.Н.].
Блок видит правду и записывает правду — а поет неправду. Так Вальсингам записывает правду о смерти и бессмертии, но интонационно ее искажает.
Душа Блока — как душа Татьяны; душа знает больше, чем он. Она знает правду, а сам Блок знать ее не хочет. У него пророческий дар, ему дано видеть — но он не верует [«Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете» (Ин.6,36). — В.Н.]. Потому и дару, и глазам своим не верит. В «Двенадцати» воплощена великая правда: впереди надвьюжной поступью идет Христос, не покинувший Россию, — Блоку дано это увидеть; а он удивляется: зачем Христос?
Он верит в идею и Стихию. Его душа рыдает над Россией, а ему кажется: это величавый рев «мирового оркестра».
1993
С веселым призраком свободы
Из дневника пушкиниста. Заметки между делом. (С веселым призраком свободы — строка из поэмы «Кавказский пленник» — В.Н.)
Глава из книги «Да ведают потомки православных. Пушкин. Россия. Мы»
…Нет сомнения, что первые книги, которые выйдут в России без цензуры, будут полное собрание стихотворений Баркова.
Пушкин, по рассказу П.П. Вяземского
— Бабушка, ты умрешь?
— Умру.
— Тебя в яму закопают?
— Закопают.
— Глубоко?
— Глубоко.
— Вот когда я буду твою швейную машину вертеть!
К. Чуковский. «От двух до пяти»
…Свершилось, говорю я (впрочем, с большим запозданием). Сбылось пушкинское предсказание, хоть и не во всем («полное собрание стихотворений») объеме. Почтенный журнал «Литературное обозрение» (№11 за 1992 год) весь целиком посвящен «эротической традиции в русской литературе».
Но погодите… еще не прочитав, а только полистав, пробежавшись по «текстам» (из «Девичьей игрушки» Баркова, его же «Ода Приапу», дальше «Лука…», «Тень Баркова» — все это полным текстом, «без точек» — свобода), уже с обложки — недоумение: то есть как это — «эротической»? «Лука» — это что, эротика? И «Девичья игрушка»? И довольно топорная «басня» про козу, которую коллективно «трахнули» в лесу, с восторгом приводимая в статье А. Илюшина, уверяющего: «Читаешь басню «Коза и бес» и… радуешься. Очень смешно (ну да?! — В.Н.), хотя козе и пришлось худо», — это тоже эротика? Ничего не понимаю. Я всегда думал, что слово «эротика» — от греческого слова «эрос», то есть связано с понятием любви — ну пусть плотской, но любви же! И вот про козу — оказывается, тоже… про любовь? Неужели не отличается эта «басня» от нежного простодушия «Дафниса и Хлои», «Лука» — от пусть даже самых откровенных сцен Бунина, а «Тень Баркова» — от «Гавриилиады»? Неужто доктора и кандидаты филологических наук так туги на ухо, что не умеют различить, где эротика, а где непристойность и похабщина? Рыночный интерес, реклама? Тогда что стоило написать, к примеру: «номер посвящен непристойной русской словесности» или хотя бы «непристойной и эротической»? Верно, было бы не так красиво. Вкус, стало быть, не позволил.
* * *
Вообще с языком происходит бедствие. В любом номере любой газеты берусь найти десяток ошибок, в том числе грубых орфографических. Уши вянут слушать, что и как болтают по радио. Раньше московское радио давало норму звучащего языка, обозначало точку отсчета классической русской речи и тем помогало блюсти речевую культуру. Теперь звучащий язык отдан на поток, разграбление и уродование. Речь люмпенизируется, стираются границы между речью культурной и «уличной», сами слова перестают значить что-нибудь, ответственность за сказанное слово превращается в частное дело каждого: хочу — отвечаю, не хочу — нет.
Неудивительно: не так давно в «Литературной газете» некто попытался воскресить памятную людям 60-х годов идею «хрущевской» языковой реформы, призванной унифицировать, упростить, сделать более удобным слишком сложное русское правописание (незабвенные «заец» и «огурци» и незабвенный же вопль Леонида Леонова: «Я этих огурцей есть не буду!»). Тогда смельчаки тихо острили на кухнях, что полуграмотный Никита хочет и грамматику приспособить на свой манер, упростить; кое-кто из особенно интеллигентных язвил: что с него взять, он ведь из «простых». Сегодня оказывается, что не в этом дело: в иных из «мастеров культуры» сидит по своему никите, но его побуждения вовсе не из «простых», вполне в духе времени: свобода (от порабощающих условностей русской грамматики) и удобство — суть и знамя цивилизации.
Вообще перед интересами удобства все должно склоняться ниц.
Удобство и означает — унификация, в этом смысле цивилизация заключает в себе неизбежность тоталитаризма, но не на идейном сперва, а на бытовом, чуть ли не интимном уровне, — и потому тоталитаризма особо свирепого, ввинчивающегося в твой быт и душу, подчиняющего тебя всего. В унифицирующей сути удобства — тоталитарность всякой социальной утопии; чем развитее цивилизация, тем больше и глубже она порабощает. Да, мы несвободны благодаря обилию рабских привычек; но американец, живущий в развитом «правовом государстве», еще менее свободен, весь порабощен разнообразными «достижениями», от технических до социальных и правовых, весь детерминирован, за него уже все выбрано. И не говорите мне, что такое рабство лучше нашего.
Вон куда опять я заехал, начав о языке. Все со всем связано, и апостол говорит: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо Тот же Кто сказал: не прелюбодействуй, сказал и: не убей» (Иак.2,10-11).
Страсть уничтожать иерархию вползает в нашу жизнь как инфекция, как СПИД, лезет во все дыры.
Да нет, я не о том, чтобы навязывать один какой-то «вкус», «вводить единомыслие» на манер Козьмы Пруткова (с перевыполнением воспроизведенное у нас в XX веке); а о той свободе, которая заключается во внутренней установке: никакой объективной истины не существует, правд много, какая нравится, такую и бери. Два легких кавалериста литературы П.Вайль и А.Генис прямо так и говорят: «альтернативная нравственность» — сожалея о том, что Россия проскочила и ее, не усвоила это достижение цивилизации.
Вот мы и наверстываем.
Нашему радио очень нравится просвещать публику на такой манер: идет реклама какой-нибудь очередной биржи — на фоне музыки Бетховена. Затем — реклама лекарства от импотенции, но уже на фоне Рахманинова или, скажем, Листа. Не то чтоб подряд все на одной красивой музыке, нет: для биржи Бетховен, для импотенции другое — мы же не лыком шиты, цивилизация.
Еще одна забава: попурри из знаменитых классических мелодий. Чайковский нечувствительно переходит в Вагнера, Вагнер в Моцарта, из-под Моцарта вылезает Бах (или Оффенбах, какая разница) — и все это в аппетитной чуть-чуть поп-аранжировке: под острым соусом ударных, смачно отбивающих ритм. Выстраданные творения, в каждом из которых неповторимым образом отражен прекрасный Божий мир, превращаются в ассорти закусок. И все — в исполнении великолепного (кажется, лондонского) симфонического оркестра: блистательное мародерство, высокопрофессиональное превращение культуры в тут же обираемый труп; воплощенная в звуках свобода потребления.
Собственно говоря, из всех ценностей оставлена одна: свобода.
Впрочем, точнее сказать — потребление свободы.
То, что бесконечно выше бедного нашего разумения, то высокое и таинственное, что мы и описать-то до конца не можем, не то что постигнуть, то благое и прекрасное, к чему мы можем только страстно и смиренно тянуться и стремиться, чего должны жаждать удостоиться, — оказывается для нас всего лишь объектом использования — в сиюминутных, эгоистических, корыстных, конечных, смертных, в последнем смысле животных, интересах выгоды, удовольствия, удобства.
В результате — опрокидывание иерархии ценностей: вертикаль, устремленная к небу, разворачивается вниз, в преисподнюю; на церковнославянском «потребление» означает «истребление».
Наши расхожие понятия о свободе есть путь к истреблению свободы. Удивительное постоянство, невзирая на все уроки.
* * *
«В том, что Барков и барковиана считались неудобными для печати и не были допущены к публикации как дореволюционной, так и советской цензурой, есть свой смысл. Это объясняется не косным нашим ханжеством и дикостью, по крайней мере не только ими. Так уж сложилась культура — под знаком оппозиции «доступное — запретное»… В последние годы стало посвободнее с допуском мата в нашу печать, а впрочем, и сейчас это происходит не без трудностей».
«Когда же будет и будет ли наконец издан у нас Барков?.. Это дело будущего, до этого еще нужно дотянуться. Хочется думать, что предложенная здесь подборка явится предварительной публикацией» («Литературное обозрение», 1992,№11).
Вот видите, каков масштаб проблем, стоящих перед свободной печатью, перед отечественной культурой; какова сияющая мечта. Но — она — дело будущего, до нее еще надо дотянуться. Хоть стало и посвободнее, но — когда еще дотянемся, при нашей-то дикости? Неужели слову, столь дорогому для свободного, цивилизованного человека, все еще суждено прозябать на стенках сортиров, исписанных прыщавыми подростками и импотентами! Но ничего не поделаешь — так уж сложилась отсталая наша культура — под знаком этой чудной оппозиции «доступное — запретное». Смешно, право: весь цивилизованный мир давно постиг, что ничего запретного на свете нет, что есть только одна оппозиция: «возможно — невозможно»; что можно буквально все, что возможно: иными словами — все дозволено; одни мы так и застряли в своем тоталитаризме.
Нет, не спорю, я, конечно, ханжа и человек дикий: для меня все процитированное — вроде как мнение людей, ходящих на той стороне Земли кверху ногами и у которых все наоборот. А стоит посмотреть на себя с их точки зрения, как сразу и вижу, что я дикий человек и ханжа. И сразу хочется оправдаться: да нет, мол, знаю я, что такое смеховая культура, «телесный низ», Рабле, Бахтин и все такое прочее; и кое-что из ныне опубликованного давно знаю, и кое-что о природе этого потаенного жанра понимаю; что же до «Тени Баркова», то… не скажу люблю — смеюсь талантливости этого юношеского охальства, по крайней мере, в некоторых местах… Смешно, потому что… да потому что художественно (по крайней мере, иногда); в такие моменты сюжетно-предметная похабность остается в стороне, предметом же нашего внимания оказывается очищенный феномен образного мышления, чистая стихия юмора. Мальчишка Пушкин и тут Пушкин.
Все так. Но посреди этих чистосердечных пояснений хочется, почтенные коллеги, плюнуть и, обнажив истинную свою дикую и хамскую сущность, ляпнуть со всей непросвещенностью: стыдно и мерзко, милостивые государи мои и государыни тоже, гнусно и подло выглядит аккуратное ваше типографское воспроизведение тех подлых (то есть, в точном словарном смысле, низких), по народному разумению, слов, которые, невозбранно у нас существуя и даже благоденствуя, никогда на опубликование даже и не посягали — и вовсе не из-за цензуры. А из-за того, что сочинявшие эти «тексты» на потеху себе и охочим озорники, охальники и срамники, коих на святой Руси всегда было в достатке, отличались от некоторых из нас тем, что имели уважение к слову, в частности, просвещенные мои, печатному. Такова еще одна странная особенность культуры нашего Отечества: чувство священности слова.
То есть, конечно, они, эти похабники и сквернословы, сочиняя свои опусы, вряд ли предавались размышлениям о том, что слово, этот таинственный дар Божий человеку, стоит на самых высоких ступенях лестницы, которая называется иерархией ценностей, ибо Слово — это Бог, Слово — это то, что было в начале, что вочеловечившийся Бог Иисус Христос есть Бог Слово; вряд ли, говорю, они вспоминали об этом, иначе, может, прикусили бы языки и остановили бегущее по бумаге перо. Нет, скорее, это чувство иерархии, эта способность отличать высокое от низкого, подлого, это чувство границы между «можно» и «нельзя» — все это тайно гнездилось не столько в головах, сколько в их душах или, может быть, печенках; и вот потому-то они, хотя и тщились поколебать эту «ценностей незыблемую скалу», хотя дразнили свое и читателя врожденное чувство иерархии, хотя по врожденной же человеческой страсти все трогать и испытывать лапали то, перед чем надлежит благоговеть, — как ребенок хватает то, что хватать запретили, — однако же до последнего предела, досточтимые мои, они отнюдь не доходили, а именно, не тщились и не дерзали похабное, оскорбляющее высокий чин человека слово ввести в норму (или, как определяет ваше редакционное вступление, «в обычай») и тем самым ликвидировать нелюбезную вам оппозицию «доступное — запретное». Нет, они употребляли подлое слово и играли им именно как запретным и в силу его запретности; «в детской резвости» колебля «треножник», они не посягали совсем ниспровергнуть его — изменить, а тем самым и отменить, ценностную архитектуру Творения.
И опять-таки вряд ли им при этом всходило на ум, что «запретность», сопровождающая тему Эроса, тему зачатия (в частности в монотеистическую, в особенности — в христианскую эпоху), есть земное и экологическое отражение непостижимой таинственности Жизни, которая сама есть священный брак между верхним, небесным, и нижним, земным, и на которую следует взирать с благоговением, с сознанием ее непостижимости; и что «отменить» эту запретность ради какой-то там свободы слова — все равно что, сидя в избе, топить печку бревнами ее стен и столбами, на которых держится кровля. Вряд ли, повторяю, они об этом размышляли — и все же они были дети христианской эпохи, да и вообще душа человека, как давно сказано, по природе христианка, — и смутный, но внятный инстинкт самосохранения вида побуждал их создавать и сознавать свои опусы в ранге не нормы, а выламывания из нормы, своего рода святочного кощунства, или, если вашим ученым головам это милее, в статусе пресловутого «карнавала» — но ни в коем случае не будничного «обычая», к чему вас так тянет.
Ведь заметьте: стоит Ивану Баркову выступить — пусть и ернически — против самой оппозиции «доступное — запретное», стоит отважиться на принципиальное, теоретическое так сказать, отвержение запрета как «ненужной вежливости» («для чего же, если подьячие говорят открыто о взятках… не говорить нам о вещах необходимо нужных… о том, которое все знают и которое у всех есть») — как тут же он встает перед необходимостью начать с упразднения нравственной и духовной основы этого запрета: «Лишность целомудрия ввело в свет сию ненужную вежливость…»
Лишность целомудрия — это вам как?
* * *
«Поэзия, которая по своему высшему, свободному свойству не должна иметь никакой цели, кроме самой себя, кольми паче (тем более. — В.Н.) не должна унижаться до того, чтобы силою слова потрясать вечные истины, на которых основаны счастие и величие человеческое, или превращать свой божественный нектар в любострастный, воспалительный состав» (Пушкин, 1831) [что касается Пушкина и знаменитых его непристойностей (в которых иные видят едва ли не главную его особенность), то таковые исчезают из его произведений и даже писем на рубеже 1828-30 годов, в тридцатилетнем возрасте. — В.Н.].
* * *
Однако неловко: что же так долго объяснять взрослым людям, сколько будет дважды два?
А что делать: они ведут себя так, словно и в самом деле не понимают, сколько это будет. Болезнь духовной инфантильности? Или вид делают? Но зачем? Из «рыночных» соображений? Братцы, да ведь мы же все-таки интеллигентные люди, некоторые из нас на этом основании даже считают себя солью земли и передовой частью народа (что сразу же убавляет интеллигентности); неужели же «рынок» и творцов культуры неизбежно заставляет обезуметь? Или интеллигенция наша настолько поражена самовлюбленностью и комплексом «соли земли», что и в духовной темноте оказалась впереди всего народа?
Да, да, вы не ослышались, именно, именно впереди народа. Ибо покажи я «эротический» номер журнала (непременно это сделаю) кому-нибудь из моих деревенских соседей, который без мата (иной раз чрезвычайно затейливого и изобретательного) слова не вымолвит, — и на лице его обязательно изобразится странная, отчасти ошеломленная, отчасти грязноватая и в то же время смущенная и брезгливая улыбочка, и он этот журнал с этой улыбочкой либо отбросит с пренебрежением, либо культурно отложит, покачивая головой, либо с гоготом сунет мне обратно: «Во дают ученые! Тьфу ты, …!» И во всех вариантах возникнет обертон снисходительного презрения.
Вот ему, этому ханже, мне не пришлось бы объяснять на пальцах, что нехорошего в этой модной культурно-рыночной акции, он бы и сам мне объяснил все в два счета — если бы умел. Но он не умеет. Не в силу своей необразованности, а в силу, если угодно, не-Просвещенности, то есть — слабой затронутое некоторыми веяниями «века Просвещения», который воспевается в нашем журнале так:
«Идеи руссоизма находили отклик во многих сердцах. Осуждалось ханжество, осуждался ложный стыд, мешающий человеку чувствовать себя неотъемлемой частью природы, если хотите — животным».
Так вот — этот человек, этот матершинник, знать не знающий никакого такого руссоизма, — он безусловно чувствует себя «неотъемлемой частью природы», и в нем много животного, иной раз даже очень много (как и в каждом из нас), — что безусловно необходимо для целого ряда очень важных целей и в первую очередь для воспроизведения рода человеческого; но он отнюдь не чувствует себя животным. И не желает себя таковым чувствовать. Ибо «непросвещенной» своей душой, крестьянским трудом, жизнью, сердцем и опять же печенкой и отчасти даже необразованной своей головой превосходно знает, в отличие от иных просвещенных своих собратьев, разницу между человеком и животным — и разницы этой вашим цивилизаторским поползновениям не уступит, пока жив и существует на нашей земле. Ибо хоть он и Богу не молится, и в церковь не ходит, и о Священном Писании знает лишь понаслышке — а тем не менее сохранил в тайном для самого себя уголке души источник человеческого достоинства, унаследованный от дедов и прадедов, которые еще знали и помнили, что человек — не зверь, а образ и подобие Божье, наделенное разумом и совестью, помогающими ему отличать чистое от грязного, подлого и велящими исполнять Божьи заповеди; и которые если уж безобразничали и охальничали (а делали они это частенько), то по крайней мере — как говорит где-то в «Дневнике писателя» Достоевский — знали, что именно безобразничают, делают то, чего делать нельзя, и этим решительно отличались от многих из нас.
Надо катастрофически — для образованного человека — не понимать, не знать, не уважать свой народ, свою культуру, землю, на которой живешь, ее язык, чтобы детски удивиться: «Не так давно деревенщик Василий Белов пренебрежительно назвал эмигранта Василия Аксенова «матюкалыциком». Это как же понять: певец русской деревни брезгует матерной руганью (богатством великого, могучего, правдивого и свободного)?»
Какая бездна отчужденности!
В журнале цитируют одного из главных петербургских свободолюбцев М.Чулаки («Изгнать лицемерие» — «Независимая газета», март 1991): «Давно уже существует прекрасная литература, не только употребляющая, но и культивирующая мат… Цензуры в России больше нет… надо издать». Если не ошибаюсь, всего год-два назад в той же газете тот же автор возмущался: что же это за народ такой кошмарный, который придумал такую безобразную ругань. Меня, впрочем, не интересует эволюция автора как таковая, гораздо важнее вот это любопытное соседство: презрение к темному народу, создавшему столь грязную ругань, и — сладострастное влечение к ней самой. Откуда это упорное стремление ввести в верхние этажи культуры то, что презираемый народ твердо держит в области нижнего, запретного и только в таком качестве употребляет?
Нечто сродное этой занятной «антиномии» я нашел и в изысканном, как бы в золоченом профессорском пенсне, редакционном обращении «К читателям», открывающем номер журнала. С одной стороны, издатели, отмечая, что «эти тексты» у нас «из-за клейма «неприличных», «неудобных» к печати… полностью не публиковались никогда», тут же с приличествующим случаю почтением сообщают, что «эти тексты» «на Западе давно издаются разумными тиражами» (курсив мой. — В.Н.). С другой же стороны, с очаровательной и отчасти триумфальной откровенностью признаются, что здесь, то есть в России, эти же самые «тексты» они издают, борясь «за внимание широкого (курсив опять мой. — В.Н.) читателя». Здесь любопытен не только панельно афишируемый рыночный позыв, но и примечательная уверенность, что разумное в таком деле нам как бы не годится, что наша народная потребность в безобразии требует большей издательской широты.
Тут уж не имеет значения тот факт, что реальный тираж журнала невелик и, применительно к данному случаю, почти «разумен»; да и вообще меня интересует не столько сам факт публикации, сколько его духовное и нравственное происхождение; в частности, интересна вот эта самая уверенность, что именно «широкий читатель» «милой и ненавистной России», как сказано в одной из статей, ждет не дождется массового издания похабщины — исполнения хрустальной мечты цивилизованных людей.
* * *
Что привлекает в этом редакционном вступлении (весь номер там назван «мозговой атакой»), так это глубокомыслие. Есть и мысли.
«…Дело не в цензуре, никаких ошибок тут у нее не было, ибо тексты эти (Барков и прочее. — В.Н.) и создавались в расчете на запрет: не с тем чтобы пробиться сквозь цензуру или обойти ее, а с тем чтобы они ходили по рукам именно в качестве «невозможных», «преступающих приличия».
Ведь понимают! Вот-вот и самое главное поймут: что это было правильно и потому никаких реформ не требует… Вот-вот — и поймут…
«Предавая их теперь печати, мы сознаем, что до некоторой степени подрываем их репутацию. Но вряд ли подрываем сами основы жанра, ибо…» -дальше не выписываю, там нечто чрезвычайно любопытное, что надо будет обдумать, прочитав весь номер. Но какова забота об основах жанра! Прямо от сердца отлегло.
Дальше. «Один из важных аспектов — размежевание Эроса и порнографии». Ого! Опять верно. Но почему тогда Барков и «Лука» у них — «эротическая традиция»?
Но вот, кажется, главное. «Суть, стало быть, в самом феномене преступания приличий (тепло, тепло! — В.Н.). Суть в том, чтобы понять, откуда сама эта грань (еще теплее. — В.Н.), в чем внутреннее ее оправдание, какова динамика «запретного» и «принятого» в разные эпохи. Суть в том, чтобы найти общий духовный закон, их порождающий и размежевывающий»… Горячо! Ну?
Не нукай, не запряг… Главное — заинтриговать, остальное не важно: плюрализм.
Однако на другой вопрос: «Какие внутренние силы заставляют русское художественное сознание (в Баркове, конечно, главное художественность. — В.Н.) веками созидать и лелеять (почему «лелеять»? Какое такое истинно художественное русское сознание так уж «лелеяло»? Это вам, любезные, хочется лелеять. — В.Н.) эту тайную, «черную», «теневую» словесность», — на этот вопрос ответ дают с ходу, без плюрализма:
«…Это — форма нашего бунта. Это вечный русский бунт, социально-эстетический протест…» — и дальше про «свободу», «кризисы», «отчаяние», — в общем, по социологической методе учения о «неразрывной связи передовой русской литературы с освободительным движением». Правда — осторожнее и даже отчасти с оттенком порицания («самозабвенный беспредел», «оскорбительное преступание» и пр.).
Одним словом, «мозговая атака».
Впрочем, зря я так на них навалился. Они не виноваты. Надо же в конце концов принять в расчет неслыханную нашу религиозную безграмотность, в кровь въевшееся рабство у «научного материализма» и, в связи с этим, невероятную духовную глухоту. Мало того — еще и полное отсутствие интереса (к сожалению, очень часто именно в «ученой» среде) к религиозной и духовной сферам, в их собственном, а не мистифицированном качестве (когда под «духовностью» сплошь и рядом понимается интеллектуальность либо образованность или даже просто начитанность).
Будь иначе, человек, заинтересовавшийся вопросом о русском сквернословии и обо всем, с этой темой связанном, просто не может — и притом довольно скоро — не прийти к выводу, что феномен ужасной нашей ругани есть в конечном счете феномен религиозный; что занимающая авторов редакционного вступления «грань» между «приличным» и «неприличным» (та самая оппозиция «доступное — запретное») имеет древнейшую религиозную природу, выполняет, повторяю, помимо прочего экологическую (и в духовном, и в биологическом смысле) функцию; что динамика «запретного» и «принятого» в разные эпохи определяется прежде всего различиями религиозными, в нашем случае — между язычеством и христианством, ибо разные соотношения между телесным («нижним») и духовным («верхним») определяют и разность в представлениях о «принятом» и «запретном»; что, наконец, «общий закон», взыскуемый авторами вступления, закон, порождающий и размежевывающий всяческие «можно» и «нельзя», — этот закон наиболее ясно формализован в библейско-евангельских заповедях. Ведь это так просто. Что называется, рядом лежит. Правда, только в том случае, если вы сами находитесь где-то рядом. Но вы где-то в другом месте, отвернулись и задаете свои вопросы в пустоту, неизвестно кому.
* * *
Ведь «рекордная», по мнению многих, непристойность русского мата, проистекает из того же источника, которому Русь обязана своим древним прозванием Святой, — из глубочайшей, а точнее глубинной, религиозности русского сознания, существующей и сохраняющейся даже и до сего дня, когда сама-то религия кажется умершей или обмершей. Истина эта также довольно элементарная и очевидная (вспомним хотя бы такой специфический элемент русской жизни, как юродство, феномен религиозный и вместе с тем тесно связанный с явлением «грани» и преступания ее), для иллюстрации ее довольно одного примера.
Есть в Европе народ, ругательства которого, по мнению знающих людей, не уступают по грязи и кощунственное нашим родным. Об одном мне рассказал литературовед Лев Осповат: там объектом надругательства является «платок Мадонны», то есть тот самый плат Божьей Матери, которым Она обтерла лицо снятого с Креста Иисуса. Ругательство это настолько грязно и отвратительно, настолько в этом смысле превосходит наше сквернословие, что я не буду переводить его (хотя это вполне возможно) на относительно приличный словесный язык. Так вот, это безусловно рекордное и очень употребительное ругательство принадлежит испанцам — самому религиозному, самому католическому, самому серьезному в вере, самому духовному из западноевропейских народов.
Не правда ли, в этом что-то есть?
Русский народ тоже очень серьезный народ. Иностранцев, не знающих нас, это сначала смущает, серьезность они принимают за угрюмость и необщительность, а потом изумляются неожиданной душевной открытости и необыкновенной, почти детской, эмоциональности русских. И по серьезности русские тоже могут быть сравнены разве что с детьми, а дети — самые серьезные люди в мире, маленькие дети редко «шутят», они этого просто не умеют. Они умеют смеяться, играть, веселиться, но все это для них не «шутка» или юмор, не забава в свободное от серьезных занятий время, а самое серьезное и жизненное занятие. Вот так и мы. Это вовсе не значит, что мы дети буквально, что нам чужд юмор, чужда шутка (она у нас, впрочем, бывает порой довольно груба — вспомним «юмор» Лермонтова, погруженного в свои роковые вопросы!). Мы серьезны как дети в том смысле, что нас, русских, одних еще, похоже, во всем окружающем «взрослом» мире волнуют эти самые «последние», «проклятые» вопросы, которые можно назвать и «детскими». В окружающем мире все несколько иначе: там на первом месте — «дело» (а точнее все-таки — бизнес, ибо это слово ближе по смыслу к понятию добывания денег, чем к русскому понятию «делать дело»), на первом месте — то, что можно потрогать и взять в руки, а все остальное, то есть то, чем занимается культура (в том числе и «детские», «проклятые» вопросы), — для этого существует «свободное время», как для игры и отдыха. Так что наше немыслимое словосочетание «парк культуры и отдыха» столько же, в сущности, отражает кондово-советское понимание культуры как полезного «отдыха», сколько и классически-американское.
Хотите знать, что такое культура по-американски? Пожалуйста: «Цивилизация складывается из идей и убеждений. Культура суммирует приемы и навыки. Изобретение смывного бачка — знак цивилизации. То, что в каждом доме есть смывной бачок, — признак культуры». (Это все те же ковбои пера П.Вайль и А.Генис, это их книжка «Родная речь», покорившая сердца нашей спешно цивилизующейся публики.)
Да нет, я вовсе не собираюсь с ними спорить; если им так нравится — пусть. Дело в другом: ведь у нас, темных, совсем другие понятия!
Для нас культура — штука в основе своей идеальная, а цивилизация — в конечном счете материальная, включающая также и смывные бачки вместе с фактом их изобретения; по-нашему, культура (на латыни — «возделывание») есть возделывание человека, его души и духа, а цивилизация — возделывание лишь среды, условий обитания человека. Но мы же им не навязываем это устарелое понимание! То есть — если у них там и культура, и цивилизация общим знаменателем имеют смывной бачок, — пожалуйста; но нас-то зачем этой меркой мерить, мы до этого еще не «дотянулись».
И однако именно такое, в конечном счете, понимание культуры внедряют в нас те, кто сделал профессиональным занятием «обличение» и «разоблачение» «так называемой великой русской литературы» и вместо того, чтобы попытаться уяснить ее величие и драму — имеющую, между прочим, онтологический для истинной культуры характер, — стремятся переделать на «американский» лад само наше понимание культуры, научить видеть в ней всего лишь «прием и навык», «культуру и отдых», одним словом — подчинить культуру цивилизации в качестве ее, цивилизации, следствия и служанки, что прямо обратно всем нашим представлениям не только о культуре, но и о жизни. Этим занимаются многие, хотят они того или нет, — от отечественного А.Агеева с его нашумевшей статьей в том же «Литературном обозрении» и зарубежного Бориса Парамонова с его бесконечным самодовольством, как будто ставшим уже неотъемлемой частью его несомненного таланта, до тех же Вайля и Гениса с их беспардонно плоской по методологии книжкой, в которой остроумная находчивость и интеллектуальная ловкость (играющие роль «орудия производства» или своего рода профессиональной мозоли) оттеняют изумительное духовное убожество и без труда прощупываемую эстетическую глухоту почти ко всему, что выше или глубже их концепции.
Но не научат все они нас никогда своему пониманию культуры, безнадежное это дело. Ну, взгляните хотя бы на такое «стихийное» явление, как русский рок: он может нравиться или нет, но невозможно отрицать «родовое» его отличие от рока западного. Ведь наш рок — это, извините, сплошная «философия», и это при любой тематике, и, как правило, либо трагедия, порой до истерики, либо нечто «т юродства или скоморошьего действа. И как часто это по-человечески глубже и интереснее, чем рок Запада…
* * *
Тема пола, тема секса у нас в культуре редко была в круге тем «легких», развлекательных, гедонистических, тем «сладкой жизни» — чаще была метафизической, трагической, в конечном счете религиозной, — Розанов тут камертон. Никто не будет отрицать немыслимую «асексуальность» русской литературы; но сравнительная бедность ее собственно «эротического» арсенала — оттого, что ее тема — любовь, а не секс, Эрос, а не эротика. Эротика-то больше всего нужна как раз тем, у кого с Эросом, с любовью, в их высоком (а стало быть, и в более прозаическом «нижнем») смысле не все в порядке.
И грязные шуточки и похабства, коими мы так богаты, — не от нечего делать, не для развлечения или услаждения просто, — это тоже очень серьезно, этот тот самый средневековый «карнавал», святочное игрище и кощунство, который давал разрешение от поста (в смысле серьезной же духовной настроенности), открывая на время клапан естества, жаждущего порезвиться, то есть — потолкать, поколебать духовный треножник мироздания, испытать его на крепость и, испытав и убедившись в этой крепости, а в своей слабости перед греховными искушениями, — пойти на Крещенье в храм очиститься.
И жуткая матерная ругань — все от той же серьезности и основательности. Неинтересно и несерьезно ругаться абы как и потому что «можно» — нет, нужно, чтобы земля сотряслась и небо померкло, надругаться над святым, да не просто, а над самым святым, чтобы показать, что и дороги-то назад уже нет, чтобы словно в очередной раз подтвердить, что несешь проклятие Адамова грехопадения. А самое святое для русской души и есть культ матери, исходящий от почитания Матери-земли и восходящий к поклонению Пречистой Матери, Невесты Неневестной. И вот тогда это будет настоящая ругань, за которую надо нести ответ перед Богом: основанная на поругании и священного сыновнего чувства, и полового акта (лишаемого его мистической сущности и превращаемого в физиологическую непристойность), и брака как священного таинства, и самой непорочности и невинности. Русская матерная ругань есть по существу и в основании своем богохульство.
А значит (это, конечно, чудовищно, но факт есть факт), русский мат как поругание святынь, как богохульство мог появиться и получить распространение только среди такого народа, который всерьез
имеет святыни и в душе своей всерьез чтит Бога; который без святынь и без Бога не мыслит своего существования, для которого характерна духовная серьезность в отношении к жизни и ее смыслу.
От этой серьезности — и потребность в «карнавале», в кощунстве. Чем серьезнее «пост», тем «карнавал» может быть более размашист и разнуздан — в прискорбном духе русской «широты», с «хождением по краю», с риском окончательно загреметь вниз, в самую что ни на есть преисподнюю; не зря матерная ругань на церковном языке именуется нередко молитвой сатане…
* * *
Но стереть грань между постом и карнавалом? Сделать потрясение духовных основ, сделать богохульство нормой, обыденно принятой наравне с другими занятиями? Нет, это не по-русски. И это как-то стыдно, и об этом очень точно высказался, на «светском» уровне, один очень русский чудак:
Когда в делах — я от веселий прячусь,
Когда дурачиться — дурачусь.
А смешивать два эти ремесла
Есть тьма искусников, я не из их числа.
(«Горе от ума»)
Это, кстати, настоящая свобода — свобода собственного выбора, а не вопрос чьего-то разрешения.
«Ох уж эти патриоты, — скажут сейчас обо мне (давно уже, впрочем, должны бы сказать), — и тут, в ругани и безобразии, опять мы — лучше всех! Опять это национальное чванство!»
Нет, милостивые государи и государыни также, я вовсе не о том, вы очень хотите неверно меня понять. Я не о том толкую, насколько мы хороши и насколько плохи, не нам о том судить, — я о свободе. И о разных ее пониманиях. Разница между русским религиозным пониманием свободы и тем пониманием, которое исповедуют нынешние потребители «свободы слова», состоит в том, что религиозное сознание, безобразничая, преступая грань, чует, что грань это — запретная и что за такое надо бы нести ответ; а сознание потребительское мечтает стереть эту грань — чтобы «нельзя» превратилось в «можно», чтобы и безобразничать, и преступать — и ответа не нести.
* * *
«…Это — форма нашего бунта. Это вечный русский бунт, социально-эстетический протест…» — марксистско-ленински утверждает редакционное вступление к номеру журнала, объясняя природу сквернословия. Да не протест это никакой (это нас, «мыслящих людей», хлебом не корми, дай только опротестовать что-нибудь, обличить или низвергнуть, иначе места себе не находим, на том и держимся, и все на свете по той же колодке моделируем); никакой это не протест, а экспансия мировоззренческого разврата в религиозное сознание. Вхождение сквернословия в повседневную жизнь Руси — только бытовой шлейф этого разврата. Материалистический позитивизм — релятивизм — цинизм — сквернословие. Выталкиваемая из обыденного сознания религиозность сопротивлялась; она не выталкивалась, она цеплялась, она оставалась — но в опрокинутом виде. Так было во множестве сфер, в итоге идеал соборности со временем опрокинулся в «социалистический идеал», Царство Небесное — в коммунизм; все узурпировалось (в переводе с латыни — потреблялось), извращалось, опрокидывалось; сама же религиозность, отчаянно сопротивляясь потреблению (истреблению), опрокидывалась в… во что может опрокидываться религиозная серьезность?.. Правильно: в карнавальность, говоря респектабельно; а в нашем случае — в кощунство, в черное юродство, жуткое, как гримаса боли, предвещающая возможность духовной катастрофы. И вот уже русский человек, шагу в быту не делавший без «Господи, помилуй» да «Господи, благослови», чем дальше тем чаще заменял эти слова совсем другими… Это в быту. А Иван Барков, законное дитя Петровской эпохи, закладывает и своего рода «культурный» фундамент — прежде всего самою целеустремленностью своей литературной работы, вводившей устное (фольклорное в том числе) грязное слово в письменный (пока еще не печатный) обиход — тем самым ослабляя и удлиняя цепь, на которой сидит сатана.
Дальнейшие поползновения «стереть грань» между «доступным» и «запретным» словом отражали дальнейшую экспансию вируса безверия (сначала религиозного, а ныне — и социального), процесс выколупывания совсем нового сознания — возможно более безрелигиозного и безверного. Синхронно с этим процессом черное, подлое слово-и перед революцией, и особенно после нее и благодаря ей, и особенно нагло с конца 60-х годов, и уж совсем оголтело в 70-е и 80-е годы — входило «в обычай» ни во что уже не верующих людей, вползало из заведомо подлых пределов в «приличную» речь и завоевывало, оккупировало ее, звуча тоскливым скрежетом в среде «простого народа» и утонченно-циничной жеребятиной в умных разговорах интеллигенции. А теперь вот ее же устами, в условиях разрешенной свободы и при посредстве орудий культуры, взыскует и обоснования — теоретического, идейного, культурного, требуя тем самым «художественно» ознаменовать, «культурно» оправдать, закрепить и торжествовать расхристианивание нации.
* * *
Попался в руки журнал «Странник», номер 1 (3) за нынешний год. И вот:
«Пушкин… Какое русское ухо не навострится при звуке этого священного имени?
Нет такого уха.
Гоголь… Какой русский глаз не блеснет от этого магического слова?
Нет такого глаза.
Достоевский… Какая русская душа не задохнется от одного только воспоминания о нем?
Нет такой души.
Толстой… Какое русское сердце не забьется ускоренно при встрече с графом?
Нет такого сердца.
Чаадаев… Какая русская бровь не поползет вверх, услыша его пленительную речь?
Нет такой брови.
Державин… Какая русская грудь не закричит от гордости при звоне этого хрустального сосуда?
Нет такой груди.
Чехов… Какой русский лоб не затоскует, не съежится при свисте этой сокровенной флейты?
(Это я еще сокращаю, там длиннее и все так же талантливо и остроумно. — В.Н.)
Великая русская литература… Какой русский х… (в журнале, натурально, полностью. — В.Н.) не встанет со своего места под музыку этого национального гимна?
Есть один такой х… Мы встанем, а он не встанет. Мы все встанем, кроме него. Одинокий, жалкий, занедуживший х…ко. Но если его приласкать, если по-человечески к нему отнестись, он тоже встанет». Вот. Это все.
И это, конечно, Виктор Ерофеев, мэтр андерграунда, красно солнышко постмодернизма, Георгий победоносец, поразивший змия «советской литературы» и теперь разделывающийся с русской. Гордость нашей свободной словесности. Писатель.
Он, по-видимому, и сам уверен, что создал нечто… ну, хотя бы неординарное, во всяком случае достойное внимания публики — просвещенной, конечно. Последние два «ударных» абзаца представляются ему настолько безусловно остроумными и талантливыми, что все остальное, предваряющее этот интеллектуальный подарок, он пишет — не стесняясь, демонстративно — левой ногой. И все равно рукоплещи, толпа: кто еще скажет так?
Предположить иное — то есть что все это от начала до конца накропано с некоторым творческим тщанием, старательно, с той, пусть минимальной, мерой авторской ответственности за свой труд, за свое слово, которая бывает присуща иногда даже явному графоману, — одним словом, предположить, что все это написано правой ногой, мне даже как-то жутковато. В любой ситуации хочется надеяться на лучшее.
Жили, жили — угнетенные, обиженные, униженные и оскорбленные, с кляпом во рту — и все это время, надо полагать, должны были вынашивать в оскорбленных своих душах что-то светлое и благородное, высокое и прекрасное, ненавистное и страшное для мастеров «душить прекрасные порывы». И вот сбылись мечты, кляп выплюнут — и что же повалило из отверзшихся уст? Что ни слово, то жаба или змея. Неужели ничего другого за душой и не было, «мастера культуры»? Где же ваша собственная свобода, внутренняя свобода, «тайная», как называли ее Пушкин и Блок? Неужто в пределах штанов?
Тоталитарная система была нашей благодетельницей. Все грехи и недостатки можно было списать на нее, нас самих из-за нее не было видно: сплошное «угнетение». А свобода — вещь страшная, безжалостная вещь. Она раздевает нас — и оставляет у всех на виду, какие есть, голенькими. И выходит — один срам.
И ведь все это, явно или тайно, чувствуют и знают. Человек вообще все самое глубокое чувствует и знает, только истолковываем мы это знание каждый на своем уровне. Кому стыдно своего срама, а кто трепещет от наслаждения, оказавшись без штанов; как там у Достоевского: «Заголимся и обнажимся!» Идет срамная «культура» — и она не выносит соседства настоящей культуры, стремится, мародерски ее обобрав, да еще огадив, уравнять с собою, а еще лучше — осмеять и тем самым поставить ниже себя. Опять свобода раба: свобода напакостить на рояль или выкинуть его из окна, страстное желание стереть грань между высоким и подлым.
Эти утописты надеются «переучить» русскую литературу, научить ее ничему не учить, а быть игрой, как это принято в цивилизованных странах. И чтобы и в нее можно было играть (к чему призывает А.Синявский в предисловии к книжке Вайля и Гениса, снабженной, кстати, подобострастной аннотацией от имени самого Министерства образования РСФСР). Их вообще раздражает, что литература чему-то может учить.
Ну, хорошо, Сергий Радонежский не «учился» у Рублева, а сам внушил Рублеву «Троицу», Серафиму Саровскому ни Пушкин, ни Гоголь не были нужны, в поучениях светской культуры он не нуждался, ему являлась Божья Матерь… А вы-то кто такие?
* * *
«Мелочная и ложная теория, утвержденная старинными риторами, будто бы польза есть условие и цель изящной словесности, сама собою уничтожилась. Почувствовали, что цель художества есть идеал,а не нравоучение. Но писатели французские поняли одну только половину истины неоспоримой и положили, что и нравственное безобразие может быть целью поэзии, то есть идеалом! Прежние романисты представляли человеческую природу в какой-то жеманной напыщенности; награда добродетели и наказание порока были непременным условием всякого их вымысла: нынешние, напротив, любят выставлять порок всегда и везде торжествующим и в сердце человеческом обретают только две струны: эгоизм и тщеславие» (Пушкин, 1836).
* * *
«Если в нас рождается какой-нибудь скверный помысел, — говорит Иоанн Златоуст (кому безразлично, что это великий святой, пусть прислушается хотя бы к великому писателю), — то надобно подавить его внутри и не допускать ему переходить в слова».
Совет величайшей мудрости, исходящий из понимания священного происхождения и неслыханной силы слова.
Есть разные степени грехопадения. Одно дело — когда человек предается «скверному помыслу», уже в этом надо раскаиваться, ибо мысль есть реальность.
Другое — когда помысел «переходит в слова». Каждое сказанное нами слово в известном смысле «плоть бысть». Через слово «скверный помысел» начинает материализоваться.
И наконец — когда скверный помысел, перейдя в слова, не остается во внутреннем употреблении, а путем слов передается другим, внушается другим, учит и соблазняет других. Ответственность за такой грех — это не только ответственность за себя, но и за тех, кого соблазняешь, и она ужасна. Ты учишь других, что скверное — это можно, это норма. И к этому греху, мне кажется, имеет прямое отношение таинственная и повергающая в трепет фраза Евангелия:
«Всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам; если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему, если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем» (Мф.12,31-32).
В нынешнем понимании свобода слова — это возможность и дозволительность переводить в слова скверные помыслы.
* * *
Это не дурная книга, это дурной поступок. Вспомнив небезызвестную формулу, нужно, в интересах справедливости, сказать, что совсем уж «дурной книгой» номер «Литературного обозрения» не назовешь — если читать примерно с середины. Тут немало любопытного, а главное — чрезвычайно поучительного: фрагментарно представленный, но в общем довольно связный коллективный обзор наиболее острых поворотов «эротической темы» в русской литературе — специфический срез процесса падения в ней того, что способно и готово было пасть, — в сопровождении анализов (порой тонких и глубоких) предпосылок этой прискорбной готовности.
Мрачная, надо сказать, картина. От мазохистского состязания (Кто хуже? Я хуже!) Белинского с Бакуниным в выговаривании наделанных сексуальных пакостей (извращенный атеистический суррогат удовлетворения священной и естественной потребности человека в исповеди) до подмены идеала христианской любви деревянным муляжем «любви-товарищества» (в сочетании с «инстинктом воспроизводства») и прочих, не менее фантасмагорических извращений советской эпохи; от жалко- и грязно-ханжеских отношений революционных демократов с проститутками (отношений, увязываемых с революционной идеологией, построенной на необходимости «исправления замысла Творца») до брюсовского и иных «мистического» разврата, дух которого реял над «серебряным веком», когда оппозиция «доступное — запретное» изничтожалась некоторыми «бледными со взором горящим» уже с каким-то религиозным экстазом и когда была окончательно раскупорена бутылка и выпущен джинн духовного растления, что помог погубить страну.
Одно из светлых пятен этой картины — Хармс, у которого в «поздний» его период самодовлеющая эротика (с «запретными» словами) оттесняется, и не почему-либо, а «ради постижения Бога, единственно способного даровать человеку бессмертие, являющееся смыслом его жизни»…
В целом вся эта история, прослеженная в статьях В.Сажина, Т.Печерской, Н.Богомолова, Р.Щербакова, О.Матич, М.Золотоносова и других (обидно мне только за моего однокашника, выдающегося ученого, блестящего филолога М.Гаспарова, у которого, кстати, и тема другая, — уж так неловко, так непрезентабельно выглядит он, подстраивая свою рафинированную в подлинном смысле, ученую речь в тон непристойности Марциала и похабщине близко соседящей «барковианы», со стеснительной фривольностью выписывая матерную фразу латинскими буквами и при этом еще уверяя, что «так будет интереснее»), — так вот, в целом вся эта история есть именно и поистине история расхристианивания культуры, показанная на специфическом материале. Помимо прочего, она словно бы нарочно иллюстрирует совершенно справедливую фразу одной из статей: «Идеям, претендующим на позитивность и созидательность, сквернословие едва ли органично…» До смешного удивительно, что вся статья находится в кричащем противоречии с этой фразой и, кажется, выстроена так, чтобы всячески утвердить «созидательный» смысл сквернословия.
Такая путаница характерна вообще для всего замысла этого номера, и говорит она опять же о нашей темноте и неспособности задуматься над серьезным вопросом. Ведь прочти создатели номера внимательно и загодя материалы, составившие затем его вторую половину, задумайся они над ними всерьез — и, может быть, замысел в чем-то изменился бы, и охладела бы культуртрегерская страсть к стиранию границ между «запретным» и «принятым». И их редакционное предуведомление получилось бы пусть и не таким щеголеватым, но зато более неглупым. А то ведь вот что выходит:
«Предавая их (тексты, которые, как тут же говорится, «и создавались в расчете на запрет». — В.Н.) печати, мы сознаем, что до некоторой степени подрываем их репутацию. Но вряд ли подрываем сами основы жанра, ибо как только данная потаенная словесность теряет ореол запретности и вводится в обычай, в качестве «оскорбительных» начинают действовать ее другие пласты, роль неприличных начинают играть новые темы…»
Выше я уже писал, что весьма трогательна эта забота об оскорбительности и неприличии. Только очень уж высок уровень абстрактного мышления: какие «другие пласты», какие «новые темы»? Моей фантазии тут не хватает. Знают да стесняются, что ли? Может быть, место оскверняемых святынь материнства, любви, брака займут какие-то «новые» святыни — например, свободы и демократии, а основой новой неприличной лексики станут понятия «закона» или, скажем, «правового государства»? Или просто так, наобум Лазаря сказанули, чтобы поглубокомысленнее и потеоретичнее?
И ведь вряд ли подозревают, что на самом деле сказанули.
Ведь любая ругань по определению есть (или имеет в виду) отрицание какой-нибудь заповеди. Матерная ругань и матерное слово декларируют, ближайшим образом, отрицание заповеди «не прелюбодействуй», тем самым утверждение «заповеди» противоположной: «прелюбодействуй». Так что же: если поругание седьмой заповеди при вашем содействии потеряет «ореол запретности», то какие ценности видятся вам в качестве «других пластов» «оскорбительного»? Отрицание каких заповедей, насмешка над которыми из них послужит «новой темой» обновленной неприличной лексики? «Не укради»? «Не лжесвидетельствуй»? Или «Не убий»? (Кстати, функцию, сходную с функцией порнографии, уже и так выполняет показ насилия и убийства.) Может получиться очень живописно и одновременно специфически отразит — наконец-то — уже провозглашенные в свое время «новые» заповеди, от:
Свобода, свобода, Эх, эх, без креста!
(А. Блок)
вплоть до:
Но если он (век. — В.Н.) скажет:
«Солги», — солги.
Но если он скажет: «Убей», — убей.
(Э.Багрицкий)
Господи, до чего же все в жизни связано. «Ибо Тот же, Кто сказал: «не прелюбодействуй», сказал и: «не убей» (Иак.2,11).
* * *
Ну вот, получается, что злосчастный этот «Литобоз» чуть ли не главный виновник катастрофы, происходящей (производимой) в культуре. Да не хотел я этого. Просто так называемая «эротическая» тема оказалась тут, как это сейчас говорят, репрезентативна.
Не так давно в одном собрании студент МГУ задал мне вопрос: чем же плохо «сексуальное просвещение» детей и молодежи гласно, в печати? Разве лучше, если дети будут узнавать «про это» в подворотнях?
Да, ответил я, в подворотнях плохо и чревато неприятностями; и все равно — лучше уж в подворотнях, чем гласно и в печати.
Я не стал тогда пространно объяснять ему, что «в подворотнях» дети знают, что учатся греху; «в печати» их учат, что никакого греха не существует, есть только технология и гигиена, причем никакие благоразумные оговорки тут не помогают, остаются лишь гигиена и технология. Я не стал пространно объяснять, почему на теме полового акта с незапамятных времен — покров тайны, на ней лежит печать греха, и покров этот, и печать эта — священного происхождения. Грех — не в самом половом акте (ибо Господь, сотворив мужчину и женщину, сказал им: «плодитесь и размножайтесь», — Быт.1,28); грехопадение было в том, что люди познали добро и зло не с Божьего благословения, а с помощью сатаны. Нигде добро и зло не соседствуют так опасно, как в плотском влечении, вот почему Адам и Ева, познав добро и зло, тотчас устыдились своей наготы: это их души устыдились нарушения Божьей воли, через которое вошли в мир грех, зло и смерть. Я не стал также объяснять, что плотские отношения мужчины и женщины облагораживаются и возвращают себе изначальное благо и красоту только при условии любви — будь это личная и истинная любовь одной женщины и одного мужчины друг к другу, которая порой сияет божественным светом и в этой жизни, полной тьмы, или та Любовь, торжества и царствования которой во всем мире так жаждет исстрадавшееся от собственных преступлений человечество, почти ничего для этого торжества не делая. И пока люди продолжают жить по законам зла и смерти — печать греха будет лежать на отношениях полов; и делать вид, что грехопадения не было, что мы с вами бесконечно хороши и продолжаем жить в раю, где нет ни греха, ни зла, ни смерти, — значит бесстыдно и глупо лгать. На самом деле мы построили мир зла, и потому печать греха остается, и дети должны это узнавать. Пусть в подворотнях узнают; и только собственная жизнь и собственная личная и истинная любовь (иногда — с помощью истинной культуры) могут просветить детей.
Такого монолога я мальчику не сказал, ограничился несколькими фразами. Но он, выслушав, воодушевленно закивал головой, порозовел и сказал: «Большое вам спасибо!» Он, наверное, и без меня поймет, что ни жизнь, ни культура не могут оставаться самими собой, не деструктурироваться, если устраняются те границы между «можно» и «нельзя», которые суть балки, столбы и стропила жизненной (и культурной) структуры. И никакие соображения «прогресса», «удобства» или, скажем, «терпимости», или чего угодно не могут оправдать устранения этих границ.
* * *
Включаю телевизор. В окружении десятков трех людей, в основном молодых, сидит в кресле человек с лицом постаревшего красивого мальчика и рассуждает о том, что нужно наконец узаконить, юридически ввести «в обычай» так называемую «эвтаназию» (греч. «благое умерщвление»). Речь идет о проблеме добровольной смерти особо тяжело страдающего человека — от рака ли, от другой болезни, от чего-нибудь еще — мало ли в жизни невыносимых страданий. Речь о том, что мы должны юридически иметь право помочь такому страдальцу умереть; о государственном и общественном (социально-нравственном) санкционировании этого акта; ведь так уже делается в одной из цивилизованных стран Запада (кинокадры), где наконец-то прочно утвердились в убеждении, что человек есть полный хозяин своей жизни.
Что-то потустороннее, зазеркальное. Не в самой даже смерти дело. И даже не в том, что последнее-то слово (оно же — дело под названием убийство) будет реально принадлежать вовсе не самому страдальцу, просящему нас о «помощи», а нам, эту «помощь» согласившимся оказать и оказывающим. И не в том, наконец, как это в христианской стране могут считать человека «полным хозяином» своей жизни (он что ее — сам сделал? или на заработанные деньги купил?).
Дело в другом. Мало ли что бывает в жизни. Мало ли каких страданий свидетелем может стать тот или иной из нас; может, они будут, на наш взгляд, столь невыносимы, что мы не выдержим и, нарушив Божью заповедь «Не убий» во имя жалости, «поможем» и — убьем. И вот главное: грех этот человек совершит лично от себя, по своему свободному выбору, на свою личную совесть. И ответственность за такой выбор перед Богом человек возьмет — во имя своей жалости — на себя, ни на кого эту ответственность не сваливая. И сколько бы ни было таких случаев и таких поступков, каждый из них будет личным и каждый единственным. Сколько поступков — столько и ответов. И это — правильно.
Но все, оказывается, можно устроить иначе. Ибо поступок, совершенный только по личному выбору и только на свою ответственность, — это ведь чрезвычайно неудобно. А что если юридически, «извне», узаконить такой поступок, ввести его в унифицированную правовую систему, в множественный «обычай»? Стереть грань между «можно» и «нельзя»? Человеческим актом отменить вышний запрет — и тем снять со всякого человека ответственность за сделанный выбор?
Это уже не только разрушение культуры. Это разрушение человека как свободного существа. Это не просто унижение человека — это втаптывание его в грязь, антропологическая порнография, акт, обратный акту Творения.
Не буду на этот раз предугадывать, что мне могут ответить некоторые, чем они могут возмутиться, над чем усмехнуться. Хотя бы потому, что угадать несложно, а спорить нет смысла и уже скучно. Лучше я напоследок вот что сделаю, вот как к ним обращусь:
— Господа товарищи! Давайте-ка, для устранения всех неясностей, договоримся так: вот вы все, борцы за свободу слова и всего прочего, возьмите-ка и скажите прямо и громко: да, мол, для свободного человека никаких таких «запретов» — то есть ничего святого — нет, все это тоталитарные выдумки; на самом деле все, что фактически возможно и удобно, — можно и позволено, и такое положение нормально; ибо Единой Истины, священной и обязательной для всех, не существует в природе: на самом деле истинно то, что мне удобно, — и это тоже нормально, это предполагает «альтернативную нравственность» и называется свободой.
Скажите так, скажите громко и от чистого сердца, веруя в это; убедите меня в том, что вы в сердце своем прочно утвердили закон джунглей, убили свободу и уничтожили человека как образ и подобие Божье, — и я умолкну.
Но вы ведь так не скажете. И не потому, что постесняетесь, а потому, что невольно, интуитивно, сердцем, наперекор и назло собственным «взглядам», чувствуете запрет такое сказать и подумать всерьез. И так же интуитивно чувствуете священную природу этого запрета хулы на Святого Духа, той самой, которая «не простится ни в сем веке, ни в будущем»; и тут все ваши «взгляды» бессильны. Потому что мы с вами, братья мои дорогие, — люди, сотворенные по образу и подобию Божию. Можно забыть головой (и это происходит), но нельзя не знать сердцем, что культура жива, пока живы ее сакральные основания, опирающиеся на заповеди и порождающие запреты; что культура, собственно, есть — как сказал тоталитарный мыслитель Клод Леви-Стросс — система табу: именно благодаря этому культура и есть то, что помогает человеку в этом мире, который во зле лежит, не до конца забыть о своем высоком происхождении, а иногда — приблизиться к возможности постигнуть и свое предназначение.
Иначе культура превращается в цивилизацию, а свобода — в рабство у нее, ведущее к разрушению человека.
Появились учителя, они учат нас этой свободе разрушения. Но я думаю, что в России это не пройдет. Не такая — при всей порче — наша порода. Так долго продолжаться не может, однажды настанет момент, когда Бог, по милосердию Своему, даст нам с вами увидеть ясно, в какую бездну позора и унижения уставились мы зачарованным взглядом, — и мы с вами задохнемся и взревем от ужаса и стыда, и всю эту отраву извергнем и изблюем, и снова станем самими собою. Не могу не верить, что в России так будет рано или поздно. Слишком уж многое в судьбах мира от этого зависит.
Вот только детей жалко.
1993
Слово о Пушкине
Произнесено на Совместном заседании Совета ученых советов МГУ и Президиума Российской Академии наук, посвященном 275-летию РАН и 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина, 8 июня 1999 года.
Глава из книги «Да ведают потомки православных. Пушкин. Россия. Мы»
«Бывают странные сближения», — написал Пушкин осенью 1830 года в Болдине. В самом деле, бывают: совсем недавно отзвонило Тысячелетие Крещения — события, с которого Россия отсчитывает свое бытие как нации и культуры, и это произошло ровно за десять лет до пушкинской круглой годовщины; и вот наступает новый век, надвигается третье тысячелетие христианской эры — и 200-летие Пушкина вплотную примыкает к этому, уже всемирно-историческому, рубежу, встречая нас на пороге нового зона человеческой истории.
Странные сближения, странный поэт.
Он менее всех мировых гениев переводим на языки и хуже всех постижим в переводе: в иноязычных культурах он берет за душу только тех, кто знает и любит наш язык, нашу культуру, кому Россия близка духовно.
Он, пожалуй, единственный в мире классик, который, будучи отделен многими поколениями, продолжает быть неоспоримым, животрепещущим едва ли не как газета, энергетически активным центром национальной культуры, заставляющим ее то и дело оглядываться на него и соотносить себя с ним.
Из гигантов мировой культуры лишь он один соединяет в себе предельную недоступность с предельной же фамильяризованностью, царственный статус с родственной близостью каждому; столь же объединяет, сколь и разделяет; является объектом как безумной любви (и неутолимой скорби о его гибели), так и зависти, а то и ненависти (о чем говорят некоторые опусы последнего времени).
Он есть неотъемлемая часть нашего национального мифа — в такой мере, в таком опорном качестве, с какими не идет в сравнение ни один из светочей других культур; и сам он есть национальный миф, вмещающий весь космос народного духа со всеми его гранями и оттенками, от религиозных и героических до анекдотических, — и потому он так же не укладывается в определения, как и то, что называют в мире «русской духовностью».
С ним связано явление, аналогов которому опять же нет ни в одной культуре мира и которое называется «мой Пушкин», — и это не требует комментариев.
Он — единственный, может быть, из великих поэтов есть, по счастливому выражению Цветаевой, «поэт с историей»: не воспроизводящий себя на каждом шагу как постоянную величину, а с каждым шагом меняющийся, растущий и как раз поэтому остающийся — точнее, постоянно становящийся — собой. Его текст — будь это отдельное произведение или все творчество в целом — есть сплошной процесс движения во времени: процесс роста и преображения личности, непрестанно творящей себя и могущей «на выходе» из текста оказаться иной, чем была «на входе» (перечитаем хотя бы «Роняет лес багряный свой убор», или «Безумных лет угасшее веселье», или «Памятник»); поистине «русский человек в его развитии», как терминологически точно определил Гоголь.
Он — самый очевидный и незыблемый мирской символ нашего духовного и культурного самостоянья; и в то же время, как никакой другой гений, он разомкнут навстречу всем флагам мировой культуры, что лишь укрепляет его воздушную монолитность.
Он — такой поэт, у которого — едва перешагнувшего порог тридцатилетия, находящегося в расцвете физических сил, обладающего огненным темпераментом и огромной интимной биографией, но наконец женившегося, обвенчавшегося, обретшего очаг, — отсутствует личная любовная лирика; слыхано ли такое?
То ли он, что называется, «другой», то ли, наоборот, воплощает в себе такую полноту явления «поэт», которая в других, даже великих, является лишь частично. Так случайны ли «странные сближения», связанные с ним, в том числе с его годовщиной, и побуждающие, чтобы постигнуть и объяснить явление по имени Пушкин, выйти за пределы литературы, в контекст большого бытия, где совершаются всемирные судьбы, где счет идет на эпохи, века и тысячелетия?
Вообще, жизнь, даже в обозримых нами масштаба, показывает, что Пушкин ничего, в сущности, не пишет «от себя», он лишь записывает то, что есть или имеет быть; что он лишь более других «покорен общему закону», согласно которому главное Слово было в начале, и не надо ничего придумывать — надо слушать; что Слово священно, и играть словом так же опасно, как детям играть со спичками.
«Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию», — писал Пушкин. В конце века и тысячелетия видно, как проиллюстрировала эту формулу наша история: в прямо обратном порядке: вначале иссякала, расшатывалась, ниспровергалась вера; затем уничтожили образ правления и наконец мы — даже и без такой роскоши, как пресловутый поворот рек, — на своей шкуре испытываем изменения климата. Все это — в связи с попытками и результатами сотворить «нового человека» — с новой, разумеется, «физиономией». Итоги этого процесса отчетливо проявились сегодня, на переходе от «развитого социализма» к недоразвитому капитализму; новая «физиономия» обнаружилась как раз сейчас, при том «образе правления», что сложился на основе посткоммунистического позднедиссидентско-номенклатурного синтеза, на почве приобщения России к джунглям «цивилизации и прогресса», где, по словам Пушкина, сказанным полтора века назад о Североамериканских Штатах, «все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort)». Как упирающуюся лошадь, дергая под уздцы и хлеща, нас тянут в этот мир большевики новой, «либеральной» и «демократической», генерации, не желающие (уже в который раз в истории) ни понять, ни хотя бы услышать Пушкиным услышанную истину: «Поймите же, что… история ее (России. — В.Н.) требует другой мысли, другой формулы», чем «мысль» и «формула» Запада. Нам дано воочию убедиться как на собственном, так и на международном опыте, что — при видимой идеологической и политической разности — духовные и методологические основы, глобальные и антропологические цели большевизма и американизма «не столь различны меж собой», как казалось; что и там и там — одна и та же «зелень мертвая ветвей» древа яда — одного во всей вселенной, но хватающего на всех.
С «Анчара» началось, по моему твердому убеждению, явление, называемое «поздний Пушкин». Явление это — не хронологическое, а мировоззренческое. Стихотворение о древе смерти, воплощении и символе мирового зла, — вопреки устоявшемуся мнению, глубоко лирическое, дающее образ не только мирового зла, но и моей причастности к нему. Осмелюсь сказать: поздний Пушкин — писатель эсхатологический. Смолоду столкнувшись в «Борисе Годунове» с проблемой истории, а в «Евгении Онегине» — с проблемой человека, — в последний период своей короткой жизни он вышел к вопросам о конечных судьбах мира и человечества (включая проблему спасения); чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно перечитать «арзрумский» цикл («Кавказ», «Обвал», «Делибаш», «Монастырь на Казбеке»), а также «маленькие трагедии» с их финалом — «Пиром во время чумы», маленькую поэму «Родрик» и большое стихотворение «Странник», «Медного всадника» и «Анджело», сказки о рыбаке и рыбке и о золотом петушке, неоконченную лицейскую годовщину 1836 года («Была пора; наш праздник молодой») и последний лирический цикл: стихи о Распятии, об Иуде, о кладбище, о «грехе алчном», преследующем человека как лев, о молитве преподобного Ефрема Сирина.
Взгляд этого писателя безусловно невесел — но вовсе не мрачен и не беспросветен — уже потому, что не уперт в физическую смерть. Пушкин, особенно зрелый и поздний, вообще не очень верит в смерть, вовсе не верит в абсолютность смерти; сквозь физическую смерть его взгляд устремлен к смыслу и цели человеческой истории и вообще сотворенного бытия. Гений позднего Пушкина — зрелый и умудренный дух, который смотрит прямо в лицо будущему мира, в лицо той истине, что человек — пал и живет с тех пор в мире падшем, в мире анчара — мире не только не бесконечном и не бессмертном, как уверен гуманистический прогрессизм, но чреватом гибелью — и неизбежной, и не столь уж далекой: «Наш город пламени и ветрам обречен, Он в угли и золу вдруг будет обращен». Но сквозь эту смерть интуиция гения прозревает заданность человеку бессмертия, возможность «нового неба и новой земли» (Откр.21,1), которые нужно заслужить:
Вращается весь мир вкруг человека —
Ужель один недвижим будет он?
(«Была пора; наш праздник молодой»)
Это взгляд, вовсе не отнимающий у Пушкина его «веселого имени», а просто — трезвый и ответственный, понуждающий, что называется, о душе подумать. Это требование вспомнить о высоком предназначении человека, которое на каждом шагу забывается, искажается, подавляется «неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort)», ставшими дороже неба и земли; подавляется силами, что непрерывно воспроизводят и провоцируют все низшее в человеке. Это призыв опомниться — хотя бы сейчас, на пороге, когда новое небо и новая земля — уже «близко, при дверех» (Мф.24,33), — опомниться и обратиться от одуряющей «недвижности» материального прогресса к духовному развитию.
Думал ли о чем подобном Гоголь, когда назвал Пушкина «русским человеком в его развитии в каком он явится, может быть, через двести лет»? Точно ли удалось ему выразить посетившее его пророческое наитие, в котором Пушкин и судьбы России связаны так, как не связан с судьбами своей страны ни один из иных мировых гениев? Во всяком случае, срок угадан верно: именно ко времени 200-летия Пушкина Россия встала перед неумолимой необходимостью выбрать верный путь. Ведь она, выйдя из почти вековой уже смуты национально-государственной, «домашней», прямиком вошла в поле смуты общемировой, имеющей отчетливо эсхатологический характер.
Современная история показывает, что символизированное в анчаре мировое зло уже не мыслится в качестве враждебного жизни начала, не является объектом, с которым надо бороться, — оно стало субъектом и вождем «прогресса». Все силы мирового зла направлены на то, чтобы осчастливить падшего человека в падшем мире, потакая всем его прихотям, переделать его окончательно из существа духовного в существо экономическое, вытеснить божественное в нем природным (в пределе — животным), творческое начало подчинить потребительской похоти, идеалы заменить интересами, просвещение и культуру — информацией и цивилизацией. Под знаменем рекламы, под девизом «изменим жизнь к лучшему» совершается унижение человечества, наступает стихия, говоря по-пушкински, «ничтожества»: ничто, из которого Бог сотворил бытие, стремится взять реванш, вернув Творение к состоянию небытия.
Разумеется, этот конь бледный шествует не без препятствий — и во всей христианской ойкумене наибольшее духовное сопротивление издавна сосредоточено в России. Это не потому, чтобы мы были в массе своей лучше других людей, совсем нет, — а просто в силу духовной традиции, связанной с православным исповеданием, которое породило Россию как нацию и культуру и определило ее систему ценностей.
Размышляя на эту тему, я недавно предложил типологию христианских культур, а именно — характеристики двух основных типов: «рождественского» (на Западе главный праздник — Рождество) и «пасхального» (в православном мире «праздников праздник» — Пасха) [см. статью «Удерживающий теперь» в моей книге «Пушкин. Русская картина мира». — В.Н.]. Речь идет о том, какой момент отношений человека с Богом переживается там и там как наиболее важный, строящий миросозерцательную систему, практическую ценностную иерархию, стало быть — культуру во всем объеме понятия.
В «рождественской» культуре такой момент — Боговоплощение, когда Бог, родившись от Девы, уподобился мне, человеку. В «пасхальной» — призыв ко мне, человеку, уподобиться Богу — призыв, осуществленный в крестной жертве, а затем Воскресении, и сформулированный в словах: возьми свой крест и иди за Мной.
Таким образом, один тип культуры ориентирован на человека, каков он есть сейчас, в его наличном состоянии и настоящих условиях; другой — на человека, каков он Богом замышлен, на его духовную перспективу, в конечном счете — на идеал человека, соотносимый со Христом, и притом в любых условиях.
Отсюда вытекает ряд важных различий.
В «рождественской» культуре главная гражданская ценность — права человека, категория юридическая, обеспечиваемая в интересах личности извне самой личности. В «пасхальной» это — обязанности человека (таково, кстати, название книги, получившей высочайшую оценку в пушкинской рецензии) — обязанности, основанные на Христовых заповедях: ценность внутренняя, духовно-нравственная, обеспечиваемая самим человеком.
В сфере общекультурной «рождественский» тип устремлен к успехам цивилизации, то есть сферы возделывания внешних условий и иных удобств жизни; «пасхальный» же тяготеет к собственно культуре как возделыванию человеческой души в свете идеала, то есть по образу и подобию Бога.
В сфере художественной, в частности литературы, основной предмет внимания «рождественской» культуры — судьба человека; «пасхальной» же — поведение человека и состояние его совести (к слову — ключевые моменты тематики и художественной структуры пушкинских произведений).
Конечно, абсолютных, «чистых» воплощений того или иного типа культуры не бывает: любая культура вообще есть, собственно, то или иное сочетание «рождественского» и «пасхального» начал; разумеется также, что если доминантой русской культуры генетически и типологически является начало «пасхальное» — в отличие от культуры Запада, — то это не значит, предположим, будто у нас заповеди исполняются, а «у них» нет, что у нас одна сплошная культура, а «у них» одна цивилизация, и пр. и пр.; люди везде по-своему разны и по-своему одинаковы, и душа человеческая, как говорит Тертуллиан, по природе христианка — только каждая тоже по-своему. Речь идет лишь о коренных мировоззренческих предпочтениях: «рождественский» тип основан на главенстве интереса — так сказать, на «отсчете снизу», от наличных условий, — в «пасхальной» же «отсчет» идет «сверху», от идеала.
Последний, то есть наш, случай — безусловно труднее и гораздо менее успешен на практике; иными словами, мы сами много хуже нашей ценностной системы, тогда как западные люди, надо думать, во многом лучше своей. Но при всех наших винах, грехах, безобразиях и бесчинствах, при всем извращении, какому, при нашем попустительстве, большевизм подверг российский духовный генотип — плоды чего мы пожинаем сегодня, — при всем этом сам по себе отсчет от идеала есть наш — и всей христианской культуры в целом — краеугольный камень, и в этом смысле высшая из человеческих ценностей (о чем — пушкинское стихотворение «Герой»): поистине камень преткновения, мешающий «низким истинам» корыстного интереса прибрать к рукам святая святых — область человечности человека. Стоит упразднить эту высокую, «пасхальную» точку отсчета, столкнуть камень — и в бытии произойдет обвал.
Этому и призвана противостоять Россия.
Не потому, повторяю, чтобы мы были лучше других, а потому, что для России наличие названного отсчета от идеала есть, волею истории, просто-напросто условие существования, вопрос жизни и смерти.
Последнее не требует даже доказательств. Свойственный нам очевидный разрыв между традиционной скромностью материальных запросов и высокими, порой до безрассудного максимализма, духовными устремлениями — он и обусловил ту пропасть между нами и так называемым цивилизованным миром, которая составляет и несчастие России, и ее надежду. Отсчет от идеала есть родовая черта русской классики XIX века, унаследованная ею от культуры Святой Руси при посредстве Пушкина. Она, эта литература, созданная Пушкиным, спасла Россию в смуте XX века, она воспитала народ, победивший во Второй мировой войне, но не возгордившийся, вынесший ГУЛАГ, но не озлобившийся. Она, во главе с Пушкиным, спасла и другую Россию, зарубежную, эмигрантскую, помогла изгнанникам не только выжить и уцелеть духовно, но и сообщить могучие импульсы мировой культуре, умножить ее сокровища. Она, эта литература, сыграла фундаментальную роль в формировании нашей системы образования, которая, при всех своих недостатках, была все же лучшей в мире; чтению русской литературы, писанию школьных сочинений, широкому гуманитарному фундаменту образования мы обязаны явлением, которое в мире называется «русскими мозгами»; природа этого явления — не этническая, не биологическая, а методологическая: для русской мысли характерна целостность подхода, высокий уровень обзора, она не эмпирична, а телеологична, устремлена к высокому смыслу, она не ползает, а парит, она видит иначе.
Пушкин — самая фундаментальная область нашей гуманитарной культуры. Все изложенные выше мысли основаны не на опыте культуролога, богослова, политолога — такого опыта у меня нет; они возникли исключительно из изучения Пушкина, в частности — его главной макроколлизии, определяющей, по существу, все пушкинские сюжеты, а во многом и пушкинскую художественную методологию. Суть этой универсальной коллизии — отношения человека (в данном случае — героя Пушкина), каков он есть в наличии, в реальной практике, в поведении, — с тем, каким он мог бы быть, то есть с тем, как прекрасно он замышлен Богом. В Борисе, Бароне, Сальери, в других преступных, падших, грешных героях у Пушкина просвечивает, как бы сквозь тусклое стекло, возможность величия и красоты, просвечивает образ Божий — та высшая реальность, что сияет в таких идеальных и бесконечно живых героях, как Татьяна и Петруша Гринев. Эта коллизия — отношения человека с собою идеальным, с Божьим замыслом в себе, отношения, как правило, трагические, — коллизия, универсальная по характеру, онтологическая по масштабу, есть неотъемлемое, специфическое условие пушкинского творчества, особенно зрелого и позднего, его среда и воздух. В иной масштаб Пушкин не вмещается, а в таком — как у себя дома; а сверх того — и онтологическое делает близким, и универсальное — твоим.
Подобный масштаб явления Пушкина не есть производная его собственных личных качеств, скорее наоборот: и масштаб этот, и иные качества феномена Пушкина обусловлены функцией России в мире, ее провиденциальным заданием — сохранять высокую точку отсчета ценностей и тем противостоять грозящему возрастанию энтропии. Такое задание должно было быть воплощено в слове (ибо слово в России есть вещь первостепенно важная, реальность сакральная) — и притом в слове, которое пригодно для мирского, так сказать гражданского, общекультурного применения. Оно, это задание, и воплотилось в Пушкине. Целью «революции Петра» (пушкинское выражение) было, сверх практических преобразований, создать «нового человека», переделать нацию на «рождественский» лад (конкретно — протестантский), создать нацию прагматиков. Явление Пушкина было ответом нации на это посягательство: впитав все конструктивное, что дали петровские реформы, Пушкин наследовал традициям допетровской культуры, культуры Святой Руси с ее идеальными тяготениями, с ее неотмирной устремленностью. Явление Пушкина соединило и возродило то, что Петр разъединил и разрушил, оно восстановило духовную родословную русской культуры и дало ей новое начало; оно способствовало тому, чтобы Россия не заплатила за материальную силу своею душой, чтобы она оставалась Россией и продолжала исполнять свое задание.
Явление Пушкина подтверждает, что слово стоит на высших ступенях иерархии ценностей. «Бессловесный» по-церковнославянски значит бездуховный, а «русская духовность» нашла высшее выражение в русской словесности, возглавляемой Пушкиным. «В начале было Слово» (Ин.1,1)- только потом был создан мир и сотворен человек. Судьбы России не менее, если не более, чем с проблемами экономики или политики, связаны с судьбами русского слова, русской речи, русской словесности и культуры. Та область гуманитарной культуры, которая называется филологией, сегодня есть область стратегическая с точки зрения нашего национального существования. Филология обычно трактуется в чисто словесническом смысле: греческое logos толкуется как латинское verbum; слово понимается лишь как единица речи. Но в нашу эпоху, когда самая актуальная проблема есть проблема глобальная: сохранит ли человек свои родовые свойства как существа вертикального, то есть духовного, в эту эсхатологическую эпоху, — пора вспомнить изначальный и полный смысл слова логос — и соответственно истолковать высокое назначение занятий филологией.
Может быть, никогда еще в истории общее бытие так не зависело от сознания, материя — от духа. Явленный в Пушкине исторический опыт России столь же неукоснительно ведет к пониманию этого, сколь надежно помогает нам понять самих себя, уяснить наш исторический жребий, определить нашу национальную стратегию — чтобы не исчезнуть вместе с ношей нашего тяжкого и спасительного мирового задания. Нынешняя эпоха похожа на петровскую — похожа с большим, опасным, трагифарсовым превышением; поэтому сегодня, «чрез двести лет» (Гоголь), Пушкин России нужен, по слову другого поэта, «не ради славы — ради жизни на земле».
1999
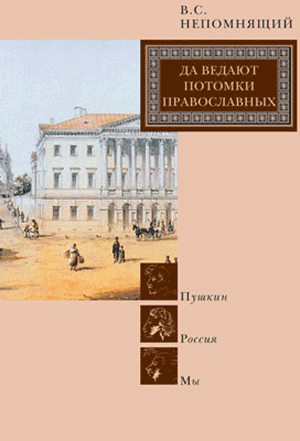
Комментировать