- «Для убеления к последнему времени...» (Дан.11:35)
- По материалам следственного дела № 16527
- Часть I. 1937 год — дело церковников
- Часть II. 1954 год — дело следователей
- Детство и юные годы отца Григория
- Спас Нерукотворный
- Он и она
- Он
- Она
- Голгофа. Годы заточения...
- «Вера твоя спасла тебя...» (Мк.10:52)
- В шахте
- «Живый в помощи Вышнего»... Витек
- «У Меня отмщение, Я воздам...» (Евр.10:30). Гроза в бараке
- В бараке смертников
- Малиновая поляна
- Таежные дары
- Отец Алексий
- Встреча
- Отец Григорий
- «Силою Честнаго и Животворящего Креста Твоего...»
- Два пастыря
- Паломничество
- Хортица
- В Нижнем Новгороде
- В Кургане
- Молитва только на нынешний день
- Молитва, читаемая вечером
- Молитва Святому Духу
- «Слава Тебе, явившему мне красоту вселенной...»
- «Кто Творец мира: Бог или природа?»
- Энциклопедический словарь Флорентия Павленко
- Праздник Николы «зимнего»
- «Коленька нашелся...»
- «Услышал Господь моление мое...» (Пс. 6)
- Из воспоминаний духовных чад отца Григория
- «Гонимы, но не оставлены...»
- Матушка Нина
- Немного о семье...
- Первые уроки
- «На Пихтовке»
- Снова в Нижнем Тагиле
- Под покровом святителя Николая
- «Верь, мы обязательно встретимся и будем жить долго-долго…»
- «На руках вóзьмут тя...» (Пс. 90)
- Трудный выбор
- Пятно
- «Жена добродетельная»
- Корни наши — опора наша
- О семье Пономаревых
- О семье Увицких
- Эвакуация в Иркутск. Вилы нечистого...
- Тифозная шуба
- Вишерский ГУЛАГ и Беломорканал
- Православные матушки
- Царский Крест
- Тени прошлого из дома Ипатьева
- История Царского Креста
- «…Утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам…» (Лк.10:21)
- Молитва Царскому Кресту-мощевику
- Отец Григорий — богослов-апологет, исследователь в области литературы, искусства и науки
- Годы учебы отца Григория в Санкт-Петербургской Духовной Академии
- Работа батюшки в публичной библиотеке Санкт-Петербурга
- «За веру против неверия». Веруют ли ученые?
- Праведный Иоанн Кронштадтский и праведный Григорий Пономарев
- Отец Григорий — о религиозных воззрениях Пушкина
- Критика отцом Григорием учения Дарвина «О происхождении видов»
- Последние годы
- Годы скитаний
- Операция
- Опасный визит
- Нападение цыган
- Наводнение. Островок спасения
- Трагедия на трассе
- И вновь испытание
- Пасхальная ночь
- «Продлить еще на 40 уст...»
- На пороге в жизнь иную...
- Эпилог
- Приложение 1. Письма к Дочери
- Приложение 2. Письма к духовному чаду
- Духовные наставления
- Приложение 3. Документы из семейного архива
- Приложение 4. Из архива протоиерея Григория Пономарева
«Для убеления к последнему времени…» (Дан.11:35)
Буди ревнитель право живущим и деяния их напиши на сердце своем, ибо тайну цареву прилично сохранять, дела же Божии полезно проповедовать.
Святитель Василий Великий.

Дорогие о Господе благочестивые читатели!
Перед вами новое издание книги «Во Имя Твое…», расширенное и значительно дополненное.
Предыдущее издание книги, посвященной жизни и служению протоиерея Григория Пономарева и его супруги, было с большим воодушевлением принято православной общественностью. В апреле 2004 года авторы книги «Во Имя Твое…» Ольга Пономарева и Елена Кибирева по представлению Курганской и Шадринской епархии получили высокие награды от Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. «Во внимание к трудам и празднику Святой Пасхи» они были награждены медалями святого преподобного Сергия Радонежского I степени.
По мере накопления новых архивных данных о «красном терроре», который развернула советская власть против духовенства, в том числе и на Урале, были написаны новые главы этой книги «1934 год. Дело церковников» и «1957 год. Дело следователей», раскрывающие трагическую судьбу церковнослужителей в 30-е годы прошлого столетия. В книге впервые публикуются обвинительные заключения и протоколы допросов отца Григория в 1937-м и 1954-м годах, а также протоколы допросов следователей, «стряпавших» дела церковнослужителей. Свидетельства архивных документов позволяют более полно осветить период, предшествующий аресту, и события самого ареста невьянских православных священнослужителей. С документальной точностью в книге описана сатанинская «кухня» по фабрикованию лживых обвинений следователей НКВД.
Новые главы помогут боголюбивому читателю ясно представить и глубоко осознать, с каким христианским достоинством перенесли пастыри Церкви выпавшие им испытания, о которых Господь предупреждал словами Священного Писания: «Опустошат и расхитят имущество их, и из домов их изгонят их» (3 Езд.16:73).
На примере протоиерея Григория Пономарева мы убеждаемся, что арестованные священнослужители отчетливо понимали всю абсурдность возводимых на них обвинений и невозможность добиться от следователей хотя бы относительной объективности. Авторы книги Ольга Григорьевна Пономарева и Елена Александровна Кибирева приводят очень важные документы об этом исповедническом отрезке большого пути отца Григория.
Весной 2006 года в Екатеринбургской епархии причислен к лику местночтимых новомучеников и исповедников Российских протоиерей Сергий Увицкий (отец Нины Сергеевны Пономаревой), репрессированный в 1930 году по обвинению в проведении антисоветской пропаганды, погибший 12 марта 1932 года в концлагерях Беломорканала. Так словами пророка Даниила сбылось предсказание Божие: «Пострадают некоторые и из разумных для испытания их, очищения и для убеления к последнему времени» (Дан.11:35).
В настоящее время в Курганской и Шадринской епархии ведется кропотливая работа по сбору материалов для прославления протоиерея Григория Александровича Пономарева (1914-1977 гг) как исповедника веры.
В новом издании книги «Во Имя Твое…» также более полно раскрыто время обучения отца Григория в ленинградских духовных школах и его напряженная интеллектуально-духовная работа в библиотеках города на Неве. Автор книги Елена Кибирева специально работала в библиотеке санкт-петербургских Духовных Семинарии и Академии, где по ходатайству Курганского епархиального управления сумела ознакомиться с личным делом студента заочного отделения Семинарии и Академии отца Григория Пономарева. Вниманию читателей предстанут также новые воспоминания Ольги Григорьевны Пономаревой, автора книги, о своих родителях и родных, а также о священнослужителях, с которыми отец Григорий служил в храмах уральской земли.
Надеюсь и верю, что внимательное чтение книги «Во Имя Твое…», вышедшей во втором издании под новым названием «Исповедник веры протоиерей Григорий Пономарев 1914-1997 гг. Жизнь. Поучения. Труды», принесет немалую пользу всем, кто стремится постичь основы духовной жизни, узнать историю родной страны и историю Русской Православной Церкви.
Божие благословение да пребудет с авторами и читателями этой замечательной книги!
Светильник благочестия (из предисловия к первому изданию)
Отец Григорий и матушка Нина прожили вместе 61 год и 2 дня и почили во Господе в один день, 25 октября 1997 года, явив своей смертью пример истинно христианской кончины.
Много есть на Руси «неугасаемых лампад», в которых вместо елея день и ночь горит любовь пастырей Христовых к Богу и ближним. Будучи однажды зажжены, они проносят полученную от Бога благодать через всю жизнь в окружении враждебного им мира в больших и шумных городах. Их можно назвать живой и благоугодной жертвой Богу.
Таким «светильником благочестия» явился протоиерей Григорий Пономарев, всею своею жизнью исполнявший заповеди Христовы и лучами своей любви осветивший зауральскую землю.
Отец Григорий послужил Богу и Православной Церкви более 60-ти лет: в юности алтарником и псаломщиком, позднее — священником. Отец Григорий стал исповедником, пройдя сталинские тюрьмы и лагеря. Шестнадцать лет провел он на Колыме, но сохранил в себе веру в Господа, любовь к Нему и бесконечную надежду на Его всесильную помощь и защиту. Всю свою жизнь отец Григорий посвятил служению Господу, прославлению Его Святого Имени, молитвенно помогая страждущим людям. Его любовь к Богу выражалась продолжительными богослужениями, непрестанной молитвой, ночными бдениями, внимательным изучением Священного Писания и святоотеческих творений и многими другими, одному лишь Господу известными подвигами. Свою любовь к ближним отец Григорий проявлял в делах духовного милосердия, указании народу воли Божией, объяснении духовным чадам истинной цели жизни христианина. Он обращал грешников на путь покаяния и исправления; укреплял малодушных в вере, утешал скорбящих спасительными советами.
Отец Григорий оставил нам неоценимое духовное наследие. Венцом и благодатным плодом добродетельной, богоугодной жизни отца Григория явились его замечательные советы духовным чадам: «Духовный дневник», «Сто вопросов и сто ответов на запросы христианской души», «Цветник духовный», «Правила христианской жизни», «Разъяснения: о Боге, о грехе, о диаволе», «Гуманизм христианской морали» и многие другие не напечатанные пока книги. Все они составлены на основе святоотеческих учений и дают исчерпывающие ответы на многочисленные вопросы, диктуемые христианину современной жизнью.
Читая и вникая в замечательные поучения отца Григория, осознаешь, что являешься причастным к великой тайне, обретая этим настоящее сокровище. Оттого что среди нас, грешных, жил человек такой высокой духовной жизни, каким являлся отец Григорий, становишься поистине счастливым и духовно богатым человеком.
Замечательные поучения отца Григория выверены всей его жизнью, прожитой в строгом соответствии с Христовыми заповедями. Они призваны помочь каждому человеку обрести правильные ориентиры на пути к спасению в современной, оскудевшей духоносными наставниками жизни.
Протоиерей Григорий Пономарев — истинный исповедник православной веры.
Благодать и милость Божия да пребудет на всех любящих и помнящих нашего замечательного пастыря и внимающих его назиданиям, дабы и нам войти в ту радость и свет, где он пребывает, молясь о нас, своих духовных чадах. Аминь.
Епископ МИХАИЛ
«В глубине сердца, любящего Христа…»
Уважаемые читатели!
Перед вами — книга «Исповедник веры…», посвященная жизни и трудам известного в Зауралье митрофорного протоиерея Григория Пономарева (1914-1997 гг.). Настоящее издание, в основу которого положена книга «Во Имя Твое…», дополнено новыми архивными данными, собранными авторами Ольгой Григорьевной Пономаревой и Еленой Александровной Кибиревой за последние три года.
Отец Григорий был одним из представителей великого сонма исповедников веры ХХ века. В условиях жесточайшего гнета со стороны атеистической власти его исследовательская богословская мысль находила возможным вести полемику с официальной доктриной советской власти. Многие из нас помнят время, когда открыто проповедовать за пределами храма никто бы не позволил и когда многие православные верующие, а также ищущие Истину люди находились в состоянии скрытой оппозиции официальному безбожию. Ответственность священника за души пасомых требовательно призывала в те тревожные годы искать новые формы апологетической деятельности. Совсем недавно стало известно, какое богатое духовное наследие оставил нам отец Григорий. В центре его исследовательского внимания — душа человека, томящаяся от разделенности с Богом, или, наоборот, душа, просвещенная Христовым светом. Опираясь на широкие свидетельства, собранные на протяжении всей жизни, протоиерей Григорий Пономарев спокойно и убедительно раскрывает в своих трудах фанатическую суть безбожия. Мастерски использует он при этом тонкую иронию, сравнительный анализ и исторические свидетельства, которые по понятным причинам замалчивались официальной пропагандой.
Сам отец Григорий, пройдя испытания в огненном горниле, мог бы многое написать от себя о ценности человеческой жизни. Но он обращается к культурологическому пласту: его интересуют мнения и размышления богословов, философов, естествоиспытателей, писателей, музыкантов, художников… Даже беглый взгляд на список переработанных и осмысленных отцом Григорием источников позволяет сделать вывод о напряженной внутренней интеллектуально-духовной работе священника.
Следует отметить, что всей своей исследовательской деятельностью протоиерей Григорий Пономарев свидетельствует: истинная, глубокая вера не только может, но и должна опираться на гуманитарную (в самом широком смысле) образованность личности. «Исследуйте Писания, — говорит Господь, — ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Ин.5:39).
Слово Божие учит нас: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности» (2 Тим.3:16). Высочайший авторитет для отца Григория имеют духовные записки аскетов и святых отцов — людей, которые на своем личном опыте испытали жизнь в Духе Святом. А это одна из проблем нашего времени: как соединить со своей личной жизнью знания о Боге, ставшие доступными современному человеку? Естественно, что Церковь Христова призывает нас к постоянному практическому применению богословских знаний, а не к отвлеченным размышлениям по причинам «житейских случаев». Московский митрополит Платон (Левшин), один из образованнейших людей своего времени, писал, что истина, если она только произносится устами или только выражена словами, еще не есть то, что она в себе имеет наилучшего… Мало, чтобы она сияла только снаружи. Знания основ духовной жизни не должны быть похожими на книжную ученость евангельских фарисеев и книжников.
Несомненно и то, что отец Григорий сам руководствовался словами святителя Игнатия Брянчанинова: «Чтение святых отцов должно быть тщательное, внимательное и постоянное…», — и к этому духовному труду призывал батюшка своих духовных чад. Что же побуждало его к такой напряженной деятельности? Воспоминание о годах заключения или четкое осознание мимолетности и хрупкости человеческой жизни? Или желание помочь современнику услышать голос разума, сопричастного евангельским истинам? Бог весть… Вероятно, были и другие причины. Но сегодня мы по милости Божией имеем возможность прикоснуться к богатейшему духовному наследию — наследию, выстраданному и выношенному в самой глубине сердца, любящего Христа.
Протоиерей Аристарх Егошин
От автора
Сегодня я открываю дверь в прошлое — тяжелую, непробиваемую, недоступную для нас почти полвека. За ней материалы уголовного дела № 16527 — дела Пономарева Григория Александровича и еще десяти обвиняемых. По рассмотрению и приговору этого дела были искалечены судьбы одиннадцати человек, служивших и трудившихся в 1937-м году в храмах города Невьянска, поселков Верх-Нейвинск и Шурала Невьянского района Свердловской области. Искалечены были и жизни многих других людей, тесно связанных с осужденными семейными узами, совместным трудом во славу Христовой Церкви и просто глубокой человеческой дружбой.

Вот они — сухие строки допросов, доносов, описей, протоколов, жалоб, справок, «заданий-поручений» и прочих судебных документов, за которыми — жизнь и страдания многих людей, и в том числе судьба моей семьи — семьи Пономаревых: их боль, их кровоточащие сердца.
Архив НКВД — это страшное место. Тут ложь и правда сплетены, спаяны в такие тугие узлы, что нам никогда не распутать их в деталях. Мы совершенно не знаем изнаночной, тайной стороны в работе Комиссариата внутренних дел. Не знаем, как «создавались дела», не знаем механизма ложных доносов, ложных показаний, ложных признаний и т. д. Государственная машина тех лет все разрешала, все прикрывала и дозволяла для борьбы с инакомыслящими. Основная задача была оболгать, залепить грязью имена «врагов народа», в частности, священнослужителей, чтобы на десятки лет вперед (а желательно — никогда) их было не отмыть.
Но, коли разворошила этот гнойник, надо проявить душевную твердость и выдержать все. Господи, дай нам душевных сил и разума. Благослови наши труды!
Помогает только молитва. Приходя в государственный областной архив в Екатеринбурге знакомиться с материалами дела, каждый раз захожу в часовню святой великомученицы Екатерины. Читаю молитвы, ставлю свечи. Лишь после этого вхожу в здание архива — как на пытку. Тяжело. Невыносимо тяжело… Паутина лжи оплетает, опутывает каждый следственный документ, захлестывает тебя с головой. Ты почти тонешь в мертвяще-маслянистых нагромождениях неправды — где взять силы, чтобы прочитать все эти вымышленные, сфальсифицированные, «состряпанные» протоколы допросов — оговоры и шальные выдумки следователей УНКВД, ведущих дело священнослужителей Невьянска тогда, в 1937-м? Читаешь все подряд и, лишь добравшись до документов 1954 года, убеждаешься, что все осужденные по этому делу реабилитированы, а их мучители-следователи предстали перед судом и были признаны виновными в грубом нарушении государственной законности.
Обвинители приговорены к различным мерам наказания. Правда Божия восторжествовала, как и сказано в Библии ветхозаветным пророком: «И страждущие более и более будут радоваться о Господе, потому что… будут истреблены все поборники неправды, которые запутывают человека в словах, и… расставляют сети, и отталкивают правого» (Ис.29:19-21).
Часть осужденных по делу № 16527 была расстреляна еще в 1937 году. Кто-то, пройдя все пытки и ужасы ссылки, вернулся домой и еще долго служил во славу Божию в разных храмах страны. Служил тихо и жил молча, почти никогда не рассказывая о страданиях и угрозах, перенесенных во время ареста и на допросах. Претерпевшие молчали о многом. Однако тем, кто помнит о страшных репрессиях того времени и кого это горе коснулось непосредственно, очень важно знать, через что прошли и что претерпели их родные и близкие по духу люди.
Ольга Григорьевна Пономарева
Смысл жизни христианской — стяжание Духа Божия, а это достигается при всяком деле, творимом во Имя Господа нашего Иисуса Христа.
Преподобный Серафим Саровский
Буду делать это ради Господа нашего Иисуса Христа — для стяжания Духа Божия.
Молитва перед началом каждого дела
По материалам следственного дела № 16527
Часть I. 1937 год — дело церковников
Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? За Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.
Рим.8:35-37
Политические репрессии 1937 года. Приказ № 00447
30 июля 1937 года Народный комиссариат внутренних дел СССР издал оперативный приказ № 00447, согласно которому по всей стране, началась еще одна, более жестокая, волна массовых репрессий против активных антисоветских и уголовных элементов.
Во исполнение злодейского приказа, в НКВД было сфабриковано дело о существовании в Москве Объединенного церковно-политического центра, который якобы возглавили митрополиты Сергий (Старогородцев) и Алексий (Симанский). В Свердловской епархии представителями Центра были, по определению оперативников: от григорьевской ориентации — митрополит Петр (Холмогорцев); от сергиевской ориентации — архиепископ Макарий (Звездов), а после его ареста — архиепископ Петр (Савельев).
Характерна докладная записка НКВД, «отражающая» деятельность Уральского повстанческого округа в 1937 году: «По директиве Объединенного церковно-политического центра Уральская контрреволюционная организация церковников развила активную террористическую, диверсионную, шпионскую и повстанческую деятельность. Завербованный Холмогорцевым церковник Фролов привлек в организацию железнодорожников ст. Уктус, с помощью которых организовал несколько крушений поездов и подготовлял диверсии на момент войны. Другой участник организации церковник Мельников подготовлял взрыв одного из тоннелей на магистрали Свердловск — Казань. Церковник Мухин в диверсионных целях пытался приобрести взрыввещества. Священнику Петрову Савельев поручил создать террористическую группу для совершения теракта над Сталиным…
Руководством контрреволюционной организации церковников на Урале был разработан подробный план совершения диверсий в случае военного столкновения СССР с капиталистическими державами…» (ГААОСО, ф. 1, оп. 1, д. 43, л. 55-58).
«Руководители церковного подполья, — читаем далее в записке, — были тесно связаны с иностранными разведками и проводили активную шпионско-диверсионную деятельность. Холмогорцев являлся агентом германской, польской и финской разведок. Трубин (митрополит обновленческой церкви — ред.) был завербован японцами и поляками, Савельев — немцами».
С целью разоблачения участников так называемой контрреволюционной повстанческой организации на Урале следователи УНКВД создавали вымышленные группы, якобы связанные с повстанческим штабом.
Волна новых массовых репрессий против духовенства и наиболее активных членов Церковных советов захлестнула Уральскую землю. В результате в 1937 году в Свердловской епархии было репрессировано и «семь архиереев, около 154 священнослужителей (91 из них расстреляны), и не менее 500 мирян»[1].
Следствия по сфальсифицированным делам, как показал на суде начальник следственной группы УНКВД Воскресенский, проводились провокационными методами. По словам другого оперуполномоченного УНКВД по Свердловской области, Солоновича, «агентурных или каких-либо других материалов, которые бы подтверждали контрреволюционную деятельность арестованных лиц, в большинстве случаев не было… Основанием для ареста лиц, на которых не имелось компрометирующих материалов, являлось социально-чуждое происхождение… Повседневное проведение массовых операций и поступление в тюрьму каждую ночь вновь арестованных не представляло возможности при имеющемся составе следователей развернуть обстоятельное расследование в отношении каждого арестованного… Решающую роль играла камерная обработка…» (ГААОСО, ф. 1, оп. 2, д. 23140, л. 36-38).
Вот еще один документ из государственного архива УФСБ — показания начальника тюрьмы УНКВД по Свердловской области Талашманова:
«После оформления арестованные разводились по кабинетам следователей, где им предлагалось писать заявления о причастности к контрреволюционной организации. Заявления диктовались самим следователем или руководителем группы… После подписания заявления арестованные направлялись в камеру, а не подписавшие оставались на допросе или же отправлялись в камеру непризнавшихся. Из подписавших заявления, то есть признавшихся, более активных арестованных создавался “актив”, который садили в камеру непризнавшихся… После обработки непризнавшиеся снова вызывались на допрос… После подписания их отправляли в камеру. Упорных оставляли в коридоре стоять до утра… С применением этого метода почти все без исключения подписывали протокол. Для “актива” каждый день давалось разрешение на свидание и передачу…» (ГААОСО, ф. 1, оп. 2, д. 23140, л. 165).
После 1938 года в Свердловской епархии не осталось ни одного епископа. Большинство духовенства было репрессировано, церкви разгромлены.
К началу Великой Отечественной войны в Свердловской области осталось всего 18 действующих храмов. В соседних областях к этому времени ситуация складывалась более трагично: в Пермской из 782 имевшихся церквей действовали всего шесть; в Челябинской при 270 закрытых храмах работал один[2]; в Курганской не действовала ни одна церковь.
Оперативный приказ НКВД за № 00447 вступил в силу 30 июля 1937 года, а уже через несколько дней волна массовых арестов духовенства («лиц социально чуждого происхождения») докатилась до Невьянского благочинного округа.
Одними из первых были арестованы священники Вознесенской кладбищенской церкви Григорий Иванович Лобанов и Леонид Михайлович Коровин…
Арест отца Григория
В мокром палисаднике хозяйничала осень. Холодными ночами и утренними заморозками она подбирала забытые ею разноцветные опавшие листья, сворачивая их в серые, скучные трубочки, гасила последние живые краски в пожухлой траве, постукивала ночами оторвавшимся на крыше железом, жалобно подпевала у печной заслонки, словно предупреждая: «Это только начало…»
Конец лета и осень 1937 года для молодой семьи Пономаревых выдались особенно напряженными. Сердце матушки Нины больно сжималось от тягостных предчувствий. События чередовались с такой быстротой, что трудно было реагировать на них адекватно. Радость и горе смешались вместе. С одной стороны — горечь по поводу повальных арестов близких людей, а с другой — рукоположение псаломщика Григория Пономарева в сан диакона. Ко всему пережитому добавилась новая радость: у молодой четы родилась дочка — их маленькая Леля. Ольга — семейное имя и Увицких, и Пономаревых, и теперь в роду появилась еще одна Ольга.
Волна арестов нарастала повсеместно. Вот уже черное крыло беды накрыло и Вознесенскую церковь в Невьянске. Арестовали и куда-то увели настоятеля храма, благочинного невьянских церквей протоиерея Григория Ивановича Лобанова и священника Леонида Михайловича Коровина. Увели Николая Ивановича Иванова — протодиакона этой же церкви, а вскоре пришли за казначеем храма Ведуновым Иваном Ивановичем и секретарем Церковного совета Уткиной Анной Васильевной.
Все понимали, что эти аресты не последние.
Недоверие и страх грозной тучей нависли над верующими. Члены Церковного совета и прихожане Вознесенского храма боялись поднять друг на друга глаза, боялись сказать лишнее слово…
И вот 30 октября 1937 года два оперуполномоченных УНКВД Кировского района вместе с понятыми пришли в дом диакона Вознесенского храма Григория Пономарева…
Грубые окрики, угрозы, требование заполнить анкету, обыск, опись изъятия…
— Одевайся… Пойдешь с нами.
— В чем меня обвиняют?
— Узнаешь, когда надо, — оскалился уполномоченный. — Разговорился тут! Ну, живо собирайся… — и с нахальной улыбочкой добавил: — Распишись, что изъято при обыске. У нас власть справедливая…
Григорию протянули протокол обыска.
Текст протокола сохранился в папках государственного областного архива, в деле № 16527.
Материалы государственного архива
Из протокола обыска
Пономарева Григория Александровича
1937 г., 30 октября
Сотрудники Кировоградского районного отделения: Константинов, Петров, Кохряпов; понятые: Столяров Аркадий Михайлович
произвели обыск в квартире Пономарева Г. А.
При обыске обнаружено:
1) паспорт;
2) военный билет;
3) деньги в сумме 100 рублей;
4) часы карманные без номера;
5) часы карманные марки «Анкор»(неисправные);
6) фотоаппарат «Факор»;
7) две коробки фотопластинок (72 шт.);
8) разной переписки на одиннадцати листах;
9) тетради 9 штук.
Последнее, что видел и слышал отец Григорий, выходя из дома, — белое как мел лицо жены и… детский плач из бельевой корзины, служившей кроваткой их малышке.
В глазах Ниночки застыло страдание.
Все… Дверь в родной дом захлопнулась для него на многие годы, и он пока еще не знает, как долго будет лишен его тепла и уюта; не знает и того, сколько страданий, ужасов и потерь придется ему претерпеть в этом новом для него жизненном испытании.
Ведь ему было всего лишь 23 года!
А пока он шагает под конвоем двух «пролетариев» в разнопестром одеянии: наполовину штатском, наполовину военном. Они пытаются казаться значительными — так напыщены их физиономии. Как же — слуги закона! Он зябко ежится от холодных порывов ветра, от сырого осеннего воздуха, проникающего под старенькое, изношенное пальто. На нем чbненные-перечbненные ботинки — летние щиблеты, которые он, выходя под конвоем из дома, надел второпях.
Он идет, твердя Иисусову молитву.
Куда его ведут? Скорее всего, в КПЗ при УНКВД Кировоградского района города Невьянска. Здание НКВД стоит прямо напротив знаменитой наклонной башни демидовской постройки и Спасо-Преображенского собора, колокольня которого совсем недавно снесена. Священнослужители собора еще в 1918 году были зверски убиты большевиками.
А теперь арестован он, Григорий Пономарев…
Его привели к старинному зданию основательной, каменной кладки. Все окна зарешечены. Откуда-то слышен лай собак, очевидно, служебных.
Лязгнули многочисленные замки и затворы, и его без объяснения втолкнули в огромный полуподвал с низким выщербленным потолком. Помещение заполнено арестованными людьми. Горит какой-то изнуряющий, бьющий прямо по глазам, пронзительный свет. Этот свет потом еще долго будет мучить его в воспоминаниях и преследовать даже в сновидениях.
В глухом тюремном подвале с липкими, запотевшими стенами невыносимо душно. Отец Григорий оглянулся. Всюду, как ему показалось, — злобные, затравленные взгляды. На некоторых лицах — откровенное злорадство.
Кажется, из знакомых никого нет. Он-то думал, что увидит, быть может, своих из храма, кого увели раньше его, и ситуация хоть как-то прояснится. Среди невьянцев уже целый месяц ходила зловещая новость, что Лобанова и Коровина расстреляли…
Стараясь унять дрожь, отец Григорий приткнулся где-то у стены. Что всего ужаснее, — каждый, кто оказался здесь, был замкнут на своей личной беде и переживал только за себя! Это первое, что было понятно, глядя на человека. Ты никому не нужен в этом кругу несчастных людей, оглушенных собственным горем, и никому нет до тебя никакого дела. Если к тебе подойдут и ударят и если даже будут убивать, никто из сокамерников не шелохнется. В таком скопище людей, где одновременно томятся самые отпетые преступники и совершенно безвинные страдальцы, отстраненность и самоизоляция от всего происходящего в камере — это способ защитить себя. Каждый, кто попадfл сюда, как улитка сжимался в своей раковине. Позднее батюшка еще много раз будет сталкиваться с таким поведением людей и в лагере, и на воле.
«Господи, помоги и не оставь меня, грешного!..»
Он потерял ощущение реального времени. Часы, проведенные в подвале НКВД, казались ему вечностью. Он страдал как за свою семью, так и за собратьев по алтарю и членов Церковного совета, арестованных почти одновременно с ним. Его драные летние ботинки, застывшие от холода, издавали громкий стук при ходьбе по чугунным плитам камеры.
Но вот что-то новое! К нему, явно к нему, пробивается какой-то помятый субъект с крысиной физиономией. У субъекта — маленькие, бегающие глазки.
— Ты ведь Пономарев? Григорий? Из кладбищенской церквы?..
— ???
— Я-то по другому делу тут, но знаю, что ваших тут мно-о-о-го, — как-то нарочито протянул он. — Они в разных камерах. Признались уже все…
— В чем признались-то? И от меня тебе что надо?
— Так ведь… если запираться будешь и не признаешься, то убьют твоих-то. Бабу и девчонку… — крысиный субъект сделал какое-то отвратительное движение по горлу.
— Убьют их… Найдут и убьют. Тагил — не Китай… — и вновь это жуткое движение по горлу и омерзительный то ли смех, то ли икание.
«Слава Тебе, Господи! Как хорошо, что Ниночка с дочуркой успели уехать в Нижний Тагил!»
Неосознанно, но эта «подсадная утка»-провокатор дал хоть какую-то информацию о родных.
«Да, конечно, Тагил — не Китай, — думал отец Григорий, — и если надо, то и в Тагиле найдут. Но главное, что они, мои родные, живы».
День сменялся ночью, ночь — днем. Ничего пока не происходило, если не считать, что еще дважды приходил этот лысый с крысиной мордой и каждый раз рассказывал, какие ужасы следователи проделывают с родными арестованных, которые не призна.тся и не подписывают следовательские протоколы…
— Попs твои всё подписали. Они давно на свободе и водку трескают…
От крысиных глазок стукача невозможно было укрыться. Он, как настырная навозная муха, все время что-то жужжал отцу Григорию в ухо; из его прокуренного рта несло отвратительным смрадом…
Допросы и обвинительное заключение
Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего.
Пс.118:61
Как-то вечером отец Григорий, сидя на камерных нарах, в который раз с тревогой задумался о судьбе своих близких и родных. Он уже прошептал наизусть вечернее правило, как вдруг его вызвали на допрос. Продержав задержанного Пономарева две недели в подвале, следователь РОНКВД Чепарухин решил наконец допросить и его. Собственно, допрос — это названо очень условно. В протоколе следователь сам напишет все, что необходимо для «нужного хода дела», а Пономарев… Главное — сломать его любой ценой.
Допрос происходил в зарешеченной комнате.
На допрашиваемого направляли огромный рефлектор, слепящий глаза, в то время как самого следователя не было видно, лишь слышался откуда-то из угла комнаты его леденящий голос.
Допрос велся непрерывно с 10 часов утра до 5 вечера, а затем с 8 часов вечера до 3 ночи. При этом арестованному не разрешали не только присесть, но даже подержаться за спинку стула…
После выяснения формальных анкетных данных следователь стал задавать отцу Григорию вопросы про какую-то монархическую фашистскую организацию, в которой он, Пономарев, якобы состоял, а впоследствии был ее руководителем. Но позднее руководителем «оказался» уже не он, а настоятель Вознесенской церкви протоиерей Григорий Лобанов, а Пономарев, завербованный фашистской кликой церковников, — всего лишь несчастный исполнитель диверсионных акций и прочее.
«Какие фашисты? Да это настоящий бред… — думал отец Григорий. — Или какая-то актерская игра». Но следователю было не до шуток. Его вопросы звучали так чеканно, что казалось, будто он специально репетировал свою речь и все вопросы и ответы на них знал заранее. Всё происходило как в дурном сне или в шпионских кинофильмах!
День клонился к вечеру. Допрос отца Григория, который начался с вечера, продолжался всю ночь и бjльшую половину следующего дня.
Огромный рефлектор — «помощник следователей» — неумолимо лупил прямо по глазам. За все время допроса отцу Григорию не разрешили даже присесть, и он недоумевал, как еще держится на ногах.
Вопросы следователя летели один за другим:
— Знаете ли вы Лобанова, Коровина, Иванова? Являлись ли они участниками контрреволюционной организации?
— Они никогда ничего не высказывали против советской власти и коммунистической партии, — твердым голосом ответил отец Григорий.
Но следователь, даже не дослушав ответ, снова задал вопрос:
— Расскажите, что вам известно о проводимой ими агитационной деятельности против советской власти?
— Проводили ли они какую-то антисоветскую деятельность, мне совершенно неизвестно…
За ночь следователь неоднократно отлучался. Видимо, отдыхал. А арестованному Пономареву охрана все это время запрещала даже прислониться к стоящему рядом с ним стулу. Отец Григорий давно не чувствовал своих больных ног, одеревеневших за ночь, а утром допрос продолжился снова, теперь уже «с пристрастием», как признавались позднее сами следователи…
Ночные допросы продолжались с завидным постоянством и по накатанному сценарию. Уполномоченный силился вырвать у отца Григория признание в контрреволюционной монархической деятельности, в побуждении населения к открытому выступлению против советской власти и восстановлению капиталистического строя в России. Следователь расставляет, как ему кажется, ловкие сети, в которые должен угодить Пономарев. То он, Пономарев, — руководитель подпольной фашистской организации «церковников» с целой программой террористической деятельности, вариантами агитации населения и прочее. То он же, Пономарев, — несчастная жертва лукавых церковников, пытающихся затащить юное, несозревшее существо в свои коварные сети…
Уже позднее, в ноябре 1954 года, на допросе, вызванном пересмотром дела, он скажет: «Те показания, которые были внесены в протокол допроса на следствии 1937 года, являются неправильными. Они были написаны допрашивающим меня сотрудником НКВД. На допросе в 1937 году я так же, как и сейчас, правдиво показывал, что мне совершенно неизвестно, проводили ли Лобанов и другие антиреволюционную пропаганду. Однако, несмотря на это, допрашивающий меня сотрудник прокуратуры не записывал, что я говорил…
На допросе в 1937 году меня спросили: знаю ли я Лобанова, Коровина, Иванова? Я не мог это отрицать, поскольку мы служили в одной церкви…
Допрос начинался в конце дня и заканчивался только на следующий день. В течение всего периода мне не разрешали садиться. Я все время стоял на ногах. Допрашивающий со мной обращался очень грубо, всячески угрожал…» (из документов областного гос. архива — авт.).
И еще один фрагмент из допроса отца Григория в 1954 году: «…Я повторяю, что лично я ни в какой организации не состоял и никакой антисоветской деятельности не проводил. Мне не известно о проведении ее Лобановым, Ивановым, Коровиным. То, что записано в протоколе от 15 ноября 1937 года, я не подтверждаю и не могу подтвердить, поскольку это было записано не с моих слов…» (из документов гос. архива — авт.).
Следствие по делу в 1937-м году идет полным ходом. Арестованных допрашивают одного за другим, снимая, а вернее, записывая, на усмотрение следователей, «нужные» показания — так легче обвинить «церковников» в предательстве друг друга.
— Читай, — Чепарухин сует допрашиваемому им Пономареву какую-то бумажку — очевидно, чьи-то так называемые показания, и, не дождавшись ответной реакции, следователь зачитывает вслух:
— «…О принадлежности к контрреволюционной церковной повстанческой организации, мною возглавляемой в г. Невьянске, и лично мною вовлеченным является, при нужном для нас воспитании со стороны отца (священника), псаломщик Пономарев Григорий Александрович. Будучи вовлеченным в организацию, на протяжении непродолжительного срока пребывания в составе контрреволюционной организации по заданию руководителя Лобанова Г. И. проводил под видом религиозных бесед о душе и загробной жизни контрреволюционную агитацию. Посещал квартиру Лобанова, участвовал в сборищах…» (из документов областного гос. архива — авт.).
Образ Григория Ивановича Лобанова, настоятеля той церкви, в которой служил и он, диакон Пономарев, незримо предстал перед его взором.
Лобанова арестовали первым из числа служителей Вознесенского храма; его обвиняли в организации фашистского подполья, в которое он якобы втянул Пономарева и всех членов Церковного совета. Но отец Григорий был уверен, что Лобанов — честный и глубоко порядочный человек. Именно он, отец настоятель, рекомендовал псаломщика Григория Пономарева для посвящения в сан диакона, и именно он, протоиерей Григорий Лобанов, венчал их с Ниночкой перед престолом Божиим в Вознесенской церкви 23 октября 1936 года.
А теперь следователи заставляют его дать на Лобанова признательные показания. Зачем? Ведь Лобанова и Коровина расстреляли месяц назад! Но сатанинская паутина опутывала людей с таким расчетом, чтобы они никогда не смогли отмыться от ложных обвинений в предательстве.
— Расскажите, какие вам давали задания?.. — вопрос следователя вывел его из состояния задумчивости. — О чем вы говорили в агитационных беседах с населением?
Отец Григорий тяжелым взглядом окинул оперуполномоченного. Он недоумевал: зачем следователь тратит столько времени и сил, задавая какие-то вопросы, ведь все равно в протоколе он напишет то, что Пономарев никогда не говорил?
Допрос длится уже более 12 часов, но вопросы повторяются практически одни и те же… Физические силы отца Григория тают. Условия содержания заключенных в подвалах НКВД не связаны с каким-то человеческим состраданием. К тому же отец Григорий сильно простужен и его постоянно сотрясает озноб. У него явно высокая температура, но это никого не интересует, и только нервное напряжение не дает ему свалиться с ног прямо на допросе. Он почти не слышит вопросов, его беспокоят мучительные мысли о членах Церковного совета, о которых его постоянно допрашивают, требуя наговоров. Как они там? Держатся ли? К тому же следователь сообщает, что все они давно уже дали на него, Пономарева, признательные показания.
— А ты чего медлишь? — язвительно вкручивает уполномоченный.
Но отец Григорий молчит… Он помнит слова, подчеркнутые в маленьком Евангелии архимандрита Ардалиона как будто специально для него: «Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете… Потому что вы не приняли духа рабства» (Рим.8:13, 15).
Материалы государственного архива
Обвинительное заключение
от 14 ноября 1937 г.
Оперуполномоченный Кировоградского райотдела УНКВД Сапожников, рассмотрев 14 ноября 1937 года следственное дело по обвинению группы церковников и служителей культа:
1) Тамакулова… 2) Горбунова… 3) Пономарева Григория Александровича, 1914 года, урожденного г. Шадринска Челябинской области, по социальному положению сын служителя культа, сам служитель культа, проживает в г. Невьянске; 4) Кулакова… 5) Кирилова… 6) Морозова… 7) Мохова… 8) Бревенникова… 9) Комарова… 10) Заева… 11) Арапова…,
установил следующее: в Кировоградском районе существовала контрреволюционная фашистская повстанческая организация церковников, созданная Лобановым Г. И. по заданию одного из руководителей повстанческого штаба Уральской области епископа Савельева. Организация ставила своей целью свержение советской власти и восстановление капиталистического строя в России.
Все обвиняемые по делу 11 человек являются активными участниками данной организации. Практическая деятельность ее заключалась в следующем: в целях подготовки населения к открытому вооруженному восстанию группой велась контрреволюционная пропаганда клеветнического и пораженческого характера. Проводились нелегальные собрания с проработкой литературы. Проводилась подготовка к использованию контрреволюционной организации в предстоящей избирательной кампании по выборам в Верховный Совет Союза ССР и перевыборам в местные советы. Намечались кандидатуры в местные власти. Отдельные участники вели контрреволюционную, вредительскую деятельность с целью подрыва экономической мощи государства.
Допрошенные в качестве обвиняемых участники организации виновными себя признали, а потому постановил: следственное дело по обвинению Тамакулова.., Горбунова.., Пономарева Г. А., Кулакова.., Кирилова.., Морозова.., Мохова.., Бревенникова.., Комарова.., Заева.., Арапова… направить на рассмотрение тройки УНКВД по Свердловской области.
Уполномоченный УНКВД Сапожников.
«Согласен» — начальник Кировоградского райотдела УНКВД Бахарев,
14 ноября 1937 г.
Дата последнего допроса отца Григория, согласно документам архива, — 15 ноября 1937 года, однако обвинительное заключение «по обвинению группы церковников и служителей культа» было вынесено накануне, 14 ноября. А через три дня диакона Вознесенской церкви отправили в Свердловск, где на основании обвинительного заключения (от 14 ноября 1937 года) тройки УНКВД по Свердловской области Пономареву Григорию Александровичу вынесли обвинение.
Из протокола обвинения от 21 ноября 1937 года, подписанного уполномоченным Калугиным, следует: «…обвиняется в том, что является руководящим участником ликвидированной фашистско-повстанческой организации церковников на Урале. Используя церковную трибуну среди населения, вел махровую контрреволюционную пропаганду, направленную против политики Партии и Советской власти. Неоднократно высказывал повстанческие и пораженческие мысли.
Постановили: Пономарева Григория Александровича заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на десять лет, считая срок с 30/Х-1937 г.» (из документов областного гос. архива — авт.).
Григорий Иванович Лобанов
«Реабилитирован посмертно…»
По мере знакомства с материалами областного архива по делу № 16527 и по мере изучения анкетных данных каждого из арестованных становится очевидным следующее: вся обвиняемая группа «церковников» (а их в конечном итоге насчитывается значительно более одиннадцати человек) уже заранее была разделена на определенные категории. Об этом говорят следственные материалы каждого из обвиняемых, которые позднее выделили в отдельные делопроизводства. Среди многих других были выделены и дела священнослужителей Вознесенской церкви: настоятеля — протоиерея Григория Ивановича Лобанова; протоиерея Леонида Михайловича Коровина и протодиакона этого же храма Николая Ивановича Иванова. Выделено было и дело епископа Петра (Савельева), обвиняемого в руководстве «повстанческим штабом церковников Уральской области».
Эти люди, как следует из документов следователей, проходили по так называемой «первой категории» обвинения. В отдельных показаниях их фамилии сопровождаются зашифрованными пометками: «категория 1, задание 3».
Другая группа людей — это те 11 человек, с которыми проходил по одному списку отец Григорий: алтарники, псаломщики, пономари, члены Церковных советов приходов и наиболее активные прихожане уральских православных храмов. Многих из них, как выяснилось из показаний отца Григория на допросе в 1954 году, он совершенно не знал. Все они — молодые и здоровые: Пономареву — 23 года, Тамакулову — 20 лет, Кулакову — 23 года и т. д. Они, конечно, могли еще пригодиться советскому государству в качестве бесплатной рабочей силы в шахтах и на лесоповалах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Вот они — готовые рабочие кадры, бесправные на все годы заключения.
Арестованные, отнесенные к «первой категории» и обвиняемые в организации контрреволюционного движения, — это церковное духовенство: бывшие благочинные церквей, настоятели храмов и духовники приходов. Именно на них— «род избранный, царственное священство» (1 Пет.2:9) — с особой жестокостью и беспощадностью ополчились духи злобы поднебесной. Почти весь этот род избранный был обречен…
В дело каждого обвиняемого, отнесенного к разряду «категория 1, задание 3», после вынесения приговора подшивалась небольшая справка розового цвета, в которую было кратко вписано: «Приговорен к В. М. Н.».
То есть: к высшей мере наказания — расстрелу.
Среди заключенных, приговоренных к высшей мере наказания, оказался и благочинный невьянских церквей протоиерей Григорий Иванович Лобанов — один из самых видных духовных лидеров города, настоятель кладбищенского Вознесенского храма. Именно его, старого, немощного человека, втравленного в следовательские интриги, отцу Григорию было особенно жалко.
Григорий Иванович Лобанов хорошо знал семью потомственных священников Пономаревых и рекомендовал в свое время псаломщика Григория Пономарева к рукоположению во диаконы. Знал он и о трагической судьбе архимандрита Ардалиона и усердно молился за него. А 23 октября 1936 года под сводами Вознесенского храма протоиерей Григорий Лобанов в сослужении протодиакона Николая Иванова обвенчал диакона церкви Григория Пономарева и певчую хора Ниночку Увицкую.
Отец Григорий и матушка Нина были обязаны Григорию Ивановичу многим, они всю жизнь молились об упокоении его православной души.
Григорий Лобанов был из крестьян-середняков, священник в первом поколении. Получив педагогическое образование, в возрасте 28 лет, женившись на учительнице, он принял сан и стал священником. Сразу после революции он эвакуировался вместе с отходившими колчаковскими войсками в русско-китайский город Харбин, где ему пришлось очень тяжело.
Одно время Григорий Иванович трудился в швейной мастерской Харбина и подрабатывал учителем начальной школы. А немного позднее был принят в харбинский Никольский храм. Через несколько лет отец Григорий смог выехать в Россию за семьей. Документы позволяли ему вернуться вместе с семейством в Китай, но такой возможностью он по каким-то причинам не воспользовался, оставшись в Свердловске.
Служа в разных храмах епархии, отцу Григорию Лобанову снова, по примеру праведного Симеона Верхотурского, приходилось заниматься шитьем верхнего платья, чтобы хоть как-то выжить.
Уже после страшных событий 37-го года, когда стало известно о горькой судьбе Григория Ивановича, невьянские женщины, прихожанки Вознесенской церкви, рассказали следующее: «Когда во исполнение приговора за батюшкой пришли в тюремную камеру со словами: “Лобанов, на выход без вещей”, — на его нарах остался сверток личных вещей: кружка, ложка, кое-что из белья и т. п. Среди них нашли маленькую иконочку Пресвятой Богородицы “Казанская” и… крохотный детский башмачок на ребенка ползункового возраста, весь смятый и сплющенный…».
Очевидно, для протоиерея Григория Лобанова, приговоренного к высшей мере, эта беззащитная детская пинетка на тюремных нарах была «родным дыханием» его дома.
История приговора Григория Ивановича трагична и характерна для следовательской стряпни того времени. Лобанов был приговорен к «высшей мере» в конце сентября 1937-го года, но свидетельские показания на него собирали… даже после его смерти. По свидетельству одного их обвиняемых, «Лобанов Григорий Иванович объединил два течения: григорианское и староцерковное. На собраниях “повстанческой монархической организации” прорабатывались следующие темы: 1) опровержение учения Дарвина; 2) религия не может прогрессировать с жизнью».
«Членами контрреволюционного фашистского подполья обсуждались, — по тому же свидетельству, — статьи о социализме и русских политических партиях из книг “Церковный совет” и “Государственный разум”. Руководил всем Лобанов» (из документов областного архива — авт.).
Далее Григорию Лобанову инкриминировалось распространение антиреволюционной литературы и ведение бесед против советской власти. «Лобанов говорит, что Советская власть — власть сатаны и что знак пятиконечной звезды — это ее знак» (из документов областного гос. архива — авт.).
И так далее и тому подобное. А кто может доказать обратное? Кто докажет, что ни Лобанов, ни Коровин, ни Савельев всего этого не говорили?
Очень характерна опись обыска в доме Григория Ивановича: кроме паспорта и военного билета, были изъяты: «справки разные, переписка на 11 листах, книги церковные (до 26 шт.), церковные партитуры» (из документов областного гос. архива — авт.).
Какой изобличающий «фашистского лидера» материал! Примерно то же самое изъяли и при обыске Леонида Михайловича Коровина.
По другим сведениям, при аресте у Григория Лобанова изъяли книги на церковно-славянском языке, учебник английского языка, два штампа и печать благочинного, список верующих, половину цейсовского бинокля, а также — «рюмка, ложечка, ящичек, футляр, ручной работы крест из серебра» (данные Невьянского государственного историко-архитектурного музея — ред.).
Очевидно, в доме Лобановых был произведен повторный обыск, скорее всего, за недостатком улик. По крайней мере, наличие в доме священника евхаристического набора, а также половины цейсовского бинокля и учебника английского языка следователи сочли важным фактом для обвинения его в «фашистско-повстанческой деятельности против советской власти».
Дача показаний на Григория Ивановича задним числом была, видимо, запланирована. Он был обречен. Как выяснилось позже, компромат на Лобанова собирали в оправдание уже свершившемуся факту обвинения — после исполнения приговора.
В деле, о котором мы ведем речь, против Лобанова есть несколько показаний разных свидетелей, в которых присутствует одна и та же заготовленная формулировка: «Будучи уличенным материалами следствия, я решил дать откровенные показания о своей контрреволюционной деятельности и деятельности других членов группы».
Самооговоры — излюбленный прием следовательской практики того времени. И только по прошествии нескольких десятилетий, когда для близких и родных репрессированных в 30-е годы стали доступны архивные следственные материалы, многие из которых были официально опубликованы, вдруг стала вырисовываться среднестатистическая, то есть объективная, картина заштампованных допросов и обвинений, валом применяемая для подавления ни в чем не повинных людей.
Сатанинская машина по уничтожению православного духовенства в России работала безостановочно, день и ночь, влоть до 80-х годов прошлого столетия. Все было рассчитано на годы, на десятилетия вперед — так запачкать, чтобы не отмывалось.
* * *
Больше, к сожалению, о священнослужителях Вознесенского храма в архивном деле никаких сведений нет, так как их дела в ходе расследования были выделены в отдельные производства. И лишь в последней папке архивного дела подшиты две маленьких полувыцветших справки розового цвета. В одной написано: «Лобанов Г. И…. приговорен к В. М. Н., приговор приведен в исполнение 29 сентября 1937 года в 24 часа». В другой: «Коровин Л. М…. приговорен к В. М. Н., приговор приведен в исполнение 27 сентября 1937 года».
В конце сентября 1937 года их расстреляли…
А на месяц позднее, в октябре, следователи задним числом «выколачивали» признательные показания на них от новой группы заключенных.
Григорий Иванович Лобанов и Леонид Михайлович Коровин были реабилитированы в 1956 году — посмертно. Помянем светлые имена епископа Петра (Савельева), протоиерея Григория Лобанова, протоиерея Леонида Коровина, протодиакона Николая Иванова…
Леонид Михайлович Коровин
Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего.
Пс.118:61
Соприкасаясь с именами репрессированных в 30-х годах священников, жизнь которых была так или иначе связана с семьей Пономаревых, невольно погружаешься в их поистине трагические судьбы…
Так совершенно неожиданно открылись страницы жизни Леонида Михайловича Коровина, протоиерея Вознесенской церкви города Невьянска, в которой служили в одно и то же время протоиерей Григорий Лобанов и диакон Григорий Пономарев.
О жизни отца Леонида было мало что известно, и даже его младшая дочь Ольга, дожившая до наших времен, ничего не знала о трагической судьбе своего отца. Исторические материалы, которые приводятся ниже, представлены научным сотрудником Невьянского государственного историко-архитектурного музея Любовью Двинских, за что авторы книги приносят ей искреннюю признательность.
Как следует из документов ГААО СО. Д. 20939, Леонид Михайлович Коровин несколько раз находился под стражей. В 1928 году, будучи настоятелем Преображенской церкви Надеждинского завода, он был впервые осужден по доносу. «Настоятель Спасо-Преображенского собора г. Надеждинска протоиерей Леонид Коровин, — написано в доносе, — 10 октября 1928 года во время заседания Церковного совета вел среди присутствующих членов агитацию за оказание материальной помощи священникам, сидящим в тюрьмах, говоря, что сейчас везде и всюду идут аресты священнослужителей и нет никакой гарантии за то, что сегодня или завтра арестуют и нас…» (ГААО СО. Д. 24645).
Следствие по доносу началось 18 октября. В следовательских документах этого дела сказано, что Коровин, «…используя религиозные предрассудки массы, старался подорвать авторитет советской власти, то есть совершил преступление…». Сам отец Леонид, как записано в протоколе, показал следующее: «…В соборе стоят две кружки: одна в пользу заключенных, другая — в пользу бедных. Из кружки в пользу заключенных церковный староста периодически вынимает деньги, закупает на них продуктов и относит заключенным… при Надеждинской адмчасти…».
В результате этого расследования Особое совещание при Коллегии ОГПУ приняло решение «…Коровина Л. М. выслать на Урал, сроком на три года…». По отбытии срока наказания, которое отец Леонид отбывал в Тюменском округе, ему было предписано лишение права проживания в 12 пунктах Уральской области с прикреплением к определенному местожительству сроком на 3 года.
30 июля 1937 года в органах НКВД вышел оперативный приказ, призывающий к новым карательным мерам по отношению к духовенству, а уже в августе 1937 года отец Леонид Коровин, проживавший в Невьянске, был снова арестован, теперь уже как участник контрреволюционной фашистско-повстанческой организации церковников.
«Так как Коровин сразу же отверг все обвинения следствия в участии в деятельности контрреволюционной организации, — пишет Любовь Двинских, со ссылкой на ГААО, —следователь предъявил ему обвинение в “собственных отца Леонида преступлениях”. На что Леонид Михайлович ответил: “Предъявленную мне изъятую у меня при обыске тетрадь моей рукописи я опозна,.. ее содержание, собственноручно мною писанное, является контрреволюционным, направленным своим существом против построения социализма и коммунизма, а также дискредитирует вождей ВКП (б) и советское правительство…”».
Признал отец Леонид и проживание в церкви «и на квартирах нашего духовенства разного монашествующего и церковного элемента до 12 человек…».
«В числе их, — записано в протоколе, — лично у меня на квартире проживал… лишь один бывший священник по фамилии Бузунов. Я его приютил как странника, не имеющего ни родных, ни дома, а также и работы…» Показал также: «Наличие изъятых у меня 115 книг дореволюционного издательства я признаю, контрреволюционными их не считаю…».
Наряду с вышеперечисленными обвинениями, следователи УНКВД признали преступной связь отца Леонида с высланным архиепископом Макарием (Звездовым), которого, в свою очередь, власти объявили одним из руководителей повстанческого центра Уральской области.
В конце 1936 года Леонид Михайлович совершил поездку в Москву к митрополиту Сергию (Старогородцеву). Из Москвы отец Леонид привез около 2 литров освященного мира, за которым и ездил. Однако следствие определило эту поездку как «поручение для поддержания контрреволюционной связи от епископа Петра Савельева…». Сам отец Леонид, со слов следователей, на допросе признал, что в Москве он передал пакет секретного порядка самому митрополиту, но содержания его не знал. В этих действиях Леонида Михайловича Коровина, а именно: в «установлении связи области с центром», то есть с Москвой, следствие усмотрело главный повод к обвинению его в контрреволюционной деятельности. Таким образом, его участие в фашистско-повстанческой организации церковников состояло, по мнению следователей, в следующем: «Вовлечение новых членов в организацию; проведение бесед-сборищ и нелегальных собраний; распространение контрреволюционной монархической церковной литературы и ее чтение; организация в церкви и на квартирах притонов бродящего элемента, не занимающегося общественно-полезным трудом, и направление их для ведения контрреволюционной агитации…».
Познакомившись с материалами невьянского исторического музея, которые основаны на подлинных архивных документах, становится совершенно очевидно, что отец Леонид, как и большинство пастырей Русской Православной Церкви, явил своей жизнью пример подлинно евангельского служения Христу.
Именно о таких пастырях Божиих говорят слова Писания: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса» (Деян.20:24). И среди этих истинных служителей Церкви, с радостью совершающих свое поприще, рос и научался подвигам веры молодой диакон Григорий Александрович Пономарев.
Жалобы осужденных
Вскоре после вынесения обвинительного приговора по делу № 16527 все одиннадцать осужденных, в том числе и отец Григорий, подали в различные государственные инстанции жалобы с просьбой о пересмотре решения тройки НКВД от 21 ноября 1937 года. Однако специальным постановлением УНКВД все жалобы были отклонены. В протоколе постановления так и записали: «Все жалобы, написанные в различные инстанции от членов организации, — отклонить» (из документов гос. архива — авт.).
Но никто в те годы даже предположить не мог, что именно эти жалобы и жалобы родственников осужденных, а также официальные ответы с резолюцией «Жалобы… отклонить» станут после смерти Сталина отправной точкой для нового пересмотра дела № 16527. И только после этого все встанет на свои места.
А 2 августа 1939 года помощник областного прокурора Свердловской области товарищ Фомин рассмотрел поступившую от гражданина Пономарева Г. А. жалобу, в которой он просил пересмотреть решение тройки УНКВД о заключении его в исправительно-трудовой лагерь сроком на десять лет.
«Ознакомившись с жалобой, — написал товарищ Фомин в протоколе, — нахожу, что гражданин Пономарев Г. А., по социальному положению священнослужитель, и, будучи в… (неясно — авт.) с митрополитом Савельевым, занимался организацией церковной группы и контрреволюционной агитацией на протяжении ряда лет. “Сам себя признал виновным” (вписано чернилами — авт.). Факт виновности установлен. Поэтому на основании вышеизложенного полагал бы: за отсутствием основания принесения протеста на решение тройки в ходатайстве заявителю отказать, надзорное производство по делу прекратить и дело вернуть по принадлежности» (из документов областного гос. архива — авт.).
Среди многих документов государственного областного архива сохранилось также заявление Пономаревой Нины Сергеевны, написанное на имя начальника восьмого отделения УНКВД Свердловской области (от 14 ноября 1937 г.), с просьбой сообщить, где и в каком положении находится дело по обвинению ее супруга, арестованного 30 октября 1937 года. «Если гражданин Пономарев осужден, — пишет матушка Нина, — прошу сообщить, кем, когда, по какой статье и какое наказание» (из документов областного гос. архива — авт.).
На заявлении Нины Сергеевны казенными словами отписано: «Тройка НКВД, 21/ХI-37 г., 10 лет И. Т. Л.».
Подобные заявления матушка Нина писала неоднократно, но все было тщетно. Всю осень и долгую зиму 1937/38 годов она со страхом и надеждой ожидала хоть какого-нибудь ответа от официальных органов власти, куда и по какому обвинению отправили ее мужа, но, так и не дождавшись, решилась написать новое заявление. 4 апреля 1938 года она направляет еще одно письмо с запросом — теперь уже на имя Председателя комиссии Советского контроля при Совнаркоме.
Материалы государственного архива
Председателю комиссии Советского контроля от гр. Пономаревой Нины Сергеевны, проживающей в гор. Нижний Тагил Свердловской области, ул. Кирова, д. 27.
Заявление
Мой муж, Пономарев Григорий Александрович, служитель культа (диакон), был арестован 30 октября 1937 года в городе Невьянске Кировоградского р-на Свердловской обл. Пока он был еще в Невьянске, я неоднократно писала заявление начальнику райотдела НКВД с просьбой разрешить передачу валенок и белья (муж ушел в худых щиблетах и не имея при себе смены белья), но на все заявления получала отказ.
Числа 17-18 ноября он был из Невьянска отправлен. Когда в Свердловске организовалась комиссия по выдаче справок о заключенных, я (не имея возможности выехать в Свердловск сама, т. к. у меня грудной ребенок) написала заявление с просьбой сообщить, куда и когда выслан мой муж; выслала его в Свердловск со знакомой. Заявление она отдала 8 марта, а ответ был назначен на 14 марта. 14-го она по моей просьбе сходила туда, и на мое заявление последовал такой ответ: «Пономарев Григорий Александрович выслан 1. 12. 37 г. на станцию Известный, Дальлаг».
Узнав это, я хотела не медля послать ему посылку и денег, но справочное бюро отдела связи ответило, что ни станции, ни разъезда такого совсем нет. Полагая, что тут произошла какая-нибудь ошибка, я вторично, уже почтой, послала запрос в Свердловск в комиссию (ул. Радищева, № 42), опять с просьбой сообщить, где муж, и 29 марта получаю такую открытку: «Пономарев Григорий Александрович выслан для отбытия срока». Получив такой ответ, я встала в полнейший тупик. Куда он выслан? На какой срок? В чем он обвиняется и почему? На первое мое заявление можно было ответить, а на второе я получаю ничего не разъясняющую, а, наоборот, вводящую в заблуждение открытку. Не зная, куда больше обращаться, я прошу вашего содействия…
Мой адрес: г. Н-Тагил Свердловской области, ул. Кирова, № 27
1.04.38 г. Н. Пономарева
11 апреля 1938 года заявление матушки Нины было зарегистрировано, и только в сентябре Бюро жалоб миссии Совконтроля при Совете народных комиссаров направляет гражданке Пономаревой Н. С. справку, на которой дает следующий ответ: «Сообщить, что место нахождения Пономарева Г. А. прокуратуре не известно. 30. 09. 1938 г.» (из документов областного гос. архива — авт.).
Завершая разговор о жалобах осужденных по делу № 16527 с и заявлениях их родственников в различные государственные инстанции с просьбой отклонить обвинение, приведем еще один характерный документ, сохранившийся в государственном областном архиве города Екатеринбурга.
Материалы государственного архива
Из постановления
заместителя областного
прокурора Свердловской области Кабакова
(число не ясно — авт.) 1940 г.
…Ознакомившись с поступившими жалобами, нашел: Пономарев Г. А., служитель культа, по социальному происхождению сын попа, обвиняется в том, что является руководителем ликвидированной контрреволюционной фашистской повстанческой организации церковников…
Пономарев в предъявленном обвинении виновным себя признал и пояснил: «Будучи вовлеченным в организацию Лобанова, я на протяжении непродолжительного времени по заданию руководителя проводил под видом религиозных бесед о душе и загробной жизни контрреволюционную агитацию…».
Подана жалоба Пономаревой Н. С. по делу мужа, где она просит сообщить, где муж. Что касается доводов в оправдание своего мужа, последняя не приводит. Лобанов, коим завербован обвиняемый, осужден по первой категории (см. задание 3).
Так развивались трагические события 1937 года, придя к своему логическому завершению в 1954 году.
«Не рой яму другому…» — гласит народная мудрость, которая перекликается по смыслу со словами псалмопевца: «Вот, нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь; рыл ров, и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил: злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя» (Пс.7:15-17).
Часть II. 1954 год — дело следователей
И страждущие более и более будут радоваться о Господе, потому что… будут истреблены все поборники неправды, которые запутывают человека в словах, и… расставляют сети, и отталкивают правого.
Ис.29:19-21
«По указанию прокурора Союза ССР…»
Шли годы. В России менялось многое. Сталин умер. Во главе страны встал Хрущев. И поднялась еще одна волна репрессий и гонений. Это было новое политическое время, но, чтобы утвердить вновь сформированную власть, надо было обличить беззакония предшествующей. Именно эти тайные коллизии и переживала наша страна во второй половине 50-х годов. Окостеневшие за годы правления Сталина и Берии судебные структуры требовали реорганизации — очевидно, с целью наведения порядка, подконтрольного новому составу Политбюро.
За все преступления времен «культурной революции» страна расплатилась миллионами человеческих жизней. Людей, раздавленных государственной машиной, уже не вернуть, но на волне политической реабилитации репрессированных легко завоевать авторитет поборников справедливости. Новая власть — новая политика, и, чтобы утвердить ее, надо разоблачить культ предыдущих лидеров и их ближайшее окружение. Самым громким политическим разоблачением должны были стать публичные пересмотры старых судебных дел.
По специальному указанию прокурора Союза ССР такой пересмотр коснулся, в числе многих других, и закрытых дел 1937 года по Уральскому Комитету государственной безопасности. Вновь назначенные следователи и члены свердловской прокуратуры приступили к изучению старых документов, пересматривая жалобы родственников и пострадавших, которые уже отбыли свой срок.
Но ведь пятно судимости уже ничем не смоешь.
Судимость дает поражение в правах граждан. А их десятки и сотни тысяч… Попробуй доказать правду, за что человек был судим и почему провел десять лет в тяжелой неволе. Даже после освобождения и реабилитации и по прошествии многих лет, когда стали доступными материалы следствия по делу 1937 года, отец Григорий избегал каких-либо разговоров на эту сложную тему и пресекал всякого, кто пытался вести расспросы о годах его заключения. Только близкий ему человек — матушка Нина — сохранила для нас с вами правду об этом страшном этапе их жизни.
Итак, пришло время «собирать камни» и разгребать «авгиевы конюшни». Теперь на скамье подсудимых должны были оказаться непосредственные исполнители старых дел — те, кто обвинял и расстреливал «служителей культа» — «врагов народа», осужденных ранее.
Материалы государственного архива
Прокурору Свердловской области
советнику юстиции т. Толкачеву
от 24 августа 1954 года. Секретно. Экз. № 1.
По указанию прокурора Союза ССР нами рассматривается архивно-следственное дело № 16527 (арх. № 13027) на судимых Тамакулова, Горбунова, Пономарева и др.
В сентябре 1940 года, как видно из приобщенного к делу постановления прокуратуры Свердловской области, рассматривались жалобы осужденных и их родственников. Однако к делу жалобы не приобщены. Учитывая, что изложенное в указанных жалобах должно быть учтено при пересмотре дела и что жалобы могут оказаться основаниями для принятия по делу решения, просим Ваших указаний о высылке в наше распоряжение последних.
Начальник следственного отдела УКГБ полк. Стряпчий
В подкрепление и оправдание нового курса политики партии и правительства осенью 1954 года Центральный комитет КПСС принял Постановление, которое гласило:
«Обязать обкомы, крайкомы КПСС, ЦК компартий союзных республик и все партийные организации решительно устранить ошибки в атеистической пропаганде и впредь ни в коем случае не допускать каких-либо оскорблений чувств верующих и церковнослужителей, а также административного вмешательства в деятельность Церкви.
Необходимо иметь в виду, что оскорбительные действия по отношению к Церкви, духовенству, верующим гражданам несовместимы с линией Партии и государства в проведении научно-атеистической пропаганды и противоречат Конституции СССР, предоставляющей советским гражданам свободу совести» (перепечатано из архива отца Григория — авт.).
Постановление ЦК КПСС было принято 10 ноября, а уже вскоре, 17 ноября 1954 года, в органах УКГБ Свердловской области вышло постановление «Об изъятии из архива наблюдательного производства и приобщении его к архивно-следственному делу № 16527».
Следователем по новому делу был назначен старший следователь отдела УКГБ капитан Шутенко. Именно он рассмотрел наблюдательное производство по делу №… и допросил всех свидетелей — бывших следователей сфабрикованного дела 1937-го года, по которому в числе многих других был осужден отец Григорий.
Материалы государственного архива
Постановление
об изъятии из архива наблюдательного производства и приобщении его
к архивному следственному делу № 16527 от 17 ноября 1954 г.
Я, старший следователь отдела УКГБ по Свердловской области капитан Шутенко, рассмотрев наблюдательное производство № 6-357/н по делу Тамакулова, Горбунова, Пономарева и др. за 1939/40 гг., нашел:
в указанном наблюдательном производстве имеются жалобы, а также ряд документов, которые имеют существенное значение и должны быть использованы при решении вопроса о правильности осуждения в 1937 году Тамакулова, Горбунова, Пономарева и др., а потому постановил:
наблюдательное производство № 6-357/н на 121 листе из архива прокуратуры изъять и приобщить к следственному делу № 16527 по обвинению Тамакулова, Горбунова, Пономарева и др.
Старший следователь отдела УКГБ капитан Шутенко
Постановление об изъятии вышло 17 ноября 1954 года, а накануне, 2 ноября, отца Григория, чуть более года назад прибывшего домой после шестнадцати лет разлуки с близкими, вызвали в специальный следственный отдел при Совете министров по Свердловской области на допрос.
Не будем описывать, какой страх вновь испытала семья Пономаревых. Скажем только, что этому допросу предшествовали нелегальные обыски в их доме, о которых догадывался один только отец Григорий. Однако страхи оказались преждевременными. Более того, допрос отца Григория от 2 ноября 1954 года, дошедший документально до нашего времени, расставил многое по своим местам, снимая с арестованных обвинения в предательстве друг друга. Так трагические события 1937 года высветились в настоящей правде и истине.
Материалы государственного архива
Протокол допроса
Пономарева Григория Александровича
1914 г.р., урожд. г. Шадринска, служитель культа
от 02. 11. 1954 года
Допрос начат 2 ноября, окончен 2 ноября.
Начальник следственного отдела УКПТ при СМ по Свердловской области майор Тевдорошвили.
Анкетные данные Пономарева…
В 1937 году решением тройки при УНКВД Свердловской области был судим как участник антисоветской организации. Приговорен к 10 годам лишения свободы. Меру наказания отбыл в 1947 году.
Вопрос: Где Вы проживали до момента ареста?
Ответ: В 1937 году арестован органами НКВД, жил в городе Невьянске, работал псаломщиком Вознесенской церкви. В Невьянске проживал вместе со своими родителями.
Вопрос: Кто был привлечен вместе с Вами по делу?
Ответ: Из числа служителей Вознесенской церкви за некоторое время до моего ареста были арестованы Коровин Леонид, диакон Иванов Николай Иванович, священник Лобанов Григорий Иванович. Проходили ли они по одному делу со мною, я утверждать не могу, я только предполагаю, что Коровин, Иванов и Лобанов проходили по одному делу со мной.
Вопрос: Вы знали Тамакулова?
Ответ: Тамакулова я не знал.
Вопрос: При Вознесенской церкви работал псаломщиком Кулаков Иван Григорьевич?
Ответ: В период моей службы в Вознесенской церкви псаломщиком был я. Я припоминаю, что был такой Кулаков И. Г., примерно одного возраста со мной. Со мной не общался. Выполнял обязанности пономаря (зажигал свечи и т. д.).
Вопрос: Кого Вы знали до ареста в селе Шурала и В-Нейвинске, и пос. В-Рудянка?
Ответ: Я знал только священника протоиерея Ивана — настоятеля церкви с. Шурала. С ним я служил вместе в Вознесенской церкви до его перевода в Шуралу. В 1935-36 году он умер, и по этому случаю я выезжал в Шуралу. Более никого из лиц, служивших в В-Нейвинске, Шурале, В-Рудянке, я не знал. Ни с кем не служил.
Вопрос: Знали ли Вы служителей Кирилова, Мохова, Морозова, Арапова, Горбунова, Комарова, Заева, Бревенникова?
Ответ: Из перечисленных в данном вопросе лиц я никого не знал.
Вопрос: Охарактеризуйте названного Вами выше Лобанова и Коровина с политической стороны.
Ответ: Лобанов, Иванов и Коровин были религиозно убежденными людьми.
Вопрос: Расскажите, что Вам известно о проводимой ими агитационной деятельности в период вашего общения?
Ответ: Проводили ли они какую-то антисоветскую деятельность, мне совершенно неизвестно. В моем присутствии и в беседах со мной никогда эти темы не затрагивались. Они никогда ничего не высказывали против советской власти и коммунистической партии. Когда я был арестован в 1937 году, допрашивающий меня сотрудник (фамилию не помню) добивался от меня показаний на Лобанова, Иванова, Коровина, чтобы я подтвердил, что они проводили контрреволюционную деятельность против советской власти. Проводили ли они таковую, мне совершенно неизвестно, и услышал подобное я лишь на допросе.
Вопрос: Но и Вы на допросе от 15 ноября 1937 года показали, что Лобанов, Иванов, Коровин являлись участниками контрреволюционной организации. Почему Вы сейчас заявляете обратное?
Ответ: Те показания, которые были внесены в протокол допроса на следствии 1937 года, являются неправильными. Они были написаны допрашивающим меня сотрудником НКВД… На допросе в 1937 году я так же, как и сейчас, правдиво показывал, что мне совершенно неизвестно, проводили ли Лобанов и другие антиреволюционную пропаганду. Однако, несмотря на это, допрашивающий меня сотрудник прокуратуры не записывал, что я говорил. На допросе в 1937 году меня спросили: знаю ли я Лобанова, Коровина, Иванова? Я не мог это отрицать, поскольку мы служили в одной церкви… Допрос начинался в конце дня и заканчивался только на следующий день. В течение всего периода мне не разрешали садиться. Я все время стоял на ногах. Допрашивающий со мной обращался очень грубо, всячески угрожал.
Вопрос: Какие Вам предъявлялись материалы на допросе в 1937 году?
Ответ: Никаких материалов на допросе мне не предъявлялось.
Вопрос: Вы это утверждаете?
Ответ: Да, я помню хорошо, что никаких материалов тогда мне не предъявлялось.
Вопрос: Из протокола допроса, надписанного «не читать», от 15 ноября, видно, что Вам предъявлялись показания арестованных.
Ответ: Я отвечаю правдиво и повторяю, что в 1937 году на допросе мне никаких показаний арестованных не было предъявлено.
Вопрос: Ваши отрицания записанного в протоколе не являются ли результатом Ваших религиозных убеждений и стремлением доказать, что служители религиозного культа не могут проводить антигосударственную деятельность?
Ответ: Я же не могу и не собираюсь отрицать того факта, что среди служителей религиозного культа, возможно, и были лица, которые проводили деятельность против советской власти. Но мои показания являются правдивыми. Я повторяю, что лично я ни в какой организации не состоял и никакой антисоветской деятельности не проводил. Мне не известно о проведении ее Лобановым, Ивановым, Коровиным. То, что записано в протоколе от 15 ноября 1937 года, я не подтверждаю и не могу подтвердить, поскольку это было записано не с моих слов…
Вопрос: В протоколе допроса от 15 ноября как участники организации и проводившие активную антисоветскую деятельность проходят Ведунов И. И., Чернобровкина Е. И., Уткина А. В. Расскажите, что Вам известно о проводимой ими антисоветской деятельности?
Ответ: Проводили ли эти люди какую-либо антисоветскую деятельность, мне неизвестно. Их я знал, поскольку все они входили в Церковный совет. Если в протоколе указано, что они якобы были участниками антисоветской организации, то это произошло также по вине того, кто допрашивал меня.
Вопрос: Что Вы желаете дополнить к своим показаниям?
Ответ: Дополнить к своим показаниям ничего не имею.
«Протокол мною прочитан лично. Показания с моих слов записаны правильно». Пономарев
Допросил: Начальник отдела следственного предела УКПТ при СМ по Свердловской области майор Тевдорошвили. 2.11.1954 г.
23 марта 1955 года Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда СССР в составе Басавина, Владимирова, Назарова был рассмотрен протест Генерального прокурора на постановление тройки УНКВД от 21 ноября 1937 года, согласно которому осужденные за антисоветскую деятельность по статьям 58-10, часть 1 и 58-11 УК РСФСР Тамакулов, Горбунов, Пономарев Г. А. и др. были приговорены к десяти годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере.
Протест Генерального прокурора был внесен на предмет отмены постановления тройки и прекращения дела в отношении всех вышеуказанных лиц за отсутствием состава преступления.
Ознакомившись с материалами дела, Судебная коллегия нашла, что «постановление тройки УНКВД от 21 ноября 1937 года подлежит отмене, и дело должно быть прекращено». Основанием к этому Коллегия нашла следующее: «Из материала дела видно, что все обвинения в том, что осужденные занимались антисоветской деятельностью, основаны исключительно на их признательных показаниях, которые ими были даны в 1937 году, от которых они впоследствии отказались. В своих жалобах они указывают, что эти показания ими были даны по принуждению работников следствия» (из документов областного гос. архива — авт.).
Таким образом, Судебная коллегия от 23 марта 1955 года вынесла следующее определение:
«Постановление тройки при УНКВД от 21 ноября в отношении Тамакулова, Горбунова, Пономарева, Кулакова, Кирилова, Морозова, Мохова, Бревенникова, Комарова, Заева, Арапова отменить, и дело прекратить за отсутствием состава преступления» (из документов областного гос. архива — авт.).
Документ подписан членом Судебной коллегии Басавиным.
«Истреблены будут все поборники неправды» (Ис.29:20)
Итак, за отсутствием состава преступления дело, по которому осудили отца Григория и еще десять человек «церковников», было прекращено. Теперь судили и допрашивали тех поборников неправды, которые издевались над невинными людьми и по сфальсифицированному обвинению приговорили большинство из них к исправительным работам на 10 лет в местах лишения свободы, а некоторых — к высшей мере.
В государственном архиве по делу № 16527 сохранилось несколько фрагментов свидетельских (пока свидетельских) показаний следователей УНКВД, которые вели в 1937 году это дело. Вот небольшой список имен бывших сотрудников следственных органов, участвовавших в «выбивании» любой ценой признательных показаний от подследственных. Многие имена и даты за давностью времен в документах госархива утрачены, поэтому анкетные данные участников описываемых событий приведены не полностью.
Тююшев Демьян Васильевич, 1908 года рождения, — начальник кировоградского РОМ УМВД в звании майора;
Сапожников.., 1908 г. р., — член КПСС, инспектор машзавода, помощник оперуполномоченного;
Чепкасов.., 1905 г. р. — начальник группы уголовного розыска отдела милиции № 11 города Свердловска;
Бахарев… — старший лейтенант, бывший начальник РОНКВД Кировоградского района города Невьянска;
Варшавский Л. Л. — бывший заместитель начальника Управления НКВД по Свердловской области. В феврале 1948 года бывший начальник четвертого отдела УНКВД Варшавский был осужден за провокационные методы ведения следствия и фальсификацию материалов.
В документах архива сохранились в основном их свидетельские показания. Лишь на одного из них — Варшавского Л. Л. — большая обзорная справка с приговором Военной коллегии Верховного суда СССР. Дальнейшая работа с подследственными — бывшими сотрудниками НКВД — выделена, очевидно, в самостоятельное дело, и эти документы уже недоступны.
Приведем ниже характерные фрагменты допросов бывших следователей и уполномоченных НКВД.
Материалы государственного архива
Фрагмент допроса
свидетеля Тююшева Демьяна Васильевича, 1908 г. р.
Протокол от 24. 11. 1954 года
…Ответ: Руководством РОНКВД мне выдавались ордера на арест различных лиц. Имелись ли какие материалы для учета, я не знаю. Лично у меня никаких дел оперативного учета ни на кого не было. Произведя арест, арестованных я сдавал в КПЗ вместе с ордером на арест, а материалы обысков передавал руководителю РОНКВД.
Вопрос: Во время содержания арестованных в КПЗ в 1937 — 1938 гг. в камерах проводилась какая-либо обработка арестованных на предмет дачи показаний?
Ответ: В 1938 году, летом, я узнал во время перепроверки материалов дел, что до 1938 года в Кировоградском районе РОНКВД проводилась соответствующая камерная обработка арестованных на предмет дачи признательных показаний. Кто руководил камерной обработкой, я не знаю. Принимали участие молодые работники, учась, как надо вести допросы. При этом арестованных допрашивали длительное время, требуя признательных показаний.
Вопрос: Существовала ли в действительности на территории Кировоградского района монархическая повстанческая организация церковников?
Ответ: Существовала ли такая организация, я не знаю.
Допросил ст. лейтенант Шутенко
Фрагмент допроса
свидетеля Сапожникова, 1908 г. р.
Протокол от 11. 1954 года (число не ясно — авт.)
Вопрос: Вы работали в органах НКВД в 1937-1938 годах?
Ответ: Да, работал.
Вопрос: Где и в какой должности?
Ответ: Я работал помощником оперуполномоченного, лично принимал участие в арестах и допросах.
Вопрос: Существовала на территории Кировоградского района террористическая организация?
Ответ: Существовала ли такая организация, я не знаю. Я, а также другие работники РОНКВД арестованных допрашивали длительное время, с 10 утра до 5 вечера, а потом с 8 вечера до 3 ночи. Допрашивали с напряжением. Кроме того, допускали элементы уговора арестованных и называли других лиц, как бы участников контрреволюционной организации. Арестованным говорилось, что такой-то поп признал себя виновным и что арестованному надо дать такие же показания, после чего арестованные давали показания на других лиц. Я записывал показания неточно, допуская элементы преувеличения преступной деятельности.
Допросил ст. лейтенант Шутенко
Фрагмент допроса
свидетеля Сапожникова, 1908 г. р.
Протокол от 24. 12. 1954 года
Сапожников: Само название организации как фашистская, повстанческая является вымыслом, подсказанным Маслянникову мною по указанию Бахарева.
Допросил ст. лейтенант Шутенко
Фрагмент допроса
свидетеля Чепкасова, 1905 г.р., проживающего в Свердловске-44
Протокол от 29. 10. 1954 года
Чепкасов: В бытность моей работы в кировоградском РО я оформлял материалы на многих лиц. В постановлениях об избрании меры пресечения и предварительного обвинения я, по указанию начальника райотдела НКВД Бахарева, указывал, что тот или иной человек являлся участником контрреволюционной организации, и указывалась проводимая им преступная деятельность.
Вопрос: Существовала ли в Кировоградском районе контрреволюционная организация в 1937 году?
Ответ: Я не видел никаких материалов о возможности существования такой организации. Постановление на арест я писал по указанию начальника РОНКВД Бахарева.
Ст. лейтенант Шутенко
Бахарев — бывший начальник районного отдела Народного комиссариата внутренних дел Кировоградского района города Невьянска — в конце 40-х годов был привлечен по статье 58-8-11 УК РСФСР, но дело прекратили за смертью обвиняемого.
В акте освидетельствования Бахарева судебно-психиатрической экспертизой было установлено отклонение в психике. Сейчас трудно понять, был ли психически болен следователь невьянского НКВД, когда давал указания на выписку постановлений на арест своих земляков-невьянцев. Возможно, что у него не выдержали нервы, когда он сам стоял под невыносимым светом прожекторов, будучи обвиняемым за провокационные методы ведения следствия и фальсификацию материалов. Не дожил Бахарев до своего обвинительного заключения, скончавшись в процессе следствия. Что ж, «падут нечестивые в сети свои» (Пс.140:10), — давно сказано.
А задолго до этого, 24 февраля 1939 года, был арестован еще один из бывших следователей — заместитель начальника Управления НКВД по Свердловской области Варшавский Л. Л., которого тоже обвинили в участии в антисоветском заговоре, только теперь уже в заговоре, созревшем в органах НКВД.
Старший лейтенант Шутенко (позднее — капитан), допросивший в 1954 году бывших следователей НКВД, записал в обзорной справке от 21 апреля 1954 года: «В вопросах внедрения провокационных методов ведения следствия и фальсификации документов Варшавский толкал подчиненный ему аппарат добиваться любой ценой признания от арестованных, в невиновности которых он сам заведомо был уверен, но требовал [признательных показаний — ред.] для оформления дел, для передачи в судебные инстанции… Практиковалось составление вымышленных протоколов [на обвиняемых — ред.], виновность которых не была доказана, и приговоры к различным срокам ссылок в исправительные лагеря и к В. М. Н.» (из документов областного гос. архива — авт.).
На основании этих данных 15 февраля 1940 года Военная коллегия Верховного суда СССР осудила Варшавского на 15 лет исправительно-трудовых работ.
Исполнились слова Священного Писания: «Ибо Он по делам человека поступает с ним и по путям мужа воздает ему» (Иов 34; 11).
«За недоказанностью преступления…»
Вскоре после возвращения домой из мест лишения свободы, весной 1954 года, отец Григорий подает в районное отделение милиции города Кушвы заявление о снятии с него судимости. Заявление это, написанное по требуемому образцу, сохранилось в материалах областного государственного архива. Интересно оно еще и тем, что впервые становятся известными точные данные, где именно и как работал батюшка после отбытия срока. Выяснилось также, что освобожден он был из лагерного пункта № 2, Боковой, станции Ягодная Хабаровского края.
Стоит отметить и тот факт, что бывший заключенный Пономарев, отбывший десять лет в исправительно-трудовых лагерях Магаданского края и устроившийся вскоре в Дорожный отдел Дальстроя МВД в должности дорожного десятника, неоднократно получал от начальства благодарность за хорошие производственные показатели.
Как же добросовестно надо было трудиться в суровых таежных условиях — на холодном ветру и в лютый мороз, — чтобы бывшему зэку, объявленному «врагом народа», завоевать уважение среди начальства и даже неоднократно получать за свой труд благодарности! Совесть христианская не позволяла отцу Григорию работать спустя рукава.
Материалы государственного архива
Из заявления
о снятии судимости в кушвинском РОМ, 1954 г.
…Пономарев Григорий Александрович, 1914 г.р., Курганская обл., г. Шадринск;
адрес: г. Кушва, Свердловская обл., ул. Зырянова, 21;
место работы: Михайло-Архангельская церковь;
должность: дьякон, служитель религиозного культа;
кем арестован: в 1937 г., в октябре, НКВД г. Невьянска;
когда осужден: в 1937 г., 21 ноября, Свердловской тройкой НКВД по делу УНКВД, срок 10 лет;
когда освобожден: в 1947 г., 30 октября, Хабаровский край, Магадан, Ягодная, Лагпункт № 2, Боковой, за отбытием срока.
31. 10. 1947 г. Хабаровский край, Дорожный отдел, в должности дорожного десятника.
11. 04. 1953 г. г. Магадан, Ягодная, Дорожная 23 дистанция, в должности дорожного десятника.
2. 05. 1953 г. — 3. 07. 1953 г. г. Свердловск, ул. Плавильщиков, д. 9; находится в отпуске.
4. 08. 1953 г. г. Кушва, ул. Зырянова, 21, Михайло-Архангельская церковь, диакон.
Со времени освобождения с 30 октября 1947 г. никаких преступлений не совершил, к судебной ответственности не привлекался и осужден не был. От дорожного отдела СГПУ за хорошие производственные показатели объявлена благодарность, приказ № ( далее не разборчиво — авт.) от 06.09. 1949 г. От дорожного отдела СГПУ за хорошие производственные показатели объявлена благодарность, приказ № 37 от 30. 03. 1953 г.
К заявлению отца Григория о снятии судимости приложена справка из кушвинской Михайло-Архангельской церкви, подписанная ее настоятелем, протоиереем Александром Введенским, от 23 мая 1954 года. В ней написано следующее: «Настоящая справка выдана Пономареву Г. А., что он работает дьяконом и исполняет свои обязанности добросовестно… За все время не было сделано ни одного замечания… Приятно видеть патриотическую настроенность в организации Богослужения во дни Советских праздников» (из документов областного гос. архива — авт.). Последняя фраза, конечно, обращает на себя внимание. Видимо, в характеристике гражданина Пономарева с места работы эта фраза должна была быть ключевой, чтобы способствовать быстрому ходу дела по снятию судимости, и умудренный жизненным опытом отец настоятель тонко понимал это.
Все необходимые документы для реабилитации осужденного Пономарева были собраны и отданы в кушвинский отдел милиции. А далее хорошо организованная бюрократическая машина по движению и производству прокурорских бумаг заработала сама по себе, запрашивая все необходимые и недостающие для решения дела материалы в учетно-архивном отделе Управления Комитета государственной безопасности.
Документы о снятии судимости с Пономарева Г. А. (так называемый «оформленный материал» на одиннадцати листах) и сам запрос были направлены в прокуратуру Союза ССР в апреле 1954 года.
Материалы государственного архива
Начальнику учетно-архивного отдела УКГБ
подполковнику Горшенину.
На № 7/1-23 от 14 апреля 1954 года.
…При этом высылается оформленный материал на снятие судимости с Пономарева Г.А.
Приложение: Запрос и материал на снятие судимости.
Всего на 11 листах.
* * *
Учетно-архивный отдел, 15 июля 7/1 23 п.
В прокуратуру Союза ССР, отдел по спецделам, Москва.
В управление КГБ по Свердловской области поступило заявление гр. Пономарева Г. А., 1914 г. р., ходатайствующего о снятии судимости.
Рассмотрение указанного заявления задерживается в связи с отсутствием архивно-следственного дела Пономарева Г. А. Проверкой установлено, что данное дело направлено в отдел по спецделам прокуратуры СССР. Просим сообщить, может ли быть выслано указанное дело нам для рассмотрения заявления.
* * *
Прокурору Свердловской обл. Климову.
Архивно-следственное дело № 16527 для проверки законности решения тройки УНКВД от 21. 11. 1937 года.
Необходима проверка материалов. Дело направлено вместе с заключением КГБ в прокуратуру.
2 августа 1954 г.
7 января 1955 года начальник следственного отдела Уральского Комитета госбезопасности при СМ СССР подписал наконец заключение по архивно-следственному делу № 16527. Из документа следовало, что в результате специальной проверки органы госбезопасности не обнаружили никаких материалов, подтверждающих виновность осужденных по данному делу. Более того, старший следователь УКГБ капитан Шутенко, лично допросивший бывших следователей, дал пояснение, что работники НКВД добились ложных показаний от обвиняемых путем вымогательств и обмана. В частности, бывшие сотрудники Комитета внутренних дел Сапожников, Тююшев, Бахарев и Чепкасов на допросе опровергли показания Григория Ивановича Лобанова, послужившие якобы основанием для ареста Пономарева.
По сути дела, этим официальным документом, обличающим систему чудовищной «кухонной стряпни» в системе органов НКВД, следственные структуры высекли сами себя. Знаменательна и фамилия подполковника, согласовавшего заключительный протокол от 7 января 1955 года, — Стряпчий…
Материалы государственного архива
Заключение
по архивно-следственному делу № 16527
Протокол от 7 января 1955 г.
Я, старший следователь Следственного отдела Управления КГБ капитан Шутенко, в соответствии с определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Совета Союза ССР от 6 марта 1954 года, рассмотрев архивное дело по обвинению Тамакулова, Горбунова, Пономарева, Кулакова, Кирилова, Морозова, Мохова, Бревенникова, Комарова, Заева, Арапова, нашел:
из материалов архивно-следственного дела видно, что Тамакулов.., Горбунов., Пономарев Г. А. (1914 г. р., урожденный г. Шадринска Курганской области, русский, гр. СССР, беспартийный, с образованием 7 классов, сын священника, до ареста служил псаломщиком в церкви, проживал в г. Невьянске, в Кировоградском районе, был арестован в 1937 году бывшим Кировоградским РО и привлечен к уголовной ответственности), Кулаков.., Кирилов.., Морозов.., Мохов.., Бревенников.., Комаров.., Заев.., Арапов… решением тройки при УНКВД были осуждены на 10 лет лишения свободы.
Материалы данного дела свидетельствуют, что Тамакулов.., Горбунов., Пономарев Г. А., Кулаков.., Кирилов.., Морозов.., Мохов.., Бревенников.., Комаров.., Заев.., Арапов… якобы являлись участниками контрреволюционной организации и проводили контрреволюционную деятельность.
Произведенной проверкой органом госбезопасности установлено, что никакими материалами, подтверждающими их причастность к контрреволюционной повстанческой организации и якобы проводимой ими контрреволюционной агитации, органы следствия не располагали. И только уже после их ареста работники органов НКВД, проводившие следствие, — Бахарев, Чепкасов, Тююшев, Казанцев, Сапожников — путем вымогательства и обмана арестованных добивались от них ложных признаний о принадлежности к мнимому контрреволюционному формированию.
Будучи допрошенными в качестве свидетелей, бывшие сотрудники Кировоградского РО Чепкасов, Тююшев, Казанцев, Сапожников, проводившие следствие, опровергли показания Лобанова, Пометова и др., послужившие основанием для ареста Горбунова, Пономарева, Кулакова как сфальсифицированные ими на допросах. Заявили, что о существовании контрреволюционной организации на территории Кировоградского района г. Невьянска им ничего не известно, и показали, что они путем вымогательств и обмана арестованных добивались от них ложных признаний…, записывали показания неточно, допуская преувеличения.
Будучи передопрошенным, Пономарев, осужденный по данному делу, на допросе 2 ноября 1954 года от показаний, которые он давал по своему делу в 1937 году, отказался и заявил, что на следствии в 1937 году никаких признательных показаний он не давал. Никого из числа своих знакомых он не называл, и признательные показания от его имени были записаны в протокол допрашивающим его работником органов НКВД… (том 3, стр. 179-184).
Полагал бы: войти с ходатайством в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Совета об отмене решения тройки НКВД от 21 ноября 1937 года в отношении Тамакулова, Горбунова, Пономарева, Кулакова, Кирилова, Морозова, Мохова, Бревенникова, Комарова, Заева, Арапова о прекращении на них дела за недоказанностью преступления.
Ст. следователь УКГБ капитан Шутенко
«Согласен» — Нач. след. отдела УКГБ при СМ СССР подполковник Стряпчий. 7 января 1955 года.
Заключение органов КГБ от 7 января 1955 года о прекращении дела № 16527 за недоказанностью преступления является, пожалуй, самым главным документом в деле государственного областного архива. Многие арестованные по этому делу — замученные насмерть в камерах предварительного заключения и без вины расстрелянные — так и не узнали всей правды о том, что «признательные» показания на них давали не друзья и сослуживцы, как это усиленно впечатывалось в протоколы, а следователи-иуды.
* * *
Весной 1955 года была поставлена последняя точка в этом сложном, запутанном деле. Почти восемнадцать лет понадобилось для того, чтобы восстановить справедливость и реабилитировать имена невинных людей.
За отсутствием состава преступления Судебная коллегия по делам Верховного суда отменила постановление тройки УНКВД от 21 ноября 1937 года, по которому Пономареву Григорию Александровичу вынесли обвинение как «руководящему участнику фашистско-повстанческой организации церковников на Урале» (из документов областного гос. архива — авт.). В папках областного гос. архива по делу №… имеется официальная справка от 23 марта 1955 года, подтверждающая соответствующее решение Судебной коллегии. В справке указано: «Судебной коллегией по делам Верховного суда СССР постановление тройки от 21. 11. 1937 г. отменено, дело прекращено за отсутствием состава преступления» (из документов областного гос. архива — авт.).
«Дело прекращено за отсутствием состава преступления». Мы никогда не будем знать всей глубины этой трагедии, но наша память должна зафиксировать все, что открыл нам Господь о жизни и подвиге исповедников веры, без вины осужденных и пострадавших даже до крестной смерти.
Заканчивая эту трудную главу, приведем еще один официальный документ. Это — справка от 30. 07. 1957 г. учетно-архивного отдела УКГБ при СМ СССР по Свердловской области, которая подтверждает, что в государственных архивах действительно имеется прекращенное архивно-следственное дело за номером 13027-55.
В справке так и написано: «На проверяемого имеется прекращенное архивно-следственное дело № 13027-55».
Итак, дело на Пономарева Григория Александровича прекращено за отсутствием состава преступления. 27 апреля 1955 года гражданину Пономареву Г. А. был выдан соответствующий документ за № 7/1-1401, которого нет среди документов гос. архива, но который до сего дня хранится в семье Пономаревых как самая дорогая реликвия.
Гр. Пономареву Григорию Александровичу
г. Кушва, Свердловской области,
ул. Зырянова, дом № 21.
Сообщаю, что решение тройки при УНКВД Свердловской области от 21/ХI-37 года в отношении Вас определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР от 23/III-1955 года отменено, и дело прекращено за отсутствием состава преступления.
Начальник отдела УКГБ
по Свердловской области Горшенин
27 апреля 1955 г. № 7/1-1401
г. Свердловск.
Крест у дороги
Какое ненастное, пасмурное утро!
Сегодня мы собрались посетить грустное место — место горечи и боли, очень значимое на нашей многострадальной екатеринбургской земле. Наверное, оттого, что этот день, 30 октября, назван днем скорби и печали…
На 12-м километре Новомосковского тракта под Екатеринбургом высится огромный, в несколько человеческих ростов, крест, рядом с которым раскинулся скорбный ряд мемориальных плит с высеченными на них именами расстрелянных здесь в 30-50-е годы ХХ-го века людей, подавляющее большинство которых были арестованы по ложному обвинению.
Имена восемнадцати тысяч арестованных, приговоренных к высшей мере наказания (В. М. Н.), увековечил русский православный Крест.
Мемориал — это не просто место расстрела, но и общая братская могила, в которой захоронены многие люди, расстрелянные и замученные в то страшное время. Среди убиенных особенно много служителей церкви, по которым безжалостно прошлась секира государственного террора. Здесь же в числе многих других покоятся и некоторые осужденные в 1937 году по делу № 16527.
Как тяжело находиться здесь. Земля, омытая слезами и политая кровью тысяч страдальцев, все еще хранит те пронзительные боль и ужас, которые они испытали, стоя на краю могилы. Их крестная смерть никогда не забудется. Их имена не сотрет время.
Подойди, прислонись к любому взрослому дереву, впитавшему через свои корни стоны и крики этих несчастных, — оно поведает тебе их скорбь и ужас.
Мы верим, что души праведников упокоились в райских чертогах, возвратившись в свое Небесное Отечество. Мы слышим их тихую песнь Господу: «Плоть моя упокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тления» (Деян.2:26-27).
Мемориал, созданный в 1996 году, — это наша вечная память, наше искреннее покаяние, наша неумолкающая молитва…
Два раза в год среди этих скорбных надгробий, увенчанных Крестом, на котором был распят Спаситель мира, проходят поминальные службы по убиенным.
Эти памятные дни — 30 октября и Троицкая Родительская суббота.
Мы никогда не забудем вас, дорогие братья и сестры, пострадавшие за веру Христову даже до смерти.
Царство вам Небесное, дорогие страдальцы!
«Со святыми упокой, Христе Боже, души раб Твоих».
Детство и юные годы отца Григория
Февраль, как всегда в Шадринске, был не столько холодный, сколько ветреный и вьюжный. Небольшой, но известный своими традициями, этот зауральский городок в те времена входил в Челябинскую область.
Протоиерей Александр Пономарев, настоятель одного из шадринских храмов, и его супруга Надежда ждали прибавления в семействе. Старшие дети были уже довольно большими: Нине — четырнадцать лет, Марусе — одиннадцать, Алексею — шесть.
Матушка Надежда — словно цветок орхидеи, так же прекрасна и хрупка. Рождения ребенка ждали с некоторым беспокойством: выдержит ли матушка? Но родители уповали на волю Господа. Если Господь благословляет рождение младенца, значит, это Ему угодно. Не нам судить о промысле Божием. Надо только молиться, чтобы рождение было благополучным.
В канун праздника святителя Григория Богослова, когда отец Александр уже служил всенощную, матушка, по нездоровью оставшаяся дома, почувствовала приближение родов. Девочки Нина и Маруся побежали за акушеркой, и в ночь на праздник святителя Григория Богослова, 7 февраля 1914 года, родился мальчик. Маленький, но крепкий, он так энергично заявил о своем появлении на свет Божий громким криком, что все окружающие, возблагодарив Господа, поспешили сообщить батюшке, что молитвы его услышаны: матушка Надежда благополучно разрешилась, и у отца Александра теперь появился второй сын. Самочувствие обоих нашли вполне удовлетворительным. Новорожденного в день святого Григория Богослова, архиепископа Константинопольского, было решено назвать его именем.
Шли годы, малыш рос здоровым и некапризным. Много времени с ним проводили матушка и сестры. Ребенок незаметно и органично впитывал в себя интересы и образ жизни семьи. Особенно заметна была для окружающих проявлявшаяся у него любовь к храму. В четыре года маленький Григорий уже помогал отцу Александру (конечно, по своим детским силенкам).
Позже отец Григорий вспоминал о том, как его спрашивали: «А какие у тебя были игрушки?».
— Да мне и не очень хотелось играть… Вот помню лошадку на палочке. Я хотел доскакать к Руслану и Людмиле, а еще в Киевскую Лавру и в Дивеево…
В пять лет Григорий много уже знал о Господе Иисусе Христе и Его святых угодниках, знал молитвы и с удовольствием учился читать русские и славянские тексты.
Отца Александра вскоре перевели в Екатеринбург, где он служил в большом соборе, стоявшем на месте нынешнего Дворца культуры Визовского завода. Семья переехала вместе с ним. Хорошо, что девочки стали уже совсем взрослыми. Они оказались хорошими помощницами матушке, которая старалась не показывать свою слабость и тающее здоровье.
Вот и Нина уже невеста, и Маруся так повзрослела… Дай им, Господи, счастливой жизни! Алеша вытянулся и стал похож на отца, а Гриша… Это какой-то странный ребенок! Ни детских капризов, ни особых шалостей. Все больше бывал с папой в храме, и как-то незаметно выяснилось, что он уже умеет читать по-церковнославянски и образцово знает порядок службы. Все окружающие, и особенно соседи, полюбили этого не по возрасту серьезного синеглазого мальчонку.
Первое горе, поразившее сердце Гриши, — смерть их соседа дяди Семена, который очень любил общаться с мальчиком, часто что-то рассказывал, вырезал ему из дерева забавных медвежат и зайчиков. Тетя Катя, его жена, всегда старалась угостить Гришу чем-нибудь вкусным.
Теперь тетю Катю узнать было невозможно: все плачет и плачет. Часто ходит на Ивановское кладбище, где похоронили дядю Семена; почти ни с кем не разговаривает и, исчезая на весь день, совсем редко бывает дома. Беспокоило отца Александра и то, что Катерина, буквально все забыв, не бывает даже в церкви, а все сидит или даже лежит на могиле мужа.
Прошло время. Вот и сорок дней миновало. Поздняя угрюмая уральская осень овладевает всем. Но Катерину этим не проймешь. С утра уходит и возвращается уже в сумерки, вся заплаканная и измученная… Так наступил один из последних дней осени, когда еще нет снега, но первые морозы уже прихватили землю.
Колючий, ледяной ветер срывает одежду, добираясь до тела, приводя его в дрожь своим уже зимним дыханием. Чернота застывающей земли наводит мрачные мысли. Катерина, не обращая внимания на непогоду, невзирая на доводы и убеждения духовного отца, совершает свои ежедневные походы на кладбище. Даже своего любимца Гришу почти не замечает…
Однажды поздним вечером, когда батюшка пришел со службы, он заметил, что окна соседнего дома, где живет Екатерина, темны. Где она? Родители переглядываются с беспокойством, да и маленький Григорий переживает что-то свое, непонятное… Они видят, как мальчик встает на колени в передний угол перед иконами. И вдруг — как крик души: «Папочка, родненький! Скорей запрягай жеребчика! Давай, давай поедем! Надо спасать тетю Катю!». Отец Александр и сам чувствует, что такое долгое отсутствие соседки не случайно. Но куда ехать? Где искать?.. Мальчик почти кричит:
— Давай быстрее, тетя Катя может погибнуть…
Отец Александр посадил уже одевшегося Гришу в повозку, сел сам и направился на кладбище Ивановской церкви, где почти «поселилась» Катерина.
— Не туда, папочка, не туда! Скорее езжай за Широкую речку, на болота. Скорее, ну скорее же!
Невольно повинуясь внутренней силе и убежденности своего пятилетнего сынишки, батюшка направляет лошадь в нужную сторону. Вот уже не видно и последних городских огоньков, миновали и новое Широкореченское кладбище. Дорога, отвердевшая от холодов, позволяет легко двигаться по болотистой местности. Ничего не видно, почти ничего. В душу медленно заползает леденящий ужас. Батюшка не перестает творить Иисусову молитву.
Отдельные, исхлестанные ветром кусты, корявые пни, омертвевшая зыбь… И вдруг вдали какое-то движение. Или это рябит в уставших глазах? Гриша стоит и дышит в ухо отцу. «Вот-вот, вот же она… Или они?» Он делает странное судорожное телодвижение и жмется к отцу. Жеребчик неожиданно храпит и упирается. На фоне почти стемневшего неба по застывшей земле без дороги движутся две фигуры. Один силуэт женский: в платке и коротком жакете (очень знакомая фигура)… А второй? Широкий, приземистый контур прикрывает собой Екатерину. Идут… Идут в темень, в неизвестность, в никуда…
И тут Гриша своим звонким детским голоском неожиданно даже для отца Александра закричал:
— Тетя Катерина! Тетенька Катя! Остановись! Господом Богом нашим Иисусом Христом тебя прошу!
И… о чудо! Внезапная вспышка света, широкая мужская фигура исчезает, и вконец испуганная, рыдающая Катерина подбегает к возочку отца Александра. Увидев его и Гришу, она падает в ноги мальчику и священнику. Бледная, со следами смертельной белизны в лице, она целует Гришу, целует руки батюшки Александра и не может вымолвить ни слова. Ее только бьет дрожь и содрогает икота от нервных спазматических рыданий. Вот такую они и привозят ее домой. Матушка Надежда оказала ей первую помощь, и наконец пришедшая в себя женщина рассказала:
— Я уже с неделю или чуть больше стала замечать: стоит только свечереть, как к Семеновой могиле подходит этот мужик. Такой вежливый, участливый. Меня все утешает и как-то мудрено говорит, а мне вроде и легче становится. Я последние дни стала даже ждать, что он подойдет. Сегодня он пришел опять и все говорил, говорил… Я чувствую, темнеет уже, пора возвращаться, и вдруг слышу его слова: «Ну, пора, Катерина, пойдем». И я как неживая, послушная ему, иду, куда он ведет, хотя чувствую, что вроде совсем из города выходим, да и ноги не идут, а воли моей нет! И только думаю: имя-то мое откуда он знает? Мы уже к болоту подошли. Огней городских не видно… А он все говорит и говорит, и я иду за ним как по приказу. И тут крик Гришеньки! Его ангельский голосок: «Тетя Катерина! Ради Господа нашего Иисуса Христа, остановись!». Как только он прокричал Имя Господа, этот мой спутник вдруг остановился как вкопанный, что-то сверкнуло и… его разорвало! И дух такой зловонный пошел.
Она вновь содрогается от воспоминаний.
Сильно переболев, Катерина, по молитвам всей семьи Пономаревых, пришла в себя. Она осознала, что, заведи ее бес в болотные дебри, погибла бы ее христианская душа, если бы не бесконечная милость Господа, вложившего в ум, сердце и уста маленького мальчика ее спасение. Как поддалась она на бесовские уловки? Вместо того чтобы молиться в храме за упокой души мужа, заказать сорокоуст и читать псалтирь, она лежала в каком-то отупении на его могиле и чуть не стала легкой добычей дьявола. Спас ее Гриша, ее любимец, сынок протоиерея Александра Пономарева, мальчик, которому Господь определил многое совершить в жизни.
* * *
Годы шли… Гришеньку уже называли Гришей, Григорием. Учиться в школе он не имел возможности — после революции детей духовенства не принимали в школы. Тогда отец Александр, блестяще образованный человек (он имел два высших образования: медицинское и духовное), составил план обучения сыновей, в который входили и общеобразовательные дисциплины, и духовное образование. Только на уроки по математике, химии и физике мальчики ходили к частному преподавателю.
Григорий очень серьезно и углубленно стал изучать полный курс Духовной Семинарии, одновременно помогая отцу в церкви: знание церковной службы выручало. Лет в тринадцать-четырнадцать он уже мог участвовать в службе в качестве псаломщика и, если надо, сам пел в хоре. Правда, голос, еще не прошедший мутацию, иногда давал срыв, к его великому смущению, и вызывал милые смешочки девочек Увицких — Ольги и Нины, которые пели в хоре этого же храма.
Ох уж эта Нина — Ниночка Увицкая! Тоненькая, сероглазая, она не выходила у него из головы. Они ведь знали друг друга еще малышами, затем знакомство на время прервалось, и вот теперь они, уже подростки, познакомились, можно сказать, вновь.
К шестнадцати годам Григорий твердо знал, что его жизнь и труды должны быть связаны с Православной Церковью. Если Господь сочтет его достойным, он будет служителем Церкви. Где-то еще присутствовала далекая мысль, появившаяся в детстве — уйти в монастырь, стать монахом. Этот духовный подвиг неудержимо привлекал к себе юношу. Но вот Ниночка! Много раздумий, колебаний… В конце концов, он же не знает, как она к нему относится…
«Пусть все будет по воле Твоей, Господи!»
Прошло еще несколько беспокойных лет. Революция ломает планы, намерения людей. Девочки Пономаревы первые покинули родное гнездо. Сначала старшая — Нина, а потом и Мария.
В 1929 году, согласно прошению и по благословению Преосвященного епископа Шадринского Валериана, Григорий Пономарев становится псаломщиком, чтобы служить вместе с отцом в различных храмах Екатеринбургской епархии.
Время пришло неспокойное, постоянно что-то менялось в жизни, поэтому их часто переводили с прихода на приход. В 1932 году они жили в городе Невьянске Свердловской области и служили в маленькой Вознесенской кладбищенской церкви, единственной действующей в городе, стоявшей на берегу пруда. Невьянск — тихий, спокойный, провинциальный городок, у которого есть своя достопримечательность — падающая башня. Эта башня была построена еще Демидовыми[3] на железоделательном заводе (как тогда его называли) и располагалась недалеко от пруда. Очевидно, грунтовые воды подмыли тяжелое сооружение, но оно не рухнуло, а лишь наклонилось, да и осталось таким до нынешних времен.
Духовный рост Григория шел очень быстро. В юные годы это был уже сложившийся молодой человек, имеющий свои замыслы, цели, задачи. Он много читал, стол его был заложен трудами Василия Великого, Григория Богослова, Феофана Затворника, Иоанна Кронштадтского. Он не только умом, но душою проник в Библию и много почерпнул из нее, духовно осознавая святость и величие этой Богоданной Книги.
* * *
Жизнь становилась все беспокойнее. Разговоры о том, что арестовывают и ссылают духовенство, с каждым днем подтверждались.
Матушка Надежда, имея слабое здоровье, совсем сдала. Поначалу она бодрилась, не подавала вида, но от любящих мужа и сына правду не скрыть. Теперь она окончательно слегла. Отец Александр и Григорий пламенно молились о ее здоровье, но внутренне готовили себя к самому плохому. Как знать, что лучше? Возможно, Господь хочет уберечь ее от предстоящих тяжелых страданий за мужа и сына? Все происходит по Его святой воле. Она успела исповедаться и причаститься, благословила своего младшенького и заочно всех старших детей, и душа ее мирно отошла ко Господу.
Осиротела семья Пономаревых. Протоиерей Александр и Григорий мужественно несли свое горе, проводя заупокойные службы и в храме, и на могилке матушки, прямо за алтарем Вознесенской церкви. Как заботливые родные, склонили над свежим могильным холмиком свои ветви две ракиты и белоствольная березка. Их трепетные листочки ласково прикасались к лицам отца Александра и Гришеньки. «Господи! Помоги вынести тяжесть разлуки с любимым человеком. Дай нам благодать встречи в мире ином, где нет ни горя, ни скорби, ни страданий…»
Вот увели отца Михаила Оранского, батюшку Иоанна Покровского… Прошел слух, что забрали священника Сергия Увицкого. «Господи! Как там Нинонька?» Протоиерей Александр Пономарев после смерти жены принимает монашеский постриг с именем Ардалион и далее служит настоятелем Миасской Свято-Троицкой церкви. 19 декабря 1934 года иеромонах Ардалион был награжден саном игумена. Сохранился документ, свидетельствующий об этом:
«Настоятель Свято-Троицкой церкви города Миасса Челябинской области иеромонах Ардалион (Пономарев) по представлению Нашему Его Святейшеством, Блаженнейшим Сергием, Митрополитом Московским и Коломенским, за усердное служение Церкви Божией ко дню Святой Пасхи 1935 года награждается саном игумена, в каковую степень нами и возведен сего 19-го декабря 1934 года за Божественной Литургией в Свердловском Свято-Духовском Кафедральном Соборе, о чем и дано настоящее свидетельство за надлежащей подписью и приложением Архиерейской печати. Смиренный Макарий, Архиепископ Свердловский и Челябинский».
По рассказам отца Григория, некоторое время после пострига отец Ардалион жил в монастыре. Однако вскоре монастырь был разорен и игумен Ардалион вновь вернулся в маленький домик в Невьянске, где жил и служил псаломщиком в храме его сын Григорий. Но это ненадолго. В середине 30-х годов отец Ардалион пропал без вести и все сведения о нем оборвались. Что говорить о годах сталинских репрессий, если даже во времена «оттепели» дочь архимандрита Ардалиона Мария Александровна, приложившая много сил для выяснения дальнейшей судьбы отца, так ничего и не добилась! В 2005 году внучка архимандрита оформила новый запрос в Министерство внутренних дел Российской Федерации с просьбой предоставить родным сведения о судьбе Александра Ипполитовича, но ответ последовал следующий:
«Уважаемая Ольга Григорьевна! На Ваше заявление сообщаем, что ГИАЦ МВД России, ГУВД Свердловской области сведениями в отношении Пономарева Александра (Ардалиона) Ипполитовича, 1862 г. р., не располагают. Зам. начальника ОСЦ А. В. Бушуев».
В семье Пономаревых сохранились лишь отрывочные воспоминания об этом времени. Отец Григорий говорил однажды, что для архимандрита Ардалиона готовились документы о посвящении его в сан епископа, но репрессии тех лет помешали осуществить замыслы церковноначалия. В семейном архиве сохранилась фотография студента Александра Пономарева в годы его обучения на медицинском факультете Томского университета. Более об этом факте из жизни архимандрита ничего не известно.
И только в августе 2006 года протоиерей Валерий Лавренов, настоятель Верхне-Пышминского храма Екатеринбургской епархии, по просьбе авторов книги предоставил архивную справку о трагических событиях, произошедших во второй половине 30-х годов ХХ-го столетия на Урале и связанных с судьбой архимандрита Ардалиона. Приводим ниже текст этой справки.
«Группа челябинского духовенства направила благочинного церквей Уфалейского района протоиерея Александра Можаева в Москву к митрополиту Сергию (Старогородскому) с прошением о назначении епископа в Челябинскую епархию. Митрополит Сергий ответил, что он уже направлял в Челябинск нескольких епископов, но власти отказывали им в регистрации. Он порекомендовал найти епископа на месте. Было решено пойти на уловку. Вначале зарегистрировать будущего кандидата настоятелем одной из церквей, а затем наградить саном епископа. Секретарь свердловского архиепископа протоиерей Павел Федорин посоветовал приглядеться к настоятелю Вознесенской церкви Невьянска игумену Ардалиону (Пономареву). После переговоров тот дал свое согласие. Поскольку единственный действующий храм Челябинска, Симеоновский, находился в ведении обновленцев, решено было кафедру Челябинского епископа разместить в Вознесенской церкви п. Касли. В феврале 1936 года причт и община Вознесенской церкви п. Касли избрали игумена Ардалиона своим настоятелем. Вскоре он выехал в Москву за утверждением. 1 марта 1936 года в Дорогомиловском соборе г. Москвы игумен Ардалион был возведен в сан архимандрита. По неизвестным нам причинам хиротония была отложена. 4 января 1937 года архимандрит Ардалион был арестован. 13 июня 1937 года постановлением Особого совещания при НКВД СССР приговорен к 5 годам лагерей. Реабилитирован в 1959 году».
* * *
В 1935 году, когда Григорию Пономареву исполнился двадцать один год, он служил в Невьянской церкви псаломщиком. Интерес к материальному положению Церкви со стороны государства в то время усиливался прямо пропорционально гонениям на духовенство. В этом году Григорий и получил благословение поступить (видимо, заочно) на бухгалтерские курсы, организованные в городе Одесса. Очевидно, от него потребовались профессиональные знания и навыки по ведению финансовых документов в храме (как это созвучно нашему времени!). Эти сведения в полном объеме и получил молодой псаломщик. Такие понятия, как «вывод баланса за месяц», «оборотные ведомости Главной и Вспомогательной книг с генеральным балансом», «сборный Журнал с выборками по Мемориалу и Кассовому Журналу с шахматным балансом», отец Григорий не только тщательно изучил, он представил самостоятельные работы по этим темам как свидетельство о технических навыках в усвоенных им трех бухгалтерских системах.
Отрезок жизни Григория Пономарева, связанный с его учебой в Одессе, остался неизвестным для полного описания. Сохранилась лишь справка-отзыв автора «Уроков бухгалтерии», выданная Григорию Александровичу 28 апреля 1935 года за номером 38837. Вот полный текст документа:
«Настоящий отзыв выдан мною Григорию Александровичу Пономареву в том, что им представлены мне для проверки следующие самостоятельные работы по бухгалтерии по заданным в моих руководствах темам для проверочного испытания, а именно:
- Записи за месяц по американской системе с выводом баланса за месяц.
- Записи за месяц по обыкновенной итальянской системе с проверочным балансом (оборотной ведомостью).
- Записи за месяц по улучшенной итальянской системе с оборотными ведомостями по Главной и Вспомогательной Книгам с генеральным балансом.
- Сборный Журнал за месяц по немецкой системе с выборками по Мемориалу и Кассовому Журналу с шахматным балансом.
Представленные работы свидетельствуют, что основы двойной бухгалтерии по американской и итальянской системам равно, как и технические навыки по этим системам, усвоены им (Григорием Александровичем Пономаревым) вполне удовлетворительно.
Автор Э.С. Гальперин».
О том, что отец Григорий освоил теорию и практику ведения финансово-бухгалтерских документов по трем(!) системам (американской, итальянской и немецкой), знает мало кто из родных и близких, а тем более — из духовных чад батюшки.
* * *
Все духовенство России жило в сильнейшем напряжении. Тяжелый моральный груз лег на плечи юного псаломщика. Недавно умерла матушка Надежда, а вскоре последовал арест архимандрита Ардалиона. Григорий остался один, и только молитва, к которой он был приучен с колыбели, и вера в Господа помогли ему не сломаться. Он трудится в храме, продолжает много читать, начал учить иврит. На душе тяжело — ведь он еще так молод. Но вот светлый луч озаряет его одинокую жизнь. В Невьянск приезжают сестры Увицкие. Это уже взрослые девушки, такие близкие по духу.
Семью Увицких тоже разметало время. Старший сын Михаил женился и жил со своей семьей. Матушка Павла Ивановна после ареста мужа постоянно находилась с младшим сыном Николаем, а девочки, будучи дочерями «врага народа», лишились работы. Не имея возможности заработать на кусок хлеба, по благословению настоятеля и по приглашению старосты Невьянского храма Татьяны Романовны, хорошо знавшей всех Увицких, они приехали в Невьянск и стали петь в церковном хоре, где служил псаломщиком и Григорий. Детские и юношеские симпатии и привязанности возобновились у повзрослевших уже друзей, и 23 октября 1936 года Григорий Александрович Пономарев сочетался законным браком с девицей Ниной Сергеевной Увицкой. Две семьи, дружившие много лет, теперь породнились.
Октябрь стал для них судьбоносным месяцем: в октябре они поженились, в октябре день рождения Ниночки, в октябре его арестуют, и через много лет в одну из октябрьских ночей они вместе отойдут ко Господу.
Свадьба была светлой и радостной. Съехались немногие родные, было много улыбок и теплых поздравлений. Певчие Вознесенского храма, «верные ей и горячо любящие», написали «милой Нине» на небольшом листочке трогательное поздравление с законным браком, желая ей «много, много счастья!». Это поздравление матушка Нина хранила до конца своих дней в своей заветной шкатулке.
А какой это был замечательный день!
Переливаясь всеми цветами золота, бронзы и пурпура, деревья при ветре осыпали молодых дождем из листьев. Небо, какое бывает только осенью, в редкие солнечные дни октября, глубокое и голубое, почти синее, подчеркивало красоту этого блистающего дня, одного из последних перед наступлением ненастья. Один день, который как будто завершал лето, отдал им всю накопленную красоту: «Возьмите! Пусть это навеки останется в вашей памяти как дар!».
Молодые супруги Пономаревы поселились в маленьком домике, в котором еще недавно жил Григорий Александрович вместе с отцом. Жизнь шла своим чередом. Молодая чета трудилась в храме. Он — псаломщиком, а она — в церковном хоре, на клиросе.
А менее чем через год, двадцатого августа 1937 года, Григорий подал прошение на имя Блаженнейшего Сергия, Митрополита Московского и Коломенского, с покорнейшей просьбой, чтобы его удостоили посвящения в сан диакона. Текст этого документа сохранился в архиве семьи.
Его Блаженству, Блаженнейшему Сергию, Митрополиту Московскому и Коломенскому
Псаломщика Вознесенской кладбищенской
г. Невьянска церкви, Свердловской епархии
Григория Александровича Пономарева
Прошение
Я, нижеподписавшийся, родился в 1914 г.; сын протоиерея, образование получил домашнее, в объеме прежней Духовной Семинарии. Будучи 16 лет от роду, возымел крепкое желание посвятить себя на служение Церкви Божией, и с благословения преосвященного Валериана, епископа Шадринского, временно управлявшего Свердловской епархией, стал служить псаломщиком в пределах Свердловской епархии. С указанного времени и по настоящее время служу на православном приходе. В продолжение всего моего служения по милости Божией оставался верным сыном Святой Православной Церкви, не уклоняясь ни в какие церковные течения, как-то: обновленчество, григорианство. Стремясь всем сердцем к тому, чтобы как можно больше приносить пользы Святой Православной Церкви, и памятуя слова Священного Писания: «Благо есть мужу егда возмет ярем свой от юности своей», я желаю посвятить все свои молодые годы и силы Церкви Божией, а потому покорнейше прошу Вас, Блаженнейший Владыка, удостоить меня посвящения в сан диакона, чтобы я в этой новой для меня должности больше бы имел возможности все свои силы и способности проявлять и отдавать на пользу Святой Православной Церкви.
К сему прошению подписуюсь: псаломщик
Григорий Александрович Пономарев, 20 августа 1937 г.
5 сентября 1937 года состоялась поездка Григория и Нины Пономаревых в город Сарапул, в котором временно управляющий Свердловской епархией Высокопреосвященнейший архиепископ Сарапульский Алексий за Божественной Литургией в Георгиевском храме рукоположил псаломщика Пономарева Григория Александровича в сан диакона. Какая радость для молодой семьи! Немного трудновато сегодня Ниночке, которая всегда рядом — она вот-вот должна родить. Думали, что ей надо остаться дома, но разве она может пропустить столь важное событие в их жизни! Ничего. Господь поможет. Радость их безгранична. Они возблагодарили Господа за начало священнического пути отца Григория. А 21 сентября — новые волнения. У них родилась дочка.
Поздравления сыплются на молодую семью. Поздравления с рукоположением в диаконский сан и поздравления с рождением малышки. Как больно, что эту радость не могут разделить с ними родители отца Григория и пребывающий в заключении отец матушки Нины протоиерей Сергий Увицкий…
Чудом сохранилось дошедшее до наших времен письмо отца Григория, написанное им 24 сентября 1937 года в Нижний Тагил маме матушки Нины — Павле Ивановне Увицкой. В нем всё — и радость, вызванная рождением дочери, и нежная любовь к дорогой супруге, и трогательная забота о здоровье обеих…
«Милые и дорогие мои тагильцы!
21/IХ в 2 часа дня моя благоверная благополучно разрешилась от бремени, родилась девочка славная такая, черноволосая и крепкая… Поздравляю вас с новым членом, появившимся в нашей семье. Если Нинусинька будет себя хорошо чувствовать, то ее выпишут из больницы числа 26/IХ. Моя покорнейшая просьба, если только можно, Павла Ивановна, не можете ли Вы приехать к нам к 26 числу? Меня дома совершенно почти не бывает, а на первых порах Нинчинку боюсь оставить одну. Крестить думаем числа 30 октября. Напишите, могут ли приехать Леля и Коля. Потом вот еще. Ниночка у меня все просит яблочков, а последних здесь нет. Если можно, то привезите. Я пока здоров, работы у меня очень и очень много. Пишу и ужасно тороплюсь, потому что много дел.
Целую всех вас, любящий вас Гриша. 24/IХ-37 г.».
30 октября, когда маленькой Леле исполнилось 40 дней, счастливые родители принесли ее в храм для Святого Крещения. И в этот же день, октябрьским вечером, молодого диакона Григория Пономарева арестовали, предъявив ему в качестве обвинения действия, означенные в 58 статье УК РСФСР. Он причислялся к категории арестантов как «служитель культа». Его увели. Куда? Вероятно, в СИЗО, а потом… Трудно сказать, что будет потом.
Опять в их жизни октябрь…
Спас Нерукотворный
Сохрани мя Господи из руки грешничи, от человек неправедных изыми мя…
Пс. 139
Ночь прошла в слезах и молитвах. Малышке передавалось состояние матери: она постоянно просыпалась, возилась, долго не успокаивалась. Утром, оставив ребенка у близкого их семье человека — старосты невьянского храма Татьяны Романовны — Ниночка, теперь матушка Нина, побежала в милицию.
Все в одном здании: и милиция, и прокуратура, и следственный отдел. Кругом суета, запах хлорки, клубы табачного дыма. Никто толком ничего не знает о судьбе дорогого матушке человека. По разным кабинетам снуют безразличные к чужой беде люди, которые по большей части просто отмахиваются. Наконец один старик — дежурный или вахтер, узнав, кого она ищет, почти радуясь, ядовито изрек:
— Что, думаешь, он один тут такой? Вот наберем партию вашего брата, ну и еще кого по другим статьям, и отправим в Свердловск, там разберутся. А пока — у нас. Держать-то их есть где, подвалы демидовские…
И на мгновение, поверив в свою значимость, злобный старик осклабился, обнажая гнилые, черные зубы под прокуренными усами; после чего добавил:
— Иди, иди, а то и тебя заберем, тоже ведь враг народа.
И непонятно прозвучала эта угроза: то ли в шутку, то ли всерьез.
Окунувшись в чужую, страшную жизнь, где теперь оказался и ее муж, она, совершенно разбитая, забежала к Татьяне Романовне покормить малышку и поспешила в храм.
В маленьком городке слухи распространяются моментально. Уже все знали, что увели отца диакона. Почти одновременно прошел леденящий слух о том, что где-то в области на днях забрали из дома молодого священника, а к вечеру двое в штатском пришли за его беременной женой. Через пару дней ее мертвое поруганное тело нашли в овраге за огородами.
Еще утром матушка Нина отправила в Нижний Тагил письмо о тяжелых событиях в их семье. Она просила брата Николая приехать в ближайший выходной в Невьянск и забрать их с малышкой. Но, посоветовавшись с Татьяной Романовной, она решила не дожидаться воскресенья и в эту же ночь с соседней станции уехать к маме в Тагил. Но до ночи еще надо было дожить.
Татьяна Романовна пошла проводить Нину домой… Распахнутые настежь ворота их домика раскачивал ветер. В собачьей конурке, где жила прибившаяся к ним прошлой осенью дворняжка, — тишина. В глубине конуры, к которой ведет кровавый след, — мертвое тельце собаки. Что им стоит? Ткнули в бедное животное поленом — и все. Кухонное окно дома разбито, но висячий замок на входных дверях на месте. Или спугнул кто? Внутри, кажется, ничего не тронуто, но волна ужаса охватила обеих женщин… Они вдруг осознали, что до ночного поезда Нине с ребенком спрятаться негде. Первой, у кого начнут искать, будет Татьяна Романовна, да и городишко так мал, что все на виду, не скрыться.
Они собрали самое дорогое: венчальные иконы, венчальные свечи и фату, Евангелие маленького формата, принадлежащее архимандриту Ардалиону, детские вещи. Набрался небольшой узелок: его — в одну руку, малышку — в другую. Все остальное: церковные книги, иконы, фотографии — унесет к себе Татьяна Романовна и спрячет до лучших времен.
Женщины, упав на колени перед образом «Нерукотворного Спаса», фамильной иконой рода Пономаревых, вознесли Богу свои пламенные молитвы о спасении отца Григория и матушки Нины с малышкой. Они верили, что Господь не оставит их. Надо только что-то придумать… Татьяна Романовна отыскала во дворе старые доски и наспех забила все окна крест-накрест, создавая впечатление оставленного дома. Ничего, до ночи Нина с дочкой пересидят в холодном, нетопленом чулане — еще не зима.
Выходя из дома, Татьяна прикрыла входную дверь, повесила замок… Вид у домишки совсем нежилой. Татьяна вынесла из дома икону Нерукотворного Образа. Внимательно оглядевшись, она прислонила ее почти к земле недалеко у ворот, забросала икону сухими осенними листьями и ветками. Вышла на улицу, не закрывая калитку…
Первый снег, в помощь задуманному, сыпал во двор легкую снежную крупу, вслед которой падали уже большие мокрые хлопья. Снег прикрыл Татьянины следы во дворе, ветер намел снежный бугорок на икону. Уже в полной темноте она ушла, оставляя на Божие произволение семью отца диакона, чтобы вернуться ночью.
Матушка Нина вместе с малышкой спрятались в «брошенном» доме. Они притаились в темном чулане и уповали только на защиту святой иконы — Нерукотворного Образа Спаса нашего Иисуса Христа. Все же какую сильную веру надо иметь, чтобы до конца, до последнего вздоха так довериться Господу! Довериться, веря в силу Его чудотворной иконы, которая невидимо, но сокровенно, лучше всяких замков ограждала их домишко от опасности.
До глубокой ночи творя Иисусову молитву и читая «Живый в помощи…», Нина молила Господа, чтобы ее дочурка не раскапризничалась и плачем не привлекла бы незваных гостей.
Порой матушке слышались какие-то шаги, шум. Раскрытая калитка надрывно скрипела, сотрясаемая ветром… Но вот напряженный слух Нины уловил шорох знакомых шагов. Она услышала звуки открывавшейся двери, и в слабом свете дверного проема появилась долгожданная Татьяна Романовна. Дрожащим голосом она поспешила предупредить о своем появлении. Эта добрая, простая женщина, наверное, даже не понимала, какой, в сущности, она совершает христианский подвиг.
— А знаешь, Ниночка, на улице-то, у ваших ворот, столько свежих следов! Словно дойдут до ворот, а во двор им хода нет. Снег-то во дворе так и лежит — ни следочка на нем. Господь вас хранит. Давайте, дорогие мои, собирайтесь. С Богом. Сейчас провожу вас и посажу на поезд — я уж и билет купила. Потом вернусь за иконушкой и спрячу ее. Ты не тревожься, Нина, Господь сохранит вас.
На холодном, насквозь продуваемом перроне — ни души. Поезд как бы нехотя притормаживает здесь на две-три минуты, чтобы вновь начать свой путь. Неуклюже скользя по мокрому снегу, женщины, задыхаясь, добежали до означенного в билете вагона. Нина с малышкой торопливо взобралась на высокие ступени поезда. Поезд сердито запыхтел и тронулся. Кажется, опасность миновала… Татьяна, перекрестив беглецов, еще долго смотрит им вслед. Затем все потонуло в снежной ночной мгле…
* * *
Трагические события, случившиеся с молодой семьей, произошли стремительно. Родные с ужасом слушали приехавшую утром Нину. Она рассказала им об аресте отца Григория, о нападении на их дом. Письмо, отправленное матушкой накануне, получили лишь через несколько дней.
От Татьяны Романовны вестей не было долго. Она боялась за них, они за нее. И только спустя полгода, после тяжелой поездки матушки Нины на Восток, чуть не стоившей ей жизни, от Татьяны Романовны пришло маленькое сообщение. Она писала, что все в сохранности: иконы, церковные книги и фотографии. Писала также, что наутро после их отъезда в доме перевернули все: разгром был яростный. Может быть, приходили и накануне вечером: или власти, или ворье. Но вот войти в раскрытые ворота не смогли — икона не пустила. Слава Тебе, Господь наш Защúтитель! Я лишь дважды видела Татьяну Романовну, уже когда была подростком. Однажды, когда мне было лет девять, мы с мамой ездили в Невьянск на могилку к бабушке. Там мы и встретились с Татьяной Романовной. Как она была добра к нам! Увидев меня, расплакалась, говоря, что я очень похожа на отца. Мы вместе молились перед фамильной иконой Пономаревых «Спасом Нерукотворным» и благодарили Бога за наше чудесное спасение девять лет назад.
Вспоминается еще один случай из нашей с мамой жизни в то время. Это был, кажется, 1948 год — денежная реформа — стремительная, однодневная. На все имеющиеся у населения деньги надо было в течение дня успеть приобрести товары, так как на следующий день эти купюры превратились бы в жалкие копейки.
Татьяна Романовна, добрая, беспокойная женщина, зная, какую нищенскую жизнь влачит матушка Нина, оказала ей в эти трудные дни посильную помощь. Понимая, что наша семья находится в тяжелом положении, она утром приехала в Тагил и привезла маме небольшую сумму денег. Они вместе бегали по опустевшим вмиг магазинам в поисках продуктов. Им удалось купить картошку, муку, какие-то крупы. Это было тогда сказочное богатство.
Мама всегда молилась за здоровье рабы Божией Татьяны. Когда вернулся из долгого заключения папа, они с мамой совершили поездку в Невьянск к дорогим могилкам. Конечно, они встретились с Татьяной Романовной, чтобы искренне поблагодарить эту мужественную женщину. Тогда, вероятно, она и передала родителям проявившую свою чудотворную силу икону «Нерукотворного Спаса» и другие святыни, которые она преданно хранила около двух десятков лет. Вскоре Татьяна Романовна скончалась. Светлое имя этой христианки навсегда было записано в поминальнике отца Григория; он неоднократно служил заупокойные панихиды по рабе Божией Татьяне.
Фамильная икона Пономаревых всегда находилась в доме отца Григория и матушки Нины. Перед ней они возносили свои горячие молитвы к Богу, и под сенью этого образа в одну ночь перешли в мир иной.
Он и она
Он
Это был такой же день, как уже многие проведенные тут. Ледяной, колючий ветер летел по степи с огромной скоростью, подхватывая песок, мелкие острые камешки, обрывки чужих, незнакомых растений, с силой швыряя их в лицо, заслоняя глаза и забивая нос и гортань. Угрюмое желто-серое небо почти касалось голов таких же угрюмых и озлобленных заключенных, ушедших, как бы защищаясь, в себя и вяло реагирующих на уже привычную брань и окрики охраны.
Он работал, стараясь повернуться так, чтобы ветер дул ему в спину. Но тогда не было видно барака главного управления, стоявшего невдалеке, который почему-то именно сегодня он не хотел упускать из виду, словно боясь просмотреть что-то важное. Поймав себя на этой мысли, он углубился в работу, постоянно творя молитву. Но вдруг что-то светлое, давно забытое, совсем из другой жизни затрепетало в нем, сливаясь с молитвой, вызывая непонятное волнение и слезы. Впрочем, слезы могли быть и от ветра. Напряжение внутри росло, натягивая и оголяя каждый нерв. «Боже Милостивый, что со мной? Не остави меня, грешного, дай справиться с собой!» Откуда это чувство, в котором переплелись и боль, и радость, и странное нетерпение? «Господи, на все Твоя воля, только не остави меня, грешного, не остави…»
После вечерней проверки прошел слух, что на главном пропускном пункте появилась женщина, жена осужденного. Барак возбужденно гудел. Мысли жгли, бились как в клетке: «А вдруг это ко мне? Нет, невозможно, да и как она оставила бы малышку! Нет, нет. Не надо даже думать об этом… Но какая героиня! Ведь это первый случай, когда в такую глушь смогла пробраться женщина. Кто же этот счастливец? А вдруг ее не пустят! Ведь тут законов просто нет. Господи, помоги ей, чья бы это ни была жена…».
* * *
Неожиданно пришла повторная проверка «с пристрастием». Грязно ругаясь, охранники прилипчивее обычного перетрясали жалкое тряпье заключенных. Особенно усердствовал один — угреватый, мордастый, глумливо ухмыляющийся. Ничего не найдя и «обложив» всех по привычке, они ушли далеко за полночь. Все долго не могли успокоиться: раздавались стоны, проклятия, чье-то сдавленное рыдание.
Утром при построении им было объявлено, что их отправляют на конечный пункт этапирования — куда-то на Север, через пролив, помогать вольнонаемным шахтерам, «доблестным строителям коммунизма».
Ехали долго в вагонах для скота. Остановок не было. Люди, намучившись, справляли нужду прямо здесь же. Их вяло обругивали, но вскоре повторялось то же. Он давно уже заметил среди заключенных, в основном уголовников, несколько стариков, чью интеллигентность не могли стереть ни грязные, вонючие ватники (так называемые фуфайки), ни матерщина, висевшая в воздухе. Даже на окрики охраны они реагировали как-то по-своему, доводя до иcступления «борцов за светлое будущее». Эти люди были островками миролюбия среди бурлящего потока душевных нечистот. Но было заметно, что физически они уже на пределе… Движение поезда стало замедляться. В дощатые дырявые вагоны начал проникать холодный соленый воздух, и все тело, впитывая его, покрылось этой соленой влагой. И вдруг через головы соседей-арестантов ему открылось море.
Раньше он никогда не видел моря. И то, что открылось взору, превзошло все представления о нем — бескрайнее, неохватное для глаз, свинцово-серое. Высокие волны, набегая одна на другую, с плотоядным чавканьем обрушивались на берег, у которого, как забытая детская игрушка, болталось, чуть не опрокидываясь, рыболовецкое судно. В него-то под вопли охраны и самих заключенных стали «трамбовать» страдальцев.
Обледенелые сходни без перил. Сзади — напирающая толпа, которую под автоматами загоняют на трап. Кто соскользнул, не удержавшись — нашел тут свою могилу. Море быстро уносит жертвы. Крики ужаса, ненависти, отчаяния — все накрывает неумолимый, нескончаемый и безразличный ко всему рокот волн.
Разверзшееся чрево рыболовецкой шхуны все заглатывает и заглатывает людей. Вот уже не только сидеть — стоять почти невозможно, а охрана осиплыми, лающими воплями и ударами прикладов ухитряется вгонять еще и еще. Но вот заработал двигатель, судно задрожало и «живая могила», отпущенная швартовочными канатами, взметнулась на волне к линии горизонта, как скаковой конь. «Господи, спаси и сохрани! Не дай погибнуть вот так, без покаяния!» Заключенные стоят так плотно, что даже при качке некуда падать. Только крики боли… Трещат и ломаются ребра, люди давят друг друга. В трюме — дурнота от непрерывных взлетов к небу и падений в бездну, как на чудовищных бесовских качелях; дурнота от спертого воздуха, пропитанного запахами гнилой рыбы и давно не мытых человеческих тел. Порой разносятся истошные вопли: или кого-то всей массой прижали к борту, или чье-то невыдержавшее сердце исторгает последний, прощальный крик.
Время остановилось. Кажется, что прошли недели, месяцы, как их швыряет в этом аду Охотское море. Вдруг — удар! Такой страшный, что трещат все крепления. Еще и еще. Неужели это конец? На море шторм, но матросы ухитряются пришвартовать к берегу эти «качели». По притоку свежего воздуха он догадывается, что открыли люк. Вот мелькнул кусок неба, плачущего мокрым снегом, как бы оплакивающего будущие жертвы.
Опять брань. Дикая брань охраны, подготавливающей людей к выходу. Пошли. Стало свободнее. Но… что это? Многие из заключенных в тот момент, когда их перестала держать и сдавливать толпа, падают без движения. Все. Для них уже все закончилось. Они были мертвы уже в пути, их просто держала сбитая масса людей. «Упокой, Господи, души этих страдальцев. Прости их прегрешения и прими в Свои обители за принятые ими на земле муки».
Те, кто остался в живых, выбираются на твердь земную. После ужасов качки ноги не держат, грудь разрывается от свежего воздуха.
— Всем построиться!
Они прибыли на место. На место новых страданий, на место гибели почти всех приехавших сюда. Они прибыли на свою Голгофу. Прибыли строить коммунизм в шахтах и на лесоповалах Магадана. Они — прибыли!
Она
Господи! Иисусе Христе! Слава Тебе, Всемогущий!
Это просто почти невероятно. Невозможно поверить, но вот она, заветная бумажка, справка-разрешение на свидание с заключенным Пономаревым Григорием Александровичем, осужденным как служитель культа по статье 58 УК РСФСР и находящимся на территории Бурятской республики, где-то в районе Улан-Удэ, в зоне № X…
Оставив трехмесячную малютку на руках своей мамы Павлы Ивановны, сестры Ольги и брата Николая, она отважно ринулась в путь: хотя бы увидеть, узнать, что с ее бесконечно дорогим и любимым мужем. Ее не могут прогнать просто так. У нее есть официальный документ, выданный НКВД Свердловской области, на право свидания. Ей, конечно, очень страшно, что уж тут говорить. Такое время, такой далекий путь. Кругом воровство, бандитизм, люди просто без вести пропадают. Правда, взять у нее почти нечего — пара теплого белья и немного сухих продуктов, что разрешены. Это — для него.
Путь до Улан-Удэ продолжается не менее двух недель. Поезд то стоит по 7-8 часов, то еле тащится, то его вообще загоняют в тупик. В конце концов прибывают в город. Из Улан-Удэ надо еще добираться до зоны, как получится: или пешком, или кто подвезет. Опасно. Но она же под Божиим покровом, кто что ей сделает?! И она то идет, то едет и наконец добирается до места. Кругом пустыня, пески, решетки, железные засовы… Чужие, в основном монгольские лица, выражение которых трудно понять: то ли в них добро, то ли зло, речь их тоже почти непонятна. На главном пропускном пункте, куда она добралась, ей сказали, что до точки № X.., где находится ее муж, еще километров двадцать-тридцать, и к тому же надо еще ждать чье-то разрешение.
Она сидит в вахтерской дежурке, сжавшись в комочек. Здесь же находится охрана. Охранники нагловато усмехаются, щелкая дверными замками. Стоит площадная брань, от махорки можно задохнуться, но… она выдержит, ведь она проделала такой путь, и что такое теперь двадцать-тридцать километров? Да хоть ползком… Перед окном степь, по которой несутся песчаные вихри. Метрах в ста забор с колючей проволокой и вышками. Видимо, тоже зона. Тут кругом зоны. Бедная, искренне любящая женщина! Знала бы ты, как подло тебя обманывают! Ведь именно за этим забором и есть заветная зона № X.., куда устремлены все твои помыслы. Буквально в ста метрах от тебя так мучительно и трепетно бьется сердце твоего супруга, словно чувствуя твое присутствие.
Но она терпеливо сидит и ждет, не зная, что на потеху всей охране свидание ей не дадут. Ее просто нагло обманут, ведь это так легко! А кто их накажет? Они знают свою власть…
Она доверчиво сидит до вечера, а потом и всю ночь, дрожа от страха, усталости, голода и ожидания встречи, радуясь, что ее не выгоняют на улицу. В соседнем помещении раздается храп, там же режутся в карты свободные от вахты охранники, пьют и сквернословят. А она, ухватившись за молитву как за спасительную нить, умоляет Господа, чтобы о ней забыли и чтобы ее не тронули.
На рассвете под окнами провели колонну заключенных. Отчего так сжалось сердце? Как унять сердечный трепет и волнение? Почему ей кажется, что в этой колонне был он? Нет, она просто очень устала, и скоро, наверное, ее пропустят в зону. Через некоторое время, хихикая и отводя в сторону глаза, начальник охраны заявляет, что выяснилось, будто она приехала слишком поздно, и отряд, в котором отбывает наказание ее муж, уже отправлен по этапу к следующему месту назначения.
— Куда?!
— Это что еще за допрос!
Да кто она такая? Враг народа? Ее живо заберут, если она пойдет что-то выяснять и чего-то добиваться. Пусть немедленно убирается, пока цела.
— Ишь, декабристка нашлась! Пошла вон! Пошла, пошла, а то моя охрана давно уже присматривается. Они живо разберутся.
И далее холодным, официальным тоном:
— Прошу покинуть помещение. Место пребывания Вашего мужа Вам сообщат в отделе внутренних дел города Свердловска. Все сведения поступают к ним.
«Господи Боже наш! Пусть исполнится воля Твоя, пусть будет так, как Ты хочешь, но не как я. Благодарю Тебя, что меня не тронули, но… мне бы хоть немножко сил, чтобы пережить удар и добраться домой». Она сейчас возьмет себя в руки, не упадет, не потеряет сознание. Господь защитит ее. У нее есть маленькая беззащитная девчушка, их дочка, его копия. Это его часть, и она должна ради них двоих сейчас найти в себе силы и добраться домой.
Она едет в каком-то поезде, идущем в Москву через Свердловск. Счастье, что ей достался билет в нем. Правда, на боковом верхнем месте, где она едет, разбито стекло, а уже декабрь, и дует просто невыносимо. Но душевная рана так кровоточит, что физические тяготы отходят на второй план. С каждым километром она приближается к дому, к своей маленькой дочурке. Надо только потерпеть. Есть совсем не хочется. Как удачно. Только вот сил становится все меньше и меньше. «Господи, помоги!»
Через десять дней ее как умирающую захотят снять где-то на половине пути. Все, что угодно, только не это. Она умрет на этой верхней боковой, но не даст снять себя с поезда, иначе ей уже никогда не увидеть ни малышку, ни родных. Ее похоронят где-то в необъятной Сибири чужие люди. Ее могилу не смогут найти даже близкие. Она не имеет права оставить свою дочку сиротой. И она держится. Держится молитвой и неимоверными усилиями. Только дотянуть бы до Свердловска. Там ее встретят брат и сестра. Как хорошо, что она отправила им телеграмму.
Брат и сестра Увицкие Николай Сергеевич и Ольга Сергеевна прибыли к приходу означенного поезда и вынесли из вагона свою умирающую сестру на носилках. Еще три часа — и Нижний Тагил. Ее сразу госпитализировали с диагнозом «двухстороннее воспаление легких с абсцессом в нижней доле правого легкого и высшей степенью истощенности». Надежда выжить, как сказали врачи, только на Бога. Она провела в больнице два с половиной месяца и… выжила, вернувшись к своей уже подросшей малышке, которая научилась так забавно поднимать бровки, чем еще более походила на отца. Каждый день говорил ей, что надо держаться, растить и воспитывать их счастье, их любовь, их маленькую дочку Лелечку.
Надо жить, хотя исчез на Беломорканале отец Нины — протоиерей Сергий Увицкий. Бесследно пропал такой близкий, такой родной свекор — архимандрит Ардалион. Потерялись старшая сестра и брат мужа. Но как подкрепление немощным силам пришла бумага из НКВД, в которой сообщалось, что ее супруг Пономарев Григорий Александрович, осужденный по 58-й статье УК РСФСР, находится по месту отбывания заключения в районе города Магадан. Срок — десять лет. Право переписки: два письма в год. Одно от него, другое от нее. И она молилась и верила, что Господь их не оставит.
Великая Отечественная война. А в далеком Магаданском крае, куда был сослан отец Григорий, шла своя, невидимая миру война. Война, имеющая свои победы и поражения; война, сопровождающаяся предательством и смертью, возвышением и гибелью человеческих душ, постоянной борьбой добра и зла, которые, существуя и в обыденной жизни, как правило, гипертрофированно заполняют собой пространства конфликтов, войн и, конечно, мест заключения.
В таких местах душа человеческая, как в огненном горниле, или сгорает, не выдержав испытания, или выходит из всех искушений, бед и гибельных ситуаций еще более сильной, светлой и окрепшей для новых преодолений и свершений.
Голгофа. Годы заточения…
Драматические истории из жизни отца Григория на Севере
Каждый человек, по мере своего восхождения ко Христу, восходит на свою Голгофу. Годы заключения отца Григория стали одной из многих ступенек его духовного возрастания. От силы к силе восходил отец Григорий к Богу и вел за собой своих духовных чад. Одна из духовных дочерей отца Григория, ныне покойная Дария, поведала через других духовных чад батюшки чудный случай, произошедший на ее глазах.
Смолино. Свято-Духовская церковь. Служится великопостная Пассия. На середине храма — Крест Господень. Отец Григорий стоит напротив распятого Господа и сосредоточенно молится. Вдруг батюшка на какое-то мгновение замирает, а затем падает на колени перед Голгофой и начинает истово креститься… Ход службы приостанавливается, молящиеся в недоумении смотрят на батюшку, который, преклонив колена, со слезами на глазах шепчет слова молитв и невыразимой благодарности Богу. Батюшка молится не по чину великопостной Пассии, а своими словами… Так, в оцепенении, проходит некоторое время. Затем отец Григорий медленно поднимается и, не смея поднять заплаканных благодарных глаз на Распятие, заканчивает службу.
Никто в храме так и не понял, что же произошло, и лишь раба Божия Дария видела, как во время службы засиял тысячами солнц Крест Гоподень, стоящий посередине храма. Голгофа Спасителя мира освятила церковь неземным, невещественным светом… Это сияние и увидел отец Григорий. Это был дар Христов — свет Божественный, изливающийся на молящихся по неизреченной любви Господа нашего Иисуса Христа ко всем людям.
«Вера твоя спасла тебя…» (Мк.10:52)
Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси, и Прибежище мое Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна. Плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его…
Пс. 90-й
Ночь медленно и неохотно истаивала, уступая место серой, буранной утренней мгле, которая застилала глаза и забивала дыхание. На расстоянии вытянутой руки уже не было видно идущего впереди. Только прожекторы со сторожевых вышек зоны на миг рассекали своим лучом разбушевавшуюся стихию и беспомощно увязали в ней.
Группа заключенных шла след в след. Скорее, спина в спину, держась друг за друга. Ветер был такой, что, оторви он человека от земли, — просто понес бы, покатил по снежному полю. Конвоиры инстинктивно прижимались ближе к арестантам, чтобы не потеряться в этом снежном месиве. Конвой, по существу, тут был не нужен. Бежать отсюда некуда. На сотни километров — ни жилья, ни даже охотничьих стоянок. Разве что где-то рядом — зона, подобная этой, да одинокая поземка несущегося по болотам и полям снега. И почти непроходимые леса…
Молодой диакон Григорий, отбывающий уже четвертый год из десяти, был назначен бригадиром в группу самых трудных, злостных рецидивистов-уголовников со сроками заключения до двадцати пяти лет. Это практиковалось местным начальством: сломать, подмять под себя молодых, превратив их в фискалов и доносчиков, чтобы легче было держать в узде других — убийц и насильников, для которых «убрать» человека было пустяком, а порой некоторым развлечением. Даже охранники, имеющие власть и оружие, не хотели связываться с ними.
Группа двигалась в направлении лесной делянки, которую разрабатыватывали вот уже несколько дней. Удерживать направление мешали снежная буря и слепящий ветер. Наметки дороги, которая стала появляться за эти дни, опять исчезли в снежных переметах. Шли почти наугад к темнеющей вдали стене глухого таежного бора. Шли на пределе, выбиваясь из сил, но стараясь поскорее хоть как-то укрыться в лесу от сбивающего с ног ветра.
Отец Григорий шел первым, вроде бы по обязанности бригадира. Но на деле он, по пояс в снегу, прокладывал путь другим. Боясь спровоцировать назревающий с момента их работы на делянке конфликт, он шел, не переставая творить Иисусову молитву. Скандал должен был вот-вот разразиться… Голодные, озверелые арестанты который день с безумством фанатиков требовали от него еды, так как их дневные пайки — застывшие слизкие комки хлеба — не могли насытить даже ребенка. Он спиной чувствовал, что ему готовится какая-то расправа. Как горячо он молился в эти минуты Господу и Божией Матери! Ноги сами несли его куда-то, и, подходя к лесу, он понял, что их делянка осталась далеко в стороне. Он чувствовал, что не только час, а любой миг для него может быть последним.
Добравшись до леса и убедившись, что они забрели в сторону, зэки обступили его плотным кольцом. Ничем не отличаясь от стаи волков, они выжидали, кто кинется первый, чтобы затем включиться остальным и завершить бессмысленную кровавую драму. Им это было не впервой. И даже предлог есть: куда завел? Не насытиться, так хоть выместить накопившуюся звериную злобу. Охрана в такие минуты сразу исчезала. Положение казалось безвыходным. Но как сильна была его вера в помощь Господа!
Все, что произошло дальше, он делал оценивая события как бы со стороны…
Неожиданно для себя он непринужденно смахнул снег с поваленного ветром отдельно от других кедра и сел улыбнувшись. Стая была просто ошеломлена.
— Ну хорошо, вот вы сейчас меня убьете. И что? Хоть кто-нибудь из вас станет более сыт? Да, я — «поп», как вы меня зовете. И не скрываю, что прошу у Бога помощи. Но помощь-то нужна и всем вам. И она — у вас под ногами.
Почти у его ног, из-под вывороченного с корнями дерева, среди хвои и переплетения сломанных ветвей виднелась шкура, вернее, часть шкуры медведя. Чувствовалось, что глубже, под снегом, лежал забитый падающим стволом зверь. Вероятно, мощное и крепкое с виду дерево было больным и ослабленным, и шквальный порыв ветра вывернул его с корнем, с огромной силой бросив на берлогу спящего медведя. Внезапность оказалась для зверя роковой. Кедр упал, ломая подлесок, но основная сила удара пришлась именно по берлоге. Катастрофа, очевидно, произошла менее получаса назад, так как тело зверя было еще теплым, а его разбитая голова кровоточила.
Восторженный вой голодной человеческой «стаи» привлек и конвой. Это же было чудо — пир с медвежатиной на костре! Даже самые озлобленные арестанты от предвкушения сытной еды зачарованно смотрели на отца Григория: «Ну, поп, тебе и вправду Бог помогает».
Это ли было не чудо? По воле Господа и по горячей молитве отца Григория ноги сами привели его к этому месту. Ведь это была пища на несколько дней, если ее не растащит лесное зверье. Отец Григорий, отойдя в сторону, упал в снег, сотрясаясь от благодарных рыданий. Он-то понимал, что такое совпадение — не простая случайность: расположение берлоги, место падения дерева и внезапность, с какой оно рухнуло, не дав опомниться спящему зверю, — это сила Божественного промысла. Ведь и в Евангелии сказано: «Просите, и дано будет вам… ибо всякий просящий получает…» (Мф.7:7-8).
После случая с медведем отношение к заключенному Григорию Пономареву в лагере резко изменилось. Эти нравственно опустошенные люди, изгои общества, в основной своей массе серые, малограмотные и суеверные мужики, стали считать его своим «талисманом». Работая летом на лесоповале, они вместе жарили шишки кедра, а потом, вылущивая из них орехи, делали кедровое молоко, давя орехи камнем в миске и заливая кипятком. Получался сказочный по целебности и вкусный напиток. Сливая первый настой, орехи заливали снова и снова. Некоторые из зэков по-своему даже привязались к отцу Григорию, уважая его за немногословность и справедливость.
Менялись заключенные — кто-то умирал, кого-то просто забивали свои же, кого-то переводили в другие зоны. Сменялись начальство и охрана. Изменилась и жизнь отца Григория. Его перевели работать в шахту.
В шахте
…Не убоишися от страха нoщнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится: обаче очима твоима смотриши и воздаяние грешников узриши. Яко ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое…
Пс. 90-й
Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как отца Григория перевели на работу в шахту. Шахтерский труд — один из самых тяжелых, но с трудом шахтера-заключенного даже сравнивать что-либо трудно.
До забоя ежедневно шли под конвоем. В забое каждый занимал отведенный ему участок, где только при помощи кайла и лопаты надо было, вгрызаясь в матушку-землю, любой ценой выполнить свою норму. Средств защиты, страховок — никаких. Кому нужны эти заключенные? Погибнут — пришлют новых. Стране нужен уголек, на нем не видны ни пот, ни кровь, ни слезы, ни следы оставленных в шахте человеческих жизней.
Когда спускаешься в шахту, замирает сердце, словно попал в преисподнюю. Жутко! Слабый свет шахтерских лампочек едва высвечивает причудливо выбитые пласты породы. Старые, подгнившие крепления скрипят и вздрагивают при каждом ударе кайла; длинная штольня слабо освещена. Под ногами порой чавкающая вода. И воздух… В нем почти нет кислорода, он переполнен взвесью мельчайших угольных пылинок с ядовитой примесью газов, выходящих из земли. Кто хоть раз вдыхал этот воздух, никогда не забудет его привкуса.
И опять жизнь его — как тлеющий уголек, который может в любой момент погаснуть. Погаснуть от тысячи случайностей, возникающих под землей. Одно успокаивало и радовало — его напарник. Что-то просмотрело лагерное начальство, поставив отца Григория работать вместе с этим старым, до истощения худым человеком. Во рту у него не было ни единого зуба, на голове — ни единого волоса, а суставы были по-старчески раздуты и обезображены непосильным трудом. Острые лопатки и ключицы выступали из арестантской робы, но на изможденном и изрезанном морщинами лице, запудренном угольной пылью, сияли удивительной глубины и доверчивости, почти детские глаза. Кашель, даже не легочный, а уже какой-то брюшной, утробный, постоянно сотрясал его тело.
Это был протоиерей Алексий, откуда-то из Подмосковья. В их лагере он появился сравнительно недавно и был так плох здоровьем, что даже уголовники, липнущие к каждому человеку, стремясь извлечь из него хоть какую-то пользу для себя, не трогали его. Не жилец! Однако этого полуумирающего старика каждый день исправно выгоняли на работу.
Они уже несколько дней работали в одном забое, и отец Алексий с неизвестно откуда берущейся в немощном теле силой вбивал свое кайло в породу, оставляя для Григория удобные выступы и выбоины, на которые уходило значительно меньше усилий. Совсем недавно отец Алексий узнал, что его молодой напарник — диакон, и его младенчески светлые глаза засияли особенно приветливым и радостным светом. Родная душа рядом! Он по-отечески тепло относился к отцу Григорию (к «Гришеньке») и говорил, что в назначении их работать в одном месте видит промысел Божий. В забое они почти не разговаривали. При таком напряженном труде это попросту невозможно. В бараке нары их находились далеко друг от друга, но Божия благодать, лежащая на батюшке, как облако покрывала отца Григория и облегчала его труд.
В тот день, когда их спустили в один из штреков, воздух казался каким-то особенно ядовитым. Лампы почти не давали света, а расползавшиеся по своим местам люди были угрюмее и тревожнее обычного. Батюшка Алексий шепотом прочитал молитву, и оба обрушили свои каелки на неподатливый пласт. От звука ударов они не сразу расслышали показавшийся очень далеким крик и какой-то странный гул. Оба как по команде прекратили работу. И вновь на какой-то визгливо-истошной ноте, но уже значительно ближе, крик повторился. Теперь были слышны и слова: «Спасайтесь! Вода!». Где-то прорвалась вода и, перемешиваясь с треском рушившихся опор, обламывающихся пластов угля и шумом бегущих людей, неудержимо подступала к главному штреку. Посмотрев друг на друга и бросив инструменты, они отскочили от стены и повернулись, чтобы бежать к выходу. Но в этот момент, преграждая им дорогу, с оглушающим грохотом рухнул потолок. Сметая перекрытия, неуправляемая угольная лава погребла все вокруг в тучах черной пыли и мелких камней.
Когда отец Григорий пришел в себя, он даже не мог понять, где находится и что с ним. Абсолютный провал памяти. Рот полон угля, на лице что-то теплое и липкое. «Кровь!» — подумал он. Он попытался приподняться, однако ноги придавила безмерная тяжесть. Что-то держало его и не давало передвигаться. Фонарь слабо горел, и глаза не хотели видеть, а ум отказывался смириться с тем, что освещала тусклая шахтерская лампа. Со всех сторон — только черные угольные стены. А где батюшка? Где отец Алексий? Слабый стон пришел как ответ на его мысли. Да вот же он, рядом, вот его руки, плечи, голова… Им засыпало ноги. И тому, и другому. Успей они еще сделать хотя бы один шаг к выходу, их накрыл бы и раздавил обрушившийся потолок штольни. Но положение все равно ужасное. Они оказались в каменном мешке, отрезанные от мира.
С величайшим трудом отец Григорий высвободил ноги. Боясь каждого движения, чтобы не вызвать продолжение обвала, он высвобождает батюшку. Отец Алексий в сознании, но не может сдержать стон. У него сломаны обе голени. Все, что происходило потом, сохранилось в памяти отца Григория отдельными фрагментами. Он оттащил батюшку подальше от обвала, под самую стену, над которой они трудились несколько минут назад. Или несколько часов? А может, дней? Он то приходит в себя, то вновь впадает в беспамятство. То же, вероятно, происходит и с отцом Алексием. Тут все — и удар, и боль, и шок от сознания их положения, и еще не осевшая пыль, забивающая легкие. Рот и нос полны угля, на лице — кровь. Это мелкие острые камешки угольной породы с силой вонзились в лицо. Как еще глаза остались целы?! Тело отца Алексия сотрясается от жуткого, бесконечного кашля. Отец Григорий пытается влить ему в рот немного воды из фляжки, но она только расплескивается. Их обоих бьет крупная нервная дрожь. Потом опять провал памяти, надолго ли — трудно сказать.
Следующее, что он слышит, придя в себя, — горячие, страстные, пламенные слова молитвы. И он подключается к ней всем своим существом. Он знает: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф.18:20). Время остановилось. Отец Алексий угасает. У него бред. Вот он благословляет свою паству, вот шепчет какие-то ласковые слова жене или дочери, вот читает 90-й псалом! Голос его крепнет, как будто в нем — вся оставшаяся энергия жизни. И голос этот просит с какой-то необыкновенной силой: «Спаси его, Иисусе! Он молод и может еще столько дать людям».
Отец Григорий понимает, что эта молитва — о нем. Сам он непрестанно молится, потом опять пытается напоить батюшку, но у отца Алексия все только клокочет внутри и вода выливается мимо. «Оставь это, Гриша! Оставь себе! Господь милостив. Нас откопают, и ты должен жить, продолжая наше святое дело». Но разве отец Григорий возьмет глоток воды у умирающего! Он, как может, пытается облегчить эти страдания: они то молятся вместе, то, видимо, теряют сознание. Их шахтерские лампы уже еле горят. Нет, почти нет кислорода. Вот она, готовая для них могила. Вдруг батюшка неожиданно резким движением притягивает к себе руку отца Григория и шепчет: «Гришенька! Отец Григорий! Хоть ты и диакон, но так, видимо, угодно Богу. Приготовься принять исповедь раба Божия Алексия». Он жарко шепчет ему слова своей последней в жизни исповеди: «…Ну, а Господь, может быть, отпустит мне грехи. Мне, недостойному рабу Его Алексию».
Потом они молчат. Приходя в себя, отец Григорий творит молитву и слушает угасающее дыхание батюшки. Он уже почему-то не кашляет. Вот и света нет совсем. Они лежат в абсолютной темноте, почти задыхаясь. Но вдруг какой-то звук — сначала тихо, а потом все сильнее — нарушает тишину их склепа.
— Гриша! Похоже, нас откапывают. Господь услышал наши молитвы. Слава Тебе, Всемогущий Боже наш! Слава Тебе, Пречистая Богородица!
Отец Григорий, не переставая читать Иисусову молитву, слышит приближающийся звук лопат, отгребающих уголь. Звук становится все громче и громче. Вот впереди что-то блеснуло, и затем в небольшое отверстие засияла, как десять солнц, шахтерская лампочка. После полного мрака она слепит до слез. Отверстие все шире. И вот в нем появляется ошеломленное лицо:
— Эй, Володька! Да тут люди!
Лопаты работают все быстрее и быстрее. Наверное, ангелы небесные поддерживали свод потолка, готового дать новую трещинную осыпь. Наконец в проеме появляется человек. Он освещает своей лампой «могилу» несчастных, негромко присвистывает, вероятно, от ужаса, и почему-то шепотом говорит кому-то стоящему за ним:
— Вроде, живы. Один-то — точно. Да и старик, похоже, тоже живой.
Но они так слабы, что не могут подать даже голоса.
— Володька! Тащи брезент!
Как их извлекли из шахты, отец Григорий почти не помнит. Он видит себя уже лежащим наверху на брезенте, а рядом — еще живого батюшку Алексия. Его дивные, сияющие глаза устремлены на Григория. Толпа, окружившая их, потрясенно молчит. Батюшка поднимает благословляющую руку в сторону отца Григория и всех присутствующих. Последним усилием воли осеняет себя крестным знамением, и душа его устремляется к своему Создателю. Взгляд из сияющего становится далеким, а затем — застывшим, как бы отрешенным от этого мира. А отец Григорий, лежа на брезенте, принимает благословение православного священника для самоотверженного и преданного служения Господу и Его Святой Церкви и молча дает обет: если это угодно Богу и он когда-нибудь выберется отсюда, то посвятит Ему свою жизнь.
Чудо спасения отца Григория и отца Алексия было, конечно, предопределено. Их откопали на третьи сутки, неожиданно для всех. О них просто забыли. Обвал в этот раз был намного серьезнее всех предыдущих и унес много жизней. Но специально никого не искали. Просто надо было восстановить основной проход главного штрека, на котором и трудились отец Григорий с отцом Алексием. Расчищая главную «артерию» шахты после ее обвала, рабочие и натолкнулись на несчастных. Только благодаря распределению рабочих мест в главном штреке батюшки оказались на пути ремонтных рабочих, которые их обнаружили. Действительно, у Господа случайностей не бывает! «У вас же и волосы на голове все сочтены» (Мф.10:30).
«Живый в помощи Вышнего»… Витек
Оставьте расти вместе то и другое до жатвы; или во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтоб сжечь их; а пшеницу уберите в житницу мою.
Мф.13:30
История эта — короткая, но оставляющая очень тяжелое впечатление. Она была услышана мною в юности и, совершенно очевидно, не была предназначена для юного ума и ранимой души в силу незнания некоторых чудовищных сторон жизни, поэтому не была понята мною в то время во всей глубине ее ужаса и трагизма. Лишь спустя годы рассказанное отцом Григорием осозналось в своей потрясающей реальности.
Как сейчас помню папин шепот, прерывающийся от нахлынувших воспоминаний, и… вдруг испытываю невыразимое сострадание, боль и омерзение одновременно.
После чудесного спасения отца Григория и батюшки Алексия из заваленной штольни ствол шахты был вскоре восстановлен и работы продолжались в ней, как и раньше. Тот же непосильный труд, тот же голод, те же заключенные с их нравами и понятиями: в основном — простые мужики, озверевшие от условий жизни, к тому же растлеваемые группой рецидивистов, распутников и подонков, в которых давно умерло все человеческое. Эта небольшая группа создавала костяк барака и определяла соответствующий моральный климат в нем.
Как оказался среди заключенных совсем молоденький паренек (Витек, как он себя называл), никто вопросом не задавался. Не похоже было, что ему уже исполнилось восемнадцать лет, внешне он выглядел на пятнадцатилетнего. Худенький, почти прозрачный, Витек еще не успел возмужать. Светловолосый и голубоглазый, он походил скорее на девочку-подростка. Его мелодичный голос, не прошедший мутацию, полуженские, мягкие и даже грациозные движения напоминали пастушка Леля из «Снегурочки» — такая же была в них миловидность и привлекательность.
Для барачной своры он был «лакомый кусочек», и отец Григорий неоднократно ловил гадостные, похотливые взгляды на этом еще не оформившемся мальчике.
Витек, особенно после событий в шахте, старался держаться поближе к отцу Григорию. Несмотря на свою молодость и неопытность, он, конечно, понимал недвусмысленность обращенных к нему грязных взглядов и намеков и осознавал: случись что — отец Григорий один не в состоянии будет его защитить.
Витек, вероятно, как-то по-своему продумывал способы защиты, так как однажды тихонько сказал:
— Я им в руки живым не дамся. Сам помру, но и этих за собой утащу… Не на того напали.
Отец Григорий воспринял его слова скорее как попытку самоутверждения. Не более. В самом деле, что он может сделать против целого стада зверья, в котором вот-вот проснется весенний гон?
Однажды к отцу Григорию подошел один из самых гнусных подонков барака и, криво улыбаясь, процедил:
— Мы знаем, поп, что ты надеешься на своего Бога. Но будет по-нашему. Перестань опекать мальчишку. Мы все равно его заберем, раздавим.
Тут он употребил еще пару нецензурных, но вполне понятных выражений относительно жизненных перспектив Витька… и добавил:
— А тебя, папаша, мы просто уничтожим, и так, что никто даже не удивится. Бывают же несчастные случаи. Жизнь!
И с кривой улыбочкой «промурлыкал»:
— «И никто не узнает, где могилка моя». И не вздумай жаловаться там… наверху.
Мысленно перекрестившись, отец Григорий ответил:
— Там, «наверху», как ты говоришь, для меня лишь — Господь Бог, и я не жаловаться буду, а просить, чтобы было по воле Его. Ясно? Парня, конечно, я, как смогу, буду защищать, а все остальное — не в твоих и не в моих руках. Не заблуждайся. Да, мне одному против всех не устоять, но за мной Сам Господь, и я полностью полагаюсь на Него… — последние слова его потонули в море отборного мата…
А далее последовало:
— Смотри, поп, я тебя предупредил!
«Жаль, — подумал про себя отец Григорий, — что парень-то неверующий. Вдвоем мы были бы куда сильнее…»
Отец Григорий молился постоянно, призывая на помощь Господа, Матерь Божию и святителя Николая. Вспоминал он и покойного отца Алексия и его отеческое последнее благословение — кому же хочется умереть, тем более будучи предупрежденным! Но и отвернуться от парня он не мог. Что совершенно сокрушало отца Григория — полное безразличие Виктора к молитве. Все разговоры на эту тему были напрасны. Как в бездонный омут.
Виктору он говорил постоянно:
— Ты Богу молись, Витя. Господь видит все, Он поможет. Все будет по Его Святой воле.
— Да не умею я молиться, дяденька. Но у меня кое-что при-пря-та-но! — как-то доверительно сообщил он. — Недаром я при взрывниках! — хитро, по-деревенски, подмигнул Витек. — Живым не возьмут.
Ощущение постоянно нарастающей опасности не покидало отца Григория. Угрюмое напряжение и похотливые выпады против мальчишки усиливались. Усугубилось до предела и положение самого отца Григория: в любую минуту он ждал или очередного, теперь уже умышленного, обвала, или падающей вагонетки, или прорыва воды на его участке. Да мало ли «случайностей» могло быть.
— Ну, что ж, — решил отец Григорий, — в этом, видимо, промысел Божий. Господь, может быть, испытывает мою веру! Пусть совершается все по Твоей воле, Господи, но, если есть хоть малая возможность, дай мне, Боже, дожить до встречи с моими родными. Столько планов, желаний быть полезным Церкви Христовой… Да кто же не дорожит жизнью!
Время шло…
Однажды после вечерней проверки в бараке послышались какие-то странные, непривычные для лагерной жизни звуки. Милые и даже домашние, они совершенно не вписывались в обстановку барака. Все заоглядывались, зашевелились… О, удивление! Каким образом в барак попала коза? Грязно-белая, шерсть клочьями, до безобразия худая-прехудая коза, которая испуганно и беспорядочно металась меж нар, очевидно, ища выхода из помещения.
Быть может, кто-то из внешней охраны содержал в хозяйстве козу, и несчастное животное случайно во время вечерней проверки забрело в барак? А может, ее кто-нибудь просто затащил сюда?
Барачная публика оживилась. Сначала вполне миролюбиво. Кто-то попытался подоить козу — оказалось, что молока у нее не было.
Затем возникло желание просто убить ее на мясо. Уж лучше бы и убили.
Страсти накалялись.
Сатанинская рать поднялась вихрем, и замыслы, желания, страшнее и пакостнее одно другого, закипели в головах выродков.
Вот и он, бес блуда и похоти, бес содомского греха — грязный, безобразный и беспощадный — явился, налетел и закружил в жуткой своей круговерти, безумном исступлении порочности и нечистоты…
Обитатели барака просто осатанели. Глаза налились кровью, мозги отключились, и взыгравшая плоть, не управляемая ничем, кроме бесовских помыслов, начала свои утехи.
Свист, хриплый хохот, почти вой этих нелюдей, сквозь которые прорывались истошные, почти человеческие вопли несчастной козы. Дикое улюлюкание, дьявольский шабаш…
Заключенные сами превратились в диких, безобразных животных. Нет, они были хуже, гораздо хуже…
Отец Григорий сидел в углу, зажимая уши и охватив голову руками. Около него, словно чувствуя неладное, прижимаясь, прячась за его спину, цепляясь, как за последнюю надежду, с глазами, белыми от ужаса, даже не сидел, а врос в нары помертвевший Витек…
Из противоположного угла, из центра взбесившихся тел, хрипов, мата еще слабо прорывались предсмертные стоны, всхлипывания растерзанного, погибающего животного. Конец ее был близок, а похоть только распалялась, набирала силу.
С этого момента положение отца Григория и мальчика становилось угрожающим. Они оба понимали, что озверевшая толпа, не получив свое, кинется на парня и просто сметет, растопчет батюшку, когда он, совершенно безоружный, будет защищать Витька. А в том, что он будет его защищать, отец Григорий не сомневался. Он просто не мог допустить такого попрания человека, почти ребенка — создания Божия…
И вот глаза одного из отморозков стали жадно искать Витька… и, конечно, нашли.
Еще мгновение… отец Григорий только успевает призвать помощь Божию, как получает по голове чудовищной силы удар.
Но, возможно, это и спасло его. Теряя сознание и падая, он слышит даже не крик, а детский визг Витька, который, странным образом ускользнув от липких, поганых лап озверелой толпы, с криком: «Я же говорил, дяденька, я их всех уложу-у-у-у!..» — кидается в самую середину мерзких, вонючих тел, на замученный труп разорванной козы, и страшной силы взрыв поднимает весь барак на воздух…
Недаром Витек крутился близ взрывников. Там он прошел свою смертельную школу.
Уложило почти всех. Кроме дымящейся воронки, от барака ничего не осталось. Отца Григория, который от удара по голове был без сознания, отбросило далеко, почти за караульную вышку. Из обитателей барака лишь несколько человек остались в живых. Тело же несчастного мальчишки найти не смогли. Господь, прополов человеческие колосья, вырвал сорные травы…
А Витек? Что ж, то — воля Божья! Кем бы он стал — еще вопрос. Он не понимал и не стремился к молитве, но телесная и душевная его чистота, возможно, помогли в его загробной участи. Господь принял его душу, а где ей быть — на то Его святая воля!
«Соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтоб сжечь их; а пшеницу уберите в житницу мою…» (Мф.13:30).
«У Меня отмщение, Я воздам…» (Евр.10:30). Гроза в бараке
…Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих…
Пс. 90-й
Душно. Ох, как тяжело, томительно-душно. Какое это трудное лето — и для людей, и для природы. С самой весны почти не было дождей. Зелень, устремившаяся к солнцу, вскоре, даже не раскрыв своих бутонов, не набрав сил и влаги в листьях и травах, стала желтеть и засыхать. Неделями откуда-то с юго-запада горячий и сухой воздух накрывал заключенных невидимым, прозрачным колпаком — именно воздух (как из раскаленной духовки), а не ветер, пусть даже сухой и жаркий. В ветре есть какое-то движение, какая-то надежда на прохладу, тут же — совершенно неподвижный, но осязаемый по своей упругой плотности зной, под которым замирает и цепенеет все живое.
Давно не слышно птах, обычно живущих тут летом. Не слышно даже стрекота насекомых. Вдали, в почти неколеблющемся мареве раскаленного жара, всё расплывчато и размыто. Каждый день солнце, за несколько часов выполнившее всю «дневную норму», скрывается в сероватой мгле облаков, а жара и духота продолжают нарастать. Тучи, такие желанные, порой возникают где-то вдалеке, иногда приближаются, еще сильнее придавливая к земле палящий зной, и, не оправдав надежд, уходят к Охотскому морю.
Мучительная жара стоит уже третий месяц. Нервы людей на пределе. Работать в такой духоте невыносимо. Конфликты возникают из ничего — злобные, скверные. Заключенные и охрана обливают друг друга отборной руганью. Кроме жары, донимает голод. Обычно в это время года с едой бывало полегче: какой-то лесной урожай помогал выжить. Нынче в лесу ничего не вызрело, только пыльная, засохшая трава — ни ягодки, ни живого кустика.
Проверки в бараках проходят бесконечно. Непонятно, что ищут. Перерывая всё на нарах, заглядывают даже в печь. По летнему времени в ней действительно можно что-то припрятать. Все проверки рассчитаны лишь на часть заключенных. На уголовников «шмоны» не распространяются. Там свой мир, свои законы, и даже конвой предпочитает с ними не связываться.
В одном бараке, под одной крышей, в четырех стенах сосуществуют два диаметрально разнящихся образа жизни. Бывает, что в одной реке, даже совсем маленькой, можно наблюдать, как проходят рядом, не смешиваясь друг с другом, два потока. Один несет светлую, прозрачную воду, и тут же, совсем рядом, другой — желтоватый и мутный. Один поток теплее, другой просто ледяной, но оба они стремятся в одном направлении. Так и в заключении. Разные по развитию, мышлению и душевному устроению человеческие жизни, почти не смешиваясь друг с другом, текут вместе, и каждая из них несет собственное назначение, неизбежно приближаясь к своему концу. Однако зачастую «пересечения» людей, вместе оказавшихся в заключении, кончаются человеческой трагедией.
Среди этих потоков есть еще одна прослойка — так называемые «флюгеры». Это самый страшный и ненадежный человеческий тип. Именно в этой среде — первые предатели, доносчики и фискалы. Перед начальством они — трусливые подхалимы. Перед уголовниками — шакалы. Гиены — для остального населения барака. Они мельтешат, суетятся, все вынюхивают и постоянно подслушивают. За щепотку чая готовы продать, оболгать кого угодно, и даже у отпетых уголовников они вызывают раздражение и презрение.
Сейчас, когда невыносимая жара и духота держат всех в напряжении, в бараке идет карточная игра. Играют уголовники. Игра страшная, жестокая, не знающая пощады. Проиграно уже все, что составляет лагерные материальные ценности. Теперь идет игра на человеческую жизнь. Неизвестно, простым ли жребием жизнь одного «стукача» попала в обойму игры или, может быть, надоел он всем, но играют именно на фискала по кличке «Стеха».
В бараке — леденящая тишина. Только хриплое, прокуренное дыхание игроков да короткая матерщина, комментирующая отдельные моменты карточной игры. Стукач после приступа визга, воплей и рыданий ползает в ногах у игроков. Страшным ударом под дых его вынудили замолчать, и теперь он только икает и шепчет что-то посиневшими губами. Кажется, что слышно, как лязгают о железную кружку его зубы.
Тем временем в бараке стало совсем темно. От напряжения смертельного розыгрыша никто не заметил, что тучи, все лето проходившие мимо зоны, собрались прямо над бараком. На улице все почернело. Еще какое-то мгновение мертвой тишины, и вдруг — дикий порыв ветра почти срывает кровлю, сталкивает черные рваные куски неба друг с другом, раскалывая их на части змеевидной молнией… И тут же, без паузы, всё покрывает гром, от которого могли бы лопнуть барабанные перепонки.
На какой-то миг эти нечеловеческие звуки отрывают играющих в карты от их страшного занятия, несущего в себе смерть. Но накал игры так велик, что буквально один миг отделяет игроков от финала. Все, игра закончена. Дикий визг Стехи перекрывает даже оглушающие раскатистые звуки грозовой тьмы. Смертник Стеха катается в ногах у уголовника, проигравшего его, Стехину, жизнь, и вымаливает прощение. Он готов лизать пол под ногами своего убийцы, жрать землю, ломать и крушить все по его приказу, только бы остаться живым.
— Ну, ладно! — милостиво изрекает игрок и вдруг замечает в другом углу барака полыхающие синим пламенем гнева глаза. Глаза человека, которого он давно ненавидит и, не признаваясь в этом даже самому себе, где-то глубоко внутри побаивается, что лишь усиливает его ненависть. Этот человек — заключенный Григорий Пономарев.
Вновь небо рвется под очередным ударом молний, из-за чего до обитателей барака доносится лишь обрывок фразы:
— … дарю тебе жизнь, но за это ты пришьешь сейчас попа! Ну!
Какое демонское ликование!
Барак замирает. Большинство барачных равнодушно-привычно наблюдают за происходящим. Но души тех, кто знает отца Григория, содрогаются от неожиданности и ужаса, от произвола и разнузданности и от чувства собственной незащищенности. На лице Стехи застыл мертвый оскал, подобно навечно приросшей к нему маске. В остекленевшем взоре — смесь ликования, подобострастия и необъяснимого страха. Он кидается за орудием убийства — стамеской, отточенной до остроты бритвы. Она припрятана где-то внутри барачной печи. Отец Григорий только успевает осенить себя крестным знамением и призвать на помощь Царицу Небесную.
В этот миг очередная грозовая молния, раскроив небо надвое, ударила в печную трубу барака и, как бы втянутая движением воздуха внутрь открытой печки, влетела в нее и ушла под землю, разметывая вокруг себя печную кладку. Во все стороны, как от взрыва, с грохотом полетели искореженные кирпичи. Загорелась крыша барака над развороченной печью, и неуправляемый пламень стал перекидываться на близлежащие нары.
Не видно ничего. Дым, пламя, стена поднятой от обломков кирпичей пыли… Как сухой хворост, загорелись близ печи нары — привилегированные места уголовников. Молнии, одна за другой, продолжают распарывать небо. Кажется, что все они направлены в барак. Словно весь гнев Божий обрушился на головы безумцев. В бараке — страшный крик, стоны. Люди, перескакивая через развалы кирпича, через горящие нары, толкая и давя друг друга, разносят в щепки дверь барака и спешат выскочить наружу. В дверях свалка. Крики боли и ужаса. И еще один непонятный звук — словно где-то открыли шлюз… Заключенные выбегают из горящего барака, задыхаясь от дыма, и едва не валятся с ног от стены дождя, который после сухой грозы накрыл буквально все: горящую крышу и догорающие нары, слепившихся в проеме снесенной барачной двери людей и неподвижные тела вокруг обломков печного фундамента.
Вот она, расплата! Еще две минуты назад эти выродки, раздуваясь от самодовольства, вершили дела и жизни барачных заключенных. Калифы на час! Пришел их жалкий конец. «Короли» барачной элиты, совсем еще недавно возлежащие на нарах вокруг печи и проигрывающие в карты человеческие жизни, сами приняли смерть, побитые камнями. Как символично! В древности преступников казнили, забивая их до смерти камнями.
Гроза в ту ночь бушевала почти до утра. Скоро появилась охрана. Пожар благодаря дождю был потушен. Пораженных молниеносной смертью уголовников быстро унесли. Раненых отправили в больничный барак. Всех остальных распределили кого куда. Но даже по прошествии нескольких месяцев отец Григорий больше не видел ни в своем новом отряде, ни в других отрядах главных участников трагических и страшных событий той ночи. Справедливый суд Божий каждому воздает по делам его.
В бараке смертников
…На руках возьмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою. На аспида и василиска наступиши и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое…
Пс. 90-й
Откроем еще одну страницу тяжелой, порой на краю гибели, жизни отца Григория в заключении, чтобы снова убедиться, что значит истинная, бескомпромиссная вера в Господа, и чтобы почувствовать, как Он близок к нам.
«Просите, и дано будет вам…» (Лк.11:8) — сказано в Писании. Как быстро, мгновенно слышит Господь Своих детей! Помощь Его приходит незамедлительно. Бывает порой так, что мы не получаем просимое, но не потому, что Господь нас не услышал, а потому, что это нам не полезно. Первые годы после возвращения с Севера батюшка кое-что рассказывал о своей лагерной жизни, но не часто. Чем старше и умудреннее он становился, тем плотнее закрывалась дверь его воспоминаний о годах лагерных страданий. Но иногда, в исключительных случаях, он вспоминал то страшное время только для того, чтобы на примере собственного опыта оказать реальную помощь своим духовным чадам.
Идет беседа… Кажется, что все аргументы исчерпаны, а окормляемый батюшкой страждущий человек не слышит, не понимает и готов совершить неразумный и губительный шаг. В таких исключительных случаях несколько скупых слов батюшки о его страшной, на грани выживания, жизни в заключении, а также рассказы о незамедлительной помощи Господа отрезвляют упрямца.
Эпизод из жизни отца Григория, о котором хочется поведать, я слышала еще в юности, но тогда он не запал в душу так глубоко, потому что все, что рассказывал папа, было леденяще жутко, и память, как самозащита, размывала отдельные фрагменты лагерных историй, да и я была еще слишком молода, чтобы что-то понимать.
Уже во время работы над книгой одна духовная дочь отца Григория повторила эту историю. Мои воспоминания о жизни родителей, ожившие в ходе разговора, как в фокусе сконцентрировали давно забытое, а недостающие звенья, о которых я услышала, составили целостную картину. Круг замкнулся. Все встало на свои места, и многое в скрытой от постороннего взгляда жизни отца Григория и матушки Нины стало мне понятным, вызвало трепет и уважение. В душе моей были задеты самые трогательные и чистые струны, навсегда остающиеся в памяти человека — как вразумление и как пример на пути стяжания Духа Святаго.
Женщина, поведавшая мне свои воспоминания, — глубоко верующий человек с трудной, изломанной судьбой. Она всегда беспрекословно слушалась батюшку. Видимо, в очень уж сложный жизненный водоворот попала эта раба Божия, так что батюшка в долгой беседе с ней привел пример из своей лагерной жизни. Этот рассказ лег в основу этой части главы «Голгофа».
Годы в заключении не идут, а ползут, и каждый день жизни может оказаться последним. Состав заключенных лагеря часто менялся. Скорее всего — специально, чтобы люди не успевали сплотиться или как-то подружиться. Менялось начальство, и вновь прибывшим была глубоко безразлична предыдущая жизнь. Новый день — новые страдания, новые люди, новые ситуации. Только голод все тот же, нескончаемый и изнуряющий до изнеможения. Летом чуть меньший, а зимой доводящий одних до суицида, других — до преступления, убийства кого-то из заключенных; третьих — до психического расстройства. В общей массе голод «подчищал» зону к весне процентов на пятьдесят-шестьдесят: и вот готовы уже «вакантные места» для новых страдальцев. Наиболее сильные личности рук на себя не накладывали и в бессмысленные кровавые побоища не ввязывались. Их психика оставалась незадетой, но от хронического истощения и непосильной работы организм человека не выдерживал и давал сбой. Часто такой «сбой» проявлялся в заболевании глаз, которое в народе называют «куриной слепотой». Болезнь эта характерна тем, что с наступлением сумерек человек теряет зрение. Он не видит ни дороги, по которой надо идти, ни пайки заработанного хлеба, ускользающей прямо из-под его носа с барачного стола. Заболевание развивается очень быстро, и слепые люди лишаются пайки хлеба, который даже не продлевает жизнь, а, скорее, оттягивает смерть. Таких больных выселяли обычно в отдельный барак. Практически это был барак смертников.
Их, конечно, гоняли на работу. Днем они видели, но вечера ждали с ужасом, чтобы, цепляясь в темноте друг за друга, под окрики охраны и насмешки «братвы» как-то добраться до места. А там их уже поджидали лагерные «шакалы», для того чтобы успеть выхватить хлебную пайку у почти незрячего человека, ослабленного тяжелыми трудами и голодом. И так день за днем; правда, жизнь заключенных в этом бараке длилась недолго. Конец приходил очень быстро и всегда однозначно. «Барак смертников» — и этим все сказано.
Примерно на седьмом году заключения отец Григорий почувствовал грозные признаки «куриной слепоты». Болезнь развивалась стремительно; не прошло и месяца, как его перевели в барак к «смертникам». Над отцом Григорием сгустился мрак безнадежности. В почти ничего не видящем, бредущем после изнурительного труда в толпе таких же слепцов и знающем, что сейчас опять будет украдена его пайка, в нем блеснула пусть малая, но надежда — выжить. И он взмолился Богу:
— Господи Иисусе Христе! Милостивый! Ты столько раз оказывал мне помощь и защиту. Остаются только три года до окончания срока моего заключения. Дай мне возможность дожить до этого времени и выйти из лагерного ада. Дай возможность послужить Тебе в храме Божием. Дай увидеть, обнять ненаглядных моих родных, и тогда я буду любить и оберегать их всеми своими силами, но принадлежать — только Тебе, Господи! И жена моя, горячо мною любимая, будет мне лишь сестрой. Я уверен, что она поддержит меня, ведь крест христианский — это не просто бездумная покорность судьбе, а свободно избираемая бескомпромиссная борьба с самим собой. Господи! Приими обет мой и помоги, спаси и помилуй раба Твоего, грешного Григория.
Нести крест свой — значит полюбить Христа и принести себя Ему в жертву, как Он принес Себя в жертву за весь род человеческий! Закончив молитву, отец Григорий устремил свои невидящие очи в небо. Он шел, вернее, плелся почти наощупь в толпе таких же несчастных людей, в слепоте добирающихся к своим нарам, которые в любую минуту могли стать смертным одром.
Всю силу своей веры, надежды и любви ко Господу, как единому Защитнику от отлаженной лагерной машины смерти, вложил отец Григорий в свой страстный молитвенный молчаливый крик. Крик души. И…
«О Боже! О милостивый Боже!» — его незрячие глаза озарил на мгновение свет! Он был непередаваемо яркий, но не слепил. Он был ярче солнца, но ласкал измученные глаза. Он осветил каждый уголок его пылающей души и онемевшего тела. Он был светлее материнской улыбки. Это был свет Божественный!
Батюшка упал на колени, задыхаясь от потрясения. Рыдания содрогали все его существо. Слезы, которыми он не плакал с детства, текли из его измученных глаз по щекам, и он даже не утирал их. Они были как лекарство, как бальзам для его изнемогающих души и тела.
Свет этот дивный давно исчез, и отец Григорий отчетливо увидел звездное небо, увидел вдали свой барак, копошащихся несчастных слепцов и охрану, не реагирующую на стоны и вопли сбившихся в кучу людей. Он взглянул внимательно на охранников — лица их были тупы и привычно озлоблены. «Они же зрячие, — подумал отец Григорий, — но ничего не видят, как евангельские слепцы». Значит, видел он один? Бог услышал его! Господь видел, что батюшка уже на краю гибели, и Он снова спас его!
Волна невысказанных благодарных мыслей, поднявшаяся в душе отца Григория, накрыла его с головой. Ему хотелось плакать, смеяться и бесконечно радоваться. Он не мог взять себя в руки. Он пел хвалебную песнь Господу и благодарил Его в своей ликующей душе.
Тем временем толпа добралась до барака, где, как гиены с наглыми и горящими глазами, слепых заключенных поджидали постоянные воры хлебных паек, а точнее — воры жизней. Когда батюшка подошел за своей пайкой и блудливая воровская рука привычно скользнула вперед, отец Григорий резким и точным ударом кулака, как кувалдой, прихлопнул ее к столу. От неожиданности и боли «шакал» взвыл, а батюшка уверенно произнес: «Вот так! Пошел вон!».
С этого дня в их барак ворье заходило все реже. Вскоре начальству стало известно, что заключенный Пономарев видит. Через пару дней его перевели в другой барак. Потрясение, пережитое им, укрепило его веру и усилило пламенные молитвы к Богу.
Обеты, данные отцом Григорием Господу, при встрече с матушкой Ниной были приняты ею как должное. Ведь они были плоть едина. «Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф.19:6).
Малиновая поляна
…Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знамением…
Молитва Честному Кресту
На третьем году после освобождения, еще оставаясь жить на Севере, отец Григорий испытал сильнейшее потрясение.
Отбыв десятилетний срок заключения и получив все документы об освобождении, он уже третий год подряд пытался выбраться на материк, что возможно было сделать только самолетом.
Пассажирских рейсов с Колымы в те годы просто не было, и гражданское население при острой необходимости вылететь прибегало к самым различным способам: платили большие деньги, чтобы вылететь с почтовым самолетом, находили какие-то особые пути к начальству Дальстроя, чтобы в качестве сотрудников строительства их взяли на самолет, и т. д. За билеты переплачивали, как правило, вдвое, а то и втрое… Конечно, в подобных эстремальных ситуациях люди часто сталкивались с обманом, жульничеством, аферами.
Отец Григорий, три года проработав вольнонаемным рабочим Дальстроя, отказывал себе буквально во всем, чтобы скопить необходимую сумму для покупки билета на самолет. Он вручил эти деньги одному из своих знакомых, который твердо обещал помочь в приобретении билета на материк. Вылет должен был состояться со дня на день, но совершенно внезапно все изменилось и отец Григорий с ужасом узнал, что его обманули. Жестоко, бесчеловечно.
Человека, взявшего деньги, перевели на другое место работы, и больше он не вернулся не только в поселок, но и в Магаданский край.
Потрясение было тяжелейшим. «Сорвалась» столь близкая, как батюшка думал, свобода. Возвращение домой и встреча с родными и близкими казались невозможными. Кроме того, его фактически обобрали до нитки. Все надо было начинать сначала, но где уверенность, что его не обманут вновь? Тяжелая, беспросветная тоска навалилась на отца Григория. Хорошо, что он ничего не написал Ниночке и родным о своем предполагаемом возвращении в Нижний Тагил. Какую боль испытали бы они!
Со своей неизбывной тоской и приступами уныния он боролся, как мог. Но даже молитва, всегда спасающая, часто замирала на его губах, а душу разрывала непереносимая боль.
Чувство апатии, безразличия ко всему стало часто посещать отца Григория. У него начались ноющие боли в сердце, не прекращающиеся ни днем, ни ночью. Физические силы таяли с каждым днем. Свои переживания он ничем не мог приглушить — даже молитвой. Он, конечно, понимал, что уныние — результат испытанного стресса и способ борьбы с этой немощью только один — положиться на волю Божию, молиться и терпеливо ждать новой возможности перебраться на материк…
Совершенно неожиданный срыв планов его отъезда и крушение надежд словно что-то надломили внутри — слишком трепетны были ожидания и непереносимо тяжелым оказался обрушившийся удар. Отец Григорий измучился, исстрадался за годы, проведенные на чужбине, устал душевно. Более десяти лет он не был в храме, не молился на церковных службах, не причащался… Внутренне он, конечно, не переставал молиться, но и молитва, ослабевшая в борьбе с унынием, не приносила духовной радости.
Отец Григорий вступил в тяжелую, смертельную борьбу с состоянием полной человеческой обреченности. Чувство оставленности и нежелание смириться со своим положением подавляли его с каждым днем все более и более. Это был один из самых мучительных периодов в его жизни.
Продолжавшему трудиться в Дальстрое десятником, отцу Григорию по роду своей деятельности приходилось много передвигаться: чаще всего на транспорте, а иногда и пешком. В тот памятный день он, догоняя свою бригаду, шел из строительного управления, имея на руках новый, несколько измененный план работ, — шел, невольно предаваясь своим тоскливым мыслям, которые никак не мог заглушить даже постоянно творимой молитвой. Местность, по которой шел отец Григорий, была давно ему знакома, так как земли эти были частично освоены Дальстроем, и он профессионально ориентировался по легко запоминающимся приметам. Вот характерно растущее дерево, «скрюченное в три погибели», куча недавно завезенного щебня, затушенный костер. Далее виднеется крыша тягача, который на прошлой неделе сошел с основной, простолбленной геологами тропы и теперь безнадежно продолжает уходить в бездонную тундровую топь.
Глядя вперед, отец Григорий обратил вдруг внимание на поляну, раскинувшуюся рядом с тропой. Ранее он почему-то не приметил её, хотя она довольно странно выделялась на фоне чахлой северной растительности своей удивительной красотой, пышностью деревьев, кустарника и травы. Да и кусты на этой поляне были совсем не северные. Батюшка словно попал на родной Урал. Приглядевшись, он удивленно вскинул брови: мелкий, низкорослый ольховник уступал тут место молоденьким сосенкам, которые кружили в своем хороводе вокруг поляны. А меж ними — невозможно поверить! — заросли малины. Настоящей лесной малины со щемяще-сладким запахом и с жужжащими над малинником пчелами.
Так может благоухать только малинник, застоявшийся на солнцепеке где-нибудь в невьянском или тагильском лесу, — а его медово-малиновый аромат кружит голову, пьянит… В глазах — краснj от обилия сочных ягод, готовых вот-вот упасть в ладошку. И даже мотыльки — как привет с далекой Родины, как утешение…
При всей осторожности и правиле «не есть ничего незнакомого», выработанным годами, в голове отца Григория понеслись мысли: «Но малину-то! Да с чем ее спутаешь? Ах, какая сладкая, дивная, ароматная! Тает во рту». И как он не видел эту поляну раньше?
Сейчас он еще чуть-чуть поест этих дивных ягод, и надо сказать своим ребятам: пусть идут, порадуются — ее тут немерено, на всех хватит. Состояние — как в детстве. Даже голова закружилась и, кажется, немного заболела. «Мама всегда говорила, что много малины есть нельзя, “а то голова заболит”!»
Увлеченный этим лесным чудом, отец Григорий даже не заметил, что малиновые кусты теснятся как бы на пригорках, а вокруг них — низинки, в которых почему-то скопилась вода. Ноги он давно промочил — «Ну, да не беда. Лето ведь! Высохнут».
Наконец оторвавшись от ягод, отец Григорий решил уже выходить на тропу, тем более что… Он вдруг почувствовал что-то странное: «Малина ведь не растет на болотах», а он давно уже бродит, перебираясь от куста к кусту, по вязко-липкой земле. Малина любит сухие земли, растет в лесу даже на каменистых почвах, а тут? Он посмотрел вперед — одна болотная хлябь с торчащей осокой, зеленой ряской и изумрудно-зеленой травой, под которой (даже думать нечего) — болото.
Болото немереной глубины. «Все. Ухожу».
И в это время — крик. Истошный женский крик:
— Спасите! Тону!
Из-за кустов ольховника, торчащих рядом, ничего не видно. Инстинктивно отец Григорий бросается вперед, делая несколько быстрых шагов, и… сразу же проваливается по колено. Он проваливается не просто в воду, а в самое настоящее болото. Это он понял только тогда, когда почувствовал, что обе ноги начало засасывать в зыбкую топь. А метрах в пяти от него застряла в болотной хляби женщина.
«Молодая. Откуда ей тут взяться?» — пронеслось в голове. Глаза женщины — безумны, она уже по грудь в тине. Увидев отца Григория, закричала еще отчаяннее. Она барахтается в болоте, пытаясь выбраться, но каждое движение все сильнее засасывает ее в пучину.
Жуткое зрелище.
Конечно, отец Григорий спешит на помощь. Он обламывает длинную гибкую ветку растущего рядом ольховника и, держась за один конец, протягивает второй женщине. «Несчастная» цепко хватается за ветку и с поразившей батюшку неженской силой тянет второй конец на себя, резко увлекая этим движением отца Григория вперед. Отец Григорий, прикладывая неимоверные усилия, крепко удерживает свой конец ветки, пытаясь помочь женщине. И вдруг она резко отбрасывает «спасительную» ветку, а отец Григорий чувствует, что под его ногами, уже схваченными болотом, что-то хрустнуло и он проваливается еще глубже.
Сверкнув белозубой улыбкой, столь неуместной в этот момент, женщина, вперив в отца Григория огненно-зеленые глаза, с жутким смехом уходит в болото с головой, не делая никаких попыток сопротивления.
Диавольское наваждение.
Из ближайшего ольховника раздаются вопли, хохот, визги… Шипящий шелест ползет, стелется по болоту. Кажется, он исходит ото всех кустов и травинок:
— Он — наш!-ш!-ш! Теперь уж точно наш!
Отец Григорий понимает, что он погибает. В голове пролетает вся жизнь: родители, Ниночка, малышка. И вдруг со страшной запоздалой предсмертной ясностью он сознает, что его победил грех уныния.
Он ослабил молитву и обречен. «Это — конец».
Еще несколько движений (скорее, интуитивных, неосознанных попыток высвободиться) только усугубляют положение, затягивая его все глубже. Отец Григорий в состоянии крайнего предсмертного отчаяния (благо руки его свободны, да и тело пока меньше чем на половину ушло в болото) — крестится…
Крестится, почти не переставая.
Он начинает творить Иисусову молитву, которая в момент жуткого испуга — появления и исчезновения в болоте зеленоглазой дьяволицы — как бы застыла в голове.
— Господи! Прости меня, грешного! Прости за уныние, за скорбь, за тоску! Ослабил надежду, ослабил веру в Твой промысел. Не смирился. Не принял крест Твой. Прости. Пусть все будет по воле Твоей, если заслужил. Но Ты, Всемогущий и Милостивый, ведаешь все наши немощи душевные. Господи, не допусти страшной кончины! Я виноват! Прости и помоги! Я ушел в свою печаль и не понял сегодня, что и поляна, и малина — прелесть дьявольская. Страшная прелесть, от которой я себя не уберег. И ягоды в рот потянул, не перекрестившись… Господи, прости и не погуби! — молился отец Григорий так, как давно не молился, уйдя в печаль и уныние. — Пресвятая Богородица, защити неразумного раба Своего! Святителю отче Николае, помоги-и-и…
Он замер в молитве, понимая, что его может спасти только вера. Вера в Спасителя и молитва Ему. Отчаянная молитва-вопль. Он читал Ииусову молитву, 90-й псалом и не переставая осенял себя крестным знамением.
Он был весь в молитве, перестав даже думать о себе. Он был на кресте.
Через какое-то время неожиданно под ногой, только что увязающей в болотной трясине, он почувствовал корень какого-то растения — это было что-то плотное, на что можно опереться. С невероятным трудом он укрепился обеими ногами на твердом корне, но корень под его весом начал уходить вниз.
— Господи! Не оставляй меня…
И тут деревце, на чьи корни оперся ногами батюшка, склонилось и легло прямо перед ним. Не переставая творить Иисусову молитву, он ухватился за него руками, почувствовав опору в ветвях, раскинутых на поверхности. Попытался лечь на распластанные ветви, с великой осторожностью отрываясь от спасительного корня и высвобождая ноги, хотя бы частично. Не оставляя молитву, он, осторожно передвигая ногами, почувствовал еще один корень, повыше. Оперевшись на этот корень, он увидел, что еще одно деревце, больше и крепче первого, медленно согнулось и… легло рядом. Батюшка осторожно перекатился на него и, окончательно вытаскивая ноги, уже без сапог, прополз по стволу дерева. Видя перед собой большую, крепкую кочку, он добрался до нее и только тогда, почувствовав более крепкую опору, смог сесть. Из глаз его лились покаянные и благодарные слезы.
Следующая кочка была на расстоянии большого прыжка. Конечно, в обычном состоянии на такой прыжок у него не хватило бы ни ловкости, ни сил. Однако когда душа пламенно взывает ко Господу, то все получается по молитве и вере.
Отец Григорий, собрав остаток сил, допрыгнул до следующего зыбкого островка. Правда, чуть снова не соскользнул в болотную топь, но успел ухватиться за ствол рядом стоявшего кустарника. Устоял. Перекрестился. Перевел дух.
А далее он увидел какое-то подобие тропы, по которой с великой осторожностью выбрался к тому месту, откуда и начал свой путь в диавольские топи. Это и было началом злополучной поляны, заворожившей отца Григория своей малиновой красотой.
Малиновая поляна — демонская ловушка.
Но где же она, вся эта красота? Где малиновые кусты? Где родные уральские, как показалось, сосенки? — Вокруг обычный тундровый ольшаник!
Батюшка сел на землю, пораженный, потрясенный. Душа его разрывалась от благодарности Господу и от горького осознания своей человеческой немощи. Он понимал, что недремлющие демонские силы, которые давно жаждали ухватить себе эту преданную Господу душу, воспользовались минутой слабости, минутой скорби и… расставили свои сети.
«Родной сосновый лес», «малина», «помощь погибающей женщине»… — все это демонская работа… Но он тоже виноват: слишком глубоко ушел в свое страдание и временно ослабил молитву — эту живую нить, связующую его с Небом. Именно за это он так страшно поплатился. Сотрясаясь от дрожи, пронизывающей его насквозь, отец Григорий сидел на краю дороги, мокрый от болотной воды и холодного пота. Сапоги остались в болоте. Планшет, который был на поясе, потерян.
Его лицо и руки были изодраны в кровь острой, как нож, болотной осокой. Раны тут же покрылись многочисленной мошкой, густо облепившей его. Но боли он не чувствовал. Он молился. Он благодарил Господа. В его душе зрела всесокрушающая волна покаяния за свое временное расслабление, за приступ скорби и уныния.
Как мог впасть он в такое горькое состояние? Столько раз спасаемый Господом из, казалось бы, безвыходных ситуаций, столько раз ощутивший на себе Его Божественную помощь, знающий, что все совершается по воле Творца, — как мог он вдруг допустить неизбывную скорбь, чуть не погубившую его?
Да, тяжело оттого, что не смог улететь домой, тяжело от подлого обмана. Но, значит, еще не время. Может быть, он не случайно задержался на этой северной земле?
Господь ведает всем, Его промыслы, Его пути для нас непостижимы. «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» (Рим.11:29).
«Прости, прости меня, Господи, — молился отец Григорий. — Я проявил слабость. Спасибо, что Ты не допустил погибнуть мне, стоящему на краю пропасти. Этот страшный, тяжелый, но важный урок научил меня не надеяться на силы человеческие, а уповать только на благословение и помощь Творца!»
Отец Григорий плакал.
Это были покаянные слезы. Как елей, смягчающий раны больной души. Как ливень после сухой грозы, облегчающий сердечные муки. Это были слезы вины и благодарности, укрепляющие сердце для дальнейших испытаний.
Неудержимые рыдания волной накрыли отца Григория, высвобождая его душу из мрака безнадежности. Они снова зажгли в нем желание жить, бороться, молиться и надеяться на то, что имеющему горячую, искреннюю Веру Господь никогда не даст погибнуть на «малиновой поляне». Это были чистые, искренние, спасающие слезы, дающие новые силы и надежду.
«Да будет воля Твоя во веки веков! Аминь!»
Таежные дары
Этот рассказ возник из воспоминаний, казалось бы, не связанных между собой. Он соткан из мимолетных картин и впечатлений о диком Севере, где человеку так трудно существовать; собран из отдельных, на ходу оброненных фраз отца Григория о жизни и быте коренных северян, об особенностях сурового таежного климата и еще… из отрывочных рассказов батюшки о каких-то удивительных книгах в заброшенном таежном поселке. В общем, эти строчки повествуют о таежных дарах, полученных отцом Григорием в далеком магаданском крае.
Несомненно, что это был дар Божий.
Так получилось, что в беде, которая постигла диакона Григория Пономарева на этом сложном отрезке жизненного пути, он обрел новые знания, укрепившие его богословское мировоззрение. Так неизбежное зло — 16 лет ссылки с клеймом «врага народа» — обернулись для отца Григория еще и благом, и страдания его истомившейся души, переплавленные в горниле суровой северной жизни, через много лет дали плоды.
«И если какой человек ест и пьет и видит доброе во всяком труде своем, то это — дар Божий» (Еккл.3:13).
* * *
Во вторник, на первой неделе Великого поста, у дорожников-строителей из поселка Ягодное, в бригаде которых работал бывший заключенный Григорий Пономарев, случился простой. Где-то в бездорожье недалеко от их участка застряла тяжелая техника со стройматериалами, и рабочие оказались в безбрежной тайге оторванными от мира.
В ожидании работы кто-то пошел спать в дорожный вагончик — их временное пристанище, кто-то «резался» в карты, допивая остатки паевого спирта. Отец Григорий решил пока просто побродить где-нибудь вблизи — побыть наедине с природой, послушать шум тайги. Работая в жестком рабочем графике строительной бригады Дальстроя, прокладывающей дорогу через таежные чащобы, он не имел возможности быть наедине с собой и только мечтал о созерцательной тишине для своей страждущей души.
Едва заметная тропка или, может быть, старая лыжня вывела его к полузаброшенному охотничьему поселку, сиротливо притулившемуся в низинке менее чем в километре от стройки. Судя по добротности изб, поселок еще совсем недавно был крепким хозяйством, теперь же имел вид заброшенного медвежьего угла. Издали видно было, что не все дома в нем обитаемы. Большинство заборов, ограждающих когда-то крепкие срубы да хозяйственные постройки, развалились, а остатки поленниц давно разобраны соседями — не пропадать же, в самом деле, чужому добру!
День клонился к вечеру, и мороз при полном безветрии крепчал. Вертикальные столбики сизоватого дыма, курившиеся из труб деревенских домиков параллельно друг другу, выглядели как нарисованные.
Лениво перетявкивались собаки, скорее по привычке, чем по потребе. В замерзших, наполовину засыпанных снегом оконцах слабо мерцал свет. Одинокие избы с одноглазыми ставнями, грубо срубленные из местного леса, дышали глубокой печалью. Поселение было настолько оторвано от мира, что казалось, будто тут сто лет не ступала нога заезжего человека. Большую дорогу, ведущую к деревушке, давно перемело, и местами приходилось идти по пояс проваливаясь в снегу, однако эти домишки чем-то необъяснимо притягивали к себе отца Григория.
Но до них надо было еще добраться, спустившись к низинке. А сейчас он шагал по тайге напрямик к поселку по какой-то старой охотничьей тропе. Лесного зверья он не боялся, так как грохот строительства давно распугал местных хищников. Зато зайцы выскакивали у него прямо из-под ног.
От мороза кедры как-то зябко потрескивали, покряхтывали, как старые деды. Белки, а их было множество, резвились в ветвях деревьев, стряхивая с них легкое, снежное покрывало, которое, падая вниз, рассыпfлось в воздухе, сверкая на солнце бриллиантовой пудрой. Белки-летяги перелетали с дерева на дерево, ловко бегали, взбираясь по стволам, уходящим вверх. Они никого не боялись и бесстрашно перебегали тропинку перед идущим по ней отцом Григорием. Видны были даже их любопытные мордочки и бусинки глаз. Вот в голову прилетела вылущенная кедровая шишка.
— Совсем распоясались! — проговорил улыбаясь батюшка.
Заходящее солнце уже не путалось своей верхушкой в заснеженных густых кронах деревьев. Вот оно, словно длинными, светящимися спицами, насквозь прокалывает своими вечерними лучами таежное пространство и, словно театральным софитом, бликующим от снежного зеркала, подсвечивает лесной «партер», и от этого внизу, на тропинке, кажется намного светлее, чем наверху. Вот вытянулись от прямых скрипучих стволов сизовато-лиловые тени, а через минуту стали совсем черными.
В воздухе запахло дымком и чьим-то ужином…
Поселок совсем рядом. Оглянувшись, батюшка подошел к избе, стоящей несколько на отшибе от других. Дворовые постройки и забор, очевидно, давно упали, безнадежно заметенные снегом, но под окном углядывалась-таки небольшая полуразваленная поленница…
«Какое запустение! — быстро мелькнули мысли. — Да здесь, пожалуй, и собаке-то негде укрыться».
Изба, напоминающая барак, наполовину занесена была снегом, давно слежавшимся и потемневшим к концу зимы. Низенькая дверь снаружи избы была утыкана каким-то полурваным картоном и старым тряпьем, очевидно, для тепла. Видно было, что дверь, заваленную снаружи снегом, давно не открывали.
«Как же тут живут? — подумал отец Григорий и тут же предположил: — А может, это старики, которые уже и выйти-то из избы не могут. Да и живы ли они…» Но слабо мерцающий внутри избушки огонек вселял надежду. Как смог, батюшка разгреб снежный сугроб перед входной дверью и постучал.
Тишина. Он нерешительно потянул на себя дверь. Примерзла, конечно. Стал тянуть сильнее, и наконец дверь надсадно «крякнула» и, заскрипев, открылась. Изнутри она была покрыта толстым слоем куржака. Какой-то затхлый, устоявшийся запах резко ударил в нос. В избе — промозглая сырость, холод.
Отец Григорий оглянулся. Прямо напротив двери — огромная печь. Перед заслонкой что-то свалено в кучу: какие-то листы, картонки, коробки… — сразу не разобрать. В избе полумрак. В переднем углу, где нет ни одной иконы, — длинный стол, на краю которого примостился самодельный светильник с каким-то переплавленным жиром — обычный способ освещения избы на Севере. У другой стены, напротив маленького оконца, привалена лавка, а на ней, кажется, — чья-то скрюченная фигура, накрытая тулупом. И более никого.
Несмотря на шум, сопровождавший приход отца Григория, на лавке никто даже не шевельнулся. Батюшка приблизился к лежанке, готовый увидеть самое неприятное. Но когда он тронул за плечо скрюченное тело, то, к его удивлению, человек зашевелился и, приподняв голову, довольно бессмысленно уставился в пространство перед собой… Это был дряхлый старик. Видно было, что он тяжело болен, и, по всей видимости, давно. Сколько он тут лежит, похоже, и сам не помнит. На полу рядом с лавкой — железная кружка, на дне которой давно засохла и заплесневела какая-то жидкость, наверное, остатки чая. Тут же брошен стылый обломок черного сухаря. Зрелище, конечно, неприглядное. Ничего не понимая, старик беспомощно уронил голову на свой лежак.
Сердце батюшки сжалось от сочувствия и жалости. Он присел на край лавки и попытался растолкать деда, откинув его полушубок. Иссохшее, старческое тело было настолько истощено, что батюшка, хоть и повидавший многое в жизни, исполнился невыразимого сострадания к этому старому, больному человеку. «Сколько же их, брошенных, одиноких стариков… — отец Григорий думал, конечно, о репрессированных родных и о тех несчастных, с кем проходил по делу, — сколько их погибло! А многие и по сей день умирают от голодной смерти в своих и чужих углах!»
Хозяин избы что-то тихонько и невнятно промычал, и было непонятно, благодарит он или, наоборот, недоволен. Вот где пригодился паевой спирт, который выдавался каждому строителю-таежнику. Отец Григорий осторожно растер целебной настойкой впалую грудь старика и его худющую спину с выпирающими лопатками.
На печи за ветхой занавеской Григорий нашел еще одну кружку. Он налил в нее глоток спирта и на свой страх и риск почти насильно влил «лекарство» в черный провал рта старика. Дед сделал глотательное движение, поперхнулся, криво сморщив худое старческое лицо, но… проглотил все-таки обжигающую жидкость. А в это время батюшка, не прекращая растирать его скрюченное тело, творил Иисусову молитву. Вскоре дед встрепенулся и довольно осознанно оглядел все вокруг. Остановив свой взгляд на батюшке, он слабым голоском спросил:
— А ты кто?
— Я — человек, Григорием зовут. Рабочий я со стройки.
— А чё те надо? Ты почто меня обихаживашь? Анька прислала?
Отец Григорий подумал: «Господь меня привел к тебе» — но ответил утвердительно по поводу Аньки, чтобы не пугать старика. После столь энергичных воздействий внутреннего и внешнего характера старик заметно приободрился и его ввалившиеся, черные щеки даже немного порозовели.
— Ты, дед, с кем тут живешь-то? Давно болеешь?
— Да один я тута, — с трудом проговорил старичок. И, немного помолчав, добавил:
— Вот сеструха маненько присматриват. А так.. Один. Уж я ведь совсем старый, — он снова замолчал, и далее продолжил: — А щас она поехала к золовке в Лосинку. Да шибко давно ее чтой-то нет.
После этого мучительного объяснения дед закашлялся затяжным, простудно-старческим кашлем и умолк, махнув беспомощно рукой. Видимо, он давно уже ни с кем не говорил. Выяснилось все же, что его сестра, живущая тут же, в поселке, как может, присматривает за ним: приносит ему еду, топит печь. Сама она тоже уже в годах и с хозяйством управляется с трудом. Как давно она уехала, батюшке так и не удалось узнать, но, судя по наметенному сугробу у входной двери, не меньше недели.
— А болеешь ты давно, дед?
— Да… Как она уехала, меня враз и скукожило…
— А звать-то тебя как?
— Иваном…
— Есть хочешь? Когда ел-то последний раз?
— А… Не помню, мил человек. Забыл я, как звать-то тебя… Старый, вишь…
— Григорий я. Гриша, если по-простому.
— Ну, ну. Гриша, значит. Так тебя не Анна прислала? — при этих словах старик как-то сразу сник.
Отец Григорий решил обойти эту, очевидно, болезненную тему. «Надо растопить печь, хоть чем-то покормить деда», — подумал он и произнес:
— Слушай, Иван! Я сейчас печь растоплю и принесу тебе поесть. Я из бригады Дальстроя. Недалеко стоим. Скоро приду.
— Ох, спаси тя Царица Небес.. — старик вдруг нарочито-громко закашлял, чтобы заглушить последние слова, а затем продолжил: — Я уж думал, что помру… И Буян чего-то не брешет… Давно не кормленный. Видать, издох… А может, его волки загрызли… — добавил он, впрочем как-то равнодушно.
Батюшка вышел на улицу, где приметил под окном хилую поленницу. Он огляделся, в надежде увидеть хозяйскую собаку, даже позвал:
— Буян… Буян…
Тщетно. Взял дрова и, зайдя в дом, свалил их у печи. Рядом лежали какие-то бумажные коробки, скорее всего, для растопки. Наклонившись над ними, он вдруг понял, что это… книги — большие, увесистые книги в старинных, богатых переплетах.
Кровь ударила в голову! «Быть не может!»
Но это в действительности были роскошные книги, кажется, дореволюционного издания. Некоторые из них, видимо, уже пострадали от «хозяйственной деятельности» обитателей избы. Григорий взял со стола светильник, поднес его ближе к коробкам… и сердце его от волнения заколотилось так, что, казалось, вот-вот оно ухнет куда-то вниз.
На щербатом, грязном полу лежали книги, прекрасно изданные еще в прошлом веке. Он бегло пролистнул страницы некоторых изданий. В мерцании светильника перед ним проплывали знакомые еще с детства и совсем незнакомые тексты… Это были книги известных поэтов, писателей и литераторов с мировыми именами.
Видно было, что обложки книг когда-то были тиснены золотом. А теперь они лежали у деревенской печи, разъеденные плесенью. Григорий на какое-то время оцепенел, потом порывисто прижал эту драгоценную находку к груди и был не в силах отнять от них рук.
Но откуда здесь книги? Не найдя ответа на мучивший его вопрос, отец Григорий оглянулся на деда. Да, конечно, тепло и пища для старика сейчас важнее всего. Он осторожно переложил книги к стене, подальше от печки. Руки его дрожали, он никак не мог успокоиться. Усилием воли батюшка заставил себя затопить печь. Налив в большой алюминиевый чайник воды, поставил его на старую чугунку. Он все время косился на деда, порываясь побыстрее расспросить его о книгах и понимая, что пока не время для разговоров.
От спирта и тепла печи, постепенно нагревающего жилище, ослабевший старик снова задремал и даже полушубок свой скинул. А пока он дремал, батюшка решил сходить в вагончик и принести деду что-нибудь съестное из своего скудного рабочего пайка, так как в избе пищи не было никакой. Себя отец Григорий давно научился ограничивать во всем, даже в пище. Десятилетняя суровая школа выживания в условиях лагерной жизни Севера принудила его терпеть многие лишения.
Сейчас он сходит в вагончик, возьмет немного еды, сушеной земляники, блокнот и карандаш и вернется. Кстати, надо предупредить ребят, чтобы его не теряли — он, скорее всего, заночует в поселке у деда.
Все, что произошло с ним в этот день, казалось ему призрачным, как мираж. Книги были настоящим чудом. Книги, да еще какие! Ему все время думалось, что, пока он в отлучке, его сокровище рассыпется, как песочный зfмок, или… кто-то вдруг придет и унесет книги безвозвратно. «Наверное, по какой-то нелепой случайности или просто по ошибке они оказались в доме у деда, — говорил сам себе батюшка. — Надо спешить хотя бы что-то прочесть…»
Обратно в дедову избу он несся со всех ног. Теперь от затопленной им печи вертикальным столбиком вился дымок. «Откуда все-таки оказалась в заброшенном таежном углу эта драгоценность?» — вопрос как заноза засел в голове у батюшки.
С этими мыслями Григорий и влетел в дом.
Дед мирно посапывал, разморившись от тепла. Вода уже кипела. Батюшка заварил в кружке сухие ягоды земляники, которые сам собирал летом. Затем, скосив на всякий случай глаза в тот угол, где еще совсем недавно лежали на растопку уникальные книги, он подбросил в сырую печь несколько дровишек и в обнимку со своим сокровищем уселся поскорее за стол.
«Конечно, — думал он, — случилось невероятное! Вот уж поистине настоящий подарок судьбы!»
Старые подарочные издания конца 19-го и начала 20-го веков! Авторы многих книг неизвестны батюшке, хотя в доме у Пономаревых была большая старинная библиотека, и отец Григорий еще в детстве успел прочитать бjльшую ее часть. Но эти — почти все переводные: с немецкого, французского, английского. У архимандрита Ардалиона не было таких дорогих и роскошных книг — жили они хотя и в достатке, но все-таки скромно.
А вот «Труженики моря» Виктора Гюго!
Когда-то давно он читал это произведение. Отец Григорий порывисто, но осторожно, чтобы не увидел дед, прижал знакомую книжку к щеке. «Господи! Как давно не держал я в руках хорошей книги!» От волнения у него даже разболелась голова. Чтобы хоть как-то унять волнение и боль, он выпил горячей воды из громадного чайника и… вновь окунулся в свой глубоко скрытый от всех внутренний мир — мир постоянных размышлений о смысле жизни, о вечности, о духовных ценностях, о вере и неверии. Он давно думал о том, как убедить погибающее человечество в том, что мир сотворила не природа, а Всемогущий Разум. Он мечтал написать книги, призывающие человека, оскудевшего в вере, обрести Христа; он хотел повéдать всем о гуманизме и принципах христианской морали. Здесь, на Севере, это было, конечно, невозможно, но не думать об этом он не мог. И вот неожиданно Господь подкрепил его силы. Он дал ему ту пищу, которая, питая одного, могла укрепить многих. Он искал Бога везде, и находил Его…
Поначалу, в сильном волнении, отец Григорий перебирал все книги подряд, пробегая быстро глазами то одну, то другую. Он то хватался за карандаш, чтобы записать какие-то имена, названия, то бросал все и снова погружался в незнакомые тексты, не в силах прервать увлекательное чтение. Вот уж, действительно, настоящее потрясение!
Наконец поняв, что так дело далеко не продвинется, он буквально заставил себя закрыть все книги.
Встав из-за стола, Григорий перекрестился, подняв глаза к окну. Немного придя в себя, батюшка продолжил молитву. Он просил у Господа вразумления, не зная, как правильно воспользоваться неожиданным даром. Просил, чтобы книги вдруг не исчезли, чтобы их дорожную бригаду никуда не перебросили с этих мест. Просил, чтобы у него хватило времени хотя бы все прочесть, а может, что-то переписать. Он просил у Бога сил успокоиться и помочь ему, диакону Григорию Пономареву, правильно распределить время, чтобы успеть с пользой для души освоить этот объемный литературный материал…
«Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением» (Тим.4:13) — евангельские стихи вошли в его сердце как подкрепление.
Помолившись, он снова сел за работу.
Сколько прошло времени и который сейчас час, Григорий не знал, но, когда наконец он оторвался от книг, за оконцем избы синел поздний зимний рассвет. Батюшка притронулся к уставшим глазам, а в них — словно песок насыпан, так ломило и жгло…
На лавке зашевелился дед.
Ох, а печь-то уж давно прогорела!
Мысли его, как волны после шторма, медленно успокаивались, чтобы далее работать в определенном, привычном для него с юности, размеренном ритме.
Среди книжных имен и названий, ранее знакомых отцу Григорию, было много новых, не известных ему. «Интересно, очень интересно!» — думал отец Григорий, с волнением листая пожухлые книжные страницы.
Вот сборник трудов по естествознанию немецкого поэта Иоганна Вольфганга Гете, среди которых отца Григория особенно заинтересовала работа «О цвете». А далее… — имена авторов мелькали у него в сознании как что-то недосягаемое — Фридрих Шиллер, Теодор Драйзер, Виктор Гюго, Альфред Гуго… Но самое дорогое, конечно, это дневниковые записи и переписка русских классиков: Пушкина, Гоголя, Чехова, Достоевского, Герцена, Белинского, Соловьева, Ключевского…
Исключительно ценным было то, что в этих дореволюционных изданиях сохранились полные тексты известных произведений — без купюр и сокращений, так что отец Григорий мог утолить свой духовный голод чтением, например, романа «Братья Карамазовы».
На всю жизнь запомнил батюшка слова старца Зосимы: «Праведник отходит, а свет его остается».
Позднее, уже вернувшись с Севера, он в отдельную тетрадку выписал отрывок из бесед и поучений старца, подчеркнув красным карандашом текст, поразивший его евангельской истиной:
«Если же злодейство людей возмутит тебя негодованием и скорбию, уже необоримою, даже до желания отмщения злодеям, то более всего страшись этого чувства; тотчас же иди и ищи себе мук так, как бы сам был виновен в злодействе людей. Приими сии муки и вытерпи, и утолится сердце твое, и поймешь, что и сам виновен, ибо мог светить злодеям даже как единый безгрешный, и не светил. Если бы светил, то светом своим озарил бы и другим путь, и тот, который совершил злодейство, может быть, и не совершил бы его при свете твоем. И даже если ты светил, но увидишь, что не спасаются люди даже и при свете твоем, то пребудь тверд и не усумнись в силе света небесного; верь тому, что если теперь не спаслись, то потом спасутся. А не спасутся и потом, то сыны их спасутся, ибо не умрет свет твой, хотя бы и ты уже умер.
Праведник отходит, а свет его остается».
Поучение старца Зосимы отец Григорий пронес через всю свою жизнь. Он помнил о нем и в те горькие минуты, когда злодейство людей возмущало его негодованием и скорбию, но он принял эти муки и вытерпел, ибо своим светом — светом праведника — озарял этим злодеям путь.
«Как оказались в этом таежном медвежьем углу книги классиков?» — неотступно крутилось в воспаленном сознании. Эта мысль целиком захватила отца Григория, на какое-то время вытеснив все остальное. Она точила его, не давая спокойно вдуматься в смысл происходящего. «Да! — наконец осознал он. — Надо все же узнать, откуда у старика это сокровище?»
В это время дед снова зашевелился на своем топчане и, подняв сонную голову, мучительно-глухо закашлял. Батюшка с нетерпением смотрел на него, ожидая, когда он окончательно проснется.
А тот вдруг заговорил:
— Мил ты человек! Ведь я, старый, снова забыл, как звать-то тебя… Сестрица-то моя не приходила?
На ответ, что пока не приходила, дед отпустил несколько «глубокомысленных» замечаний непечатного характера по поводу своей легкомысленной родственницы, которая «вовсе стыд и совесть потеряла»…
Нелитературная речь деда окончательно вернула отца Григория к действительности.
— Ладно, Иван. Давай-ка лучше будем лечиться и перекусим немного. Тебе силы надо восстанавливать…
Дед не перечил.
Отец Григорий влажной тряпкой обтер старику лицо, шею, руки, решив, что для умывания этого достаточно. Затем налил ему горячего отвара из трав и земляники. Из вагончика Григорий принес даже немного меда. Нашлись у него и горчичники, купленные летом в райцентре. Дед смотрел на Григория совершенно детскими, влюбленными глазами. Он послушно выполнял все лечебные процедуры. А когда батюшка, особо не мудрствуя, покормил его своей походной едой, то старик совсем раскис, растроганный до слез:
— Да откудова ты такой, Гриша?! Тебя не иначе, как Господь ко мне, сирому, прислал!
Сказав это, старик вдруг чего-то испугался, глаза его странно забегали, и он смущенно забормотал:
— Ты того, парень, меня, старого, не слушай. Мы все того-энтого… Народ и партия… Как его… Ну, едины, едины, блин…
От такого неожиданного заявления из уст дряхлого деда на отца Григория напало какое-то безудержное веселье и он еле сдержался, чтобы не засмеяться.
«Это и комедия, и трагедия одновременно! — усмехаясь, подумал батюшка. — До чего же можно довести человека, так надломив его душу! И тем не менее надо узнать, кто он, этот дед».
Успокоившись, батюшка вернулся в избу, подошел к старику.
— Давай отдыхай, отец. Сил набирайся. Едины так едины…
Дед успокоился, что, кажется, не сказал никакой крамолы и его не бросят в сей же момент, и постепенно впал в дрему. Отец Григорий оделся, вышел во двор, покричав еще раз исчезнувшего Буяна, и решил, что если сейчас снова сесть за книги, то голова просто не выдержит. Надо, пожалуй, сходить в вагончик, узнать, как там. Вдруг технику уже привезли и надо работать?
Мороз набирал силу. Даже белки сегодня где-то притихли, только снег хрустел под ногами так, что, казалось, слышно было по всей Сибири.
В вагончике было накурено и душно. Техника еще не пришла, и почти все рабочие спали. Но один поднял заспанную голову:
— Что? Нашел кого в поселке? Ну-ну, — ухмыльнулся, впрочем вполне дружелюбно, и снова заснул.
— Нашел, нашел, — отозвался Григорий и тихо, скорее уже для себя, добавил: — Такое сокровище, что и в сказках не сказывают.
Батюшка забрал остатки своего пайка, написал на клочке бумаги, чтобы его не теряли, что он в охотничьем поселке, в избе старого деда. Весело хрустя сухарем, в приподнятом настроении Григорий помчался к своему книжному сокровищу. Он вновь почувствовал прилив сил, несмотря на бессонную ночь. Мысли уже перерабатывали полученные знания и томились в ожидании новых… Когда он зашел в избу, дед сидел на лавке, свесив ноги. Видно было, что он выходил во двор.
— Вернулся?! — радостно воскликнул он. — А я уж думал, и ты ушел… И Буяна нет… — вдруг жалобно то ли сказал, то ли спросил хозяин. И немного погодя добавил: — Шатает меня от слабости…
Отец Григорий затопил печь, снова напоил деда упаренной земляничной травой. Затем покормил его, и пока старик не заснул, стал тихонько расспрашивать: кто он, откуда у него эти книги, могут ли их забрать…
Понемногу дед разговорился. Выяснилось, что изба, в которой они находятся, в свое время была клубом. Тогда поселок процветал, и срубы, как теперь, не пустовали. Местные жители занимались в основном охотничьим промыслом, сдавая в райцентр пушнину; этим и жили. Иногда к ним привозили лавку с продуктами. В деревне было много грамотных, понаехавших невесть откуда; их считали чужаками.
— Частенько к ним наведывался уполномоченный… — при этих словах Иван скосил глаза в сторону своего гостя. — Он отмечал что-то в казенном блокноте, выписывал им бумажки, в которых они должны были обязательно расписаться.
А он, Иван, был сторожем и завхозом, как он гордо сказал, «этого клуба». Заведующим клубом был молодой и бойкий парень, который по воскресеньям всё пластинки крутил да танцы устраивал.
— Поселок бы-ы-л… хоть куда! — мечтательно протянул старик.
А однажды к ним привезли вот эти самые книги. Откуда, Иван не знал. Сказали, что при клубе должна быть библиотека. Однако строптивое население охотничьего поселка не прислушивалось к призывам партии «учиться и учиться», а все больше как-то стремилось к танцам да гулянкам. А когда разобрались, что привезенные книги — буржуазная «скукотища» из прошлого века, то поняли, что их просто обманули!
Плевались все:
— Подсунули, контры! Вот ведь всегда нашего брата стремятся одурачить… Себе, небось, в райцентр — романы про любовь да детективы, а нам, значит, эти сойдут?
— Ну кто их читать будет? Зачем, спрашивается, они нам? — позлословили промеж собой люди да и забыли о книжонках.
— Правда, те, что из «грамотных» были, книжками энтими антересовались. А вскоре заведующий клубом приказал стаскать все книги в темный чулан — вдруг кто спросит для отчета…
— Так они и лежат уже много лет, — разговорился старикан. — А потом что-то сменилось там, наверху. Сменился порядок приема пушнины, стали за нее мало платить, и поселок постепенно захирел. Многие разъехались, заколачивая избы. Вскоре исчез и завклубом, прихватив патефон с пластинками. Так в поселке осталось всего несколько семей, которым просто некуда было деваться, — старик о чем-то задумался и вскоре продолжил: — Вот и я один, старый, никому не нужный. Даже сестра родная, помоги ей Гос… — тут он опять не договорил слово, нарочито закашлял и, приглушив голос, добавил: — И то бросила.
Старик горько заохал.
— Помер бы я, кабы не ты, Гриша… — неожиданно добавил он.
— А меня, наверное, Господь к тебе прислал, — отозвался батюшка.
И опять в глазах Ивана мелькнуло что-то затравленное: страх, недоверие… Но когда отец Григорий встал и перекрестился, то в глубине старческих глаз словно что-то надломилось, и они заблестели набежавшей слезой.
— Ох, нельзя ведь нынче об этом, Гриша!
— Да кто тебя выдаст? Веришь в Господа, и слава Ему! И верь! Я-то тебя понимаю…
— Так ты, чё ли, верующий… — вопрос старика повис в воздухе без ответа.
А через некоторое время Григорий отозвался:
— Ну не зря же нас чёлдонами зовут, — и засмеялся.
Так отношения между ними невольно переместились на иную, таинственную и одновременно запретную глубину: их связывала вера в Бога, у каждого, конечно, своя. Старик понял это и окончательно принял Григория всем своим одиноким старческим сердцем, истомившимся по задушевным беседам. Он понял, что теперь уж точно его не бросят и не умрет он в своей избе голодной смертью. Родная душа, отец Григорий — «свой, верующий…» — не оставит его. Только бы строительство не перекочевало на другое место. А там, даст Бог, и сестрица все же вернется.
Книг в чулане осталось с тех времен десятка четыре, но, к сожалению, многие оказались вконец попорчены. Со слежавшимися от влаги и времени страницами, опутанные пыльной паутиной, большинство книг превратилось в жилище для пауков. Но некоторые все-таки неплохо сохранились, так что даже на одной из них батюшка различил на титульном листе надпись, сделанную старинным каллиграфическим почерком: «Из домашней библиотеки князя Раевск….» — остальные буквы потерялись в грязно-зеленых разводах плесени.
Сколько ни спрашивал отец Григорий у Ивана, откуда, поточнее, привезли эти книги, тот только моргал и пожимал плечами:
— Ну не все ли тебе равно?
Батюшка объяснил ему, что жечь хорошие книги, растапливая ими печь, — грех и лучше всего прибрать те, что остались, в сухое и чистое место. Пусть полежат. Может быть, кому-нибудь еще понадобятся…
Пока строительство велось в районе заброшенного поселка, каждый день батюшка, не успев передохнуть после смены, бежал в дедову избу и, забыв о всякой усталости, погружался в чтение.
Он вы´ходил-таки Ивана, отдавая ему каждый день часть своего командировочного пайка. Дед оказался довольно крепким стариком и вскоре земляничными чаями да задушевными разговорами с гостем выкарабкался из своего тяжелого состояния. Ведь таежник он все-таки, что ни говори. К Григорию он искренне привязался, считал своим спасителем, но все же… чудаком. Ну нельзя же, пусть даже и из-за хороших, правильных книг, так убиваться: изучать что-то ночи напролет, переписывать…
— Да забери ты их все!
— Нельзя, — был ответ. — Да и человек-то я приезжий. Как говорят, «перекати-поле». Нет у меня ни кола ни двора в этом крае. Переезжаю с места на место вместе со строительным вагончиком. Куда я возьму эти книги?
Но про себя подумал, что дорога к Ивановой избе с каждым днем удлиняется. А что, если на какое-то время взять с собой книжку-другую, чтобы поработать в вагончике? Да кто знает, с кем он работает? Настучат еще… — и снова по этапу как враг народа, служитель культа. Стукачество нынче особо в цене.
«Нет-нет, это невозможно. Слишком дорогая цена!» И он день за днем штудирует прочитанное, питая ум и душу и пытаясь как можно больше запомнить, а что-то записать. Хотя знает заранее, что, уезжая с Севера, конспекты уничтожит. А уж там, на родном Урале — как Господь даст…
Наконец дорожные работы продвинулись далеко вперед и начальство Дальстроя изменило место дислокации вагончика — их перекидывали сразу на 200 километров на восток; тут уж не походишь каждый день в охотничий поселок, так полюбившийся отцу Григорию.
Как нельзя кстати, объявилась дедова сестра, Анна. Были у нее какие-то свои причины, что долго не навещала брата. Да она и не оправдывалась, а только благодарила батюшку за Ивана.
Прощание было тяжелым.
И дед, и Григорий понимали, что в этой жизни они больше никогда не свидятся. Напоследок Иван только и сказал с грустью:
— А книги-то твои мы беречь будем. Может, они кому-то еще пригодятся. Да и на память о тебе…
Отец Алексий
…Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.
Пс. 90-й
Шел шестой год после освобождения отца Григория из заключения. Он имел уже соответствующий документ со всеми подписями и печатями на право свободного передвижения и отъезда. Но все это была лишь хорошо замаскированная форма задержания человека в Магаданском крае, куда из более цивилизованных мест и по контракту-то не заманишь, а работники тут нужны. Формально все конституционные нормы по отношению к нему были соблюдены, выдан паспорт, но реальная возможность выехать, как они говорили, «на материк» была минимальной. Большинство бывших заключенных, освободившись из зоны и предпринимая напрасные попытки уехать, оставались тут же. Постепенно приживаясь, они начинали новую жизнь.
На «материк» можно было попасть лишь самолетом. Пассажирских рейсов в то время не было, летали только транспортные или почтовые самолеты, на которые брали по два-три человека кроме команды, в основном — начальство. Местное же малочисленное население записывалось в негласную очередь на годы вперед. Кроме того, стоимость перелетов в то время была баснословно велика.
Отец Григорий устроился работать в систему Дальстроя, записавшись в очередь на вылет и собирая каждую копейку на оплату дороги до «материка» и на билет (со многими пересадками) до Свердловска. Ему довелось поработать и с геологами, и на метеостанции, и просто на строительстве дорог. Покатилась череда лет формально свободного, но фактически запертого (только уже не в стенах зоны, а на необъятных просторах Севера) человека, выжившего в сталинской каторге и теперь прилагающего все усилия, чтобы вырваться на родину, к семье. Жил он где получалось: летом — в палатках, зимой — в бараках геологов, в вагончиках дорожников и на передвижных станциях метеослужбы.
Как и раньше, он оставался сдержанным и молчаливым человеком, но не угрюмым. Он был трудолюбив и вынослив. Зона выработала в нем обостренное чувство опасности, связанное с природными явлениями, сложными жизненными ситуациями и человеческими конфликтами. К отцу Григорию, по северным суровым меркам, относились хорошо — умен, трудяга, никогда не подведет, верный человек, но «не свой». Не пьет, не сквернословит, а иногда взглянет своими синими глазами, да так, что не поймешь — или он тебя почему-то жалеет, или знает что-то такое, отчего становится не по себе. Даже языки грубиянов и матерщинников под этим взглядом прилипали к гортани. Ну не свой он был среди них, хоть и уважаемый человек.
Работая, отец Григорий творил Иисусову молитву — так повелось еще с зоны. Его молодая и цепкая память, которая с младенчества была настроена на молитвы, восстановила почти всю Божественную Литургию, главы из Священного Писания, молитвы за здравие и за упокой, утреннее и вечернее правило, тексты акафистов. Кроме того, он читал и светскую литературу, которую удавалось каким-то образом добыть. В его архивных бумагах был найден список авторов и книг, прочитанных им после освобождения. Среди них в основном классика. Книги Максима Горького, Стефана Цвейга, Джека Лондона и многих других авторов… Сохранились даже отдельные выписки из прочитанного, много страниц выписано из «Тружеников моря» Виктора Гюго. Живой, светлый ум батюшки все время старался увидеть мир глазами других людей.
Позднее, когда батюшка служил уже настоятелем Свято-Духовской церкви в Смолино, он в качестве послушания благословлял своим духовным чадам чтение книг писателей-классиков. Одна духовная дочь отца Григория, Любовь, рассказывала, что получила однажды от батюшки благословение прочесть книги Виктора Гюго. Прочитав шесть томов из полного собрания сочинений писателя, она остановилась на чтении трагического произведения «Валентин и Валентина» и, потрясенная событиями, описанными в романе, пришла к батюшке со словами: «Все, больше читать не могу…». Отец Григорий, внимательно взглянув на Любовь, тихим голосом сказал: «А больше и не надо…».
Так сбывались слова батюшки, записанные им в духовном дневнике: «Большое дело — давать читать с размышлением. В этом секрет подхода к душе. А непродуманно дать чтение — это просто забросать книгами, не сообразуясь с наклонностью человека. Когда от книги прочитанной осталось впечатление, это значит — попал в цель, а если не так, то считай свой заряд пропавшим».
Чувство одиночества на чужбине, часто подкрадывающееся уныние и тягостные раздумья облегчала только молитва. Очень часто отец Григорий думал о своих родных. О любимой супруге, о дочке, которая росла без него. Он не слышал ее детского лепета, не видел ее первых, неуверенных шагов и успехов в музыке, которые она имела благодаря героическим усилиям своей мамы Нины Сергеевны. Все было без него. Что ж, видно, так угодно Господу. Болело сердце об отце — архимандрите Ардалионе. Из писем жены между строк он мог понять, что связи с отцом совершенно оборваны. «Где же ты, мой дорогой друг, отец, наставник и учитель? Вряд ли стальные челюсти ГУЛАГа пощадили тебя!» Где отец матушки Нины… протоиерей Сергий? Где все столь любимые и дорогие сердцу люди, сгинувшие в пучине 37-го года?
Последние годы отец Григорий почему-то особенно остро вспоминал свое короткое и трагическое знакомство с покойным батюшкой Алексием, его напарником по шахте. Для себя он четко решил: если Господь даст ему вернуться домой, то дальнейшую жизнь он посвятит служению Богу и Церкви. Это был и завет отца Алексия, и обет Богу, данный заключенным Григорием Пономаревым во время пребывания в бараке смертников. Безусловно, если бы даже не эти страшные и мучительные события лагерной жизни, то отец Григорий все равно посвятил бы себя служению Церкви, для которого был уготован с детства.
Воспоминания об отце Алексие часто тревожили его душу. Работая в системе Дальстроя, он неплохо знал окрестные места. Знал и расположение своей бывшей зоны, и места захоронения умерших узников. Места для погребения заключенных нельзя было назвать захоронением. Это были огромные котлованы, вырытые в короткое северное лето. Весной и осенью они заполнялись телами умерших. Когда котлован наполнялся, его слегка прикапывали землей, и то не из соображения человечности и гуманности, а для «санитарной» профилактики. Тела же несчастных, умерших зимой, просто штабелями, как поленницу, складывали где-то там же, а по весне, хочешь не хочешь, тоже приходилось хотя бы слегка присыпать их землей. Тут бродило много диких, отощавших за зиму волков и лисиц. Мелькали и пушистые шубки соболей. Стаи воронья кружились над этими мрачными местами поругания человеческих останков, которые свидетельствовали о еще более страшном разложении — растлении душ живых людей, ведающих этими «полями скорби».
Почвы, часто болотистые, ускоряли, конечно, процесс «выравнивания местности», как это бывает на старых кладбищах. Обычная же тундровая растительность вела себя странно. Целые поляны над захоронениями были покрыты огромными, неестественно разросшимися кустами морошки. Ягоды на них были не оранжевые, а кроваво-красные. Мхи и лишайники вырастали здесь намного быстрее, чем травы из обычной лесотундры. А нежные розово-лиловые и белопенные тончайшие цветочки, повсеместно покрывающие обычную тундру в начале полярного лета, тут не росли вообще.
Ничто не могло скрасить хоть на миг угрюмость и мрак этих мест. Что-то незримо наваливалось в этих местах, давило и душило до изнеможения. Однако отец Григорий, преодолевая себя, иногда приходил в эти места и читал заупокойные тропари, 17-ю кафисму из Псалтири и молитвы, которые помнил с детства.
Странная мысль о том, что он, сам не зная как, может хотя бы примерно определить место захоронения отца Алексия, часто посещала его. Он понимал, что это почти неисполнимо, и гнал от себя нелепые мысли. Но они вновь и вновь настойчиво прорывались в его сознании. Осенью 1952 года он снова, и уже в последний раз, посетил эти места скорби. Необходимая сумма денег для дороги домой была почти собрана, и нашлись люди, которые могли помочь ему улететь, предположительно ранней весной.
Первые морозы уже схватили болотистую почву. На свежем снегу еще более ярко и зло, чем осенью, алела, как разбрызганная кровь, морошка. Мхи, поседевшие от заморозков, покрывали всю поверхность огромной поляны, на которой стоял отец Григорий. Он прощался со всеми невинно осужденными исповедниками православной веры, которые пострадали за Христа, и молился за них. Молился даже за тех, кто отбывал срок за свои злодеяния. Сколько их прошло по тропе страданий за эти страшные десять лет заключения?.. Окружавшая тишина нарушалась лишь тихим «шелестом минут», уходящим в вечность.
Мысли об отце Алексие щемящей раной в сердце не давали ему покоя. Прочитав, как обычно, все заупокойные молитвы, он с мольбой обратился к Господу: «Господи Иисусе Христе! Если есть на то Твоя благая воля, соверши невозможное: укажи место упокоения отца Алексия! Я снова буду просить Тебя, чтобы Ты принял его в Свои светлые обители. На краткий миг нашей земной жизни он был мне как отец. Помоги мне, Господи, запечатлеть в своем сердце все, что связано с дорогим человеком». Тусклое на закате дня солнце осветило напряженное, устремленное в небо лицо отца Григория и его глаза, увлажненные слезами. Бросив прощальный взгляд на поле, сквозь слезы он увидел вдалеке какой-то странный отблеск: то ли осколок стекла блеснул на солнце, то ли это был какой-то огонек. Смахнув скупые слезы, он напряженно вгляделся вдаль и вновь увидел эту «светлинку», почти на снегу. Он быстро зашагал к ней, боясь потерять ее из виду.
Где-то вдали по краю поляны прошли два человека. Они как будто уходили от странного огонька и вскоре скрылись в подлеске. Отец Григорий почти не обратил на них внимания: мало ли кто может тут проходить — те же дорожники или геологи, возможно, сокращали себе дорогу, проходя кладбищенской поляной. Он очень боялся потерять из виду маленький огонек, который как бы звал, чем-то привлекая к себе. По мере приближения стало видно, что он горит не прямо на снегу, а на конце тоненькой палочки, воткнутой в снег, и вот-вот потухнет.
Теперь он ориентировался только на эту желтоватую на фоне снега палочку. Огонек исчез совсем, но, когда он подошел еще ближе, сердце его стало отбивать гулкие, мучительные удары. Он не верил своим глазам, но палочкой этой оказалась… свечка. Тонюсенькая восковая свечка. Самая настоящая. Откуда здесь, в таком безлюдном месте, горящая церковная свеча? Он шестнадцать лет не держал ее в своих руках. Кем была зажжена эта поминальная жертва?
Мысль его остановилась на тех двоих, что ушли в подлесок. Но что-то подсказывало сердцу, что молитва его услышана, ибо «всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Как близок к нам Господь, как Он видит и слышит нас, как любит и всегда откликается и помогает!
Когда отец Григорий подошел ближе, фитилек свечи уже обуглился, а по воздуху плыл сизоватый дым. Уняв клокочущее сердце, он вновь зажег свечку. Сотворив благодарственные и заупокойные молитвы, он поцеловал землю, где горела свеча. В душе его волной прокатилась тихая, светлая печаль и одновременно радость и благодарность Господу. Конечно, это было место захоронения отца Алексия. Отец Григорий тогда еще не был священником и не мог по полному чину совершить панихиду, но все, что зависело от него в тот момент, он выполнил.
Домой он возвращался при луне, печально освещающей этот скорбный земной уголок. Но времени он не чувствовал, только понимал, что до конца исполнил свой долг перед покойным батюшкой. Отец Григорий бесконечно благодарил Господа за чудесную помощь и за возможность промыслом Божиим исполнить свои христианские обязанности.
В эту же ночь он увидел во сне отца Алексия. Батюшка был в полном священническом белоснежно сверкающем облачении. На голове его сияла митра, переливаясь светом драгоценных камней и золотом шитья. Глаза его, трогающие душу своей кротостью и младенческой чистотой, смотрели на отца Григория с любовью и радостью. Рядом с отцом Алексием стоял еще один старец, такой же светлый и сияющий, но незнакомый отцу Григорию.
«Ну, Гришенька! Вымолил! — был голос. — Спасибо тебе, сынок, за память, за молитвы. Они услышаны. Теперь простимся надолго. Я буду за тебя молиться, а тебе предстоит еще большая, долгая жизнь и много подвигов во славу Божию. Храни тебя Господь!» Он благословил отца Григория, и на этом сон оборвался. А может, это был не сон? Отец Григорий ощутил себя лежащим с открытыми глазами, устремленными в ночное небо. Желтая луна заливала все кругом своим нереальным, призрачным светом. Вокруг нее — большое светлое сияние. Говорят, это к морозам. Так началась последняя магаданская зима в жизни отца Григория.
Уже к концу марта 1953 года ему сказали, чтобы он подготовил деньги для перелета. В апреле он уволился из системы Дальстроя и, получив все документы, в этом же месяце навсегда распрощался с шестнадцатью годами заключения и тяжелых, непосильных трудов, которые стали для него восхождением на свою Голгофу. Он благодарил Бога за все и, прося Его помощи и покровительства в дальней дороге, покинул этот край человеческих страданий, направляя свой путь к новой жизни, новым подвигам и свершениям во славу Божию.
«Дивен Бог во Святых Своих — Бог Израилев!»
Встреча
Шел 1953-й год. Страна еще не ощутила перемен после смерти Сталина. Намертво закрученные во всех областях жизни гайки пока не ослабели. Нужно было время. Апрель в том году был какой-то несмелый. Днем солнце уже сильно припекало. От земли, оттаявшей в эти весенние дни, поднимался пар; ручейки, стремясь слиться, захватывали потемневшие, набухшие пласты снега и льда. А ночью опять все застывало так, что утренний снежный наст выдерживал вес взрослого человека, и нам, подросткам, интересно было испытывать его на прочность.
Весна не спешила. Мы с мамой уже второй год жили в Свердловске, в районе Верх-Исетского завода, в каморке, снятой у предприимчивого пенсионера. В этой летней дощатой будке он проделал окно, сам сложил печь — источник моих бесконечных мучений, ведь редкий день ее можно было истопить так, чтобы дым шел в трубу, а не в нашу комнатушку. Вот такую «квартиру» мы и снимали. Тут мы бедовали уже две зимы, не находя ничего лучшего. Твердая уверенность мамы, что я должна продолжать музыкальное образование, привела нас в Свердловск из Нижнего Тагила и удерживала тут. Тогда, по своему юному возрасту, я не могла оценить незримый ежедневный подвиг, который совершала мама ради меня.
Работала она в швейном ателье на другом конце города и получала мизерную зарплату, не зная, как растянуть ее и на содержание квартиры, и на дрова, и на питание и одежду. Меня она почти не видела, уезжая на работу очень рано и возвращаясь поздно вечером. Часто оставалась в ателье, чтобы подработать сверхурочно. Кроме этого, мама переделывала еще кучу домашних дел, непосильных для меня, подростка, и только измученное, землистого цвета лицо и глаза, в которых, казалось, навечно поселилась тревога, выдавали ее состояние и усталость. Мы очень любили друг друга, и каждый мой успех в музыке радовал ее больше, чем меня.
Самым счастливым временем для нас бывали приезды бабушки, Павлы Ивановны (маминой мамы). Она постоянно жила в Нижнем Тагиле, в семье старшей дочери. Жалея и понимая, какие тяготы несет мама, она приезжала к нам погостить и помочь в домашних заботах. Это всегда была радость. У мамы светлело лицо, тревога немного отпускала ее, а я, греясь в бабушкином внимании, окруженная ее хлопотами, превращалась в обыкновенную беззаботную школьницу.
В том году она приехала где-то в середине апреля и провела у нас уже несколько дней. Было обыкновенное, серенькое утро. Мама давно уже уехала на работу, я собиралась в школу, радуясь, что я не одна: у нас гостит бабушка. Вдруг в нашу каморку постучал хозяин и подал бабушке телеграмму: «Прилетаю двадцатого рейс №… Крепко целую. Гриша». Но что это? Прочитав телеграмму, бабушка начинает медленно оседать на пол, теряя все краски в лице. Она лежит… и непонятно, дышит ли. Я испугалась, ведь мне еще никогда не приходилось видеть, как люди теряют сознание. Мне стало страшно, очень страшно. Кажется, что она умерла. Интуитивно решаю, что ей надо понюхать нашатырь, и почему-то обязательно, обязательно надо ее посадить. Если она будет сидеть, не будет так страшно.
Наконец очень медленно она приходит в себя, смотрит так, словно вернулась издалека. С трудом садится, что-то вспоминает и… заливается странными, светлыми слезами. Бабушка, наша опора, и вдруг… И только тут до меня дошел смысл телеграммы: «Прилетаю двадцатого… Гриша». Значит, это папа? Значит, сегодня прилетает мой папа?! Сознание отказывается принять такую радость, наступает какая-то пустота.
Да, радость, оказывается, бывает очень трудно пережить. Мало-помалу мы с бабушкой обретаем способность связно говорить. Как сказать маме? Она столько всего перенесла за эти годы! Надо ее как-то подготовить, иначе может случиться непоправимое.
Мама приехала раньше обычного, странно взволнованная, с сильной головной болью. На работе у нее вдруг подскочило давление, ей стало плохо, вызвали «скорую» и, оказав необходимую помощь, отправили домой на директорской машине.
Что за непонятное волнение, ведь она пока ничего не знает? Но в глазах ее застыл вопрос. Она даже не спрашивает, почему я не в школе и что с бабулей…
Все-таки случайностей не бывает, и бабушка приехала именно в это время для того, чтобы предварить папин приезд и помочь маме справиться с неожиданной и невместимой радостью. Мудрая бабуля, накfпав в чашечку валерьянки, в приказном порядке укладывает маму в постель. Шутка ли? Давление… «Скорая»… Надо лежать. Таблетка аспирина и валерьянка для мамы и валидол под язык — себе. Меня она отправляет выяснить время прилета самолета.
Когда я возвращаюсь, непереносимое напряжение в воздухе, которое, казалось, можно было пощупать рукой, рассосалось. Мама уже сидит. Видно, что они обе плакали. Однако у бабушки вид победителя, осуществившего сложнейшую операцию. Она смогла, сумела, со своим материнским чутьем, подготовить маму принять эту радость. Мама сидит не расставаясь с телеграммой, словно этот дорогой бумажный листочек может улететь.
Самолет прилетает поздно вечером. Регулярных автобусных рейсов в аэропорт нет. В те годы люди мало летали самолетами. Добраться можно было только на такси, а это больше половины маминой зарплаты. Но иного выхода нет. И вот, оставив бабушку, которая вдруг как-то ослабела, мы отправляемся в аэропорт. Встречать папу? Кажется, что это какая-то сказка, далекая от реальности. Мы едем уже в темноте по старому Сибирскому тракту. В окне машины мелькает угрюмый еловый лес. Неуютно, даже, более того, просто страшно. А мама, такая чуткая ко всему, сидит совершенно отрешенно. Какие мысли, какая работа кипела тогда в дорогой мне душе — уже не узнаю.
Наконец мы приехали. Аэропорт 1953 года в Свердловске — это простой длинный барак; рядом забор, за которым идет строительство. Тогда еще не было даже и старого аэропорта. Народу почти нет, все закрыто. Самолетов не видно. Пахнет керосином и полынью одновременно. Мимо нас проходит группа смеющихся людей, среди них — летчики. Голоса затихают, и мы узнаем, что папин рейс задерживается по метеоусловиям. Кажется, что эти слова совсем из другого мира. Наверное, он прилетит не раньше завтрашнего дня. Дойдя до предела, нервное напряжение падает. Как защита. Надо возвращаться домой. Мама испуганно пересчитывает деньги, мелочь — все, что есть, чтобы расплатиться за такси. А как ехать завтра? Ничего, она очень рано встанет, съездит на работу, чтобы предупредить и перехватить денег. Ей дадут. Ее любят на работе. Говорят, что она всегда вносит мир в их неспокойный женский коллектив.
Половину ночи мы не спим. Просто не в состоянии заснуть. Пузырек с валерьянкой заметно пустеет. Но вот и утро. Мама выглядит страшно: глаза и веки красные, синие мешки под глазами, отекшее лицо пылает. Походка неуверенная. Уехала отпрашиваться и занять денег. «Господи, дай ей сил!» Бабуля старается держаться, но это дается ей с трудом. Проходит часа два-три в бессмысленном метании по комнате в ожидании мамы. Глаза все время на ворота — когда она придет?
Но вот ворота открываются, и… входит мужчина. Невысокого роста. Очень крепкий, широкоплечий. На нем костюм и плащ, светлая сорочка подчеркивает странный цвет его лица (северный загар). У него синие-синие глаза. Он осматривается и, как будто бывал тут раньше, решительно идет к нашему дощатому домику. Открывает дверь и… подхватывает бабушку, готовую упасть.
— Гришенька!..
— Мамочка!..
Слышны только обрывки слов и глухое, прерывающееся рыдание. Он оборачивается. Какой-то миг он поглощает меня глазами, он весь уходит во взгляд. Потом хватает меня и целует, и смеется, и плачет, и снова смеется.
— Доченька моя? Лёленька?
Он смотрит, смотрит… Я просто оглушена таким шквалом эмоций. И тоже смотрю, смотрю… на него. Так вот он какой, мой папа! Какой он мощный, крепкий, какой у него благородный облик и синие, синие глаза, и черные волосы, чуть седые на висках! Он красивее всех на свете!
Но в глазах его вопрос. Ну конечно… Где она, где его бесконечно дорогая Ниночка? Где, где же она? Он стоит на пороге открытой двери нашей комнатушки, когда во двор входит измученная, изнуренная женщина — силы ее на исходе. Женщина видит его и на миг замирает…
Но кто же это? Она не идет, а скользит по воздуху. Глаза сияют, как два солнца. Такая молодая, почти девушка, тоненькая, стройная в своем темно-зеленом платье в полосочку. Кто эта красавица? Это моя мама! Он кидается ей навстречу, и она падает в его объятья…
Уже к вечеру мы немного успокаиваемся, чтобы говорить, говорить.., вспоминать и опять плакать, хотя слез уже не хватает. Но еще не осознаны все утраты, еще столько не рассказано. Это придет потом.
Засыпая, утомленная переживаниями, я слышу, как в ушах моих равноправно звучат три голоса. Настоящая полифоническая музыка: тихая беседа родителей, трудное, старческое дыхание заснувшей бабушки и сильный шум дождя. Первого после зимы настоящего дождя, смывающего и уносящего в Лету остатки зимы и бури страстей, пережитых сегодня. Легкие, светлые мечты о будущем смежают мои усталые веки. Как хорошо, как спокойно, когда есть папа. «Слава Тебе, Господи, что дал нам пережить такую дорогую минуту встречи!»
Отец Григорий
Способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит.
2 Кор.3:5-6
Жизнь сложилась так, что мое общение с отцом было не постоянным, а, скорее, эпизодическим. Первая наша встреча, как уже было сказано, произошла после его приезда с Севера, когда мне было почти шестнадцать лет.
Несколько недель спустя после возвращения отец Григорий осуществил данный им обет — отдать всего себя на служение Богу и Православной Церкви. Матушка, конечно, его поддерживала. Они жили как брат и сестра во Христе, разделяя пополам все трудности и радости служения Церкви и Богу. Прослужив недолгое время диаконом в Иоанно-Предтеченском храме города Свердловска, батюшка получил постоянное место в небольшом районном городке Кушва, куда они и поехали вдвоем. Я же осталась в Свердловске продолжать учебу, и с этого времени фактически началась моя самостоятельная жизнь.
Конечно, мы виделись. Все каникулы я проводила у родителей. Но велики ли каникулы для познания внутреннего мира человека, прошедшего такой сложный путь? Да и я, в силу молодости, была слишком занята своими проблемами, чтобы глубоко понять, что пережил он и как формировался (лучше сказать, выковывался) его характер. Он попал в сталинскую «мясорубку» всего в двадцать четыре года. Как он не сломался духовно и физически в столь молодом возрасте? Именно там возмужала его воля и укрепилась вера. Каким сильным, но внутренне закрытым человеком приехал папа с Севера!
И в последующие годы жизнь тоже ставила перед ним сложные и трудные задачи, но они отвечали уже новому времени… В те годы я не могла заметить и оценить его постоянный духовный рост. И лишь теперь, стараясь понять и охватить масштаб его личности, сложить воедино его записи, дневники, письма, заполняя пробелы своими воспоминаниями о его беседах с родными, советах многочисленным духовным чадам, несущим ему свою боль и неразрешенные вопросы, — я пытаюсь выявить его самые главные требования прежде всего к себе, а затем к людям. Вера. Чистейшая, беззаветная, безусловная вера и надежда на Господа при любых обстоятельствах… Но как сделать эту веру не застывшей, не мертвой, а живой и трепетной, приносящей спасительные плоды? Это стало его целью и в совершенствовании, и в постоянной духовной помощи всем нуждающимся в нем.
В годы служения в Кушве, а потом в Нижнем Тагиле отец Григорий был переполнен энергией, которая проявлялась в самых различных формах. Он с наслаждением работал в храме, служил,приводил в порядок церковные книги, иконы, киоты. Его часто можно было видеть в церковной ограде с плотниками, столярами — он боялся каждой праздно проведенной минуты.
«Силою Честнаго и Животворящего Креста Твоего…»
Из жизни отца Григория и матушки Нины в Кушве
Из короткого периода жизни и служения отца Григория и матушки Нины в Кушве вспоминается один эпизод, произошедший в 1954-м году.
Отец Григорий, только что вернувшийся с Севера и получивший назначение в сан диакона в храм Михаила Архангела города Кушвы, был полон энергией, духовной и физической. Радость переполняла его. Он был безмерно благодарен Господу за свое чудесное возвращение и стремился по возможности всем вокруг помочь: обогреть, защитить… Узнав о появлении в кушвинском храме нового священнослужителя, местные жители стали часто обращаться к нему за помощью…
О том, что вернулся из заключения отец Григорий, вести распространились очень быстро. Так стали налаживаться старые, почти оборванные нити знакомств, общения. Боюсь быть неточной и могу передать лишь общий смысл разговора, произошедшего однажды вечером между отцом Григорием и матушкой Ниной. Как-то раз их навестила старенькая монахиня из разоренного Верхотурского женского монастыря — матушка Анатолия. Она жила в то время в каком-то селе близ Верхотурья. Вероятно, она знала Гришу Пономарева еще юным, до ссылки. Знала его родителей — протоиерея Александра и матушку Надежду.
Это была очень набожная, мудрая и молитвенно настроенная монахиня. Отец Григорий неоднократно помогал ей и сестрам монастыря, бедствующим по ближайшим деревням. В разговоре матушка Анатолия, очевидно, сказала, что ему и матушке предстоит много переживаний, трудностей, которые могут произойти уже в ближайшее время. Это стало как бы предупреждением о том, чтобы отец Григорий и матушка Нина всегда были готовы к любой самой неожиданной опасности…
Летом, после памятного возвращения папы с Колымы, я приехала к родителям в Кушву на каникулы. Маму я просто не узнала. Она помолодела лет на двадцать. Излучала свет, тепло, необыкновенную энергию, заботу обо всех. Мама была назначена регентом в том же храме, где служил отец Григорий, и жила работой со своим хором. Папа был рядом, и хотя занят он был безмерно, но все равно они служили вместе, о чем мечтали, соединяя свои жизни семнадцать лет назад. Они действительно были счастливы: служение Господу в одном храме, долгожданная жизнь рядом с любимым человеком, взаимная забота, понимание…
В конце июля в храм Михаила Архангела был назначен настоятелем митрофорный протоиерей Александр Введенский — пламенный проповедник и молитвенник. Он был на тридцать лет старше отца Григория; возраст, конечно, почтенный, и поэтому основные хозяйственные и административно-бытовые заботы по храму легли на отца Григория, чему он был безмерно рад.
Жили они с мамой в двухэтажном доме в трех-четырех кварталах от храма — на зеленой, широкой, но малопроезжей улице. Весь облик этого района Кушвы в то время напоминал скорее большое село, чем маленький провинциальный городок. Семья отца Александра и отец Григорий с матушкой Ниной жили в одном доме: отец Александр с матушкой на втором этаже, папа с мамой — на первом. Они очень быстро подружились, чему способствовало их частое общение. Длительные вечерние беседы с отцом Александром были глубокими и содержательными, а по-домашнему теплые общие чаепития восполняли отцу Григорию столь рано утерянное им общение в семье родителей.
Последующие события прозошли со всей нашей семьей в августе, когда я гостила у родителей.
Однажды после Литургии к отцу Александру подошла женщина — цыганка. Она просила деньги. Говорила, что они бедствуют, голодают. Отец Александр, чем мог, оказал помощь. В те годы храмы были особенно бедны и едва справлялись со своей нуждой. Кроме того, основная часть церковных средств перечислялась (под контролем государства) в различные общественные фонды. Однако помощь все-таки была оказана.
На другой день — снова эта же женщина, уже с двумя другими цыганками и с такой же просьбой. Батюшка помог и на этот раз. На третий день прямо под окна церковного дома явилось чуть ли не полтабора. Шумят, галдят, требуют батюшку. Тут же возникает традиционный повод — крещение ребенка. И вновь требование: «Дайте денег».
Отец Александр был взволнован. Он обратился за помощью к отцу Григорию; тут же к ним присоединился кучер (при храме была лошадь Зорька — единственное средство передвижения). Втроем они вышли за ворота дома к цыганам. Стали объяснять, что уже помогли, сколько было возможно, а крестить ребенка надо в храме. «Но для вас, — добавили, — таинство Крещения будет совершено бесплатно».
Защищая престарелого отца Александра от назойливых гостей, всю инициативу взял на себя, конечно, отец Григорий, чем вызвал шквал недовольных криков и оскорблений. Цыгане предприняли попытки забраться во двор. Дело дошло почти до драки. Храмовый кучер начал разгонять озверевших цыганок кнутом, которым погонял Зорьку.
И тут к отцу Григорию подошла старая, скрюченная цыганка и, пристально глядя в глаза батюшке, прошамкала:
— Слушай, милай! Кнутом гонишь? «Сделаем» на тебя и семью твою… От кобылы смерть примете…
Так ничего и не добившись, цыгане, ругаясь и сквернословя, с шумом разошлись.
Отец Александр (а ему тогда было уже 69 лет) испытал сильнейший стресс. Пришлось даже вызывать врача к нему и его матушке, которая с большим волнением и страхом наблюдала этот скандал из окна дома.
Родители были тоже очень взволнованы — встали на молитву. Читали 90-й псалом и молитву Честному Животворящему Кресту Господню, акафисты: Иисусу Христу, Божией Матери, святителю Николаю и Архангелу Михаилу. Постепенно все успокоились, хотя осадок остался тяжелый…
* * *
По вечерам я обычно уходила за огород нашего дома, на холмистые пригорки, поросшие степной травой. Какая красота открывалась мне на этом зеленом островке жизни! Полевые цветы, над которыми кружились лесные насекомые, источали какое-то особенное благоухание. Здесь на небольшом пригорке я устраивалась поудобнее и подолгу слушала стрекот кузнечиков, шелест листьев, вдыхая аромат полыни. Столько полыни, сколько росло за баней и огородами кушвинского дома, я больше нигде не видела. Высоченная, сочная, терпко пахнущая, она поднимала в душе какие-то волны вольности и восторга… Подобное чувство порой вызывает утренняя лесная поляна, покрытая купавками и напитавшаяся за ночь этим дивным ароматом, нежным и изысканным. А полынь? Она, кажется, зовет куда-то…
Однако в этот тягостный вечер мама не отпустила меня даже в огород.
Ночь прошла спокойно (для меня), хотя я, часто просыпаясь, видела зажженную лампаду и усердно молящихся родителей…
Утро нового дня. Ясное августовское утро, обещающее жаркий день.
Не знаю, что переживали папа с мамой, но для меня вчерашнее событие отодвинулось куда-то далеко, и я вновь радовалась теплому летнему дню, своей юной беспечности и каникулам. Все, казалось, шло заведенным порядком. Был субботний день, и к вечеру мы собирались ко всенощной. Обычно папа, столь занятый делами в храме, не приходил домой между Литургией и вечерней службой. В этот день он пришел около трех часов, чтобы вместе с нами пойти в церковь. Тогда я не придала этому значения. «Пришел, и хорошо. Хотя бы спокойно пообедает», — подумали мы с мамой.
Лишь теперь я понимаю, что он чего-то боялся, а может быть, чувствовал дыхание злобных сил, собравшихся над нашими головами.
Мы втроем вышли из дома, направляясь в церковь. Отца Александра кучер увез к вечерней службе раньше. Улица, где мы жили и по которой теперь шли, была широкая, но почти не проезжая. Перед каждым домом — скамейка и палисадник с цветами и рябинами; перед воротами — лужайка, где возилась малышня. Тут же — куры, гуси с выводком подросших гусят, резвящиеся в траве щенки или котята. Идиллия.
Не прошли мы и полдороги, как странный шум сзади привлек наше внимание. В самом начале улицы, еще далеко за нашим домом, показался табун лошадей, который с гиканьем и свистом гнали двое парней.
Впереди табуна неслась огненно-рыжая лошадь, выделывавшая на своем пути что-то невероятное. Металась по дороге, перемахивая через низкие штакетники, сбивая копытами более высокие, цепляя кусты перед домами. Она с жутким ржанием неслась, все сминая под собой. Где она «пролетала» — оставалась недвижимой мелкая живность.
Ребятишки кинулись врассыпную, еле успевая добежать к своим воротам. Кого-то из них она уже ранила, лягнув железными копытами.
В этот час дневного затишья и зноя на улице оставались только мы — отец Григорий, матушка Нина и я…
Огненная лошадь неслась прямо на нас, неслась с какой-то одержимостью. Было ясно, что сейчас она собьет, сомнет и если не убьет насмерть, то изувечит.
Папа, схватив нас за руки, испуганно закричал:
— Бежим!
Но — куда? Прямая улица. Высокие заборы. Закрытые ворота соседских домов. Нет никакого укрытия… И в это мгновение буквально нам под ноги из приоткрывшейся калитки выкатывается крохотный мальчонка, который толком еще даже не может стоять на ножках. Простодушные родители малыша, зная тихую и спокойную свою улицу, видимо, не проследили за ним.
Взбесившееся животное, храпя и издавая леденящее душу ржание (почти хохот), находилось уже в двух десятках метров от нас и ребенка. Неизвестно, что будет с нами, но младенец, можно сказать, был обречен.
И тут отец Григорий подхватывает на одну руку дитя, а другой меня и маму подталкивает к приоткрывшейся калитке. Он вталкивает нас во двор и заскакивает с ребенком на руках сам, успевая захлопнуть чужую калитку. В следующее же мгновение удар лошадиных копыт чудовищной силы проламывает нижнюю доску ворот. Вновь сатанинский «хохот-ржание», и лошадь, а за ней весь табун, проносятся мимо. Но… о ужас! Из конуры незнакомого дома на нас вылетает огромный лохматый пес, который на своей цепи буквально несколько сантиметров не достает до нас. Мы с громкими криками буквально вжимаемся в ворота чужого двора. Ребенок громко плачет, из открытого окна дома грохочет проигрыватель, перекрывая и безумный лай собаки, и вопли младенца, и наши крики.
События развивались стремительно, но нам показалось, что прошла целая вечность, пока в дверях дома появилась благодушно-пьяненькая физиономия молодого хозяина. Понятно, суббота…
Хозяин долго не может сообразить, в чем дело. Видит только чужих людей с его ребенком на руках. Ребенок заходится в плаче… Ничтоже сумняшеся, мужчина хватает первое, что попадает под руку, а это — вилы, стоящие где-то тут, в сенях. Еще одно мгновение — и он готов привести их в действие. Говорить, кричать ему что-то — бесполезно. Он — пьян. Музыка грохочет, собака хрипит от лая. Ребенок захлебывается от истошного крика… И тут отец Григорий рывком выхватывает из-под рубашки свой нательный крестик и, с ребенком на руках, ограждая его и себя маленьким крестом, идет прямо на собаку и на хозяйские вилы, нацеленные на него.
— Господь, Сам Господь защитит нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, силою Честного и Животворящего Креста Твоего огради нас от всякого зла! Да рассеются от него все чары бесовские!
От неожиданности или по другой какой-то причине пьяный хозяин роняет вилы, а пес, отступая перед силою — великой силою православного креста, поджимает хвост и отступает за хозяина, не делая даже попыток броситься на отца Григория. Из дома выбежали люди. Они потрезвее. Мать схватила на руки ревущего ребенка, а выглянувшая из окна бабушка вдруг вскрикнула:
— Это же наш новый дьякон, отец Григорий! Да ты пошто, Митяй! Ведь ты щас его чуть не заколол!
Собаку увели в сарай, младенца успокоили.
Нас пригласили в дом. Но ноги наши подгибались, и, опустившись на завалинку и выпив воды, мы рассказали, как было дело.
Осмотрели ворота. Удар копыт оказался настолько силен, что дюймовая доска была раздроблена в щепы.
К дому с возгласами и плачем стали стекаться жители окрестных домов. Кто-то видел происходящее из окна, у кого-то пострадала домашняя живность, ранены были дети. Все в голос заявляли, что никогда табун по этой улице не гоняют. Отсидевшись в незнакомом доме, мы пошли в храм, куда уже донеслась весть о страшном событии. Далеко на излете дороги мелькнуло и растворилось цветастое пятно цыганских юбок.
Отец Александр, батюшка, весь причт, хор, молящийся народ на коленях возблагодарили Господа за наше чудное спасение. И еще долго отец Григорий и матушка Нина читали благодарственный молебен Господу Иисусу Христу, славя Его за все!
Крестное знамение и имя Господа нашего Иисуса Христа имеют великую охраняющую силу. В искушениях, которые наводит враг на человека, в видениях, которые искушают даже великих подвижников, враг, принимающий на себя разные «благочестивые» образы, не может при этом изобразить Крест Христов.
* * *
С отеческой теплотой и терпением окормлял отец Григорий вверенную ему Господом паству, ведя неутомимую духовно-просветительскую работу. Надо сказать, что к концу 50-х и в 60-е годы духовной литературы в стране почти не осталось, и то малое, что удавалось найти батюшке, он вручную тиражировал для многочисленных духовных чад. Позднее удалось купить пишущую машинку, и отец Григорий специально научился печатать, чтобы более полно удовлетворять духовный голод всех страждущих. Постоянная привычка печатать духовную литературу сохранялась у него до последних дней жизни. Будучи уже смертельно больным, он еще пытался напечатать страничку-другую… Так и остался после его кончины лист бумаги, вставленный в машинку, с недопечатанным словом. Не смог… Но у многих верующих остались как память о батюшке перепечатанные им самим и благословлённые тетрадки с духовными наставлениями.
Читая его дневник, можно проследить, как он пытливо всматривается в себя, совершенствуя и обостряя свой дух. Он постоянно как бы наблюдает себя со стороны. В его записях все чаще появляется мысль о значении времени — конкретного времени, отпущенного каждому. «Бороться за выполнение часового плана. Мой девиз должен быть: “Отчет за час”». В дневнике настойчиво звучит тема часа в течение суток. Контроль: что сделано за час, на что он потрачен? Думаю, что в этом не последнюю роль сыграла жизнь в заключении, в лагере. В шахте или на лесоповале реальность того, что любой час может быть последним, повышалась в сотни раз в сравнении с жизнью на воле. Очень настойчиво проводится мысль, что в любой час надо быть готовым предстать пред Господом с ответом за все.
Только один год служил отец Григорий диаконом в Кушве. 6 ноября 1955 года, в день празднования иконы Пресвятой Богородицы «Всех Скорбящих Радость», Преосвященнейший архиепископ Свердловский Товия совершил рукоположение отца Григория во иереи. Вскоре батюшку перевели в Нижний Тагил.
Два пастыря
«Что имеем — не храним, потерявши — плачем».
Сколько раз за восемь прошедших лет после одновременного ухода из жизни отца Григория и матушки Нины эта народная мудрость приходила мне в голову — по самым различным поводам и обстоятельствам. Вдруг всплывет в памяти что-то связанное с нашей родословной, с дедами и бабушками, и тут же: «Ах! Почему не спросила, не узнала?! Ведь родители-то знали!..». Возникает порой даже досада на себя и сожаление — запоздалое сожаление о том, что не смогла вовремя более подробно узнать о людях, прошедших по жизни (пусть даже малый отрезок времени) рядом с батюшкой и матушкой и оказавших, несомненно, большое влияние на их духовное мировоззрение. Речь идет о тех незаурядных, высокообразованных священниках, с которыми дружил и общался отец Григорий в 50-60-е годы, живя на Урале, черпая от них те глубины духовной мудрости, которые, возможно, он не успел добрать у своего отца — архимандрита Ардалиона.
Общаясь со своими родными — дедом и отцом (православными священниками), — отец Григорий, несомненно, умудрялся и обретал духовную опытность, чтобы передать истину святоотеческого учения следующему поколению верующих. Однако только теперь, знакомясь с его трудами, я осознаю, насколько духовно богатым и образованным человеком он стал, постоянно воспитывая, совершенствуя свой ум, волю и душу, всегда обращенную ко Христу Распятому.
Я заново знакомлюсь со своим отцом! Можно и так сказать. Совершенно с новой стороны, на новом уровне.
Вторая половина ХХ века — время, когда создавались его работы, его труды. Это — время безверия и жесточайшей борьбы государства и власти с верующими за одно только упоминание имени Божия. Атеисты боролись с Церковью, всячески вытравливая из сознания людей память о вере отцов и сея ядовитые плоды безбожия и неверия в их сердцах и умах. Именно это привело отца Григория на передний край борьбы за человеческую душу. «Неверие растет», — писал в своих работах отец Григорий.
Практически всю свою жизнь батюшка трудился над духовными книгами, посвященными одному из разделов богословия — апологетике. Вместе с предполагаемым читателем погружался в размышления о смысле жизни; спорил, рассуждал и убеждал современника в том, что смысл жизни человека заключается в богоискательстве и стяжании плодов Духа. В подтверждение этого он приводил множество доказательств существования Божия, выписанных им из многотомных трудов, архивов и личной переписки самых разных людей: ученых-естествоиспытателей, поэтов, писателей, композиторов и художников. Он разговаривал со своим воображаемым читателем на языке, доступном для понимания любому человеку, приводя яркие примеры веры в Бога из жизни выдающихся личностей — современников века. За эти убеждения отец Григорий пострадал еще в юности, пронеся свою веру через суровые условия северной ссылки. За те же взгляды и исповедничество жизнь его неоднократно подвергалась давлению и репрессиям со стороны государства и во все последующие годы служения. И вот теперь, уже после его ухода, читая труды батюшки, невольно задаешься вопросом: «Откуда? Откуда у него эти знания?!». Где и у кого можно было почерпнуть в то страшное время, воспринять, переосмыслить и переработать ту современную доказательную базу существования Божия на земле, которую отец Григорий воплотил в своих апологетических трудах?
Он работал кропотливо и тщательно. Работал непосредственно с первоисточниками в лучших библиотеках Ленинграда. Обосновывая очередные рассуждения, он обязательно приводил в своих трудах точные постраничные ссылки, называя не только имя автора, но и его работы в отдельных или многотомных изданиях, а также год и место выпуска книги.
Все эти выводы подтвердились сразу после того, как Елена Кибирева, хранительница духовного архива отца Григория, совершила по благословению Преосвященного Михаила, епископа Курганского и Шадринского, творческую поездку в Санкт-Петербург. Так в библиотеках Северной столицы были найдены уникальные первоисточники, с которыми работал в 50-х годах в Ленинграде отец Григорий. Большинство книг — это труды русских и зарубежных авторов дореволюционного издания, ныне забытые и пролежавшие в хранилищах публичной библиотеки более полувека после того как с ними работал отец Григорий. Некоторые из них так и остались никем не востребованными до нынешнего дня, так что вполне вероятно, что отец Григорий был одним из последних читателей, державших в руках эти старинные издания. Эти книги, несомненно, представляют большой интерес для современных мыслителей, исследователей и богословов, а также для всех читателей, интересующихся вопросами православной апологетики.
Однако, несмотря на то, что многое из первоисточников, на которые батюшка ссылается в своих трудах, было найдено в библиотечных хранилищах Санкт-Петербурга, некоторые вопросы о творческих поисках отца Григория так и остаются открытыми. Несомненно, что стиль работы отца Григория носил исследовательский характер. В связи с этим можно предположить, что батюшка, приезжая в Ленинград на короткие сроки с целью сдачи экзаменов в Духовной Семинарии, уже имел список авторов и книг, необходимых ему для дальнейшей работы. Именно по этому списку он запрашивал книги в специальных залах Публички и в библиотеке Ленинградской Духовной Академии.
Ко всему сказанному добавим, что время пребывания отца Григория в Ленинграде в середине 50-х годов было ограничено сроками сессии, а список первоисточников в его трудах достигает более ста названий. Кроме того, в свой архив батюшка перепечатал и переписал огромное количество редкой духовной литературы разных авторов, стилей и направлений — от поэтических произведений и библейских рассказов до творений святых и духоносных отцов, живших в разные века и в разных странах.
Совершенно понятно, что отец Григорий имел еще некий источник знаний — тот кладезь, из которого он дополнительно черпал названия и имена авторов старинных духовных книг дореволюционного издания — сборники уникальных и малоизвестных писем и воспоминаний великих писателей, художников, композиторов, ученых и мыслителей, единичные исследовательские труды русских и зарубежных ученых-естествоиспытателей, а также редкие духовные книги, изданные в начале ХХ-го века в Одессе, Киеве, Хабаровске и в Харбине. Большинство этих книг было выпущено в дореволюционной России ограниченным количеством экземпляров.
Остается предположить, что помимо специальных фондовых хранилищ Ленинграда отец Григорий имел возможность работать в чьих-то частных домашних библиотеках, и, скорее всего, это были духовные библиотеки его сослуживцев — пастырей-единомышленников, вместе с которыми он служил в середине 50-х годов в уральских приходах Екатеринбургской епархии.
И снова я говорю себе: «Ну где же ты была? Ведь и ты общалась с этими людьми и могла расширить свой духовный кругозор. Да, в юности другой круг интересов… Но потом, будучи взрослой? Ведь и у отца Григория можно было еще так много спросить, и он с радостью обсудил бы с тобой волнующие тебя темы». Сам же батюшка никогда ничего не рассказывал о себе и не навязывал никаких нравоучений и тем для разговоров. Ныне же остается напрягая направлять память в прошлое, чтобы «выудить» из ее закромов что-то нужное и интересное…
Хочется остановить внимание читателей на судьбе и жизни двух священников. Это были очень разные люди, но общение отца Григория с каждым из них в разное время несомненно дало ему большой духовный опыт.
Протоиерей Александр Введенский[4]
К моменту знакомства отца Григория и матушки Нины с протоиереем Александром ему шел уже шестьдесят второй год. Протоиерей Александр Введенский был из духовного сословия. Окончив Московскую Духовную Академию со степенью магистра богословия, он был рукоположен в сан священника и назначен законоучителем Одесской мужской гимназии. Позднее он — законоучитель Одесского реального училища и настоятель Вознесенской церкви города Одессы, а затем — настоятель Алексеевской церкви, там же. Не обошли батюшку и сталинские репрессии. С 1933 года он в течение трех лет трудился на Беломорканале как ссыльный. Долгое время был на гражданской работе.
Начиная с 1951 года отец Александр продолжает служение в Православной Церкви. Сначала он служит в городе Троицке Челябинской области. А позднее, в 1953 году, его назначают настоятелем Михаило-Архангельской церкви в городе Кушва Свердловской области. В это же время в кушвинский храм получает назначение и диакон Григорий Пономарев, только что вернувшийся с Севера. Тут и состоялось их знакомство, перешедшее в сердечную дружбу.
Близкому общению способствовало и то, что они жили в одном доме. Отец Александр с матушкой на втором этаже, а отец Григорий с семьей — на первом.
Кипучая энергия, с которой отец Григорий, истосковавшийся по приходской жизни, окунулся в церковные дела, очень радовала отца Александра и поощрялась им. Двух пастырей особенно сближало то обстоятельство, что оба они были из семей потомственных священнослужителей, оба претерпели гонения за исповедничество веры. Связующим звеном в их искренней дружбе явился, очевидно, и постоянный интерес отца Григория к богословским знаниям.
У отца Александра была богатая духовная библиотека. Очевидно, она сохранилась еще с тех пор, когда он преподавал Закон Божий в одесских мужской гимназии и реальном училище. Об этом говорит и тот факт, что в архиве отца Григория находится несколько перепечаток из духовных книг, выпущенных еще до революции в Одессе.
Так, к огромной радости отца Григория, по прибытию из многолетней северной ссылки он получил редкую возможность пользоваться богатым книжным наследием, чудом сохранившимся во времена гонений. Отец Александр, несомненно, оказал большое влияние на формирование богословского стиля отца Григория. Возможно, что именно по его совету отец Григорий в первый же год после освобождения подал прошение на обучение в Ленградской Духовной Семинарии. Их ежедневные, скорее, ежевечерние беседы затягивались порой заполночь.
Батюшка Александр был очень мягким, приятным в общении человеком. Приезжая в Кушву на каникулы из Свердловска, я всегда чувствовала какое-то особенное внимание и любовь, с которой меня встречали не только родители, но и отец Александр с матушкой.
Отец Александр много лет, еще в годы своей жизни в Одессе, работал и общался с молодежью. В нем ярко ощущалась преподавательская жилка. Мы часто собирались за вечерним чаем в его доме. Сидя за этой неторопливой трапезой, мы подолгу беседовали, обмениваясь мнениями по разным вопросам. Устремив на меня живые, ласковые глаза, отец Александр вдруг неожиданно вопрошал: «А что думает по этому поводу наша молодая барышня?». Я же, действительно еще очень молоденькая, почти подросток, бойко отвечала ему, воспринимая его как своего дедушку.
Примостившись на их старинном широком диване, куда матушка тут же приносила теплый плед, я прислушивалась к неторопливым и, как мне тогда казалось, «взрослым» разговорам. Отец Александр был потрясающий рассказчик. Слушая его, я внимательно разглядывала старинные фарфоровые «безделушки» в серванте, толстые золоченые корешки книг в шкафу и… плавно попадала в объятия сна. Меня так и оставляли спать до утра под мягким, уютным пледом.
Батюшка с матушкой очень любили детей. Не помню, чтобы к ним когда-то приезжали родные. Видимо, время и годы разлучили их с близкими, дорогими людьми, которые остались на черниговской и одесской земле — родине отца Александра.
Отец Александр и его матушка были очень добрыми и гостеприимными людьми, в их доме всегда был уют и порядок. Но особенно они любили, когда в гости к ним приходили молодой диакон Григорий Пономарев и его матушка. Отец Александр, вынужденный оставить работу законоучителя, очень скучал по преподавательской деятельности, и их тесное общение с отцом Григорием, который был внимательным собеседником, в какой-то степени возмещало ему любимое учительство. К тому же, отец Александр был замечательным проповедником, и этому дару учился у него отец Григорий.
Отец Александр служил в Церкви вплоть до 1962 года. Будучи настоятелем нижнетагильского Казанского храма, в 78-летнем возрасте он был почислен заштат. Скончался отец Александр в 1973 году в Екатеринбурге. Похоронен на Широкореченском городском кладбище. Упокой, Господи, душу этого светлого пастыря и его матушки.
Протоиерей Николай Мухин[5]
В 50-х годах в скромном провинциальном Тагиле появилась очень интересная семья. Это была семья священника — протоиерей Николай и матушка Серафима Мухины. Отец Николай, окончивший в начале ХХ века Пермское духовное училище, а затем Пермский миссионерский институт, был рукоположен в 1917 году в священнический сан и прослужил в храмах Пермской области несколько лет. Однако уже в двадцатишестилетнем возрасте вместе с отступающей на Восток Белой Армией он оказался в Китае, в городе Харбине.
В течение почти сорока лет отец Николай служил в православных храмах Харбина, а к 1939 году закончил богословский факультет харбинского института святого Владимира со степенью магистранта богословия. В 1949 году он — настоятель Свято-Софийской церкви города Харбина. А в 1955 году на волне репатриации семья Мухиных возвращается в Советский Союз. И уже в октябре 1955 года отца Николая назначают в город Нижний Тагил Свердловской области настоятелем единственной в Тагиле Казанской церкви.
В это же время был рукоположен в сан священника отец Григорий, и вскоре его из Кушвы переводят служить в Казанский храм Нижнего Тагила. Тут и состоялось знакомство двух пастырей: сначала чисто официальное, затем — через совместное служение в Казанском храме. А немного позднее их общение перешло в тесную и крепкую дружбу семей.
Мне случилось познакомиться с батюшкой Николаем и матушкой Серафимой ближе к 1959 гóду.
Их дом и семейный быт заметно отличались ото всех прочих. Возможно, это было влиянием восточной культуры, все-таки 36 лет жизни прошли вне России. Несмотря на то, что в семье отца Николая неукоснительно соблюдались все правила и порядки православного быта, в разных комнатах дома на полочках и комоде были расставлены прелестные китайские вещицы еще того, старого Китая, которые отличались высочайшим качеством и художественностью исполнения. Китайские сервизы, вышитые покрывала, шторы, веера, удивительные экзотические домашние растения на изящных подставках, невиданные в Тагиле, украшали их дом, а также какие-то этажерочки из бамбука, люстры, настенные бра, эстампы, офорты с национальными китайскими сюжетами и так далее.
Несмотря на весь этот внешний «китайский» антураж, дом Мухиных хранил традиции и манеры убранства православных домов еще той, старой России. Ведь они уехали из России совсем молодыми и бережно хранили «дух» Родины, семейные традиции, русские корни. Вот где в наше время можно было увидеть убранство, жизнь и домашний уклад дореволюционных интеллигентных русских семейств. В доме отца Николая, преподававшего в Харбине Закон Божий, была великолепная старинная библиотека, которой, очевидно, пользовался и отец Григорий. Думаю, что и в этом случае он не упустил прекрасной возможности поработать с редкими книгами, вывезенными отцом Николаем Мухиным из православного Харбина.
«Мудрые сберегают знани…е» (Прит.10:14), — сказано в Библии. «Человек же рассудительный скрывает знание…» (ср. Прит.12:23). Эти слова со всей справедливостью можно отнести к отцу Григорию. Он был образованный человек, но никогда не выказывал своих знаний, и почти никто из его ближайшего окружения не знал, что батюшка писал духовные труды, размышляя на богословские темы. Это является загадкой для большинства его духовных чад даже сегодня, когда отец Григорий стал известен своей праведной, исповеднической жизнью. Не допуская в своей жизни ни одного праздного часа, отец Григорий скрупулезно и тщательно собирал те знания, на которые указывал ему Господь. «Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее; научи правдивого, и он приумножит знание» (Прит.9:9). Он и так потерял слишком много времени, отбывая полный срок наказания в лагерях Колымы, и теперь торопился стяжать, сберечь те драгоценные дары от Бога, о которых Сам Господь сказал, что «…превосходство знания в том, что мудрость дает жизнь владеющему ею» (Еккл.7:12).
Основу духовных знаний батюшка получил еще в семье, от своего отца архимандрита Ардалиона и от деда — протоиерея Ипполита. А теперь, работая по многу часов в уникальной библиотеке отца Николая, он собирал, уточнял и систематизировал те крупицы истины, которыми был напитан еще в юности. Он жаждал сам и хотел напоить других из благословенного «потока Божия, полного воды» (ср. Пс.64:10)…
Семья Мухиных очень любила музыку. В их доме было антикварное пианино с точеными украшениями: миниатюрными головками «муз», вырезанными из дерева, и медными подсвечниками на вертикальной передней крышке инструмента. Бывая в этом доме в гостях, мне доводилось по просьбе матушки играть на этом уникальном инструменте. Отец Николай и матушка Серафима очень любили музыку Чайковского, Рахманинова, Скрябина, Грига. Помню, как в день моей свадьбы в 1959 году, а венчал нас именно отец Николай Мухин, во время праздничного застолья мы в домашних условиях дали для гостей небольшой импровизированный концерт: произведения русских и зарубежных авторов для скрипки и фортепиано. Эти теплые и трогательные воспоминания я пронесла через всю свою жизнь.
В 1959 году отца Николая назначают благочинным 1-го, а затем 3-го округа. В этом же году его награждают вторым золотым крестом с украшениями.
Однако вскоре жизнь батюшки перевернулась. Неприятности начались где-то между 1960-м и 1965-м годами. Именно в это время отцу Николаю пришлось пережить человеческую злобу, ложь и дерзкую клевету, которыми его кто-то анонимно «поливал». Скорее всего, это был человек из близкого ему окружения. Пакостят зачастую, к сожалению, близкие люди, от которых ничего дурного не ожидаешь, и именно эти скорби бывают самыми тяжелыми. Ведь и на отца Григория, только в более поздние годы, тоже лились злобная клевета и ложь, но так сложилось, что имена этих завистников и даже их «идейный вдохновитель» стали известны. Однако отец Николай получил удар сзади, от неизвестных. Впрочем, быть может, батюшка и знал их имена, но так же, как и отец Григорий, молчал.
Все эти внешние неприятности усугублялись и семейной бедой. Тяжело, безнадежно заболела матушка. После сложной операции, которая не принесла облегчения, в больших страданиях она покинула этот мир. А отца Николая вскоре из Казанского храма Нижнего Тагила неожиданно перевели в Петро-Павловскую церковь поселка Черноисточинск. Черноисточинск — это далекий, заброшенный лесной поселок, раскинувшийся среди болот на севере области. В те годы туда можно было добраться лишь по узкоколейке для лесозаготовителей, проведя в пути около семи часов.
Отцу Николаю, только что схоронившему близкого человека, отвели для жизни маленький домишко рядом со скромной деревенской церковкой, куда, очевидно, всегда ходило мало народа. А может быть, она и вовсе была ранее закрыта. Местное население в поселке в основном составляли лесозаготовители да вахтенные рабочие, сменяющие друг друга через каждые два-три месяца. Бутылка — главный стимул их жизнедеятельности и основная потребность… Самый, конечно, подходящий контингент для блестящих проповедей митрофорного протоиерея столичной, харбинской выучки!
Это ведь тоже надо уметь пережить! Постоянные прихожане — две-три бабушки. Однако отец Николай принял все с истинным христианским смирением. Просто из бодрого пожилого человека, очень энергичного и деятельного, он превратился в совершенно седого, согбенного тяготой креста и отстраненного от мира старца. Он ушел глубоко в себя, замкнулся в уединении, почти ни с кем не общаясь, и очень много молился. Какая-то старушка по-соседски иногда приходила к нему в дом, чтобы приготовить еду и немного прибрать.
Отец Григорий, неоднократно навещавший батюшку в его изгнании, возвращался из Черноисточинска всегда очень задумчивый и печальный. Он был немногословен, лишь отмечал, что отец Николай бывал очень рад его приездам, как-то заметно молодел, оживлялся. Они подолгу беседовали и расставались всякий раз с неохотой и грустью.
В новом своем положении отец Николай держался удивительно стойко, с душевным смирением и кротостью. Воспринимал все как посланное ему Господом испытание. Однако здоровье его сильно пошатнулось. Скончался он в апреле 1979 года. Покоится в одной из скромных, тихих могилок на черноисточинском погосте. Упокой, Господи, души протоиерея Николая и матушки Серафимы. Прости им прегрешения вольные и невольные и возьми их в Свое светлое Небесное Царство!
Из примера гонений на отца Николая и на отца Григория невольно вытекает тревожная мысль: как не страшно было людям, оклеветавшим, оболгавшим своего ближнего? Как могли они участвовать в несправедливой травле священнослужителей, теснить и гнать пастырей Божиих? Ведь они были часто из близкого круга, сидели за одной трапезой и возносили одни молитвы в алтаре… Неужели не боятся они Суда Божиего? Выдавливая неугодных, сами живут годами процветая: продвигаются по служебной лестнице, получают награды и лицемерят, лицемерят, лицемерят…
Но не нам их судить. Господь Сам взыщет со Своих рабов. Ибо духоносные отцы учат нас: «Не суди чужого раба, придет Господин его и взыщет с него…» (извлечено из духовного архива отца Григория — ред.)
Паломничество
После рукоположения отца Григория в сан иерея вместе с матушкой Ниной им удалось осуществить свою давнюю мечту и побывать у истоков Православия на Руси, в Киеве, чтобы молитвенно припасть к киевским святыням. Матушка с большим волнением отнеслась к этой поездке. И вот в один из теплых октябрьских дней перед глазами отца Григория и матушки Нины предстал Киев с его многочисленными храмами, монастырями и Печерской Лаврой, куда маленький Гриша мечтал доскакать на своей деревянной лошадке еще в детстве.
Город поразил их своим великолепием и красотой. В те годы большинство православных храмов было закрыто, и осмотреть их возможно было лишь в составе специально организованных экскурсий. После оккупации Киев лежал в руинах, но храмы восстанавливались одновременно с городом. Это были как будто прежние храмы, они стояли с позолоченными куполами, только теперь в них располагались различные госучреждения и музеи. Древний Софийский собор — колыбель Киевской Руси — был открыт; иногда в нем совершались богослужения. Сила и величие духа чувствовались в этом древнем храме… Свет, заливавший его сверху, высвечивал верхний ярус икон, сияющих позолотой. Причудливо отражаясь в разноцветных лампадах, свет постепенно растворялся внизу, не в силах охватить весь храм. Иконостас, уходящий куда-то ввысь, казался удивительно легким, так что иконы, помещенные в нем, будто парили в воздухе.
Отца Григория и матушку поражало все. Они любовались архитектурой Андреевского храма, росписями Владимирского собора, древними святынями Покровского и Флоро-Лаврского монастырей.
Поразила их и красота самого города. Киевские бульвары со знаменитыми каштанами, выложенные каменными плитками, были усыпаны в эти октябрьские дни ворохами разноцветных опавших листьев. В воздухе то и дело кружила теплая золотая метель — так не похоже на северную невьянскую осень. Шурша легкой листвой, они медленно шли по направлению к Киево-Печерской Лавре, вспоминая такой же осенний день их свадьбы.
Главной целью их приезда было, конечно, посещение лаврских пещер. Уже около Лавры на отца Григория и матушку налетел вольный днепровский ветер, который то сбрасывал батюшкину шляпу, то закручивал на узорных плитах тротуара воронки из сухих листьев. Как расшалившийся ребенок, он неожиданно кидал легкую, сухую листву в лица прохожих, но отец Григорий был глубоко сосредоточен на предстоящем посещении дорогих святынь, он ничего не замечал вокруг и шел к пещерам, призывая в молитвах помощь Божию.
В войну налеты и бомбежки немецких самолетов повредили внешний облик Лавры. После войны многое было восстановлено и какое-то время дальние или, как их еще называли, «нижние» пещеры были открыты для паломников. Верхние же были закрыты для всех.
«Когда во время Великой Отечественной войны немцы заняли Киев, — читаем мы житие святого преподобного Кукши Одесского, — то немецкий комендант города пожелал посетить всемирно известные пещеры Киево-Печерской Лавры, в то время еще закрытые. Для этого нашли монаха — бывшего насельника обители.
Осмотр начался с ближних пещер. В то время мощи почивали в раках открыто, не под стеклами. Около раки преподобного Спиридона-просфорника, почившего 800 лет тому назад, комендант остановился и спросил, из чего сделаны эти мощи. Монах стал объяснять, что это тела людей, своей святой жизнью сподобившихся нетления. Комендант, не веря его словам, взял свой пистолет за ствол и рукояткой ударил с силой по руке преподобного Спиридона: сухая, потемневшая от веков кожа лопнула на запястье, и из раны хлынула настоящая алая кровь (следы трех засохших потоков ее заметны и сейчас на руке преподобного).
Увидев это чудо, комендант в ужасе бежал из пещер, а за ним и вся его свита. На следующий день по городскому радио немецкая комендатура объявила, что Киево-Печерская Лавра открывается, и желающие могут поселиться в ней… Вскоре немцы разрешили открыть и женские монастыри: Покровский, Флоровский, Введенский»[6].
Буквально перед приездом отца Григория и матушки Нины Сергеевны массовые посещения пещер временно ограничили. Объясняли это тем, что в легких песчано-сланцевых породах горы, потревоженной бомбежками, произошла деформация, в результате чего в пещеры якобы стала попадать днепровская вода. Женщина, приютившая у себя моих родителей, работала в музее, находящемся на территории Лавры. Она была глубоко верующим человеком; почти всю жизнь она прожила в Киеве, проводя экскурсии по Лавре. С отцом Григорием и матушкой она познакомилась в Нижнем Тагиле, когда гостила там у своих родственников. Она и выхлопотала для них особые пропуска для посещения нижних пещер. Она же рассказала отцу Григорию и матушке много интересного из истории Лавры.
На вопрос об отношении сотрудников музея к монастырю женщина ответила, что почти все они приходили на эту работу убежденными атеистами, но за время пребывания в стенах Лавры насмотрелись такого, что их прежние убеждения поколебались. Так, например, был известен факт, что в музей поступило распоряжение вынести из пещер все святые мощи и уничтожить их. Ночью приехали грузовики, но, когда на них перенесли мощи святых, ни одна машина не завелась. Отправили за подводами, переложили на них святыни, но лошади встали на дыбы. Святые мощи снова разнесли по пещерам и оставили в монастыре.
В хронике Киево-Печерской Лавры сотрудниками музея зафиксирован случай, который произошел за год до последнего открытия монастыря. В пещеру проник злоумышленник, чтобы, выполняя заказ мафиозной группы, спекулирующей на продаже за границу икон, тайно набрать и вынести из Лавры часть мощей святых угодников. Сотрудники музея заметили, что более двадцати гробниц осквернено, и в этот же день объявили поиск грабителя. В одном из дальних концов пещеры несчастный был обнаружен сидящим в оцепенении и не имеющим сил даже пошевелиться. В таком положении его и вынесли из пещер сотрудники милиции. Позднее он рассказал, что в тот момент, когда он, совершив задуманное преступление, собирался скрыться, какая-то неведомая сила заставила его пойти в самый дальний угол пещеры, где на него навалилась такая тяжесть, что он не мог более сдвинуться с места.
* * *
Помолившись у надвратной церкви, отец Григорий и матушка с благоговением, затаив дыхание, вошли на территорию Киево-Печерской Лавры.
В целом территория всех пещер Лавры так огромна и их сложный лабиринт на разных уровнях так переплетается, что даже в отведенном для посещения паломников условном квадрате без проводника легко заблудиться. На территории Лавры отца Григория и матушку ждала уже их провожатая. Пройдя почти по всей территории монастыря, они подошли к нижним пещерам. Вместе с другими немногочисленными паломниками им отметили в пропусках и разрешили посещение. Они зажгли свечи и стали спускаться по крутому, уходящему куда-то вниз коридору. Некоторое время спуск продолжался, потом коридор резко поворачивал и далее уже проходил на одном уровне, то расширяясь, то сужаясь. Тут же начинались первые захоронения насельников Лавры: ранние и более поздние.
Прямо вдоль коридора, в легких известковых стенах были выдолблены ниши, в которых и погребали подвижников. Перед каждым из них горела неугасимая лампада. Здесь же висела икона святому, под которой был написан тропарь или молитва преподобному.
Волнение, которое испытывали отец Григорий и матушка при спуске к мощам святых Божиих угодников, совершенно улеглось, уступив в душе место тишине, покою и благоговению. Они медленно шли, останавливаясь и читая, кто здесь покоится. Молились… Имена многих святых были им незнакомы.
По мере продвижения вперед мощей становилось все больше. Легкое благоухание, тонкий неземной аромат наполнял ниши. Паломники уже не держались плотной кучкой. Кто-то молился у одной могилки, кто-то — у другой. Говорили, что в пещерах подолгу жила старица, питаясь подаянием и ночуя у святых могил.
Время словно остановилось для отца Григория и матушки. Трудно сказать, сколько минут, а может быть, часов прошло со времени их спуска, но в какой-то момент матушка вдруг потеряла отца Григория. Буквально минуту назад она видела его коленопреклоненную фигуру, характерное очертание плеч, наклон головы, но сейчас его… нет. Это было столь неожиданно, что вначале она даже не испугалась. Решила, что он, наверное, прошел чуть вперед. Она тоже прошла немного вперед, но там его не оказалось. А может, она не слышала, углубившись в молитву, как он вернулся назад? Она поспешила обратно. Тоже нет. Спутница их, хоть и подбадривала матушку, но напугана была не меньше. Кричать, звать? — но святость этого места не позволяла разговаривать громко. В испуге они метались, стараясь не потерять того места, где видели отца Григория последний раз. Кроме того, женщина-экскурсовод предупредила, что в пещерах много боковых ходов и можно заблудиться. Волнение матушки нарастало. Она в изнеможении упала, прижавшись к какой-то могилке, и взмолилась: «Господи! Не дай ему потеряться. Где же он, что с ним случилось?».
Наверное, исчезновение батюшки, беготня испуганных женщин туда-сюда и не были столь долгими, но им показалось, что прошла целая вечность, прежде чем прямо у противоположной стены коридора, где в нише сидела матушка, стал еле заметен слабый свет, и вскоре высветился новый ход — коридор куда-то вглубь пещеры, до этого совершенно невидимый. Еще минута… и две тени промелькнули в этом проеме. Какая-то странная сила не давала женщинам тут же вскочить и побежать навстречу, ноги — как отнялись и приросли к земле. Вглядываясь в темноту, они увидели, как одна фигура, поменьше ростом, сделала земной поклон перед другой. Человек в длинном монашеском одеянии благословил первого и тут же исчез. Исчез и ровный голубоватый свет, в котором показались фигуры, совсем не похожий на слабое мерцание свечей. В эту же минуту у прохода, ставшего опять почти незаметным, показался батюшка. Свеча его не горела…
Матушка бросилась к нему, ее знобило. От отца Григория шло едва уловимое благоухание… Он тоже дрожал, но голос его был тихий и ласковый:
— Что ты, Ниночка! Да разве можно так переживать? Все это время я молился тут, рядом, в нише. Вы просто меня не заметили. Не надо. Успокойтесь. В таком святом месте ничего страшного случиться не может.
У матушки стучало от волнения сердце, дрожали губы и руки. Отец Григорий еще что-то говорил ей, тихо и с убеждением. Постепенно страх стал отступать. Ей вдруг стало стыдно за то, что она думала об опасности в месте, в котором всё хранится его святостью.
Женщина, их сопровождавшая, очевидно, тоже переволновалась. Вскоре они вышли из пещер — совершенно в другом месте — в небольшую рощицу на берегу Днепра. Все молчали, осознавая произошедшее; женщины вспоминали исчезновение батюшки и его столь неожиданное возвращение, странный отсвет, в котором они видели незнакомую тень. Кто это был? Когда при дневном свете матушка взглянула на отца Григория, то увидела, что его синие глаза сияли, он был какой-то отрешенный, взгляд его отражал не земное, но небесное.
Пройдя через рощицу, они оказались на самом берегу реки. Темно-синие воды Днепра, синее небо, синие глаза батюшки, а наверху — возвышающаяся Лавра с горящими в заходящем солнце многочисленными золотыми куполами. Они шли берегом реки к дому, где жила их гостеприимная хозяйка. Величественный Киев панорамой разворачивал перед ними свои богатырские плечи с позолоченными маковками-шлемами больших и малых городских храмов.
Спустя долгое время мама несколько раз пыталась расспрашивать батюшку о его явном отсутствии в пещерах Лавры во время их паломничества и о таинственной тени, оказавшейся рядом с ним, но отец Григорий упорно твердил, что все это ей только показалось, или отмалчивался вовсе. Не знаю, рассказал ли он матушке со временем об этом таинственном событии. Может быть, и рассказал, но матушка Нина умела хранить тайны…
Хортица
Почти перед самым отъездом из Киева друзья предложили отцу Григорию и матушке Нине посетить остров Хортица, расположенный к югу от Киева, вниз по течению Днепра, сразу за днепровскими порогами. Остров является своеобразной гордостью Украины и вплоть до наших дней остается некой загадкой в истории.
Недалеко от острова располагается промышленный центр Запорожье — город, экологическая обстановка которого даже в те времена была очень неблагоприятной. Загазованность и загрязненность воздуха в пределах городской черты и в ближайших окрестностях Запорожья превышала все допустимые нормы, поэтому люди, живущие в этих местах, особенно часто страдали от тяжелых заболеваний легких.
Остров же, находящийся в радиусе промышленных выбросов города, был экологически чистой зоной: он обладал красивым ландшафтом, богатой растительностью и, что непонятно, удивительной атмосферой, — словно над ним был раскинут огромный невидимый купол, не пропускающий ядовитые газы и выхлопы металлургического производства «Запорожстали».
Зная о чудесной особенности этого острова, горожане, страдающие различными болезнями, приезжали сюда просто туристами на месяц-полтора, и многие исцелялись…
Остров, вытянувшийся посередине реки, рассекавший ее как бы на два рукава, был довольно большим. Говорили, что в старые времена на Хортицу сбегали от преследования непокорные казаки со своими жинками. Сохранилось также предание о том, что в древние времена, а именно в момент становления Православия на Руси, остров Хортица посетила сама равноапостольная княгиня Ольга. Это, конечно же, и явилось решающим моментом для отца Григория и матушки Нины, чтобы посетить остров. Туда они и направились на теплоходе вниз по Днепру, планируя вернуться обратно в Киев служебным транспортом. К тому моменту на Хортице начиналось строительство небольшого пульмонологического санатория. Еще ранее на острове разместили питомник редких растений.
До поездки в Киевскую Лавру отцу Григорию (таков был промысел Божий) довелось в основном изучать географию колымских степей и слушать ледяное дыхание Севера. Да и матушка Нина, кроме Урала, нигде не бывала, поэтому эти новые и яркие впечатления одинаково восхищали обоих, рождая чувство благодарности Создателю за несказанную красоту, дарованную людям.
Мечты, конечно, у батюшки с матушкой были большие: так хотелось побывать в Дивеево, в Троице-Сергиевой Лавре, в Почаево… Да мало ли славных, святых мест на земле. Но возможности того времени были весьма ограниченными: надо было скрывать свой молитвенный настрой, и ездить по храмам можно было только в качестве туристов — 58-я статья была и в то время самой популярной у советского «правосудия». К тому же батюшка служил на приходе один и его длительное отсутствие в храме было крайне нежелательным как для него, так и для паствы.
За 84 года своей земной жизни отец Григорий неоднократно, и порой продолжительно, бывал только в Ленинграде, так как учился там в Духовной Семинарии (заочно), а затем, совсем немного, — в Ленинградской Духовной Академии. Кроме этого путешествия в Киев, они с матушкой ранее бывали только в Нижнем Новгороде у родных да несколько раз в Оренбурге у сестры отца Григория, Марии Александровны Плясуновой.
Будучи в Оренбурге, батюшка восклицал: «А ведь тут бывал Пушкин!..». В духовном архиве отца Григория, в его черновиках, осталось много записей о творчестве Александра Сергеевича Пушкина. Отец Григорий считал Пушкина глубоко верующим человеком. В архиве батюшки много лет хранилась перепечатка известного письма В. А. Жуковского отцу поэта, Сергею Львовичу, с подробным описанием православной кончины Александра Сергеевича. Но особенно удивительным является тот факт, что отец Григорий в своей работе «Гуманизм христианской морали» ссылается на письмо Пушкина к своему другу П. Вяземскому, в котором поэт заявляет, что никогда не писал «Гаврилиады» — поэмы, возводящей хулу на Духа Святого. Несомненно, что в те, 50-60-е годы говорить, а тем более писать о религиозности Пушкина было совершенно невозможно из-за жестокой политической цензуры. Но отец Григорий исследовал для себя эту тему глубоко и описал свои впечатления в вышеупомянутой работе о гуманизме христианской морали. Эти апологетические размышления о творчестве Пушкина в то время могли стать причиной новых гонений на батюшку. Может быть, именно поэтому он никогда не подписывал свои труды, боясь обысков и ареста…
Но вернемся к планам батюшки и матушки побывать на острове Хортица.
На закате солнца они ступили на палубу теплохода, следующего вниз по течению Днепра. То, что открылось им с палубы судна, отплывавшего от златоглавого Киева, было не сравнимо ни с чем. Заходящее солнце уже не слепило, но совершенно чудно и необыкновенно высвечивало каждый куполок, каждую маковку большой или малой церквушки, притаившейся в зелени кудрявых украинских садов. Этот каскад красок: золото куполов, зелень садов и белизна храмов — отражался в синеве Днепра. Город сиял, пылая радугой золотистых цветов на фоне густеющего уже, чуть фиолетового неба. Соединенные нитями золотисто-красных лучей, многочисленные луковки куполов создавали удивительные и неповторимые аккорды небесной музыки — глаголов неба, созвучных душе отца Григория и матушки Нины.
Теплоход медленно двигался вниз по течению, но город, казалось, сам медленно плыл мимо них, открывая свои новые красоты и достопримечательности.
Вот они плывут вдоль приречного района Киева «Выдубичи», получившего свое название в древности. Когда князь Владимир утверждал на киевской земле Православие и возводил на ней православные храмы, то приказал сбросить языческих идолов, которым поклонялись славяне, в воды Днепра.
Плачущие толпы язычников — поклонники деревянных божеств — бежали вдоль Днепра вслед за своими идолами. На волнах Днепра, то утопая в воде, то всплывая, медленно двигались покачиваясь поверженные идолы Перуна, влекомые течением вниз, а обезумевшие люди при каждом их движении кричали: «Выдубились! Вздыбились!». На заре ХI-го века Господь освятил русскую землю истинным светом православия, а прибрежный район Киева с тех пор хранит свое древнее название «Выдубичи». Ныне в этом месте — Выдубицкий монастырь.
Стоя на корме теплохода, батюшка думал: «Вот так же надо сокрушать, словом и делом, доводы и аргументы богоборцев и “сбрасывать” этих идолов безбожия с обрыва, как сбрасывал князь Владимир языческих перунов…». И мы знаем, что отец Григорий в своих тихих беседах и проповедях, в поучениях и трудах был и остался для Церкви Христовой истинным исповедником и ревнителем православной веры…
До глубокой ночи простояли батюшка и матушка на корме, вглядываясь в волнистый след от судна, постепенно истаивающий в воде. Волны словно зализывали эти посторонние белеющие линии, превращая все в единое, равномерно текущее, зеркальное движение волн красавицы-реки Днепр. Вот уже от воды, от прибрежных кустов стал подниматься туман, нависая над ней легкими, длинными языками. Тишина. Слышен только едва уловимый звук двигателя и легкий плеск волн за бортом. Какое явное ощущение неземного покоя и присутствия Непостижимой Силы — Творца природы, присутствия Самого Создателя всего! Какие редкие, дорогие для души моменты вдохновения!
Ночь, как и бывает на юге, упала почти внезапно. Звезды — яркие, огромные. Кажется, протяни руку — и дотронешься до этих холодных светил, настолько прозрачен воздух. Вот они, звездочки, засияли, засверкали, хрупко отражаясь в воде.
Перед ранним утром, почти ночью, теплоход подошел к одному из причалов Запорожья. Несмотря на близость к южному краю, ночь была холодной — все же стояла осень. Отец Григорий и матушка Нина сошли на берег. Вместе с ними в Запорожье прибыли и сотрудники ботанического питомника, что на Хортице. На берегу их уже ждал маленький «Рафик». Быстро погрузившись в машину и поеживаясь от ночной прохлады, пассажиры теплохода устремились по петляющей дороге, ведущей вдоль города вверх по течению Днепра. Они как бы возвращались немного назад.
Даже в это, самое спокойное, ночное время суток, на них словно навалилась чугунная плита — так тяжело было дышать! Такой плотной загазованности они, пожалуй, не ощущали даже на родном Урале. Немудрено, что в этом очаге промышленной металлургии столько людей, страдающих болезнями легких.
Было видно, как вдалеке багрово светилось круглосуточное литейное зарево. Справа угадывались пирамиды с усеченной вершиной — домны, надо полагать, вносящие свою «неповторимую лепту» в атмосферу этого города и окрестностей. Где-то там вспыхивали бело-зеленые ядовитые «глаза» ночных электросварок. Какой контраст с тихой гладью реки, золотисто-желтыми садами Киева и украинскими полями! Это — мир машин, станков, заводского шума и грохота.
Проехав некоторое время вверх по течению Днепра, автомобиль круто свернул в сторону реки и, как им показалось, по какой-то насыпной дамбе или по мосту направился прямо к острову, лежащему посередине Днепра. Так они оказались на знаменитом острове Хортица. Еще на теплоходе им сказали, что часа три они могут спокойно походить по острову — посмотреть, подышать! Это было сказано не зря: на острове отец Григорий и матушка словно ощутили, как за ними затворилась какая-то непроницаемая дверь, отделившая их от дымных, ядовитых запахов и от городского шума.
Это было действительно какое-то чудо. Каменный остров, усыпанный серой галькой вперемешку с песком, свободно вытянулся вдоль реки. На отдельных его участках раскинулись по-осеннему разноцветные пурпурно-желто-зеленые оазисы с деревцами и кустарником. На южной оконечности острова расположилась небольшая каменистая возвышенность, рядом с которой растянулись травяные поляны с разбросанными на них круглыми валунами, от мелких до огромных. Казалось, словно какие-то сказочные великаны гоняли когда-то на зеленой лужайке эти «камешки», играя в бильярд.
Они медленно пошли в глубину острова, вдыхая удивительное благоухание трав, цветов и диковинных кустов, отгороженных от тропинки проволочной сеткой, — видимо, это хозяйство питомника. Вот в глубине просматриваются низкорослые деревья, почти кусты. Пригляделись: это — яблони. А яблоки-то! Целые чайные блюдца! Под ветви диковинных яблонь заботливо подставлены деревянные опоры — иначе обломятся.
Вдруг прямо под ногами они увидели нежный жасмин, который «перебегал» дорожку. Какой дивный аромат! И опять — благословенная тишина. Только пробудившиеся птицы сообщают друг другу первые утренние новости и, конечно, что у них на острове гости.
Поднялся легкий ветерок, и только сейчас они обратили внимание, что тут, на острове, — тепло, словно и не было холодной осенней ночи, окутавшей их на причале. Ветерок принес с собой свежие ароматы и даже запах дымка, который скорее дополнял эту идиллию. Наверное, где-то рядом отдыхали туристы…
Вдали шло какое-то строительство. Может быть, строили санаторий для легочных больных. Отец Григорий и матушка Нина, не сговариваясь, сворачивают по боковой тропинке в сторону от строительства. Не хочется никакого лишнего общения, праздных разговоров, они уже привыкли к уединению и внутреннему молитвенному настрою…
Они вышли к небольшой возвышенности, покрытой мелкой травкой, на которой словно разбросаны гладкие валуны, местами поросшие мхом. Некоторые из них просто огромные. А вот какой-то совсем необычный: двойной, со «спинкой»! Как трон! На таком могла сидеть только сама княгиня Ольга! Мысль о том, что когда-то по этой земле, пусть давным-давно, ходила святая равноапостольная княгиня, ступая там, где ступают теперь они, теплой волной настигла обоих паломников, умиляя и восхищая одновременно. Ведь имя Ольга — семейное для родов Пономаревых и Увицких.
Весь остров, его таинственный дух, который они просто не могли не почувствовать, настраивали на молитву. Обратясь на восток, отец Григорий и матушка Нина, преклонив колена, с особым настроем и трепетом пропели несколько благодарственных псалмов и молитв. Они чувствовали непостижимую гармонию с Творцом природы и человека!
И вот на востоке из пламенно розовеющей зари, закрывая, гася ее до вечера, брызнули утренние лучи нового дня. Они растворили, испарили последние, легкие дымки утреннего тумана и затопили все вокруг своим золотым светом…
На берегу зафыркал мотор, призывно засигналил «Рафик», приглашая отца Григория и матушку в обратный путь, в Киев, а потом на Урал.
Бодро поднявшись, они низко поклонились этой благословенной земле, давшей им такое необыкновенное общение с Господом, и отправились в свой дальнейший жизненный путь.
В Нижнем Новгороде
Хочется сказать несколько слов и о поездке отца Григория и матушки к родным в Нижний Новгород.
Любовь и интерес отца Григория к истории Святой Руси всегда были ярко выраженными. Узнав, что Нижегородский кремль является историческим памятником и был построен еще во времена татаро-монгольского ига для защиты от нападений кочующих орд, батюшка загорелся желанием посмотреть все своими глазами… Надо было видеть, с каким живым интересом, с каким азартом он оглядывал все достопримечательности.
Он посетил часовню древнего кремля, построенную в честь победы над Наполеоном и прославляющую победу русских войск. В часовне были собраны старинные иконы и множество красивых, расшитых золотом знамен полков, участвовавших в битвах против французов. Долго рассматривал отец Григорий памятник гражданину Минину и князю Пожарскому, воздвигнутый в честь победы 1812 года на высоком берегу реки.
А с каким трепетным вниманием он прошел по всем доступным тогда кирпичным галереям, переходам, башням и бойницам кремля! Он осторожно и трепетно прикасался руками к древним камням со следами выбоин от оружия, нанесенных еще татарами.
Вот он увидел какую-то башню с незнакомым архитектурным решением… И — искреннее удивление:
— Посмотри, Нинонька, какая древность, какая красота! Да ведь это (про одну из башен) просто… тарелка с горой блинов! Ну надо же, какая выдумка, как талантливо!
А выход из нижних ворот на Маяковку!
Сами ворота: их кованые накладки и толстенные бревна, заостренные внизу, которые специальным механизмом могли подниматься вверх, выпуская всадников, и опускаться до земли, — эти старинные ручной работы врата привели батюшку в полное изумление. Он все время говорил:
— Как жаль, что нет фотоаппарата, ведь это — сама история!
Отец Григорий, конечно, знал, что нижегородская земля — это земля, овеянная подвигами пламенного Серафима Саровского. Совсем недалеко от Горького раскинулся Арзамас, а оттуда уже рукой подать до Дивеевской обители. Как любил отец Григорий этого дивного старца, сколько напечатал он «книжек»-тетрадок с описанием жизни и чудесных подвигов преподобного Серафима, скольким духовным чадам он поведал о святости дивеевского инока! И часто люди находили, что их батюшка очень похож на преподобного Серафима Саровского, — с такой же неизменной теплотой и всегдашней дивной радостью встречал он всех людей, приходивших к нему, как и его любимый святой старец.
Но до Дивеева доехать было в те времена невозможно. Кругом — военные объекты да воинствующие атеисты. И в знак своего глубокого почтения и преклонения перед подвигами преподобного Серафима отец Григорий низко поклонился в сторону пустынных Саровских лесов…
В Кургане
В 1962 году архиепископ Свердловский Флавиан назначил отца Григория настоятелем Свято-Духовской церкви в поселке Рябково города Кургана. Несколько месяцев прослужил батюшка в рябковской церкви, к тому времени уже «приговоренной» городскими властями к уничтожению из-за поспешно выстроенной вблизи коробки кинотеатра «Спутник». А вскоре верующим предложили новое место под строительство молитвенного дома в поселке Смолино, который и был построен с Божией помощью трудами отца Григория и его духовных чад.
Престол нового молитвенного дома освятили в честь Святого Духа. Из рябковского храма перенесли церковную утварь, иконы, богослужебные книги и священнические облачения, и богослужения возобновились. Много лет отец Григорий, окормляя созданный им приход, служил один. Он был строитель, настоятель и требный батюшка одновременно. Жизнь его стала настолько спрессована во времени, что с новой силой зазвучала в его духовном дневнике тема значения и силы часа.
За всю свою жизнь батюшка, можно сказать, не имел полноценного отпуска. Он служил круглый год. Вставая в четыре-пять часов утра, отец Григорий готовил себя к Божественной Литургии. Потом сразу же — крещение, венчание, панихида…
А в городе уже ждут его для треб. Сообщение с Курганом было тогда через поселок Восточный. Через Тобол переправлялись в то время различными способами: и на лодках, и на плотиках, иногда — по мостикам почти без перил. С требным чемоданчиком и дароносицей при температуре двадцать пять — тридцать градусов жары добирался батюшка в любую точку города и близлежащих поселков на общественном транспорте или пешком. Где-то ждали его на исповедь и причастие, где-то — на соборование, но как бы далеко и сложно ни было добираться, он никогда никому не отказывал.
Домой приходил белее мела, чтобы сбросить насквозь промокшую одежду, и… быстрее в храм ко всенощной. Только вечером он давал себе немного отдышаться, обдумать проведенный день и еще успеть подготовиться к следующему, такому же. Конечно, только Господь давал ему силы. Что такое отпуск, он просто не знал.
Лет тринадцать-пятнадцать батюшка жил такой напряженной жизнью. Но ему готовились новые испытания. Свои трудности и переживания он тщательно скрывал, стараясь оградить близких от лишних волнений, но его душевная боль вылилась в стихи, явно не рассчитанные на читателя:
Сердце
Бедное сердце! О, сколько тревоги
Ты испытало со мною в пути!
Сколько раз, чувствуя тяжесть дороги,
Ты учащенно стучало в груди.
Но и теперь ты, почуяв ненастье,
Что собралось над моей головой,
Бьешься, волнуешься, хочешь, чтоб счастье
Снова лилось полноводной рекой.
Полно, утихни же; в мире коварном,
Где суждено нам с тобою шагать,
Больше ты будешь, родное, печально,
Много придется терпеть и страдать.
Долго придется тебе еще биться
И волноваться в стесненной груди,
Пусть тебе сладкое счастье не снится
В жизненном нашем тяжелом пути.
Пусть тебе видятся шумные грозы,
Бури, ненастья и море скорбей,
Ненависть дикая, только не розы
И не хвала от коварных людей.
Так обновимся в служении верном,
Путь христианский со мной продолжай
И своим стуком, тревожным, чрезмерным
Ты уже больше меня не пугай.
Писано 10/II 1975 года
И еще одно стихотворение, найденное в архиве батюшки и, вероятнее всего, написанное им самим:
Не тоскуй ты, душа дорогая…
(подражание Никитину)
Не тоскуй ты, душа дорогая,
Не печалься, но радостной будь,
Жизнь, поверь, нам настанет другая…
Нас жалеет Господь, не забудь.
Уповай ты на Господа Бога,
И молись ты почаще в тиши,
И утихнет на сердце тревога,
Получая покой для души.
Не смущайся в тяжелые годы,
Пусть не ропщут на бремя уста.
В нашей жизни бывают невзгоды,
Но надейся на милость Христа.
В мире волны бушуют, как в море,
Ветер страшно и грозно шумит.
Не забудь, что с любовью во взоре
На тебя Твой Спаситель глядит.
Жизнью Сам Он твоей управляет
И защиту тебе подает,
Знает Он, о чем каждый мечтает,
К светлой радости, счастью ведет.
Проявить нам здесь нужно терпенье,
Мы готовы к последней борьбе.
Бог услышит все наши моленья,
И возьмет нас Спаситель к Себе.
Пристань светлая нас ожидает,
Бури страшной и грозной там нет.
Ярче солнца Христос там сияет.
Жизнью вечной наполнен там свет.
Не тоскуй ты, душа дорогая,
Не печалься, но радостной будь.
В небе родина наша Святая
И блаженный и вечный наш путь.
Отец Григорий был слишком закрытым человеком, чтобы посвящать в свои тяготы близких. Кроме матушки, конечно. Поэтому я не могу объяснить причины его переводов сначала в Шадринск, вскоре в Куртамыш, потом в Усть-Миасс и так далее… Скорее всего, это было связано с отношением к нему уполномоченного по делам религиозных организаций Курганской области. Но факт остается фактом: мои престарелые родители, живя в Кургане, стали «перелетными птицами». Церковный дом, где они жили все годы службы в Свято-Духовском храме, им пришлось освободить, и они купили маленький домик здесь же, в Смолино, где и жили до самой смерти.
Уезжая на воскресные и праздничные дни в другие приходы, они оставались там на неделю, иногда на полторы, и возвращались в Курган, чтобы снова ехать на очередные субботнюю и воскресную службы. Переехать совсем на каждое из мест нового назначения родители не могли, так как понимали, что это носит временный характер и переводы с прихода на приход спонтанны и необъяснимы. За ними, как по команде, следовали многочисленные духовные чада батюшки, верные им и в радостях, и в трудностях. И храмы маленьких городков и поселков епархии наполнялись церковным чтением и пением милых курганцев.
Приезжая в Курган, я совершала вместе с ними эти беспокойные поездки. Как я отметила для себя, чтобы добраться из дома в Смолино до очередного районного храма, они должны были совершить около четырех поездок с тремя пересадками. Первая — из дома через Тобол до городского рынка; вторая — от рынка до автовокзала; третья — на рейсовом автобусе до районного центра, четвертая — на местном автобусе до храма. Иногда бывало, что они шли пешком около одиннадцати километров, например, из районного центра в Усть-Миасс.
Такая жизнь у моих престарелых уже родителей продолжалась не год или два, а лет пять или шесть… и прекратилась лишь тогда, когда у отца Григория резко обострилась давно возникшая желчекаменная болезнь, на болевые приступы которой он не обращал до поры внимания. Произошло это в Куртамыше: острейший приступ желчекаменной болезни, осложненный перитонитом… Почти умирающего, его на машине привезли в Курган. На волоске от смерти он был прооперирован, практически без какой-либо надежды. Уже позднее, когда его перевели из реанимации в отделение, студенты-медики приходили посмотреть на выжившего после почти безнадежной операции пациента. Свершилось чудо, он поправился и еще несколько лет служил Господу и Его Церкви, помогая верующим духовными советами и молитвами.
После перенесенной операции батюшка еще иногда выезжал служить в небольшие приходы. Он уже не был настоятелем в родном Свято-Духовском храме, и служить там ему теперь удавалось все реже: тут и новый приток молодого священства, и, конечно, уходящие силы самого батюшки. Это обстоятельство отец Григорий тяжело переживал.
Надо было видеть лицо отца Григория, когда он приходил из смолинского храма и говорил: «А я завтра служу Литургию!». При этих словах он весь прямо светился. Очень любил батюшка служить в маленьком храме крестильного дома при Свято-Духовской церкви.
Рассказывая, как любил отец Григорий служить Божественную Литургию, невозможно не вспомнить о том, что записал он в своем духовном дневнике «о важности вынимания частиц поименно».
Проскомидия была для отца Григория особым таинством — именно священнодействием. Он вынимал из просфоры отдельную частичку за имя каждого человека, сугубо предстательствуя перед Господом за спасение его души.
Проскомидии, которые совершал отец Григорий во святая святых — у престола Божия, — являют нам чудо Божие и в наши дни! Просфоры с вынутыми из них батюшкой поименными частичками нетленны до сего дня, хотя со времен праведной кончины отца Григория прошло уже более восьми лет. Разве это не чудо? Просфоры — их восемь — хранились более восьми лет в разных условиях: в разных домах, у разных хозяев, в разных шкатулках, при разных температурах и в разное время года, — однако ни тля, ни ржа, ни мучные жучки не подточили эти чудесные просфорки и они доныне сохранили свой первоначальный нетленный вид. Вот настоящее, святое благоговение!
«Праведники отходят, а свет их остается».
И тем не менее при жизни батюшка был гоним.
Еще в 1970 году, когда отец Григорий постоянно служил в церкви Смолино, он, видимо, уже почувствовал грядущие скрытые гонения, выраженные впоследствии в необъяснимых хаотичных переездах с одного прихода на другой. Для себя он написал в это время молитву на каждый день, которая была найдена в личном архиве батюшки уже после их с матушкой преставления. А позднее была обнаружена и молитва, читаемая вечером.
Молитва только на нынешний день
Господи! Я не молюсь о будущем, далеком и о нуждах завтрашнего дня; лишь ныне сохрани меня под покровом Твоим, только нынешний день.
Спаситель! Будь со мной в труде моем и молитвах, помоги мне быть добрым в делах и словах только нынешний день. О, пусть я не буду настойчив в исполнении своей воли.
Не попусти, Господи, чтобы я произнес слова безполезныя, оскорбительныя, преступныя. Внуши устам моим слова ободряющие, утешающие и радующие всех, с кем я встречаюсь в нынешний день.
Благость Пречистой Матери Твоей, Господи, да сопутствует мне и поможет при встречах с людьми.
Пусть я не буду причиной чьих-либо страданий, печали и слез на нынешний день…
Господи! Бедствие приближается ко мне: дай мне силы встретить беду без ропота и уныния как вестницу Твоей правды и любви ко мне на нынешний день.
Не прошу я, Господи, о завтрашнем дне; завтра, быть может, я буду близ Тебя, но пощади меня, научи меня, сопутствуй мне только нынешний день. Аминь.
Молитва, читаемая вечером
Благодарю Тебя, Господи, за все милости и благодеяния Твоя, в прошедший день на нас бывшая.
Молюся Тебе, Господи, прости всех обидевших меня сегодня, успокой их злобные чувства, а в сердце мое пошли благодать полного забвения обид.
Еще молюсь Тебе, Отче Небесный, укрепи меня в благоугодных Тебе добродетелях и избави всех нас от греховных падений, взаимного недружелюбия, ссор и всякого несчастия.
Дай мне, Боже, предстоящую ночь тихую, спокойную и утром восставь меня здравого на славословие Имени Твоего святого.
Господи, силою Честнаго и Животворящего Твоего Креста сохрани меня от всякого зла.
Благослови меня, Господи, и жизнь вечную даруй мне. Аминь.
И еще одна известная молитва, найденная в архиве батюшки. Читая ее на своем домашнем молитвенном правиле и добавляя к ней слова, отец Григорий учит и нас молиться нашему Спасителю за свои страстные и любосластные души.
Молитва Святому Духу
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны и утеши ны от всякия скорби и спаси, Блаже, душу мою, страстную и любосластную.
* * *
Много лет отец Григорий и матушка Нина ездили исповедоваться к протоиерею Павлу Николаевичу Ездакову — скромному, глубоко настроенному священнику, который служил в приходе села Боровлянка Притобольного района. Отец Павел соответственно исповедовался у отца Григория. Их обоих связывала глубокая, сердечная дружба и взаимная привязанность. Встречаясь, они часто и подолгу беседовали на темы духовного и нравственного воспитания паствы. От отца Павла батюшка и матушка всегда возвращались домой духовно обновленные, с особым душевным подъемом. После ухода из жизни отца Павла батюшка Григорий подолгу (с особой глубиной и серьезностью) молился за упокой его души. Чувствовалось, что батюшке очень не хватало бесед с отцом Павлом, возможности поделиться своими мыслями, трудностями, проблемами духовной жизни прихода и просто человеческого общения.
В семейном архиве Пономаревых сохранилась тетрадка со стихотворением «О Рождестве Христовом», переписанным рукой отца Павла.
Под стихом такая подпись:
«Писал прот. П. Е. “Среда” 21/II-79, 15 часов, тепло, ясно, + — 2о».
И ниже:
«На молитвенную память! Дорогому собрату отцу протоиерею Григорию Александровичу Пономареву! В знак глубокого уважения к Вам от протоиерея Павла Николаевича Ездакова. 21/II-79 г. с. Боровлянка».
«Слава Тебе, явившему мне красоту вселенной…»
(Об отношении отца Григория к природе)
В памяти моей всплывают моменты общения батюшки с природой. Глядя на поля, деревья, травы, цветы, он не уставал повторять: «Как много дал нам Господь, и как порой мы бываем к этому бесчувственны и неблагодарны». Скромный полевой цветок мог растрогать его и вызвать чувство восхищения своим совершенством.
Особенно любил он смотреть на небо, говоря, что нет ничего прекраснее неба в любое время года.
Летом я приезжала к ним сначала на каникулы, а потом, уже работая, во время отпуска. Родители мои проживали в то время в Смолино: в церковном доме, огород которого подходил прямо к обрыву, к реке. По узкой тропочке можно было спуститься к воде.
С обрыва нам открывались такие бескрайние дали! Под ногами плескался тогда еще довольно чистый Тобол. На другой его стороне — пологой и песчаной — вольно раскинулись огромные поляны, овраги и овражки, заросшие дикой вишней, мелким кустарником, камышом и полевыми травами. А маленькие болотца и ручейки бывшей старицы Тобола были приютом всякой летающей, плавающей и ползающей живности, резвящейся среди водяных лилий, кувшинок и высоких нарядных стеблей иван-чая.
Поля, еще не распаханные и не застроенные коллективными дачами, наполняли все вокруг дивными, целительными ароматами. Река гасила шумы города, и только иногда проходящий по высокому железнодорожному мосту поезд, похожий издали на игрушечный тепловозик с вагончиками, привлекал к себе внимание или гудком, или ненавязчивым перестуком колес.
Батюшка сколотил у нашего забора на краю обрыва скамеечку и теплыми вечерами, уже после службы, любил посидеть, подумать, послушать тишину, любуясь красотой и гармонией наступающего вечера.
С удовольствием принимал он к себе в компанию и нас с мамой. С этого места мы особенно любили смотреть на небо, которое завораживало своим необъятным куполом. А какие волшебные краски доводилось видеть нам чаще всего при закате солнца! Казалось, невозможно так тонко, искусно соединить нежную лазурь, где-то вспыхивающую изумрудной полосой, переходящую вдруг в нестерпимо блестящее золотое облачко с багровыми клубами, похожими на гигантские люстры, которые, медленно выцветая и переливаясь всеми оттенками розового, истаивали вдали.
Наше светило, устав за день, медленно опускалось за городом, но феерия красок и света не заканчивалась. Вот поплыли по необъятному небу, как по морю, белые кудрявые деревья, подсвеченные розовым. Вот они почти незаметно для глаз превратились в длинные, узконосые палевые ладьи, а те, в свою очередь, слились в огромный старинных очертаний парусник. Ну прямо «Летучий голландец» какой-то. Вот из него возник замок с башенками, бойницами, но только где же этот ошеломляющий золотисто-палевый цвет? Его уже и в помине нет. А замок-то — голубой, даже серо-сизый, и в постепенно надвигающихся сумерках можно еще видеть, как из него вытянулось длинное забавное лицо в шляпе… Шляпа-то уж совсем потемнела. Вот и первая звезда…
С реки вдруг потянуло уже ночной сыростью.
Тихо так, что слышно, как плеснула рыба, а с противоположного берега из камышей стали медленно выползать вытягиваясь длинные, полупрозрачные ленты тумана, окутывая кусты и почти ложась на воду, усиливая тишину настолько, что, кажется, звенит в ушах. Или это комары? Ну конечно, да какие еще злющие…
— Пошли скорее домой, — говорит мама. — Чай, наверное, давно остыл.
Папа с просветленным лицом, словно умылся в этой вечерней свежести и красоте, неторопливо встает.
В глазах отца Григория еще отражается небо, лицо светится теплом и благодарностью к Создателю.
Из архива протоиерея Григория Пономарева
«Солнце да не зáйдет во гневе вашем» (Еф.4:26)
Конец каждого дня должен служить нам полезным напоминанием прекращения нашей жизни — того заката, после которого не взойдет больше для нас солнце.
Вечер прекращает на известный срок нашу деятельность. Мы откладываем наши дела, наши занятия, даем отдых и мыслям, и даже чувствам.
Работа дня кончена. Кто знает, может быть, и навсегда. Поэтому, оканчивая день, мы всякий раз должны испытать себя и привеcти все в порядок в нашем внутреннем мире, как бы перед концом своей жизни.
В особенности в час нашей вечерней молитвы мы должны очистить свое сердце от всего того, что накопилось в нем греховного или неправильного в течение дня: от всякого чувства горечи, досады или непокорности, от всякого порыва гнева — от всего того, что удаляет нас от Бога. Жизнь наша мимолетна, мы не знаем при наступлении ночи, увидим ли мы еще утреннюю зарю и дастся ли нам еще случай загладить и исправить |многое перед Богом и нашею совестию. Не позволим таить в своем сердце на сон грядущий никакой злобы, ни одной греховной мысли. «Солнце да не зайдет во гневе вашем», — есть совет высшей премудрости.
(Поучения из настольной книги христианина
«День за днем». Автор поучений неизвестен)
* * *
В свободное время мы с удовольствием посещали лес. Красота лесных трав и цветов, неброская, но утонченная, очевидно, зарождала в душе батюшки образы и мысли, которые переплавлялись в его духовной мастерской в богословские размышления в виде небольших рассказов, притч и новелл. Он тщательно собирал их, перепечатывал и раздавал в назидание своим духовным чадам. Их глубина и проникновенность казались совершенно непостижимыми простому человеческому уму. Отец Григорий никогда не подписывал своим именем то, что, скорее всего, принадлежит его собственным раздумьям. Безымянной оказалась и эта «Маленькая новелла» из его архива.
Из архива протоиерея Григория Пономарева
Маленькая новелла
С тех пор как на земле поселились люди и начались страдания, на полях зацвели цветы: красные, лиловые, голубые; они напоминали человеку о тенистых рощах, из которых он был недавно изгнан.
Они стояли в поле, ясные, кроткие, наивные, и тихо шелестели о недавнем счастье. И человек, уставая в жизненной борьбе, смотрел на эти маленькие грустные цветы. В них он видел иную жизнь, яркую и счастливую, как солнце. Он отдыхал душой. В сознании его ярко вспыхивал образ счастья, глубокого, как мир, и ясного, как цветы.
Какое милое царство — царство цветов.
Порою, когда над ними проливаются тихие дождики, светит солнце и падает роса, они как узоры покрывают землю пышными, красивыми и мягкими одеждами. Особенно хороши они летними утрами и вечерами. Словно малютки, раскрывают они свои лучистые глазки и улыбаются далекому милому солнцу. И, как малые детки, закрывают их вечером, неясные и тихие, как сон, и почивают в своих колыбельках…
Тише! Полевые малютки спят!..
Если бы не было цветов, зима тянулась бы, скучная и серая, и никогда на земле не было бы веселой, душистой весны…
Никогда не было бы букетов, разноцветных и пахучих, с которыми люди приходят в церковь в день Святой Троицы…
Никогда не клали бы на холодный, заснувший лоб печальных, трогательных, угасающих венков из живых цветов, и глубокая любовь была бы бессильна в своем порыве — излиться до конца, до края в сильном и глубоком образе…
Но они недолговечны. «Прекрасное — коротко», — эта печальная истина вышла из цветочного царства. Вы видите в степях одинокие былинки, на которых как бумажный лист качаются и шуршат сморщенные лепестки. То могилки цветов!.. Тихие могилки полевых малюток! — сухие былинки, когда-то одетые яркими, мягкими одеждами, когда-то обвеянные благоуханиями, когда-то шептавшие о таинственных вечерних грезах.
И вот им захотелось не умирать! — вечно благоухать, вечно шелестеть, тихо и грёзно…
В одно майское утро, когда над озером заливались соловьи и солнце целовало землю своими огнистыми поцелуями, они широко раскрыли свои лепестки и тонкое благоухание, как дымок кадильниц, поднялось к небу.
Они молились!.. — о вечной жизни, ясной и прозрачной, как их одежды, — молились цветы ВЕЛИКОМУ БОГУ! И был ответ с далекого синего неба:
— Кто желает быть безсмертным, пусть умрет!
И цветы поникли перед Божественными словами, полными тайны, красоты и вечности! Поникли, и тонкое благоухание, как тихая хвала, поднялось к небу…
— Кто желает быть безсмертным, пусть умрет во имя безсмертия!
Но страшно умереть! Не видеть голубого неба, не золотиться под жгучими солнечными лучами, не обливаться тихой, благодатной росою.
В степи при дороге росли скромные, нежные цветы. Они привыкли кивать своими золотыми головками утомленному пешеходу. Они словно хотели ободрить его, шепнуть ему про далекий дом, про далекие лица, про дальние приветы и пожелания!
Эти маленькие, скромные цветы согласились добровольно умереть во имя безсмертия!
И умерли… Их легкие, как крыло бабочки, одежды вдруг затвердели, сохранив все краски. И благоухание, как невидимый бриллиант, замерло над ними в воздухе. Умершие, они сделались безсмертными!
Приходила осень, за ней падали снеговые хлопья, проносился жестокий ветер и с корнем вырывал маленькие цветы. Жгло июльское солнце — они были всегда одинаковы: яркие, благоухающие, нежные, как грёзы, как далекая тонкая струна звучащие…
И, когда мать опускала в темную могилу маленький гробик, она клала на родную головку венок из безсмертных цветов. Эти цветы — символ ее любви и иной, вечной жизни, где она опять встретится со своим малюткой!
А когда невеста, расставаясь надолго со своим женихом перед отъездом в далекие края, дарит ему скромные безсмертные цветы, пусть их любовь будет так же вечна, как эти цветы!
Между людьми эти цветы зовутся «БЕЗСМЕРТНИКИ»!
(Все выделенные слова и грамматика сохранены как в оригинале — ред.)
* * *
Года за три до ухода из этой жизни моих дорогих родителей я посадила во дворе их дома целую клумбу голубых вьюнков. К осени цветы поднялись к небу и украсили собой стену дома прямо перед окнами маминой комнаты. На ночь похожие на граммофончики цветы закрывали свои тонкие лепестки, а с восходом солнца голубые и сиреневые ясноглазые колокольчики приветствовали маму, спешившую поздороваться с ними…
— Здравствуйте, мои ясноглазые малютки, — говорила она. — Вы снова раскрыли свои милые лучистые глазки…
И это было продолжением той притчи, которую недавно напечатал на машинке отец Григорий…
* * *
Вспоминается еще один случай трогательного отношения к природе отца Григория и матушки Нины.
В одном из весенних номеров журнала «Наука и жизнь», который батюшка с матушкой выписывали более десяти лет, был напечатан новый очерк Владимира Солоухина «Грибы». С увлечением они читали этот очерк вслух. А вскоре была напечатана «Трава», тоже Солоухина. Для отца Григория и матушки это стало действительно «созерцанием чуда». Творчество Владимира Солоухина (члена Попечительского Совета строящегося в то время в Москве Храма Христа Спасителя) очень нравилось батюшке и матушке Нине. И язык, и авторский подход к жизни, и смелость суждений (в те-то времена!), и удивительная поэтичность, казалось бы, совершенно прозаичных вещей и предметов… В очерке «Трава» Владимир Алексеевич Солоухин очень тонко рассуждает о жизни цветов и приводит описание научных опытов о взаимодействии комнатных цветов с человеком. Конечно, это произвело неизгладимое впечатление, особенно на матушку Нину.
Приезжаю к ним летом в отпуск. На окне стоит большой красивый цветок, типа пиперонии.
— Какой у вас цветок красивый.
— А это у нас «Владимир Алексеевич» (Солоухин), — смеется мамочка.
Долго у них жил этот цветок — «Владимир Алексеевич». Наверное, при переезде (после изгнания их из церковного дома) с «Владимиром Алексеевичем» им пришлось расстаться. На новом месте не только цветку, но и людям негде было разместиться.
«Кто Творец мира: Бог или природа?»
Продолжая разговор об отношении отца Григория к природе, раскроем богословскую сторону этого вопроса: то, как отразил батюшка догматическое учение о сотворении мира в своих апологетических трудах.
При обращении к духовному архиву отца Григория среди его многочисленных тетрадок неожиданно был обнаружен машинописный текст на нескольких страницах под названием «Кто Творец мира: Бог или природа?». Работа никем не подписана, то есть автор ее, можно подумать, неизвестен. Однако, анализируя стиль изложения темы о создании мира и зная некоторые эпизоды из жизни батюшки, а также изучив в его архиве многие литературные наброски, можно ясно понять, что этот труд принадлежит именно ему, протоиерею Григорию Александровичу Пономареву, прошедшему суровую школу познания мира наедине с природой северного края. И тогда становится совершенно понятным, почему он написал в этой работе такие строки:
«Макарий Великий говорит (и ученые подтверждают), что природа — это раскрытая книга, ее корки — небо и земля: читай со вниманием, в ней все написано». И далее: «Ученые, с каждым годом вчитываясь в книгу природы, познают бездну премудрости. Законы в природе не устанавливают, а только открывают. Из этой прочитанной книги видно, что человеческий разум не может постигнуть всего того, что сокрыто в ней, но может сделать заключение, что в этой книге природы все написано красиво, целесообразно, премудро-разумно — значит, все создал Разум!
Наш конечный разум не может постигнуть бесконечный Разум, Которым является Бог!
Вот взяли мы две книги: книгу природы и книгу, написанную человеком. Теперь надо сопоставить. Книга, написанная человеком, — это плод его ума, а книга природы является плодом Творческого Разума — Бога! Настольная книга имеет вес, объем; то есть это — материя! Так что первично: эта книга — материя — или заложенная в ней идея? Разумный человек скажет: “Чтобы написать книгу, она должна быть в сознании человека, то есть первична идея, материя — вторична”.
Возьмем книгу природы. Что первично: эта материя или заложенная в нее идея? Конечно, идея. Вот из этих двух книг мы и видим, что первична не материя, а сознание, то есть первичен Бог как Вечность, материя же — вторична. Бог был всегда, а материя — это идея Бога.
Божия книга природы поражает нас своим необъятным величием, абсолютной гармонией и порядком и своей таинственной непостижимостью. Наш ограниченный разум теряется при мысли о беспредельности вселенной и не в состоянии постичь или объять ее.
Откуда произошло такое неисчислимое количество звезд, солнц, комет, аэролитов, галактик, созвездий, звездных туманностей и вечно сияющих светил?
Подлинные ученые должны сознаться, что наука не в силах это объяснить, а только основывается на научных догадках и предположениях.
Для тех людей, которые ссылаются на науку, никаких трудностей в объяснении космоса не существует.
На вопрос, кто создал материю, пространство, планеты, они отвечают одним словом:
— Природа!
А кто создал природу?
— Природа создала сама себя.
Но, если природа создала сама себя, значит, было время, когда ее не было? А если природы не было, то как же она могла создать себя? Если же природа была до своего создания, то зачем тогда надо было ей создаваться?
Библия говорит нам, что невидимый для наших плотских очей Творец Вселенной становится видимым “через рассматривание творений” Его (ср. Рим.1:20), поэтому Он предлагает людям: “Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, Кто сотворил их” (Ис.40:26)».
В этой же работе читаем:
«Бога никто никогда не видел. На Бога даже ангелы не смеют взирать. Это говорит о совершенстве Бога.
Многие атеисты говорят, что если бы они видели Бога, то верили бы в Него, а, так как они Его не видели, значит, Его нет.
Но есть очень многое в природе, чего мы не видим, но верим, что это — есть.
Любовь мы не видели, не знаем, какого она цвета, формы, но верим, что она есть.
Разум, воздух мы не видим, но верим, что они есть, и без них не можем жить.
Бог — есть Дух. Мы Его не видим, но верим, что Он есть. Нельзя понимать Бога как воздух, разлитый в природе. Это особое Существо, Которое не смешивается с природой. Это — Чистейший Дух.
Некоторые неразумные не понимают и говорят: “В космос летали, а Бога не видали”.
Верующий в Бога человек стремится к Своему Творцу через молитву и через добрые дела — с той целью, чтобы вместе с Ним блаженствовать и жить.
Душа человека, не познавшая Бога (но “по природе христианка”), стремится к Своему Творцу, но не через молитву и добрые дела, а через технику, ракеты. Это — стремление не тела, а духа, потому что Бог есть Дух. Это чистейший Дух-Бог — Творец всей Вселенной.
Один доктор астрологических наук читал лекцию в учебном заведении. На лекции присутствовал инспектор высших учебных заведений. Доктор поставил точку на доске и начал речь:
— Дорогие товарищи! Вот это — Земля, — показывая на точку, отмеченную на доске. — Земля появилась много миллионов лет назад, и она тысячелетиями развивалась, — и сделал круг из этой точки.
Сорок пять минут он рассказывал, как эта земля развивалась, росла, какие были землетрясения, вулканы, взрывы и другие явления, и в конце концов сказал:
— А в Библии написано, что якобы Бог создал землю.
Когда лектор окончил свое слово, он спросил:
— Есть ли вопросы?
— Да, есть.
Один студент встал и говорит:
— Скажите, пожалуйста, кто поставил точку Земли на доске?
Доктор ответил:
— Я.
— А кто поставил точку земли во Вселенной?
Лектор задумался и стал на философском языке отговариваться непонятными фразами. Инспектор, видя, что лектор “тонет”, объявил аудитории, что время лекции окончено и пора на обед…».
Энциклопедический словарь Флорентия Павленко
Сколько я помню себя, он всегда лежал на письменном столе под настольной лампой с зеленым абажуром. Он был таким огромным и тяжелым, таким внушительным, что мне было страшно к нему прикасаться, хоть мне это и разрешалось. Букв я тогда еще не знала, но в нем было много «картинок»…
— Только очень, очень осторожно, Леленька! Это ценная и нужная книга…
Книгой часто пользовались, но как-то странно, не так, как другими: просто что-то полистают в ней, как бы что-то ищут, найдут… и уходят, удовлетворенные.
Я постепенно росла, взрослела; я уже знала, что эта замечательная книга называется «Энциклопедический словарь». Автор, составивший его, — Флорентий Павленко. Словарь был в красивом кожаном переплете. На титульном листе — портрет пожилого господина с внимательными глазами и высоким лбом. Это и был Флорентий Павленко.
Словарь состоял из 1552 страниц, каждая из которых была разделена на два пронумерованных столбца. Итого 3104 напечатанных мелким шрифтом столбцов с большим количеством печатных иллюстраций, тоже мелких. Словарь Флорентия Павленко содержал массу самых разнообразных, самых неожиданных знаний.
Матушка всегда говорила:
— Это поразительно! Когда бы и какой бы вопрос ни возникал, порой из самой неожиданной области знаний: науки, истории, искусства, философии, медицины, топографии, техники, — обращаешься к словарю Павленко… и вот он, ответ.
Постепенно и меня научили пользоваться этой умной книгой, и мне нравилось наугад открыть какую-нибудь страницу словаря, как бы отправляясь в «виртуальное» путешествие по знаниям. Ты узнавал что-то о великих людях разных времен и народов, и тут же, рядом, — сведения по географии, геологии, астрономии; вдруг видишь совершенно неинтересные математические формулы, а рядом — что-то из медицины, живописи, литературы; название отдельных «па» в искусстве балета и еще, совсем рядом, рядом — описание быта и ритуальных танцев североамериканских племен…
Иногда я с глупым детским «коварством», услышав незнакомое слово, понятие, думала: «Ну, уж это — вопрос “на засыпку”! Ответа точно не будет». И надо же! Вот оно, — пожалуйста. Флорентий Павленко, как всегда, дает ясный, четкий ответ в предельно сжатой форме. Это же словарь!
Несомненно, Павленко для своего времени был редчайший, выдающийся ум и, кроме того, имел особый дар — дар энциклопедиста. И, пожалуй, лишь к концу ХХ столетия, когда наука сделала необыкновенный прорыв в различных областях знаний и когда в наш язык влились, срослись с ним иностранные слова-гибриды и термины из новых отраслей наук и знаний, а также слова, перешедшие из «сленга» других языковых культур, — только тогда словарь Флорентия Павленко стал уже не так силен, отстав от новых понятий на несколько десятилетий. Когда отец Григорий вернулся из 16-летнего заточения и включился в активную литературно-духовную работу, словарь Павленко оказался особенно востребованным. Батюшка, вероятно, уже тогда что-то задумывал, записывая в отдельные тетрадки тезисы для своих будущих трудов.
Со словарем «доработались» до того, что он стал разваливаться, рассыпаться буквально по листочкам.
Матушка Нина, к тому времени освоившая переплетное дело, аккуратно переплела распадавшийся на части фолиант. Словарем снова стали активно пользоваться. В последующем на протяжении жизни родителей словарь еще дважды подвергался переплету. Вот каким нужным и значимым он был для отца Григория и матушки Нины.
Уже после кончины отца Григория совершенно случайно стало известно, что имя «Флорентий» (довольно редкое в русском языке) было записано в помяннике батюшки наряду с именами усопших родных. Отец Григорий молился за упокой души незаурядного энциклопедиста своего времени, он всегда оставался благодарен этому эрудиту. Интересно, что вместе с именем «Флорентий» соседствовали еще три имени: Александр (Пушкин), Модест (Мусоргский) и Николай (Римский-Корсаков). Александра Сергеевича отец Григорий ценил совершенно особо, а музыку Мусоргского и Римского-Корсакова воспринимал с большим трепетом и очень ценил.
В доме у отца Григория и матушки Нины наряду с граммофонными записями колокольных звонов были собраны все записи оперы «Борис Годунов». В редкие свободные вечерние минуты они любили послушать нашу великую русскую музыку… или, иногда, звоны. И эта общая любовь к музыке была еще одной из многочисленных и неразрывных невидимых нитей, которые просто «переплели» в единое целое эти две жизни, эти две любящие души, прошедшие через столько страданий.
Словарь Флорентия Павленко до сих пор хранится у меня, и не только как память о всех моих родных, но он все еще продолжает «работать», по мере уже своих «стариковских» сил, и, кроме теплых, душевных воспоминаний, до сих пор продолжает разрешать некоторые затруднения в знаниях, отвечая на многие вопросы.
Вот какую силу вне времени имеет труд жизни человека — книга, в которую, очевидно, вкладывалась вся творческая и интеллектуальная энергия, вся душа ее автора, Флорентия Павленко.
Праздник Николы «зимнего»
Дивен Бог во Святых Своих — Бог Израилев!
Это произошло в одну из первых зим, когда отец Григорий с матушкой Ниной, переехав в город Курган, обосновались в поселке Смолино. Усилиями батюшки и многих верующих был уже построен Свято-Духовский храм в его первоначальном виде — сначала это был молитвенный дом. Жизнь отца Григория вошла в определенный, хотя и очень спрессованный во времени, ритм.
Поскольку он был единственным служащим священником на весь приход (а значит, по тем временам, и на весь Курган), то и нагрузка была соответствующей. В новом действующем храме он проводил все службы, исполнял церковные требы, совершая таинства крещения, венчания и соборования. Служил молебны, панихиды, отпевал новопреставленных. Кроме того, ему приходилось много ездить по городу и окрестностям к больным и умирающим людям, соборуя, исповедуя и причащая всех страждущих.
В какой бы степени усталости ни был отец Григорий, ни разу не случилось, чтобы он кому-либо отказал в исполнении требы, хотя добираться до места порой было крайне далеко и сложно, и все — на общественном транспорте, а иногда и просто пешком. Он не считал себя вправе отказать нуждающемуся в помощи из-за того, что трудно добираться до района, в котором жил этот человек. Свое утомление он просто старался не замечать, и Господь давал ему силы. Мерил же он всё, вероятно, своей «северной» меркой, столь отличной от общего представления о человеческих возможностях и обязанностях.
В канун праздника Николы «зимнего», который и в «застойные» времена собирал в церкви много молящихся, стоял лютый мороз, да еще с метелью. Однако на всенощной храм был полон. Людей не останавливало и то, что попасть в пригородный поселок Смолино было очень трудно. Автобусного сообщения тогда не было; не было и нынешней дороги, так что люди шли пешком через Восточный поселок, краем поселка Мало-Чаусово и через большое поле, изумительно красивое весной и летом. Затем поднимались в горку через замерзший Тобол, а там уж и рукой подать…
Праздничные лица, ярко освещенный храм, немногочисленный, но какой-то особенно душевный церковный хор, управляемый матушкой Ниной, приятные, чистые голоса, вдохновенное пение — все грело, ласкало и возвышало душу.
Окончилась всенощная. По зиме где-то около семи вечера — это почти уже ночь. На улицу страшно и выглянуть — так метет. Колючий ветер, нагнавший в притвор храма кучу снега, рвет из рук постоянно открывающиеся и закрывающиеся двери, и струи ледяного воздуха врываются в теплоту храма.
Но вот все постепенно расходятся. Батюшка с матушкой одни из последних выходят из церкви, и вцепившийся в них ветер сразу сбивает с ног. Им-то идти недалеко, минут десять — и дома. А вот как будут добираться все городские? Страшно подумать. Дай им, Господи, сил!
Не успели войти в дом, как сквозь шум и свист метели им послышался робкий стук в ворота. Лай собаки подтвердил, что действительно кто-то пришел. Кто бы это мог быть в такую погоду? И время уже позднее. Только сильная нужда могла выгнать человека из дома… Отец Григорий пошел открывать. У ворот — маленькая, скрюченная фигурка: то ли ребенок, то ли старуха. Вся закутана и заревана. Батюшка просит ее войти в дом. Зайдя в кухню и перекрестившись на образа, она падает в ноги стоящему с ней рядом батюшке.
— Да что вы, что вы? Что случилось-то? Встаньте.
— Не встану, отец, пока не упрошу…
Фигурка продолжает ползать по полу и рыдать. Общими усилиями отцу Григорию и матушке удается поднять ее и усадить на сундучок — «приемное место» посетителей. Она долго распутывает свои шали, платки, все время всхлипывая, и вот-вот готова снова упасть в ноги батюшке. Наконец изо всех шалей появляется седая голова и пылающее лицо. Заплывшие от ветра, мороза и слез глаза умоляюще смотрят на отца Григория.
— Батюшка! Старик у меня помирает! Знаю, что и студено шибко, и далёко очень к нам, да и ночь на дворе, но… — она опять порывается упасть в ноги батюшке, — до утра-то он не дотянет. Может, и сейчас уже помер… — выдохнула она.
— Давеча он уж и воду не пил, и все батюшку просит. А я говорю: «Куда ж теперь? Да разве в такое время я приведу батюшку из такой дали?». А он только вздохнул и… даже воду не пьет, — вновь зарыдала она.
Почему-то слова «воду не пьет» вызывали в ней острую душевную боль. Так часто бывает: в горе или страданиях определенный образ или словосочетания, на внешний взгляд, самые обычные, являются побудительным стимулом к очередному взрыву переживаний и слез. Как будто они нажимают на некую уязвимую «кнопку» в душе, и она вновь и вновь открывает шлюз удерживаемых эмоций. «Даже воду не пьет…» — фраза эта закрепилась в сознании как что-то тяжелое, душераздирающее, так что всякий раз, произнося ее, она начинала рыдать, словно бы снова и снова прикасаясь к открытой ране.
Отец Григорий взглянул на матушку, а она… Она, преисполненная человеческого сочувствия к посетительнице, с ужасом осознает, что надо.., и сейчас он оденется и пойдет с этой несчастной, заплаканной старушкой в ночь, в буран, в неизвестность, чтобы выполнить свой священнический долг. Святой долг пастыря. Иначе он не может. И матушка, понимая это, скорбно вздохнув, идет собирать отцу Григорию теплые вещи.
— Хоть чаю глотни, — шепчет она, понимая, что счет идет уже даже не на часы… И больше не настаивает.
Батюшка, проверив тем временем содержимое требного чемоданчика, одевается со словами:
— Ниночка, ты не волнуйся. Я вернусь, видимо, не скоро. Старики живут на той стороне города, где-то за поселком Рябково. Ехать долго, а там еще и пешком идти надо. Но ничего — Господь поможет. Ведь ты же понимаешь, что надо.
— Надо, — эхом отзывается матушка. — Идите с Богом. Помоги вам Господь и святитель Николай.
Отец Григорий бросает понимающий, благодарный взгляд на самого дорогого, верного ему в жизни человека, всегда понимающего его и готового поддержать в любую минуту.
Они уходят в ночь. Старуха то лепечет слова благодарности, то вновь начинает рыдать… Разговаривать на таком ветру невозможно, и надо экономить силы. Полчаса назад он так горячо сочувствовал тем, кто должен был возвращаться из храма в город. И вот сейчас он сам будет преодолевать этот же путь, и даже, по всей видимости, еще более трудный.
Поистине, неизвестно, какое испытание ожидает нас в очередной момент жизни.
Дороги не видно. Перебравшись через Тобол, они выходят в открытое поле. Тропинку, протоптанную с вечера, уже полностью перемело. Идти приходится по целине, ориентируясь лишь на слабо мерцающие вдали огоньки Восточного поселка. Ветер, ничем не удерживаемый, творит со снегом что-то невообразимое.
В памяти батюшки невольно всплывают воспоминания о том, как на Севере он тоже прокладывал в буран тропку в снежной целине, а за ним, как стая злобных зверей, шли заключенные. Тогда жизнь его висела на волоске. А сейчас? Да беда ли все это?! Ну, мороз.., ну, метет.., и пройдет немало времени, когда он сможет дать отдых своему натруженному за день телу. Но ведь он свободен, он на воле, он — пастырь Христов и спешит сейчас, чтобы исполнить свой долг. Он получил от Господа благословение на самоотверженное служение Ему и делает то, о чем так пламенно просил в дни неволи. Пусть ночью или к утру, но он вернется домой и, даст Бог, будет служить праздничную Божественную Литургию в память святителя Николая. Это ли не счастье?!
Все эти мысли как будто вливают в него новые силы, и он, поддерживая почти падающую спутницу, преодолевает поле, затем Нахаловку, выросшую за поселком, и сам поселок. Они выходят на транспортную магистраль. «Теперь надо дождаться троллейбуса, а там, если даст Господь, и дальше доберемся. Поспеть бы…»
Как всегда, чем хуже погода, тем реже ходит транспорт. Да и вечер уже поздний… Наконец в снежной пурге появляются округлые фары нужного им троллейбуса. «Только бы не перемело дорогу в Рябково», — думает отец Григорий.
Мучительно долго едут. Холод начинает пробираться сквозь валенки и теплые носки. Ничего! Тот огонек, вспыхнувший в душе батюшки, когда они шли полем, продолжает гореть, поддерживая и придавая ему силы. Они доезжают до конечной остановки и устремляются в какие-то глухие и темные переулки.
— Нам, батюшка, идти еще неблизко. От лесочка третий наш домик будет, сам его рубил…
— Ну, веди, — только и сказал отец Григорий.
В поселке дорога то видна, то утопает в снежных сугробах. Старуха совсем выбилась из сил, и батюшка снова идет первым.
— Теперь уже скоро, — слышит он ее голос, который глохнет и относится ветром.
Осеняя себя крестным знамением, отец Григорий оборачивается посмотреть, где же его спутница, и… прямо перед собой видит старца…
Старец негромко произнес:
— Поторопись! Иди и ничего не бойся! Бог поругаем не бывает! Больше тебя никто не тронет.
Вдали возникает темный силуэт, порой то проясняясь, то совершенно заволакиваясь снежными смерчами. Через несколько минут немного ближе видно уже, что не один, а как будто два мужских силуэта двигаются навстречу. Какое-то неприятное чувство вдруг шевельнулось в сердце батюшки. Уж он ли не побывал в переделках?! Сколько раз жизнь его была подобна свече, колеблемой ветром, и, быть может, именно это выработало в нем обостренное чувство опасности. Вот и сейчас он интуитивно ощущает, что тут, как говорят, «горячо». Возникает желание свернуть куда-то, пропустить этих людей. Но сугробы, наметенные ветром выше заборов, с двух сторон сдавливают тропинку. В домах — ни огонька. Почти не освещена и улица, по которой они идут. Только один-единственный столб с горящим фонарем, который борется с ветром, задавшимся целью — сорвать его. Фонарь, раскачиваясь упрямо, натруженно и сердито скрипит под порывами ветра, и слабый свет его хаотически в такт метели выхватывает то крышу дома, то сугроб — и тогда все в глазах начинает рябить и сливаться до тошноты. Свернуть некуда. Отец Григорий идет первым, за ним — вдруг притихшая старуха… И как раз под фонарем они сходятся с двумя молодыми парнями. Узенькая дорожка — не разминуться. Батюшка готов шагнуть в снег, лишь бы побыстрее прошли эти двое, от которых исходит явное чувство опасности.
— Ну куда ж ты, дед? Ишь, через снег захотел! От нас не уходят.
Один из них издает пронзительный свист, и почти тут же откуда-то из тьмы возникают еще двое.
— Ходишь по нашей улице, да еще с дамой, — глумится он, — да еще с чемоданом!
Ох, как это похоже на уже пережитое им, только там — зона, а тут — воля. Но «звери» — те же.
Давно уже творя Иисусову молитву, батюшка видит, как грязная рука бандита тянется к требному чемоданчику со святынями, а остальные, опьяненные чувством собственной безнаказанности и беззащитности жертвы, окружают его в предвкушении добычи. В руках одного из бандитов батюшка замечает топор. Да, самый обыкновенный, жутко блеснувший наточенным смертельным лезвием топор. Видимо, не дрова колоть собрались эти выродки, и чьи-то жизни, возможно, должны были оборваться, не попадись им навстречу отец Григорий.
Как молния в голове отца Григория возникает образ святителя Николая — угодника Божия, перед иконой которого он молился сегодня на праздничной всенощной. Его живое молитвенное обращение прямо летит в открытые небеса:
— Святителю отче Николае! Защити!
И… что это? Где эта наглая рука, готовая уже вырвать у батюшки требный чемоданчик?
Батюшка видит, как топор, описав смертельную кривую в воздухе, улетает далеко в сугроб. Он видит спины толкающих друг друга, удирающих бандитов, какие-то их странные дергания, слышит вопли и визги боли, словно они получают невидимые и сокрушительные удары…
Еще миг — и никого нет. Бешено колотится сердце, не унять. Ноги стали как ватные, и холодный пот струйкой стекает по спине, хотя на улице лютый мороз. Осеняя себя крестным знамением, отец Григорий оборачивается посмотреть, где же его спутница, и… прямо перед собой видит старца. Что-то необычное в нем вновь бросает батюшку в трепет, но трепет благоговейный. Метель совершенно запуржила одежду старца и его головной убор. Но отец Григорий ясно видит светлое, почти светящееся лицо его и глаза, глянувшие на него мудростью веков и глубиной святости. Утихшая было дрожь вновь прошла по всему телу. Старец негромко произнес (или это прозвучало в голове отца Григория?):
— Поторопись! Иди и ничего не бойся! Бог поругаем не бывает! Больше тебя никто не тронет.
В этот момент снежный порыв ветра заставляет остолбеневшего батюшку на мгновение прикрыть глаза, и когда он открывает их, то никого рядом уже нет. Нет и сомнений. И вновь сквозь сердце полились слова молитвы: «Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое» (Пс. 90).
Отец Григорий, упав на колени и не замечая ни стужи, ни яростных порывов ветра, возблагодарил Господа, скоро приходящего на помощь и посылающего её в лице Своих святых. Помощь, приходящую по молитве… Нет — по истовой сердечной мольбе, ясной и острой, как крик. И по вере в то, что она придет незамедлительно.
Сердце еще продолжало отбивать сильные удары — сердце, принявшее сначала человеческий страх и смертельный испуг, а затем целую гамму чувств: благоговейное волнение, трепетную любовь и благодарность к Спасителю… И удивление. Почти детское удивление: за что ему, грешному, дается такое крепкое утверждение в вере и непоколебимая решимость нести до конца свой пастырский долг во Имя Твое, Господи!
Спутница батюшки, от страха впавшая почти в кому, лежала в одном из сугробов. Батюшка помог ей подняться, и она, придя в себя и озираясь по сторонам, спросила:
— Ты, что ли, их прогнал? Я думала, они тебя зарубили… Ну, думаю, а потом и меня прикончат.
К умирающему отец Григорий все же успел. Он принял исповедь и причастил отходящего ко Господу. Все это батюшка совершал с обостренным чувством особой близости Господа нашего Иисуса Христа и великого чудотворца, «страшного наказателя обидящих» — святителя Николая.
На улице ревела та же метель. Снег и ветер сбивали с ног, а батюшка шел и «ничего не боялся», как и было ему сказано, тем более что идти ему надо было почти всю ночь — транспорт уже не ходил.
Утром в храме его ждали уже на праздничную Божественную Литургию. Литургию в день Николы «зимнего». Все это придавало ему силы идти как воину Христову и ничего земного не бояться. Идти со своей верной спутницей матушкой Ниной, чтобы до конца жизни бороться вместе с ней за Православную веру и, если Богу угодно, вместе дойти до светлого Царства Христова.
* * *
Псалом 90-й «Живый в помощи вышняго» отец Григорий и матушка Нина почитали особенно и свято верили в его сверхохраняющую силу. В духовном архиве батюшки, во многих его тетрадках и самодельных книжках оказались вложенными отдельные листочки с переписанным на них текстом псалма. Это были своеобразные «Живые помощи…», которые отец Григорий и матушка переписывали неоднократно и раскладывали по разным местам в своем небольшом смолинском доме. Они верили и знали о заступничестве Вышнего в случае любой внезапной опасности. Матушка Нина постоянно носила такой листочек, сложенный в несколько раз, в кармане своей кофточки, и не раз 90-й псалом помогал ей в той или иной неприятной житейской ситуации.
В свой архив батюшка перепечатал несколько примеров чудесной помощи 90-го псалма из книги Евгения Поселянина «Идеалы христианской жизни».
Вот эти примеры.
«Есть молитва, которая имеет особую, сверхъестественную охраняющую силу. Во многих русских семьях, особенно среди военных, распространен обычай носить на шее с образами ладанку, в которой зашита бумажка с написанным на ней псалмом: “Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небесного водворится”.
По многократному опыту многих людей, этот псалом имеет спасающую мистическую силу.
Я знал старика-отца, который и сам носил на шее такую ладанку, и надел ее на своего мальчика-сына. Его сын подвергался великим опасностям. Когда он служил гвардейским офицером и однажды спал на земле, во время маневров ногу ему переехала повозка. Он был посылаем во время голода в тифозную местность, а во время японской войны был уполномоченным от одного из отрядов Красного Креста и вынес сильнейший тиф, но всюду уцелел.
Самыми великими обетованиями спасения и охраны звучит этот псалом: “Падет от страны твоея тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится… Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Яко ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою… Яко на Мя упова, и избавлю и, покрыю и: яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его и прославлю его. Долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое”.
Вот какими обетованиями ободряет дух Божий человека, живущего “в помощи Вышняго”.
Дух Божий обещает этому человеку благоденствие земное, избавление от всех бед, тайных и явных, уцеление на войне, спасение от всех тех неисчислимых опасностей, которые повсюду грозят человеку. Дух Божий обещает, что такой человек в минуту опасности будет взят на руки ангелами: “Да не когда преткнеши о камень ногу свою”.
В Петербурге, в женском Новодевичьем монастыре, есть так называемая Карамзинская церковь, которая воздвигнута над молодым полковником Андреем Николаевичем Карамзиным его богатой вдовой Авророй Карловной, по первому мужу Демидовой, княгиней Сан-Донато. Карамзин был сыном знаменитого российского историографа. Когда он отправился в Севастопольский поход, сестры ему зашили в мундир псалом “Живый в помощи Вышняго”, и во всех сражениях он оставался невредимым. Но перед одним из сражений он поленился переодеть мундир, в котором был зашит псалом, и отправился в том мундире, в каком был. И в начале боя был убит наповал.
Есть другой рассказ о таинственной охраняющей силе этого псалма. Молодой офицер Дегай, умерший в преклонных летах в больших чинах и в должности почетного опекуна, занимал молодым человеком должность полкового казначея. В лагерь он привез из города жалованье, которое должен был на другой день, двадцатого числа, раздать по полку.
В ночь на двадцатое число он, проснувшись среди ночи, увидел стоящего над собой с выражением ужаса в глазах денщика; у постели валялся топор. Схваченный денщик рассказал, что он хотел изрубить барина, похитить его деньги и бежать. Три раза замахивался он на него топором, но всякий раз ему представлялось, что офицер лежит на постели, разрубленный пополам. Жизнь Дегая таким образом была спасена. Он всякий вечер, ложась спать, имел добрый обычай читать псалом “Живый в помощи Вышняго”. В тот же вечер, будучи сильно утомленным, он прочел псалом до половины и уснул…».
«Коленька нашелся…»
На дворе стоял май. Батюшка, который просыпался очень рано и занимался утренними хозяйственными делами, обратил внимание на понуро стоявших у окон его дома еще нестарых мужчину и женщину. Они не стучали, не звонили, а как-то неуверенно перетаптывались у палисадника. Простые, скромно одетые, с какими-то вещами, они привлекли внимание батюшки своим совершенно потерянным видом. Он просто ощутил, что эта пара несет на себе какое-то горе, пригнувшее их к земле.
Они так и не позвонили, и не постучали. Батюшка пошел и открыл им ворота — он чувствовал, что большая беда привела этих людей. При виде отца Григория они, словно не веря глазам своим, бросились к нему. Получив благословение и приглашение войти в дом, женщина начала плакать навзрыд, мужчина тоже едва сдерживал рыдание.
Усаживая своих ранних гостей, отец Григорий поставил чайник, понимая уже, что они, очевидно, с поезда. По их замученным и усталым лицам было видно, что они проделали немалый путь. Первые слова, о том, откуда они приехали, были просто ошеломляющи:
— Мы, батюшка, из Нефтеюганска. Нас Мария прислала. Сказала, что Вы ее хорошо знаете, — говорили они с удивительной простотой и наивностью, даже не представляя, какое количество людей ежедневно проходит у отца Григория на исповеди и что запомнить женщину, которая месяц назад была у него в храме, конечно, трудно.
Но вот эта самая Мария из Нефтеюганска направила своих знакомых к поразившему чем-то ее батюшке Григорию из Кургана. Она так и сказала им:
— Езжайте к отцу Григорию из Кургана. Живет он в Смолино.
Это были все координаты, ориентируясь на которые, несчастные двинулись в такой далекий путь. Но они добрались и поведали батюшке о своей беде.
Оказалось, что у них пропал единственный пятилетний сын — Коленька. Пропал буквально в какие-то минуты, играя около своего дома. Испуганные родители обежали всех знакомых, заявили в милицию — но ребенок как в воду канул. И никто нигде даже похожего на пропавшего ребенка не припоминал. Потянулись дни и ночи — чередование надежды и безысходности. Еще молодые, родители буквально за неделю превратились в согбенных стариков. Как жизнь свела их с Марией, побывавшей у батюшки, трудно сказать, но какой надо было обладать уверенностью в том, что священник из Смолино поможет, чтобы посылать к нему людей из далекого северного города, откуда можно было вылететь только на самолете! Поверив ей, несчастные приехали к отцу Григорию за помощью…
Матушка Нина плакала, принимая ранних гостей, устраивая их отдохнуть и не смея обнадежить даже словом. Пока они отдыхали, батюшка молился. Молился долго, до изнеможения. Он клал земные поклоны, устремляя свои глаза, так много видевшие человеческого горя, на Нерукотворный Образ Иисуса Христа, висевший в переднем углу их смолинского дома. Позднее он сказал своим гостям:
— На все воля Господня. Без Его воли ничего не происходит, а тут такое несчастье! Надо молиться и просить Бога вернуть вам сына, но не забывайте всей душой своей сказать, что вы во всем полагаетесь на Господа. Пусть будет по воле Его. Сегодня отдохните, а завтра пойдите в храм, исповедуйтесь и причаститесь оба. Господь видит ваше горе. Его промыслы неисповедимы. Возможно, Он хочет, чтобы вы осознали свои грехи и что-то исправили в жизни. Подумайте. Может быть, когда-нибудь вам и откроется, почему это произошло, но только не озлобляйтесь. Господь всегда все устраивает к лучшему. Молитесь оба. Я тоже буду молиться.
И батюшка молился. Молился вечером, ночью и на Литургии. После причастия он предложил им отслужить молебен Пресвятой Богородице «Скоропослушница». Днем гости вернулись раньше, позднее пришел батюшка. Он выглядел утомленным, но лицо его было светлым, а голос радостным. Он сказал:
— Мы все просили Господа, взывая к Нему о помощи. Сегодня вы можете ехать домой, но продолжайте молиться. Я думаю, что мальчик ваш жив и найдется.
Какая-то глубокая, сильная вера и убежденность прозвучали в голосе батюшки. И эти сгорбленные, сдавленные тяжестью горя люди вдруг распрямились. Они нерешительно, несмело заулыбались, благодаря батюшку и матушку, и, ободренные, уехали. Через неделю в Курган на имя Пономарева Григория Александровича пришла телеграмма из Нефтеюганска: «Коленька нашелся. Жив, здоров. Просим разрешения приехать, поблагодарить всей семьей».
Семья вместе с найденным Коленькой прилетала на одни сутки к батюшке и матушке. Они рассказали, что ребенка похитил какой-то нищий, чтобы вместе с ним просить подаяние во время скитаний. Никакого физического вреда мальчику не нанесли. Задержали их на тюменском вокзале, а так как мальчик был объявлен в розыск, это ускорило развязку событий.
Ни одна пламенная молитва ко Господу не остается не услышанной Им, а когда к покаянной молитве родителей присоединяется молитва пастыря, Господь не оставит ее без ответа.
«Услышал Господь моление мое…» (Пс. 6)
Чем большее время отдаляет меня ото дня ухода моих дорогих родителей, тем глубже, проникновенней становятся образы близких и любимых мною людей. Отлетает бытовая шелуха, а события их жизни обретают свою подлинную ценность. О некоторых из них я узнала уже после кончины отца Григория и матушки Нины из рассказов духовных чад батюшки.
Живая, трепетная нить, связующая нас с Господом, иногда ясно обозначается, показывая, что Он слышит мольбы верующих в Него и мгновенно откликается, подавая им скорую помощь.
Письмо. Письмо, пришедшее ко мне через два с половиной года, как нет с нами отца Григория и матушки Нины. Читая его строки, убеждаешься, что слово, живой пример, рассказанный в нужное время, бывает лучше любого лекарства.
Эпизод из жизни отца Григория. Небольшой, но страшный фрагмент, дающий утвердиться другим людям во всепобеждающей силе молитвы…
Темным ноябрьским вечером 1999-го года прихожане Свято-Духовского храма после вечернего богослужения собрались на автобусной остановке в ожидании рейсового автобуса. Автобус задерживался. Жгучий ветер, набирающий скорость в притобольских степях, налетал и пронизывал до дрожи, холод от стылой земли растекался по всему телу. Люди замерзали, невольно теснясь друг к другу. И вдруг раздался голос: «А вы знаете, как отец Григорий, спасая свою жизнь, шел всю ночь по зимнему лесу, стараясь успеть к праздничной Литургии?..».
Этими словами Анна Михайловна Новикова, прихожанка Свято-Духовского храма в Смолино, начала рассказ об известном ей случае из жизни отца Григория.
«Где-то в 70-х годах, когда батюшка был единственным на весь приход священником, в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы ударили первые морозы. Земля, рано застывшая, покрылась снегом, и погода более напоминала зиму, чем осень.
После всенощной за батюшкой на машине приехали какие-то люди и попросили его поехать с ними, чтобы исповедовать и причастить больного где-то недалеко от Кургана. Отец Григорий собрался и уехал на требу. Напрасно матушка Нина ждала его весь вечер и всю ночь. Не смыкая глаз и не успевая вытирать слезы, она простояла все это время перед образом “Нерукотворного Спаса”, вознося свои молитвы ко Господу о благополучном возвращении батюшки.
Утром, придя в церковь, она увидела общее беспокойство верующих, связанное с отсутствием отца Григория, так как обычно он приходил в храм задолго до начала Литургии. Ничего утешительного сказать прихожанам она не могла. Стараясь не плакать, рассказала, что вечером на машине (что было в то время редкостью) его увезли к больному куда-то под Курган. Всем миром стали читать молитвы “Во время бедствия и при нападении врагов” и акафист святителю Николаю.
Через короткое время в храме появился отец Григорий. Он был совершенно закоченевший, едва шевелил губами и даже не мог расцепить пальцев на ручке требного чемоданчика — они словно примерзли. Одет он был легко, так как его увезли на машине, пообещав привезти обратно. Оказывается, это был ложный вызов. Треба явилась предлогом, чтобы вывезти отца Григория подальше за город. Это были злоумышленники. Вполне возможно, что замышлялось большее, но у батюшки были Святые Дары, поэтому он был под особой защитой… Что и как случилось в подробностях, батюшка никогда не рассказывал. Известно только, что далеко за Курганом он был выброшен из машины в лесу и оставлен на морозе за много километров от жилья.
Весь вечер и ночь старый священник, молясь Господу и благодаря за то, что ему не причинили физического вреда, крепко сжимая требный чемоданчик, шел и шел по безлюдному лесу. Когда он добрался до окраин Кургана, уже начиналось утро. Творя непрерывно Иисусову молитву, он так и дошагал до Смолино.
От сильного переохлаждения, физического переутомления и нервного напряжения служить Литургию он не смог. Но все верующие, сам отец Григорий и матушка Нина соборно возблагодарили Господа за спасение. Молились и о здоровье батюшки».
Анна Михайловна закончила свое повествование. Так стал известен этот случай. Но ни батюшка, ни матушка Нина никогда не рассказывали об этом скорбном происшествии. Всегда верно служа Господу, твердо надеясь на Его неизреченную помощь, они старались и во всех окружающих зародить неугасимую искру веры в Его милость.
Из воспоминаний духовных чад отца Григория
— Отец Григорий! Благословите меня в дорогу. К дочери в Москву собралась.
— А Вы бы подождали несколько дней, не ездили…
— Батюшка, да я уж и билет купила!
— Но билет можно и сдать…
— ???
Скромные вещи уже уложены в дорожную сумку, куплен билет на пассажирский поезд «Хабаровск-Москва», но … нет благословения батюшки. Как же решиться в столь дальний путь без благословения?
Сдала билет, а в день, запланированный для отъезда, узнала, что на железной дороге серьезное крушение, есть погибшие, много раненых. Это оказался тот самый поезд, на который и был куплен билет, но по совету отца Григория сдан в железнодорожную кассу…
* * *
Опухолевидное пигментное образование, что было у меня на левом виске вот уже более пяти лет и на которое я ранее не обращала внимания, в 1992 году стало болеть и периодически кровоточить. Стали беспокоить головные боли. Понимала, что нужна незамедлительная консультация врача-онколога. Перед тем, как обратиться в онкологический диспансер, решила причаститься.
В то памятное для меня утро исповедь принимал протоиерей Григорий Пономарев. Я и раньше исповедовалась и причащалась, но на исповеди у отца Григория была впервые. Некоторые мои грехи он назвал сам — как будто высветил мою душу…
— Кайся в этих грехах!
Дома после причастия у меня появилось сильное жжение в голове и груди. Палило внутри — как огнем. Дня через четыре после причастия, к моему удивлению и большой радости, пигментное пятно на виске присохло и готово было отпасть. А еще через три дня от опухоли не осталось и следа.
Святое Причастие по молитвам отца Григория, исцелило меня. Это было мое первое обращение к батюшке и первая его молитвенная помощь мне. Позднее я узнала, что накануне Литургии, готовясь к службе и таинству исповеди, отец Григорий подолгу молился дома. Вставал на молитвы по ночам.
В храме батюшка часами стоял на своих больных старческих ногах около аналоя со Святым Евангелием и Крестом, выслушивая всех исповедников, неторопливо давал духовные наставления и всякий раз записывал имена страждущих. После таинства шел в алтарь и молился за всех, кого исповедовал, умилостивляя Господа о их прощении. Молитвы его каким-то особенным образом чувствовались, это я поняла при первом же к нему обращении. И снова и снова прибегала к молитвенной помощи отца Григория. И получала ее.
* * *
Это было давно. Много лет прошло с тех пор. Разные события, одно за другим, чередой проходили через мою жизнь. Но то давнее воспоминание до сих пор не стерлось из памяти.
В храме села Житниково для крещения младенцев собрались молодые родители и крестные. Родители раздевали малышей, готовя их для таинства. Всеобщее внимание привлек золотушный ребенок, головка которого вся была покрыта коростами. «Золотуха» не заразна для окружающих, но в толпе поднялся ропот, чтобы этого младенца не крестили в общей купели.
Ждали батюшку. Когда он появился, все обратились к нему с просьбой разрешить конфликт. Отец Григорий посмотрел на заплаканную маму, на младенца и, положив руку на головку ребенка, перекрестил его, а матери сказал: «Не огорчайтесь! Я покрещу вашего малыша отдельно». Окончив таинство крещения основной группы крещаемых, батюшка стал крестить золотушного ребенка. Одного. После крещения вновь погладил его по головке и сказал матери: «Господь милостив. Идите с Богом» Дома мать сняла чепчик, одетый малышу после крещения, и увидела, что на шапочке остались все золотушные коросты, а головка ее ребенка была совершенно чистой и здоровой.
Потрясенная женщина на следующий же день пришла сообщить об этом в храм, заказала Господу нашему Иисусу Христу благодарственный молебен за исцеление, благодарила батюшку.
Случай этот поразил тогда всех окружающих и надолго остался в памяти. Милостивый Господь по вере матери и по горячей молитве отца Григория в таинстве крещения дал чудесное исцеление больному ребенку, укрепляя в людях веру в то, что всякое благое прошение скоро будет Им услышано.
* * *
Это было в марте 1997 года. Шел Великий пост. Срок моей беременности был небольшой, четыре месяца, но уже недели две, как возникла угроза выкидыша. В больницу идти я боялась, так как знала, что меня положат на сохранение, а двоих других детей (Дарью, девяти лет, и Антона, тринадцати лет) я оставить не могла. Но у меня самой — медицинское образование, и я прекрасно знала, чем это могло закончиться, поэтому все же я пошла в больницу, где мне сказали немедленно ложиться, и, возможно, на долгий срок. Это было как приговор! Я стала метаться между нерожденным ребенком и двумя другими.
Моя подруга, Людмила (она тоже духовная дочь отца Григория), видя мои муки, говорила: «Мариша, поезжай к батюшке, расскажи ему все, он тебе что-нибудь посоветует». И я поехала. Было еще холодновато, и я была в шубе, а из-за шубы не видно было моего «положения». Выхожу из автобуса. У батюшки раскрыты ворота, а там дрова. Да, пожалуй, не дрова, а палки всякой длины и ширины, и… батюшка сам их носит и складывает. Я ведь приехала всего лишь рассказать ему о своем горе и попросить благословения лечь в больницу. А тут батюшка в таких трудах! Он молча, сосредоточенно трудился. И как же я смогла бы просить его благословения? А потом что? Уехать? Нет. Я подошла, поклонилась ему, он меня благословил, и я спросила:
— Можно я вам помогу, батюшка?
Отец Григорий спокойно ответил:
— Хорошо, помоги.
И мы, два немощных: батюшка по возрасту и здоровью, а я — по своему положению, носили эти дрова-палки около часа. Но как мне было радостно быть рядом с отцом Григорием! Мне всегда было радостно с ним и с матушкой, и радостно было у них бывать в доме. Растворяешься в этой гармонии двух людей и уже ничего своего — плохого, тяжелого, горького — не помнишь. Просто не хочешь помнить!..
Проехал мимо дома рейсовый автобус.
— Бог в помощь, деда! — кричит кондукторша.
— Спаси, Господи, — кивает ей отец Григорий.
Так вот, перетаскав всю кучу, мы пошли в дом. Там я сняла шубу. Матушка Нина вышла нам навстречу и, как всегда, улыбается. Я попросила попить. Матушка стала меня благодарить за помощь. Я села на стул и стала ждать батюшку, так как он ушел в комнату. Выходит, подает мне две написанные его рукой молитвы: утреннюю и вечернюю. Садится напротив меня за стол, и я рассказываю батюшке, вернее, говорю, что мне надо лечь в больницу, так как положение мое плохое, и что детей с отцом оставить тоже не могу. Он слушал, что-то, помнится, спрашивал, а потом сказал:
— Ну, теперь помолимся, Маринушка.
Батюшка молился, как всегда, Ангелу-хранителю. А немного позднее я стала собираться в обратный путь. Отец Григорий записал имена моих детей, благословил меня, как всегда, четким крестом, а затем проводил меня до ворот. Я уехала уставшая, но необыкновенно радостная и успокоенная.
Выйдя из автобуса, я пошла к Людмиле и все ей рассказала.
— Да ты что, разве можно было тебе в твоем положении носить тяжести! Почему не сказала батюшке?!
А как же я могла его оставить при такой работе, ведь ему одному все это перетаскать было бы не под силу, и он (а может, большей частью даже матушка Нина, так как они всегда друг о друге глубоко переживали), очевидно, молился, чтобы Господь послал ему помощника. Ну что поделаешь, если этот выбор пал на меня? Конечно же, батюшка не разрешил бы мне носить эти палки, если бы узнал, но мне так сильно хотелось ему помочь, что я смолчала.
На следующее утро я поступила в больницу.
Тяжело мне было уходить от детей! В больнице меня отругали, ведь у меня было кровотечение, а это — угроза для плода. Сделали ультразвук и… «обрадовали», что мне, возможно, всю беременность до родов придется лежать. Этого вынести я не могла! Я стала молиться по тем батюшкиным молитвам, которые он дал мне, когда мы сносили все дрова, да еще прибавила молитву о даровании терпения. И врачам было очень удивительно, что через две недели у меня все прошло, а при ультразвуковом обследовании обнаружилось, что причина кровотечения устранилась.
Конечно, был проведен курс лечения и витамины сделали свое дело. Но самым главным было благословение отца Григория!..
У моей соседки по палате была та же самая угроза, что и у меня, но она пролежала в больнице до самых родов. Мы позднее встречались с ней; ребеночек у нее родился с церебральным параличом, и сейчас он в таком же состоянии.
В больнице я пробыла полтора месяца и больше не ложилась до самого срока. На второй день Пасхи я привезла батюшке и матушке Нине крашеные освященные яйца. Мне так хотелось их отблагодарить! Вышла Ольга Григорьевна, его дочка; она извинилась, сказав, что батюшка болеет и выйти не может. Поблагодарила за гостинцы, и я уехала.
Серафима родилась к моим именинам и ко дню своего покровителя, преподобного Серафима Саровского. Ведь, когда я ходила в положении, в нашей церкви, по правую сторону находилась икона Серафима Саровского, и я всегда, тогда и сейчас, просила преподобного о детях. Эта икона мне всегда напоминала отца Григория: такой же маленький, седенький, с внимательным, сосредоточенным взглядом. И имя моей дочурки, Серафима, как раз и было выбрано в связи с этим, а на выбор этого имени я просила благословения у отца Григория. И на каждый день памяти батюшки и матушки я приезжаю, когда с Симой, когда одна, в Смолино, ведь они — наши благодетели и покровители моей семьи! Вечная им память!
Из архива протоиерея Григория Пономарева
Правильник
Это — небесная арфа… Чистые, светлые аккорды в нем заключены.
Утренние, вечерние молитвы. Каноны Иисусу Сладчайшему, Пресвятой Богородице, Ангелу-хранителю, Силам Небесным, Иоанну Крестителю, Честному Кресту, апостолам…
Покаянный канон и акафисты — два византийских акафиста тысячелетней музыки слова.
Молитвы ко причащению и по причащении…
Одна молитва принадлежит Василию Великому, другая — Макарию Египетскому, третья — Симеону огненному — Новому Богослову…
Глубина Премудрости и ведения, звук тихого, сокрушенного и ликующе-победного предстояния.
Полнота славы и исповедания.
Читаешь, перечитываешь, останавливаешься, созерцаешь, пьешь и опять упоеваешься словом и ведением: «Коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим…» (Пс. 118).
Поистине, читаешь — и словно струны перебираешь и на струнах играешь скрытую в них мелодию, и ангелы в сердце тебе поют. Умолкнешь — и снова струны трогаешь, и ангелы песнь тебе поют. Закроешься от ангелов и сам запоешь.
ПРАВИЛЬНИК-арфу в руках держишь — даже не трогая струн, говоришь с Богом. И снова слышишь звучание каждой нетронутой струны. Безмолвно, углубленно слушаешь песнь, скрытую в сердце…
Некоторые говорят, что «сухо» им читать правильник — наш церковный правильник со старинными славянскими молитвами…
В нашем сердце сухо бывает, а не в правильнике. Выучиться надо чтению и пению молитвенному, проникнуть в эти «крюки» славянских слов и строк — и оживятся, и запоют, и задышат молитвенные страницы.
Неверно читают те, которые правильник читают словно книгу. Правильник — это не книга, это арфа и в ней живущие аккорды звуков и небесных мелодий. Не всякий прочтет ноты в земной симфонии, не всякий проникнет в глубину правильника.
Эта глубина — бездна многая, неисчерпаемый кладезь вечно новых переживаний.
Так нужно, чтобы человек, отходя от сна к своему дневному труду или возвращаясь к покою от своих дневных забот, брал в руки ПРАВИЛЬНИК и погружался в его мелодию…
Утренние молитвы… Вечерние…
От сладкого утреннего пения может на весь день в сердце остаться свет и направить все слова и поступки человека к свету.
Вечернее пение сердца, представшего после трудов дневных своему ТВОРЦУ, может снять всю пыль греха, осевшую на сердце за день, и уготовить человеку сон мира.
Придет время, когда день этот будет последним… И так нужно для человека, чтобы этот день был свят! А святым он будет лишь в том случае, если начнется с молитвы.
Иногда люди, как дети, трогают одну или другую страницу струн арфы-молитвенника, не производя никакой мелодии…
Труд нужен, терпение и стремление, вера и надежда. Без них не раскрыть мелодии, таящейся в струнах… И не только в минуты предстояний, но и в самой жизни.
«Каждую минуту хождения по земле!.. Непрестанной молитвой в душе подготавливайся к предстоянию твоего моления — и вскоре преуспеешь» (святой преподобный Иоанн Лествичник).
Ищи эту небесную мелодию в своих чувствах, мыслях, устремлениях в течение всего дня и ночью во сне, и преуспеешь: поймешь и прочтешь свои молитвы, когда встанешь пред ЛИЦОМ ВЛАДЫКИ.
Откроются очи твои для зрения сокровенности слов и отверзутся вместилища твои для слышания небесных тайн.
(Все выделенные слова сохранены как в оригинале — ред.).
«Гонимы, но не оставлены…»
Мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем.
2 Кор. 4, 9
Испытания и трудности для отца Григория и матушки Нины все росли, и возникали новые. Неожиданным стал перевод батюшки из Свято-Духовского храма, построенного, как говорится, собственными руками — храма, в котором батюшка со дня его основания был одновременно и настоятелем, и служащим, и требным священником. Он многие годы оставался единственным пастырем на весь Курган и близлежащие районы, и сам факт его перевода был никому не понятен и горек.
Ничего не выясняя, не интересуясь хотя бы аргументацией столь неожиданного указа о переводе, отец Григорий принял его как данность и, подчинившись, стал служить на других приходах Курганской области.
Усть-Миасс, Шадринск, Житниково, Куртамыш…
О тех временах вспоминает раба Божия Ксения — духовная дочь отца Григория:
«Стою я на службе в Смолино, в старой еще церкви, смотрю на иконостас и вдруг вижу (как видение), что на Богородичной иконе (на иконостасе) Матерь Божия как будто поворачивает Свою голову: налево — направо, налево — направо. Я за Ней повернула голову направо и увидела, что над полом храма (в том месте, где клирос) как бы на весу расстелено льняное серое полотно, а на этом полотне — много серых камешков… Это было накануне Прощеного Воскресенья. На следующий день отец Григорий после Литургии вышел на амвон и сказал, что его переводят на другой приход, и, заплакав, ушел в алтарь. Люди в храме заплакали навзрыд…
И еще было одно видение. Вижу во сне, как будто стою я перед отцом Григорием и говорю батюшке: “Вот в той деревне нет священника”. А он отвечает: “Вот я бы туда и пошел”, а через неделю выяснилось, что его переводят в приход села Усть-Миасс Каргапольского района.
Ездила к отцу Григорию на исповедь какая-то Александра из Рябково. Мы знали, что она отвозила в Свердловск кляузы на батюшку. И батюшка знал об этом, но не роптал на нее, а только все время говорил ей: “Тебе много надо молиться за это…”.
Через несколько лет после изгнания батюшки из Свято-Духовского храма я встретила эту женщину на улице: ее раздуло, как мячик, так что она не могла даже сесть в автобус… “За «добро»”, — подумала я тогда».
Гонения начинались мягко, почти незаметно. Это было особенно странно и больно потому, что исходили они от довольно близкого батюшке человека, многим ему обязанного. Если вдуматься, то предателями, как правило, становятся именно свои, а не чужие.
Отец Григорий отнесся ко всему с истинным смирением. Значит, по воле Божией он должен пострадать и в чем-то пересмотреть себя, внутреннего (что, впрочем, он делал постоянно, судя по дневнику). Господу виднее, когда и почему каждый человек должен понести определенные тяготы.
Он старался не вникать в возню за его спиной — продуманную возню человека, поставившего перед собой определенные цели, которые стали давать конкретные результаты. Как выяснилось уже много позднее, к Владыке Свердловскому и Курганскому (Курган относился тогда именно к этой епархии) стали поступать многочисленные анонимные жалобы на отца Григория. Этим во многом и объяснялись странные переводы пожилого уже священника с прихода на приход, а также — неожиданное для многих отстранение матушки Нины от многолетнего регентства в Свято-Духовском храме.
Смирение — главная сила христианина, а смирение священнослужителя, терпеливое снесение им незаслуженных кляузнических обвинений по анонимкам — это, конечно, его особая заслуга перед Господом. Но духовные дети отца Григория не могли с этим смириться.
Уже позднее, когда сменился правящий архиерей, после очередного перевода с прихода на приход духовная дочь отца Григория Александра Александровна Верченко, делегируемая курганцами, поехала на прием к Владыке в Свердловск. Она обратилась к нему с письмом, подписанным многочисленными духовными детьми батюшки — многолетними прихожанами Свято-Духовской церкви. В этом письме они просили разъяснить причины столь странных и беспорядочных переводов больного 70-летнего священника с прихода на приход.
— Где же Вы были раньше?! Почему только теперь решили защитить своего батюшку?!
Так сказал владыка Мелхиседек, архиепископ Свердловский и Курганский, показывая увесистую пачку пасквилей, пришедших в его адрес на отца Григория. Александра Александровна была потрясена. Ни она и никто другой из духовных детей отца Григория даже не могли предположить, что и в наше время могут твориться такие же подлые дела, как в новозаветной Иудее.
Кстати говоря, совсем недавно, а именно летом 2005 года, один из глубоких почитателей отца Григория, церковный человек, обратился в Екатеринбургскую епархию с просьбой ознакомиться со священническим делом протоиерея Григория Пономарева, которое осталось в Екатеринбурге после раздела в 1993 году Курганской и Шадринской епархии с Екатеринбургской. Но, как стало известно от официального лица Екатеринбургской епархии, священническое «Дело» митрофорного протоиерея Григория Александровича Пономарева оказалось сожжено…
ДЕЛО СОЖЖЕНО! Именно «Дело» отца Григория да еще нескольких священников.
Беспрецедентное происшествие!
Почему дело оказалось сожжено? Ведь это не является общепринятой практикой… Кто, интересно, так постарался? Кого так жгли анонимки, вложенные в «Дело» гонимого зауральского праведника? Или это случайность? Но что-то не верится в такие неслучайные «случайности», вопиющие нераскаянным грехом к Небу.
Ну, а в годы гонений «выдавливание» батюшки из Кургана шло планомерно и по всем направлениям. Через два года «по состоянию здоровья» вынуждена была уволиться из Свято-Духовской церкви Нина Сегеевна. Она так и написала Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Платону, архиепископу Свердловскому и Курганскому: «Считаю своим долгом доложить Вам, что я не могу продолжать штатную работу церковного регента». Дата написания — 15 апреля 1982 года.
Не могу продолжать… За этими словами, конечно, скрыта горькая правда…
Дочь репрессированного священника, матушка Нина, певшая в церковном хоре с детских лет, имела не одну благодарность за «молитвенное пение» хора, которым она руководила. Вот и тогда на ее заявлении об увольнении Владыка написал наискосок: «Выражаю благодарность за многолетнее служение церкви на посту регента. Желательно, чтобы послужили до того времени, пока найдут замену, чтобы не пострадало дело храма».
Конечно, замену именно такому пению найти было трудно, но ее нашли. Что ж? Нужно давать дорогу молодым, ведь состарились, небось, батюшка с матушкой и трудно им уже служить в таком возрасте в единственном для Кургана храме! Только в полуразрушенных приходах области им и место. Слава Богу, что верные духовные чада всегда рядом с батюшкой. С ними можно и новые приходы поднимать, и править Божественную Литургию. Кто же еще может так верно и так жертвенно служить Господу, как не отец Григорий с матушкой Ниной — дети из семей двух потомственных родов священнослужителей? Да и когда бы еще поднялись эти храмы, если бы промыслом Божиим не суждено было направить в них истинных служителей Христовых…
Следующий шаг после изгнания отца Григория из храма — распоряжение освободить церковный дом, в котором он и матушка Нина жили с момента их переезда в смолинский храм. Дом продали новому старосте.
Ну вот, казалось бы, все: ни отцу Григорию, ни матушке Нине в Кургане места нет. Жить теперь тоже негде. Выдавили!
И тут отец Григорий совершает неожиданный, не просчитанный «доброжелателями» шаг: он не просто не уезжает из Кургана, а буквально в двух шагах от своего бывшего жилища покупает дом-развалюху, состоящую из комнаты и кухни.
Рядом с избой находилась молодежная танцевальная площадка, их разделял один полусгнивший заборчик. Вечно гремящая по вечерам и ночами музыка из динамиков, хохот, брань, визг — все эти звуки, сопровождающие деревенскую дискотеку, нагло врывались в окна нового жилища священника. Но, по милости Божией и по молитвам отца Григория, года через два-три после переезда в «новый дом» дискотеку убрали и построили на этом месте дом для семьи пенсионеров, что было, конечно, великим благом.
Другого выхода, кроме как принять все перемены со смирением, у батюшки тогда не было. Переезжать на место нового назначения бессмысленно, так как в любой момент его снова могут перевести.
Отец Григорий, конечно, понимал, что Господь испытывает его веру, и воспринимал все происходящее как волю Божию. Да разве он не был уже гоним? Разве его семья — семья «врага народа» — не натерпелась в те годы страха? На все выпады против него лично и трудности он не реагировал. Более того, он жалел своих обидчиков и гонителей.
Переезжать в новое жилище отцу Григорию помогали духовные чада. Их недоумению и возмущению не было предела. Наконец перебрались. Как это тяжело! Книги, ноты, какие-то вещи, пианино, старая, полуразвалившаяся мебель… Но когда переезжаешь в лучшие условия, то переезд придает новые силы, а тут?!
Зима прошла очень трудно. Избу, продуваемую всеми ветрами, натопить было невозможно. Не было даже желания, чтобы устроиться получше после переезда. Не было и времени, ведь каждую неделю — поездки на новое место службы, долгие, утомительные…
Весной бывший староста Свято-Духовского храма Василий Александрович, которого отстранили от работы в одно время с отцом Григорием, насмотревшись на эту маяту и жалея батюшку, пришел к отцу Григорию и сказал:
— Надо, батюшка, как-то благоустраиваться на новом месте. Будем менять нижние бревна дома, все утеплять. Строить сени. Ну нельзя же так жить!
Подключив всех своих знакомых, сам имея золотые руки, он начал преображать избу. Тут и папа, вспомнив богатый северный опыт, подключился к строительным работам. Помогали все, кто мог и чем могли.
В том доме, что подлатали к осени, невозможно было узнать купленную ими лачугу. Поменяли сгнившие бревна, утеплили. Обшили дом снаружи. Большие работы провели внутри дома. Строили всем миром. Но самой большой радостью батюшки был пристрой — маленькая холодная комнатка, сколоченная из древесноволокнистых плит с засыпанной внутрь землей. В «холодной», как ее назвали, было окно, электропроводка, изнутри она была обшитая новенькими листами ДВП и набело покрашена — чистенькая, аккуратная, светлая. Батюшка искренне радовался, ведь теперь он мог устроить себе «рабочий кабинет» — оборудовать святой уголок, поставить в комнатку письменный стол с печатной машинкой, шкаф с книгами и молитвенно трудиться во славу Божию в тишине, о чем он так давно мечтал.
Несмотря на то, что отец Григорий уже не служил в Свято-Духовском храме, народ к нему шел нескончаемым потоком. Батюшка и матушка, если не были в поездке, не успевали принимать, провожать и вновь встречать посетителей, которым отец Григорий никогда не отказывал в общении. Как тут выбрать время для духовных трудов, зовущих к бумаге? Ритм жизни — как всегда: все сжато по минутам. Более того, размечено наперед — по часам, по минутам. Вот почему становятся особенно понятными его записи в дневнике о ценности времени, о значении каждого дня, часа и минуты.
Он трудился постоянно. Трудился дома, в поездках. Трудился в те дни, когда не было служб, и в те дни, когда между службами у него были свободными всего несколько часов. Приезжая на новый приход и понимая, что это временный переезд, тем не менее он не мог не включиться в благоустройство вверенного ему храма. Это дом Божий, и этим все сказано; в нем должны быть чистота, уют и порядок — не важно, кто тут сегодня настоятель и на какое время. И на новом месте к нему тоже идут люди — каждый со своей бедой и заботой. Идут за советом, молитвой. Это овцы вверенного ему словесного стада, и он должен помогать их духовному росту именно сейчас и именно здесь. А на то, чтобы обдумать и реализовать творческие мысли, есть и ночь, и раннее утро…
Иногда он трудился даже в автобусе, кое-как примостив на коленях тетрадку. Переезд на приход занимает два-три часа, зачем же терять так много «золотого» времени? Так, в архиве батюшки, например, сохранились несколько тетрадей с переписанной в них работой архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) «Дух, душа, тело». Отец Григорий несколько раз перепечатывал эту книгу на своей машинке дома, но тем не менее снова переписал ее, теперь вручную, удерживая школьную тетрадку в клеточку на своих коленях по дороге в один из сельских приходов. Даже подписал в тетрадке: «Писано по дороге…».
Ну, а уж дома, в Смолино… трудно сказать, когда он спал. В 12 часов ночи он был еще на молитве, а в 5 утра — уже на молитве в своей любимой холодной комнатке. Батюшка вставал до 5 утра и первым делом растапливал в доме печь, заботясь, чтобы до того, как проснется Нинонька, в комнате было тепло. Постоянное внимание и заботу о матушке отец Григорий пронес через всю жизнь. Он словно стремился компенсировать ей свое шестнадцатилетнее отсутствие и те тяготы, которые упали на ее хрупкие плечи. Более любимого и дорогого, чем матушка Нина, у него не было человека.
Утренние часы, еще ранние для посетителей, были бесценны. Истина — плод тишины. Именно в холодной комнатке, вероятно, были написаны одни из самых глубоких и серьезных работ отца Григория — богословские труды по апологетике.
Надев на ноги валенки и накинув на подрясник зимнее пальто или куртку, он уходил в свой мир, скрытый от человеческого взора, плотно закрыв за собой дверь. Беспокоить его в это время было нежелательно — только по великой необходимости.
Как была построена его творческая работа, трудно сказать. Но по обгоревшим свечам, по раскрытым богослужебным книгам было понятно, что работа и молитва у него чередовались или плавно перетекали одна в другую. Вот откуда такая глубина мыслей в его трудах. Он постоянно пребывал в Боге. Он и в мыслях ни на минуту не разлучался с Ним.
Какая намоленная, бесценная была для него эта маленькая холодная комнатка! Как храм!
Добавим еще несколько штрихов к описанию быта и милых привычек батюшки и матушки.
Отец Григорий очень любил оформлять подарки для родных или друзей — красиво, нарядно завернуть, подписать праздничную открытку. И вообще он любил… канцелярские принадлежности: ручки, блокнотики, фломастеры, разные держатели, скрепки, какие-то папки для бумаг, тетради.
Когда батюшка готовил кому-то подарок, то обычно печатал на отдельных листах выдержки из наставлений святых отцов или духовные рассказы. Он очень любил живые цветы, но при оформлении тетрадок ему почему-то нравилось вырезать из поздравительных открыток картинки с цветами и наклеивать их на обложках сшитых книжек. Ему казалось, что это достойное украшение его трудов. «Лилии полевые» он украшал лилиями бумажными.
Эту часть подарка он называл «духовная крупица» или «духовная пища». Вторая часть подарка была материальной. В нее входили или комплект постельного белья, или ткань, или что-то из одежды (кому что нужнее). Матушка, когда у нее здоровье было получше, всегда ходила и покупала такие подарки по поручению батюшки. Вечерком они собирались и вместе составляли общий подарок, укладывая все так, чтобы было красиво! К этому процессу они подходили творчески.
«Духовные крупицы» — печатные листы — нужно было сначала сшить. Кто-то сделал им маленький переплетный станок — так матушка научилась переплетать. Но иногда батюшка просто сшивал листы руками. Рядом с печатной машинкой у него всегда лежали толстые нитки типа ириса (почему-то желтые), толстая игла и шило. И вот, напечатав новую книжку, он начинал красиво сшивать. Что-то было в этом такое удивительно милое, немножко детское…
Не всегда в Кургане можно было купить новую ленту для пишущей машинки, а у него она быстро расходовалась при такой интенсивной работе. И вот надо печатать, а ленты нет. Старые — совсем бледные, уже не видно ничего, когда печатаешь. Отец Григорий начинает изобретать: берется сажа с внутренней стороны печной дверки, растительное масло. Сажа разводится, растирается на основе масла в специальную пасту. Но самая грязная часть работы впереди. Старую ленту надо пропитать пастой, покрыть ею всю рабочую поверхность, а затем вывесить просыхать. Руки после этого — трудно описать! Батюшка моет, моет их, но под ногтями паста так сильно застряла, что ничем невозможно вычистить.
— Папа, опять у тебя полоска сажи под ногтями, люди подумают, что ты такой неряха.
— Ну что я сделаю, Леленька! Уж я и щеткой, а она все равно…
Как ребенок!
Самое интересное, что если ему удавалось правильно подобрать пропорцию сажи и масла, то потом такими самодельными лентами можно было еще долго работать. Правда, печатные странички немного пачкали друг друга, но самое главное, что можно было работать дальше. Такая неприхотливость, видимо, выработалась у него в условиях северной жизни, где он привык ко многим лишениям — всегда надо было что-то придумывать и изобретать самому.
Описывая быт и трогательное, романтическое отношение отца Григория к матушке Нине, надо отметить, что в жизни отец Григорий был реалистом, прошедшим суровую жизненную школу. Если, к примеру, сегодня привезли дрова, то их надо немедленно напилить и наколоть. Подходит осень или весна — надо вскопать и засадить огород, а потом собрать урожай — в основном картошку. Конечно, духовные чада батюшки и просто православные люди, любившие их с матушкой, стремились облегчить этот труд. Но порой не успевали! Придут, а отец Григорий уже вскопал (весной), окучил (летом) и выкопал (осенью).
Когда он успел?
Вспоминает иеромонах Симон (Глущенко):
«Один раз я и родственник отца Григория Александр Шумаков чистили у батюшки колодец. Вытащили из него большую кучу мокрого песка и глины. Кто чистил колодцы, знает, какая это тяжелая, мокрая масса.
Через два дня я пришел к батюшке и не обнаружил этой большой кучи земли. На мой недоуменный вопрос батюшка ответил, что с Божией помощью он все вывез на тележке. Куда вывез он этот грунт, так и осталось загадкой. Ни в огороде, ни вблизи дома глины не было.
Как-то батюшке привезли машину угля и высыпали около ворот, пообещав на следующий день перетаскать уголь во двор. Когда же вечером я привез батюшке воду, то застал его за работой. Не сразу батюшка согласился на предложение помочь ему, но потом благословил меня. Я взял его тележку, а он стал грузить в нее уголь, и делал это так быстро, что я сильно запыхался, перевозя уголь во двор. Меня поразила его сноровка, а ведь ему было уже за 80 лет. Тут проявилась, видимо, суровая школа северных лагерей».
Он все успевал. Занимался текущим ремонтом дома — то покрасит что-то, то подправит. Конечно, в каком-то большом и серьезном деле ему помогали люди. Сколько сил на новый смолинский дом положил Николай Сергеевич Костин — главный строительный консультант отца Григория и его помощник (после ухода из жизни бывшего старосты храма Василия Александровича)!
При всей невероятной занятости и бесконечных делах батюшка оставался очень жизнерадостным человеком, любил пошутить. Конечно, пошутить он мог, когда дома были только свои. Мария Константиновна и Александра Ивановна (духовные чада батюшки, приезжавшие к нему из Нижнего Тагила) входили в число «своих», и их он иногда даже вовлекал в свои безобидные розыгрыши.
…За чаем идет мирная беседа обо всем. Вдруг глаза у батюшки становятся такие сияющие, веселые. Лицо серьезное, а глаза смеются. В усах тоже где-то прячется улыбка. Ясно. Батюшка что-то затевает. Так, по мелочи.
— Ниночка! Что-то я не пойму, у нас какие-то пятна на шторе…
Или:
— Нинонька! Там кто-то у наших ворот стоит…
Импровизирует, говорит первое, что пришло в голову.
Матушка отрывается от своей чашки чая и поворачивается к окну… Смотрит. Никого нет.
Поворачивается к столу — перед ней лежит первый, может быть, в этом году молоденький помидор, которым его угостили в церкви, или оригинальная вафелька, или конфетка. А то прямо в чашке с чаем оказывается маленький сухарик или кусочек каралечки со стола.
Батюшка сидит с мечтательно-отсутствующим выражением. Глаза смеются.
— Ох, Гришенька, Гришенька! Опять ты меня разыгрываешь!
Милые мои родители! И шутки-то у них какие добрые и безобидные!
Отсутствие воды около дома было большим неудобством. Конечно, и тут люди не оставляли батюшку. Постоянно носили воду. Но что такое два ведра воды в доме, пусть даже у пожилых людей? Это постоянное ограничение в хозяйственных делах, а уж полить что-то в огороде — просто невозможно. И вот через несколько лет после переезда отца Григория и матушки Нины в купленный ими домик батюшка решил, что надо выкопать колодец на огородном участке. Начал обстоятельно, по-шахтерски, но без привлечения какой-либо техники, рыть колодец.
Вот где начались мамины страдания! А вдруг он надсадится, копая и перетаскивая такие объемы земли! Вдруг на него сорвется земляной пласт или прорвется вода, а он не успеет выбраться наверх! И еще тысячи всяких ужасных «вдруг» пугали ее любящее сердце.
Неизвестно, почему они не обратились в соответствующие организации… Наверное, сказалось «северное воспитание» на кирке и лопате… Но факт остается фактом — батюшка, посоветовавшись с кем-то знающим и помолясь, выбрал место под колодец и обстоятельно и планомерно, день за днем стал выкапывать определенное количество грунта, все более углубляясь вниз. Скорее всего, у него был свой внутренний план, а именно график количества вынутых кубов земли за день.
Все, кто ни появлялся у них, стремились вложить хоть какую-то часть своих сил в этот огромный труд. Землю отец Григорий нагребал в какую-то емкость, потом ее на веревке вытягивали наверх и уносили, частично на чердак дома, так как дом со стороны крыши тоже требовал утепления.
Труд был тяжелейший. Отец Григорий вылезал из углубляющейся ямы совершенно взмокший: и тяжело, и тесно, и душно, да и силы теперь не те, что были…
Углубился он уже довольно далеко, но до водоносного слоя никак добраться не мог. Наконец после долгих трудов и на достаточно большой глубине показалась вода и начала заполнять колодец. Но, очевидно, до настоящей водяной жилы он так и не добрался, уступив матушкинам уговорам. Она вся извелась от волнения, пока батюшка рыл колодец, почти перестала спать и есть. И отец Григорий, обеспокоенный ее заботами, отступил, считая, что здоровье Ниноньки важнее задуманной им цели. Тем более что вода в этом колодце оказалась удивительно невкусная, жесткая и для питья непригодная. За сутки ее набиралось не так уж и мало, так что можно было ее использовать по хозяйству и даже что-то поливать. В колодец поставили вытяжной вал, опустили трос с ведром, и какие-то функции колодец все же выполнял, но не в задуманном ранее объеме.
Питьевую воду им до конца их дней приносили из церковного колодца добрые люди.
Колодец же батюшка считал одной из своих строительных неудач и постепенно утратил к нему интерес. Он говорил, что если можно достать несколько ведер хозяйственной воды, то и за это слава Богу! «Меньше утруждать людей своими проблемами», — говорил отец Григорий, и это была их с матушкой жизненная позиция до самого последнего дня.
Продолжая мысль, вынесенную в заглавие этой части книги, вспомним еще раз слова Спасителя:
«Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем» (2 Кор.4:8-9).
Так жили отец Григорий и матушка Нина. Они были гонимы людьми, но не были оставлены Богом.
Матушка Нина
Добродетельная жена — венец для мужа своего; цена ее выше жемчугов.
Притч. 12, 4; 31, 10
Немного о семье…
Нина была третьим ребенком в благочестивой семье протоиерея Сергия Увицкого и матушки Павлы Ивановны. Все дети в этой семье были удивительно музыкальны. Несмотря на то, что никто из них профессиональным музыкантом не стал, каждый был по-своему ярко одарен в музыкальном отношении и чем-то проявил себя в музыке. Это, вероятно, они унаследовали от родителей: сам отец Сергий играл на скрипке, Павла Ивановна имела приятного тембра довольно крепкое сопрано, играла на фортепиано и смолоду пела и солировала в церковном хоре.
Старший брат Нины Михаил окончил музыкальное училище и, став позднее инженером, занятия музыкой никогда не оставлял. Сестра Ольга имела сильный, красивый голос, и только трудности послереволюционных лет не дали состояться ей как певице. Младший брат Николай довольно успешно занимался композицией. Писал музыку для фортепиано, вокала и хора, в том числе и духовную хоровую музыку. Некоторые его произведения исполняются и сейчас.
Нина, в сравнении со старшей сестрой, имела более скромный голос, но обладала необыкновенной музыкальностью, абсолютным слухом и навсегда сохранила тягу к хоровому пению. Бывая еще ребенком на богослужениях в храме, она заливалась слезами от духовных песнопений Турчанинова, Гречанинова, Чайковского и Рахманинова. Вместе с сестрой они с раннего детства пели в церковном хоре, которым управляла их мама — матушка Павла Ивановна.
Забегая вперед, добавлю еще один фрагмент из последнего года маминой жизни. Матушка Нина тогда сильно болела — у нее нарушился сон. Просыпаясь в два-три часа ночи, она больше не могла заснуть… «Вот проснусь, — говорила она, — а время как остановилось… Мучение. Тогда я начинаю мысленно пропевать, одновременно управляя хором, то “Литургию” Чайковского, то “Всенощную” Рахманинова — от первой ноты до последней. И так до рассвета».
…Жизнь складывалась сложно. Детям священников не давали учиться в школе. Все они получали домашнее образование и сдавали экзамены экстерном. Отец Сергий в 30-х годах подвергся репрессии, и думать о продолжении образования детей было бесполезно. Надо было выживать. Сестры, Нина и Ольга, окончили курсы бухгалтеров и устроились работать. Братья, Николай и Михаил, работая где только возможно, заочно окончили машиностроительный техникум, а позднее и политехнический институт, став инженерами.
Первые уроки
Шел 1932 год. Семью Увицких разбросало кого куда. Самое страшное и тяжелое, что опять, уже который раз, арестовали отца Сергия, и на сей раз ощущение было такое, что ему не вырваться из этого ада.
Матушка Павла Ивановна, то одна, то с младшим сыном Николаем ездившая на свидания к отцу Сергию и в прежние его аресты, в этот раз вернулась с Беломорканала совершенно подавленная. Даже хуже — она была как неживая. Эта мужественная женщина, так много пережившая и всегда с терпением принимавшая удары судьбы, на этот раз сломалась. Душу ее накрыл беспросветный мрак. На ее лице, вмиг постаревшем и осунувшемся, остались одни глаза, но в них лучше было не смотреть — смертельная тоска, боль и какая-то растерянность. Она рассказала детям, как прошла ее встреча с отцом Сергием.
— Вряд ли он выживет, — говорила Павла Ивановна, — настолько плох.
Опухший, совершенно седой человек, он еле передвигал ноги. Не исключено, что его били.
Это было их последнее свидание.
Понимая, как нужна детям мать, она старалась справиться с собой. А жизнь требовала свое. Семья должна была выживать, чем-то питаться, зарабатывая себе на жизнь. Дочери Ольга и Нина, которые, казалось, в поисках работы обошли все учреждения в городе, получали отказ, как только кадровики знакомились с их анкетами: «дети священнослужителя», «отец репрессирован». То же самое происходило и с младшим сыном Николаем. Он перебивался временными работами, не имея возможности учиться. Немногим лучше обстояло дело у старшего — Михаила. К этому времени у него была своя семья. Вместе с женой Галиной он работал в музыкальной школе в Новороссийске, и, видимо, сведения об аресте отца туда не дошли. Они ждали пополнения в семействе, но даже такая радостная весть не могла вывести Павлу Ивановну из депрессивного состояния.
Наконец сестрам все же удалось окончить бухгалтерские курсы. Ольга еще оставалась в Нижнем Тагиле с мамой, а Нина впервые уехала одна, найдя работу счетовода в небольшом рабочем поселке при Верх-Нейвинском заводе. И вот она одна среди чужих людей. Народ казался ей суровым и неприветливым. Однако Нина была рада, что сможет хотя бы немного заработать, чтобы помочь родным. «На работе прилежна, старательна, усидчива; выполняет все поручения…» — характеристика Нины Увицкой с места работы.
Появилась и новая подруга Зина, ласковая и приветливая, непохожая на других. Она работала вместе с Ниной в заводской бухгалтерии и все время стремилась вовлечь ее в орбиту интересов своей жизни.
На дворе сентябрь. Становится холоднее. Дожди уже не ливневые — веселые, летние, — а мелкие, моросящие. Уральская осень торопится. Вернувшись с работы на свою временную квартиру (комнатку в маленьком домике), Нина увидела на столе письмо со знакомым почерком. Из Новороссийска, от брата Миши. Она с беспокойством вскрыла конверт. Что там? Как дела у Гали, которая вот-вот будет мамой?..
Оказалось, что совсем недавно у Нины появился племянник Коля. Теперь она «тетя Нина», как писал брат. Нина представила себе это маленькое существо, которое пока не знает, сколько горя и скорбей понесли его родные, и волна нежной ласки затопила ее женское сердце.
Забежала Зина, отвлекая ее от теплых мыслей. Сама не зная почему, Нина убрала письмо, ничего не рассказав о семейной радости. Никого не хотелось впускать в свой домашний мир, такой родной, но такой истерзанный. Зина, ничего не заметив, весело болтала о чем-то своем. Она уговаривала Ниночку пойти к себе:
— Пойдем. Ну что за охота сидеть одной? Ко мне придут наши девчата. Посидим, попьем чаю со свежим вареньем, послушаем пластинки.
Уговорила. Девушки — все знакомые. Только одну из них Нина видела впервые. Она приехала к кому-то в гости. С пронзительным и каким-то тяжелым взглядом темных глаз, она была довольно красива, но одновременно развязна и цинична. Искрина, так звали незнакомку, сразу не понравилась Нине. Очевидно, взаимно. Весь вечер та язвила и подсмеивалась над ней. Видя, что Нину коробят грязные слова, Искрина с особым удовольствием рассказывала неприличные анекдоты.
Но что случилось с девчатами? Их просто не узнать. Попав под влияние гостьи, они преобразились, так же кривлялись и сквернословили, пытаясь подражать ей.
— Давайте гадать! На блюдечке! — предложила Искрина.
— Да что ты, ведь гадают только на Святках… — раздались голоса девчат.
— Глупости. Гадают круглый год, у нас получится, ведь я — хороший «проводник»…
— Кого проводник? — неожиданно для себя выпалила Нина.
— А то сама не знаешь? Святоша!
— Да будет вам, — вмешалась Зина. — Ну, гадать так гадать.
Нина резко встала.
— Я пойду. Не могу этого терпеть, ведь это же очень страшно.
Она хотела добавить: «И грех большой…» — но потом подумала: «Все равно не поймут».
Искрина, недобро усмехаясь, подошла к Нине.
— Так ты говоришь, что у нас не получится?
Нина подумала: «До чего противная и въедливая, и есть в ней что-то бесовское…».
— Да. Не получится. Сидите, ерунду городите. Покойников каких-то вызываете, фараона египетского… А на самом деле каждая из вас блюдечко подталкивает — какие хотите, такие и выкручиваете ответы. Ерунда все это, я пошла.
И уйти бы ей, но тут Искрина прямо взвилась:
— Нет уж! Ты погоди. Ишь ты, хочешь быть умнее всех. Мы и без фараона египетского обойдемся. Ох, как я тебя сейчас посрамлю.
— Да что ты можешь?
— Я тебе докажу, что блюдце никто не толкает, оно само ходить будет и через того, кто умеет, — нажала она голосом, — правду скажет. А ты, — она стала подыскивать слово пообиднее, побольнее, — просто не-ве-жест-вен-ная!
— Невежественная? — Нина чуть не задохнулась от обиды.
— Девочки, — захлопотала опять Зина, — и охота вам ссориться?
Однако Искрина, вцепившись в Нину и удерживая ее, громко заявила:
— Иди на кухню. Загадай любое имя и фамилию. Сиди и жди. А мы вызовем духа. Может, даже и фараона, — прибавила она, бледнея от злости. — Напиши имя на бумаге и держи в кармане, а дух нам «скажет», кого ты загадала. Идет? Свя-то-ша!
Обида захлестнула. Внутри у Нины все клокотало от наглой настойчивости и попыток оскорбить ее. «Если сейчас уйти, — подумала Нина, — девчата скажут, что я испугалась, а Искрина права. Все как-то гадко и неприятно».
«Ну ладно, — решила она. — Все равно будут перебирать знакомых парней с завода. А я напишу такое имя, о котором никто в Верх-Нейвинске не знает. Никто». Она села за кухонный стол и, нервничая, написала на клочке бумаги имя, отчество и фамилию своего новорожденного племянника, о существовании которого она сама узнала только несколько часов назад. «Надо поставить на место эту ворожейку…»
Из-за закрытых дверей комнаты доносились беззаботные смешки наивных девчат и грубые окрики Искрины. Стало тихо.
«Блюдечко толкают. Ну-ну, — едко подумала Нина. — Сейчас ты у меня получишь!»
За дверями стало еще тише, и в напряженной тишине кто-то выдохнул: «Само… Вот это да! Действительно, само…».
Через несколько минут в комнате раздался вздох разочарования. Все ждали знакомое имя. Можно было бы посмеяться и поязвить над зазнавшейся, как им казалось, Ниночкой, но результат ворожбы вызвал у простодушных заводских девчат недоумение…
Дверь в кухне распахнулась, и на пороге появилась Искрина. Глаза ее недобро сверкали. Казалось, что она видела в этой ситуации что-то важное лично для себя. Вся она была налита силой и энергией, от которой Нине хотелось бежать.
Девчонки замерли, чувствуя недоброе. Задуманная шутка давно перешла во что-то странное, непонятное им, злобно висевшее в воздухе…
— Ну, святоша, заходи, — надменно сказала Искрина. — Слушай: Николай Михайлович Увицкий. Родился 24 августа 1932 года, — она захохотала и тут же съязвила: — Привет «тете».
Как Ниночка не потерялась от потрясения, страха и чувства глубокого омерзения? Она молча бросила на стол свою записку с именем племянника и, выбегая на улицу, крикнула:
— Да уходите вы все! Неужели не понятно, кто она!
Вслед ей прозвучал демонический смех, эхом отраженный в сенях и во дворе. Она бежала по темным улицам поселка. Ей казалось, что за ней гонится целая стая нечисти, а в ушах продолжал звучать грубый, надменный хохот Искрины: «Свя-то-ша!».
Нина не спала всю ночь. Ей казалось, что кто-то стучит в окно или скребется в углу за хозяйскими сундуками. На миг забывшись, она вздрагивала от звучащего внутри голоса: «Свя-то-ша!».
Она молилась, пила крещенскую воду и снова молилась, прося прощения у Господа за то, что, чувствуя острую неприязнь к демонической гостье, сразу не ушла, боясь обидеть Зину. И самолюбие, наверное, взыграло. Да и перед девчатами неловко.
Она еле дождалась утра. Забежав на работу, Нина отпросилась на полдня… Недалеко по тагильскому тракту — село, где был действующий храм. Большой, красивый, стоящий на горе, он даже при подходе к нему вызывал светлое чувство и радость. Нина не раз бывала там и на всенощной, и на Литургии. Знала батюшку. К нему она и устремилась, чтобы исповедовать грех, в сети которого она, сама не понимая как, попала.
Под спасительными сводами храма сердце ее стало постепенно успокаиваться, ведь вокруг привычная с детства умиротворяющая тишина, лики святых. Батюшка издали заметил появившуюся в непривычное время Нину. Вид у нее был потерянный. Покаявшись, она преклонила колена перед Распятием и Святым Евангелием и обрела желанный покой.
Старенький священник, который знал всю семью Увицких, очень сокрушался по поводу ареста отца Сергия, сам со дня на день ожидая подобной участи. Батюшка пожурил ее:
— Вот видишь, Ниночка! Демон, как лев рыкающий, ищет себе жертву. Он и в образе молодой девицы может явиться, действуя через нее… Не огорчайся. Успокойся и впредь внимательней выбирай, с кем общаться. Учись резко обрывать все разговоры, насторожившие тебя. Молись. Господь милостив! В воскресенье причастись Святых Христовых Тайн. Иди с Богом, а я помолюсь за твоих родных. Дай, Господи, вам сил и здоровья.
В Верх-Нейвинск Ниночка вернулась спокойной. Душа ее, столкнувшись с реальной злобной силой, получила серьезный урок. Чистая, доверчивая юность растаяла в ней навсегда. Знала бы она тогда, что это лишь первые уроки. Сколько натисков страшной силы, облеченной в разные образы, ей предстоит еще пережить. Но она твердо помнила, что если Господь не допустит, то ни один волосок не упадет с ее головы. Так всегда говорил ее папа — протоиерей Сергий Увицкий. Надо только всегда с верой обращаться к Господу и уповать на Его помощь.
«На Пихтовке»
До начала Великой Отечественной войны наша семья, то есть бабушка Павла Ивановна, я, мама, ее сестра Ольга и брат Николай жили в Нижнем Тагиле на частной квартире. Дяде Коле, к тому времени работавшему в отделе главного механика «Уралвагонзавода», предложили переселиться в небольшой городок километрах в семи от завода, именуемый Пихтовкой.
В поселке стояло около тридцати одноэтажных коттеджей, построенных в конце 30-х годов по немецкому проекту и рассчитанных на двух хозяев. В изумительно красивом месте, под пихтовой горой, стояли улицей эти уютные дома.
В каждой половине дома было по четыре комнаты, большая кухня с отдельной дверью на улицу, застекленная веранда, выходящая в небольшой садик. Вдоль домов прямо с завода провели асфальтированную дорогу, ходил рейсовый автобус. При въезде в Пихтовку стояла автономная котельная, дающая тепло всему мини-городку. Население поселка составляли семьи инженерно-технических работников завода.
Весь городок утопал в густом пихтовом лесу. Целительные ароматы «пихтача» наполняли все вокруг. Вдоль неширокой асфальтированной дороги пролегала специальная дорожка для велосипедистов, поодаль которой стояли заросли шиповника и проходила кромка леса. Открытая веранда и палисадник дома вели на улицу маленького городка, а с черного хода кухни можно было выйти прямо в лес и собирать грибы и ягоды, растущие здесь в изобилии.
Мои первые детские воспоминания хранят образ огромной красавицы березы, растущей у порога кухни, в тени которой мы с мамой часто отдыхали. С другой стороны дома, через дорогу — фонтан в виде большого цветка, вытесанного из камня. Он стоял на цветущей поляне среди зарослей шиповника, окруженный огромными синеватыми лапчатыми пихтами.
Для нашей семьи, скитавшейся по частным квартирам Нижнего Тагила, дом «на Пихтовке» (местн., разг. — авт.) был неожиданным чудом. Бабушка, которая очень любила цветы, насажала в гипсовые вазоны и причудливые подставки, сооруженные на открытой веранде дома, душистый табак, настурцию, левкои и флоксы. В палисаднике у нас росли розы разных сортов и нежные лилии. Вечерами мы наслаждались этими цветочными ароматами, перемешанными с лесным воздухом.
* * *
Собираясь вместе, мы слушали поселившегося в кустарнике у нашего дома соловья. Помню, как всех напугала летучая мышь, внезапно свалившаяся на белое платье тети Лели. А какой невероятно большой и таинственно-далекой казалась ночная луна, в отблеске которой розовые кусты отбрасывали длинные, призрачные тени! В них что-то шелестело и стрекотало. Свою нотку нежного аромата в этот сказочный мир вливали лесные ландыши, растущие прямо у фонтана через дорогу.
Наверное, эти тихие минуты, наполненные радостью общения с природой, даны были нашей семье как передышка перед предстоящими тяготами голодного военного тыла.
В двух соседних комнатах нашего дома жила семья репрессированного священника Леонида Коровина.
Война нас застала уже на Пихтовке. Голод, нищета и лишения подкрадывались постепенно. Сначала с перебоями стал ходить рейсовый автобус до поселка, затем появились длинные очереди в магазине… В разговоре взрослых часто мелькало слово «карточка», которое врезалось в мою детскую память особенно остро.
С питанием становилось все хуже и хуже. Женщины, собираясь группами по пять-семь человек, отправлялись в деревни, чтобы поменять что-то из одежды на муку, крупу или картошку. Продукты проедали и снова подбирали одежду, уже на следующий обмен.
Мама тоже включилась в эти изнурительные походы и ни свет ни заря уезжала, чтобы успеть вернуться в тот же день. Она работала в то время швеей-надомницей и дневные отлучки за продуктами покрывала ночной работой. Продукты приходилось нести на себе, и это очень подорвало ее здоровье: она получила грыжу и потом всю жизнь страдала от мучительных болей.
Голод нарастал. Скоро менять уже было нечего, да и в деревне все оскудело, а продуктов по карточкам давали все меньше и меньше… Выстаивая многочасовые очереди, бабушка, пряча глаза, приносила все меньше хлеба. Жить в городке становилось сложнее. Жители Пихтовки часто вынуждены были возвращаться с завода пешком, а иногда вообще не могли добраться до дома.
Вскоре для танков, которые начал выпускать «Уралвагонзавод», потребовались испытательные полигоны. По распоряжению завода все неработающее население поселка, кроме детей и дряхлых стариков, было отправлено на раскорчевку леса. Мама тоже попала на эту работу. Кругом — вековые хвойные леса. Деревья пилили и вывозили специально обученные бригады. На огромных оголившихся площадях оставались крепкие пни поваленных лесных кедров, которые и должны были раскорчевывать небольшая кучка женщин да несколько престарелых мужчин. Пни, разросшиеся на несколько метров в ширину, увозили, площадь выравнивали и превращали в полигон для испытания новой техники.
Даже для крепкого, здорового мужчины раскорчевка леса вручную — это непосильно тяжелый труд. Что же говорить о постоянно недоедающих женщинах, работающих каелками, топорами да пилами. Вечерами мама приходила чуть живая. Ни говорить, ни есть она уже не могла. Только пила воду и валилась от усталости с ног… Полежав несколько часов, она вставала и садилась за швейную машинку, чтобы выполнить и эту норму, без которой можно было лишиться продовольственной карточки. А с утра — снова на раскорчевку…
Оголилась наша Пихтовка. Раньше мне казалось, что никто не доберется в этот дремучий лес, до которого, как в сказке, три года скакать… Но сейчас, если взглянуть по обе стороны Пихтовки, можно было увидеть деревни, которые скрывались ранее за высокими кедрами, да ферму, одиноко стоящую на горизонте. Я хорошо помню свои детские впечатления того времени. Передо мной — пихтовая гора, вся покрытая одинокими пнями. Щемящее чувство утраты. Разрушился фонтан через дорогу, улетел соловей, и ухаживать за бабушкиными розами уже не было сил.
На открытых полигонах рядом с поселком стали размещаться подразделения новобранцев — молодых солдат, еще не побывавших на фронте. Зимой они так замерзали на лютом ветру, что просились погреться в наши дома. Конечно, их пускали. С голодными, не по возрасту усталыми глазами и часто отмороженными руками, они набивались в комнату. Кто-то из них (очевидно, посмелее) просил: «Мамаша, дайте, пожалуйста, горячей водички попить…». Бабушка откликалась на все их нужды. Она оттирала им замерзшие руки, смазывая их жиром, поила горячим чаем… Мама, не выдерживая, уходила плакать на кухню. Минут через двадцать командиры поднимали их и вновь уводили на предбоевую подготовку. Вытирая тряпкой натаявший от солдатских сапог снег, бабушка вздыхала: «Мучают мальчишек…». Помню, как однажды мама, думая, что я не слышу, сказала бабушке: «А сколько их не вернется домой… Совсем почти дети».
С каждым днем в коттеджах становилось все холоднее, батареи почти не грели. Руки коченели так, что мама уже не могла шить по ночам на швейной машинке. В одну из морозных ночей, когда температура на улице опустилась до тридцати градусов, батареи почти во всех домах поселка разморозились. Жить «на Пихтовке» стало невозможно. Люди начали покидать дома. Укладывая свой скарб и прощаясь друг с другом, они плакали. Так мы снова оказались в Нижнем Тагиле, где нашей семье дали две комнаты. Мне было тогда около пяти лет.
Снова в Нижнем Тагиле
При переезде в Нижний Тагил наша жизнь мало в чем изменилась. Мама по-прежнему зарабатывала иглой. Бабушка занималась хозяйством и посещала Казанскую церковь на Вые, где она управляла правым хором.
В военные годы маме было около тридцати лет. Она трудилась не покладая рук. По возможности ходила в церковь, чтобы помолиться, надеясь на чудо возвращения отца Григория из мест, откуда почти никто не возвращался.
Как, откуда брала силы жить молодая женщина, объявленная женой «врага народа» и воспитывавшая маленького ребенка? Конечно, благодаря глубочайшей вере в Бога, вложенной в нее с рождения, и надежде на Его спасительный промысел. Большую помощь ей оказывали родные — ее мама Павла Ивановна, сестра и брат. Все это дало возможность продержаться маме тяжелейших шестнадцать лет, которые вместили в себя и Отечественную войну, и послевоенные трудные, голодные годы.
Несмотря на изнуряющие хлопоты по дому, работу швеей и постоянные заботы о дочке, она находила время, чтобы петь в церковном хоре.
Мама глубоко и искренне любила классическую музыку. Она часто слушала радио, по которому в те годы транслировалось много прекрасных концертов и опер. Знала и любила матушка Нина произведения русской и зарубежной классики и, как музыковед-профессионал, могла много рассказывать о них. Но больше всего она любила хоровую музыку. Слушая исполнение хорошего хора, мама затихала, углубляясь в себя. Глаза ее увлажнялись, и она целиком погружалась в музыкальные переливы хорового многоголосья.
Матушка Нина могла бы стать профессиональным дирижером-хоровиком. Все данные к этому были: абсолютный слух, точная ориентация в структуре произведения (чисто интуитивная), хорошая музыкальная память, широкий музыкальный кругозор при ярко выраженной эмоциональности и ясный жест, что немаловажно для хормейстера. На протяжении одного-двух тактов она могла перейти голосом в любую партию: сопрано, альтов, теноров — в зависимости от того, где нужна была поддержка. Музыканты понимают, как это непросто.
Только музыка врачевала постоянно кровоточащую рану от утраты любимого человека, страха за его судьбу…
Тем временем дочка подрастала, с малых лет проявляя унаследованную способность к музыке. Матушка Нина любила вспоминать о том, как Леля, еще не умея стоять на ножках, чисто интонировала за поющими, вызывая умиление у родных и знакомых. Это приводило к мысли, что девочку надо учить музыке, развивая ее талант. Но за учебу надо платить, и матушка Нина трудилась на пределе своих сил. К этому времени она уже работала в высокоразрядном швейном ателье и была первой мастерицей по шитью мужских сорочек, так что все стремились оформить заказ именно у нее.
* * *
Всем в послевоенное время жилось нелегко. Картошка заканчивалась очень быстро. Я хорошо помню большую кастрюлю вареной картошки величиной… с копейку. По своей детской глупости я почти с ненавистью смотрела на этот «горох», который нам с бабушкой предстояло перечистить. Чистить горячую вареную картошку всегда утомительно, да еще такую мелочь. Может, ее было не так уж и много, но тогда мне казалось, что эта работа никогда не закончится.
Как умело вела себя в этом случае бабушка! Никаких приказов, устыжений. Она просто говорила: «Не хочешь — не делай. Правда, твои пальчики тоненькие, ловкие, они лучше справились бы с этой мелочью, чем мои, но, если тебе так неприятно — не мучайся. Только посиди немножко со мной». Она принималась за эту бесконечную работу и начинала рассказывать либо что-то из прочитанного, либо вспоминала события своей жизни. Она была великолепная рассказчица! Все оживало в ее воспоминаниях. Слушая бабушку, я механически беру картошечку и очищаю ее. Бабушка как бы между делом подвигает мне мисочку для очисток и бросает на мои колени старое полотенце. И вот через час-полтора готова кастрюля очищенной картошки и меня отпускают погулять во двор. Ни ссор, ни скандалов, а дело сделано…
А очистки — отдельная история. Картофельную кожуру с налипшими кусочками вареной картошки бабуля, подсолив, скатывала в шарики и — в духовку. Правда, есть их было почти невозможно. Взрослые сконфуженно давились, а бабушка решительно съедала несколько штук, но, видя, что за ней с интересом следит все семейство, отступала, начиная смеяться, и порой непонятно было, смеется она или плачет.
Еще одно тяжелейшее переживание, выпавшее на долю семьи. Старший бабушкин сын Михаил жил в то время со своей семьей в Нижнем Тагиле и работал на «Вагонке». В 1947 году, уже после войны, его столкнули с подножки трамвая. Он упал и очень ударился. Долго болел, а через год его отправили в свердловскую больницу с диагнозом «онкологическая опухоль», где он и умер. Вся наша семья тяжело пережила эту утрату, а бабушка на время потеряла память, которая вернулась к ней не сразу… Так трудно складывалась наша жизнь в Нижнем Тагиле.
Под покровом святителя Николая
«Детка наша, доченька! Поздравляем с праздником святителя Николая. Девятнадцатое — его день… Не забывай к нему прибегать. Святитель Николай — всегда во всех скорбях и нуждах наш скорый помощник! Много раз в жизни на себе испытали!! Крепись, родная…»
Из писем отца Григория и матушки Нины к дочери
Росла я довольно хилым ребенком. Вероятно, это складывалось из многих факторов. Через месяц после моего рождения у мамы начались тяжелые переживания в связи с арестом папы, что, естественно, не могло не сказаться на мне. Конечно, семья старалась дать мне все лучшее, но порой нечем было даже накормить.
Одним словом, годам к десяти (в младших классах я больше болела, чем училась) врачи нашли у меня ревматизм, ослабленные легкие на грани заболевания и нарушения лимфатической системы. Мама была в панике, потому что нужного лечения дать мне была не в силах, дорогие лекарства были для нас недосягаемы… Она только плакала и молилась, уповая на Господа. И что же? В доме, где мы жили тогда, проживала и семья главного инженера нижнетагильского рудника — муж, жена и двое ребятишек примерно моего возраста. Как ни странно, в те тяжкие военные годы люди были дружнее и, в большинстве своем, внимательнее друг к другу: часто знали трудности и проблемы окружающих и не только словами, но и делом помогали, кто чем мог. Семья главного инженера, конечно, жила много лучше, чем мы. На лето хозяйка с детьми выезжала в район рудника, в маленький поселок, стоящий в лесу, и дети имели возможность три месяца отдыхать на природе, набираясь целебных сил. Кроме того, местные поселковые жители держали коров, кур и всякую мелкую живность, поэтому для питания были доступны мясо, молоко, творог и яйца.
Узнав про мое нездоровье, жена инженера, тетя Ира, женщина милая и сердобольная, предложила маме взять меня вместе с детьми на все лето на загородную квартиру. Но для меня это было невозможно, так как я не могла прожить без мамы и дня. Именно поэтому я не прижилась в детском садике в свое время, а за год до описываемых событий летом сбежала на третий день к маме из оздоровительного детского лагеря. Словом, в младших классах я была совершенным «маминым хвостиком», и жизнь в чужой семье, хотя и на лесном воздухе и при хорошем питании, все равно не принесла бы пользы моему здоровью.
Мама, понимая, какое благо для меня жизнь в сосновом лесу, решает взять дополнительную работу и договаривается с местными жителями снять комнатку на один месяц. «Мама возьмет с собой работу, — мечтала я, — чтобы вечерами шить на ручной машинке тети Иры. А с утра и днем мы будем ходить в лес и собирать землянику, сколько хватит сил, чтобы за земляничный сезон восстановить мое здоровье». О маме я тогда, увы, не думала.
И вот мы на даче. Лечение мое было изумительно приятным. Утром мама давала мне парного молока и ягод, и мы, взяв корзинки, отправлялись в лес. Так было почти каждый день. Лес я полюбила еще со времени нашей жизни «на Пихтовке». Прошло столько лет, а я до сих пор помню ровный, умиротворяющий, как морской прибой, шум сосен, напоенный ароматом хвои и смолы. От этой лечебной воздушной ванны перехватывало дыхание. А посмотришь на траву — красно. В то лето было удивительно много земляники, даже местные жители не припоминали подобного. За два-три часа мы набирали полные корзинки этого чудного лекарства и отправлялись в свой временный дом. Мама кормила меня и заставляла поспать. Затем мы снова уходили в лес и к вечеру опять приносили полные корзинки ягод. Не меньше, чем ягоды, меня лечила и вся остальная природа.
Лето выдалось прекрасное — ночью пройдет дождь, а утро встречает тебя сиянием солнца, синевой небес, ликующим пением птиц и жемчужным сверканием еще не просохших после дождя травинок. Чтобы попасть в ближайший лесок, надо было пройти краем ржаного поля. Рожь, еще зеленая, была выше меня.
Узенькой тропочкой мы идем вдоль поля. Не видно ничего, кроме шелестящих, чуть покачивающихся колосьев. Только порой как маленький прожектор ослепит тебя сверкающая на солнце дождинка. Если зайдешь поглубже в рожь, то выйдешь оттуда вся промокшая,.. за что мне здорово попадало от мамы. Она боялась за меня, но это был такой приятный душ! А если сесть на тропинку и посидеть не шевелясь, вслушиваясь в шум колосьев, — начинало казаться, что само время, величественно «шелестя плащом» своих часов и минут, проплывает мимо тебя в вечность.
И еще — жаворонки! Кто слушал утром пение полевых жаворонков, поймет меня. Какие-то негромкие, но удивительно далеко разносящиеся посвистывания, разновысотные перекликивания, почти флейтовое пение — это он, этот малыш, купаясь в синеве небес, каждой своей песней славит природу, жизнь и своего Творца… Увидеть певуна непросто: стоишь запрокинув голову в небо, звук слышишь буквально со всех сторон, а, кроме синевы, от которой так ломит в глазах, ничего не видно. А он поет! И вдруг на мгновение блеснет на солнышке перламутровой, яркой звездочкой — и опять его нет… А песня все льется. Мне кажется, что лечить можно даже пением жаворонков.
За эти дни мы с мамой сблизились еще больше, но я никак не понимала, зачем нужно обо мне так беспокоиться. Своей болезни я не ощущала. Мама все вечера просиживала за шитьем, выполняя заказы поселковых женщин. Часто она шила просто так, видя, что человек беден. В те послевоенные годы не то что готовую одежду, но даже ткань купить было трудно.
Маму сразу полюбили в этом маленьком поселке. Добрая от природы, да и сама так много пережившая, она хорошо понимала людей, сочувствовала им и всегда посильно помогала. Она не была болтлива и советы свои давала от чистого сердца. Люди приходили к ней, чтобы поговорить, пожаловаться на свою трудную жизнь…
Узнав, что мама лечит меня земляникой, местные жители стали приносить и ягоды, и молоко… Простые женщины! Сколько, несмотря на трудности войны, сохранилось в них благородства, женского сочувствия и солидарности! Часто думаешь, куда подевалось это бескорыстное участие людей друг к другу? Ведь жили в общем-то плохо, но душевной чистоты и доброжелательности в людях было много больше, чем сейчас.
Проходили дни, похожие один на другой, но не утомляющие своим однообразием. Вот осталась уже всего одна неделя нашего пребывания в поселке. Я часто ловлю на себе внимательный, любящий и спокойный взгляд мамы. Да и я чувствую себя такой здоровой. Мы продолжаем жить в нашем режиме; я, правда, почти не могу смотреть на ягоды… Мамины новые знакомые, заходя, говорят: «Смотри-ка, Нина! Совсем ладненькая у тебя девчошка стала! И кто бы мог подумать!».
А мы все ходим по знакомым уже полянам, близлежащим лесочкам и тропинкам. Глубоко в лес мы боимся забираться, да и нет в этом необходимости. Лес, как хлебосольный хозяин, щедро угощает нас, своих гостей.
Вот и малина появилась, а маслята — уже давно. Правда, по-серьезному идти за грибами надо далеко, но нам хватает. Каждый день на опушках мы находим веселые стайки золотистых грибков, которые мама так вкусно жарит. Порой попадаются даже белые. А вот грузди надо искать в том еловом лесу, что немного подальше. Среди прошлогодней опавшей листвы, сухих трав присматриваешься к земле, а она — в бугорках. Копнешь, и… какая радость — найдешь вдруг крепкий грибок, стремящийся своей головенкой приподнять землю. К шляпке с углублением прилипла травинка мха или старый листик. Теперь смотри лучше! Все эти бугорочки — целое семейство груздей. Знай только собирай.
От лесной красоты буквально перехватывает дыхание. Вот под пологом лапчатой царственной ели укрываются на высоких стебельках ландыши, источающие тончайший аромат. Они словно светятся в синеватой тени еловых ветвей. Мною овладел охотничий азарт — сорвать, унести домой…
— Не тронь, Леленька! Ведь мы на днях уезжаем. Пусть тут живут и радуются.
— И вправду…
Но что это? У самого ствола ели, среди сухих, старых веток, лежащих на земле, стоит, слегка опираясь на них, темная, старинная храмовая икона с налипшими на нее прошлогодними иголками. Мама торопливо подходит ко мне, перелезая через лежащие ветки. Икона сильно попорчена, но на ней можно различить лик святителя Николая. Наверное, когда-то она была в металлической ризе, еще остались дырочки от гвоздиков, крепивших ее. Ризу сняли: видимо, она была серебряная; однако икона прописана вся целиком. Что же с ней было? Сняв ризу, икону унесли в лес? Хорошо, что еще в лес, могло быть много хуже. И сколько же она тут стоит? Ведь поселок недалеко. Сколько тут пробежало людей в поисках грибов, сколько глаз скользнуло, не заметив!
Мамочка бережно поднимает икону и осторожно обтирает. Лик святителя немного суровый. Основание иконы почернело и покрылось плесенью. Наверное, она провела тут не одну зиму.
Мама взволнована. Мы бережно укладываем икону на мамин головной платок. Придя в наш временный дом, еще раз обтираем ее и внимательно рассматриваем. Пострадала икона меньше, чем показалось вначале. Мама бережно обтирает ее ваткой, смоченной в крещенской воде. Решили, что обсудим с родными, оставлять ли образ себе или унести в храм. Весь вечер мама задумчива, она как бы ушла в себя.
— Ну что с тобой? — обращаюсь я к ней. — Ведь хорошо, что икону нашли мы, иначе она могла бы совсем пропасть или попала бы в чужие руки?
— Да, конечно, Леленька, — отвечает мне мама, но вывести ее из задумчивого состояния не удается.
Через пару дней мы покидаем нашу дачу. Мама тепло прощается со своими новыми знакомыми.
— Приезжайте к нам на следующее лето. Снова отдохнете, комната для вас всегда будет.
Тетя Ира протестует:
— Ну чего ты вдруг заторопилась? Дождитесь субботы, муж отвезет вас на «газике», ему все равно надо ехать в город.
Но мамочка торопится. Она договаривается, чтобы соседи забрали наши уже упакованные вещи, а сама собирается идти сегодня.
— Да ведь тут недалеко, если без груза. Не больше часа ходьбы. Мы же за месяц столько километров намотали, — смеется она.
Тепло прощаемся со всеми. Нас выходят проводить за поселок. Идти легко — хорошо укатанная дорога. Есть только одно место, которого мама побаивается. Я слышала, как она расспрашивала женщин, не опасно ли тут ходить.
Плотной стеной с двух сторон стоит густой и какой-то угрюмый еловый лес. Кажется, что дорога сдавлена им. Случись что — ничего не видно ни в ту, ни в другую сторону. И так примерно с километр. У нас только одна сумка с готовыми изделиями маминой работы и, конечно, икона. Идем бодро. Подходим к плотному участку леса; попутчиков, к сожалению, нет. Мы обе не показываем друг другу, что побаиваемся. Собственно, мама и не догадывается, что я слышала ее разговор. Но я чувствую, что она вся как-то напрягается, натягивается как струна и, тщетно стараясь говорить непринужденно, невольно понижает голос.
Некоторое время идем молча. Вскоре мама, повинуясь какому-то внутреннему порыву, неестественно оживленным голосом вдруг говорит мне:
— Мы сейчас свернем с дороги в лес. Я уверена, что в этом лесу должны быть ландыши. Ты так хотела их нарвать, помнишь? Принесешь ландыши бабуле, ей будет приятно…
Обдираясь о колючие ветки и сухие сучья, мы быстро пролезаем через плотно стоящий вдоль дороги ельник, который больно колет голые руки и ноги. Прошли сквозь живую хвойную изгородь, стоящую вдоль дороги. В самом лесу попросторнее, но тоже неуютно. Уж скорей бы кончился этот мрачный лес.
Идем лесом, но как бы вдоль дороги, когда вдруг издали до нас доносятся какие-то звуки — мужские голоса, похожие на брань; слышится шум телеги. Мы замираем в своей «засаде». Через несколько минут видим через частокол елок лошадь, запряженную в телегу. На телеге — целая компания пьяных мужиков, озвучивающих свое присутствие хохотом и нецензурщиной. Едут небыстро в сторону поселка…
Все. Проехали. Голоса постепенно замирают. И только тут я вижу, что мама давно стоит достав икону и как бы ограждает ею меня и себя. Постояв еще чуть-чуть, чувствую, как вдруг ослабели ноги, как дрожат руки. Мамочка энергично шагает по лесу, и вскоре мы вновь выходим на дорогу. Да и лес редеет. Вот и выбрались, слава Богу! Уже видна окраина города. Идти становится все легче и веселее. Я признаюсь маме, что тоже знала о ее страхе и разделяла его. Мама теплым, любящим взглядом смотрит на меня, и в нем что-то новое: «Взрослеет дочка!».
— А ландыши для бабули? — говорю я.
В нашем смехе — разрядка от пережитого напряжения.
— Пойдем, родная. Бабуля нам и без ландышей рада будет. Вон ты какая стала свеженькая и крепкая. Что, интересно, скажут врачи?
Вечером неожиданно приезжают тетя Ира с мужем. Она заплакана и взволнована. Они долго разговаривают с мамой; потом тетя Ира уходит, а мама рассказывает нам, что шайка мужиков, от которых мы укрылись в лесу, оказалась бандитской. После войны много было таких. Они приехали в поселок, зная, что днем в нем только женщины и дети. Стали врываться в дома и забирать все лучшее, избили почти до смерти заупрямившегося деда. Все ломали, крушили на своем пути. У тети Иры унесли швейную машинку. Когда все «почистили», то сели и уехали. А дед тот умирает. Вечером тетя Ира с мужем, понимая, что мы с мамой могли с ними столкнуться, в волнении поехали в город узнать, что с нами. Мамочка рассказала ей все с момента находки иконы и о том, как мы, почувствовав опасность, пересидели в «засаде»…
Тетя Ира расплакалась и сказала:
— Вот какая у нас жизнь! Ведь и мы с мужем верующие и крещеные, но разве Коле при его должности возможно это проявить? Уволят с завода, и куда мы тогда? Ты вот шьешь прекрасно, а я ничего не умею, так и живем. И в храм ходить не смеем…
Мама, не размышляя, подарила ей так неожиданно пришедшую к нам икону святителя Николая, тем более что мужа тети Иры звали Николаем.
Вот такая история. Семья эта долго дружила с нами. Тетя Ира через бабушку и маму посылала в храм деньги на свечи, подавала записки «на частички».
Что же касается моего здоровья, врачи сказали, что почти все анализы у меня прекрасные. Это казалось им невероятным.
— Наверное, все лето на юге отдыхали?
— Нет, — ответила мама. — Сосновый бор под Нижним Тагилом да земляника…
Она хотела добавить еще что-то, но не стала. Не поймут. Я, наверное, тоже не до конца понимала тогда, что такое самоотверженная материнская любовь, умноженная на веру во всесильную помощь.
Когда я переехала в Курган в 1995 году, чтобы помогать своим ослабевшим родителям, папа дал мне кусок бирюзового шелка, из которого я сделала покров для любимой маминой иконы святителя Николая из села Утятское, перед которой она обычно молилась в Свято-Духовском храме. Я вышила на ткани стеклярусом кресты, обшила нарядной тесьмой и прикрепила внизу с двух сторон по веточке искусственных ландышей. Работала долго и кропотливо. Когда все было готово, я, прежде чем отдать вышивку в храм, принесла показать ее маме, чтобы воскресить в ее памяти кусочек нашей жизни в Нижнем Тагиле.
В тот день, когда я принесла ей свою работу, мама, упав в огороде и ударившись головой, практически совсем потеряла зрение. Она видела только свет и темноту. Трогая руками вышивку и стараясь ее представить зрительно, она вдруг поняла: «Ландыши! К иконе святителя Николая? Как трогательно!». И она вспомнила строчки из стихов М. Ю. Лермонтова:
…Когда, росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой,
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой…
…Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, —
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога…
Покров унесли в храм и облачили им икону святителя Николая.
После операции матушка Нина начала видеть одним глазом, но больше ни разу, по состоянию здоровья, не смогла побывать в храме…
«Верь, мы обязательно встретимся и будем жить долго-долго…»
Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает.
Мф.19:6
Величайшая мудрость христианского брака — дать свободу тому, кого любишь, ибо земной наш брак есть подобие Брака небесного — Христа и Церкви, в основе своей имеющего полную свободу. Тайна счастья христианских супругов, как учат святые отцы, заключается в совместном исполнении воли Божией, соединяющем их души между собой и со Христом. В основе этого счастья — стремление к высшему, общему для них предмету любви, «все к себе влекущему» (ср. Ин.12:32).
Христианский брачный союз, мы знаем, имеет глубокое духовное основание. Через таинство венчания христианским супругам даруется особая благодать для воспитания детей. Сочетаясь церковным браком, двое становятся одной плотью — единым духовным организмом, несущим ответственность за себя и за будущих детей. Двое брачующихся в равной мере призываются Господом разделять общие радости и носить тяготы друг друга, поэтому «…оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть» (Быт.2:24).
Счастье и добрый порядок в супружеской жизни трудно устроить без благословения и помощи Божией, и именно об этом христианские супруги просят Господа на протяжении всей своей жизни…
* * *
Проходя по своему жизненному пути, мы переживаем различные душевные состояния: то подъем и прилив сил, то, наоборот, — уныние и отчаяние, вызванные разными скорбями, с которыми по мере сил мы боремся, обращаясь ко Господу за поддержкой и помощью.
Проходя свой тягостный (длиной в 16 лет) отрезок пути без дорогого супруга, матушка Нина претерпевала всяческие невзгоды. Особенно тяжело ей приходилось, когда все проблемы, связываясь в один клубок, наваливались почти одновременно.
В очередной раз подобная ситуация случилась где-то на одиннадцатом году разлуки с отцом Григорием. Беды и трудности, подкрадываясь постепенно, «обложили» ее буквально со всех сторон. Внезапно и серьезно занемогла мама — Павла Ивановна. Много пережившая за свою жизнь, Павла Ивановна, как говорят в народе, «выплакала все глаза», и со временем, помимо возрастной катаракты, у нее была обнаружена глаукома — опасное заболевание глаза, требующее операции. Операцию сделали, но неудачно — началось воспаление, грозящее перерасти в общий сепсис, и глаз пришлось удалить. Состояние бабушки было тяжелым, и мама глубоко переживала, видя ее страдания. Добавила тревог и моя болезнь — остротекущий бронхоаденит.
Все это, естественно, требовало дополнительных расходов. Очередная волна безденежья захлестнула нашу семью с новой силой… Одновременно подошел срок оплаты моей учебы в музыкальной школе, и мама окончательно растерялась, не зная, как ей разрешить тугой узел финансовых проблем. И надо-то срочно хотя бы тридцать рублей за школу, все остальное — чуть позже. Но деньги взять неоткуда. Она долго молилась перед иконами, обращаясь к Господу, чтобы Он не оставил нас. Дома — тишина; сестра Ольга дежурит около больной мамы в больнице, брат Николай, как всегда, занят до позднего вечера на заводе, дочка в соседней комнате делает уроки.
Помолившись, матушка достала из потаенного места заветную шкатулку со свадебным убором, который сберегла в ту ночь, когда тайком уезжала из Невьянска после ареста мужа. С замиранием сердца Нина открыла свадебную шкатулку, словно пытаясь набраться из нее каких-то чудесных сил. Аромат счастливых, незабвенных дней их венчания внезапно овеял ее, погрузив в сокровенные воспоминания. Вот она — подвенечная фата с веночком из мраморно-белых восковых цветов, а вот — букет жениха, рядом с которым — две венчальные свечи, зажженные во время таинства: одна — его, другая — ее… Обгорев во время венчания до удивления ровно (так, что невозможно отличить, какая из них — жениха, а какая — невесты), обе свечки сохранились до сего времени. В течение 61 года и 2 дней продолжали они освещать жизненный путь этой светлой четы, пока одновременно, в одну ночь, не отошли благоверные супруги ко Господу. В один день погасли два Божиих светильника, как и ровно обгорели во время венчального таинства их свечи…
Венок, фату и букет жениха Ниночке подарила тогда ее мама — Павла Ивановна, сохранившая эти дорогие ее сердцу вещи после своей свадьбы. «Как хорошо, что свадебный наряд — мамин, это так греет душу!» Да и что нового из венчальных принадлежностей можно было купить в 1936 году? Только венчальные свечи.
Матушка радостно окунулась в воспоминания — в сияющий, ликующий день их свадьбы, в благоухание самых поздних, октябрьских цветов, сенных трав и спелых яблок… Она снова почувствовала «запах» ветра, который так красиво развевал вокруг новобрачных легкий шлейф фаты, когда они выходили из храма. Фата, невесомая, как дым, то внезапно взмывала в небо, то накрывала их сзади, одновременно обнимая обоих за плечи. А вот и засохший букет из чайных роз!
Этот букет до слез растрогал в тот осенний день Ниночку. Она всегда любила розы, но время их цветения ко дню ее свадьбы уже отошло. Где же он, Гришенька, смог раздобыть эту мечту, эту сказочную красоту?..
Из заветной шкатулки веяло едва уловимым благоуханием ладана и… быть может, роз? Слезы градом покатились из глаз, и она, уставшая, измученная трудной жизнью, прикрыла их, уткнувшись на миг в свою летящую к небесам фату… Ах, как тихо, как спокойно на душе!
И вот они уже снова вместе. Они идут по лесной поляне, остановились около любимой березы, где он все сказал ей… А ангелы поют, трубят песнь ликования в их душах, которые скоро навеки сольются в неразрывное целое. Вот его синющие глаза, они с такой любовью, с такой лаской смотрят на нее. И он говорит ей:
— Моя родная, моя единственная! Потерпи, потерпи еще немного! Ты же знаешь, если Господь дает Крест, Он обязательно даст силы его нести. А пока вот все, что у меня есть. Возьми, это так нужно тебе сейчас… — и он вкладывает в ее руку три красные бумажки, свернутые трубочкой, — три десятки, тридцать рублей за музыкальную школу: — Молись, Ниночка. И я молюсь. Господь не оставит нас. Верь, мы обязательно встретимся и будем жить еще долго-долго…
Господи, как хорошо, как легко!
Да, конечно, у нее есть силы. И разве можно сравнить ее тяготы с теми, что достались ему? Вот его руки обнимают ее за шею, а тоненький голосок будит:
— Мамочка! Проснись, мамуля!
Матушка выплывает из своего сна, как из светлого ручья с кристально чистой водой. Внутренне осветленная и обновленная, она видит перед собой, на крышке заветной шкатулки, три красные десятирублевки, свернутые в трубочку… Она улыбается. Ну, конечно. Это еще продолжается ее дивный сон. Сейчас она скажет ему, что для него эти деньги гораздо важнее. Пусть он не беспокоится за нее. Она перенесет все невзгоды, и они обязательно встретятся.
Нина вновь обрела силы и уверенность в себе.
Но где? Где эти синие глаза? Где эти руки, обнимавшие ее еще секунду назад? Да вот же они, но только легкие и маленькие… И глаза его, но почему-то… детские. А голосок продолжает звенеть:
— Проснись, мамуля! Ты задремала, а я не хотела тебя беспокоить. Сейчас приходила тетя Ира, оставила тебе тридцать рублей и попросила, чтобы ты, если можешь, сшила для дяди Коли сорочку. Ему завтра к вечеру надо. У них там какое-то важное начальство приезжает. Она вот и материал оставила. Смотри, какой красивый!
Нина сидела на кровати, до конца еще не проснувшись и стараясь удержать в сознании обрывки чудесного сна. Господь непостижимым образом, через страдание, через сон вдохнул в ее душу новые силы. Более того, пусть хоть на краткий миг, но ей дана была радость свидания с любимым человеком. Она видела его так близко: какие-то новые линии морщин на его мужественном лице и незнакомые маленькие шраминки, давно уже зажившие. Она успела заметить узкую полоску незагорелой кожи в вороте его расстегнутой рубашки и самодельный крестик на тоненьком шнурке. Она могла бы даже сказать, какого цвета пуговицы на его одежде.
Все это она видела не в кино, и уж, конечно, не на фотографии. Так видят только реально. Глаза в глаза. Господь дал ей видеть это почти наяву, зная, что душевные силы ее на исходе. Он показал ей «ее» Гришеньку — теперешнего, — соединив его образ с дивным воспоминанием о дне их свадьбы. Через сон Милосердный Господь поддержал ее самым чудесным образом: кратким свиданием с любимым человеком, его утешительными словами, лаской и реальной заботой.
Господь дал ей Свою евангельскую любовь.
Он дал ей силы и дальше нести нелегкий Крест жены репрессированного человека, «врага народа».
Подавляя внезапные рыдания, рвущиеся из потрясенной души, матушка Нина на «деревянных ногах» прошла к святому углу, в благодарном порыве падая перед иконами на колени. «Просите, и дано будет вам…» (Мф.7:7).
Прозрачный, легкий шлейф фаты
И белоснежные цветы.
Мерцанье трепетное свеч,
Сиянье глаз, касанье плеч.
Ликующего сердца стук.
О, синеглазый мой супруг,
Храни тебя Господь от бед!
И сколько б ни было нам лет,
В душе любовь я сберегу.
Я бесконечно ждать смогу
Тебя из северной дали
С Надеждой,
В Вере и Любви!
Ольга Пономарева, 2004 год
Посвящается моей дорогой мамочке — матушке Нине
Из переписки отца Григория
Письмо, текст которого мы приводим ниже, отец Григорий написал молодым супругам, чтобы помочь им разобраться в сложных испытаниях, возникших на пути их супружеской жизни и взаимной любви. Он вложил в письмо весь свой духовный и жизненный опыт, говоря, как свято и бережно мы должны хранить семью, которую Господь сочетал неразлучно в жизнь вечную, так что супруги, получившие брачные венцы, — уже не двое, но одна плоть.
Батюшка подписал это письмл так же, как неизменно подписывал и все другие свои письма, — одновременно от своего имени и имени матушки Нины, не разделяя себя со своей дорогой супругой даже в этом: «Помнящие вас протоиерей Григорий и Нина Сергеевна Пономаревы».
Эти слова обращены сегодня и к нам. Они звучат в наших сердцах из глубины вечности и призывают ко взаимному уважению, привязанности и преданности друг другу, напоминая о христианской, милосердствующей любви, умеющей претерпевать и прощать, — любви созидающей, кроткой, которая никогда и никого не разлучает.
Семья — это земной союз, благословленный Богом, а семейный крест — подвиг, и поэтому отец Григорий учит нас хранить семью, как великую святыню, как истинную, непреходящую ценность, на которой созиждется и нравственное, и духовное здоровье каждого человека. И вечное счастье всего человечества.
Итак, вот текст этого письма.
«Дорогие Володя и Марина!
Давно собираюсь написать вам, поздравить вас с Новым годом с пожеланием самого лучшего в вашей жизни!
Семейная жизнь налагает на обоих большую духовную ответственность. Сколько надо трудиться, зорко следить, дабы не проникли в семью враги, которые обокрадут, похитят самое ценное в семье: это — чувство любви, уважения друг к другу.
Незаметно врывается враг под разными предлогами, сея в сердце одного из супругов раздражительность, неудовольствие, грубость… А другой не усмотрел вовремя этого хитрого натиска врага — той опасности, которая грозит распаду семьи, — и зажегся этим духом зла. И пошел раздор, ссора, которая была только на радость врагу…
Последствия плачевны — утрата душевного мира, тягость при взаимном общении и вообще охлаждение друг к другу. А надо крепко помнить, что брачный союз — это не просто сожительство. Это — подвиг, при несении которого сколько надо проявить мужества, твердости, а главное — терпения, чтобы перенести все грубости от близкого человека, союз с которым благословляется Церковью!
Не надо обвинять в раздорах только другого, но нужно себя тщательно проверить и осознать свою ошибку, допущенную в чем-то.
Нужно изучить тщательно все, что происходило и происходит при совместной жизни: все промахи, погрешности одного и другого, — усмотреть главный недостаток, породивший ссору, и со всей снисходительностью, какой требует взаимная любовь, приниматься с кротостью и терпением за исправление друг друга.
При этой весьма сложной работе требуется молитва, вера в Божественную помощь, надежда на возможность исправления, оставление того или иного злого навыка, любовь, милосердствующая к самому близкому существу, которое сделалось тяжелым в общении и даже, страшно сказать, ненавистным…
Но у Бога все возможно — последует исправление и наступит радостный час, когда вернется все от первого дня брака: уважение, привязанность и преданность друг к другу, — и настанут дни радостной, тихой, спокойной жизни, пока не откроются двери в Вечность, чтобы навсегда союз, заключенный на земле, продолжился и в пределах потустороннего мира.
Дай Бог, чтобы вы оба с большой внимательностью и чуткостью отнеслись к этим простым, сердечным пожеланиям. Пусть они будут для вас той искрой, от которой вспыхнуло бы пламя и осветило и согрело холодные души, усталые, измученные продолжительным скитанием по местам вне родного дома, — и тогда дай Бог вам обоим почувствовать глубоко, что вы дома, и можете опять продолжать свой жизненный путь, ведя за собой дорогих малюток, которые бы чувствовали всегда любовь и ласку под родительским кровом.
Храни вас Господь!
Помнящие вас протоиерей Григорий и Нина Сергеевна Пономаревы».
1/II 1983 г.
Перепечатано из архива отца Григория
«Любовь все переносит» (1 Кор.13:7)
Меня поражает одно в словах апостола Павла.
В его хвалебной песне он воcпевает то, от чего воздерживается любовь. Он начинает словами: «Любовь долготерпит» — и кончает: «Любовь все переносит».
В сущности, это почти одно и то же. Но нам, казалось бы, естественнее говорить о том, что любовь может cовершить, а не о том, что она может перенести. Отчего не воспеть ее громкие подвиги, одолеваемые ею препятствия, чудеса, которые она творит?
Но нет, апостол Павел был прав. В темном, незаметном трудовом пути заключается величие подвига, а трудовой подвиг любви есть долготерпение.
В минуту увлечения, в минуту воодушевления мы готовы на всякую жертву. Но не в чадe восторженного возбуждения найдется пробный камень любви. Истинная любовь докажет свою силу в обыденной жизни, не замеченная никем, — в горячих незримых слезах, в жертве, принесенной в уединении после жестокой душевной борьбы.
Устоит ли твоя любовь против мелких ежедневных раздражений? Устоишь ли ты, видя себя непjнятым, несправедливо осужденным? Устоишь ли, не получая ответа, встречая одно молчаливое нерасположение? Устоишь ли в полном одиночестве, отвергнутый всеми?
Если и тогда твоя любовь не умрет, то действительно она достойна хвалебной песни апостола Павла.
(Поучения из настольной книги христианина
«День за днем». Автор поучений неизвестен)
«На руках вóзьмут тя…» (Пс. 90)
Расскажу еще об одном событии, произошедшем с нами в Нижнем Тагиле. В то время я, конечно, не могла полностью осознать его в силу своего возраста и лишь много позднее поняла, что пережила мама в один из весенних вечеров, когда моя жизнь, казалось, должна была навсегда оборваться. Но, по великой милости Божией, все закончилось благополучно.
История эта снова возвращает нас к трудным, голодным годам военного времени, когда каждая семья стремилась выжить, вкладывая дополнительные усилия, чтобы обеспечить себя хотя бы минимальным запасом продуктов.
Прошло уже несколько лет, как мы переехали из замерзающей Пихтовки в Нижний Тагил, где тетя Леля получила место главного бухгалтера в Промбанке. Банк размещался в старинном купеческом особняке с надстроенным третьим этажом, где жили сотрудники организации. Там же поселилась и наша семья. Мне было тогда около семи лет.
Жилось всем нелегко. И вот руководство банка каким-то образом получило в коллективное пользование участок земли, почти за городом, чтобы люди могли вырастить для себя картошку. Добраться туда можно было на трамвае, а затем надо было идти еще несколько километров по незаселенной холмистой местности. Дорога вела к бывшей тюремной зоне, которую к тому времени перебросили в другие места. Эта земля и была отдана под огороды.
Ох, и унылое же это было место: мрачное, угрюмое, — в отличие от дороги, пролегавшей мимо зеленых холмов и оврагов. Среди придорожных кустов и неглубоких овражков скользил маленький ручеек, весело «подмигивая» на солнце. Холмы же были довольно крутые, но мягких очертаний, без кустарниковой растительности, покрытые лишь мелкой, плотной и жесткой травкой.
Площадка, отведенная под огород, — большая, с остатками разрушенных барачных строений, сломанных наблюдательных вышек, клубками ржавой колючей проволоки и прочей атрибутикой бывшей зоны. Земля тут жесткая и неподатливая. Любую целину, в сравнении с ней, можно было бы назвать пухом. Окаменелые земляные пласты серо-рыжего цвета, сцементированные временем, словно до предела напитаны болью и горечью обитавших здесь заключенных. Земля, вобравшая в себя муки и страдания узников, омертвела, наверное, от того, что когда-то здесь происходило. Лопатами и вилами тут ничего нельзя было вскопать, даже ломы отлетали от закаменевшей почвы, как от металла. Но люди были рады и этому клочку земли, и после рабочего дня, уставшие, а часто даже полуголодные и больные, они упорно «вгрызались» в нее, стараясь добраться до более мягких слоев.
В день, который я пытаюсь сейчас описать, мама, тетя Леля и дядя Коля трудились на отведенном им участке. Я, как правило, сопровождавшая их в этих поездках, крутилась где-то неподалеку. Они с большим трудом прокапывали почву, стараясь разработать хоть какую-то часть огорода. Вдруг дядя Коля, работая кайлом, как-то странно вскрикнул. К нему стали подходить люди, а он, сжавшись от напряжения, продолжал отбивать от какого-то небольшого круглого предмета куски намертво налипшей и засохшей грязи. Совершенно очевидно, что на этом участке земли ранее была выгребная яма, засыпанная и заброшенная.
Удар, еще удар. И вот, к ужасу окружающих, стали проступать очертания человеческого черепа…
Волна неподдельного страха и ропота прокатилась среди очевидцев этого страшного зрелища. Что это? Вернее, кто? Кем он был? Чем занимался? Махровый вор и убийца, с которым расправились свои же? А может, безвинный страдалец, бесчисленное множество которых заканчивало свою земную жизнь в заключении? Каково было обрести такую жуткую находку именно нашей семье?! Архимандрит Ардалион, протоиерей Сергий Увицкий — два моих дедушки — пропали в колониях, а мой папа, отец Григорий Пономарев, находился в это время на Колыме, где каждый день мог стать для него последним. И все же, видимо, не случайно именно моим родным Господь определил коснуться этой трагической тайны.
Посовещавшись, родные решили следующее: совершенно непонятно, почему останки этого страдальца оказались в выгребной яме; неизвестно даже, кто это был и за что принял такую нечеловеческую смерть, но им, как православным людям, надо похоронить его по-христиански. Ведь Господь знает все, и теперь душа усопшего получила то, что заслужила при жизни…
Уходя «на картошку», мои родные всегда брали с собой питьевую воду и маленький флакончик святой воды — мало ли что случится в дороге. Они очистили, обмыли водой оскверненные человеческие останки, завернули их в мамин головной платок. В стороне от огорода, на взгорке, где росли два единственных невысоких кустика, дядя Коля вырыл ямку поглубже, положил туда страшную находку, окропил ее святой водой. Соборно прочитали заупокойную молитву и предали останки земле. Как могли, как знали, перезахоронили по православному обычаю. Да просто по-человечески.
Тягостное ощущение не покидало. Работать на участке больше не смогли. Засобирались домой.
Тропинки на выходе из бывшей тюремной зоны резко расходились. Одна шла пóнизу, вдоль основания холмов, а другая круто забиралась наверх и вилась, как бы перекатываясь, с одного гребня холма на другой. Но шли они параллельно, только на разной высоте, и постепенно сходились к трамвайному кольцу. Мне разрешили бегать по верхней тропке: холмы совершенно пустые, без зарослей, поросшие одной травой.
Я бежала по верхней дорожке, собирая какие-то разноцветные камушки и редкие жесткие цветочки, которые мы почему-то называли «солдатиками». Перебегая с одного холма на другой, неожиданно выскочила на небольшую стайку коз, мирно пощипывающих зелень.
«Козы?! У них же рога…» — это казалось мне довольно страшным. Я — ребенок городской, да еще трусишка, но то, что я увидела дальше, повергло меня просто в ужас. Среди коз, нагло их расталкивая, прямо на меня бежал огромный черный козел — с каким-то жутким «человеческим» взглядом. Глядя на меня мутными глазами, он воинственно выставил рога — не загнутые, а почти горизонтально торчащие. Намерения его были для меня очевидны. С диким криком: «Мама!» я помчалась, не выбирая дороги, минуя хоть и не очень крутые, но все же спуски, к нижней тропе. Я летела не чувствуя под собой ног с уклона горы, набирая все бjльшую и бjльшую скорость, не в силах, да и не имея желания, остановиться.
Путь мой почему-то бессознательно направлялся к единственному на всем протяжении пути месту, где холм обрывался резко, словно срезанный ножом до самого основания. Обнажая скальные породы на высоту где-то метров пять или шесть, он выходил на нижнюю тропку. В этом месте мы обычно любовались красотой разноцветных слоев горных залежей — как слоеный пирог. Дядя Коля мне тогда объяснял, где какой минерал. Эти места были просто маленьким природным учебником геологии…
Меня несло прямо на край этого обрыва. Мне казалось, что за спиной я ощущаю хриплое дыхание страшного козлbща, который на самом деле уже давно мирно пощипывал травку там, наверху, среди своих коз.
Я даже не понимала, что выбегаю прямо на обрыв и мне уже не остановиться. Странные мысли и ощущения молниями пролетали в моей голове. Я вдруг отметила, какое нынче багровое за горизонтом солнце, а небо, превратившись из синего в фиолетовое, как-то странно вытянулось, как коридор. В ушах нарастал необычный шум, а тело все набирало и набирало скорость. Это конец…
«Господи! — подумала я. — Как необычно и страшно. Помоги мне, Господи!» И… в тот же момент одна моя нога, зацепившись за что-то, внезапно проваливается (довольно глубоко) в непонятно откуда возникшую расщелину у края холма, поросшую густой травой.
По инерции падаю вперед. Дикая боль пронзает мою ногу, но благодаря этому торможению мой смертельный спуск прекращен.
Лежу буквально на краю обрыва, и крик боли застревает у меня в горле при виде мамы, стоящей прямо подо мной на дорожке, идущей на пять-шесть метров ниже верхней тропы. Мама медленно садится на тропинку (наверное, ей отказали ноги) и не спускает с меня застывшего взгляда. Она даже не белая: синяя, вмиг почерневшая.
В это время дядя Коля и тетя Леля уже хлопочут около меня, вытаскивая мою ногу из спасительной каменной петли. Нога, конечно, вспухла снизу доверху — боль ужасная, и я, понимая, что являюсь пострадавшей стороной, оглашаю окрестности испуганным ревом.
Далее все уже складывается не так трагично. Меня донесли до трамвая, а потом домой. Перелома не оказалось, только сильное растяжение связок и небольшой вывих… Со мной все обошлось, а вот мама оказалась в тяжелом состоянии. Полмесяца она пролежала не вставая — очевидно, у нее был микроинфаркт. Она лежа молилась за мое почти невероятное спасение, благодаря Господа за Его неизреченную милость.
История эта, конечно, мистическая. Нам всем казалось тогда, что это событие — месть злых сил за пусть запоздалое, но все же православное, а значит богоугодное захоронение останков одного из несчастных узников. Наверное, это был хороший человек — возможно, даже из духовенства, кто знает?..
Спустя много лет, когда я была уже взрослой, мы с мамой как-то вспомнили это трагическое происшествие. Мама тогда сказала:
— Таких глаз у тебя, да и вообще у кого-либо, я больше никогда в жизни не видела. На лице — одни глаза, а в них, как в зеркале, отражается только небо и… ничего больше. Ничего земного… А я, — продолжала она, — видя все издали и не в силах что-то изменить, так громко кричала: «Святитель Николай! Святитель Николай!» — что у меня даже голос пропал. Правда, тетя Леля позднее рассказывала, что я стояла как вкопанная и совершенно безмолвная. Видишь, Леленька, Господь слышит наш зов, наш вопль, когда мы даже безмолвствуем. Молись, доченька, всегда Господу и святителю Николаю! Слава Богу за все!
Трудный выбор
Труды мамы не были напрасными. С музыкой у меня все обстояло благополучно. Выступления на городских концертах, выезды музыкальной школы с показом лучших учащихся в Свердловск… Так время подошло к выпускному, седьмому классу.
Помню торжественный выпускной экзамен, его принимал представитель Свердловской консерватории. После экзамена маму попросили войти в экзаменационный класс. Она долго оставалась наедине с комиссией за закрытыми дверями и вышла совершенно счастливая и одновременно испуганно-озабоченная. Комиссия посчитала необходимым рекомендовать ее дочери Ольге продолжить музыкальное образование на профессиональном уровне в музыкальном училище.
Это означало, что нам надо перебираться в Свердловск, потому что в Нижнем Тагиле была в те времена только музыкальная школа-семилетка. Ради моего образования маме необходимо было решиться на переезд в другой, незнакомый город, где не было ни жилья, ни работы, ни родных рядом. Не было ничего, кроме остро стоящего перед ней вопроса: «Что же делать?». И ответить на него могла только она. Сколько горячих молитв было вознесено к Спасителю, чтобы решиться на такой судьбоносный шаг? И Господь подал ей вразумление в виде сна. Но сон этот увидела не она, а я — ее дочь, даже не подозревавшая о глубине маминых сомнений и терзаний.
Однажды утром я рассказала ей:
— Мамочка, ты знаешь, я сегодня видела во сне нашего Господа Иисуса Христа.
Мама побледнела.
— И что было дальше?
— Как будто я сижу в комнате за роялем, и вдруг входит Он. На голове у Него венок из роз. (Есть такая детская песенка: «Был у Христа-младенца сад…». Песня «вошла» в сон в виде венка из роз.)
— Ну и что же потом? Господь тебе сказал что-нибудь?
— Да. Он дал мне ноты, свернутые в трубочку, и попросил поиграть Ему. А потом… я не помню, что было…
Как тут быть? Ведь ребенок не может придумать такое от себя. Самое интересное, что я до сих пор помню свое состояние от сна: мне тогда почему-то казалось, что это кощунство. Как я посмела видеть во сне Самого Господа? А Он еще со мной разговаривал и ноты дал. Сон я рассказывала маме почему-то с чувством вины. Мама же восприняла это иначе. После совета с родными моя бесконечно дорогая мамочка, перенапрягая в очередной раз свои силы, решилась на переезд в Свердловск. Опять поиск жилья, работы, трудности самого переезда, ведь занятия музыкой требовали не менее трех-четырех часов в день, значит, надо перевозить и инструмент…
Отрезок нашей свердловской жизни я достаточно подробно описала в главе «Встреча». Конечно, если бы не мама, вряд ли я получила бы профессиональное музыкальное образование. То, что я стала музыкантом, — ее заслуга, ее самопожертвование. И, без сомнения, — дар Создателя, вручившего мне ноты…
Пятно
Чтобы читателю лучше представить нашу с мамой жизнь в Свердловске, расскажу об одном эпизоде. Сейчас, на общем фоне нашей современной жизни, этот случай может показаться незначительным, почти пустяком, но не надо забывать, что это было начало 50-х годов, когда отрез штапеля на платье казался роскошью. Так жило подавляющее число людей.
После войны уровнем своей жизни особо выделялись семьи военных, только что вернувшихся из Европы. Их благосостояние было значительно выше, чем у других людей. Приезжая на Родину, они привозили в подарок своим родным красивые трофейные ткани, которые большинство наших женщин видело впервые.
Ателье женской одежды индивидуального пошива, где работала мама, считалось высокоразрядным. В нем принимали заказы из дорогих тканей.
В один из вечеров мама пришла домой заметно взволнованная. Взглянув на нее, я поняла — что-то произошло. А случилось следующее… Несколькими днями раньше в ателье, где работала мама, поступил заказ от жены приехавшего в отпуск военного. Для пошива платья заказчица принесла редкой красоты материал, полюбоваться которым сбежались все женщины ателье. Это был тончайший шифон жемчужно-голубого цвета с ажурными узорами из панбархата того же оттенка. По всей ткани проткана искристая нить. Ткань — мечта!
Женщины восхищались материалом, ахали и вздыхали. Заказчица, миловидная и приветливая блондинка, была непринужденно говорлива. Пока снимали мерки и обсуждали фасон, она рассказала почти всю свою биографию. Наконец обговорили срок заказа, и она ушла. Заказ определили по высшему разряду сложности и отдали в работу маме. Ответственность, конечно, большая!
Прошла первая примерка; все, казалось, было нормально. Этим заказом мама дорожила особенно, без молитвы к работе не приступала. Ткань — очень сложная для пошива, рассчитана на швейные машины совершенно другого уровня, которых в ателье просто не было. Материал то тянулся, то сжимался, собираясь вдоль золотистой нити, затянутой машинной иглой. Мама волновалась и часто мыла руки, чтобы не запачкать ткань. Она постоянно протирала швейную машину и стол, где лежали детали изделия.
В тот злополучный день с утра она приступила к обработке круглой горловины платья. Положив ткань под машину, она прошила намеченный шов и вдруг с ужасом заметила, как по линии шва расплывается жирное масляное пятно, капнувшее, очевидно, с машинной иглы. Мама вскрикнула, прижав ладони к лицу, и… словно онемела. Коллеги, зная сдержанный характер мамы, подбежали к ней и одновременно все застыли у ее рабочего места. Картина была, конечно, удручающая: по нежному жемчугу шифона на линии горловины расползлось жирное темно-бурое пятно…
Оказалось, что накануне вечером в цехе работал механик, регулируя и смазывая швейные машины, но мама об этом не знала. Она сидела как окаменевшая, понимая, что беда непоправимая — ей не только не хватит денег на новую ткань, но такую просто не найти. Все попытки вывести пятно оказались безуспешны. Пробный лоскуток затерли до дыр — зловредное пятно торжествующе оставалось на ткани.
Вечером, не помня, как закончился рабочий день, она поехала в Иоанновскую церковь, единственную действующую в то время в Свердловске. Молилась, плакала. Домой вернулась с опозданием, и по ее заплаканному виду я поняла — случилось что-то недоброе. Рассказывая об этом, она плакала, я тоже. Непоправимость беды была очевидна. Перед сном мы присоединили к вечернему правилу молитвы Пресвятой Богородице «Скоропослушница», акафист святителю Николаю и, утомленные переживаниями, уснули.
На следующий день неожиданно позвонила заказчица и сказала, что не сможет прийти за платьем в указанный срок, так как уезжает отдыхать по «горящей» путевке. Неприятные выяснения задержались на месяц.
Жизнь продолжалась. Мама со свойственной ей аккуратностью выполняла другие заказы. Платье со злополучным пятном висело в шкафу у заведующей.
Ни мама, ни ее коллеги по ателье так и не смогли ничего придумать, чтобы избавиться от пятна, которое жирным ободком охватило вырез горловины.
— Ну не плачь ты, Нина! Что-нибудь придумаем, — больше для утешения говорила заведующая.
Как мама молилась этот месяц! Каждый день после работы она ездила в храм, и даже ночью я видела ее склоненной перед иконами. Положение казалось безвыходным. «Где взять столько денег, чтобы заплатить за ткань, купленную на валюту? Какой трудный разговор предстоит с заказчицей! Как подвела я репутацию ателье…», — эти мысли измучили маму. За месяц она осунулась, похудела, тая на глазах.
Придя в один из вечеров домой, она, пытаясь, но не в силах что-то рассказать, снова начала плакать. «Ну вот, — подумала я, — теперь надо продавать пианино, больше у нас ничего нет». Но оказалось, что произошло следующее. Днем в ателье позвонила веселая и ничего не подозревающая заказчица и справилась о своем платье. Заведующая ответила, что с пошивом возникли некоторые осложнения и заказ пока не готов…
— Как хорошо, — последовал неожиданный ответ. — Мне хотелось бы изменить фасон платья и сделать вырез поглубже. Это очень сложно? Дело в том, что я не могу приехать на примерку — оформляю зарубежные документы… Пожалуйста, сделайте вырез по своему усмотрению, а я приеду уже за готовым платьем.
Это было совершенно неожиданное для всех решение безвыходной ситуации — простое и без дополнительных затрат. По горячим молитвам мамочки тяжелая неприятность разрешилась сама собой.
— Ну, Нина, тебя и вправду Господь любит, — говорили ей женщины из ателье, — просто удивительно, какое произошло чудо…
Мама быстро взялась за работу и дошила платье, которое стало еще более модным и нарядным. Молодая женщина, довольная новым фасоном, радостно поблагодарила заведующую и, не задерживаясь на примерке, забрала заказ, уехав на черном автомобиле в свою красивую, недоступную для других жизнь.
После этого случая мама несколько месяцев заказывала в церкви благодарственные молебны. Она сильно переживала все, что случилось, и очень медленно приходила в себя.
У Господа все возможно. Казалось, ситуация безвыходна, но как скоро приходит Он на помощь, когда мы с верой и надеждой полагаемся на Него!
* * *
В домашнем архиве семьи Пономаревых до сих пор хранится документ тех лет — характеристика, данная Нине Сергеевне в 50-е годы по месту ее работы в швейной мастерской № 7 города Свердловска.
Характеристика
Пономарева Нина Сергеевна, рождения 1910 г., б/п, русская, работала в швейной мастерской № 7 обллегпищепрома с 08. 09. 1951 г. по 14. 08. 1953 г. мастером по пошиву модного легкого женского платья. К работе относилась добросовестно. Производственную программу выполняла на 120%. Неоднократно была премирована. Участвовала в общественной работе мастерской.
«Жена добродетельная»
Жена добродетельная радует своего мужа и лета его исполнит миром.
Сир.26:2
Кротка жена — дар Господа, и нет цены благовоспитанной душе.
Сир.26:17
С момента возвращения отца Григория с Севера и последующего отъезда на место его назначения в город Кушву начинается следующая, скромная с виду, но наполненная новыми заботами, трудностями и волнениями страница подвижничества матушки Нины. Теперь она становится регентом кушвинского церковного хора, помощницей папе во всех его делах, хозяйкой дома священнослужителя, к которому постепенно начинают тянуться со своими радостями и печалями люди. Постоянные репетиции с хором, службы… А ведь душа болит теперь о ней, о дочке. Ей всего шестнадцать, и она одна…
Время течет, батюшку переводят в Нижний Тагил. Авторитет его растет. Растет и число страждущих, обращающихся к отцу Григорию за помощью. Теперь уже люди приезжают и останавливаются на пару дней у них дома, и всех надо принять, обогреть, всем улыбнуться. А еще и накормить, и уложить на ночлег. Для всех должна быть чистая постель. Кого-то из немощных прихожан надо и на вокзал проводить. Гости сменяются одни другими. Родители почти не бывают одни. Матушка к тому же опять несет послушание регента. Годы идут, и с ними увеличивается число духовных чад отца Григория. Помню, как на праздники им приходило по пятьдесят-шестьдесят писем с поздравлениями.
Матушка Нина Сергеевна по природе — человек сдержанный. А условия жизни, в которых она теперь оказалась, тяжелы были даже и для стопроцентного экстраверта. Контакты, постоянный прием людей, хозяйские хлопоты и общение… — непрекращающееся общение с людьми после шестнадцатилетней достаточно уединенной жизни, тишины и надомной работы швеи. Но она сказала себе: «Если идут и едут к батюшке, значит, в нем нуждаются. Я, как матушка, как самый близкий человек, должна обеспечить ему возможность общения с людьми. В этом мой долг жены священника. Долг матушки. Как бы это ни было трудно, я должна себя преодолеть и создать для батюшки и его гостей атмосферу душевного комфорта и бытовые удобства, что только в моих силах». И так всю оставшуюся жизнь. Проходили годы, и чем сильнее и опытнее духовно становился отец Григорий, тем большее число людей тянулись к ним в дом.
А с дальнейшим переездом в Курган возникли дополнительные трудности. Матушка, как всегда, несла послушание регента. На курганском приходе, в поселке Смолино, папе пришлось служить одному, поэтому во время приездов правящего архиерея матушка Нина несла двойную нагрузку: во-первых, надо на должном уровне обеспечить церковное пение, ведь архиерейские службы намного сложнее для хора и регента; во-вторых, после службы она уже не регент, а хозяйка дома, в котором Владыка, как правило, останавливался ночевать вместе с сопровождавшим его клиром. Как «добродетельная жена, исполняющая лéта своего мужа миром» (ср. Сир.26:2), она должна устроить приезжих по возможности удобно, приготовить угощение, всех накормить. Сами батюшка с матушкой ютились в этом случае в полуподвальной комнатке этого же дома, так как в те времена отдельного помещения для приема высоких гостей не было. Я помню, как мама с радостью, немного краснея, показывала мне благодарственное письмо архиепископа Климента:
«Спасибо хору и регенту Пономаревой Нине Сергеевне за прекрасное пение, очень способствующее высокому настрою всей службы. Получил настоящее, истинное музыкальное удовольствие, столь редкое теперь. + Архиепископ Климент».
Позднее, к сожалению, матушка Нина оказалась гонимой. Представить себе невозможно, как остро она переживала, когда ее отстранили от регентства в церковном хоре Свято-Духовского храма, который она создавала на протяжении многих лет, вкладывая в это свой опыт, знания, труд и талант. Оказалось, что партитуры, которыми руководствовалось на протяжении многих десятков лет не одно поколение священства Пономаревых и Увицких, «слишком сложны», даже «не нужны» и могут быть не поняты молодым поколением верующих. Ее ноты были отложены в сторону, хор постепенно переформировали, и более она уже никогда не регентствовала в Смолино.
Не нужна…
Может быть, именно в это нелегкое время она получила от родных поздравительную открытку с утешительными стихами об ангеле-хранителе.
К сожалению, стихи не подписаны.
Нас ангел спасает от злой клеветы,
От нравственных мук охраняет.
Он наши поступки и наши мечты
На пользу людей направляет.
Он бодрствует с нами, он с нами во сне,
Он с нами в пути и дороге.
Он нам помогает в житейской борьбе,
Он с нами и в мыслях о Боге!
Большое значенье имеет для нас
В крещении данное имя,
Ведь ангел-хранитель спасает всех нас
В борьбе нашей с силами злыми!
* * *
Молитвенное воздыхание ко Господу епископа Феофана Затворника матушка Нина выписала себе на отдельный листочек и всегда имела его при себе, обращаясь к молитве святого угодника Божия в трудные минуты своей жизни…
Молитва епископа Феофана Затворника
Господи, Боже Отче Вседержителю, отеческим Твоим благоутробием обыми и меня.
Господи, Боже Сыне Искупителю, Божественною Твоею Кровию окропи и меня.
Господи, Боже Душе Святый Оживотворителю, Божественною Твоею благостию оживотвори и мою умерщвленную грехами душу.
Троице Святая, единосущная и нераздельная, Боже единый вездесущий, все содержащий и все видящий, милостивым оком призри на меня, многогрешного, и ими же веси судьбами устрой мне спасение, Имени ради Твоего.
Корни наши — опора наша
Господи, сподоби Небесной славы родителей моих и близких, бодрствовавших над детской моей колыбелью, взрастивших и воспитавших меня.
Господи, прослави пред ангелами благовествовавших мне слово Спасения, учивших меня добру и правде святыми примерами своей жизни…
Акафист об упокоении усопших, икос 10
Рассказывая о жизни близких отцу Григорию и матушке Нине людей, невозможно не описать подробнее судьбы протоиерея Александра и матушки Надежды Пономаревых (родителей отца Григория), а также протоиерея Сергия и Павлы Ивановны Увицких (родителей матушки Нины).
О семье Пономаревых
Бабушка Наденька, как ласково ее называли, ассоциировалась в моем детском сознании с зеленым холмиком за алтарем невьянской кладбищенской церкви. «Тут похоронена твоя бабушка Надя», — говорила мне мама, и глаза ее становились печальнее обычного. Видя ее печаль, я тоже пыталась грустить, но маленькому детскому сердцу горечь утрат была еще неведома.
— А какой была моя бабушка?
— Доброй и нежной. Она была очень красивая.
— А почему она умерла? — спрашивала я, глядя на фотографию молодой хрупкой женщины. — Ведь она была нестарая.
— Господь, Леленька, знает, когда призвать к Себе. У бабушки было слабое здоровье. Ты уже большая девочка и должна понимать, что она не вынесла бы тех продолжительных испытаний, которые выпали на долю семьи Пономаревых. Сначала пропал без вести ее муж — твой дедушка архимандрит Ардалион, принявший после ее смерти монашеский постриг, а затем арестовали и сына — твоего папу. Господь знает силы каждого, и теперь она молится за всех нас там… И ты о ней молись.
В мае 2006 года, уже завершая работу над книгой, вместе с Кибиревой Еленой Александровной мы посетили скромную могилку бабушки Надежды на невьянском кладбище, что расположена сразу за алтарем Вознесенской церкви. Как разрослась старая береза — свидетельница тех печальных событий! Она почти заслонила собой вход в оградку, так что к могилам можно пройти только в обнимку с белоствольной.
В оградке — две могилки, над которыми стоят два железных креста одинаковой конфигурации. На кресте матушкиной могилки, немного покосившемся, стоит дата: «21 января 1933 года, 55 лет», а ниже надпись: «Вечная тебе память, дорогая мама. От скорбящих детей». На соседнем кресте почти все буквы стерты, различимо только одно слово: «Симеон…». Очевидно, здесь похоронен кто-то из родных.
Упокой, Господи, их праведные души…
Заходим в небольшую кладбищенскую церковь, не закрывавшуюся здесь даже в годы войны. Деревянный однопрестольный храм в честь Вознесения Господня построен в 1866 году из часовни. Здесь служили когда-то архимандрит Ардалион и диакон Григорий Пономаревы. Служили также репрессированные и убиенные протоиереи Григорий Лобанов и Леонид Коровин. Все они пострадали за веру в 30-х годах прошлого столетия.
В храме до сих пор хранятся те святыни, у которых молились когда-то православные исповедники — знаменитые старинные иконы невьянской школы письма. Старожилы говорят, что эти иконы постепенно обновляются и даже мироточат.
А вот и старинная купель, в которой в октябре 1937 года крестили новорожденную Лелю Пономареву.
Очень мало сведений осталось и о протоиерее Александре (архимандрите Ардалионе). Известно только, что ему, как и многим, предъявили обвинение по статье 58 УК. Жизнь его, видимо, оборвалась почти сразу. Сохранилась неуточненная информация о том, что он погиб во время поездки в Москву, где должна была состояться его епископская хиротония. Очевидно, за ним вели слежку. На какой-то глухой станции его хитростью выманили из поезда и жестоко расправились с ним. До Москвы он не доехал.
После 1938 года на Урале не осталось ни одного епископа, все архиереи — сергиевские, григорьевские и обновленческие — были арестованы или расстреляны, а большинство духовенства репрессировано.[7]
Дочь архимандрита Ардалиона Мария Александровна Плясунова добилась в свое время приема у Михаила Ивановича Калинина, но ответа на запрос об обстоятельствах гибели отца так и не получила.
По рассказам отца Григория, отец Александр обладал большой эрудицией, свободно владел несколькими иностранными языками. Конечно, такой заключенный, тем более священнослужитель, был невыносим для пролетарских «троек НКВД»…
Увы! Так мало знаем мы о дорогих нам людях! У меня в руках Евангелие отца Александра с надписью от 28 мая 1934 года:
«В благословение и руководство в жизни дарится сие Евангелие милому и дорогому сыну Григорию Александровичу от любящего отца. А. Пономарев».
Просматривая эти пожелтевшие листочки, можно представить те духовно-нравственные принципы, которыми руководствовалась семья Пономаревых.
Краткий послужной список
Пономарева Александра Ипполитовича
(архимандрита Ардалиона)
(предоставлен журналу «Звонница»
Валерием Лавреновым, протоиереем
Екатеринбургской епархии, в 2005 году)
Пономарев Александр Ипполитович, 1877 года рождения
1899-1900 — священник Старокомышинска;
1900-1910 — заведовал псаломщицкой школой;
1912-1915 — шадринский уездный миссионер;
1915-1917 — служил в Шадринске;
1917-1918 — директор Шадринской учительской семинарии;
1918 — настоятель Михайло-Архангельской церкви Ревды;
1920 — настоятель Александро-Невской (Лузинской) церкви Екатеринбурга;
1922-1925 — настоятель Успенского собора ВИЗа;
1925 — второй священник Успенского собора ВИЗа, возведен в сан протоиерея;
1930 — настоятель Петро-Павловской церкви пос. Полевского Свердловской области;
1932 — настоятель Вознесенской кладбищенской церкви г. Невьянска Свердловской области и благочинный невьянского района;
8. 01. 1933 — овдовел;
20. 10. 1933 — принял монашество с именем Ардалион;
1934 — настоятель Космо-Дамианской церкви Кустаная и благочинный.
(Далее послужной список обрывается — ред.)
Вот несколько страничек, вложенных в Евангелие. На них — чернильные записи, сделанные рукой отца Александра:
«Это так нужно, здесь люди не от злобы ж своей действуют, а это Бог через них хочет испытать мое терпение и смирение. Буду все терпеть ради Иисуса Христа».
«Внимай себе; да не будет в сердце твоем тайнаго слова беззаконнаго» (Втор.15:9).
«Евангелие, по словам Григория Двоеслова, это река, которую легко переплывет ягненок и в которой свободно может купаться слон. Восьмилетняя девочка с наслаждением, восторгом будет зачитываться Библией, и семидесятилетний ученый с гениальным умом, глубоким опытом будет с благоговением углубляться в нее».
И далее следуют стихи И. С. Никитина, выписанные рукой отца Александра:
Измученный жизнью суровой,
Не раз я себе находил
В глаголах Предвечного Слова
Источник покоя и сил.
Как дышат святые их звуки
Божественным чувством любви,
И сердца тревожные муки
Как скоро смиряют они…
Здесь все в чудно сжатой картине
Представлено Духом Святым —
И мир, существующий ныне,
И Бог, управляющий им,
И сущаго в мире значенье,
Причина и цель, и конец,
И Вечного Сына рожденье,
И крест, и терновый венец.
Как сладко читать эти строки,
Читая, молиться в тиши,
И плакать, и черпать уроки
Из них для ума и души.
И вновь выполненные от руки чернильные записи архимандрита Ардалиона:
«Иосиф Флавий говорит, что изучение на память слова Закона Божиего есть наилучшее искусство (Кн. 4, гл.VIII, 12), — …на что он смотрел как на причину счастия».
И далее: «Внушай слова закона, Израиль, детям своим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогой, и ложась и вставая. И навяжи их в знак на руку свою, и да будут они повязками над глазами твоими; и напиши их на косяках дома своего и на вратах своих» (ср. Втор.6:7—9).
Читая духовный дневник отца Григория, можно заметить, как много внимания уделял он такой добродетели, как молчание. В его духовных советах чадам есть наставление:
«Что знаешь — молчи, что слышишь — молчи…».
Примечательно, что и протоиерей Александр Пономарев обращался к библейским премудростям, бичующим грех многоречия. Вот его выписки:
«Многоречивый опротивеет, и кто восхищает себе право говорить, будет возненавиден» (Сир.20:8). «Удар бича делает рубцы, но удар языка сокрушает кости» (Сир.28:20).
Далее ссылка на слова из Послания апостола Иакова: «Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие» (Иак.1:26).
Может быть, эти выписки, заботливо сделанные протоиереем Александром Пономаревым, призывали и отца Григория к внутреннему вниманию, чтобы стяжать добродетель молчания и учить немногословию духовных чад. «Нам нужно в памяти держать, — писал отец Григорий, — святую заповедь: “Поминай последняя своя, и вовек не согрешишь!”. Если будешь это в памяти своей держать, то будешь стараться управлять своими телесными органами: руками, ногами, а особенно малым органом — языком».
Эти мысли отца Григория переплетаются с записями архимандрита Ардалиона: «Образование характера и духовная культура— важнейшие условия предохранения телесного здоровья от ущерба и растраты. Без исполнения духовно-нравственных интересов всякое физическое укрепление можно сравнить с капиталом, который поступает в руки невоздержанного и расточительного человека и служит для того, чтобы в самое короткое время быть растраченным на удовлетворение дурных страстей».
Хотя об архимандрите Ардалионе мало что известно, но почти все за него говорят записи, оставленные им в 1934 году как завещание, не только сыну, но и всем нам… Эти духовные семена, взращенные не одним поколением священнослужителей семьи Пономаревых, дали плоды во имя Господне в духовном наследии отца Григория.
«И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос…» (Мк.4:8).
Из сохранившихся записей архимандрита Ардалиона на форзацах небольшого Евангелия
«Праведность наша зиждется не на наших собственных заслугах, а на милосердии Божием…»
«Кроткий, тихий, смиренномудрый Богом похваляется, ангелами ублажается и людьми почитается» (Кирилл, архимандрит Александрийский).
«Избранные составляют плод, все же остальное — оболочка, скорлупа, которая, когда плод созреет, отпадает. Избранные составляют храм, а государство и Церковь — подмостки, служащие постройкой храма».
«Книга “Печаль и радость по слову Божию” Бухарева: в Апокалипсисе море указывает на подвижность и волнения жизни людской, земля — на твердость или устойчивость наших земных порядков, светила — на область просвещения, воздух — на движения общественного духа, огонь — на поядающий стиль мирской жизни, какова особенно война…».
О семье Увицких
О дедушке и бабушке с маминой стороны я знала значительно больше. Я выросла на руках у бабушки Павлы Ивановны. В голодные военные годы, когда мама осталась одна и напрягала все силы, стремясь что-то заработать, бабушка занималась моим воспитанием. Мы всегда с ней очень дружили. Конечно, она любила всех своих внуков, но они жили с родителями, у меня же была только мама. А папа — где-то там… так далеко, что, думая об этом, бабушка, конечно, страдала втройне: за него, маму и меня, совсем еще маленького ребенка.
Жизнь бабушки и дедушки Увицких (в девичестве бабушка носила фамилию Огородникова) началась поэтично. Дедушка — студент Казанского университета и выпускник Казанской Духовной Академии (со значком Академии, каким обозначался «диплом с отличием») — женился на Павлиньке Огородниковой при романтических обстоятельствах.
Где они познакомились, точно не знаю, но в то время за бабушкой усиленно ухаживал сын вятского «городского головы» (они жили тогда в Вятке). Его мать ясно дала понять родителям Павлиньки, что если предложение о сватовстве не будет принято, то ворота их дома будут вымазаны дегтем. Старшему поколению хорошо известны последствия такого «позора»…
Положение было тревожным. На семейный совет призвали Сергея Увицкого — об их любви и планах на будущее все домашние Павлиньки хорошо знали. Приехали и друзья Сергея по Академии, и вот что было придумано. Родители бабушки договорились «дипломатично тянуть с ответом» нежеланному жениху, а в это время друзья Сергея должны были втайне организовать его венчание с Павлинькой в одном из сельских храмов недалеко от Вятки, верстах в двадцати-двадцати пяти по Каме.
В ослепительный летний день семейство Огородниковых отправилось на прогулку на лошадях… На самом же деле в небольшом деревенском храме, где все было уже заранее приготовлено, в этот день состоялось венчание молодой четы Увицких. Всех родных оповестили заранее…
Жених и невеста сияли красотой и счастьем. Все было таинственно и романтично. Венчание всегда волнует и радует душу каждого человека, а тут еще такие особые обстоятельства… Молодежь — в приподнятом «заговорщицком» настроении, пожилые посмеиваются удачной затее.
Трогательно и проникновенно совершилось таинство венчания в дальнем деревенском храме. А после прямо на лугу одного из берегов Камы были набросаны ковры, расставлены столы и состоялся свадебный пир под открытым небом. Лужайку окружали молодые елочки, и вся она была покрыта, как свадебной скатертью, огромными ясноглазыми ромашками такой величины, каких моя дорогая бабушка больше уже никогда не видела.
Было все: и благословение родителей, и свадебные тосты родных и друзей, и сияющие глаза молодых, которые можно было сравнить лишь с блеском камской воды под лучами солнца. Дивные ромашки как свадебные букеты украшали этот необыкновенный праздник. Казалось, что любовь, радость и счастье никогда не покинут молодую семью, но только любовь и осталась с ними до конца жизни.
Из леса потянуло вечерней прохладой. Легкие, как Павлинькина фата, облачка речного тумана стали обволакивать ели, стоявшие у реки. Уставшие гости уже собирались в недолгий путь к дому, а молодой месяц с любопытством и удивлением обозревал неожиданных на этой лесной поляне посетителей. Все стало немножко призрачным… Призрачным и нереальным в свете догорающей зари, в ее отблесках на воде и в особой минуте тишины — тишины ожидания будущего.
* * *
Огромные фарфоровые чаши ромашек тянутся к месяцу, позванивая своими точеными лепестками. Попискивание птиц… Шорохи лесного зверья, затихающие перед ночным сном. Сон… Дивный летний сон! Это была гармония природы и человека. Души людей вбирали в себя красоту и благодать, чтобы в тяжелые минуты жизни, засветившись маяком воспоминаний, эта благодать могла дать им силы…
Как часто мы бываем бессильны осознать, сколько даров получаем от Господа, — даров, которые мы не заслужили по своей греховной человеческой природе. И, конечно, нам никогда не оценить, не вобрать сполна это Божественное откровение — минуты, соединяющие нас с нашим Творцом.
И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной…
Срок настанет — Господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?».
И забуду я все — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав,
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленям припав…
Иван Бунин
Вскоре Сергея Увицкого рукоположили во иереи, и он был назначен в один из приходов. Жизнь священника по роду служения чем-то сродни жизни военного. Полное самоотреченное послушание и, чаще всего, переводы с одного прихода на другой…
Молодую чету Увицких направили в город Могилев, где дедушка служил несколько лет; здесь у них родились двое старших детей. Затем отец Сергий получил назначение в Екатеринбург и послушание на преподавательскую работу в епархиальном училище. В Екатеринбурге родились еще двое малышей — моя мама и ее брат Николай.
Жизнь семьи Увицких, по рассказам бабушки, была содержательной, наполненной общением с интересными людьми. В Екатеринбурге у них появились новые друзья: пианистка Мария Николаевна Сенилова и известный уральский писатель Павел Петрович Бажов, который тоже преподавал в епархиальном училище. Какие интересные вечера устраивались у них в доме! Отец Сергий брал в руки скрипку, Мария Николаевна садилась за фортепиано… Павлинька тоже играла и пела. Когда же родился Николай — младший сын Увицких — Павел Петрович Бажов и Мария Николаевна Сенилова стали его крестными.
* * *
Шли годы, и дедушка получил новое назначение — в город Камышлов, ректором духовного училища.
В Камышлове семья Увицких очень подружилась с доктором Скворцовым. Как вспоминала матушка Нина, однажды в результате детской шалости ей, шестилетней девочке, ранили рыболовным крючком ногу, и крючок застрял в ране. Вынуть его без операции оказалось крайне сложно. Боль была невыносимая. Побежали за доктором Скворцовым.
Позднее матушка вспоминала, как много внимания и теплой любви уделил ей доктор. Крючок с большой осторожностью извлекли, но каждый день нужны были весьма болезненные перевязки. Отец Сергий, папа Ниночки, в это время много молился о болящей дочурке и каждый день причащал ее Святых Христовых Тайн. А также учил читать дополнительные молитвы о скором выздоровлении, по ее детским силам.
Всякий раз, когда Ниночка, сдерживая слезы, не плакала во время перевязки, доктор Скворцов срезfл ей из своего сада букет роз, и она радостно предъявляла папе, отцу Сергию, результат своего мужества на перевязке.
Как и в других городах, в Камышлове у Увицких завязалось много дружеских связей. Они с радостью общались друг с другом, ходили в гости, музицировали, читали стихи и вели самые серьезные беседы о жизни, смерти и вечности…
А вот милое детское воспоминание матушки Нины, характеризующее уклад жизни в семье в то время.
Большой, светлый дом. В комнатах, залитых солнечным светом, смешиваются два запаха: цветущей сирени и яблонь, ветки которых заглядывают прямо в открытые окна. К этим двум примешиваются ароматы ванили и корицы, доносящиеся из кухни на нижнем этаже. Это бабушка Павлинька печет свой фирменный яблочный пирог с корицей.
Канун Пасхального праздника. Посреди комнаты — огромный ковер. У окон стоит черный рояль, в глубине комнаты — кресла, банкетки… В кресле сидит отец Сергий. Читает. Около него крутятся дети. Младшие, Ниночка и Коля, «собирают» цветы, вытканные на ковре, и «приносят» их папе. Старшие, Миша и Леля, слушают, что читает папа…
Какая идиллия! Но ведь так все это и было!
Это были уже времена смут, волнений и смены властей. Жизнь стала беспокойной и опасной. Духовному училищу дали предписание эвакуироваться в Иркутск. Уезжали многие — у людей исчезала уверенность в нынешнем и тем более в завтрашнем дне.
Эвакуация в Иркутск. Вилы нечистого…
Гражданская война в России в 20-х годах прошлого столетия настигла отца Сергия и Павлу Ивановну в Камышлове.
В городе уже начались беспорядки, грозящие перерасти в серьезные военные события, и преподавательскому коллективу камышловского духовного училища было рекомендовано эвакуироваться в Иркутск. За педагогами потянулась остальная интеллигенция города и простые граждане, ничего хорошего от новых порядков не ожидающие. Начались суета и суматоха. Надо было быстро собирать и упаковывать домашние вещи, ведь уезжали не известно на сколько. Быть может, навсегда. Достать лошадей, подводы в эти дни было практически невозможно… Часть людей уезжала, часть оставалась — и тех, и других ожидала полная неизвестность.
Страх отъезжающих, страх остающихся…
Сколько личных драм, сломленных судеб!
Сколько пролитых слез, прощаний, горьких переживаний, расставаний навек!
Камышловские улицы заполнены подводами с беженцами. На выезде из города — многочасовая «пробка» из телег, пролеток, экипажей, подвод и т.д.
Хмурый осенний день начинает клониться к вечеру. Вот и дождик стал накрапывать, все усиливаясь и грозя превратить выездные городские дороги в слякоть. Кругом шум, крики, брань. Человеческая злоба густо «висит» в воздухе, постоянно выплескиваясь на окружающих и напрягая их и без того натянутые нервы. Люди волнуются. Дорожные заторы усиливают напряжение. Не исключено, что придется ночевать там, где остановился, пережидая, когда возкb и телеги двинутся вперед. Прямо под дождем отец Василий Словцов, тоже уезжающий с родными, предлагает отцу Сергию и еще некоторым семьям свернуть с большакf на какую-то объездную дорогу, по которой ему приходилось ездить. Решились. Дети давно ревут, голодные, замученные; да и взрослые измотаны до предела. Делают крюк по расползающейся в глинистую кашу дороге километров тридцать-сорок. Опускается ночь.
Но слава Богу! Где-то рядом деревня. Видны слабые огоньки, и доносится лай собак. Подъезжают. Просятся на ночлег. Хозяева дома, куда постучали, разрешили переночевать в сарае. Это просто счастье. В сарае не холодно. Можно укрыться на сеновале в сене.
Сколько бы раз в детстве мне ни рассказывали следующую историю и бабушка, и мама — всегда глаза их наполнялись слезами. Было видно, что они вновь и вновь переживают эту произошедшую так давно историю: бабушка — как непосредственный активный участник событий, мама — как маленький ребенок, переживший взрослую беду и страх потери родного человека, отца.
А события развиваются следующим образом: в сарае, пытаясь устроить семью на ночлег, отец Сергий забирается на телегу и пытается разложить в ней сено, а сверху — постель.
Над ним низко нависают доски сеновала. А сено все не укладывается как надо. Он приседает на корточки прямо в телеге — ноги уже совершенно затекли. Наконец удается разровнять сено. Уложив на него постель, он со вздохом облегчения резко поднимается во весь рост и… со стоном падает на только что настеленную постель, теряя сознание. Оказалось, что меж досок в настиле сеновала торчали вилы, направленные своим острием вниз. Среди клочьев висящего сена их совершенно не было видно.
Все же не перестаешь удивляться, как враг человеческий подкарауливает каждый наш шаг, каждое движение… Резко распрямившись, батюшка головой, теменем врезается в зубцы вил, направленных прямо на него. Это были действительно вилы нечистого…
Кровь моментально заливает голову, шею, льется по одежде. Он лежит без сознания. Живой ли? Все вокруг цепенеют от ужаса произошедшего.
Матушка Павла понимает, что все теперь ждут ее действий. Она с отчаянной мольбою ко Господу кое-как приводит дедушку в сознание. Поит его святой водой. Обмывает раны на голове. Посылает за врачом, тоже из беженцев…
Медицинская помощь была оказана. Несколько дней отец Сергий пролежал не вставая, даже не поднимал головы. Ему делали перевязки, помогали восстановить силы. Постепенно ему стало лучше, и надо было спешно ехать дальше.
По дороге дедушка и бабушка постоянно читали благодарственные молитвы ко Господу, молитвы о здравии. Вроде бы все обошлось и раны зарубцевались.
Надо сказать, что позднее всю оставшуюся жизнь у отца Сергия бывали сильнейшие головные боли. Скорее всего, помимо кjлотой травмы головы он получил сильное сотрясение мозга.
Много лишений, трудностей и невзгод вынесла семья Увицких в последующие годы. Павла Ивановна рассказывала, что когда они жили в Иркутске, то попали под перекрестный обстрел «красных» и «белых». Находясь в университетской ограде, они видели пролетавшие над ними снаряды и слышали, как невдалеке рвались бомбы.
Через год Увицкие вернулись в Камышлов, где дедушку неоднократно арестовывали за церковные проповеди. Впоследствии его заключили в екатеринбургскую тюрьму; там он заболел тифом, но после пребывания в тюремной больнице был освобожден.
Все жили в большом напряжении.
В Екатеринбурге начинался голод. Бабушка говорила: «Голодали до ужаса»…
В это время из села Меркушино Верхотурского уезда к екатеринбургскому епископу приехали прихожане меркушинского храма просить назначить им священника. Выбор пал на отца Сергия, и всей семьей они едут в Меркушино, под покров праведного Симеона Верхотурского. В этом уезде голода не было. Хлеб — в достатке, торговые ряды завалены огромными рыбинами.
Под защитой святого Симеона они понемногу пришли в себя, и уже сами могли помогать голодающим, приезжающим в Меркушино из других мест.
Тифозная шуба
Голод и болезни почти всегда соседствуют друг с другом, скашивая свою обильную, черную жатву. Голод, свирепствующий в России в 20-х годах, в большинстве уездов был повальным, но где-то жилось все-таки полегче. В Верхотурском же крае, по милости Божией, голод не так терзал население, однако эпидемия, скорее, даже пандемия тифа, прокатившаяся по всей стране, захватила все села Верхотурья.
Как вспоминала матушка Павла: гробы, гробы, гробы… В храме отпевали по 8-10 человек сразу. Куда ни посмотришь — люди, одетые в черное, горестными группами провожают своих умерших. Город, близлежащие села — как вымерли. Базарные площади, всегда заполненные людьми, пустуют. Редко-редко увидишь человека, промелькнувшего по улице быстро как тень. Даже звонкоголосых, вездесущих ребятишек и тех не видно. В глазах окружающих — затравленность, страх, слезы… Нет ни одного лица, которое не опухло бы от слез. Большинство людей — с потухшим, ушедшим в себя взглядом.
В церкви все больше заказывают поминальные службы. Страшно. Господи, как все-таки страшно!
Уберечься от тифа невозможно. Он — везде. И формы его различны. Тиф сыпной, тиф брюшной, тиф возвратный. Как во время средневековья — гибнут целые семьи, мгновенно заражаясь один от другого, вымирают села. Тиф, никого не щадя, уносит жизни, и только наспех заколоченные окна домов, одиночно хлопающие ставни да вой несчастных брошенных животных кричат: в стране беда!
Батюшка, отец Сергий, почти не помнит, когда спал. Службы в храме идут каждый день. И каждый день — панихиды и отпевания. Отпевают целыми семьями. Поток умерших — неиссякаемый.
А после обеда — требы, бесконечные требы. И там его уже с нетерпением ждут, умоляют, надеются… Уезд — огромный, селенья разбросаны далеко друг от друга. Где-то надо исповедать и причастить Святых Христовых Таин, где-то соборовать. Но чаще всего он отпевает тех несчастных, кого довезти до храма уже некому.
Перемещался батюшка по пустым заснеженным дорогам на возке, запряженном выбивающейся из сил лошаденкой. Морозы в тот год стояли лютейшие, и отец Сергий молил Господа, чтобы Он не оставлял его в этих сложных, на грани человеческих сил испытаниях и даровал ему волю и веру, даровал силы — и душевные, и физические. Все смешалось в его голове: когда — ночь, когда — день…
Какими-то урывками отец Сергий заезжал домой, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть на своих: благословить, удостовериться, что никто не заболел.
В один из таких приездов матушка Павла сообщила отцу Сергию, что ему кто-то из прихожан пожертвовал шубу. Огромную енотовую шубу, которая как громадный зверь лежала в прихожей, завернутая в большой мешок. Вот это да! Шуба — это здорово! Он так продрог в своем пальто, явно не рассчитанном на дальние, изнуряющие переезды, да еще в такие морозы, на пронизывающем до костей ветру.
Передохнув, он снова собрался в свой нелегкий путь требного батюшки по селам и весям Верхотурья. Но теперь он в теплой енотовой шубе! Конечно, в теплой одежке переносить дороги намного легче.
Прошло какое-то время.
Но что с ним? Или он совершенно выдохся и невыносимо устал? В голове все гудит, он с трудом передвигает ноги, он просто теряет сознание, читая молитвы. Тело сотрясает озноб, бросая его то в жар, то в холод. Надо заехать все же домой, выпить какое-нибудь лекарство, хотя бы таблетку от головной боли, раскалывающей голову. Или жаропонижающее…
Однако настойчивая мысль вновь и вновь посещает его: похоже, ох как похоже, что он заболел…
Отец Сергий анализирует свое состояние, ведь он врач по образованию и у него уже был тиф в екатеринбургской тюрьме; конечно, он знает его грозные признаки! Приехав домой, батюшка, едва скинув шубу, почти упал на руки матушке с температурой 40 градусов. Так в их дом пришел тиф.
А вскоре начали болеть дети. Сразу все. Это было что-то страшное. Матушка Павла и ее старенькая мама, Ольга Тихоновна, которая в то время жила с ними, метались между больными. У детей к тому же был тот самый «возвратный» тиф, который доводил организм больного до полного истощения и зачастую приводил к гибели.
Но, благодарение Господу, сначала отец Сергий, а потом и ребятишки, по молитвам родителей, стали поправляться и приходить в себя — исхудавшие, осунувшиеся, со стрижеными головками….
Но тут заболевает Ольга Тихоновна. Она, стойко все выдержавшая и выходившая целое семейство, неожиданно слегла. Тоже с тифом. Видимо, ее ослабленный организм больше не смог сопротивляться. Что ни делали отец Сергий с матушкой Павлой, прилагая все силы, чтобы вытащить из тяжелой болезни близкого человека, но… Господь рассудил иначе. Ольга Тихоновна скончалась. Все родные: и взрослые, и дети — горько оплакивали ее и горячо молились о ней, провожая в последний путь. Упокой, Господи, ее душу.
Заключительным аккордом стала болезнь матушки Павлы Ивановны. Но она прошла как-то не так тяжело и длилась недолго. Может быть, во время ухаживания за своими больными у нее выработался иммунитет, а может быть, Господь ее просто пожалел.
Кстати, о шубе. Когда, тяжко переболев, все стали приходить в себя и приводить дом в порядок, то обнаружили, что шуба, в которой почти неделю разъезжал отец Сергий, кишела, буквально кишела насекомыми — переносчиками тифа. И как они не заметили это сразу? Что потом ни делали с этой шубой, как ни обрабатывали — вши были неистребимы.
Пришлось шубу сжечь. Такой тяжелый период времени довелось пережить на семью Увицких. Впрочем, трудности у них как начались, так и не заканчивались до конца их жизней — как дедушкиной, так и бабушкиной.
Вишерский ГУЛАГ и Беломорканал
В Симеоновском храме дедушка много служил и постоянно проповедовал — у него был дар проповедника. Это и стало причиной новых притеснений.
Опять переезды, служба в нижнетагильском Никольском храме на Вые, куда отца Сергия назначили настоятелем и одновременно благочинным Нижнетагильского благочиния. Надо сказать, что Никольский храм в Нижнем Тагиле имел уникальную архитектуру. Построенный Демидовыми, он был похож на будущий храм Христа Спасителя в Москве. В нижнем храме церкви находилась усыпальница знаменитого рода Демидовых с оригинальными скульптурными группами членов семьи, выполненными итальянскими мастерами из мрамора, малахита и нефрита. Дедушка говорил, что это бесценные художественные произведения.
В 1928 году (по другим документам в 1930 году — ред.) отца Сергия вновь арестовали. Храм закрыли, а через несколько лет взорвали во всей его красоте. Долгие годы на этом месте был рынок.
Нижний Тагил особо славился своими зарытыми (в прямом смысле) ценностями семейства Демидовых. Детство мое прошло в этом городе, и, бывая в гостях у тагильчан, я часто видела у них необычайной красоты старинную посуду (явно из разоренного дома Демидовых) и древние иконы (возможно, из взорванного Никольского храма). Были и небольшие скульптуры или фрагменты скульптур из малахита и нефрита. Несмотря на свой детский возраст, я интуитивно понимала, что это были шедевры…
В этом же году после взрыва Никольского храма дедушку выслали в Вишерский ГУЛАГ.
До 1937 года, когда НКВД возглавил Ежов[8], свиданий с заключенными можно было добиться легче, чем впоследствии. По милости Божией бабушке было разрешено свидание с мужем, и она вместе с младшим сыном Николаем отправилась в этот край — край дикой природы, северных коварных рек и речушек, таящих опасность, край огромных лесных массивов, закрытых колючей проволокой, с вышками для часовых. В эти годы почти повсеместно страну стали покрывать огороженные «колючкой» лагеря и скорбные «поля тишины» — места массовых погребений безымянных заключенных.
Николай сопровождал бабушку в этом нелегком пути, пролегавшем по двум или трем рекам. Они плыли и на небольшом пароходике, и на моторной лодке, и даже на простой плоскодонке. Для Павлы Ивановны эта поездка была отчаянным шагом, так как с детства она смертельно боялась воды. Впоследствии Николай Сергеевич описал эту поездку. Он поведал, как они плыли под нависшими над водой скалами громадного утеса, который, неожиданно вырастая, загораживал собой полнеба. При приближении он выглядел угрожающе. Описал Николай и одинокий «камень-говорун». Любые разговоры в этом месте через пару секунд повторялись с прежней четкостью, отражаясь от каменного столба. Впечатлений во время пути было, конечно, очень много, но их перекрывали страх и боль за судьбу родного человека.
Встреча с ним состоялась. Лагерное начальство, узнав, что заключенный владеет латынью, назначило отца Сергия врачом лагерной зоны. Именно благодаря тому, что он был «врачом», свидание разрешили на несколько дней. «Вот и врачую, — говорил он приехавшей бабушке, — молитвой да принципом “не навреди”…»
Когда бабушка с Николаем уезжали со свидания, дедушка отдал им Иерусалимский Крест, в который была вложена частица Древа Господня. Этот Крест дал отцу Сергию в вишерском лагере старенький больной священник — отец Николай, который, видимо, боялся, что долго в таких невыносимых условиях не протянет. При обыске отцу Сергию несколько раз приходилось прятать святыню, и он очень боялся, что Крест попадет в чужие руки и над ним могут надругаться… Крест этот очень помог бабушке на обратном пути из мест ГУЛАГа.
Свидание в Вишере состоялось в июне 1931 года.
А осенью этого же года бабушкин племянник Петр Игумнов сумел выхлопотать еще одно двухчасовое свидание, но уже на Беломорканале, куда был переведен дедушка. Жуткие рассказы поведал он бабушке во время встречи. В лагере Беломорканала заключенных подвергали тяжелым пыткам: набивали комнату людьми, вплотную стоящими друг к другу, так что сесть было совершенно невозможно, затем включали ослепительный свет и вынуждали людей часами стоять в таком положении. Охрана в это время следила за теми, кто, изнемогая, начинал падать или висел, удерживаемый своими товарищами. Несчастного подвергали тяжкому избиению…
И самое последнее свидание, если его можно так назвать, — там же, на Беломорканале. Бабушка идет по территории лагеря… Кругом вышки, колючая проволока, повсюду снующие люди… Вдруг ее окликает какой-то старик: «Павлинька!». Так звал ее дедушка. В этом опухшем, совершенно седом, еле бредущем человеке бабушка не сразу смогла узнать своего мужа. Но, вглядевшись в назвавшего ее по имени человека, вдруг узнала его и зарыдала. Конвоир резко оттолкнул ее, заявив с усмешкой, что «свидание окончено». Это была их последняя встреча. В 1932 году, 12 марта, дедушка умер, о чем много позднее было прислано извещение.
На одной из картин современного художника Ильи Глазунова изображена рука «вождя мирового пролетариата» с зажатой в ней огромной курительной трубкой. Рука занимает почти весь холст и загребает несметные толпы бегущих, ползущих и лежащих людей, которые в контрасте с рукой — не больше булавочной головки. Символично! Судьбы многих людей в то время оказались похожими, но когда связываешь эти трагические события с конкретной судьбой дорогого человека, то сердце еще более сжимается от нестерпимой боли и скорби…
Бабушка прожила до девяноста двух с половиной лет. Сколько еще пользы и добра принесла она за годы своей жизни! Много лет проработала Павла Ивановна регентом правого хора в единственной тогда в Нижнем Тагиле Казанской церкви на Вые. Она переписала огромное количество партитур и партий для хора. Даже лишившись после неудачной операции глаза, она продолжала (правда, с трудом) посещать храм. Хотя сама бабушка жила очень трудно, однако всегда стремилась оказать поддержку бедным и голодным людям. Она помогала всем своим детям, воспитывала внуков и, дождавшись правнуков, преставилась 2 декабря 1977 года.
Наверное, при встрече с дедушкой в мире ином она радостно могла сказать: «Путь к тебе был долгий и трудный, и каждый из нас шел своей тернистой дорогой во Имя Господа нашего Иисуса Христа. Но теперь мы будем вместе славить Его и ничто не омрачит нашей радости в светлом Небесном Царствии!».
В канун Святой Пасхи 2006 года Святейшим Синодом Русской Православной Церкви были канонизированы священнослужители, пострадавшие в сталинских репрессиях 30-х годов ушедшего века. Они были причислены к лику святых, как исповедники и новомученики православной веры. Среди канонизированных мой дед — протоиерей Сергей Александрович Увицкий (1891 г. — 12 марта 1932 г.).
Православные матушки
Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом.
I Петр.3:3-4
Примеры беззаветного и ревностного служения Господу и Его Святой Православной Церкви дало не одно поколение семей Пономаревых и Увицких. Но совершенно особенное служение — служение православных матушек, и мне хотелось бы на конкретных примерах, которые хранит память, показать значение и роль жены священнослужителя, будь то супруга диакона или иерея.
К сожалению, тоталитарный режим, в котором находилась наша страна семьдесят лет, уничтожил преемственность традиций православного образа жизни как всего государства, так и всех, почти без исключения, членов советского общества. Стерты были рамки канонического общения не только Церкви и государства, Церкви и общества, но и общение в самой Церкви верующих, которые в былые времена буквально с рождения впитывали православные устои. Сейчас многие не знают, как правильно обратиться к священнику, тем более к Архиерею, не знают внутренних правил поведения в храме, названия икон и многого другого. Может быть, именно поэтому часто случается, что людей, впервые переступивших порог храма, особенно молодых, так резко и даже зло одергивают старушки за их неправильное поведение, чем вызывают неприязненное отношение не столько к себе, сколько к самому храму. Конечно, не каждый человек, только что начинающий ходить в дом Божий, может и хочет понять, что старушка эта не желает плохого, а, как умеет, охраняет чистоту церковных традиций. Проявляя ревностность не по разуму, она сердится, делая то или иное замечание, повышает голос, вместо того чтобы тихо, спокойно, вежливо разъяснить человеку, что можно и как нужно. Пишу это потому, что не раз бывала свидетелем таких неприятных сцен в храме.
Наверное, каждый из нас понимает, что в церкви мы лишь временные гости, и люди, которых Господь впервые привел в храм Божий, идут сюда не для выслушивания наших едких замечаний в свой адрес. Они приходят к Богу, к Пречистой Богородице и к святым угодникам Божиим. Они обретают веру. Поэтому каждого из нас должны наполнять доброта и терпение, ласковое, внимательное отношение к ближнему и желание помочь человеку на его пути ко Христу. Об этом часто говорил своим духовным чадам отец Григорий. И если ты видишь, что происходит что-то «не по правилам», — то без злобы и раздражения, а с участием подойди к человеку и тихо объясни… Я уверена, что люди поймут и примут доброе и ласковое слово. Никто из нас не станет кричать на младенца или смертельно больного человека и грубо одергивать его, а ведь многие из людей, только что пришедших в храм, как в духовную лечебницу, есть такие же «младенцы» или нуждающиеся в излечении больные. С ними нужно обращаться бережно, и тогда вместо озлобления разольется в душе человека благодарное чувство.
Вот как писал о подобной ситуации отец Григорий в своих духовных советах «Сто вопросов и сто ответов на запросы христианской души». На жалобу: «В храме порой так трудно стоять и молиться: ходят, толкают, разговаривают…» — он отвечал словами святых отцов:
«Да, трудно! Но на храм, как прежде и на монастырь, надо смотреть как на больницу. И молитвы читают: “Пришел во врачебницу”. И отец Варсонофий Оптинский говорит, что на больных не обижаются. Кто чем болен: кто унынием страдает, кто — раздражением, кто — гневом, кто — нетерпением. И всех надо в жизни и в храме терпеть: все пришли к Богу и жаждут исцеления. И, конечно, посмотреть на себя: может быть, и от меня кому-то трудно, и я кому-то мешаю».
Прошу прощения у читателей за то, что невольно отступила от темы этой главы, но такие конфликты, к сожалению, имеют место в нашей жизни и являются печальным результатом утраченных нами православных традиций.
* * *
Никакими словами невозможно переоценить роль и значение матушки в жизни прихода. Несомненен и воспитательный характер поведения матушки, и пример ее, как человека, чей образ служения, как сказано в Писании, это «не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом» (I Пет.3:3-4).
То, как общается матушка с людьми: с каждым ли страждущим, обратившимся за духовной помощью к священнослужителю, или с любым другим человеком, — является лакмусовой бумажкой, по которой можно понять и настрой, и отношение священника к своей пастве.
Мысли мои возвращаются в далекое детство, и перед глазами встают дивные образы православных матушек, таких разных по характеру и по возрасту, но одинаково светлых и, если можно сказать, благодатных: матушки священников, служащих в приходах того трудного времени; матушки репрессированных священнослужителей; матушки-вдовы… Так светлы были их лица, несмотря на все бытовые тяготы, так они были дружелюбны и ласковы с окружающими, что люди тянулись к ним каждый со своей болью, с трудным и порой неразрешимым семейным вопросом, желая ощутить в них хотя бы частицу той благодати, которая дана была их супругам — пастырям.
* * *
Лишь по рассказам старших я знала о своей бабушке — матушке Надежде Леонидовне — маме отца Григория. Сколько света и тепла несла она людям! Как помогала всем, чем только могла: и советом, и сочувствием, и конкретным делом, стараясь поддержать в людях веру в Господа и надежду на Его помощь. Она ушла из жизни очень рано, еще до моего рождения.
Другая моя бабушка — матушка Павла Ивановна — мамина мама. О ней я, конечно, могу говорить бесконечно. Почти до шестнадцати лет я росла на ее глазах. Я обязана ей очень многим. Помню, как мама по четырнадцать часов в день просиживала за швейной машиной, зарабатывая на пропитание семьи. А бабушка заботилась о моем воспитании и занималась домашним хозяйством. Павла Ивановна была широко образованным человеком. Она знала несколько языков, играла на фортепиано и очень хорошо пела. А сколько она помнила историй из своего детства и юности! Бабушка много читала, пока позволяло ей зрение, и именно она вводила меня в круг своих литературных симпатий. Сначала сказки А. С. Пушкина, потом его «Повести Белкина», далее — рассказы Чехова, повести Тургенева, стихи Тютчева, Фета, Майкова… Всего не перечислишь! Но прежде всего, конечно, помнятся ее рассказы о Господе, о Пречистой Божией Матери и святых угодниках Божиих. Именно она стала моим первым законоучителем, постепенно открывая мне совершенно иной мир — мир веры в Иисуса Христа, Сына Божия, что было недоступно и запретно для других моих сверстников.
Павла Ивановна была регентом на правом клиросе нижнетагильского Казанского храма. Она часто брала меня с собой на церковные службы; я видела, как обращались к ней люди, и бабушка, перенесшая арест и смерть мужа, одна вырастившая четырех детей, находила в себе силы для утешения, ободрения и помощи каждому страждущему человеку.
Еще припоминается мне супруга отца Андрея Чечулина — матушка Анна Гавриловна. Отец Андрей служил тогда в Казанской церкви Нижнего Тагила, а матушка Анна пела на клиросе. Она помогала всем нуждающимся и снискала себе уважение как человек щедрый, помогающий людям «не шумно».
Про родительницу одного из духоносных старцев сохранилось предание, что она хлебом, розданным бедным, устелила себе дорогу в рай. Подобное, наверное, можно было бы сказать и о матушке Анне Гавриловне.
Матушку Елизавету Николаевну Оранскую, тещу младшего сына протоиерея Сергея Увицкого, я помню до последних дней ее жизни. Потеряв мужа — протоиерея Михаила (его расстреляли в 30-е годы), она осталась с пятерыми совсем маленькими детьми. Сколько горя, нужды ей пришлось пережить, сколько пришлось трудиться! Но, когда бы ее ни видели — она всегда была бодра, приветлива, очень гостеприимна. Это была яркая, интересная, очень энергичная женщина с выразительными черными глазами. Единственного сына она проводила на фронт. Как горячо молилась она о нем! Ее дочери рассказывали, что матушку можно было видеть молящейся среди ночи и осеняющей крестным знамением фотографию своего сына. Не зря сказано, что молитва матери со дна моря достанет — сын по ее горячим молитвам вернулся живой и невредимый и долгое время работал преподавателем фортепиано в музыкальном училище.
Всех своих детей матушка Елизавета Николаевна вырастила и «поставила на ноги». И все одна! Ее доброта и участие просто поражали. Когда мы с мамой жили в Свердловске и материально очень бедствовали, то приезжали за помощью к Оранским, и Елизавета Николаевна, не имея денег, шла к соседям одолжить для нас с мамой. Много ли людей, сами испытывая в то трудное время нужду, оказали бы другому помощь? Обладая по своей природе очень живым, оптимистичным нравом, она и детей своих воспитала стойкими и жизнелюбивыми. В доме у них хорошо пели. У всех дочерей были красивые голоса. Гостить у Оранских было всегда весело и интересно, дом их был гостеприимный и теплый.
О матушке Елене Львовне Пономаревой, однофамилице семьи отца Григория и одновременно свекрови старшей дочери протоиерея Сергея Увицкого, к сожалению, я знаю только по рассказам. Она потеряла мужа, иерея Петра, в ночь на Рождество Христово. Он скончался от тифа в 1919 году в селе Салка, недалеко от Нижнего Тагила, где находился его приход. Матушка осталась с пятью детьми, их младшему сыну Александру тогда исполнился только годик. Глубокая вера в помощь Господа помогла ей выстоять и поднять детей. В войну она проводила на фронт четырех сыновей, и (как горяча была молитва матери о своих детях!) все четверо без единой царапины вернулись после Победы домой. Однако Елене Львовне не суждено было увидеть их возвращение. В 1942 году она скончалась от голода. Свой паек и «аттестат», который присылал ей младший сын, она отдавала жене и маленькой дочке другого сына.
Сколько судеб, сколько примеров чистой, святой жизни! Потерявшие своих мужей-священников и сами оставшиеся в трудное время без опоры, эти женщины всегда помнили своё предназначение: быть матушками! Они стремились дать людям то утешение, ту заботу и теплоту, которую несли для своих духовных чад их супруги-священники. Всеми силами помогали они нуждающимся, тогда как сами бедствовали. Несмотря на трудности и гонения, матушки свято чтили Православную Церковь и во всех своих невзгодах, бедах и печалях уповали только на помощь и милосердие Господа. Не уклоняясь от святых заповедей Божиих, они воспитывали своих детей истинно верующими православными христианами.
Матушка Анна Даниловна Коровина — супруга репрессированного протоиерея Леонида Коровина. Ее я помню с тех пор, как научилась ходить. К сожалению, место служения отца Леонида в памяти не сохранилось. Анна Даниловна и две ее дочери (Верочка и Ольга) были нашими соседями по дому, когда мы жили «на Пихтовке». Глубоко верующая, очень интеллигентная семья. Матушка Анна Даниловна, всегда добрая и чуткая к чужому горю, одна вырастила и выучила своих девочек. Нельзя было сказать, что для нее самое легкое горе — это чужое… Трудности и беды окружающих она принимала близко к сердцу. Потеряв мужа, отца Леонида, она пережила еще одну трагедию: смерть от туберкулеза старшей дочери Веры. Но душа матушки не взбунтовалась, а перестрадала, с покорностью приняв то, что послал ей Господь. Приходя в храм, Анна Даниловна смиренно возносила Богу молитвы о своих дорогих умерших. Она всегда оставалась чуткой к горю других и всю жизнь была верна христианской заповеди: «Тяготы друг друга носите». Скончалась она, уже будучи в преклонных годах, на руках у младшей дочери Ольги, оставив в сердцах и душах людей светлую, благодарную память о себе.
А ведь годы-то были какие! Война, массовые репрессии, голод, нищета… Наверное, в такое время и познается подлинная сущность и ценность человеческой личности и ее истинная вера. Не зачерстветь, не загрубеть, не погибнуть в борьбе за выживание — это и воспитание, и дары души, и отраженный свет пастырской благодати. Все нам дается по дару Христа.
Несколько слов хочется сказать о супруге священника Константина Плясунова — Марии Александровне, сестре отца Григория. Она была верным и преданным другом своему мужу — настоятелю кафедрального собора в Оренбурге отцу Константину. Ее знал весь город. За поддержкой к ней обращались обездоленные сироты и старики, оставшиеся после войны без средств к существованию, и она никогда не отказывала им в помощи. Кроме настоятельства, отец Константин занимался епархиальными делами и писал научно-богословские труды. Матушка принимала активное участие в подборе духовного материала для батюшкиных трудов, перепечатывала их на машинке. Круг интересов Марии Александровны и ее забот был необычайно широк. Обладая, как и все дети отца Александра Пономарева, литературными способностями, она вела переписку с широким кругом журналистов, поэтов и литераторов (в основном Москвы и Самары). Ее письма были такими глубокими по содержанию, что их можно назвать маленькими литературными шедеврами.
И, наконец, примером несения своего нелегкого, но верного служения православной матушки является моя мама, Нина Сергеевна Увицкая.
Обобщая все сказанное, хочется подчеркнуть самую главную мысль, — что жена священника имеет перед Господом особые обязательства. Она несет свой нелегкий крест и призвана Богом, чтобы разделять все трудности своего супруга — пастыря Церкви Христовой, облегчая ему бремя служения пастве, которой он обручен.
До революции молодые девушки, оканчивающие епархиальные училища, получали необходимое образование и готовили себя для служения Церкви. Они изучали богословские предметы, пение, рукоделие и домоводство. Такая умная, и образованная, и трудолюбивая жена была призвана стать надежной помощницей священнослужителя в его жертвенном труде на благо Церкви Христовой. Обладая ш ирокими знаниями, молитвенно настроенная, она становилась образцом для подражания для своих детей, для близких и родных и для всех верующих.
Домовладыка Господь, давая наставления добродетельным женам, сказал: «Она… уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности» (Притч.31:26-27).
В завершение хочется сказать, что Господь снова и снова призывает уже новое поколение молодых людей на служение Себе и Своей Церкви. И в этом стремлении посвятить себя целиком служению Господу большую роль играет женщина — жена или невеста будущего священнослужителя. Насколько глубоко она понимает путь, выбранный ее близким человеком? Как он нелегок и для будущего батюшки, и для нее, не просто супруги, но той, которая несет перед Господом особое служение — служение матушки. Служение, которое заключает в себе в первую очередь жертвенность и умаление личных интересов ради батюшки, обрученного Церкви.
Наверное, долг матушки — постараться стать для каждого человека примером в благочестии и стяжании Духа Святого, в проявлении особой любви и сострадательности к ближнему, в умении облегчить своему мужу-священнику заботу о «словесных овцах», вверенных ему Господом.
«Миловидность обманчива и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее!» (Притч.31:30-31).
Царский Крест
Тени прошлого из дома Ипатьева
Хочу рассказать историю, произошедшую со мной в юности, — историю мистическую, которая недавно вновь всколыхнулась в душе, обновленная неожиданными красками и размышлениями.
Если пост и молитва — два крыла, возносящих душу к Господу, то духовная музыка, молитвенное пение — светильник, озаряющий порывы и устремления души, помогающий раскрыть и обогатить ее.
В конце 50-х годов я училась в Свердловске в музыкальном училище им. П. И. Чайковского. Мы, иногородние студенты, жили в основном на частных квартирах, а за лето старались найти жилье на следующий учебный год, что было непросто.
Уезжая на каникулы к родителям в Нижний Тагил, я попросила мою подругу-свердловчанку подыскать что-нибудь подходящее. В начале июля она позвонила мне и сказала, что нашлась неплохая квартира, близко от училища, и мне надо побыстрее приехать.
Тот, кто бывал в те годы в Свердловске, возможно, помнит часть города в районе Дворца пионеров (бывший Харитоновский дворец). Группа зданий Харитоновского дворца[9], построенного в стиле классицизма, вольготно раскинулась на холме. Его своды возвышались один за другим, образуя подобие гигантской «лестницы», на каждом выступе которой размещался небольшой архитектурный комплекс в виде группы колонн и строений, выполненных в том же стиле.
«Лестница» вела к основному зданию, расположенному на вершине холма, рядом с храмом Вознесения Господня. В усадьбе дворца был когда-то ухоженный парк, в центре которого — озеро с перекинутым через него ажурным мостиком и беседкой, почти на воде.
В Харитоновском дворце в свое время побывал император Александр I.
В городе всегда считали, что эти места подернуты дымкой таинственности. Поговаривали, что под дворцом был прорыт длинный подземный ход, который протянулся далеко под рекой и выходил на другой конец города. Говорили и о несметных богатствах Харитонова, ставшего прообразом промышленника Привалова в «Приваловских миллионах» Д. Мамина-Сибиряка.
Дом Ипатьева[10], построенный напротив храма Вознесения Господня, и Харитоновский дворец разделял Вознесенский проспект (ныне улица Карла Либкнехта). Ипатьевский дом стоял в начале пологого спуска к реке Исети. Весь этот большой каменистый склон холма, венчающийся величественным Вознесенским собором, в то время был плотно застроен одно- и двухэтажными домами весьма затейливой архитектуры — с двориками, резными деревянными заборчиками и беседками в тенистых садах. Дома эти давно утратили своих былых хозяев.
Узенькими переулками и протоптанными дорожками можно было буквально за три-пять минут спуститься от Ипатьевского дома к набережной или, наоборот, подняться мимо него к Вознесенскому храму, к филармонии, а там уже недалеко музыкальное училище, только дорогу перейти.
Дом, где я сняла комнату, стоял напротив Ипатьевского, ниже по холму. Их разделяли большой каретный сарай, какие-то запущенные участки земли и старые дворовые постройки… Квартира меня вполне устраивала, можно было даже поставить пианино, что было решающим обстоятельством. Единственное, что смущало, — близость Ипатьевского дома.
Что сказать про Ипатьевский дом? Вернее, про наше к нему отношение в те годы?
Страх.
Довлеющее чувство — именно страх. Страх перед трагедией, случившейся в нем в 17-м году, о чем много лет хранили память и стены, и камни этого дома, и даже деревья, растущие в заброшенном саду.
В те годы мы очень мало знали о Государе Николае II, о Царской семье, но трагедия их гибели вызывала и тогда чувство сопереживания — человеческого сопереживания людям, прошедшим через ужас насильственной смерти. Для многих Ипатьевский дом являл собой словно живого обвинителя в злодеянии, и отношение к нему было самое разное, но только не безразличное. Нам, молодым, он, грузно-придавленный, серый, скорбный и угрюмый, казался хранителем каких-то мистических тайн.
Совсем недавно мои друзья, которые в детстве и юности жили по соседству с домом Ипатьева, рассказали, что однажды (в 60-е годы) им довелось побывать в доме и сделать снимки внутреннего убранства. Их впечатление от посещения Ипатьевского дома было ошеломляющим: огромная комната, почти зал, грубо выбелена — лучше сказать, просто вымазана обыкновенной известью, которой белили места общего пользования где-нибудь на вокзалах. Однако в зале как контраст советскому дизайну сохранился чудесной работы мозаично выложенный дорогими породами дерева потолок. В пустующем зале стоял единственный стул тех времен, обтянутый парчой. Сохранился и старинный камин; зеркало над ним обрамляла антикварная рама резной работы.
В годы нашей учебы в здании Ипатьева располагалось какое-то учреждение культуры. Так и хочется сказать: «разрушенной культуры».
Дом мы всегда старались обходить стороной. Особенно страшной казалась лестница, ведущая в подвал. Поборов в себе безотчетную тревогу от близости Ипатьевского дома, я все-таки поселилась в предложенной мне квартире.
Лето стояло чудное, и уголок этот, несмотря на то, что находился в самом центре города, больше походил на дачный. Кругом — зелень; отцветающие уже яблони, окутанные цветочной фатой; лепестки яблоневого цвета, лежащие на крышах домов, сараюшек и тропинках. Нежная сирень свободно раскинула свои цветущие ветви через ветхие заборы прямо к соседям; доцветают одуванчики, пыля крохотными парашютиками. Дачную идиллию дополняют легкие перистые облака в высоком летнем небе…
…Раннее утро, начало шестого часа.
На улице — стена холодного молочного тумана. Я тороплюсь на остановку, чтобы проводить подругу на ранний утренний поезд. Боясь запутаться в незнакомых тропинках, иду по узенькому переулочку мимо торцевой стены Ипатьевского дома, чтобы выйти на центральную улицу к Вознесенскому собору.
Буквально ощупью я продвигаюсь по этому переулку, то выпадая из туманного облака, то полностью покрываясь им, как простыней. Неприятно-прохладно и почему-то тревожно. Вот-вот из-за величественной колокольни собора должно показаться солнце, и в тот момент, когда я приближаюсь к мрачному подвалу Ипатьевского дома, первый солнечный луч брызжет из-за маковки колокольни, но не золотым, радостным светом, а размыто-красноватым. Ранний утренний свет, пробиваясь через колеблющиеся, подвижные пласты тумана, окрасил их в багровый оттенок и придал туманным клочьям мистические очертания.
Со страхом я пробежала по самому краю переулка (вдоль забора) и невольно бросила взгляд на подвальную лестницу Ипатьевского дома, огражденную чугунными перилами. То, что предстало предо мной в колыхающихся, багровых волнах, вызвало даже не страх, а оцепенение.
В такое раннее время я совершенно не ожидала кого-либо здесь увидеть…
На крыльце перед лестницей, ведущей в подвал дома, метались суетясь какие-то причудливые, гротесковые фигуры. От тумана они выглядели громадными и, как тени, несколько раз отраженными… Они словно переносили и складывали куда-то невидимые в тумане грузы. Может быть, оттого, что это был спуск в подвал и туман в этом месте был особенно осязаемо-плотным, мне никак не удавалось понять, что они носят с такой поспешностью и суетливостью.
Внезапно, возможно, от открывшейся подвальной двери, туман на мгновение рассеялся, и я увидела нижнюю часть огромного глиняного кувшина, который несли двое. Он был очень тяжел. В этом же просвете мелькнула нога одного из работающих. Она была перевязана тряпкой и обута в разрезанный на голенище сапог. И еще: прямо на каменных подвальных ступенях я увидела тоненькую дорожку из капель (то ли воды, то ли крови), ведущую из подвала по ступенькам вверх.
Туман вновь сомкнулся. При всем моем ужасе и оцепенении мозг четко фиксировал малейшие детали — не только видимые, но и слышимые. Хотя туман и гасит все звуки, но было отчетливо слышно тяжелое дыхание работающих. Где-то близко тарахтел двигатель (вероятно, машины), слышалась нецензурная брань, а в голосах людей чувствовался неподдельный страх. Люди, которых я видела, вели себя так, словно меня не было, хотя, как я думала, нас разделяло несколько метров. Или меня не было видно из-за тумана? Мне вдруг показалось, что я попала в какое-то другое измерение…
Неожиданно резкий, короткий хлопок двигателя, похожий на выстрел, вывел меня из состояния ступора, и… в течение нескольких минут я оказалась на троллейбусной остановке, где меня уже ждала подруга.
Сколько я ни пыталась рассказать ей о только что виденном и пережитом, она только отмахивалась, говоря, что я неисправимая фантазерка, потому что в таком тумане увидеть все это просто невозможно.
Я была в недоумении и растерянности, настолько все казалось необъяснимым: и даже не сами события, свидетелем которых я невольно оказалась, а чувство реальности происходящего, моей причастности к этому и… ощущение какой-то непоправимой беды.
Наступил день. Днем, набравшись смелости, я вновь отправилась к Ипатьевскому дому. Мысли преследовали меня, так что я не могла переключиться ни на что другое. В голове мелькали различные версии увиденного: может быть, в подвале хранилось что-то ценное, принадлежащее учреждению, которое расположилось теперь в доме, и ранним утром было обыкновенное ограбление? Ходя вокруг дома, я надеялась что-то понять об этом происшествии из услышанных разговоров, хотя душой чувствовала, что столкнулась с чем-то непонятным, необъяснимым, выходящим за рамки реальности. Но нет, все вроде бы обыденно. Через открытые окна слышно, что внутри кипит канцелярская работа: стучат пишущие машинки, идут какие-то деловые разговоры — обычная жизнь советского учреждения.
Лишь к вечеру я стала успокаиваться. Мысли постепенно возвращались к насущным делам и заботам. Сама не знаю почему, но вечером перед сном я отметила в записной книжке: «17 июля 1958 года, 5 часов утра. Дом Ипатьева». Сорок лет после убийства Царской семьи… Но в то время мы даже не знали точной даты гибели святой седмерицы.
Дня через три вечером я вновь проходила мимо дома Ипатьева. Собиралась гроза. Раскаленный за день воздух утомил все живое. Зелень сникла. Проходя мимо дома, я старалась выбрать местечко потенистее и шла под самыми окнами. Рабочий день учреждения, расположенного в доме Ипатьева, к тому времени уже закончился. Окна были закрыты и задернуты шторами. Дом погрузился в тишину. И вдруг… я услышала (или мне показалось?) где-то далеко, в глубине здания, пение. Но пение столь необычное, что, при всем моем страхе к дому, я просто не могла пройти мимо.
Я прислоняюсь к стене, у окон. Да. Поют. Но кто? Женщины? Дети? И какие это необычные, дивные голоса… А вот мужской голос, произносящий (скорее, пропевающий) длинную фразу. Слов не разобрать. Почти наплывая на него, без паузы слышится другой голос, который звучит монологом нараспев. Что это? Сколько слышала в жизни музыки, но подобной — никогда. Опять детские голоса… Детские, но и не совсем. Какое чистое, ангельское пение! — хотя и не ясно слышно. И мелодия… — непонятно, то ли грустная, то ли радостная.
Кажется, что пение из глубины дома начинает приближаться ко мне… Я стою, скованная одновременно и страхом, и восхищением. Да, звуки все ближе и ближе. Но, как ни потрясает меня незнакомая чудная мелодия, страх все-таки преобладает. У меня — опять потрясение, и в той же записной книжке я делаю новую пометку: «Ипатьевский дом. Через три дня. Пение. Неслыханное, дивное, просто ангельское какое-то…».
Первые годы после описываемых событий я много думала об этих необычных видениях, даже не решаясь с кем-то поделиться увиденным и услышанным.
Далее жизнь заполнилась новыми мыслями, заботами и радостями. Я поступила в консерваторию, переехала в другой район города. Воспоминания об Ипатьевском доме оседали в моей памяти и постепенно заносились пластами новых впечатлений. Еще раз сердце больно дрогнуло, когда мы узнали, что Б. Н. Ельцину, который был тогда первым секретарем Свердловского обкома КПСС, дали указание — в ночь на 18 октября 1977 года Ипатьевский дом уничтожить. Все было исполнено в точности: дом разобрали, и утром на месте разрушения уже закатывали новенький асфальт.
Это событие вызвало в народе ропот и разные предположения. Люди помнили, что в доме часто происходили странные, мистические события, особенно в годовщину трагической ночи. Тогда все мы уже знали, что 17 июля 1918 года в Ипатьевском доме была расстреляна Царская семья. Из года в год в эту ночь на пороге подвала появлялся огромный букет живых цветов.
«Восхотевше и самую память о Царственных мучениках исторгнуты, богоубийц чада дом Ипатьева разрушивши. Оле таковаго безумия! Обаче Господь храмы мученикам сердца людская сотвори, благочестнаго Царя чтущих и вопиющих: благословен Бог отец наших» (Канон святому Царю-мученику Николаю, песнь 7).
В народе сохранилось устойчивое мнение, что дом Ипатьева унес какую-то неразгаданную тайну.
Анализируя увиденное и сопоставляя даты, я понимаю теперь, что промыслом Божиим мне, вероятно, суждено было увидеть фрагменты драмы, произошедшей в 1918 году в ночь на 17 июля. Может быть, это было дано мне для того, чтобы через много лет, связывая воедино это мистическое явление и ряд других духовно-нравственных впечатлений, полученных мною в течение жизни, увериться в святости Царственных мучеников.
Со временем изменялось отношение народа к памяти Царской семьи — росло понимание их святости: самопожертвования и мученической кончины во имя будущего России. Русский народ осознал наконец свою вину перед совершенным преступлением и принес покаяние. Всеобщее покаяние.
Сегодня на месте Ипатьевского дома, намоленном тысячами верующих людей, приходящих и приезжающих, чтобы поклониться этому святому месту, заканчивается строительство нового храма — «Храма-на-крови» — в память о святых Царственных мучениках.
Теперь, когда мы уже многое знаем о трагической гибели Государя и его семьи, о чудовищном поругании их тел в восемнадцатом году, о торжественном отпевании и захоронении в 1998 году «царственных останков», почему-то хочется поставить многоточие. Все ли этим закончилось? Или нас ждут еще новые потрясения…
* * *
В 1999 году, вскоре после праздника Успения Божией Матери, я пришла в храм Преображения Господня, что на Уктусских горах в Екатеринбурге. В этот день проходил чин погребения Пресвятой Богородицы. С первых же звуков этой необычной службы я ощутила какое-то странное и знакомое беспокойство. Звуки, казалось, пробуждали память, задевая старые, уже зажившие раны.
Вот один священник читает псалом. Так же, без паузы, словно подхватив, перекрывая последние слова псалма, раздается другой голос — новый псалом. Псалмы на одном дыхании перетекают от одного к другому. С каждым новым псалмом увеличиваются и растут напряжение и боль. Нарастает драматизм, соединенный одновременно с какой-то аскетической отрешенностью общих интонаций. Казалось бы, это противоречивые чувства, но на самом деле они дополняют и подчеркивают друг друга. Это не чтение и даже не пение. Это — плач! Древний погребальный плач-отпевание.
Глубокое переживание потрясло меня. Какая-то невидимая и в то же время реальная нить соединила мое давнее напряженное состояние с настоящим, а возможно, и будущим. Сердце сжалось от невыразимого сострадания.
Запел хор. «О, Господи! Да ведь это — та же самая мелодия, которая так поразила меня в юности под стенами Ипатьевского дома». Опять она! — и не грустная, и не радостная, но совершенно особенная. В ней удивительным, непостижимым образом соединяются противоположные состояния: апофеоз страдания и ликования одновременно.
Казалось, что эта музыка взламывает привычные понятия мажора и минора так, что ты пытаешься и не можешь определить, скорбь это или торжество. Но, очевидно, так и должно быть. В православном понимании высшее проявление скорби, особенно при погребении, должно переходить в ликование. Это очень сложно для человеческого восприятия. Но интересно, как музыка наталкивает, подводит к духовному осознанию нашего бытия. Переход из смерти земной в жизнь вечную для праведника — радость и действительно торжество. Как сказано у апостола Павла, смерть — это приобретение. Для души чистой и праведной.
Понимание скорби как радостного восхождения к Богу — действительно дар Господа людям, за которых Он Сам принял смерть, чтобы воскреснуть. Мы все призваны к святости, и призваны достигать ее на земле, как достигли ее святые Царственные мученики. Как милостив к нам Господь, призывающий каждого человека в Свои чертоги любви. Он любит каждого из нас и желает нам спастись, чтобы обрести вечность. Сами по себе ни светская музыка, ни литература, ни какое другое искусство без Бога не могут дать человеку этого понимания, этого дара любви Божественной.
История Царского Креста
Где-то в середине 60-х годов в Курган к отцу Григорию приехала погостить его родная сестра, жена священника матушка Мария Александровна Плясунова. Она передала отцу Григорию большую святыню — Царский Крест-мощевик, хранившийся ранее у монахини Серафимы (в миру Надежды). Вот краткая история этого Креста.
Уже более десяти лет вдовствующая, Мария Александровна твердо хранила жизненные принципы покойного протоиерея Константина, духовно опекавшего в свое время большую часть верующих города Оренбурга. Отец Константин трагически скончался от опухоли мозга, развившейся вследствие автокатастрофы. Страдая от головных болей, он умер в военном госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве после семимесячного лечения. Мария Александровна погрузилась в дела благотворительности и помогала, чем могла, страждущим и нуждающимся людям. Ее хорошо знали в писательских кругах как человека, обладавшего литературным даром. Она вела обширную переписку со многими поэтами и писателями России. После смерти отца Константина у нее осталось много верных и преданных памяти батюшки друзей, с которыми она была связана многолетней дружбой.
В 50-е годы прошлого уже ХХ века матушка Мария Александровна Плясунова, часто бывая в единственном в то время оренбургском храме, обратила внимание на тихую пожилую женщину монашеского вида, углубленно и трепетно молящуюся. Что-то было в ней необычное при всей скромности внешнего облика — какой-то аристократизм и необыкновенная сдержанность. Молилась она, как сестры Марфо-Мариинской обители: при поясном поклоне касаясь головой пола.
Они познакомились. Их знакомство перешло в глубокую дружбу до конца дней. Матушка Серафима, а это была именно она, о себе почти не рассказывала. Можно было лишь догадаться по нескольким невольно оброненным словам, что в жизни ей выпали сложные испытания. На каком-то жизненном этапе она близко соприкоснулась с Императорским домом Романовых. В Оренбург на постоянное место жительства она приехала совсем недавно. Кем она была ранее в миру, Мария Александровна могла только догадываться. Возможно, после, когда они стали очень дружны, матушка Мария узнала о ней много больше, но только ведь и Мария Александровна была очень сдержанным человеком.
У Марии Александровны и матушки Серафимы был особый душевный контакт — одно мироощущение, одни духовные устремления. Они одинаково преданно любили Церковь, вместе посещали церковные службы, почитали одни и те же иконы, ценили духовную музыку одних и тех же композиторов… Монахиня Серафима стала искренним другом Марии Александровны и оказала огромную духовную поддержку матушке Марие, рано потерявшей супруга.
Матушка Серафима, конечно, знала о брате Марии Александровны протоиерее Григории Пономареве и его матушке Нине. Знала и об их трудной судьбе. Она всегда посылала им через Марию Александровну сердечные поклоны и передавала просьбы о молитве за живых и усопших. К началу 60-х годов монахиня Серафима, чувствуя, очевидно, приближение своего исхода, передала матушке Марии святыню — золотой Крест-мощевик с частицами ризы Господней, ризы Пресвятой Богородицы, Животворящего Древа Креста Господня и с вкрапленными в Крест частицами мощей сорока угодников Божиих. При этом матушка Серафима просила поминать ее и тех, кто до нее хранил эту величайшую святыню. Крест, по свидетельству матушки, некогда принадлежал дому Романовых. Вот краткое описание Царского Креста.
Крест имеет дату — 1710 год. Спаен из нескольких литых частей золота. Две основные пластины, лицевая и задняя, выплавленные в виде креста размером в высоту около 14 сантиметров и в поперечной перекладине около 9 сантиметров, соединены по периметру золотой полосой шириной около 1,5 сантиметров. Крест — четырехконечный; основание его имеет форму пятилистника, правый и левый концы — форму трилистника. Сверху к кресту крепится на специальном шарнире, украшенном жемчугом, подвижная петля в виде квадрата-мощевика с отверстиями-углублениями в торцах. Крест, очевидно, предназначен для ношения на груди. На лицевой части квадратной петли выгравировано изображение Спаса Нерукотворного, с обратной стороны — гравировка текста с перечислением святых, чьи мощи в нем хранятся. Образ Спаса Нерукотворного украшен двумя драгоценными камнями, расположенными в нижних углах петли.
Передняя пластина самого креста фигурно отлита и украшена золотой филигранью. В центре — небольшое, объемное изображение Распятия. В изгибах золотой скани размещаются драгоценные камни, среди которых есть рубины и изумруды. На нижнем пятилистнике — шесть обрамленных золотом драгоценных камней, расположенных по кругу, в центре которого находится седьмой камень — крупный изумруд; на боковых трилистниках — по пять драгоценных камней-украшений, расположенных тоже по кругу, в центре которого изумруды такого же размера, что и в нижней части креста; верхняя часть креста украшена четырьмя вкрапленными в литье драгоценными камнями, в центре которых — тоже изумруд. Все изумруды примерно одинакового достоинства. На обратной стороне креста (задняя пластина) выгравированы по-церковнославянски сокращенные слова: «Часть ризы Господни, часть ризы Пресвятыя Богородицы, Животворящее Древо Креста Господня…», а также кратко — имена сорока угодников Божиих, чьи святые мощи хранятся в Кресте-мощевике. Вот полные имена этих святых: «Честнаго и славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна; святого Андрея Первозванного; преподобного Саввы Сторожевского; святого праведного Лазаря Четверодневного, епископа Китийского; святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого; святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского; святителя Амвросия, епископа Медиоланского; святителя Спиридона Тримифунтского; святителей Петра, Алексия, Ионы и Филиппа Московских; святителя Иоанна, архиепископа Новгородского; святителя Арсения, епископа Тверского; святителей Гурия, Варсонофия и Германа Казанских; преподобных Антония, Пимена и Евфимия Великих; преподобного Алексия — человека Божия; преподобного Саввы Освященного; преподобных Иоанна Лествичника, Даниила Столпника и Григория Декаполита; священномученика Антипы; преподобного Иоанна, спостника Симеонова; великомученика Феодора Тирона и мученика Мины; святых благоверных князей Александра Невского и Даниила Московского; преподобного Сергия, игумена Радонежского; преподобного Тихона чудотворца; преподобных Александра Свирского и Пафнутия Боровского; преподобного Антония Римлянина, новгородского чудотворца; преподобного Макария, игумена Колязинского, чудотворца; блаженного Максима Московского, Христа ради юродивого».
К Кресту было приложено сопроводительное письмо (оно почему-то оказалось без начала и окончания), исписанное старческим, нетвердым почерком с буквами «ять», «фита» и так далее. Это письмо, к сожалению, ныне утеряно, но общий смысл его заключается в том, что сей Святой Крест, принадлежащий в свое время князю Василько, а затем князьям Шаховским, был передан ими роду Романовых и принадлежал царствующей семье.
Вскоре после передачи Креста матушка Серафима преставилась ко Господу. Умирая, она просила Марию Александровну молиться за упокой ее души. С этого времени Мария Александровна постоянно заказывала сорокоусты за упокой души монахини Серафимы и через некоторое время приняла решение: передать Крест-мощевик своему брату — священнику Григорию Пономареву.
Отец Григорий с почтением и глубокой ответственностью принял эту величайшую святыню на хранение, понимая, что время передачи ее Православной Церкви еще не пришло. На протяжении всей своей жизни батюшка глубоко и сердечно поминал в заупокойных молитвах монахиню Серафиму.
Мария Александровна тоже продолжала молиться о ней. Вот что она рассказала мне однажды летом, когда я приезжала к ней в Оренбург: «Рано утром я неожиданно проснулась, словно меня вдруг кто-то позвал. Прямо около кровати, где я спала, в первых утренних лучах солнца стояла матушка Серафима, ласково мне улыбаясь. Образ ее был светлым и легким. Я, конечно, растерялась и немного привстала, а она низко-низко поклонилась мне до земли и… исчезла». Это было в 1985 году.
О том, что в доме родителей хранится великая православная святыня, кроме матушки Нины и меня, никто не знал. Батюшка часто в трудных жизненных ситуациях молился перед этим Крестом и всегда получал просимое.
Расскажу о случае, который произошел на моих глазах. К отцу Григорию привезли мальчика, сильно искусанного собакой. После того как для излечения раны на руке были безуспешно испробованы все средства современной медицины, подростку должны были сделать операцию, так как у него начался остеомиелит. Операция предполагала иссечение загнившей кости на кисти руки и замену ее имплантантом. Мальчик, перенесший уже 3 или 4 чистки больной кости, был в плохом состоянии. Остеомиелит продолжал развиваться, но больного отпустили на две недели, чтобы он набрался сил перед операцией. Здоровье его было в угрожающем состоянии, когда батюшка встал на молитву. Он молился перед святыми, чьи мощи хранились в Кресте-мощевике, и несколько раз прикладывал святыню к больному ребенку. Чудо произошло буквально за два-три дня до отъезда мальчика на операцию. Во время очередной перевязки в глубине гниющей раны появилось что-то серое, твердое, как бы инородное. Мальчик, истощенный болезнью, мужественно превозмогая боль, обыкновенным пинцетом зацепил этот предмет, который легко поддался, и вытащил из раны небольшой фрагмент кости фаланги большого пальца. Боль тут же отступила. Рану немедленно обработали, к ней снова приложили животворящий Крест со святыми мощами, и отец Григорий вновь и вновь стал возносить молитвы ко Господу и Его святым. Следующее чудо последовало почти сразу за первым. За три дня рана, которая мучила подростка более полугода и грозила ему инвалидностью, а возможно, даже лишением части руки, очистилась и закрылась. К третьему дню не потребовалось даже перевязки, так как на руке была довольно глубокая, но совершенно закрытая полость со свежим, только что затянувшимся алым рубцом: края полгода не заживавшей язвы соединились… Сам мальчик, его мать, родные и отец Григорий потрясенно молчали.
Позднее были вознесены благодарственные молитвы ко Господу, Пресвятой Богородице, Животворящему Кресту Господню и молитвы об упокоении монахини Серафимы, православных христиан из рода Шаховских и царского рода Романовых.
Мария Александровна пережила своего брата на два года и скончалась в возрасте 97 лет. Тайна Царского Креста так и осталась до конца не раскрытой и ушла вместе с ней.
На этом история Креста не закончилась.
До 25 октября 1997 года Царский Крест так и продолжал тайно храниться в доме отца Григория. После ухода из жизни моих родителей Крест, естественно, оказался у меня. В течение двух лет эта святыня находилась в моем доме, а когда я уезжала — в семье моей близкой подруги и соавтора книги, редактора журнала «Звонница» Елены Александровны Кибиревой.
Елена Александровна рассказывала, что Царский Крест избавлял ее от мучительных головных болей в период напряженнейшей работы по подготовке к выпуску журналов и книг из серии «Библиотека “Звонницы”». Особенно сложной и ответственной была редакторская работа над книгами проповедей настоятеля московского храма святителя Николая, что в Пыжах, протоиерея Александра Шаргунова — «Великий Пост» и «Рождественский пост», изданных в Москве совместно с редакцией «Звонница» и по благословению епископа Курганского и Шадринского Михаила. Присутствие в рабочем кабинете святыни и прямое обращение в молитвах к святителям Василию Великому, Иоанну Златоустому и Григорию Богослову, чьи мощи наряду с другими вложены в Крест, придавали ей особые, благодатные силы и укрепляли духовно.
В 1999 году Крест-мощевик был передан мною в екатеринбургский храм Преображения Господня, что на Уктусе. Настоятель Преображенского храма протоиерей Николай Ладюк проявил особое благоговение и мужество, приняв на себя ответственность за сохранность этой святыни. В течение двух лет Крест-мощевик, облеченный в специальный деревянный киот-Распятие, выносился для всеобщего поклонения на середину храма, а вскоре был передан стороящемуся на Ганиной Яме монастырю Царственных страстотерпцев.
Отрывок из очерка «Екатеринбургская Голгофа»
Через 82 года после трагедии
Когда мы собираемся посетить какой-либо уголок земли — монастырь или храм, описанный ранее другими, — наше воображение, невольно опережая события, рисует или отражает образы этих мест. Это может быть какой-либо пейзаж или просто душевное состояние, сопутствующее нашему пребыванию в этих святых уголках. Наверное, сложившиеся образы у многих оказываются непохожими на реальность, а действительность стирает надуманное.
В серенькое январское утро 2000 года, вскоре после праздника Крещения Господня, автобус с паломниками екатеринбургского Преображенского храма, съехав с большой современной автомагистрали в лес, немного поплутал по снежным разбитым дорогам и доставил нас к месту паломничества. Собираясь посетить «Ганину Яму» — место осквернения, уничтожения тел Царственных мучеников, — душа готовилась принять что-то мрачное, скорбное, давящее, но все оказалось иначе…
Дорога, по которой мы ехали, — самая обычная, строительная, со съездами, переплетениями и тупиками. Ландшафт — наш, уральский: то холм, то низинка. Вокруг чудесный сосновый лес. Наконец, одна из дорог выводит нас на довольно большую площадку с частично вырубленными деревьями.
Сейчас уже трудно представить, что когда-то тут был небольшой рудник.
Первое впечатление (а оно, собственно, присутствовало все время нашего пребывания там) — живая, активная, деятельная работа.
Жизнь!
То, что рисовало воображение, —мрак, тишина — рассеялось как дым. Большая площадка, в центре которой — Ганина яма. И храм, рядом с ней. На краю ямы — большой деревянный Поклонный Крест.
Вся площадь строительства ограждена четырьмя охранными, пахнущими смолой крестами, вырубленными совсем недавно из бело-золотистой сосновой древесины.
Прямо перед нами — действующий храм, освященный в честь Царственных страстотерпцев. После посещения Ганиной ямы Патриархом всея Руси Алексием II и его благословения на строительство монастырского комплекса, а также после закладки архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским Викентием первого камня, храм святых Царственных мучеников вырос за три (три!!!) месяца.
Храм бело-медовый, ароматный, сложенный из свежеструганных сосновых бревен. Несмотря на то, что дневной свет попадает в него через небольшие оконца и царящий в храме полумрак, кажется, что светятся сами стены своими янтарными сосновыми стволами.
Алтарь первого храма выходит прямо на Ганину Яму и стоящий на ее краю Поклонный Крест.
В храме уже идут службы, хотя чувствуется, что благоустройство его еще продолжается. Восхитительный сосновый дух, смешанный с благовониями от каждения… Какой-то тихий и светлый мир, в который ты погружаешься находясь в храме… Чуть позже узнаем, что стена иконостаса сложена из 33 бревен.
«Это не было запланировано, — рассказывал строитель монастыря отец Сергий. — Во всяком случае, людьми…»
Когда стоишь на краю Ганиной Ямы, слышишь тихий умиротворяющий шум сосен — как шум морского прибоя. Им вторят их сверстницы-березы. Вероятно, эти деревья «видели» кровавую драму, произошедшую здесь 80 с лишним лет назад.
На краю самой ямы сосны не растут. Если они и были там в те страшные дни, — погибли, высохли…
Сосна — дерево здоровья, силы, мощи. Она не может возрастать в эпицентре злодеяния. Береза — другое дело. Это — мать! Кто, как не она, в боли и в страдании и даже в поругании опустит свои ветви на истерзанные кости, укроет их своими трепетными листочками, склонится в низком поклоне — как образ русской души, принявшей в себя всеобщее сострадание. Вот и расселились по самому краю ямы березы, а сосны ушли в глубину леса.
Очертания ямы, смягченные и временем, и слоем снега, ясно определяются по ее краям — застывшие снежные волны, наметенные в одном направлении колючим уральским ветром, да меж ними прошлогодние березовые листочки и мелкие сосновые веточки. Сосна — основной строительный материал для будущего монастыря. Из нее уже построен первый храм в честь Царственных страстотерпцев, постоянно посещаемый паломниками, несмотря на удаленность от города.
На Божественной Литургии 11 февраля 2001 года, в день памяти новомучеников и исповедников Российских, предстоял архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий. После Литургии было совершено поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову. Храм в этот день был переполнен молящимися.
Молящихся много и в самом храме, и у Поклонного Креста. Мы, наверное, пока очень мешаем строителям. На могучих тягачах они вывозят огромные вязки сосновых стволов, которые тянутся за ними, неуклюже и небезопасно разворачиваясь в узких разъездах. И тогда слышишь бодрые, энергичные окрики: «Эй, поберегись, православные!». Еще бы! Угол разворота этих гигантов огромен. Так и тянутся утрамбованные ими дороги в разные стороны будущего монастыря. Кругом жизнь, действие, энергия работы, движение, которые не дают задуматься и представить себе жуткое июльское предрассветное утро 18-го года и… все последующее за ним.
Может быть, и не надо мучить себя этими трагическими картинами. Хочется просто посидеть у Поклонного Креста, подумать, послушать, о чем шумят вечнозеленые свидетельницы. Но тишина наступит позднее, когда закончится строительство. Шумную технику уберут, уйдут строители, и на монастырское подворье тихим облаком опустится благодатная тишина и умиротворение, нарушаемые лишь шумом леса и щебетом птиц. Возникнет молитвенное чувство от слияния с природой, с Богом, углубится покаяние, и в душах людей зазвучат слова молитвы — это высший дар, который мы можем принести в своем раскрытом сердце Господу и Царственным мученикам….
Ольга Пономарева
В год прославления Архиерейским собором в лике святых Царской семьи Николая II было принято решение о передаче Креста-мощевика из екатеринбургского храма Преображения Господня в монастырь святых Царственных мучеников, что на Ганиной Яме.
Это событие произошло в день рождения Государя-императора Николая II и день памяти Иова Многострадального, 19 мая 2001 года, при следующих обстоятельствах.
По благословению Высокопреосвященнейшего Викентия, архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского, после отслуженной им в Преображенском храме города Екатеринбурга Божественной Литургии и молебна святым Царственным мученикам, новомученикам и исповедникам Российским Царский Крест-мощевик крестным ходом в специально изготовленном для этого торжества киоте был вынесен, чтобы отправиться на Ганину Яму — место уничтожения тел святых Царственных страстотерпцев. Во время крестного хода был отслужен молебен святым Царственным мученикам, новомученикам и исповедникам Российским на Вознесенской горке города Екатеринбурга, около бывшего Ипатьевского дома, где ныне воздвигается «Храм-на-крови» в память всех Святых, в земле Российской просиявших.
Далее крестный ход проследовал до Рождественского храма, построенного в наше время на Уралмаше. Здесь Высокопреосвященнейший владыка Викентий отслужил всенощное бдение воскресного дня. Ему сослужили настоятель храма митрофорный протоиерей Владимир Зязев и клир епархии. Вечером того же дня архиепископ Викентий в сопровождении священства и верующих возглавил крестный ход на Ганину Яму. От храма Рождества Господня крестный ход начал свое движение в восемь часов вечера. В одиннадцатом часу Царский Крест-мощевик встретили на Ганиной Яме в строящемся в честь святых Царственных страстотерпцев мужском монастыре. Из рук Владыки Крест принял строитель монастыря иеромонах Сергий (Романов), который прошел весь крестный ход от Преображенского храма до Ганиной Ямы. Здесь вновь был отслужен молебен святым Царственным мученикам.
В напутственном слове при передаче монастырю Креста-мощевика, принадлежавшего Царственному дому Романовых, архиепископ Викентий говорил о том, что Господь облагодетельствовал уральскую землю великой святыней во искупление русским народом грехов за убиение Царственных мучеников.
«Сегодня, — сказал Высокопреосвященнейший Влыдыка, — мы совершили с вами покаянный крестный ход, освятив город Екатеринбург Крестом, перед которым молилась Царская Семья свои последние годы. Господь еще раз показал нам, что Он не оставляет нас Своей неизреченной милостью и будет пребывать с нами во веки веков. Возблагодарим Господа нашего Иисуса Христа за Его великие благодеяния к нам, недостойным!»
«Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе!» — с этими словами владыка Викентий троекратно осенил всех присутствующих Царским Крестом.
Затем братия монастыря, отслужив Божественную Литургию воскресного дня, совершила крестный ход вокруг обители, благословляя Царским Крестом новое строительство и всех служащих, труждающихся и молящихся. Во время крестного хода, по рассказам очевидцев, Крест обильно благоухал, заполняя неземным ароматом лесные окрестности монастыря, строящегося во имя святых Царственных страстотерпцев — Императора Николая II, Императрицы Александры Феодоровны, Цесаревича Алексия, Царевен Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии.
Отрывки из очерка «Екатеринбургская Голгофа»
Трагические события в ночь с 17 на 18 июня в православных кругах Екатеринбурга всегда отмечались как скорбь и траур по Царской Семье.
В июне 2001-го года это событие приобрело иную окраску: Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение канонизировать Царственных мучеников, причислив их к лику святых.
В строящемся «Храме-на-крови», на месте бывшего Ипатьевского дома, в крипте (старинн. — ред.) будущего храма идет всенощное бдение. Службу ведет Высокопреосвященнейший Викентий, архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский. Ему сослужит духовенство епархии.
Много приглашенных гостей. Пресса. Телевидение… Далее по благословению владыки к месту строящегося монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме направляется Крестный ход.
Наверное, только на Урале бывают такие резкие перепады погоды, недаром его называют суровым. Вот и сегодня, почти в канун лета, стоит промозглый холод и идет упорный моросящий дождь — как поздней осенью. Холод и влага пробирают насквозь. Однако паломники, вознося молитвы Царственным страстотерпцам, идут не останавливаясь. Уже поздний вечер, а крестный ход идет, несмотря на холодный дождь, по разъезженной и вязкой лесной дороге и к ночи прибывает на Ганину Яму.
В строящемся монастыре — огромное стечение народа. Кругом — автобусы, легковые машины. Немного не доехав до места, стоит без присмотра мотоцикл, забуксовавший в глинистой почве, размытой дождем. Паломники с трудом пробираются меж густых сосен, приближаясь к монастырю. На их пути стоит тяжелая техника, преграждая дорогу, ведущую к только что возведенным храмам.
Как же преображается монастырь от одного посещения до другого! Уже освящены четыре престола: храм святых Царственных мучеников, храм святого преподобного Сергия Радонежского и двухэтажная церковь преподобного Серафима с нижним храмом, освященным в честь иконы Пресвятой Богородицы «Умиление», перед которой молился и упокоился с миром саровский чудотворец.
Благоустраивается и сама территория монастыря.
Красивые, изящные фонари освещают проложенные между храмами дорожки, на которых стоят удобные деревянные скамейки для гостей. Вдоль одной из дорожек — стенд с фотографиями из жизни монастырского подворья, рядом — церковная лавка.
Чувствуются во всем хозяйская забота и жертвенные труды по возведению монастырского комплекса.
* * *
…Несколько опережая крестный ход, еще до заката солнца мы прибыли на Ганину Яму.
На монастырской земле цвела весна. Она жужжала, щебетала, звенела, стрекотала, благоухала, обдувая нас нежным майским ветерком. Теплая земля, щедро поросшая медуницей и лютиками, звала приникнуть к ней. И мы, как виноватые дети, готовые уткнуться в теплые материнские руки, преклонили колена на ее мховый ковер, объединенные общим порывом покаяния перед святыми Царственными мучениками. Тысячи православных людей, желая вымолить, выплакать прощение за содеянное в 17-м году злодеяние, склонили свои головы в общей покаянной молитве…
В одиннадцатом часу вечера Царский Крест прибыл крестным ходом на Ганину Яму. На ступеньках храма Царственных страстотерпцев — владыка и духовенство, вокруг — народ. Как с исторических полотен…
Что-то древнерусское, эпическое!
Закончился молебен святым Царственным мученикам. Время суток — когда «заря с зарею сходится». Вот уже едва наметился бледный серп луны над притихшим островом святой уральской земли. Все «законодатели» весны давно спят в своих гнездах и норках. Даже майский ветерок не колышет ни листик, ни веточку. Природа замерла, склоняясь перед великой святыней.
Уставшие паломники, прошедшие весь путь от храма Преображения Господня до монастыря Царственных мучеников, с благоговением и трепетом взирают на владыку, в руках которого таинственно мерцает Царский Крест. Владыка благословляет паству Крестом-мощевиком и все понимают, что этот крестный ход — знаменательное историческое событие, главный смысл которого — покаяние русского народа.
Вблизи еще различимы отдельные силуэты кустов и деревьев, но чуть дальше они сливаются в темную сплошную полосу. На горизонте виден еще отблеск пурпурно-алой вечерней зари. Над монастырем опрокинулась фиолетово-лиловая чаша небес.
Чуть светящиеся янтарно-сосновые строения, пасхальные золотисто-красные одежды духовенства…
Дыхание замирает от сознания величия таинства всенародного покаяния. Ощущение близости Духа Святого, присутствия Царственной Седмерицы — вот оно, Божие откровение! Слава Тебе, Всемогущий Спаситель, за неизреченную милость, посланную нам!
Ольга Пономарева
* * *
В добавление к вышесказанному приведем еще одно важное свидетельство, подтверждающее историческую подлинность Царского Креста.
Во время водосвятного молебна в доме, где в 1998 году хранился Царский Крест-мощевик, было замечено следующее. Между двумя пластинами Креста, отошедшими друг от друга со временем, образовалась небольшая щель. В нее хорошо было видно, что вся полость Креста разделена как бы сотами, в каждой ячейке которых уложена светлая частичка мощей, залитая, очевидно, воском или специальной смолой. В верхней части Креста виднелись отдельные кусочки ткани и просвечивающий даже через темную смолу кусочек дерева — частица Животворящего Древа Креста Господня. Ум отчетливо понимал, что эти святыни не для праздного взгляда, а для молитвы святым, стяжавшим еще при земной жизни благодать Духа Святаго. Вот свидетели земной жизни Господа нашего Иисуса Христа — проповедник покаяния Иоанн Предтеча, друг Господень Лазарь Четверодневный… «Господи, молитвами всех Твоих святых прости нас, грешных!»
Царский Крест-мощевик и святые, чьи мощи около трех веков хранятся в нем, молитвенно соединяют нас не только со свидетелями славы Божией, но и с новомучениками и исповедниками Российскими — свидетелями славы святых Царственных страстотерпцев.
«Господи, укрепи нас в грядущих испытаниях, укрепи весь русский народ!»
«Святые Царственные мученики, новые мученики и исповедники российские, все святые, молите Бога о нас!»
И еще одно необычное свидетельство.
Вплоть до дня передачи Царского Креста в Преображенский храм он хранился в специально сшитом для этого небольшом темно-синем хлопчатобумажном мешочке. В этом «ковчежце» Крест перевозился из Кургана в Екатеринбург и из Екатеринбурга в Курган, следуя за передвижением его хранительницы.
Но вот Царский Крест-мощевик предали на Ганину Яму. Мешочек, долгое время облекавший святыню, опустел, и в него насыпали простой пищевой соли, крепко завязав, чтобы не просыпалась. Об этом на некоторое время забыли. Но каково же было удивление, когда, развязав через три года этот святой «ковчежец», заметили, что из него веет необычным ароматом. А ведь все знают, какой запах должна иметь простая пищевая соль.
Осознавая, что соль, полежав в платяном ковчежце, где ранее хранился Крест со святыми мощами, сама освятилась, ее отсыпали в новый берестовый туесок и передали как святыню в редакцию «Звонницы».
А через некоторое время, а именно в июле 2005 года, желая приложиться к освященной соли, обнаружили, что туесок так же заблагоухал, как и соль, и сам мешочек — хранитель Царского Креста-мощевика. Об этом свидетельствуют авторы этой книги — Ольга Пономарева и Елена Кибирева.
«…Утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам…» (Лк.10:21)
Прошло уже несколько месяцев, как Царский Крест был передан в монастырь святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Много паломников, посетивших монастырь, имели возможность приложиться к этой святыне. С фотографии Креста были напечатаны открытки.
Где-то в конце ноября 2001 года в «Православной газете» Екатеринбургской епархии я прочитала статью об удивительном явлении мироточения маленькой заламинированной иконки Царского Креста. Иконка эта была подарена десятилетнему Денису Харитонову из северного поселка Таборы, посетившему в августе монастырь святых Царственных мучеников на Ганиной Яме.
Чудесные события, происходившие в семье Дениса и в самом селении Таборы, были широко освещены в православной прессе. Мне же захотелось людям, которых Господь удостоил таким необычайным явлением, как мироточение, подарить книгу «Во Имя Твое…», изданную в «Звоннице». Тем более что история Царского Креста тесно связана с судьбой нашей семьи.
Вскоре я выслала настоятелю храма святого Андрея Первозванного, что в Таборах, отцу Василию Люшкову журнальный вариант книги. Подробное описание Царского Креста, предыстория его появления в монастыре святых Царственных мучеников, а также сопричастность к этому знаменательному событию протоиерея Григория Пономарева, его сестры, матушки Марии Плясуновой, и монахини Серафимы были совершенно неизвестны таборинцам.
Вместе с журналом я послала несколько ранее изданных работ отца Григория: «Сто вопросов и сто ответов на запросы христианской души», «Цветник духовный» и «Духовный дневник».
Через некоторое время я получила ответ с благодарностью за новые исторические сведения о Царском Кресте. Факты, изложенные в книге, произвели на таборинцев необыкновенное впечатление, и вскоре мне позвонили отец Василий Люшков и бабушка Дениса Галина Ивановна (староста таборинского храма) с просьбой о встрече.
Встреча состоялась. Отец Василий навестил меня в Екатеринбурге, и я из уст очевидца услышала о чуде Божием, случившемся в семье маленького Дениса из села Таборы Свердловской области. Кроме того, мне передали небольшой флакончик чудесного мира, которое стекало с бумажной заламинированной иконки-Креста и с икон Царственных мучеников.
Впоследствии я описала это удивительное событие для публикации в «Звоннице». Все, что поведал мне отец Василий Люшков: историю таборинского храма, описание самого чуда и рапорт батюшки об этом событии Высокопреосвященнейшему Викентию, архиепископу Екатеринбургскому и Верхотурскому, — приводится далее целиком.
* * *
На северо-востоке Свердловской области, в краю холодных прозрачных озер, среди таежных лесов, между двух рек (Тавды и Таборинки) раскинуло свои избы старинное село Таборы, теперь уже районный центр. Еще в 1583 году тут возникло поселение манси, которые наряду с хантами составляют коренное население этих мест.
Много воды утекло в Тавде и Таборинке за 400 лет существования поселения. А жилища населения (юрты и яранги) приобрели постепенно обычный для Руси вид — бревенчатых изб.
В 1621 году в селе был построен первый деревянный храм в честь Преображения Господня, имеющий два придела. Замененный впоследствии на каменный, он простоял до 1924 года. Разграбленная и медленно разрушающаяся Преображенская церковь сохранилась до наших дней, но в таком плачевном состоянии, что восстановить её пока не представляется возможным.
В ноябре 1997 года в Таборах был освящен престол нового, построенного из деревянного бруса храма. Церковь освятили во имя святого апостола Андрея Первозванного. С этого времени в Таборах стала возрождаться церковная жизнь. Конечно, за более чем шестидесятилетний временной провал выросло не одно поколение таборян, не соблюдающих в большинстве церковные устои и так и не обретших веру в Бога. Но за последние годы православная жизнь в Таборах затеплилась, хотя, по словам отца Василия, восстанавливать утраченные церковные традиции и воспитывать православную паству очень сложно. Но Господь по молитвам пастырей Христовых дает людям веру, укрепляя ее через Свои чудотворения.
Пятнадцатого ноября 2001 года в доме старосты таборинского храма учительницы математики Давыдовой Галины Ивановны стали происходить удивительные события.
В семье Галины Ивановны живет ее внук, десятилетний Денис Харитонов, которого родные воспитывают в православной вере. Он помогает настоятелю церкви отцу Василию Люшкову, прислуживая в алтаре.
Летом 2001 года Денис побывал в паломнической поездке на Ганиной Яме. Мальчик впечатлительный, он с детской чистотой и непосредственностью принял в свое сердце трагедию святых Царственных мучеников. Напитываясь духовной атмосферой монастырских храмов, Денис неоднократно прикладывался к святыне обители — Царскому Кресту-мощевику. Получив благословение и маленькую заламинированную иконку Креста из рук строителя монастыря иеродиакона Сергия (Романова), он пробежал по всем храмам, прикладывая ее к монастырским святыням: иконам святых Царственных страстотерпцев и к Поклонному Кресту на самой Ганиной Яме. Приехав домой, он укрепил полученную им иконку Царского Креста на домашнем иконостасе.
Детская вера — самая чистая и сильная. Наверное, именно поэтому Господь через благочестивого отрока послал укрепление не только таборинцам, но и всем людям, соприкоснувшимся с чудесными событиями, произошедшими в Таборах.
Привожу выдержки из письма Галины Ивановны Давыдовой, присланного мне вскоре после того, как она получила журнал «Звонница» с подробным описанием истории Царского Креста:
«…Пятнадцатого ноября 2001 года рано утром я зашла в комнату, где находятся иконы (уголок внука), и почувствовала странное благоухание. Откуда оно, я не поняла. Ближе к восьми утра проснулся Денис и, тоже ощутив еще усúлившийся аромат, стал тщательно изучать, откуда это благоухание. Он обнаружил, что благоухает Царский Крест-мощевик (заламинированная иконка размером с календарик, подаренная ему на Ганиной Яме). Позднее в этот же день от иконы Царского Креста-мощевика началось мироточение. Я поспешила сообщить об этом настоятелю нашего храма отцу Василию Люшкову. На другой день был отслужен молебен. Батюшка помазал всех миром, которого собралось уже достаточно много. Он сказал: “Можете помазать больные места”. Прихожанка таборинского храма раба Божия Мария, страдающая болезнью почек, помазала больное место. Через несколько дней она сообщила, что боль её совершенно оставила.
В конце ноября наша семья повторно посетила Ганину Яму. Моя дочь живет в городе Тавда. Возвратившись домой, она обнаружила, что у нее заблагоухала икона Царственных мучеников. Икона была передана в тавдинский храм. Благоухание от этой иконы продолжается до сих пор. Мне, грешной рабе Божией Галине, трудно вместить все это и понять. Молю Бога о милости и помощи в понимании всего происходящего и благодарю за дарованную радость…».
Рапорт
«Ваше Высокопреосвященство!
Смиренно довожу до Вас о великой милости Божией, посетившей наш приход.
Пятнадцатого ноября 2001 года в семье преподавателя математики и председателя приходского совета Давыдовой Галины Ивановны заблагоухала, а затем замироточила икона Царского Креста-мощевика с частицей покрова, освященного на нем. Икона представляет собой заламинированную литографию размером с календарик. Галина Ивановна проживает с 10-летним внуком, Харитоновым Денисом, который в августе посетил и некоторое время находился в монастыре на Ганиной Яме. Иеродиакон Сергий после службы раздавал прихожанам иконки с изображением Креста-мощевика, одна из которых впоследствии и замироточила.
Особенно выделение Священного Мира усиливается, когда Денис поет тропарь Кресту… Иногда слышится даже журчание…
Денис при храме около года несет послушание алтарника. Это очень впечатлительный, тонкий в чувствах и богобоязненный мальчик. В своей комнате он соорудил из имеющихся иконок небольшой иконостас, где и была помещена иконка Креста-мощевика.
О мироточении иконы мне сообщили утром шестнадцатого ноября 2001 года. Сразу об этом были оповещены прихожане, и вечером в комнате, где находится иконка, был отслужен молебен с акафистом Честному и Животворящему Кресту с последующим помазанием миром.
Семнадцатого ноября замироточила другая икона Креста-мощевика, в форме открытки, которая была приобретена в том же монастыре. Восемнадцатого ноября после Божественной Литургии по Вашему благословению был совершен крестный ход к дому Галины Ивановны, где при стечении народа перед иконой был отслужен молебен Животворящему Кресту и при пении тропарей Кресту и других православных гимнов икона была перенесена в храм, где также был отслужен молебен Животворящему Кресту с помазанием миром прихожан.
Девятнадцатого ноября замироточили другие иконы (находившиеся в доме Галины Ивановны — ред.): святого праведного Симеона Верхотурского, святого преподобного Серафима Саровского, Новомучеников российских, Почаевской Божией Матери и икона Божией Матери “Всецарица”, находившаяся в другой комнате. К двадцать третьему ноября замироточило всего 12 икон, в том числе икона “Неупиваемая Чаша”. Перед тем как замироточил Крест-мощевик, у мамы Дениса, Харитоновой Евгении Юрьевны, заблагоухала икона, на которой изображена Царская семья. Она проживает в г. Тавда, там же была куплена икона.
Об этом чуде было сообщено жителям Таборинского, Тавдинского, Туринского районов и пресc-службе епархии. Организовано посещение святыни интеллигенцией, администрацией, учащимися поселка. Оповещены руководители сельских советов Таборинского района, которые организовали паломничество своих сельчан.
Дана информация в местную газету “Призыв”, в “Тавдинскую правду”, организован приезд тавдинского телевидения. Смогли засвидетельствовать чудесное явление при своем посещении священство Тавдинского, Кошукского, Азанковского приходов, администрация и прихожане г. Тавды. Каждый день, независимо от посещения, перед Крестом служится молебен.
Двадцать седьмого ноября мироточили уже 21 икона и деревянный Крест, на который была прикреплена иконка Креста-мощевика».
Вашего Высокопреосвященства
смиренный послушник, настоятель храма
святого Андрея Первозванного иерей Василий Люшков
Молитва Царскому Кресту-мощевику
«Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивныя даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство!
Спаси, Господи, помилуй рабов Твоих (имя рек.) молитвами Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, силою Честнаго и Животворящего Креста Твоего, молитвами святых Твоих: честнаго и славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна; святого Андрея Первозванного; преподобного Саввы Сторожевского; святого праведного Лазаря Четверодневного, епископа Китийского; святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого; святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского; святителя Амвросия, епископа Медиоланского; святителя Спиридона Тримифунтского; святителей Петра, Алексия, Ионы и Филиппа Московских; святителя Иоанна, архиепископа Новгородского; святителя Арсения, епископа Тверского; святителей Гурия, Варсонофия и Германа Казанских; преподобных Антония, Пимена и Евфимия Великих; преподобного Алексия — человека Божия; преподобного Саввы Освященного; преподобных Иоанна Лествичника, Даниила Столпника и Григория Декаполита; священномученика Антипы; преподобного Иоанна, спостника Симеонова; великомученика Феодора Тирона и мученика Мины; святых благоверных князей Александра Невского и Даниила Московского; преподобного Сергия, игумена Радонежского; преподобного Тихона чудотворца; преподобных Александра Свирского и Пафнутия Боровского; преподобного Антония Римлянина, новгородского чудотворца; преподобного Макария, игумена Колязинского, чудотворца; блаженного Максима Московского, Христа ради юродивого, их же святые мощи в Кресте предлежаще, яко усердно к вам прибегаем, скорым помощникам и молитвенникам о душах наших.
Попали, Господи, терния всех прегрешений наших вольных или невольных, и да вселится в нас благодать Твоя, просвещающая и освящающая всякого человека.
Молитвами Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и всех святых Твоих, Всемилостивый Спасе, примири души наша. Даждь нам дар покаяния и молитвы. Аминь!
Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: монахини Серафимы, всех православных христиан из рода Шаховских, протоиерея Константина и его матушки Марии, протоиерея Григория и его матушки Нины, ныне нами поминаемых, и прости им вся согрешения вольная и невольная и даруй им Царствие Небесное. Аминь!»
Молитва составлена в 1998 году по благословению Преосвященнейшего МИХАИЛА, епископа Курганского и Шадринского.
Отец Григорий — богослов-апологет, исследователь в области литературы, искусства и науки
Слова мудрых — как иглы и как вбитые гвозди, и составители их — от Единого Пастыря.
Еккл.12:11
Что такое богословие? Знание Бога есть наука опытная. Только чистые сердцем Бога узрят, и потому истинное богословие должно быть благочестием.
Священномученик Иларион (Троицкий)
Получив от Преосвященного Михаила, епископа Курганского и Шадринского, благословение на издание архива отца Григория, редакция издательского отдела «Звонница» приступила к подготовке этих трудов в печать. Все работы требовали в первую очередь сверить авторские ссылки с первоисточниками, а их в общей сложности насчитывалось около семидесяти. С этой целью и была предпринята поездка в Санкт-Петербург, в котором учился и работал в библиотечных фондах митрофорный протоиерей Григорий Александрович Пономарев.
Помещаем ниже рассказ редактора православного альманаха «Звонница» Кибиревой Елены Александровны, написанный ею по возвращении из Санкт-Петербурга.
Моя командировка в Питер в июне 2005 года не была столь неожиданной, как могло показаться на первый взгляд. Именно в результате этой поездки раскрылся малоизвестный до этого времени образ отца Григория — богослова, апологета, который стал исследователем достижений науки на рубеже ХIХ-ХХ веков в сфере естествознания. Благодаря неслучайным встречам в Александро-Невской Лавре и документам, обретенным в архиве Духовной Академии Санкт-Петербурга, протоиерей Григорий Александрович Пономарев предстал перед нами как образованнейший человек своего времени, глубокий мыслитель, обладающий самыми широкими познаниями в области святоотеческой литературы, православной культуры и науки.
Труды «За веру против неверия», «Гуманизм христианской морали», «Оскудение веры», «Кто Творец мира: Бог или природа?», «О смысле жизни (о вечности)» были обнаружены в духовном архиве батюшки после его праведной кончины совершенно случайно — он никогда и никому о них не говорил. Отец Григорий писал «в стол» и не посвящал в свои творческие планы даже самых близких людей. Пожалуй, знал об этом только один человек, который был духовно близок отцу Григорию, — его духовник и сотаинник протоиерей Павел Ездаков, служивший в селе Боровлянка Притобольного района Курганской области.
Отец Григорий был гоним. Он тщательно скрывал от мира свои литературные замыслы, остерегаясь открытых обысков и доносов. Может быть, отчасти, именно поэтому многие работы отца Григория остались не закончены. Уполномоченный по делам религии не раз предупреждал его: «Что вы все никак не успокоитесь? Отслужили полтора-два часа, и ловbте целый день рыбку на берегу. Ведь святой ваш, Симеон Верхотурский, тоже любил так время проводить».
Батюшка был очень скромным человеком и никогда не выпячивал своих каких-то особых знаний, а разговаривал с людьми простым, доступным для них языком. Никто не догадывался, что за внешней простотой отца Григория и его доступностью в общении кроется глубокий интеллект и высокая образованность.
Серьезные богословско-философские размышления о вере и неверии, о вечности написаны отцом Григорием как противостояние воинствующему атеизму ХХ-го века, и, может быть, некоторые «доброжелатели» скажут, что сегодня это уже неактуально. Но нам интересно все, чем жил отец Григорий: о чем он думал, как рассуждал, как защищал веру, как исповедовал Христа Распятого, и как, в конце концов, он пришел к вершине своего творчества — Духовному Дневнику священника.
Поездка в Санкт-Петербург дала удивительные результаты. Кроме знакомства с первоисточниками, на которые ссылался в своих трудах отец Григорий и большинство из которых оказались редкими книжными экземплярами, в редакцию совсем неожиданно попали архивные документы Санкт-Петербургской Духовной Академии, которые помогли установить точные даты и некоторые неизвестные ранее факты из жизни отца Григория во время его учебы в Ленинграде.
Мы благодарим Его Высокопреосвященство Высокопреосвященнейшего Константина, архиепископа Тихвинского, ректора Санкт-Петербургских Духовных Академии и Семинарии, а также заведующего библиотекой Духовной Академии отца Стефана за благословение, всестороннюю помощь и поддержку, оказанные редактору «Звонницы» в ходе работы.
Годы учебы отца Григория в Санкт-Петербургской Духовной Академии
Весной 1953 года, после десяти лет заключения и шести лет вынужденного пребывания на Дальнем Востоке отец Григорий вернулся на родной Урал, а уже осенью, получив письменное благословение архиепископа Свердловского и Ирбитского Товии, приехал учиться в Ленинград. Девятого августа, будучи в сане диакона, он подал на имя ректора Ленинградской Духовной Семинарии заявление для зачисления его на заочный сектор и был зачислен.
Обводной канал, 17. С волнением захожу в здание Духовных Академии и Семинарии. Поднимаюсь на второй этаж, в библиотеку. Ровно пятьдесят лет назад по этим же самым выщербленным ступенькам спешил на экзамены воспитанник Семинарии, а затем студент Академии Григорий Пономарев.
На площадке между первым и вторым этажом — иконы. Но почему они так привлекают внимание?
Вот образ Господа в терновом венце, а вот — исполненная на цветном металле редкая икона просветительницы Грузии святой равноапостольной Нины — небесной покровительницы дорогой супруги батюшки Нины Сергеевны.
Образ святой просветительницы всегда был дорог сердцу отца Григория и проходил с ним рядом через всю его жизнь! Невольно вспоминаю, что в семейном архиве батюшки до сих пор хранится перепечатанный на машинке канон равноапостольной Нине, который батюшка как подарок преподнес своей дорогой супруге 27 января 1972 года. На первой странице рукой отца Григория выведено: «На молитвенную память милой, дорогой моей Ниноньке в День Ангела!». И подпись: «От любящего Гриши».
Обложка книжки с любовью украшена букетиком цветов, вырезанным из цветной открытки, а внутри — фотография с иконки равноапостольной Нины да расплющенная свечка из тех времен — восемь лет уже прошло, а она, кажется, только что затушена.
Конечно, чудно все это и до боли трогательно!
Мысли мои убежали куда-то в сторону…
Но, собравшись, захожу в студенческую библиотеку. Старенькие столы, стулья… Сердце, в волнении, застучало чаще обычного: «Неужели здесь когда-то часами работал наш батюшка…».
Отец Стефан, заведующий академской библиотекой, очень приветлив. Именно благодаря его участию и по письменному благословению архиепископа Константина я познакомилась с архивным делом студента заочного сектора Академии и Семинарии Григория Пономарева. Вот оно — учебное дело № 320.
Изучаю его внимательно и с пристрастием.
Исторические документы, хранящиеся в архиве Академии с осени 1953 года, подтвердили некоторые детали из биографии отца Григория. Так, например, в анкетных и паспортных данных, заполненных рукой отца Григория, в графе о социальном положении он написал «рабочий», а в графе об образовании указал: «домашнее образование в объеме семилетки».
Однако, несмотря на отсутствие диплома о среднем образовании, отца Григория приняли сразу в третий класс Семинарии.
Кстати, в этой же анкете отец Григорий указал, что паспорт выдан ему 2 ноября 1950 года на основании временной справки, выданной ему как бывшему заключенному райотделом МВДСГПУ Дальстроя. С этой справкой, заменяющей паспорт, отец Григорий прожил на Дальнем Востоке три года, и только через несколько лет после освобождения получил гражданский паспорт в райотделе милиции поселка Ягодный Хабаровского края. Может быть, это одна из причин, почему отец Григорий так долго (шесть лет) не мог вернуться домой после пребывания в местах лишения свободы.
Духовные Семинария и Академия Ленинграда были в те времена одними из немногих действующих в стране высших духовных учебных заведений. В Александро-Невской Лавре, расположенной рядом, находились тогда различные госучреждения военно-промышленного комплекса «Прометей».
Духовная Академия Санкт-Петербурга была с давних пор одним из самых известных и престижных духовных заведений России. Она давала образование и выпускала из своих стен не просто кандидатов богословских наук. Это были высокообразованные люди, имеющие не только богословские знания — они изучали основы нескольких иностранных языков, хорошо знали историю России и Церкви и умели вести богословскую полемику на «языке всех человеческих знаний». В пределах одного только семинарского образования студенты изучали, кроме обязательного русского, четыре(!) иностранных языка: греческий, немецкий, древнееврейский, латинский. Отдельными курсами познавались русский язык и его история.
Из документов тех лет в архиве Академии до сих пор хранятся единовременные справки-зачетки, которые выдавали студентам на каждый экзамен.
Вот они — эти пожелтевшие от времени справки, лежат передо мной. Им чуть более пятидесяти лет. Графы заполнены пером чернильной ручки: фамилия ученика, дисциплина, курс, оценка, экзаменатор, дата. Справку сдавали в учебную часть после экзамена и подшивали в личное дело учащегося. Именно поэтому и сохранились до нашего времени табели и оценки всех без исключения учащихся Академии.
А вот и оценки отца Григория. Интересно?
Перечислим предметы, которые отец Григорий сдавал на «хорошо» и «отлично». Напомним только, что батюшка закончил весь семинарский курс за два года вместо отведенных учебным планом четырех.
Итак, открываем табель успеваемости учащегося III и IV классов заочного сектора Ленинградской Духовной Семинарии диакона (а далее священника) Григория Александровича Пономарева:
«Ветхий Завет» — 5,
«Новый Завет» — 5,
«Пастырство» — 5,
«История русского языка» — 5,
«История Древней Церкви» — 5,
«История Русской Церкви» — 5,
«Сочинение» — 5,
«Пение» — 5,
«Греческий язык» — 5,
«Догматическое богословие» — 5,
«Пастырское богословие» — 5,
«Сравнительное богословие» — 5,
«Нравственное богословие» — 4,
«Основное богословие» — 4,
«Раскол» — 5,
«Гомилетика» — 5,
«Практическое руководство» — 5,
«Апологетика» — 5,
«Литургика» — 4,
«Проповедь» — 4.
Сохранились даже преподавательские отзывы на сочинения учащегося Пономарева Г. А.
Закончив Ленинградскую Семинарию, отец Григорий планировал продолжение учебы на заочном секторе Академии. 24 февраля 1956 года он подал заявление с просьбой о зачислении. Так и написал заведующему заочным сектором Духовной Академии профессору С. А. Купресову: «Желая еще больше расширить свои богословские знания и употребить эти знания на благо святой Церкви, прошу Вашего ходатайства перед учительским педагогическим советом о зачислении меня на первый курс Духовной Академии».
И был зачислен. Однако после перевода на второй курс Академии у отца Григория начались неожиданные проблемы. Заключались они в следующем.
Через год по прибытии из мест заключения отец Григорий подал заявление в Кушвинский районный отдел милиции о снятии с него судимости. А в ноябре 1954 гражданина Пономарева Григория Александровича вызвали в следственные органы Свердловской области в связи с пересмотром «дела церковников». Следователи интересовались в основном характером и подробностями ведения его допросов в 1937 году. Они готовили новое обвинение — уже против тех, кто вел материалы по делу отца Григория в 37-м году. Новое время — новые обвинения: новая власть, хрущевская, обвиняла старую, сталинскую. В стране опять начались аресты, допросы и обыски — уже новой (какой по счету!) волной. Ко всему прочему, в ходе пересмотра дела 37-го года открылись новые подробности обвинения близких отцу Григорию людей, с которыми он вместе служил в невьянской кладбищенской церкви, — настоятеля Вознесенского храма протоиерея Григория Лобанова, отца Леонида Коровина, протодиакона Николая Иванова, — и батюшка не медля выступил за восстановление их честных имен и, уже посмертную, реабилитацию. Все это отнимало много душевных и физических сил.
Для снятия судимости с отца Григория потребовали множество различных справок и характеристик — на это ушел почти год. И только 23 марта 1955 года Судебная коллегия по делам Верховного суда за отсутствием состава преступления отменила постановление тройки УНКВД от 21 ноября 1937 года, по которому Пономареву Г. А. вынесли обвинение как «руководящему участнику фашистско-повстанческой организации церковников на Урале».
Конечно, все эти обстоятельства — допросы, постоянные вызовы в районное отделение милиции и в следственные органы Свердловска — не могли не вызвать самых серьезных опасений в семье отца Григория, уж больно горячо пригревала «хрущевская оттепель». К тому же все чаще и чаще батюшка стал замечать какой-то странный беспорядок в своих бумагах, семинарских книгах и записях, зная при этом, что никто из домашних не решился бы без благословения «наводить порядок» в его черновиках. Значит, это чужие. Причем осмотр (или обыск?) сделан тайком!
Страх снова оказаться «врагом народа» заставил отца Григория быть не просто предельно осторожным, но и отложить до лучших времен учебу в Академии. Уезжать из дома становилось теперь все опаснее — держали в напряжении тайные досмотры бумаг и тетрадей, в которых отец Григорий, не скрывая свое противостояние режиму, вел аргументированную полемику с государством против его воинствующей пропаганды безбожия. Хрущев, мы знаем, усилил эту борьбу, публично пообещав «показать последнего попа».
В итоге — первый отказ явиться на сессию.
27 апреля 1957 года он пишет в Академию: «Явиться на очередную сессию к 8 мая с/г. не имею возможности. Прошу зачислить в список на осеннюю сессию. Заочник I курса Духовной Академии, священник Г. Пономарев».
Все чаще стали беспокоить отца Григория сердечные боли. Не отступало высокое давление. Привязался радикулит. Но более всего тревожило батюшку то, что невыносимо страдала и переживала матушка Нина, его дорогая Нинонька, здоровьем которой он бесконечно дорожил. Сессию за сессией он откладывал поездки в Ленинград. Еще в 1955 году он очень кратко записал в своем дневнике: «Важное — событие Нины. 3/V- 55 г. (операция)». А вот и телеграмма, данная им в учебный сектор ЛДА в ноябре 1957 года: «Ввиду болезни жены на зачетную сессию прибыть не могу. Заочник первого курса Пономарев».
В октябре 1958 года он снова пишет в Академию на Обводном канале: «На очередную сессию, имевшую быть 17 октября 1958 года, прибыть не мог по состоянию здоровья. Прошу выслать материалы по догматическому богословию за II курс Академии…».
В декабре 1958 года он направляет доценту Купресову Сергею Алексеевичу прошение: «…Разрешите писать по курсу гомилетики на тему: “Общая характеристика блаженного Августина, его семья, воспитание, образование, общество”. Если же найдете эту тему неподходящей, прошу Вашего указания и утверждения новой темы». Кстати, еще одно сочинение, как следует из архивных документов, было на тему: «Догматы и нравственность». Как эти темы близки, созвучны личности отца Григория, воспитанного в глубоко религиозной православной семье!
В январе 1959 года он получил ответ, что тему предложенного им сочинения утверждают. Но уже в феврале 1959 года отец Григорий отправляет другое письмо: «Ввиду моего болезненного состояния прошу освободить меня от академических занятий по заочному сектору сроком на один год. Прилагаю при сем медицинскую справку…».
Справка из тагильского облздрава от 17 января 1959 года, выданная для представления по месту учебы, подтверждает диагноз врачей: «Гипертоническая болезнь I-II степени. Атеросклероз. Кардиосклероз. Радикулит». Отцу Григорию было в то время чуть более 40 лет, но он имел уже от непосильных нагрузок и сердечных переживаний стариковские болезни.
В итоге Советом Академии от 6 марта 1959 года отца Григория отчислили из состава студентов Академии по болезни на один год.
По прошествии полугода, в сентябре 1959 года, отец Григорий направляет в Академию заявление, чтобы приступить к продолжению академических занятий по второму курсу заочного сектора, и просит выслать ему учебники по догматическому богословию, литургике, истории Русской Церкви и латинскому языку.
Но вскоре, в ноябре, получает из Академии ответ, что прием на заочный сектор прекращен. На этом переписка иерея Пономарева Г. с заочным сектором Академии обрывается, и мы можем только предположить, какие обстоятельства помешали батюшке закончить высшую духовную школу Русской Православной Церкви.
Приведем здесь некоторые выдержки из рецензий строгих преподавателей Духовной Академии на сочинения студента Пономарева, извлеченные из учебного архива: «Сочинение написано хорошо. Ошибки встречаются в незначительном количестве»;
«Сочинение грамотное…»;
«Тема “Божественное величие Иисуса Христа в чудесах” выявлена на основании Св. Писания и свидетельств истории убедительно. Почерк очень мелкий»;
«Проповедь написана с любовью и с чувством…».
Тема одного из сочинений заочника Пономарева звучит: «Идеал пастырского служения по Евангелию от Иоанна». Это сочинение отец Григорий написал своей жизнью, и написал его на «отлично». Подвигом своей жизни он явил нам идеал пастырского служения по Евангелию от Иоанна. А сегодня уже новые студенты на примере исповедника веры протоиерея Григория Пономарева могут раскрыть эту трудную тему, потому что отец Григорий действительно был евангельским «образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» (ср. 1 Тим.4:12).
Работа батюшки в публичной библиотеке Санкт-Петербурга
«Слова мудрых — как иглы и как вбитые гвозди, и составители их — от Единого Пастыря» (Еккл.12:11).
Эти библейские слова звучат как лейтмотив всей главы и на новой глубине раскрывают образ молитвенника уральской земли и исповедника веры митрофорного протоиерея Григория Пономарева.
Мудрым в древнем Израиле называли просвещенного Богом человека, который, имея богооткровенные знания, мог в действительной жизни разрешить все возникшие на этой почве недоумения и противоречия. Подобно игле (острию на палках погонщиков и пастухов), слова мудрых и сегодня призваны будить людей от нравственного равнодушия и лени и нудят их к исполнению Божиих заповедей. Слова эти — от Единого Пастыря, «Который, пася Израиль, раздает мудрым жезлы с тем, чтобы они пасли людей»[11].
Именно таким составителем мудрых слов от Единого Пастыря и был отец Григорий. Господь вверил ему Свой жезл, чтобы пасти людей, и слова его стали для нас действительно как вбитые гвозди.
На протяжении всей своей жизни отец Григорий неустанно и пытливо тянулся к правде жизни — жажда духовного познания мира владела им неотступно.
Как мы уже знаем, батюшка имел возможность работать с книгами еще будучи на Севере, где Господь сподобил его возможности изучать творческое наследие многих зарубежных и русских деятелей культуры и искусства. Сохранился до нашего времени блокнот, в котором химическим карандашом рукой отца Григория сделаны выписки из романа Виктора Гюго «Труженики моря».
Приезжая на сессии в Ленинградскую Духовную Семинарию, он часами работал в главной библиотеке города — «Публичке», как ее привычно называют сами питерцы. Работая в публичной библиотеке Ленинграда, отец Григорий внимательно исследовал сложные для понимания современные научные достижения ученых-естествоиспытателей, изучал дневники известных деятелей искусства и культуры, прорабатывал и конспектировал полные собрания сочинений русских публицистов, писателей и поэтов. Это был настоящий исследователь; им двигало ревностное, по разуму, желание убедить советского человека, потерявшего свои православные корни, что Бог есть, что Господь Иисус Христос — Истинный Создатель и Творец мира, что Евангелие — это не «красивая легенда», а Книга истинного бытия мира.
Тщательно и последовательно на протяжении многих лет изучал отец Григорий периодическую печать своего времени, живо реагировал в своих апологетических трудах и проповедях на все воинствующие выпады атеистов против православной веры, и «сердце его дышало разумом, а в груди возрастала мудрость» (ср. 3 Ез.14:40).
Он изучал не только православную духовную литературу, но и творения таких неправославных авторов, как Н. Казмин-Вьюгов, Г. Плеханов, М. Криницкий, З. Гиппиус, немецкая писательница Ф. Ман. Изучал для того, чтобы, зная аргументы мира, враждующего с Церковью, отражать эти нападки и защищать веру.
Он работал тщательно, на пределе своих сил и возможностей… Так, например, чтобы привести высказывания Белинского о Библии, отец Григорий исследует и анализирует около четырех различных изданий литератора: от сборника «Статьи и рецензии» в 3-х томах (М.,1834-1848 гг.) до многотомника «Избранные философские сочинения» (М., 1948 г.). Он перечитывает переписку А. Чехова, Н. Крамского, И. Репина, В. Поленова. Чтобы понять переживания Крамского во время работы художника над образом Христа в картине «Христос в пустыне», отец Григорий знакомится с воспоминаниями его современника, Репина, ярко изложенными в книге Ильи Ефимовича «Далекое близкое».
Он штудирует три тома воспоминаний Л. Ноля о жизни и творениях Л. Бетховена, составленных на основе дневников и писем композитора (а это, ни много ни мало, а около тысячи страниц плотного текста); знакомится с депутатской речью В. Гюго, изучает уникальный труд по естествознанию И. Гёте «Учение о цвете». Разве известно широкому кругу читателей, что великий немецкий поэт был автором целого сборника трудов по естествознанию?!
Он изучает литературу из разных фондов Ленинградской публичной библиотеки — книги уникальные, редкие, малодоступные сегодня простому читателю. Среди них такие труды, как путевые заметки «За океан» В. Витковского (СПб, 1901 г.), «Дневник старого врача» — сочинение Н. Пирогова (Киев, 1916 г.), «Новые проблемы воспитания» Е. Лозинского (СПб, 1912 г.), «О религиозном воспитании детей» Н. Казмина-Вьюгова (СПб, 1908 г.), «Иисус Христос в современной духовной жизни» Е. Пфенингдорфа (М., 1913 г.), «Наука и апологетика» геолога А. Лаппарана (1911 г.), «Сила и материя» немецкого профессора Л. Бюхнера (СПб, 1907 г.), «Современная философия» французского писателя А. Рея (СПб, 1911 г.), «Введение в философию» Г. Челпанова (Киев, 1907 г.), «Религиозные воззрения естествоиспытателей» Э. Деннерта (Харьков, 1912 г.), а также «Избранные философские сочинения» М. Ломоносова, многотомные сочинения А. Герцена, Н. Добролюбова, М. Салтыкова-Щедрина, Д. Мамина-Сибиряка, В. Соловьева, Г. Гейне, А. Пушкина, А. Чехова, В. Ключевского, Ф. Достоевского, У. Шекспира, Ф. Шиллера, Л. Толстого, Н. Гоголя, Н. Вагнера, С. Цвейга и многие другие.
Все эти книги (около семидесяти первоисточников общей численностью более ста томов), на которые ссылается отец Григорий в своих трудах, были затребованы мною в июне 2005 года в читальных залах Российской национальной библиотеки Санкт-Петербурга и в библиотеке Духовной Академии — так появилась реальная возможность познакомиться с теми редкими изданиями, которые когда-то изучал батюшка.
Большинство книг, особенно по естествознанию и философии, кем-то уже были проработаны, там оставлены карандашные пометки, многие места подчеркнуты… Но об этом расскажем позднее.
Так неожиданно раскрылась никому неведомая до этого времени новая грань образа митрофорного протоиерея Григория Александровича Пономарева — незауряднейшего человека своего времени, апологета, кропотливого исследователя, подвергающего богословскому анализу современные научные открытия… Эта грань буквально перевернула все устоявшиеся представления о нем, ограничившие его образ рамками мудрого сельского батюшки, претерпевшего несправедливые гонения от властей и ближних и выстоявшего в этой борьбе.
Конечно, для меня поездка в Санкт-Петербург в начале лета 2005 года стала настоящим открытием, несмотря на то, что работа над книгой об отце Григории продолжается вот уже восемь лет.
«За веру против неверия». Веруют ли ученые?
Перед нами — работа протоиерея Григория Пономарева «За веру против неверия», где автор ведет с воображаемым читателем актуальную и для нашего времени развернутую полемику о том, «правда ли, будто ученые профессора и все вообще люди великого ума и больших знаний нерелигиозны».
«Действительно ли, — пишет отец Григорий, — ученые совсем безрелигиозны и смеются над детской верой всех христиан, любящих своего Бога? И правда ли, будто религия доживает свои последние дни и сдает науке одну за другой свои боевые позиции?
О нет, ничего подобного! Ни слова правды! Наука и не думала враждовать с религией…»
А далее батюшка ссылается в своей книге на редкие издания: Э. Деннерта «Религиозные воззрения естествоиспытателей», А. Табрума «Религиозные верования современных ученых», В. Кожевникова «Современное научное неверие», А. Лаппарана «Наука и апологетика».
Прошло более пятидесяти лет с того времени, когда эти работы изучал в библиотеках Санкт-Петербурга отец Григорий. И сегодня по специальному требованию мне предоставлены для ознакомления все эти книги. Вот они — первоисточники, с которыми работал когда-то батюшка!
Это кажется невероятным!
Чтобы более точно передать впечатления от всего увиденного и прочитанного в залах одной из богатейших библиотек страны, позвольте, дорогой читатель, перейти к изложению последующих событий от своего лица…
Мне посчастливилось не только держать в руках те книги, на которые ссылается в своих трудах отец Григорий, но и целиком ксерокопировать эти уникальные издания, вышедшие в печать в начале прошлого века ограниченным числом экземпляров. Это была, конечно, милость Божия, чтобы иметь возможность более внимательно изучить содержание первоисточников и проанализировать труды отца Григория. Совершенно очевидно, что батюшка не просто ссылался на авторов вышеперечисленных книг; он тщательно и основательно прорабатывал их, раскрывая тему взаимоотношений науки и религии с богословской точки зрения.
В архиве отца Григория находится восемь вариантов книги «За веру против неверия» (от рукописи до машинописного). Это говорит о том, что батюшка на протяжении многих лет углублялся в тему и осмысливал предмет своего изложения, с каждым годом все более аргументированно выстраивая защиту в пользу религии. Так постепенно от объема статьи он переходит к целой книге. Параллельно он работает над темой «Оскудение веры», ссылаясь, как и в предыдущей книге, на те же первоисточники. И вот вывод, который он делает в своих трудах:
«Пора, давным-давно пора проникнуться сознанием, что истинно просвещенный разум — не враг веры, а ее опора и светильник. Веру в Бога может отрицать только поверхностное образование, которое лишь пригубило с края чашу знания и самоуверенно полагает, что ему все ясно, все доступно, все ведомо. Истинное же просвещение, которое основано на познании тайн неба и земли, на уяснении законов природы, неизбежно приводит человека к Богу. Изучение необъятной книги Божией, имя которой — Вселенная, заставляет величайших ученых в каждой странице, в каждой строке этой книги, в движении небесных миров и в жизни самой ничтожной букашки видеть ясно начертанное имя Творца».
Как-то в разговоре с домашними отец Григорий обронил фразу о том, что он мог бы стать богословом, но не продjлжил богословское образование в Академии, так как перед ним стояли другие задачи.
Теперь мы знаем, что самой главной задачей для него было спасение человеческой души. Господь поставил его на передовую линию фронта, где он боролся с неверием, защищая вверенные ему души своим непосредственным участием в беде и радости каждого и личным примером благочестивой жизни.
«Что такое богословие? Знание Бога есть наука опытная. Только чистые сердцем Бога узрят, и потому истинное богословие должно быть благочестием». Эти слова принадлежат священномученику Илариону Троицкому, и подтверждением этой истины является жизнь протоиерея Григория Пономарева.
Кстати говоря, читателю, наверное, будет интересно узнать, что в трехтомнике трудов священномученика Илариона, вышедшего в издании Сретенского монастыря в 2004 году, помещена статья «Правда ли, будто ученые люди в Бога не веруют?».
В этой статье ученый-богослов архиепископ Иларион дает положительную рецензию на знакомую нам книгу А. Табрума «Религиозные верования современных ученых» и настойчиво рекомендует ее для чтения всем, кому приходится слышать речи о противоречии науки и веры и кого эти пустые речи смущают. Именно эта книга легла как первоисточник в основу многих работ отца Григория.
* * *
Придя в один из залов публичной библиотеки, заказываю книгу В. Кожевникова «Современное научное неверие (его рост, влияние и перемена отношений к нему)». Книга вышла в Сергиевом Посаде в 1912 году в издательстве «Религиозно-философской библиотеки». Внимательно изучаю предисловие и содержание книги, чтобы понять ход мыслей отца Григория в его работе «За веру против неверия». Открываю сотую страницу. Конец шестой главы. В тексте идут рассуждения о том, что материя, склонная по природе своей к утрате, к распадению и самогибели, не могла дать себе самобытия, и что это вытекает из научного естествознания. А значит, материя, констатирует автор, создана кем-то высшим, большим.
«И что такое это высшее, как не Божество всемогущее? Кто этот бóльший, этот “велий”, если не Бог наш? — продолжает В. А. Кожевников в своей книге. — Вот единственный логичный и радикальный ответ, который могло бы дать современное естествознание на главный вопрос научного мировоззрения, если оно только не желает уклониться от всякого определенного ответа, прикрываясь “мудростью неведения”, агностицизмом. И этот ответ, в искренне религиозном тоне, мы уже слышали из уст многочисленных светил науки, в противоположность пропагандистам неверия, фальшиво ссылающимся на ее же авторитет».
Все приведенные выше слова отчеркнуты сбоку, на полях книги, карандашом.
Но что это? Глазам своим не верю. Откуда эта посторонняя карандашная запись? Читаю:
«Наконец-то! Слава Всевышнему Богу! И чувствую, что душа перестает болеть».
Ну-ка, ну-ка… Написано осторожно, карандашом. Почерк какой-то мелкий, но до боли знакомый.
Чей же?
Неужели! Неужели отца Григория?!.. Даже слезы подступили. А в душе — ликование! Не могу успокоиться. Еще и еще раз всматриваюсь в карандашные буквы. Как бы не ошибиться. А сердце почему-то радуется и готово выпрыгнуть. Я, конечно, теоретически предполагала, что именно с этими экземплярами книг работал отец Григорий, ведь они единственные в Публичке. Но когда воочию увидела пометки, сделанные карандашом (и было именно в тех местах помечено, которые как ссылки приводятся непосредственно в трудах отца Григория), то закрыла лицо руками и долго так сидела, не в силах успокоиться и унять вполне понятное волнение.
«Батюшка, дорогой! — неслось в моей голове. — Неужели нашлись прямые доказательства того, что наброски работ по православной апологетике, которые ты оставил в своем архиве, принадлежат твоему пытливому уму и твоему перу? Да как же так получилось, что я держу в руках именно ту книгу, с которой работал ты?»
Мысли прыгали, набегая одна на другую, и не было предела радости — той неуемной радости, которая знакома каждому краеведу, каждому исследователю архивов, наткнувшемуся наконец-то на то, что искал годами. Я давно работала с письменным архивом отца Григория и знала его почерк. Он был разный: в письмах к родным — один, в семинарских блокнотах — немного другой, на листах с переписанными под копирку текстами богословских трудов — третий. А когда батюшка писал в автобусе, по дороге к месту служения, примостив школьную тетрадку на коленях, его рука выводила почти незнакомые округлые буквы и тогда слова в предложениях выглядели сильно растянутыми…
Конечно, заметка батюшки на полях книги стала для меня настоящим открытием. Спасибо преподобному Серафиму Саровскому, молитвы к которому подкрепляли каждый напряженный день изнуряющей, но плодотворной работы в библиотечных фондах.
Конечно, кто-то осуждает практику оставлять записи в библиотечных книгах, но в данном случае это, по промыслу Божию, — подтверждение (через пятьдесят с небольшим лет!) того, что отец Григорий приводил в своих богословских трудах не чьи-то уже готовые выводы, но работал с книгами-первоисточниками, на которые ссылался, непосредственно.
Кстати говоря, почерк отца Григория, оставленный на полях книги В. Кожевникова, подтвердила его дочь Ольга, когда познакомилась с результатами моей поездки в Санкт-Петербург.
Однако это была не единственная ошеломляющая находка, и вскоре радость умножилась.
Наряду с первоисточниками по научному естествознанию, на которые отец Григорий ссылается в своих работах, я получила от ответственного редактора «Звонницы» протоиерея Аристарха Егошина задание отыскать редкие художественно-публицистические книги, с которых отец Григорий делал печатные копии для своего архива. Ранее у меня было предположение, что батюшка заимствовал книжки частным образом, ведь выписывать книги религиозного содержания из любой государственной библиотеки в то время было практически невозможно. Однако при описанных ниже обстоятельствах обнаружилось следующее.
Праведный Иоанн Кронштадтский и праведный Григорий Пономарев
Родные и близкие отца Григория знали, что батюшка глубоко чтил святого праведного Иоанна Сергиева. Удивительно, что в домашнем иконостасе отца Григория было три иконы кронштадтского пастыря задолго до его канонизации. Одной из самых любимых книг, которые перепечатывал духовным чадам отец Григорий ко дню церковных праздников, была книга духовных наставлений отца Иоанна «О молитве». Ее отец Григорий за всю свою жизнь перепечатал в наибольшем количестве экземпляров. Кроме того, в архиве батюшки были сброшюрованы самодельные книги о жизни Кронштадтского чудотворца, разные воспоминания о нем духовных чад, а также книга «Два дня в Кронштадте», подписанная только инициалами автора «В. М.». Книга эта была перепечатана отцом Григорием в сокращенном виде, и я задалась целью найти ее полный вариант и установить имя автора. Результаты этого поиска и дали второе косвенное подтверждение того, что отец Григорий работал непосредственно с первоисточниками.
Кстати, есть еще одно предположение о том, как мог отец Григорий в 50-е годы получить для перепечатывания редкие книги, тем более религиозного содержания, ведь выносить из публичной библиотеки любую литературу запрещалось. Дело в том, что фонды Ленинградской научной библиотеки были пополнены в свое время за счет конфискованных из библиотеки Духовной Академии книг. Часть изданий впоследствии была передана обратно в Академию, но бóльшая часть религиозной литературы осталась все-таки в фондах Публички.[12]
Такое насильственное изъятие повторялась в течение прошлого века не один раз, по крайней мере — после революции и во время хрущевской антирелигиозной политики. Может быть, отец Григорий читал эти книги в библиотеке Академии еще до их изъятия, и тогда понятно, что он имел возможность увозить книги на несколько месяцев на Урал и там работать с ними спокойно и обстоятельно. Эта практика была принята в Академии.
Однако я сделала свои открытия именно в Российской национальной библитотеке Северной столицы и второй находкой стала следующая.
В электронном каталоге национальной санкт-петербургской библиотеки имени Салтыкова-Щедрина нахожу (по названию) книгу «Два дня в Кронштадте». Вижу, что в карточку вписано имя автора — Василий Мещерский. «Ну, — думаю, — вот хорошо-то, теперь известно полное имя автора».
Заказываю книгу для работы. Через три часа получаю ее вместе с девятью другими. Отложив пока в сторону остальные, беру в руки именно эту. Судя по шифрам в электронном каталоге, книга с таким названием — единственный экземпляр библиотеки. С уважением открываю первую страницу и… буквально столбенею. Опять знакомая карандашная запись. Вот типографское название «Два дня в Кронштадте», а ниже пропечатаны инициалы автора: «В.М.», и только… А вот далее — к буквам «В.» и «М.», рукой неизвестного читателя сверху приписано: «асилий» и «ещерский», то есть получается, что автор книги — Василий Мещерский. Только почему же рукой неизвестного? Ведь это такой родной, такой знакомый почерк, который я уже никогда и ни с каким другим не спутаю.
Конечно, это подписал отец Григорий. Но когда? Во второй половине 50-х? Чудно все это, ведь более полувека прошло, но тайны все-таки раскрываются.
А ведь не стерпел батюшка того, что имя автора напечатано в сокращении, и дополнительно надписал, только ниже: «Митрополит Евдоким, б. Ректор Московск. Дух. Акад.» (списано с оригинала — ред.).
Уже позднее я выяснила, что, действительно, в первом десятилетии ХХ-го века ректором Духовной Академии Троице-Сергиевой Лавры несколько лет был митрополит Евдоким, в миру Василий Мещерский. Это подтверждает и письмо самого Иоанна Кронштадтского от 20 ноября 1893 года, обращенное к дорогому о Христе собрату Василию и помещенное в начале книги «Два дня в Кронштадте», изданной в 1902 году издательством Троице-Сергиевой Лавры.
Но самое интересное заключается в том, что работники публичной библиотеки во время составления электронного каталога своих фондов в карточке книги «Два дня…» поставили полное имя ее автора, руководствуясь, очевидно, записью, оставленной на первой странице книги отцом Григорием.
О сложной судьбе Василия Мещерского, попавшего под влияние обновленчества, не много написано в церковной печати, но все рассказанное выше является в нашем исследовании очень важным фактом, подтверждающим то, что в 50-60-е годы отец Григорий работал непосредственно в ленинградских библиотеках.
Заметим также, что на титульном листе книги «Два дня в Кронштадте» стоит печать с надписью: «Библитотека священника Павла Раевского», а также печать Богословско-Пастырских Курсов города Ленинграда с вписанным в нее инвентарным номером.
Как пояснил отец Стефан, заведующий академской библиотекой, книги священника Павла Раевского находятся в библиотечных фондах Духовной Академии, поэтому не совсем понятно, как попала книга с личной печатью П. Раевского в Публичку. Остается лишь предположить, что этот экземпляр был оставлен в Российской национальной библиотеке Санкт-Петербурга после отбора книг из Академской библиотеки в спецхран… В библиотеке же Академии осталось только репринтное издание, в сокращении.
* * *
Отец Григорий часто бывал в Ленинграде, и всякий раз, когда приезжал на городском трамвайчике к монастырю на Карповке, возведенному по благословению отца Иоанна Кронштадтского, тайно творил молитву. А может быть, он знал, что именно здесь покоятся под спудом мощи почитаемого им, но еще не прославленного в то время Церковью святого.
Мы знаем, как много общего у святых Христовых, и знаем, что подвиг праведности, подвиг молитвы и исповедничества, которые явил миру кронштадтский пастырь, во всей полноте воспринял курганский митрофорный протоиерей Григорий Александрович Пономарев — как словом, так и примером собственной жизни. Именно собственным примером.
Как и праведный Иоанн Кронштадтский, горько переживал отец Григорий оскудение на Руси веры. «Неверие растет, — говорил он, — потому что нет в нашей жизни соответствия между идеалом и действительностью…»
Освещая эту тему в своей работе «Оскудение веры», батюшка приводит следующий пример:
«В городе N умирал один образованный и очень известный городу богатый человек. Он считался безбожником. И в самом деле, он давно перестал верить в живого Бога. Когда к нему пришел священник, умирающий не захотел последнего утешения.
— Поздно, — сказал он. — Нет во мне веры.
— Как же вы пришли к такому состоянию неверия? — спросил его священник.
— А об этом я напишу вам на бумаге, если вы обещаете в своей проповеди огласить мое письмо.
Священник обещал. Когда кончилось при большом стечении народа отпевание и священнику подали письмо, то он, по обещанию, прочитал его.
“Я не верю, — писал безбожник, — потому что видел вас, верующих. Я не верил, сомневался, а вы говорили о себе как о ревнителях веры. Но чем отличается ваша жизнь от моей? Вы жили, как и я, как будто у вас и не было мысли о Суде Божием. Вы жили, как и я — так, как можно жить, не думая о жизни будущей… Как и везде, у вас вражда. Как и везде, нет любви. Я и подумал: какое преимущество быть верующим, если эта вера идет мимо жизни? Подумал еще и решил, что и вы тоже не верите. Не могут так жить люди, которые верят в Бога, всеведущего и праведного. И я перестал верить совсем, наблюдая жизнь верующих”».
«Эти примеры, — пишет далее отец Григорий, — наглядно показывают нам, что неверие растет, а вера глохнет потому, что в нашей жизни нет светильников веры, нет живых примеров истинного благочестия, нет соответствия между словом и делом, между идеалом и действительностью».
Именно к этому (и внутреннему, и внешнему) соответствию между словом и делом, между идеалом и действительностью всю свою жизнь стремился отец Григорий Пономарев, исповедуя ежечасно, ежеминутно веру в Господа нашего Иисуса Христа подвигами молитвы, жертвенным служением Церкви и подвигом всеобъемлющей пастырской любви ко всем, без исключения, людям. Его идеалом были многие святые подвижники, но одним из самых почитаемых батюшкой пастырей Церкви на протяжении всей жизни отца Григория был святой праведный Иоанн Кронштадтский.
Отец Григорий — о религиозных воззрениях Пушкина
Отец Григорий очень любил Ленинград.
Город привлекал его не только архитектурой, белыми ночами и плеядой талантливых деятелей культуры, давших славу России. Он любил эту Северную Венецию еще и потому, что здесь жил Пушкин — именно «его Пушкин», каким он знал поэта по творчеству, по переписке и по воспоминаниям современников.
Отец Григорий любил бродить по набережной реки Мойки, мимо дома, где «стоял на грани вечности» его любимый поэт. Всякий раз, проходя мимо закрытой церкви Спаса Нерукотворного в Конюшенном переулке, где отпевали Александра Сергеевича, батюшка возносил Небу молитву за упокой его православной души[13].
В своем духовном дневнике отец Григорий среди самых серьезных поучений сделал неожиданную запись: «Выучить стихотворение А. С. Пушкина “Пророк”». Он знал совсем иного, чем советские критики, Пушкина. Для него Александр Сергеевич был глубоко религиозным человеком. Он защищал его от всех невнятных обвинений и очень болезненно реагировал на несведущие разговоры о поэте как о «веселом повесе» и «прожигателе жизни».
Несмотря на то, что батюшка был выдержанным человеком и знал цену молчанию, каждый раз, когда он слышал от случайных людей пошлые анекдоты о величайшем, как он говорил, художнике мира, он очень волновался и заметно нервничал. Мысль о том, что поэту приписывали гнусное авторство «Гаврилиады», жгла его, не давая покоя…
В своей незаконченной работе «Гуманизм христианской морали» отец Григорий утверждает, что Пушкин, будучи глубоко верующим человеком, не писал «Гаврилиады», содержание которой — хула на Духа Святого. С болью говорит отец Григорий о том, что поэта оболгали, приписав ему стихи, которых он на самом деле не писал. Для того, чтобы подтвердить эту мысль, батюшка внимательно изучает статью «Неизвестные атеистические стихи Д. П. Горчакова», напечатанную неизвестным автором в журнале «Наука и религия», и делает следующие выводы:
«В журнале “Наука и Религия” № 3 за 1959 год приводится и доселе неизвестное широкому кругу читателей письмо Пушкина к его другу П. А. Вяземскому, в котором он заявляет, что никогда “Гаврилиады” не писал. “Мне навязывалась, — писал он в этом письме, — на шею преглупая шутка. До правительства дошла наконец «Гаврилиада», приписывают ее мне; донесли на меня, и я, вероятно, отвечу за чужие проказы, если князь Димитрий Горчаков не явится с того света отстаивать права на свою собственность”.
…То, что «Гаврилиаду» приписывали Пушкину, — неудивительно; достаточно вспомнить, сколько в наше время ему приписывалось разных нелепых нецензурных стихов. Темные и грязные люди и по сей день, рассказывая сальные рифмованные анекдоты, иной раз приписывают их не кому иному, как Пушкину.
Но может ли это слушать серьезный человек?
У Пушкина, несмотря на его вольности, была чистая, хорошая душа. Глинка передает, что он раз застал Пушкина с Евангелием в руках, причем Пушкин сказал ему: «Вот единственная книга в мире: в ней все есть».
В 1828 году Пушкин был привлечен к дознанию по делу о «Гаврилиаде». На вопрос в жандармерии об авторстве безбожного произведения Пушкин ответил: «Знаю только, что ее приписывали покойному поэту князю Дмитрию Горчакову»[14].
Современники поэта вспоминали, как нервничал и злился поэт, когда разговор об авторстве гнусной поэмы заходил в его присутствии.
Действительно, князь Дмитрий Петрович Горчаков, бывший военный, ставший таврическим прокурором, а далее костромским вице-губернатором, параллельно военной и чиновничьей карьере был известен как автор сатир и драматург комических опер, а также как автор многочисленных «презревших печать» антирелигиозных произведений. В настоящее время известен текст «Письма» Горчакова, написанный в поэтической форме, где он призывает читалеля отказаться от «религиозных предрассудков». Интересен тот факт, что ранний текст этого письма был найден в секретном архиве царской жандармерии, то есть в «Собственной Его Императорского Величества канцелярии», где допрашивался Пушкин по поводу авторства «Гаврилиады». Рукопись Горчакова находится в составе двухтомника, где опубликованы стихи князя, а также поэма «Вирсавия», в которой, как и в «Гаврилиаде», высмеиваются библейские сюжеты.
Современник Пушкина князь Вяземский писал о поэте: «Пушкин имел сильное религиозное чувство, читал и любил читать Евангелие, был проникнут красотою многих молитв, знал их наизусть и часто твердил их. С полной справедливостью можно сказать, что величайший наш поэт родился христианином, хотя жил полухристианином, но умер христианином, примиренным с Богом, и совестью, и Христовой Церковью. Перед смертью он исповедался и причастился с глубоким чувством, как свидетельствует очевидец и друг его, В. А. Жуковский. Он говорил своему секунданту, чтобы тот не мстил за его смерть, что он прощает убийце и хочет умереть христианином» (фрагмент из письма П. А. Вяземского перепечатан из архивных тетрадей отца Григория — ред.).
Убеждая читателя в том, что Пушкин был глубоко религиозным человеком, отец Григорий приводит в своей работе «Гуманизм христианской морали» выдержку из редкого издания «Записки Смирновой А. О.» (СПб, 1895 г.), в которых еще одна современница поэта Александра Осиповна так же свидетельствует о Пушкине как о православном христианине.
Ссылаясь на «Записки…», отец Григорий в своей работе «Гуманизм христианской морали» пишет:
«А вот другое высказывание А. С. Пушкина:
“Евангелие от Луки, которое читается 25 марта, — лучшая из поэм, никогда мне не написать ничего, что бы хоть сколько-нибудь к этому приближалось”.
Евангелие от Луки, которое читается 25-го марта, поясним мы от себя, это повесть о Благовещении Деве Марии. Мог ли человек, с благоговением относящийся к этому повествованию, лучше сказать, с благоговением относящийся к Самой Деве Марии, написать вместе с тем ту грязную и отвратительную вещь, которая называется “Гаврилиадой” и которую стыдно читать всякому честному человеку?»
Чтобы углубить эту тему, отец Григорий изучает полное собрание сочинений Пушкина, вышедшее в 1871 году под редакцией Геннади, и приводит как доказательство религиозности поэта его статью, написанную для «Современника» и изданную после смерти Александра Сергеевича в 1838 году.
В статье «Об обязанностях человека. Сочинение Сильвио Пеллико» А. С. Пушкин пишет: «Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира; из коей нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, которое и не было бы уже пословицею народов. Она не заключает уже для нас ничего неизвестного; но книга сия называется Евангелием, — и такова ее вечно-новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению, и погружаемся духом в ее божественное красноречие».
Только в двадцатых годах IХ-го века русское общество получило Евангелие на современном русском языке, и именно Пушкин, как просветитель своего времени, восклицает: «Поэзия Библии особенно доступна для чистого воображения. Мои дети будут читать вместе со мной Библию в подлиннике… Она всемирна».
Об этих словах поэта свидетельствует его современница А. О. Смирнова, и вполне понятно, что отец Григорий, раскрывая образ православного Пушкина, ссылается на его единомышленников. Но удивительнее всего то, что для более глубокого освещения этой темы отец Григорий исследует атеистический сборник «О религии церкви», вышедший под редакцией социалиста Г. В. Плеханова, где Георгий Валентинович признает Пушкина верующим писателем.
В борьбе против унии, которая продолжается и в наше время, Пушкин открыто встал в первые ряды защитников Православной Церкви и показал пример многим деятелям современной культуры, как надо служить Отечеству. Один из первых переводчиков гимна России «Боже, Царя храни» (материалы об этом напечатаны в журнале «Звонница» № 24 — ред.), он отлично понимал, какая опасность угрожала Православию в России. Александр Сергеевич писал об этом открыто, и в этом проявилась зрелость его личности и искренний патриотизм.
А теперь мы вместе с отцом Григорием спросим его словами: «Разве мог быть автором неких откровенно гнусных стишков человек, открыто исповедующий в своих журнальных статьях догматы Православной Церкви?».
Конечно, нет!
И еще раз нет, потому что Александр Сергеевич жил, творил и мыслил как настоящий христианин и упокоился, в конце концов, в лоне Святой Православной Церкви, исповедавшись и причастившись.
Несколько лет назад при верстке 24-го номера журнала «Звонница», где редакция поместила несколько статей о жизни и творчестве Александра Сергеевича, в архиве отца Григория (неожиданно, но весьма кстати) было обнаружено перепечатанное им когда-то давно письмо Жуковского к отцу Пушкина, написанное Василием Андреевичем после смерти поэта. В письме Жуковский описал последние минуты жизни своего друга. Словами этого письма отец Григорий и заканчивает в работе «Гуманизм христианской морали» свои рассуждения о религиозных взглядах Александра Сергеевича: «…Послали за священником в ближайшую церковь. Пушкин исповедовался и причастился с глубоким чувством».
Подкрепляя мысли и убеждения отца Григория, приведем выдержку из рассказа еще одной современницы поэта, княгини Мещерской-Карамзиной, приведенной в книге митрополита Анастасия «Пушкин в его отношении к религии и Православной Церкви»:
«Пушкин исполнил долг христианина с таким благоговением и с таким глубоким чувством, что даже престарелый духовник его был тронут и на чей-то вопрос по этому поводу ответил: ”Я стар, мне уже недолго жить, на что мне обманывать? Вы можете мне не верить, но я скажу, что для самого себя желаю такого конца, какой он имел”»[15] .
«Кто действительно дерзает заподозрить искренность этого свидетеля, — восклицает митрополит Анастасий, — который один входил во святая святых души великого поэта в то время, когда он стоял на грани вечности?»[16].
Вот таким серьезным и вдумчивым читателем великого поэта России был протоиерей Григорий Александрович Пономарев. Какие бы грязные пасквили ни возводили на Александра Сергеевича, какие бы несуществующие «подвиги» ему ни приписывали, как бы ни старались осквернить его православный дух, отец Григорий стоял со своим щитом на защите чести и достоинства поэта, и «тверд был лук его, и крепки мышцы…» (Быт.49:24).
Примечание:
Возвращаясь к статьям Александра Сергеевича, написанным им для журнала «Современник», приведем еще одну малоизвестную для широкого круга читателей работу поэта. Она называется «Разбор собрания сочинений Георгия Конисского, архиепископа Белорусского (изданных протоиереем Иоанном Григоровичем, Спб, 1835)» и посвящена памяти и трудам святого Георгия (Конисского), архиепископа Могилевского, подвизавшегося на ниве Господней в Западной Белоруссии.
Из жития святого мы знаем, что он был мужественным защитником православия в Малороссии и сам чудом спасся от униатов. В 1759 году Георгий Конисский поехал обозревать свою епархию. Но в Орше католики-миссионеры возмутили шляхту и разогнали народ, вышедший навстречу своему архипастырю. Униаты остановили колокольный звон и с воплем ворвались в церковь, где священнодействовал Георгий, однако преосвященный чудом успел скрыться в стенах Кутеинского монастыря, откуда его тайно вывезли в телеге, прикрыв навозом.
С каким искренним удивлением прочитала я статью Пушкина о белорусском пастыре, напечатанную в четвертом томе полного собрания сочинений поэта, вышедшего под редакцией Геннади в Санкт-Петербурге в 1871 году! В статье Александр Сергеевич как убежденный христианин показывает свое нелицемерно ревностное отношение к попыткам Ватикана еще в то время католицизировать Россию.
«Георгий, — пишет в “Современнике” Пушкин, — есть один из самых достопамятных мужей минувшего столетия. Жизнь его принадлежит истории. Он вступил в управление своей епархией, когда Белоруссия находилась еще под игом Польши. Православие было гонимо католическим фанатизмом. Церкви наши стояли пусты или отданы были Униатам. Миссионеры насильно гнали народ в Униатские костелы, ругались над ослушниками, секли их, заключали в темницы, томили голодом, отнимали у них детей, дабы воспитывать их в своей вере, уничтожали браки, совершенные по обрядам нашей Церкви; ругались над могилами православных…» (орфография сохранена согласно изданию Геннади 1871 года).
Описывая жизнь и борьбу белорусского архиепископа против унии, Пушкин рассказывает в «Современнике» о беспримерном подвиге его мужественного стояния в Православии и цитирует выдержки из его главного труда «История Малороссии»:
«Главные человеческие члены, отрубленные у чиновников малороссийских, как-то: головы, руки и ноги, развезены по всей Малороссии и развешены на сваях по городам. Разъезжавшие притом войска польские, наполнившие всю Малороссию, делали все то над малороссиянами, что только хотели и придумать могли: всех родов бесчинства, насилия, грабежи и тиранства, превосходящие всякое понятие и описание. Они, между прочим, несколько раз повторяли произведенные в Варшаве лютости над несчастными малороссиянами, несколько раз варили в котлах и сожигали на угольях детей их в виду родителей, предавая самих отцов лютейшим казням. Наконец, ограбив все церкви благочестивые русские, отдали их в аренду жидам, и утварь церковную, как-то: потиры, дискосы, ризы, стихари и все другие вещи, распродали и пропили тем же жидам, кои из серебра церковного поделали себе посуду и убранство, а ризы и стихари перешли на платья жидовкам; а сии тем перед христианами хвастались, показывая нагрудники, на коих видны знаки нашитых крестов, ими сорванных…».
Критика отцом Григорием учения Дарвина «О происхождении видов»
Из потомственного колена священства Пономаревых выросло много талантливых людей. Это были высокообразованные для своего времени, одаренные музыканты, литераторы, художники и поэты… И сам Григорий Александрович Пономарев был литературно одаренным человеком. Но его дар духовного писателя был настолько скрыт даже от близко знавших его людей, что никто из них, конечно, не догадывался о литературных талантах батюшки.
Отец Григорий, теперь мы это знаем, писал притчи, стихи, духовные поучения и наставления и, самое поразительное, оставил нам труды по православной апологетике. Поразительно это по той простой причине, что батюшка был чрезвычайно скромным человеком и в быту, и на службе — и ничем не проявлял себя как литератор. Он постоянно трудился и был поистине незаурядной личностью, но никогда не выставлял напоказ своей образованности и не демонстрировал своих удивительных знаний. Он не старался блистать эрудицией и ни с кем не вступал в светские споры.
Многие его работы так и остались им не подписаны, и лишь только по глубине мышления и исследовательской логике, по единообразию стиля, по повторяющимся в разных работах ссылках на одни и те же первоисточники, а также по одинаковым опечаткам и синтаксису, характерным для изложения каждой темы, можно быть увереным, чьему перу они принадлежат. Кстати говоря, описание тех же самых особенностей стиля и синтаксиса мы увидели и в рецензиях преподавателей Академии на экзаменационные сочинения студента Пономарева.
Отец Григорий был, несомненно, богословом по образу мысли и исследователем по глубине мышления — он был защитником Православной веры.
«Апологетика, — писал отец Григорий, работая над книгой “За веру против неверия”, — составляет задачу пастырей нашего времени, как это было задачей пастырей первых времен христианской Церкви. Тогда нужно было защищаться от нападений древнего язычества, чтобы привести его к Церкви, теперь же против нового язычества, о котором предсказано Господом и апостолами (Мф. 24, 11; 2 Петр. 3, 3; Сол 2, 3-11), чтобы спасти от него то, что можно спасти, или, по крайней мере, не потерять многих “из малых” верующих в Господа Иисуса Христа».
Апологетика была для отца Григория одним из самых любимых предметов в Духовной Семинарии, и он блестяще реализовал эти знания на деле. Приведем хотя бы один пример — то, как он критикует теорию Дарвина о происхождении видов.
Свою работу «За веру против неверия», где отец Григорий, противопоставляя «веру» и «неверие», анализирует учение Дарвина, батюшка предваряет эпиграфом «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям» (2 Пет.3:3).
Такими «наглыми ругателями» отец Григорий показывает последователей Ч. Дарвина и его теории о происхождении видов, и не просто подвергает эту теорию критике, а убедительно, и в то же время с иронией высмеивает нелепости «великого» учения.
«…Эволюция животных, по учению новой веры (речь идет об учении дарвинистов — ред.), происходила почти так:
“Первым позвоночным животным, снабженным несколькими глазами, была несовершенная рыба. Она быстро размножалась в глубоких водах. Но вот поднялась волна и выбросила на берег сотню-другую таких рыб”.
По суждению обыкновенного нашего рассудка и по законам природы, все эти рыбы вместе и каждая в частности в тот же день должны были заснуть (издохнуть). Это так по-нашему, но не по-дарвиновски. По учению Дарвина, из рыб должны произойти лягушки, крокодилы, ящерицы, змеи. Поэтому рыба не могла заснуть. Итак, рыба обнюхивала на суше, что может поддерживать здесь ее жизнь. Что же она придумала? Она защищает свою маленькую жизнь, борется за свое существование: подскакивает, подпрыгивает и… о, чудо!
Это подскакивание и подпрыгивание производит чудесные успехи: мало-помалу из плавательных ее перьев делаются ноги, а жабры превращаются в легкие… — и вот вам лягушка, ящерица! Затем эти лягушки и ящерицы рождают миллионы других лягушек и ящериц, и таким образом являются животные, живущие на суше. Но величайшее чудо заключается здесь в том, что рыба для подпрыгивания своего на суше должна была употребить немалое число годов, пока у нее из плавательных перьев не сделались бы наросты для ног…
Вследствие быстрого размножения лягушки и ящерицы быстро наполнили собою сушу. А ведь это нехорошо. Нужно было им подумать о переселении. Но куда? Очень просто. На воздух. Или хоть на деревья.
Настал, следовательно, новый этап “борьбы за существование”. Так как им нечего было есть, то многие ящерицы и лягушки, а также землеройки оказались безжалостно исключенными из своего племени. Это значило для них: умереть или заняться каким-либо другим промыслом. Вдруг им приходит умная мысль: “А что, если мы попробуем лететь? Тогда ведь пищу себе мы бы могли искать на деревьях, в воздухе, в далеких странах!”.
Удивительно только, как могла такому животному прийти странная мысль “летать”, о чем оно дотоле не имело никакого понятия. Ныне и при самой сильной конкуренции ящерицы, лягушки и землеройки остаются в своей коже. Но сейчас — новые времена и новые взгляды. Теперь все удобнее приобретать. Но тогда было совсем иначе. Тогда горькая нужда породила в животных стремление учиться летать».
Но посмотрите, как язвительно описывает далее отец Григорий теорию происхождения видов.
«Любопытно также читать, как, по учению Геккеля, животные устроили между собой “разделение пищи”. Рассмотрим это на каком-либо образе. Было, например, 100 оленей, которым недоставало в нужном количестве оленьего корма. Тогда 10 из них решились питаться овсом и вследствие этого, естественно стали лошадьми, ибо, по словам Геккеля, «через это “разделение пищи” происходит различие и в самом внешнем виде».
Наконец, 40 оленей стало кормиться травою и через это стали волами. В то же время 19 стали пожирать мышей и сделались кошками.
Только один олень довольствовался жалким репейником и от этого, естественно, дошел до степени осла. Да и естественно ему было сделаться ослом, так как в высшей степени было глупо при общем разделе предметов в пищу выбрать ту, для которой он не был приспособлен от природы.
Такие Овидиевы метаморфозы в наше бедное чудесами время, к сожалению, существуют только в голове дарвиниста.
Ни один человек не станет ослом, если вздумает питаться репейником, потому что он наперед уже был бы таковым, захотевши есть его.
Канарейка, если давать ей муравьиные личинки, не станет от того соловьем, но просто издохнет…»
Такими ироничными, но в то же время серьезными рассуждениями отец Григорий постепенно готовит читателя, оболваненного «научной» теорией о происхождении видов, к пониманию полной абсурдности того, что человек — творение Божие — произошел от обезьяны. Этому «постулату», к сожалению, до сих пор учат в наших школах, и я вспоминаю один разговор с партийным начальником о вере. Он долго вслух убеждал сам себя, что религию «придумали попы, чтобы дурить людей». Однако признать себя обезьяньим потомком он не захотел, и, когда его спросили, верит ли он, что произошел от старого гориллы или от орангутанга (это предположение выдвинул представитель вульгарного материализма Карл Фохт), чиновник замолчал, не зная, что ответить…
Итак, «мы спешим к венцу творения — человеку», — пишет далее отец Григорий. И продолжает:
«Орангутангу или горилле надоело лазить по деревьям. Поэтому они решили напрячь все свои естественные силы к тому, чтобы привести себя к существованию, “достойному человека”, хотя, впрочем, они и не могли знать что-либо о человеке, поскольку такового еще не было. Они, конечно, могли сделаться львами или волками, но это для них было слишком обыкновенно, у них цель была повыше.
Сначала они сделали попытку ходить на двух ногах, употребляя две другие на разные полезные работы. Таким образом одна даровитая горилла изобрела род каменного ножа, чем она немало гордилась. От усиленной борьбы в упражнениях за свое существование (так как другие обезьяны не допускали ее уже продолжать прежний образ жизни) обезьяньи руки делались все поворотливее и ловчее; походка ее становилась все прямее, шерсть на коже становилась все меньше и мельче и наконец совсем исчезла — и явились на свет первые люди, конечно, еще смотрящиеся довольно дико и зверски…
Обезьяна счастливо преобразилась в человека. Из обезьяньего голоса постепенно выработался человеческий голос, она делалась все умнее, и ей почему-то (конечно, никто не знает, почему) противно стало питаться сырой пищей. Пришлось поэтому заняться опытами кухонного искусства. Старая обезьяна уже прежде однажды случайно обронила яблоко в зажженный молнией и полуистлевший древесный ствол. Приятный запах печеного яблока понравился ей. Толчок к кухонному искусству дан был уже тогда. Многие обезьяны стали предпочитать печеные яблоки сырым, и это открытие они стали применять к другим жизненным продуктам. Старая обезьяна, изобретшая первый нож, и была первым цирюльником. Так культура все продвигалась вперед, и все сокровища образования и культуры, таким образом, коренятся в обезьяньем мозгу.
Конечно, некоторые люди придерживаются того мнения, что первая обезьяна-человек, которой пришло на ум употребление ножа, была величайшим гением в мире искусства. Первая мысль — самая трудная, как известно. Все позднейшее составляет только применение, приспособление первой творческой идеи. Но, по Дарвину, это не был гений, а просто это был обезьяночеловек.
При этом представляется весьма естественным очень простой вопрос: “Почему же ничего подобного не бывает теперь? Почему ослы остаются ослами, гуси — гусями, волы — волами, обезьяны — обезьянами?”. Дарвин говорит, что такое развитие требует многих миллионов лет…
Конечно, нечто подобное человеку должно уже выйти из современных обезьян. Но только вот уже более 7000 лет они не делают никакой попытки стать людьми. Да и все человеческие пособия не идут им впрок. Первообезьяна была какая-то особенная обезьяна. В этом мы должны верить Дарвину. Только вот что: эта порода обезьян должна существовать уже миллионы лет, иначе еще не было бы людей. Следовательно, должны же где-нибудь находиться в свете такие обезьяны, которые стали уже хоть полулюдьми и которые легко могут быть окончательно цивилизованы. Но, сверх всякого ожидания, следов этому нет нигде.
Что же ты думаешь об этом, читатель?
Не представляется ли тебе все это толками помешанных? А между тем это прямые, естественные выводы из положений Дарвина. Какая же вера разумная? Какая имеет за себя свидетельство природы? Вера дарвинистов? Или библейская?».
Какой характерный стиль!
Апологетика знает многие возражения против учения Дарвина, но, чтобы рассуждать с таким юмором над самыми серьезными проблемами, нужен особый склад ума и характера, а также премудрость, знания и духовное видение.
Отец Григорий был, безусловно, защитником Православной веры. В одном из тезисов к своей работе «За веру против неверия» он написал:
«Мы живем в век апологетики. Мы как будто возвращаемся к временам до-равноапостольного Константина. Наступает период новейшего язычества. Что давно уже опровергнуто в научной области, силится просочиться вновь сейчас. Глашатаи антихристианства с наглостью выступают на свое делание. Неужели же стражам Сиона спать теперь или только смотреть, как вера и дух благочестия вырывается из сердец людских?».
Остается большой загадкой, знал ли отец Григорий ранее о существовании первоисточников, с которыми он интенсивно работал во второй половине 50-х в Ленинградской публичной библиотеке, ведь он востребовал эти книги почти сразу после возвращения с Севера. Не мог же батюшка изучить все это богатое книжное наследие всего за два года учебы в Семинарии и за несколько лет учебы в Академии?! Как смог он проработать такое огромное количество научной и художественно-публицистической литературы за те короткие дни зимних и летних сессий, когда он выбирался с далекого Урала в свою «Северную Венецию»? Все это удивительно и вызывает глубокое уважение к жертвенному труду отца Григория во славу Божию.
* * *
В заключение скажем, что отец Григорий, несомненно, был не просто «благочестивый сельский священник», как, судя по первым отзывам о книге, сложилось впечатление у многих читателей. Мы знаем сегодня, что это был мудрый пастырь, умнейший и высокообразованный человек своего времени, вдохновенный исследователь, обладающий живым, пытливым умом, духовный писатель, ревнитель и защитник православной веры.
Праведник отходит, но свет его остается.
«Вот наступают дни, — говорит нам Господь, — когда Я пошлю на землю голод, — не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних» (Ам.8:11). И мы действительно жаждем сегодня, как и все человечество во все времена, слышания слов Господних. Но об этом позаботился и отец Григорий — от лозы виноградной он оставил нам плоды, чтобы и мы могли пить чистую воду из благословенного источника, от которого «всякий, — по слову Спасителя, — пьющий воду… возжаждет опять» (Ин.4:13).
Последние годы
Умудряясь и постепенно старея, жили и во славу Божию трудились отец Григорий и матушка Нина. Пришло время, когда в маленьких городах и поселках Курганской области стали открывать заброшенные, поруганные и оскверненные церкви. Свои последние годы они трудились именно в таких храмах. Они несли свое служение Господу, бесконечно переезжая с места на место и освещая своими молитвами опустевшие приходы епархии…
«Значит, так угодно Богу», — говорила матушка Нина.
Годы скитаний
На старости лет отец Григорий и матушка Нина, уже немощные и больные, стали «перелетными птицами». Оставим все на совести тех людей, по вине которых это произошло, тем более что некоторых из них уже нет среди нас. Те, кто живы, вероятно, покаялись. Господь им судья.
Несмотря на тяжесть переживаний, отец Григорий и матушка Нина относились к этим переменам с христианским смирением. Они уже и не знали, где их подлинный дом. Сложность заключалась в том, что каждое их новое назначение было временным, и переселяться насовсем из Кургана не было никакого смысла — в любое время отца Григория могли перевести на новый приход. Сумки и требный чемоданчик — постоянно в ходу. В них только меняется белье, кладутся книги и ноты для очередной службы, и — в путь. Они уезжали на субботу и воскресенье, а иногда и на целую неделю или на две.
Конечно, им преданно помогали друзья-курганцы. Кто-то приедет в пустующий, как правило, в дальнем приходе дом священника на день пораньше, чем батюшка с матушкой, истопит печь, сварит что-то для трапезы. Все-таки полегче. Но какое это постоянное беспокойство! Ведь они уже старики. Нина Сергеевна часто говорила, что, когда ей случалось просыпаться ночью, она начинала долго вспоминать, где они: в Кургане или в каком-то другом городе?
А в их родном курганском домике, пока они так курсировали по сельским храмам, постоянно проживал близкий им человек — тагильчанка Мария Константиновна Зинина. Она, конечно, оказывала им неоценимую помощь. Дом без присмотра на неделю и больше не оставишь: и протопить надо, и присмотреть. Она тоже несла свой крест, живя в доме одна: и одиноко, и страшно. Однажды ночью в их дом в Смолино хотели залезть хулиганы; они разбили стекло и смертельно напугали ее. Так и она невольно разделила часть страданий и трудностей, выпавших на долю отца Григория и матушки Нины Пономаревых.
Много и грустного, и радостного, а порой просто необычайного испытали мои родители в поездках по районным городкам. Были люди, которые начинали возмущаться тем, что батюшка слишком долго служит. «Ну не-воз-мож-но долго… — роптали они. — Уже коров надо доить, а он все служит и служит». Было и такое.
Приведу нехарактерный случай из духовной жизни отца Григория. Всегда снисходительный к человеческим немощам, он почти никогда не накладывал епитимии на кающихся, но был несгибаем, когда слышал хулу на Духа Святого.
В одном из приходов после частой смены священников народ как-то сильно охладел к Церкви. Городок этот отличался большим количеством колдунов — экстрасенсов, занимающихся попросту ворожбой. Отцу Григорию пришлось на первых порах очень трудно при попытках образумить паству и привлечь ее к искренней молитве и выполнению православного церковного Устава.
Особенно сопротивлялась и негодовала одна пожилая «прихожанка». Как выяснилось позднее, она была человеком суеверным и занималась дьявольской утехой — ворожбой. Отец Григорий пригласил ее для разговора. Он хотел по-доброму наставить ее, объяснив греховность ее поведения. Вместо того чтобы вразумиться, она вступила в недопустимую дискуссию, дерзкие пререкания, возмущения и, распалившись, дошла до хулы на Святого Духа, упрекая отца Григория, что он ведет слишком долгие службы. Тогда батюшка, прекратив разговор, наложил на нее епитимью за грех святотатства и отлучил на долгое время от храма.
Что было потом с этой женщиной, я не знаю. Но только отец Григорий после произошедшего конфликта пришел домой совершенно больной, он долго и тяжело переживал это событие.
Когда папу определили служить в Богоявленский храм села Усть-Миасское, это назначение еще более усложнило их с мамой жизнь, потому что добираться из Кургана до места было возможно только с пересадкой (двумя рейсовыми автобусами). Причем второй автобус мог и не прийти. И тогда родители и все, кто ехал с ними, добирались к службе почти одиннадцать километров пешком — и в грязь, и в дождь, и в снег.
Помнится, когда отцу Григорию впервые довелось войти в закрытый многие годы до этого храм, его потрясла «мерзость запустения». Там, где был алтарь, толстым слоем лежала грязь, а вокруг голубиный помет, и не только… Когда батюшка вошел и увидел это, то упал прямо в алтаре, распростер руки и заплакал. Как осквернена была святыня!
В этом храме была обнаружена могильная плита в ограде за алтарем храма. Во время крестного хода кто-то запнулся о чугунный штырь или выступ. Стали по просьбе батюшки копать. Нашли чугунную надгробную плиту с надписью, что здесь похоронен первый священник, освящавший этот храм и прослуживший в нем около пятидесяти лет. А храм — старинный, большой. Видимо, когда закрыли церковь, могилку со временем затоптали, и она затерялась совсем, но при возобновлении богослужений в храме обнаружилась. Конечно, ее привели в порядок. Отслужили панихиду. Отец Григорий записал имя батюшки в свой синодик, чтобы молиться за упокой души.
Так и ездили отец Григорий с матушкой Ниной по дальним и ближним городским и сельским приходам, пока папу не сломили болезнь и операция. И мама всегда была вместе с ним. Ее вера в мудрость его решений и поступков была безгранична. Матушка Нина никогда не прекословила отцу Григорию. Она была бесконечно любящим и преданным другом для батюшки, и если бы потребовалось, то она, не раздумывая, отдала бы за него свою жизнь.
* * *
Уже после ухода из жизни родителей в личном архиве батюшки обнаружилось следующее.
В одном из многочисленных сборников духовной лирики, собранных отцом Григорием, перепечатаны стихи Ивана Сергеевича Никитина, где на полях рукой отца Григория сделана небольшая запись:
«Очень нравится Ниночке. 1971 год, 3/II».
Присутствие непостижимой силы
Таинственно скрывается во всем:
Есть мысль и жизнь в безмолвии ночном,
И в блеске дня, и в тишине могилы.
В движении бесчисленных миров,
В торжественном покое океана,
И в сумраке задумчивых лесов,
И в ужасе степного урагана,
В дыхании прохладном ветерка,
И в шелесте листов перед зарею,
И в красоте пустынного цветка,
И в ручейке, текущем под горою!
И. С. Никитин
* * *
Трогательное отношение к своей супруге — матушке Нине отец Григорий пронес через всю жизнь. Это отражено почти во всех его письмах к духовным чадам. Каждое из писем он неизменно подписывал двумя именами: «о. Г. и Н. Пономаревы», этим самым подчеркивая свою нераздельность с Богом венчанной супругой. Вот последние строки из его писем:
«…Молитвенно вас и ваших родных поминаю.
Храни вас Господь!
С уважением, о. Г. и Н. Пономаревы».
А также:
«…Да укрепит вас Господь!
Нина Сергеевна посылает вам сердечный привет.
Молитвенно помнящие вас о. Г. и Н. Пономаревы».
В добавление к сказанному приведем письмо из семейного архива Пономаревых, написанное отцом Григорием для матушки Нины в то время, как отец Григорий служил в одном из приходов области. Дата написания — 21 апреля 1981 года. В основе письма — искренняя и нежная забота батюшки о Ниноньке — бесконечно дорогом ему человеке…
«Родная, дорогая Нинонька!
Поздравляю тебя с наступающим великим праздником Светлого Христова Воскресения! Христос Воскресе! Желаю доброго здоровья и бодрости душевной!
Я здоров, служу каждодневно, много всякого дела, но Господь помогает, дает успех в намеченных делах. Нинонька, реши такой вопрос: Александра Ивановна (духовная дочь отца Григория из Н-Тагила — ред.) выражает свое желание встретить Святую Пасху в Кургане. А как ты на это посмотришь? Если усматриваешь необходимость ее пребывания, то она соберется, а если нет, то напиши об этом.
Храни тебя Господь! Целую. Гриша.
Марию Константиновну (духовная дочь отца Григория из Н-Тагила, часто жила в Кургане и присматривала за хозяйством в доме у батюшки — ред.) поздравляю с великим Пасхальным Праздником, желаю здоровья и во всем благополучия! Нинонька, ответ пошли с Тамарой».
* * *
Вспоминается одна из поездок отца Григория и матушки Нины на службу в Михайло-Архангельский храм поселка Житниково. После службы Литургии воскресного дня они возвращались домой в Курган. В маленький автобус набилось много народу, преимущественно молодежь. Они оглушили утомленных родителей шумными разговорами с бранными словечками, хохотом и громкой музыкой хрипящих транзисторов. Весь этот гам перебивали песни, льющиеся из кабины водителя. Большинству пассажиров, очевидно, это доставляло огромное удовольствие.
Такой «грохочущий и воющий» автобус небыстро пылил в сторону Кургана.
«Батюшка сидел, — рассказывала мама, — сжавшись как от боли, все сильнее и сильнее бледнея. Было видно, что он на пределе…» Вдруг он неожиданно и резко встал, протиснулся к дверям, подхватил маму и попросил шофера остановиться прямо среди поля. Оба старичка моих вышли из автобуса, и папа махнул рукой водителю, чтобы он не ждал их. Батюшка почти рухнул на обочину дороги, прямо на придорожную траву. Он был совершенно белым, его била нервная дрожь. Матушка боялась, что ему станет плохо. Немного отсидевшись, он виновато посмотрел на нее и сказал:
— Ты прости меня, но я почувствовал, что еще мгновение — и от этого адского воя у меня остановится сердце. Это же невыносимо! Мы посидим тут немножно в тишине поля, а потом на попутной машине доберемся домой…
Немного помолчав, он добавил:
— Я часто думаю о том, как суетно жить современному человеку в больших благоустроенных квартирах с телевизорами и музыкальной аппаратурой!.. Хорошо бы, Ниночка, жить в маленькой баньке, чтобы только иконка была и стол для работы… Да жил бы тут еще беленький деревенский петушок, приветствующий своим громкоголосым пением каждое утро. Что нужно еще человеку для уединенной молитвы?..
Эти мысли, видимо, жили в нем постоянно — отец Григорий часто повторял их в минуты особой усталости и задумчивости…
«Пустыня, одиночество — лучшая школа души…» — это слова отца Григория из его духовного архива.
Из архива протоиерея Григория Пономарева
Толкование на Евангелие
Иоанн был в пустыне…
Пустыня, одиночество — лучшая школа души.
Одиночество невольно приучает силы души сосредоточиваться в самих себе. А это способствует углублению душевных способностей, их всестороннему развитию и, значит, способствует росту души.
Напротив, жизнь души в быстрой смене впечатлений рождает поверхностность и дает только внешний налет непрочных знаний и неглубоких, быстро скользящих настроений. Это иллюзорное развитие. Тут знание хуже невежества. И отклик чувств тут вреднее безчувствия.
Не бойся же оставить душу во внешнем одиночестве. Потеря внешних впечатлений — не нищета, а преддверие богатства.
Нищета — в обманном натаскивании на себя мнимого развития. И она сказывается, когда человек почему-либо лишается внешних, рассеивающих впечатлений и остается один на один с собою.
Тогда человек, не имея никакой своей внутренней ценности, повисает в пустоте, и тоскующая душа, чтобы ей не смотреть каждую минуту на свою нищету, стремится «вытолкнуться» на других людей, на улицу, на поток поверхностных впечатлений, чтобы в нем найти себя, свое лицо, и этим почувствовать какое-то утверждение в жизни.
И, напротив, когда в душе имеется свое богатство внутреннего мира, она даже избегает рассеивающей пустоты внешнего, потому что он несет с собой если не истребление, то угнетающее бесплодие для душевного богатства самособранной души.
Значит, богатство души — в ее внутренних силах, и одиночество (эта внутренняя пустыня) — лучший сторож богатства и вместе — лучшая гарантия его развития и роста души.
Ведь для роста души прежде всего и нужно, чтобы душа была в самой себе, в сосредоточенности, а не в разброде своих внутренних сил. Тогда она входит в соприкосновение с Источником своей силы — БОГОМ, и таким образом совершается нарастание ее крепости, расширение ее внутреннего мира.
Так не бойся же одиночества! Полюби его, как пустыню любит пророк и отшельник. И скоро обретешь там БОГА, и с Ним укрепится и будет возрастать твоя душа, расширяясь в богатство единения с Источником силы и жизни — твоим Господом!
(Орфография сохранена со ссылкой на оригинал — ред.)
Операция
И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя.
Лк.7:19
Шестнадцатого января 1986 года отец Григорий, согласно указу архиепископа Свердловского и Курганского Мелхиседека, был назначен в город Куртамыш настоятелем Петро-Павловского храма.
Начиная с двадцатого января 1986 года, беспрекословно приняв назначение, батюшка вместе с матушкой трудились в этом храме. Не вдаваясь в подробности, могу только сказать, что служение в Куртамыше в те годы было для них очень тяжелым — не только из-за бесконечных поездок из Кургана в Куртамыш и обратно, но ввиду довольно непростой обстановки, сложившейся в этом приходе. Были здесь у отца Григория недоброжелатели и случаи открытого неподчинения, не без подстрекательства отдельных людей.
Где бы ни служил отец Григорий, он всегда пунктуально соблюдал все каноны православной службы, ничего не пропуская и не сокращая. Прихожане же Куртамыша к тому времени привыкли к службам, которые длились в течение часа или, самое большое, полутора… Много пришлось потрудиться отцу Григорию, матушке Нине и верным их помощникам из местных и приезжих прихожан, чтобы службы в Петро-Павловском храме продолжались в полном объеме. Постепенно паства вразумилась, многие принесли покаяние и храм Божий зажил спокойной, духовно наполненной жизнью. Однако сил на это противостояние было потрачено отцом Григорием очень много. Кроме того, годы делали свое, прибавляя болезни, и каждая поездка в Куртамыш давалась все труднее.
Уже в Рождественский пост 1990/91 годов матушка заметила, что, всегда очень бодрый, отец Григорий как бы сник. Он очень изменился внешне: землисто-серый цвет лица, постоянные отеки на лице, на ногах и острейшие приступы боли в животе, которые настигали его в любом месте: в дороге, в автобусе, дома, во время службы… Стали замечать это и другие. Иногда батюшка во время службы (пения хора или чтения псалмов) стоял согнувшись, прижимаясь к стене алтаря и держась за правый бок. Видно было, что он с трудом преодолевал боль, чтобы не упасть. На вопрос, что с ним, — отмалчивался. Уж очень жестокую школу он прошел с юности на Колыме. Он просто не умел жаловаться.
С великим трудом батюшка провел все службы Рождественского поста и со всеми вместе встретил Светлое Рождество Христово. На Святках ему стало хуже. Он уговорил маму не уезжать до Крещения в Курган, поберечь силы. Однако каждый день уносил частицу его здоровья и, возможно, жизни. Мама, все близкие и друзья стали убеждать его поехать в Курган и обратиться к врачу. Отцу Григорию было тогда 77 лет.
Вот отрывок из письма, присланного мне бывшим старостой куртамышского храма Юковым Владимиром Михайловичем: «…Запомнилось мне последнее его богослужение в Петро-Павловской церкви. 19 января 1991 года. Все произошло на моих глазах. В 3 часа, как обычно, началась светлая Крещенская богослужебная ночь! Службу отец Григорий вел из малого, Богоявленского, алтаря нашего храма. На левом клиросе пели матушка Нина Сергеевна, Екатерина Михайловна Русинова, дочь ее Татьяна Владимировна, псаломщица Тамара Георгиевна Неверова и другие. А я прислуживал отцу Григорию. Праздничная служба приближалась к окончанию. Был уже отслужен молебен на Великое освящение воды. Вернулись в храм после крестного хода вокруг церкви. Отец Григорий стал принимать ко кресту. В этот момент у него начался сильнейший приступ желчекаменной болезни. Он резко изменился в лице, побледнел, дал жестом мне знать, чтобы быстрее подходили ко кресту. Еще какое-то время принимал, но всех принять не смог. Согнулся и со стоном ушел в алтарь, а я обратился к братьям и сестрам, не успевшим подойти ко кресту:
— Отец Григорий сильно заболел, прикладывайтесь к большому Распятию и с Богом спокойно идите на разбор Крещенской воды…».
К счастью, в Куртамыше был в это время Николай Сергеевич Костин — духовное чадо батюшки. Он был на машине и увез отца Григория и матушку в Курган. Всю дорогу он молился, чтобы довезти батюшку живым. Дома болевой приступ утих и отец Григорий засопротивлялся — не только в больницу обратиться, но даже вызвать врача не захотел.
Тут к делу подключилась духовная дочь отца Григория Александра Александровна Верченко. В прошлом медсестра, удивительно умная, спокойная женщина, она убедила батюшку, чтобы его осмотрел врач. Привезли доктора — опытного терапевта. После осмотра врач сказал, что у больного острый приступ желчекаменной болезни. Скорее всего, песком и камнями забиты все протоки и, судя по всему, уже начался перитонит. Однозначно нужно ехать в больницу и оперироваться. Дай Бог, чтобы это было еще не поздно. Каких-нибудь час-два — и можно опоздать…
Папа с трудом встал, прошел в передний угол к иконе «Нерукотворный Образ Господень». Он долго молился. Потом поднялся с колен: на лице его была решимость, он полностью предал себя в руки Божии. Он понимал, что, быть может, жизни ему отпущено еще только час-другой.
Я всегда буду испытывать чувство огромной благодарности ко всем, кто принял участие в нашей беде. В больнице врачи, медсестры, весь медперсонал были очень внимательны к отцу Григорию. Его срочно прооперировали. Вот выписка из истории болезни № 707 первой курганской городской больницы: «Диагноз: острый гангренозный калькулезный перфоративный холецистит. Местный перитонит. Артериосклеротический кардиосклероз. Больному 77 лет».
Уже через некоторое время после операции врачи говорили, что надежды на благополучный исход операции у них практически не было. Слишком все запущено, очень поздно обратились, да и организм сильно надорван и разрушен в целом. Однако, видимо, не все еще, намеченное на земле Господом, сделал протоиерей Григорий Пономарев.
За здравие батюшки молилось все священство Курганской епархии. Молебны о здравии были заказаны в Пюхтицкий монастырь, в Троице-Сергиеву Лавру… Молились все родные и все духовные чада отца Григория. Ручейки горячей молитвы ко Господу о здравии отца Григория стекались в один поток.
Выйдя из наркоза, батюшка, поняв, что операция позади, трижды перекрестился и сказал:
— Спасибо вам всем.
А потом спросил:
— А где Ниночка? Она ведь меня домой должна забрать… Боюсь, что мне сейчас одному будет не добраться.
Таков был отец Григорий: сочетание мудрости и какой-то детской наивности. Он был очень удивлен и огорчен, что ему еще так долго придется пребывать в больнице.
Меня вызвали из Екатеринбурга накануне перевода его из реанимации в отделение, когда нужна стала постоянная, неотлучная помощь родных. Врачи, сестры, нянечки, заведующий отделением по нескольку раз в день заходили к папе, чтобы узнать о его здоровье. Совершенно незнакомые люди останавливали меня на улице, спрашивали, не нужны ли ему какие-то дополнительные лекарства, можно ли принести фрукты.
Состояние батюшки постепенно улучшалось, и вместе с тем он никак не мог понять, почему ему нельзя идти домой. Ему тяжело было находиться на ограниченной территории, тяготила и невозможность встать на молитву перед любимыми образами. Он скучал без службы. Состояние запрета! Он как бы вновь оказался в неволе и считал дни, когда ему снимут швы и выпишут из больницы.
Велико было удивление врачей оттого, что, можно сказать, приговоренный человек, да еще в таком возрасте, быстро восстанавливает здоровье. Он уже просит принести в больницу книги, тетради, ручку. Беседует на духовные темы с врачами, сестрами, нянечками. Он уже в заботе о душах тех, кто спас его телесное здоровье.
Девятого февраля 1991 года его наконец выписали домой. Конечно, немало прошло дней, когда он по-настоящему смог ходить. Сначала по дому, двору, а вскоре и в храм.
Еще почти семь лет он прослужил на земле Господу, благодаря Его за излечение. После операции вместе с матушкой они выезжали несколько раз служить в праздники в близлежащие храмы. А также в течение последующих трех лет наездами служил отец Григорий в селе Житниково, недалеко от Кургана.
В Свято-Духовском храме в Смолино он служил до августа 1997 года, по болезни выйдя в заштат. Теперь он только иногда служил здесь Божественную Литургию и почти каждую субботу и воскресенье исповедовал. По свидетельству очевидцев, исповедовал отец Григорий особенно проникновенно. Он не просто выслушивал покаяние, но всегда записывал имя кающегося на отдельный листочек, а, завершив исповедь, уже в алтаре поименно вынимал частицу из святых просфор. Господь дал ему силы быть духовником епархии.
Опасный визит
Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи.
Мф.4:10
Был и такой неприятный визит в жизни матушки Нины и отца Григория…
Как-то летним утром к нашему домику подъехала машина. Из серых «Жигулей» уверенно вышли двое: женщина средних лет и мужчина. Так же уверенно они позвонили в дом, словно бывали тут много раз. Я пошла открывать ворота.
— Здравствуйте. А мы к батюшке.
Ни вопроса, здоров ли он, может ли принять… Нет, ультимативно: «Мы — к батюшке, приехали из Куртамыша». Ну, думаю, ладно. Люди разные. Попросила подождать, чтобы узнать, сможет ли батюшка побеседовать с ними. Папа дал согласие; я повернулась, чтобы пригласить их в дом, а они уже сами входят, и опять такая уверенность во всем, я бы сказала, даже чрезмерная раскованность. Все это как-то не понравилось мне.
Кто бывал в маленьком домике в Смолино, знает, что прием своих посетителей батюшка вел прямо на кухне, около обеденного стола. Когда у меня бывали хозяйственные дела на кухне и я видела, что не мешаю беседе посетителей с папой, то оставалась и доделывала работу. Естественно, если разговор носил личный характер, то, оставив все, я уходила в комнату. Иногда папа и сам просил меня об этом. В этом же случае мне почему-то захотелось, чтобы незваные гости сами ушли побыстрее, не начав даже разговора.
Посетители вели себя очень странно. Оглядывая скромную кухню, они задержали тяжелые взгляды на иконах… Папа, деликатно кашлянув, повторно пригласил их присесть и спросил, что их привело к нему.
Начал мужчина:
— Я, батюшка, хотел бы лечить людей, не дадите ли благословение?
— А кто Вы по образованию? Медик?
— Да нет, знаете, но у меня внутренняя сила большая, такое мощное биополе, что я воздействием его на людей могу излечивать всякие болезни.
— А Вы в Бога веруете? Храм посещаете? На исповеди бываете?
Относительно посещения храма мужчина радостно закивал, остальные вопросы остались без ответа. Потом, вскочив, заявил, что у папы прекрасные иконы. Нельзя ли их поближе рассмотреть?
Тут отец Григорий очень спокойно и твердо сказал:
— Пожалуйста, сядьте и послушайте, что я скажу Вам. Мы, православные христиане, перед святыми иконами молимся, а не рассматриваем их. Молимся мы и за болящих, но нет в нас дерзости сознания, что мы их излечиваем своим сильным полем и своим духом. Господь по молитвам и по Своему усмотрению может дать здоровье больным, однако это действие Святого Духа, но отнюдь не вашего духа и биополя.
Тут, видя, что беседа принимает нежелательный оборот, вступилась женщина:
— Да что Вы, батюшка! Мы все понимаем. Я вот еще и водичкой лечу. Очень помогает…
— Водичкой? Какой водичкой?
— Ну как, я над ней всякие молитвы и заговоры читаю и даю людям пить. Очень помогает. Но, говорят, чтобы лечение имело успех и чтобы укрепить веру в него людей, надо благословение старца.
Голос отца Григория стал тихим и каким-то тяжелым. Я подумала, что так ему приходилось иногда говорить в зоне.
— Так вот, опять же у нас, у православных христиан, водичка одна, которая приносит нам и успокоение, и снимает боли, лечит болезни и различные недуги — это святая вода, освященная в храме Божием священником. Этой водой можно лечить человека с верой и надеждой на Бога, потому что лечить-то будет Он, а не ваши шептания и заговоры. Ну, вот что, уважаемые, — повысил голос отец Григорий, — вы приехали ко мне за благословением, за советом, и я его вам дам, а вы прислушайтесь к тому, что я скажу, не спешите, обдумайте. Я знаю, что вы не все мне сказали. Так вот вам мой совет: дай Бог, чтобы вам достало силы, так как вы уже сильно увязли в диавольских сетях…
— Да что Вы, батюшка! Да мы ведь не «черной», а «белой» магией лечим…
— Да хоть зеленой. Любая магия — сатанинское учение, и все, кто занимается этой нéчистью, отрекаются от Иисуса Христа и встают под знамена сатаны. Сами погибнут и многие заблудшие души за собой потащат… Слушайте и не перебивайте меня. Я все понял, но, желая вам добра, как любому созданию Божиему, должен вам объяснить: вы взрослые и неглупые люди; Господь дал нам свободу воли и ум, и если вы не употребите все свои усилия, чтобы разорвать с магией, вырваться из сатанинской паутины, то погибнете навечно. Неужели вам не страшно? Вдумайтесь только — «погибнете навечно»! Поезжайте в свой город, идите скорей в храм. Принесите свое искреннее покаяние о содеянном и о вашем заблуждении. Господь милостив. Даже в самый последний миг Он может простить раскаявшегося, ибо нет греха непрощенного, есть только грех нераскаянный. А далее ведите себя, как подскажет вам приходской священник. Не исключено, что он может наложить на вас епитимию. Значит, надо смириться и молить Господа, чтобы Он простил и грехи, и заблуждения ваши и наставил на путь истинный. А сейчас помолимся, чтобы вы целы и невредимы добрались до куртамышского храма и успели принести покаяние прежде, чем Господь призовет вас к Себе. Я же благословляю вас на благополучную дорогу и путь к покаянию. — Он голосом нажал на слова «дорога» и «покаяние».
После ухода «лекарей» что-то тяжелое и липкое еще висело в воздухе. Батюшка ушел в холодную комнату. Наверное, там он молился, потом прошел с кадилом по всему нашему домику и двору.
Лишь к вечеру он разговорился:
— Вот ведь раньше все это тоже было, а называлось проще: колдовство, ворожба, приворот, сглаз и так далее. Колдунами да ведьмами таких лекарей называли, а теперь — экстрасенс! Звучит-то по-научному и у многих доверие вызывает…
И опять батюшка повторил фразу, которую он стал частенько повторять последние годы: «Да-а… И что только будет, когда кончится…».
На следующее утро, такое же светлое и ласковое, как и вчера, вновь «Жигули» остановились у наших ворот. Я вышла. Открываю ворота. Стоят двое, а третий из багажника достает и пытается засунуть во двор какие-то свертки, кульки с помидорами, ягоды, связку бананов… Я говорю:
— Стойте, стойте! Кто вы, к кому, и что это за продукты?
— А мы к батюшке. Вчера наши приезжали, он их благословил. Мы вот тоже лечим и хотим, чтобы он и нас благословил…
От такой наглой лжи я просто онемела, потом поняла, что к папе этих колдунов-экстрасенсов допускать нельзя — он совсем недавно оправился от перенесенного на ногах инфаркта, обнаруженного позднее на кардиограмме.
Я поняла, что сейчас мне предстоит трудное сражение; правда, эти гости были не такие напористые, как вчерашние, но все равно. Загородив собой калитку, я сказала:
— Во-первых, батюшка болен и никого не принимает. Во-вторых, ваши друзья вас обманули. Весь вчерашний разговор проходил от слова до слова при мне. Батюшка не только не благословил их «деятельность», а посоветовал им как можно быстрее все это прекратить и идти в храм на покаяние, что и я вам советую, так как к батюшке вас все равно не пущу. Заберите свои свертки и поезжайте обратно, не забудьте поблагодарить за «правдивость» своих коллег…
— Что ж мы, в такую даль зря ехали?
— Конечно, зря, и если еще кто вознамерится, говорите правду, зачем людей гонять, да и бензин нынче дорогой…
Расстались мы враждебно, но в дом они не попали. Папа же, все узнав, только сокрушенно покачал головой. «Господь им судья», — тихо промолвил он.
Нападение цыган
Еще одно воспоминание буквально опаляет мою душу. Матушка Нина дважды подвергалась нападению цыган.
Первый раз это было летом, где-то еще на второй или третий год после переезда в город Курган. Воскресная служба в храме уже закончилась, батюшка, как обычно, задержался с народом, а матушка Нина поспешила домой. Ворота их дома запирались на нехитрый засов, и, войдя во двор, она отперла дверь дома и занялась домашними делами. Через несколько минут странный стук или шум привлек ее внимание и неожиданно в кухню ввалилась толпа цыганок.
Положив своего младенца на порог, чтобы дверь нельзя было захлопнуть, они окружили маму, скорее требуя, чем прося у нее денег, воды, хлеба, молока, все сильнее прижимая ее в угол и стремясь затянуть у нее на шее свои бесконечные шали. Другая группа уже орудовала в комнате, с профессиональной быстротой воровок вытаскивая ящики письменного стола и комода. Мама была ошеломлена этим вторжением и очень напугана. Крики цыганок становились угрожающими, шали все туже стягивались на ее шее, и она поняла, что может погибнуть.
Как рассказывала она потом, в этот момент в ее глазах, уже затуманенных удушьем, четко возникла икона святителя Николая, и матушка Нина, последним усилием воли рванув на себе путы, воскликнула: «Святой Николай, угодник Божий, помоги мне!». И что же? В толпе наглых цыганок возникло вдруг какое-то замешательство, еще миг — условные цыганские крики — и все это воровское племя, оставив полупридушенную маму, столь же внезапно, как вторглось в дом, откатывается во двор, куда в этот момент входит мамин брат Николай Сергеевич Увицкий, гостивший вместе со своей семьей у моих родителей.
Одновременно с ним в ворота дома вбежал мамин сосед по улице, который увидел, что в батюшкин двор вошел целый табор. Николай Сергеевич и сосед церемониться с наглыми посетителями не стали. В ход пошли кулаки, пинки и поленья, так как цыганки отчаянно визжали и кусались, отбиваясь от них всей толпой. Выбегая из ворот, они попали в руки разъяренных смолинчан, поспешивших на подмогу. Изрядно побитые и потрепанные, выкрикивая проклятья, цыганки бросились прочь от дома отца Григория.
Внутри дома было жалкое зрелище: все взрыто, перевернуто, разбито, разрезано и опрокинуто. Среди этого хаоса вошедшие не сразу даже заметили лежащую в углу матушку Нину, которая еле дышала, жадно ловя воздух посиневшими губами.
Весть о нападении быстро распространилась по Смолино. Дошла она и до папы, который не шел домой, а бежал. Помощь маме была оказана и медицинская, и духовная. Отслужили благодарственный молебен Господу. Мама постепенно пришла в себя и потом часто мне говорила: «Если ты чувствуешь, что сейчас можешь погибнуть, зови, кричи святителя Николая; он не допустит несчастья».
Второй случай столкновения с цыганами был не столь драматичен, но давал пищу для размышления. Произошло это через много лет, когда папа был назначен в Куртамыш и они вместе с матушкой жили там наездами.
Также в воскресный день после службы матушка Нина, не дожидаясь отца Григория, направилась в их временный дом и еще издали заметила, что в ворота его вошла толпа цыган. Мама бегом вернулась в церковь, сказала об этом батюшке. Он, быстро встав перед образом святителя Николая, стал читать 90-й псалом, молитву «Во время бедствия и при нападении врагов» и молитву Животворящему Кресту Господню. Прочитав все, он спокойно сказал:
— Теперь пойдем, все будет хорошо.
Когда они повернули на улицу, ведущую к дому, то увидели только спины убегающих в спешном порядке цыган. Ворота, ведущие во двор, были распахнуты, замки и окна дома в полном порядке, и даже во дворе ничего не тронуто. Кто спугнул из пустого двора этих вороватых людей? Видимо, не оставил Господь без внимания горячие молитвы батюшки, иначе трудно объяснить внезапный страх, охвативший наглецов, убегавших от, казалось бы, легкой добычи.
Этот чудесный случай помощи по молитвам к Мирликийскому чудотворцу отец Григорий позднее описал при составлении машинописной книжки-сборника о жизни и чудесах святителя Николая. Пожалуй, это был единственный эпизод из их жизни, который батюшка описал сам. Объяснить это, скорее всего, можно глубоким почитанием отцом Григорием Николая-чудотворца.
Наводнение. Островок спасения
Курганские старожилы всегда с уважением и каким-то тайным опасением говорят о своей реке Тобол. «Ты не смотри, что он такой ровный да спокойный. Правда, пообмелел за последние годы, так что в иное лето курица вброд перейдет. Не-е-т! Эта река с характером, много на ее счету и людей, и скотины. Да что там — порой целые поселки смывала, а уж об этих дачных домиках и говорить нечего».
Величественное это зрелище, но страшное своей необъятностью, непредсказуемостью и зачастую печальными исходами. Старожилы помнят, что весной 1947 года разлив реки был такой, что вода захватила не только приречные луга, поля, сады и огороды, но и почти половину городских улиц. Скорость течения была огромная, с водоворотами и страшными воронками, утягивающими вниз…
Вода несла все, что успевала захватить на своем пути: смытые с фундаментов дома с несчастными людьми, сидящими на крышах; деревенские баньки, бревна, доски… Перевернутые раздавленные лодки то поднимались на волне, то пропадали куда-то в глубину, увлекая за собой все, что было рядом: людей на сколоченных наскоро плотах и несчастных животных, которые своим душераздирающим воем не могли заглушить неумолимый рев вырвавшейся на волю стихии.
Страшная была картина. В тот послевоенный 1947 год погибло много людей, не говоря о домах, разрушенных дорогах, смытых садах и огородах — единственных кормильцах в военной голодухе. Вода тогда долго не уходила, и город медленно оправлялся от безумства водной стихии.
В другие годы вода поднималась на три, на четыре или на пять метров: пошумит в камышах, постоит в низинках, оставляя на половину лета маленькие зеленоглазые озерца, и уйдет.
В 1994 году зима была довольно обычная по количеству снега, по морозам, и начало весны ничего особенного не предвещало. Конечно, к 94-му году в городе многое изменилось. Поля, по которым прокатилась вода в том далеком 1947-м году, давно перекопаны и застроены дачными домиками. Изменился пригородный ландшафт. Около города вдоль Тобола отсыпали небольшие дамбы. Построили дополнительные резервуары с питьевой водой.
Родители мои, к 1994 году уже столько пережившие, поездившие по епархии, тяжело перенесли папину болезнь и операцию. Годы их бесконечных скитаний унесли почти все силы. Батюшка еще иногда проводил службы в смолинском Свято-Духовском храме, часто исповедовал. Матушка тоже стала много слабее, но в храм ходила постоянно. На службах она стояла на своем любимом месте, перед чудотворным образом святителя Николая из села Утятское.
Время приближалось к Пасхе. Уже вымыты стены храма, убраны иконы, приготовлено заботливыми руками Марины Григорьевны (Маринушки, как называл ее папа) пасхальное храмовое облачение и облачение для священнослужителей. Все готово для встречи Светлого Воскресения Христова…
Но по городу поползли сначала осторожные, чтобы не напугать людей, а затем более серьезные предположения, что ждут большую воду. Озабоченные лица работников гидрометеослужбы, постоянно делающих замеры уровня подъема воды, тоже не прибавляли спокойствия. Но все равно многие надеялись, что все обойдется.
Идут последние дни Великого Поста. В храме служатся продолжительные великопостные службы. Люди стремятся попасть в храм, чтобы растворить свою беду в печали общего молитвенного настроя… Для отца Григория Великий Пост всегда был временем особого молитвенного стояния. В его тетрадях сохранились стихи Александра Сергеевича Пушкина, который переложил известную молитву Ефрема Сирина:
… Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей…
В этот день дождь, идущий то сильнее, то тише, перешел в ливень. Небо почти уложило на промокшую землю свои разбухшие от влаги облака. Тобол, не выдержав скорости собственного течения и напора льющейся сверху воды, вышел из берегов и прорвался через трассу, ведущую на Увал, стремительно заполняя все смолинские сады и дачи. Вода залила единственную дорогу 23-го маршрута автобуса, соединяющего поселок Смолино с городом. Дальше автобусы идти не могли.
Выходя из храма, люди в ужасе увидели совершенно иную картину, чем ту, что была до службы. Вода откуда-то сзади, огородами подступила к крыльцу храма и закрыла уже его нижние ступени.
Конечно, о людях не забыли. Чтобы эвакуировать народ, была послана специальная военная техника. Но с этого момента поселок Смолино оказался надолго отрезанным от города.
Выйдя из храма, Александр Шумаков, муж маминой племянницы, рванулся в сторону улицы, где жили отец Григорий с матушкой, но пройти туда уже не смог, так как низкое место между храмом и домом было полностью залито водой. Взяв лодку, он сумел добраться почти до самого дома батюшки. До школы, которая стояла рядом, вода еще не дошла. Но батюшка покидать дом отказался. Родственники, живущие в городе, за несколько дней до наводнения уговаривали отца Григория и матушку перебраться на время в город, но всякий раз получали благодарность и твердый отказ.
И вот вода подошла к огороду их дома, а дождь все продолжал и продолжал лить. Оставаться отрезанными от людей (да еще в таком возрасте) было, конечно, опасно. Однако отец Григорий с прежней твердостью отклонил предложение переехать в город. По улицам Смолино уже плавали на лодках, что было жутко и противоестественно. Вода за короткое время прибыла так, что дверь в храм частично оказалась под водой. Впоследствии в храм вплывали на лодке через окно, стараясь хоть что-то еще спасти из утвари. Сообщение с городом теперь поддерживали только с помощью плавающей амфибии, приходящей в поселок два-три раза в день. Большинство смолинчан, покинув свои затопленные и полузатопленные дома, разъехались кто куда, но где-то как маленькие островки оставались отдельные домики, стоявшие, очевидно, чуть выше и не покинутые пока хозяевами.
Угроза полного затопления поселка нарастала с каждым часом. Мама говорила: «Выйдешь ночью — как в чужой стране…». Кругом вода, шумная и беспокойная. В ней редко где отражаются не успевшие выйти из строя фонари. Тишина ночи — неестественна и связана с отсутствием в поселке людей. Где-то далеко воют собаки. Ощущение — словно ты сидишь на дне гигантского колодца. И только звезды те же, свои, привычные, но их часто заслоняют рваные низкие тучи, готовые выдать очередную порцию воды.
Отец Григорий почти не выходил из переднего угла с иконами. Он постоянно молился на этом островке спасения: и днем, и ночью. И, конечно, молился батюшка не только о своем спасении, но и за всех духовных чад. Он молился за потерявших кров и дом в эти дни, за бедствующих и нуждающихся. Это был молитвенник за людей, ходатай перед Богом. Он предстательствовал пред Господом, умилостивляя Его о немощных и нуждающихся в молитвенном заступничестве. Он клал за нас поклоны пред престолом Божиим и просил о прощении наших грехов. Кому еще дано дерзновенно молить Господа о грешных людях, как не пастырям Христовым, стерегущим свое стадо!
Таким был отец Григорий!
Матушке было страшно: от неизвестности, от близости неуправляемой стихии, от воды, бурлящей, угрожающей. Уже несколько дней не было электричества. В дом врывались новые запахи и звуки: устойчивый запах сырости, какие-то то ли стоны, то ли всхлипывания… Вода подошла к палисаднику дома с одной стороны и к огороду — с другой.
Выйдя в одно утро во двор, матушка в малиннике за домом обнаружила целый зоопарк. Здесь были несколько собачат разных возрастов, кошки, петух и овечка. Все они жались к дому и не обижали друг друга, объединенные общей бедой. Увидев матушку, они буквально бросились к ней навстречу. Все дрожали от сырости и голода. Матушка очень любила животных, и ее чуткое сердце отозвалось на эту беду. Совсем уже немощная и слабая, она притащила из сарая сухие доски. Настелила. Кое-кто из несчастных отправился в сарай, другие залезли на сухой подстил. Мама пошла готовить им еду. Животные, наверное, почувствовали ее доброту и заботу. Они ничуть не боялись ее, напротив, жались к ней, прося ласки и защиты.
На душе у матушки было тяжело, беспокойно, страх своей ледяной рукой сжимал ее старенькое, уставшее сердце. Батюшка внешне был спокоен, собран более, чем обычно, он все время пребывал в молитве. Мама видела, как во время их добровольного заточения он часто выходил в огород с крестом, благословляя им на все четыре стороны.
Однажды на амфибии, а потом на лодке до них добралась папина духовная дочь — Татьяна. Добрая, заботливая женщина, она привезла им хлеб, продукты и стала уговаривать уехать. Уговоры ее не подействовали, и она в недоумении и огорчении заплакала: «Ну дайте, батюшка, я вам хоть картошку из подполья подниму! Ведь затопит, вода стоит у палисадника». На это батюшка ответил: «Не бойся, Татьянушка, не пойдет вода дальше, и не нужно поднимать картошку — тяжелый и напрасный труд». У Татьяны даже слезы высохли от изумления. Так она и уехала с батюшкиным благословением; вслед он крестил ее, говоря: «Осторожно залезай в амфибию-то, там ведь высоко».
Интересно, что в сентябре 97-го года, за месяц до их с мамой кончины, мы с папой выкопали картошку на огороде. Обычно, дав ей пообсохнуть, батюшка спешил убрать ее в подполье. В этот же год он оставил все в сенях, прикрыл и не разрешил убирать под пол. На мой вопрос: «Почему?» — он только отмалчивался, а когда я, видимо, утомила его своими уговорами, ответил: «Да оставь тут… Пригодится она скоро…». В тот момент я просто восприняла это как какое-то чудачество и не знала, что через месяц картошка эта понадобится для поминального стола.
Стихия понемногу утихала. Это был уже не первый день наводнения, и вода не то чтобы стала уходить, но не бурлила больше, как-то успокоилась. Временами очень робко выглядывало солнце и, словно пугаясь того, что натворила вода, пряталось в облака. У матушки убежала овечка — значит, нашла какой-то ход. Еще через пару дней исчезли две собаки и несколько кошек. Петух, шумно взлетев на забор, отсалютовал маме своим звонким голосом и отправился в освободившийся от воды соседний двор.
А вода, действительно, как стояла у палисадника, так за это время ни на сантиметр не подвинулась ближе к дому. И в подполье было совершенно сухо.
Подошла Светлая Пасха Христова. Отец Григорий с матушкой Ниной отслужили этот праздник в домашних условиях. Дом в эти дни стал для них настоящим островком спасения.
Наряду со многими православными святынями, отец Григорий трепетно хранил в Святом углу богослужебный антиминс, очевидно, переданный ему архимандритом Ардалионом. На антиминсе читаем:
Милостию Божиею
Священнодействован Преосвященным Львом, Епископом Нижне-Тагильским, в лето от Рождества Христова 1цк7 (1927 г.) октября 11 дня.
Преподан для священнодействия на всяком месте владычества Господня.
Смиренный Лев, Епископ Нижне-Тагильский.
Тревога, столько дней сжимающая сердце матушки, стала потихоньку отступать, а батюшка все продолжал молиться. Матушка даже не могла понять, когда он спал. Прошло несколько дней Светлой Пасхальной недели, и в одно утро отец Григорий, выйдя на улицу, увидел, что вода стала уходить.
Обозначилась черная, размытая земля. В эти дни добраться до них стало совсем невозможно. На лодке уже не доплывешь, а ногами еще не пройти. Но пережили и это. С каждым днем солнце припекало все сильнее. Часть воды, находя себе какие-то канавки, трещинки и углубления, стремилась к Тоболу, другая часть уходила через землю. Высвобожденная наконец земля парила под солнцем, медленно просыхая.
Зазвучали голоса людей, возвращающихся в свои намокшие жилища. Голоса были похожи на щебет птиц, прилетевших после зимы в свои гнезда. В воздухе запахло дымом топящихся печей, раздался стук топоров и молотков. А у батюшки так и остались жить маленький щенок, которого матушка назвала Тобуськой, и красивый черно-белый кот Кисик с зелеными глазами и словно выпачканным в угле носом. Давно замечено: чем больше настрадалось животное, тем оно становится более ласковым. Такой собаки у них еще не было. Она все время ходила за мамой хвостом и норовила лизнуть ее в лицо. Кот тоже был необычайно преданный и, можно сказать, тактичный. Батюшка шутил: «Ладно, пропишем и кота». Позднее, когда Кисик окончательно обосновался в доме, он всегда ждал прихода хозяев, сидя на воротах. Завидев их, спрыгивал, бежал навстречу и терся об ноги.
Вскоре вода освободила дорогу и вновь пошел рейсовый автобус. После не слишком долгой, но беспокойной разлуки с родными отца Григория и матушку Нину Сергеевну нашли еще более поседевшими и какими-то усталыми. Но лица их светились, как всегда, теплом, словно бы говоря: «Слава Богу за все!».
Трагедия на трассе
Трагедия на трассе Курган-Звериноголовское случилась летом 1996-го года, около пяти часов вечера. Это было воскресенье. Я уже накормила родителей обедом, вымыла посуду, приготовила им ужин и собиралась поехать к себе, так как до следующего утра моя помощь им была не нужна. Оба они в то лето чувствовали себя удовлетворительно. Мама еще ходила сама до храма (правда, уже с провожатым и с палочкой), а папа иногда служил Божественную Литургию и постоянно исповедовал.
Попрощавшись с родителями, я вышла на остановку к рейсовому автобусу. Народу собралось много. В воскресенье к вечеру загородные автобусы бывают переполнены — садоводы, грибники и дачники возвращаются домой. По расписанию автобус наш не пришел. Мы простояли уже полчаса, толпа начала недовольно ворчать. Наконец автобус появился. Из него стали выходить бледные, возбужденные люди. Долетали обрывки настораживающих разговоров.
Последней из автобуса почти выпала кондукторша с искаженным от ужаса лицом; сама она дрожала от перевозбуждения и повторяла только одну фразу: «Господи, какой ужас! Ужас-то какой!». Она села, почти упала на траву около нашего палисадника, а я побежала домой за водой и валидолом.
Зайдя в дом, я удивилась, что отец Григорий не дремал, а стоял перед иконами. Когда я уходила, он почти спал. Кроме лампад, горело несколько свечей, чувствовался плотный запах ладана от каждения, а на столе у батюшки лежало несколько раскрытых богослужебных книг. Он был очень сосредоточен внутренне, на внешнее почти не реагировал. Он не удивился, что я вернулась, а ведь я вышла из дома около часа назад. Я только сказала папе, что сейчас вернусь, взяла валидол и воду и пошла к кондукторше. Она уже немножко успокоилась и рассказывала окружившим ее смолинчанам, что полчаса назад она, водитель и пассажиры автобуса были свидетелями жуткой аварии на дороге.
По трассе, ведущей на Увал, в сторону Кургана шел переполненный 26-й автобус. Он только что миновал поворот на Смолино и продолжал движение по своей полосе, как вдруг ему навстречу на бешеной скорости, обгоняя шедший 23-й автобус, выскочила иномарка. Она оказалась на полосе встречного движения и врезалась прямо в «лоб» идущему навстречу ей автобусу. Как выяснилось уже потом, в машине было трое совершенно пьяных людей, водитель в том числе. Все в таких случаях происходит в считанные секунды.
Приземистая комфортабельная иномарка стремительно влетела прямо под капот 26-го автобуса, водитель которого в последний миг, пытаясь избежать столкновения, взял правее и сошел на обочину дороги к крутому, отвесному кювету. Почти без торможения автобус врезался в большое, мощное дерево, стоящее около обочины. Именно оно и задержало падение автобуса в кювет. Однако удар о дерево был настолько силен (плюс лобовой удар иномарки), что автобусу разворотило всю переднюю часть.
Крики, вопли ужаса и боли перекрыли визг металла и звон бьющегося стекла. По дороге медленно растекалась кровь погибших и раненых людей.
Машины ГАИ оцепили место происшествия. Прибыли машины «Скорой помощи». Дорогу перекрыли, а транспорт, идущий по трассе, стали направлять в обход. 23-й автобус, который в этот момент находился в нескольких метрах от места аварии, пропустили в Смолино, чтобы он не загромождал дорогу. Эти несколько минут, пока не приехали машины ГАИ и пока смолинский автобус находился на месте трагедии, его пассажирам запомнились, наверное, на всю жизнь.
Из пострадавшего автобуса, забрызганного кровью, кто-то выходил сам, кого-то выводили, кого-то выносили, стараясь оказать посильную помощь; некоторых оставляли лежать на земле, закрыв с головой. На иномарку старались не смотреть, так как из-под автобуса видны были только куски металла и отдельные фрагменты тел… А всего несколько минут назад погибшие в легкомысленном упоении скоростью, затуманенные алкоголем, неслись навстречу своей смерти.
Но, кроме пассажиров иномарки, в этот трагический день погибли и ехавшие в автобусе дачники и садоводы. Страшна своей внезапностью такая смерть! Не случайно в одной из молитв к Божией Матери есть слова: «Пресвятая Госпоже, Владычица моя, Богородица… Спаси и избави мя, грешного раба Твоего, от внезапной смерти».
Впечатление от трагедии на трассе, произведенное рассказами очевидцев, было тягостным. Вскоре меня позвала мама:
— Что случилось, Леленька?.. Я что-то ничего не пойму… Буквально минут через пять, как ты ушла, папу вдруг как будто окликнули: он быстро встал, ушел в холодную комнатку, принес книги, несколько свечей, надел рясу, епитрахиль и крест и стал молиться по книгам. Слышу, читает «Канон при разлучении души от тела», молитвы за умерших, 17-ю кафизму из Псалтири. Я спрашиваю:
— Что, Гришенька, у нас сегодня память по кому-то, а я забыла, наверное?..
Он ответил: «Нет, Ниночка. Мне тут… нужно». Потом долго молился о болящих.
Я рассказала маме, в чем дело, опуская, конечно, страшные подробности, и спрашиваю ее:
— Как ты думаешь, почему он стал вдруг молиться? Ведь он почти спал, а тут вскочил и стал читать именно заупокойные молитвы и молитвы о здравии?
— Я уж молчу об этом, Леленька. Но сколько раз он удивлял меня своей необыкновенной чуткостью. Отец Григорий, конечно, в быту похож на ребенка, но что касается духовного…
В этот день к нам никто больше не заходил. Батюшка же был тише и молчаливее обычного. Убедившись, что никто уже не встревожит их страшной вестью, вечером я уехала к себе.
Душа моя была преисполнена не только сочувствием к гибели несчастных и горю их родных, но и бесконечным удивлением и преклонением перед батюшкой. И я ловила себя на мысли, что все еще в полной мере не могу понять человека, чьей дочерью я являюсь. «Иисус же сказал им: не бывает пророка без чести, разве только в Отечестве своем и у сродников и в доме своем» (Мк.6:4).
Это был хороший урок мне.
И вновь испытание
Конечно, все трудности и испытания, постигшие отца Григория и матушку, не могли не сказаться на мамином здоровье. Помимо постоянных болезней и возрастных изменений, особенно сильно в последних два года жизни она стала жаловаться на зрение. Катаракта на обоих глазах — тоже возрастное заболевание, но у матушки оно проходило какими-то скачками: определенный отрезок времени без изменений, а потом зрение сразу резко ухудшалось на несколько порядков. О последнем таком случае, после которого она практически ослепла, мне бы хотелось рассказать.
Это было в начале декабря 1996 года.
Мама уже ходила с палочкой, но одна старалась никуда не выходить. В этот день (к тому времени я переехала жить в Курган) меня не было, а папа отлучился, вероятно, в храм. Слегка одевшись, матушка взяла свою палочку и пошла по тропинке в огород по хозяйственной нужде. Была сильная пурга. Мама прошла несколько шагов, не почувствовав, что страшно метет и буквально в двух шагах уже ничего не видно. Очередной порыв ветра с такой силой толкнул ее, что она, выронив ведро, которое было у нее в руках, упала, ударившись затылком. Поднимаясь, она поняла, что ничего не видит: одна белая мгла перед глазами — и все. Стукнувшись, она потеряла ориентацию и не могла понять, в какой стороне дом и где поленница дров. К тому же куда-то в сторону отлетела ее самодельная тросточка. Одетая в легкую куртку, матушка сразу ощутила ледяные порывы ветра и… страх. Куда идти, где дом, хотя бы в какой стороне? Она ходила по огороду без палки, натыкаясь на дрова, на забор, с головы у нее сорвало платок, руки закоченели, и она поняла, что можно погибнуть даже во дворе собственного дома.
Мне трудно сказать, сколько она бродила так. Судя по следам, она исходила весь огород. Состояние казалось безысходным. Замерзшая, ничего не видящая, она не могла найти хотя бы угол дома, чтобы ощупью вернуться в тепло.
Тут она взмолилась: «Господи, помоги! Ведь погибаю совсем». Вернувшийся домой папа увидел просто устрашающую картину: матушка Нина без платка, в расстегнутой куртке, без палочки бродит у забора, пытаясь найти входную дверь дома, и посиневшими губами чуть слышно повторяет то: «Гриша, Гриша!», то: «Господи, помоги!».
Отец Григорий не мог удержать слез, а когда поспешил к ней и она поняла, что в безопасности, то, всегда такая сдержанная, уткнулась в его плечо и заплакала как ребенок.
Не надо рассказывать, что почувствовала я, придя домой и увидев, как папа пытается растереть ее чем-то, а у мамы лицо пылает, вся она дрожит и что-то сбивчиво пытается объяснить. Мы боялись всего: и воспаления легких, которое она не однажды перенесла, и стресса от испуга, что казалось нам вполне возможным, но Господь этого не допустил. По Божьему промыслу ей еще надлежало перенести операцию на глазах, прозреть на один глаз, а потом отойти ко Господу в одну ночь с батюшкой.
С этого дня до дня своей операции (чуть больше полугода) она была практически совершенно слепа, различала только свет и темноту. Мы ни разу не слышали от нее жалоб, как ей трудно, неудобно и тяжело. Только один раз, когда я принесла показать маме вышитый к ее любимой иконе святителя Николая покров, украшенный ландышами, она как-то сокрушенно сказала: «Да! Как бы хотелось посмотреть на твою работу, Леленька!» — и долго щупала руками вышивку, пытаясь представить, как это выглядит. Ведь она много лет была портнихой, и глазам подсказывали руки…
Матушка Нина Сергеевна была очень стойкой в скорбях. Я никогда не видела, чтобы она себя жалела. Слезы по поводу близких, родных и друзей бывали на ее лице, но о себе — почти никогда.
Пасхальная ночь
Слава Тебе, раскрывшему предо мною небо и землю, как вечную книгу мудрости; Слава Тебе, Боже, во веки.
Из акафиста «Слава Богу за все»
Был вечер Великой Субботы 1997 года, то есть канун Святой Пасхи — последней Пасхи, которую мои дорогие родители встречали на земле.
Было часов десять вечера. Отец Григорий собирался на Пасхальное богослужение. Матушка Нина была уже слаба и понимала, что при всем желании провести эту светлую ночь в церкви у нее не хватит сил. Она осталась дома. Стараясь не показать своего огорчения, мама ласково простилась с отцом Григорием, а я вышла, чтобы проводить его. Мы стояли в полуоткрытых воротах у нашего домика и ждали, когда подойдет рейсовый автобус.
Был уже конец апреля, но погода на Страстной неделе стояла сырая, ветреная и холодная не по сезону. Однако в Великую Субботу уже к вечеру ветер стих и заметно потеплело, а ближе к ночи стало совсем тепло. Деревья, кусты, чуть проклюнувшаяся трава — все вдруг как-то задышало, заторопилось успеть встретить Праздников Праздник. Мы стояли не разговаривая, ошеломленные неожиданным пробуждением природы, в полной тишине ощущая кипение жизни самой земли, ее трав и деревьев. Казалось, что вокруг нас в воздухе и на земле происходит какое-то невидимое, но всеобщее движение. Земля проснулась от зимнего оцепенения, жадно взявшись за работу.
Приклонив ухо к земле, наверное, можно было услышать, как растет трава, спеша к теплу и свету, как текут соки, наполняя своей живительной силой незаметно набухающие ветви; как лопаются самые нетерпеливые почки, выбрасывая свой первый даже еще не листочек, а золотистый светло-зеленый комочек. Потрудившийся за неделю ветер расчистил небо, сдул пыль с каждой звездочки, отполировал луну. И луна, и звезды смотрели на пробуждение земли как через чистые линзы очков, отражая в себе невидимый свет.
Это состояние активной, деятельной жизни в полной тишине воспринималось как чудо, как таинство, которое Господь дал нам почувствовать.
На темно-синем, даже чуть фиолетовом бархате небесного свода бриллиантами сверкают звезды. Свет их не безжизненный, но трепетный, живой. Он пульсирует, то удлиняя, то укорачивая свои лучи, и притягивает взгляд. От этого света кружится голова. Душа жаждет и одновременно робеет, боясь увидеть что-то необычное, неземное. Нервы натягиваются как струны. Вот еще только одна секунда, еще миг, и что-то произойдет… Глаза устают все время ловить это таинственное мерцание. Да, мне не дано… Но вот папа! Лицо такой одухотворенности и красоты я видела у него еще только один раз — в то страшное утро двадцать пятого октября, когда он, уже отошедший, лежал на диване. Оно отражало печать иного мира: и восхищение, и преклонение перед увиденным, и Божественный покой, который был разлит на его челе. Некоторое время это выражение сохранялось, постепенно тускнея, а затем его бесконечно дорогое лицо покрыл воздэх, которым по правилам Православной Церкви закрывают лицо усопшего пастыря.
В ту Пасхальную ночь его лицо поразило меня таким же светом и красотой. В его сияющие глаза, возможно, видевшие (пусть хоть на миг) другой мир, мне было даже страшно смотреть. Мы почему-то говорили шепотом, редко-редко обмениваясь словами, и он сказал мне: «Запомни, Леленька, эту ночь! Это необыкновенная, Святая ночь!».
Действительно, за всю свою жизнь мне не приходилось, да уж, наверное, и не придется, пережить подобное. Это состояние было послано отцу Григорию, а я лишь была рядом. Но и моя душа трепетала от переполнявшего ее волнения. Нет — потрясения. Что же видел он в эту ночь? Как бы мне хотелось удержать, сохранить эти ушедшие мгновения, чтобы в самые тяжелые минуты жизни вернуть их снова. Такие драгоценные минуты мы пережили с моим дорогим отцом в канун Пасхальной ночи последнего года его земной жизни.
Внезапно шумно затарахтел подъехавший автобус; стало до боли обидно — он как бы захлопнул дверь, на миг приоткрывшуюся туда, где слышно, как шепчутся травы, звенят ручьи и поют ангелы. Благословив меня, батюшка поехал на Пасхальную службу, чтобы встретить Воскресшего Господа. В эту ночь Господь приходит в тысячи больших и маленьких, скромных и величественных храмов, где радостно возносится: «Христос Воскресе!».
Перед моим внутренним взором еще долго стояли сияющие неземным светом глаза дорогого моего отца. Утро первого пасхального дня встретило нас безоблачной синевой небес, сиянием солнца, тысячами, миллионами раскрывшихся ночью древесных почек. Они окутали ветви, еще вчера голые, легким зеленоватым маревом, дивным запахом весны. Ликующее пение птиц на все голоса славило Воскресшего Господа и Его Святую Пасху…
«Продлить еще на 40 уст…»
Поминальные записки отца Григория
Перед нами — уникальные свидетельства молитвенного предстояния отца Григория пред очами Божиими — записки его духовных чад, имеющие разные пометки на них самого батюшки…
На записках рукой отца Григория указаны даты чтения им сорокоустов о здравии и упокоении, отмечены пожертвования, принятые от подателей записок, помечено, какое духовное чтение предложить страждущим. Адресанты — податели записок — от Украины до Иваново, Нижнего Новгорода, Тобольска, Омска и Качканара.
Как сохранились до нашего времени эти живые, трепетные просьбы людей за своих близких, родных и просто знакомых? Просьбы о молитвах за погибающих и отчаявшихся, находящихся в бедственных обстоятельствах? На эти и другие вопросы будем искать ответы в самих записках к батюшке, оставленных нам для укрепления веры в силу священнической молитвы, о которой апостол сказал нам: «Радуемся о вас пред Богом нашим, ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лице ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей…» (ср. 1 Фес.3:9-10).
Отец Григорий хранил эти записки многие годы, молясь за вверенных ему людей до самой своей кончины. Вот, например, записка 1991 года, из Качканара, от Усольцевой Тамары Алексеевны, с просьбой молиться о здравии. На ней написано:
«Принял 14/Х-91 г. Продлить еще на 40 уст.».
И далее отмечена дата: «1/II-92 г.» — видимо, батюшка начал второй сорокоуст.
Здесь же еще несколько записей:
«Продлить еще на 40 уст. Писал 6/V-92 г.»,
«Продлить еще. Писал 10/VII-92 г.»,
«Продлить еще на 40 уст. Писал 14/Х-92 г.».
Всего проставлены даты шести сорокоустов. В записке среди других отмечены имена архимандрита Спиридона, схимонахини Анфисы (из Верхотурья).
А далее батюшка пометил для себя: «Срок уже кончился. 30/IХ -92 г.».
Эти записи потрясают всякое воображение!
Вот еще одна записка:
«от Филимоновой
Феклы
за здравие болящей
терявшей память.
и себя теряет
Подаю на год моления,
лично Батюшке Григорию
от рабицы Феклы с прозьбой.
пожалуйста».
(орфография сохранена — ред.).
Здесь же рукой отца Григория подписано:
«Принята. Запись от 1/II 81 г.».
Этой записке — 25 лет.
«Рабица» Фекла просила батюшку молиться о ней год, но он вымаливал ее с 1981 по 1997 год — 16 лет, вплоть до самой своей кончины. Он бережно хранил эту записку в своем молитвенном углу.
Впрочем, — как и все остальные.
Даты последних поминальных записок, принятых отцом Григорием, — июль-август 1997 года — за два месяца до кончины…
Насколько же ответственным и богобоязненным пастырем, «избранным,.. дабы возвещать совершенства Призвавшего нас из тьмы в чудный Свой свет» (ср. 1 Пет.2:9), был молитвенник Зауральской земли протоиерей Григорий Пономарев!
«Многоуважаемый отец Григорий!
Прошу Вас, помолитесь за моего сына Юрия. Он в тюрьме, его посадили. Он украл в магазине бутылку водки, ему дали 2 года заключения. Простите меня, Лизавету. Простите нас, грешных, что я Вас беспокою своими великими грехами.
Дорогой отец Григорий! Дай Бог Вам счастья, крепкого здоровья — на многая лета, многая лета, многая лета…»
«В Курганскую церковь. Батюшке.
Батюшка. Прошу Вас помолиться о упокоении новопреставленныя монахини Елизаветы. Посылаю 50 рублей денег. По возможности помолитесь. Грешная послушница Васса».
Слова «посылаю 50 рублей денег» в записке аккуратно зачеркнуты, и рукой батюшки рядом подписано: «Отдано обратно». Над именем «Васса» батюшка надписал «о здравии» — видимо, сам себе дал задание молиться и о здравии того, кто просит помолиться за другого.
«Отец Григорий! Мой зять ломал мне руку, голову разбивал и иконы поломал. Я их принесла в Церковь. Зятя звать Георгий. Помолитесь о здравии Марии, Андрея, Ольги, Лукерии».
На записке отец Григорий подписал: «Просила Гликерия. Все они крещеные. Поступило 4/I 81 г.».
* * *
Эту трагическую историю молодой девушки Ирины, пораженной страшной неизлечимой болезнью, можно на небольшом отрезке времени проследить по нескольким запискам, дошедшим до нас.
За Ирину отец Григорий молился всю весну и лето 1997 года, хотя сам уже вместе с матушкой Ниной был на грани перехода в вечные обители…
Записка отцу Григорию:
«Болящая Ирина болеет раком, руку хотят отнять. Ей 16 лет. Не хочет делать операцию. Надеется на Бога. Маму зовут Валентина».
Запись отца Григория: «Ирина. Отдать молитвы Божией Матери на каждый день и час. 13/V-97 г.». Эта запись сделана батюшкой за пять месяцев до его перехода в мир иной.
Записка от Ирины:
«Отец Григорий!
Прошу Вас, помолитесь о рабе Божией Ирине, чтобы Господь укрепил меня, даровал мне мужество, бесстрашие, чтобы я не боялась вражиих козней, уповала на Господа, на Пресвятую Богородицу, не принимала лукавых помыслов, верила в милосердие Божие, верила, что все происходит по воле Божией. Не устрашалась при видениях вражиих, не обращала на них внимания. Верила, что Господь по милосердию свыше моих сил не даст.
Если будет на то воля Господа нашего Иисуса Христа, да смилостивится Он надо мною, и избавит от сего недуга, спасет и помилует меня. И дарует мне благодать за все, за радости и скорби, благодарить Его. Радоваться в скорбях и иметь только один страх — страх Божий. Не унывать, не отчаиваться, не впадать в тревогу и волнение, а принимать все с верой, любовью, со смирением. И претерпеть все до конца».
Вторая записка от Ирины, на которой отец Григорий подписал своей рукой дату «24/VII-97 г.»:
«Отец Григорий!
Прошу Ваших молитв о р. Божиих Ирине, Иулии, Клавдии, Емилии, чтобы Господь нас укрепил.
Прошу Ваших молитв о р. Божией Ирине, чтобы Господь вложил в сердце желание, угодное Ему, и устроил все так, как Ему угодно».
Еще одна записка отцу Григорию:
«… И еще помолись о болящей Ирине. Это девочка, которая болеет раком руки. Я тебе ее приводила. На них были сильные напасти, какая-то колдунья приходила. Сейчас вроде бы отстала. Хотят, пока есть силы, съездить в Дивеево к Серафиму Саровскому».
* * *
И еще несколько записок отцу Григорию из 1997 года, принятых им для молитвы накануне своей праведной кончины.
Батюшка до последних дней нес свой нелегкий священнический крест исповедника православной Христовой веры — молитвенника и ходатая за всех, желающих обрести вечность своей душе и душам родных и близких. Он был уже слаб, особенно летом, ближе к осени 1997 года, но все принимал и принимал в своем домике людей, приходящих к нему с просьбами о заступничестве. Он внимательно, неспеша выслушивал их, делал необходимые пометки на разных кусочках бумаг. Писал размашисто, крупными буквами — характерно! Память его уже подводила, но молиться батюшка не переставал…
«Отец Григорий. Помолись за раба Божия узника Алексия». На записке пометка: «Писал 8/VII-97 г.».
«Отец Григорий, простите нас всех и благословите Христа ради. Вымолите нас, грешных».
«Отец Григорий, помолитесь за р. Б. Владимира.
Я сейчас без работы, без средств к существованию, в большом искушении. Ради истинного Христа помолитесь. Владимир».
Записка из Нижнего Тагила, на которой отец Григорий отметил дату: «3 января 1997 года».
«Добрый день, дорогой отец Григорий и Ваша матушка! Простите и благословите моих ближних и меня, Алевтину из Нижнего Тагила.
Молитесь за нас, мы совсем погибаем. Мои ближние ничего не знают и не читают. Молюсь очень плохо, кое как. Телевизоры, компьютеры — день и ночь. Никита, 7 лет, после этого кричит, бегает — страшно смотреть. Все внутри болит за них и за себя.
Не дайте нам погибнуть. Молитвы нет у меня. Если можно, наставьте. Алевтина».
Из записей отца Григория летом 1997 года:
«О здравии: Александр (Тобольск), Виктор.
Просили молиться за них»;
«О здравии Нины (продукты. Курган)»
«Людмила, Владислав (муж), Игорь (сын). Просила молиться. 7/VII 97 г. Живет не в Кургане. Просила дать ей что-то духовное»;
«Тамара, отр. Мария. Путешествующие в Дивеево. 7/VII-97 г.»;
«О здравии Иоанна, Ольги. Украина. 3/V-97 г.»;
«Нины, Екатерины. Продукты. 19/8 97 г.»;
«Молитва на каждый час Спасителю. Просила Светлана… 14/8 97 г.».
* * *
Запись отца Григория:
«Омск. О здравии инокини Параскевы, Артемия, иеромонаха Виталия, р. Б. Николая».
И здесь же, немного наискосок, подписано:
«Продукты».
И далее: «Наставления Амвросия Оптинского».
Благодаря духовных чад за приношения и пожертвования, отец Григорий одаривал их машинописными книжками, которые он сам печатал на своей старенькой печатной машинке. Эти «духовные крупицы», как называл их батюшка, он преподносил избирательно — всегда знал, кому и в какой ответственный момент нужна духовная пища.
Вот еще строки из записок:
«О здравии:
Людмилы, Владислава, Клавдии. 16/8-97 г.».
И здесь же, как духовное наставление:
«Молитвы:
утренняя Спасителю,
вечерняя,
Архангелу Михаилу,
акафист в скорби сущих Спасителю,
духовные наставления великих подвижников,
“Путь ко спасению” иеромонаха Арсения».
Или вот такая записка отца Григория:
«Церковному работнику Валерию Павловичу. Смолино.
- Духовные наставления для прохождения духовной жизни.
- Ж. «М. Патриархия», №2 -1979 г. Проповеди.
- Ответы на вопросы, какие волнуют душу верующего человека. 22/III 1997 г.»
Запись отца Григория:
«Акафист Спасителю покаянный. Ивану. Дрова. 23/IV-97 г.»
И еще одна запись, месяцем позднее:
«Иван. Дрова. 23/VII-97 г. Ответы на вопросы, волн[ующие всякого человека — ред.] Наставления духовн. отцов для прохожд[ения духовной жизни — ред.]».
* * *
Письмо отца Григория:
«Многоуважаемая Антонина Васильевна!
Ваше письмо получили. Дай Бог силы телесной вам и в бодрости душевной проходить свой жизненный путь. В уныние не впадайте, старайтесь помнить всегда священные слова: “Многими скорбями подобает нам внити в Царствие Божие”.
За сына Сергея молитесь, старайтесь каждодневно читать псалтирь, хотя по одной кафизме.
Молитвенно поминаю вас и ваших родных.
Я, когда открыл свой почтовый ящик, увидел ваше письмо. Оно было распечатано, и в нем вложены деньги, 10 т. рублей. Постарайтесь в письме не посылать денег. С уважением, о. Г. и Н. С. Пономаревы.
1/VIII 1997 г.».
Многие знали, что батюшка, часто получая от своих духовных чад разные пожертвования, сам жертвовал нуждающимся людям денежные средства, а нескольким своим чадам помог даже приобрести жилье.
Раба Божия Лариса, прихожанка смолинского храма, вспоминала, что батюшка незадолго до своего ухода, принимая посетителей, складывал их приношения в отдельное место, куда-то за диван, говоря при этом: «Я уже не смогу это отмолить, у меня нет сил…».
Он принимал только ту жертву, которую мог отмолить, и в действительности отмаливал: прилежно, добросовестно, со страхом Божиим и упованием, что молитва будет услышана всенепременно.
Как трогательны его записи:
«Людмила. Печенье. 28/IХ 97 г.»;
«…Дьякон Игорь рубашку подарил. 20/V-97 г.»;
«Екатерина… Свечка. 24/ХII-96 г.»;
«Тамара К… Лекарства. 24/ХII-96 г.»;
«Нины. Екатерины. Продукты. 19/8-97 г.»;
«Ксения. Ягоды. 14/8-97 г.»;
«Надежда. Ягоды. 14/8-97 г.».
Отец Григорий вымаливал…
* * *
И опять — записки, записки…
«Христос Воскресе! Батюшка отец Григорий! Письмо мы Ваше получили. Спаси Вас Господи! И еще просим Ваших молитв о нас, грешных, с Христовым целованием. Рабы Божии Анна, Юлия.
Доброго здравия и спасения матушке Нине Сергеевне. Сын мой недавно стал иереем Михаилом. За него тоже прошу Вас помолиться перед Господом и Матерью Божией. Простите нас, грешных».
«Батюшка Григорий! Помолитесь, чтобы мне выйти замуж за верующего, хорошего человека.
О здравии болящей Софии».
«Многоуважаемый, дорогой отец Григорий!
Я Вас очень прошу, помолитесь за моего сына Юрия. Он пьяный каждый день, нигде не работает, я не могу ничего сделать с ним.
Всего доброго Вам, крепкого здоровья на многая лета. Многая лета, многая лета. Елизавета».
Подписано отцом Григорием:
«10 рублей. Молиться о в/п. Юрии».
Записка из Петухово о упокоении.
На ней рукой отца Григория отмечены даты чтения им сорокоустов:
- 25/II-93 г.
- 3/VI — 19/8
- 21/8 — 8/ХI
- 13/ХI
Позднее батюшка отметил: «Из Петухово. Пусть еще полежит. Писал 29/I-94 г.».
* * *
Записи отца Григория:
«Молиться о скорбящей Марине. Писал 26/VI 97 г.».
«Геннадий и Наталия Л-вы с детками. Молиться о них».
«Молиться за Марину. Она живет в Новгороде. Писал 2/I-97г.».
«О здравии. iеродиакон Симеон. Лебяжье. 25/ХII-96 г. Просьба молиться».
«Молиться. Александр и Леонид. Молодые парни. 14/VII-97 г.».
* * *
Запись отца Григория:
«Ваше Преосвященство!
Дорогой Архипастырь наш Владыка Михаил!
Благодарим Вас за поздравления с Великим Праздником Воскресения Христова и добрые пожелания и молитвы за нас. Взаимно и Вам желаем — телесной крепости и успешно трудиться на благо Святой Церкви. Помнящие Вас протоиерей Григорий и матушка Нина Пономаревы. 14/ IV 1996 г.».
* * *
Среди многочисленных писем и записок сохранилась телеграмма на имя протоиерея Григория Пономарева из Екатеринбурга — от архиепископа Мелхиседека: «Совершение [службы — ред.] в селе Житниковское в праздник Рождества Христова благословляется».
Дата — 27 декабря 1991 года.
* * *
Записки, беспристрастные свидетельницы молитвенного предстояния отца Григория, донесли до наших дней память о пастырском подвиге приходского священника — ежедневном и ежечасном, незаметном для окружающих подвиге во исполнение евангельского завета Спасителя: «Непрестанно молитесь» (1 Фес.5:17).
«Дорогой отец Григорий! — пишет батюшке родственница матушки Нины Нюся, — помолись за Катю Русинову, из Куртамыша, она упала на грудь и сильно разбилась. И такие боли — ничего поднять не может и шевелиться не может, все болит. Случись что с ней, останутся два инвалида — Таня и Володя.
Прости, дорогой Гришенька, ты сам очень плохо себя чувствуешь и болеешь, прости за дерзость мою! Хоть немного вздохни о Екатерине. Нюся.»
Записка отцу Григорию:
«Дорогому отцу Григорию.
Помолитесь о здравии, эти люди помогают Чимеевскому храму: болящая Лидия, отроковица Вера…»
В своих письмах и записках простые люди из разных городов и сел России разделяли со своим духовным отцом все свои радости и печали. Они знали, что батюшка всегда и за всех нелицемерно молился, подтверждая слова Писания: «Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш… совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе» (2 Фес.1:11).
Он любил людей и стоял в молитве пред Богом (годами!) за всякого просящего и немощного, однажды обратившегося к нему за помощью и поддержкой.
«Доброго здоровья, батюшка Григорий!
Я уже к Вам приходила. Меня зовут Людмила. Я сейчас живу в Иваново (Иваново-Вознесенск). Сюда приехала, чтобы помочь моему сыну Игорю переехать к нам. Мой муж находится сейчас в Иваново. А нам с сыном нужно продать квартиру. Я приходила к Вам за советом. У нас документы на квартиру отданы в одну контору. Но пока, прошел месяц, там нет никаких движений… Помолитесь за нас. Я живу здесь с февраля, там муж один. Муж мой много молится и желает служить в Церкви. Благословите его, Батюшка Григорий. Мой муж Владислав.
Благодарим Вас, Батюшка, за Ваши молитвы, простите нас, грешных».
«Многоуважаемый отец Григорий, матушка Нина Сергеевна и Оленька! — пишет из села Пески Целинного района раба Божия Анна. — Кланяюсь я вам всем и желаю телесного здравия и душевного спасения. Отцу Григорию — быстрейшего выздоровления приимите от моего имени немножко.
Я мечтала к вам наведаться, но мне дети и внуки связали ноги и руки; организации, где они работали, закрыли, и они ко мне их привезли.
Простите меня ради Истинного Христа!
Порадуйтеся с нами! У нас в Целинном открыли дом моления. В праздник Петра и Павла — обновили; было богослужение, были певчие от вас. Конечно, нам очень трудно пока, на первых порах. Но надеяться будем на Божию милость, что нам отдадут настоящую церковь. А это будет долго длиться.
Да слава Богу и за дом моления.
Будьте здоровы, всего вам доброго. С глубоким к вам уважением. Анна из Песков Целинного района».
Внизу письма отец Григорий приписал:
«50 р.
14/VII-97 г.».
Он молился…
* * *
Совершенно неожиданно вниманию предстала открытка отца Григория от 11 октября 1981 года с трогательными словами, теперь уже канувшими в Лету:
«Дорогая моя Нинонька!
Поздравляю тебя с Днем рождения!
Сердечно желаю здоровья, крепости и твердости душевной, мужественно встречать все жизненные трудности! Матерь Божия да хранит тебя под Своим чудным, святым покровом!
Я здоров — жди 14/Х. Целую. Гриша».
Конечно, ее сохранила для нас с вами матушка Нина Сергеевна.
* * *
Перед нами записка от духовной дочери отца Григория, текст которой приводится полностью.
«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий!
Бог-Отец, Бог-Дух Святой!
Пресвятая, Пречистая Божия Матерь Мария!
Все Архангелы, Ангелы, все святые угодники!
Святителе отче Николае!
Я от всего своего сердца со слезами благодарности, коленопреклоненно прошу услышать мою благодарственную молитву всем Вам.
В моей жизни было много и хорошего, и плохого: и счастья, невыразимого словами, и горя — чернее ночи, но я всегда уповаю на Вас. Конечно, мой слабый и невоспитанный дух часто меня приводит в уныние, с которым так трудно бороться. Беды от меня пока не отступают, но я твердо верю, что, значит, так нужно. Ими Господь проверяет мою веру. Или я получаю должное по делам и мыслям моим.
Конечно, я пытаюсь не роптать, но человек слаб, и я очень часто прошу убавить, уничтожить мои страдания, хотя искренний и разумный христианин должен благодарить за страдания, а я не могу. В этом моя слабость и недостаток, помимо массы всех остальных прочих, о коих я даже не говорю сейчас. Всякий раз, когда я вижу, как мои молитвы почти тут же получают просимое, меня охватывает какой-то трепет и огромная благодарность к Господу нашему, видящему и слышащему все: даже такую песчинку в море людей, как я, и многих-многих, лучше меня…
Я вижу, что Господь откликается на мои молитвы, и, когда это происходит (вот уже несколько раз!), я чувствую даже какую-то боль в сердце от невыразимой благодарности ко Всевышнему.
Слава Господу нашему Иисусу Христу!
Слава Богу-Отцу, Богу-Духу Святому и Пресветлой Пречистой Святой Матери Божией Марии! Аминь».
«Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем» (3 Ин.1:2), — говорит нам сегодня отец Григорий словами Апостола Любви, и мы увидели в записках батюшки живые примеры этого неустанного молитвенного подвига священника, несущего и наш с вами крест — молитву за ближних и родных, которую мы одни не в силах понести.
На пороге в жизнь иную…
Прошло уже два года, как я переселилась в Курган. Здоровье моих родителей сильно пошатнулось. Пожалуй, разделительной чертой, после которой все покатилось как с горы, набирая скорость, стала мамина операция по поводу катаракты в июне 1997 года. Еще в конце зимы мама окончательно потеряла зрение: один глаз не видел совсем, а другим она слабо различала свет.
Родители долго колебались, надо соглашаться на операцию или нет. Все же возраст почтенный, 87 лет почти, да и другие заболевания дают о себе знать. Столько пережито, выдержит ли мама? Труднее это решение давалось папе. Он все колебался, мучился и молился; мама решилась быстрее.
И вот ее поместили в больницу. Сколько добрых людей, которым мы бесконечно благодарны, было в этом задействовано! Мама держалась молодцом. Для человека в столь преклонном возрасте любая перемена мучительно тяжела, а тут больница, посторонние люди, ряд сопутствующих бытовых трудностей, сама операция, боль…
Но мама всегда могла собраться в ответственные минуты жизни. И в этот раз она не изменила себе. Операция прошла успешно, и матушка Нина вновь стала видеть одним глазом. Правда, с очень сильными линзами, но — видела! Как благодарны были мы врачам, всем медикам, друзьям — тем, кто помогал ей.
Папа, как нам казалось, переносил операцию вместе с ней — так тяжело ему было тогда. Он глубоко и сильно любил маму, внешне почти не проявляя этого, во всяком случае, на людях.
О глубине его чувства можно судить и по скупым записям, оставленным батюшкой в архиве: «…Когда муж и жена истинно составляют одно, то они любят друг друга, и до такой степени, что делают ее сокровеннейшим чувством своих сердец, причем даже не хватает слов для их выражения…».
Свое глубокое и сокровенное чувство к жене он проявлял лишь в каких-то экстремальных ситуациях. Перед операцией матушки, пребывая все время в молитве, он старался загнать свой страх куда-то далеко, и организм его дал срыв — он перестал глотать. Нервное напряжение вызвало спазм гортани и пищевода — даже вода почти не проходила. Сначала думали, что у него повреждение гортани, горла или инородное тело… Обратились к врачам. Медики ничего не обнаружили.
Моя кузина, Екатерина Николаевна Увицкая, догадалась дать ему успокаивающие и расслабляющие нервную систему лекарства. Глотание понемногу восстановилось, а тут и матушку Нину выписали. Пришла надежда, что теперь жизнь пойдет бодрее. И действительно, первую пару недель все шло хорошо. Теперь мама с помощью палочки могла выходить во двор, она доходила до ворот, бодрилась, но это был последний всплеск жизненных сил. Одно неловкое движение, падение, потом еще одно, и она просто не смогла вставать. На нее обрушились, словно дождавшись удобного случая, все застарелые болезни, и только спасительный сон давал ей необходимое облегчение.
По Божией милости мама почти все время спала. Спала днем, спала ночью… Часто она поднимала во сне руку для крестного знамения, иногда так и не донося ее до чела. Молитва, вероятно, шла уже на уровне подсознания. Это было естественно. Она всю жизнь провела с молитвой и просто не могла по-другому. Так Господь послал ей плавный переход в иную жизнь.
Иногда она все-таки пыталась встать без меня и сразу же падала, а тут и папа стал «догонять» ее буквально семимильными шагами. Вот уж действительно «плоть едина»… Еще вчера он открывал мне ворота, правда, с трудом опираясь на палочку, но открывал. Но однажды встал и тут же упал, не смог выйти даже за порог дома.
В дом мы попали через окно на кухне. С этого момента и батюшка больше не вставал. Наступил последний, мучительный для них период земной жизни. Организмы, как бы готовясь, очищались, и это приносило обоим моральные муки: они не привыкли обременять своими проблемами даже родных. Оба перестали есть.
Буквально за два или три дня до кончины отец Григорий вдруг позвал меня. Он все время лежал на диване, отвернувшись к стене, а тут позвал, взял за руку и тихим голосом с огромным трудом сказал: «Знаешь, Леленька, мне никогда еще так плохо не было». В глазах его было даже какое-то удивление, что может быть так плохо. Но и одновременно мой мудрый папочка готовил меня к непоправимому… Он не помощи у меня просил, а со свойственным ему тактом, зная уже, что мне вскоре предстоит пережить, пытался как-то защитить меня хотя бы от внезапности. Когда я стала предлагать ему помощь, он тихонечко пожал мне локоть и сказал: «Ничего не надо, детка, иди лучше к мамочке». Он благословил меня последний раз своим отцовским и пастырским благословением и опять отвернулся к стене. Только тогда я этого не поняла. Как горько!
Мама почти все время была как бы в полузабытьи, папа — в полном сознании, и мы чувствовали, как он невыносимо страдал от своей беспомощности. Он, отвернувшись к стене, сутками лежал на диване и, очевидно, молился. Отец Григорий, обладая незаурядной духовной силой, чувствовал и знал, что конец близок, и, наверное, молил Господа, чтобы им с матушкой уйти вместе… И Господь услышал его. В состоянии его здоровья произошел какой-то резкий перелом, который уравнял жизненные силы обоих. Они тихо умирали, так же тихо и деликатно, как прожили всю свою жизнь; тихонечко уходили, стараясь не обеспокоить никого…
Молодой священник Сергий Глущенко (ныне иеромонах Симон), духовное чадо батюшки, проявил особое внимание и духовную заботу о болящих. Маму он причастил предпоследний раз за неделю до смерти, а папа ежедневно повторял одно и то же:
— Я не готов… — и отец Сергий убежденно, спокойно и смиренно говорил:
— Хорошо, тогда я зайду завтра.
Так продолжалось около недели.
Двадцать третьего октября моя сестра Катя и близкий многолетний друг нашей семьи Тамара Георгиевна Неверова сказали мне категорично:
— Завтра не приходи, а то сама сляжешь от переутомления.
Двадцать четвертого числа Катя заняла мое место около них. Вечером папа выразил желание помыться, и Александр, муж моей кузины Лиды, вымыл его, сняв прямо с матрацем на пол. Катя побежала за отцом Сергием.
События развивались стремительно. Часов в девять вечера буквально прибежал отец Сергий, он исповедовал и причастил батюшку.
— Ну вот. Слава Тебе, Господи. Причастился! — промолвил отец Сергий, а отец Григорий ясно произнес:
— Проглотил.
Ему, как никому другому, было понятно беспокойство священника. Сколько раз он сам склонялся над умирающим, чтобы убедиться, что Святые Дары приняты.
И вдруг отец Григорий стал торопить с исповедью и причастием матушки Нины:
— Скорее, скорее…
Очевидно, он знал, что надо торопиться. Отец Сергий исповедовал и ее. Матушка причастилась, на миг как бы пришла в себя, запила Причастие и опять погрузилась в свое состояние. Все как-то облегченно перевели дыхание и вскоре разошлись. Умиротворенные, папа и мама спокойно заснули. Тамара сказала, что будет ночевать здесь же, на кухне, подремлет — мало ли что… Но какой тут сон… Любой шорох, напряженное дыхание, стон — все насторожило бы ее. Нет, в комнате тишина, мирно теплится лампада, а два человека — плоть едина — совершают последний ответственный шаг, они уходят в жизнь иную. Матушка совсем слаба, но разве отец Григорий оставит ее в такую минуту? Он молится. Он будет с ней. Довольно разлук, теперь навсегда, навечно вместе. Господь заберет их сегодня обоих.
* * *
Утром, часов в шесть, Тамара пошире приоткрыла дверь в комнату. Спят. Так тихо, мирно спят. Спят? Спят ли?! Матушка была уже холодная, а у батюшки только одна рука чуть теплая, но и он умер не просыпаясь. Глаза у обоих плотно прикрыты, спокойные, мирные позы и лица. Во сне для них обоих началась другая, новая жизнь, к которой мы все должны быть готовы. Они ушли вместе, как и прожили вместе 61 год. Это были тяжелые, мужественные и прекрасные годы.
Они завершили свой земной путь.
* * *
В этот же день моих дорогих покойных родителей перенесли в Свято-Духовский храм. Три дня, и днем и ночью, духовенство и миряне читали молитвы, совершая панихиды по новопреставленным супругам. Их гробы несли при большом стечении народа на руках по дороге, которой они столько лет спешили на богослужения именно в этот храм.
Много странного и трогательного замечено было в эти дни людьми, собравшимися на прощание с батюшкой и матушкой. Две полевые птахи, неизвестно откуда взявшиеся под самым куполом храма… Они так звонко, так ликующе переговаривались друг с другом, что буквально заглушали возгласы священников и даже хор. В один из дней в храме появились воробей и синичка. Полетали, посидели на верхнем ярусе икон, а потом синичка выпорхнула в открытые двери бокового придела, а воробей… залетел в алтарь.
Хоронили их по благословению Преосвященного Михаила, епископа Курганского и Шадринского, в церковной ограде смолинской церкви, в одной могиле. Просто и трогательно прозвучало надгробное слово Владыки:
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братья сослужители! Дорогие братья и сестры! Сегодня в нашей епархии невосполнимая утрата. От нас ушел наш светоч Православия, наша опора в духовной жизни, возлюбленный собрат — протоиерей Григорий.
Земной путь, который он прошел, не отличался радостями и утехами, но, наоборот, за этот срок отец Григорий претерпел и зной, и вар, и холод; претерпел гонения и лишения. Шестнадцать лет провел он в заточении за Веру Православную, являясь исповедником истины Христовой. И Господь уготовал ему праведную кончину, забрав не только его, но и возлюбленную супругу Нину. Это знак Божий. Так умирали в православных русских семьях — готовились и умирали в один день. Как прожили они свою жизнь, так вместе и возлетели к Небесным обителям. И я верю, что они прошли без мытарств и поклонились Престолу Божию. Велика заслуга почившего нашего собрата протоиерея Григория, велико его дерзновение пред Господом, ибо он исполнил Его заповеди, претерпев все поношения и гонения. До самой смерти пронес он крест, который Господь дал ему.
Сегодня у нас день печали, но в то же время и день радости. Дай Бог всем нам прожить такую же долгую и содержательную жизнь и иметь столько духовных чад, которые спасаются его молитвами и которых он наставлял в жизни, делясь с ними своим духовным опытом. Дай Бог всем нам пройти его стопами и оказаться там же, где и он сейчас предстоит — в селениях Небесных.
Дорогой наш собрат! Мы помним и любим тебя и никогда не забудем. Из нашей земной памяти не сотрется твой незабвенный образ. Мы верим, что ты обрел дерзновение пред Господом и умолишь Его за нас, грешных, у Престола Божия, дабы Православие процветало на нашей зауральской земле, дабы мир царил в душах людей. Помолись за нас, отче, у Престола Божия!».
Народ плакал… А природа, удивительно теплая и тихая для этого времени года, словно радовалась. Вдруг, как на Пасху, «заиграло» солнышко, пульсируя огненно-золотыми волнами света, невольно вызывая трепет в душе и высушивая слезы у людей. Вот какие-то странные полупрозрачные, желтые шары, огромные, как облака, тихо, низко и торжественно стали проплывать прямо над деревьями, что стоят над могилой… Будто какой-то кусочек иного мира… Два, три… Уплывают на восток… А вот еще один, еще… Все.
Два снежно-белых голубя, сидевших на склоне крыши храма, прямо над могилой, словно наблюдая за происходящим, вспорхнули, устремились в голубую синь неба и, сверкнув своим перламутровым оперением, исчезли тоже.
Стало как-то трепетно и страшно от этих незнакомых проявлений природы и одновременно светло. Словно мои дорогие родители в своем последнем привете хотели передать:
«Не грустите, люди. Зачем слезы, когда для нас окончились земные страдания. Мы вместе покидаем этот мир, чтобы преклонить колена пред Господом нашим Иисусом Христом. Будем молиться за себя и, если Господь допустит, за вас и за всех православных христиан, которым так нужна опора и защита в наше непростое, беспокойное время».
* * *
Проводить благословенную чету в последний их путь прибыла, нежданно-негаданно, Чимеевская святыня.
Матерь Божия, чудотворную икону Которой так глубоко почитали отец Григорий и матушка Нина, большими печальными глазами окинула их последнее пристанище на земле — два белых «ковчега», скорбно стоящих в смолинском храме.
Она благословляла их в последний путь…
В двух белых домовинах их принесли сюда печальным крестным ходом на следующий день после кончины и поставили перед алтарями Свято-Духовской церкви, чтобы отслужить литию. «Упокой, Господи…» — пели все, кто пришел в этот час в Смолино.
«И вдруг, — вспоминают смолинчане, — в это же самое время во двор Архиерейского подворья въехала какая-то машина».
— Кажется, это «Газель» из Невского, — пронеслось шепотком. — Зачем она здесь?
Но в следующую же минуту открылась дверка машины и Пресветлый Лик Казанской Божией Матери «Чимеевская» грустно оглядел всех присутствующих. Люди со слезами на глазах подошли к Пречистой, чтобы найти у Нее утешение. Они прикладывались к этой великой святыне и горько плакали — плакали еще и оттого, что понимали значение этой неслучайной встречи.
«Каким образом, — думали мы, — очутилась в Смолино Чудотворная икона из Чимеево, ведь ее никто в эти дни не ожидал здесь?» Оказалось, что по благословению Преосвященнейшего Михаила ее должны были увезти на несколько дней для поклонения на Урал — в те самые места, откуда отец Григорий и матушка Нина Сергеевна начали свой крестный путь на Небеса.
И должно же было так случиться, что именно в эти, последние для светлой четы, земные дни Матерь Божия благословила их Своим скорбным посещением.
Из архива протоиерея Григория Пономарева
Час Божий, час покоя, час радостный!
И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе…
Откр. 14, 13
Самый прекрасный день на земле — это день смерти… День смерти тела души верной (не святой, не праведной, а верной души) — это есть праздник.
Ибо грешников пришел спасти от их тленной жизни Спаситель. И, чтобы не страшно было им входить в темнеющие тесные ворота, выводящие из земли в жизнь вечную, Господь Сам прошел ими, освятил их, помазал стены их святым благоуханным миром Марии Магдалины!
Потому должны мы идти этими вратами с любовию. Как живем с нашей малою, ничтожною любовию, так и войти должны с нею.
Люди, люди, слушайте!
Голос Отца Света, Отца мира, Отца жизни…
Неужели вы боитесь?!
…Грешны?
Но ведь для грешников Он еще более Отец, чем для праведников. Он любит грешников больше. Не сомневайтесь, Он Сам сказал об этом.
Слушайте! Это — Творец…
Он создал вас для ЖИЗНИ.
Как маловерны и боязливы люди. Плачут, идя в мир из темной утробы матери. Плачут, уходя из материнской утробы мира, рождаясь в нескончаемую жизнь блаженного и осиянного духа.
Смотрите на Образ!
Рождение — со скорбью, но блаженна эта скорбь последнего распятия и очищения более, чем все радости на земле.
ГОТОВЬСЯ, ДУША, К БОЖЬЕМУ ЧАСУ!
Это час великого покоя, чистоты, день великой правды жизни, начало великой любви мира!
(Все выделенные слова текста сохранены со ссылкой на оригинал — ред.)
Эпилог
Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними.
Откр. 14, 13
Тридцатого марта 2001 года, в день святого праведного Алексия, человека Божия, прихожане и гости Свято-Духовского храма в Смолино стали свидетелями чудесного благоухания, исходящего от металлической иконки Пресвятой Троицы, укрепленной на могильном кресте-памятнике в месте упокоения отца Григория и матушки Нины.
Событие это примечательно еще и потому, что престол Свято-Духовского храма в честь Алексия, человека Божия, освящал по благословению правящего архиерея отец Григорий. Очевидцем этого чудесного события явилась также соавтор книги «Во Имя Твое…» Кибирева Елена Александровна, чье свидетельство и приводится на этих страницах.
Господь Сам прославляет Своих детей!
Иконка Пресвятой Троицы с могилки отца Григория и матушки Нины, которая хранится сйчас в редакции «Звонница», благоухала во все время работы над этой книгой — как знак Божия благоволения к праведникам, угодившим Ему при земной жизни и своим христианским подвигом стяжавшим плоды Духа Святаго!
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, упокой приснопамятных протоиерея Григория, Нину и усопших их сродников по плоти и прости им вся согрешения вольные и невольные и даруй Царствие Небесное. Аминь».
Приложение 1. Письма к Дочери
Дорогая Леленька! Письмо твое получили. Справедливы такие слова: «Человек предполагает, а Бог — располагает».
Бывает, что составленные тобою планы в жизнь не вошли, но этим обстоятельством не надо огорчаться, а тем более впадать в уныние…
…Будь твердой, мужественно встречай все трудности и скорби. Не все же будет пасмурное небо, настанет и ясный, солнечный день!
Мы всегда о тебе молимся и желаем тихой, спокойной жизни. Храни тебя Господь…
24.ХI.
* * *
Дорогая Леленька! Дорожи временем жизни. Дай Бог тебе набраться сил и приготовиться к предполагаемым трудностям. Нужно самой глубоко вникнуть в цель жизни, прояви во всем стойкость духа!
Молись: «Господи, да будет Воля Твоя!».
Дай Бог, чтобы у тебя происходила постоянная духовная работа — воспринимать без ропота и огорчения все происходящее в жизни.
Хотелось бы, чтобы у тебя проявился аппетит к духовной пище — чтению, которое подкрепляет наши слабые силы…
…Заведи себе в правило каждый день обращаться к святому Николаю. Сколько-нибудь читать акафиста и с надеждой и верой обращаться к нему: «Святителю Николае, помоги мне!».
Молитвенно тебя каждодневно помним. Храни тебя Господь.
6.VI.
* * *
Дорогая Леленька!
Посылаем тебе небольшую духовную крупицу. Постарайся все это написанное глубоко душевно воспринять.
Тебя посещают и не оставляют многие трудности — телесные, а больше душевные, но не впадай в уныние. Внимательно отнесись к своему внутреннему состоянию в решении тех или иных вопросов в своей жизни. Самое главное — вера в Божественную помощь.
Разберись в своей личной жизни как христианка и нисколько не оправдывай себя. Надо чистосердечно и прилежно молиться.
Храни тебя Господь и Матерь Божия.
15.VII.
* * *
Дорогая моя детка! В дух уныния не впадай, какие бы не получала известия о состоянии здоровья Ш.
…Поступи весьма рассудительно: сколь долго надо оставаться в Москве, какую ему надо оказать помощь. Молись о нем постоянно. Молись Господу нашему Иисусу Христу, Божией Матери, Святителю Николаю… Ксении Блаженной…
Мамочка и я тебя крепко целуем. Храни тебя Господь.
17.XI.
* * *
Леленька, дорогая девочка моя! Дай Бог тебе силы душевной и телесной переносить все жизненные трудности.
Самое главное для сохранения душевного мира-покоя — надо не иметь злопамятности, не хранить обиды; тогда-то и будет образовываться свой личный душевный строй. Это большая работа, но небесная помощь скоро приходит.
…Напиши нам обо всем. Не забывай: когда у нас бывают нужды и скорби и мы обращаемся за Небесной помощью, то при просьбе необходимо добавить: «Да будет воля Твоя!». Значит, не случайно послано испытание; и это внесет в душу мир, покой, бодрость — при любых трудностях. Твою просьбу о болящем Ш. выполняю.
Храни вас всех Господь.
10.XI.
* * *
Дорогая Леленька!
Ждем тебя, милая доченька! Как у тебя будут дела — время покажет; если же по каким-то обстоятельствам планы изменятся — не унывай. Значит, так надо! Молитвенно тебя поминаем… Храни тебя Господь.
Папа и мамочка.
20. IV
* * *
Детка наша, доченька! Как твое здоровье, а главное, душевное состояние? Духом только не падай, все трудности надо переносить с терпением.
Намеченное тобой мероприятие дай Бог силы осуществить. Надо заниматься больше внутренней над собой работой, тогда совершенно иначе будешь смотреть на поступки и слова знакомых тебе людей. Хотелось бы, чтобы ты нас навестила, но об этом еще созвонимся.
Молитвенно тебя всегда помним, крепко целуем. Храни тебя Господь.
14.VII.
* * *
Милая детка наша! Дорогая Леленька!
Поздравляем с новым местожительством. Желаем крепкого здоровья, а главное, душевного мира — спокойствия!
Запасись терпением и постоянно обращайся ко Господу и святым Его. К Святителю Николаю. Помощь придет незамедлительно, если для пользы вашей общей. Верь!
Мы с мамочкой пока трудимся, слава Богу. Крепко целуем всех вас. Когда здоровье улучшится — ждем. Храни вас Господь.
Папа и мамочка.
6.VIII.
* * *
Дорогие Саша и Леленька!
Как ваше самочувствие? Дай Бог силы душевной и телесной проходить вам свой жизненный путь! Не унывайте! Для душевного подкрепления посылаем вам духовные крупицы. Хорошо ввести в молитвенное правило читать утреннюю и вечернюю молитвы, написанные в конце этой книжечки.
Молитвенно вас поминаю. Храни вас Господь! Мамочка посылает вам сердечный привет.
С любовью целуем вас. Папа, мама.
17.12.1985 г.
Приложение 2. Письма к духовному чаду
Многоуважаемый Евгений Сергеевич!
Поздравляем Вас с Великим праздником Благовещения Пресвятыя Богородицы. Желаем Вам доброго здоровья и крепости душевной.
Не унывайте при всех жизненных трудностях.
Верующим людям всегда нужно помнить, что их жизненный путь должен быть скорбным и трудным, потому что сказано: «Многими скорбями подобает нам войти в Царство Небесное».
Подвижники святые дают нам наставления: «Помнить, что мы здесь, на земле, только в гостях, а дом наш, Отечество наше на небе». «Не случайны трудности, возникающие на каждый день и час».
С терпением надо переносить все обиды от окружающих людей, все им прощать, и тогда на душе будет мирно и спокойно.
Дай Бог успеха Вам в духовной жизни.
Храни Вас Господь!
Молитвенно Вас поминаю. С уважением, о. Г. и М. Н. Пономаревы.
30.03.1987 г.
5.03.1987 г. — Воскресенье.
* * *
Многоуважаемый Евгений Сергеевич!
Ваше письмо получили. Поздравляем Вас с праздниками Преображения Господня и Успения Божией Матери!
Дай Бог силы телесной и бодрости душевной с терпением переносить все жизненные трудности.
В уныние не впадайте. Старайтесь неопустительно каждодневно совершать молитвенное правило, нужно с большим вниманием совершать это святое дело.
С терпением переносите все трудности суток и даже каждого часа.
Нужно помнить, что не случайно они посещают нас, а чтобы укрепить нашу веру. С глубоким вниманием произносите слова молитвы: «Да будет воля Твоя!».
Подкреплять себя надо чтением духовных наставлений святых подвижников.
Дай Бог успеха Вам в этом святом деле.
Храни Вас Господь!
Молитвенно вас поминаю. С уважением, о. Г. Пономарев.
20.08.1987 г.
* * *
Многоуважаемый Евгении Сергеевич!
Поздравляем Вас с Великим праздником Успения Божией Матери!
Желаем Вам доброго здоровья и бодрости душевной.
Дай Бог силы Вам с терпением переносить все трудности в жизни, которые посылаются нам на каждый день и час, только не надо впадать в уныние, а с терпением нести свой жизненный крест.
Полезные советы духовных лиц:
«Как нужно дорожить временем своей жизни. Каждый час, каждая минута дороги, потому что даны со счетом, и в них потребуется отчет» (святитель Филарет).
«Бойся потерять хоть один день, зная, что он не возвратится.» (святитель Кирилл).
Храни Вас Господь!
Помнящие Вас, с уважением, о. Г. и М. Н. Пономаревы.
22.08.1988 г.
* * *
Многоуважаемый Евгений Сергеевич!
Ваше письмо получили — спасибо. Очень приятно, что Вы в добром здоровье продолжаете свою деятельность рабочую, а главное, духовная настроенность у вас развивается – есть желание, стремление помогать ближним и еще прилагаете свои труды ко вновь открывающемуся в Тагиле святому храму.
Относительно того, с чего начинать работать в новом храме: самое главное, чтобы были чистота и порядок, а потом уже трудиться над украшением в нем. В этом деле может помочь вам о. Геннадий, как старший по делу реставрации св. храма.
Духовная жизнь наполнена бывает трудностями, которые не случайны: они посылаются нам для укрепления нашей веры в Божественную помощь. Вам приходится испытывать большие душевные переживания — неприветливость, грубость со стороны жены. Дай Бог силы Вам с терпением, без ропота переносить все эти трудности. Великая милость Божия к Вам — в том, что Вы душевно устремляетесь к духовному делу, совершаете молитву, и чувствуете силу крестного знамения, ограждая себя им при всех трудностях, и делаетесь спокойнее.
За детей молитесь сердечно, чтобы и они прониклись чувством духовности. Читая святое Евангелие и псалтирь, поминайте их.
Благодарим Вас за поздравление с наступающими великими церковными праздниками, а так же и за посланную газетную статью.
Молитвенно вас поминаю. Нина Сергеевна посылает Вам поклон.
Храни Вас Господь!
Анастасии Исаевне передайте от нас поклон.
С уважением, о. Г. и М. Н. Пономаревы.
14.09.1988 г.
* * *
Многоуважаемый Евгений Сергеевич!
Поздравляем Вас с Великим праздником Святыя Троицы!
Как Ваше здоровье и самочувствие?
Дай Бог силы Вам телесной и душевной с терпением продолжать свой жизненный путь.
Всем нам надо помнить слова: «В мире скорбни будете».
Действительно, так много всяких трудностей телесных и душевных, посещающих нас на каждый день и час. Помоги Господи продолжать Вам свою духовную работу, нападения, душевные возмущения со стороны близкого вам человека спокойно воспринимать и быть осторожным в словах, лучше молчать, чем заводить духовные разговоры, которые не воспринимаются, а, наоборот, могут порождать большие неприятности.
Какое же средство нужно применить в этой обстановке?
Молитва сердечная постоянная за душу духовно погибающего человека. Значит, Вам нужно с терпением, без душевного возмущения нести трудности каждого дня и часа. Не унывайте! Желаю Вам успеха в личной вашей духовной работе — в молитве и чтении духовных книг.
Храни Вас Господь!
Молитвенно вас поминаю.
Нина Сергеевна посылает Вам поклон.
С уважением, о. Г и Н. Пономаревы.
21.06.1989 г.
* * *
Многоуважаемый Евгений Сергеевич!
Ваше письмо получили.
Слава Богу, что Вы проходите свой жизненный путь выполняя духовные правила — это очень дорого и ценно.
Дай Бог силы Вам и телесной, а главное, терпения при всех трудностях. Очень хорошо, что Вы произносите молитву: «Господи, да будет Воля Твоя». Хорошо также выполнять каждодневно чтение святого Евангелия по главе и святой Псалтирь по кафизме и упоминать имена своих родных на первых двух «славах», а на третьей «славе» поминать о упокоении рабов Божиих усопших.
Дай Бог успеха в этом деле. Относительно отдачи швейной машины я напишу Анастасии Исаевне, а Вы потрудитесь, передайте ей письмо, прочитайте, она ведь слабо видит.
Молитвенно Вас поминаю. Храни Вас Господь!
Нина Сергеевна посылает Вам привет.
С уважением, о. Г. и Н. Пономаревы.
Духовные наставления
Всячески остерегайся на что-нибудь сердиться. Всякая неприятность не сама по себе постигает нас, но допускается промыслом Божиим для тех же спасительных целей, для которых святаго апостола Павла постигали: беды в реках, беды от разбойников, беды от сродних, беды от язычников, беды во градех, беды в пустыне, беды в море, беды между лжебратиями, голод, жажда» (ср. 2. Кор. 11, 26-27).
Зная это, не обращайте внимания на то, кто обидел вас и за что обидели, а только помните, что никто не осмелился бы нанести вам оскорбление, если бы не Господь хотел допустить это, и потому лучше благодарите Господа, что постигающими вас скорбями Он ясно показывает, что вы Ему не чужие, и ведет вас в Царство Небесное.
16.10.1992 г.
* * *
Многоуважаемый Евгений Сергеевич!
Ваше письмо получили. Спасибо за поздравление с Великим праздником Святой Пасхи и добрые пожелания, а мы поздравляем Вас с Великим праздником Святой Троицы.
Желаем Вам пребывать в добром здоровье, успеха в работе, а так же в исполнении каждодневного молитвеннаго правила, терпения при всех трудностях, укрепляя себя молитвой «Господи, да будет Воля Твоя». Старайтесь читать духовные наставления, они всех нас подкрепляют. Наше здоровье слабеет, но по милости Божией еще трудимся. Спасибо Вам и за газетную статью.
Супруге вашей Таисии… посылаем поклон. Хорошо, что она имеет желание приблизиться к духовной жизни — помоги ей Бог!
Храни Вас Господь!
Молитвенно Вас и ваших родных поминаю.
Нина Сергеевна посылает вам сердечный привет
Помнящие Вас о. Г и Н. Пономаревы.
28.05.1993 г.
* * *
Многоуважаемый Евгений Сергеевич!
Поздравляем Вас с Великим праздником Успения Божией Матери, а так же и Таисию Викторовну.
Желаем Вам доброго здоровья. Ваше письмо и вложение получили — большое спасибо!
Дай Бог силы Вам с терпением продолжать свой жизненный путь.
Слава Богу, что Вы стараетесь исполнять каждодневно молитвенное правило.
Постарайтесь так же сердечно исполнять молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного». Когда в пути находитесь, она очень дорога и ценна для верующаго человека. Слава Богу, что Таисия Викторовна, жена ваша, стала иметь стремление к духовности, очень было бы хорошо, чтобы она в домашних условиях старалась исполнять молитвенное правило: читать святое Евангелие и Псалтирь общую и Божией Матери.
Прилежно молитесь и за своих дочерей, читая святое Евангелие и Псалтири, поминайте их имена.
Внушайте им, что переход в тот, загробный мир всех нас ожидает, учите, как надо себя духовно настраивать, живя здесь, на земле, ценить каждый день и час, чтобы потом не пожалеть, что не заботились о неизбежном переходе в загробный мир.
Сердечно молитесь за них.
Желаю Вам успеха в этом деле.
Храни вас Господь!
Молитвенно поминаю Вас и ваших родных.
Помнящие Вас и с уважением о. Г и Н. С. Пономаревы.
28.08.1994 г.
* * *
Многоуважаемый Евгений Сергеевич!
Поздравляем Вас с наступившим Великим Постом.
Желаем в духовной настроенности проводить дни Святаго Поста. Не забывайте духовных наставлений великих подвижников. Они говорят, что нужно удерживать язык от многословия, особенно не осуждать, потому что после этого очень бывает тяжело на душе и молитва даже не исполняется.
Помоги Бог Вам помнить это духовное наставление. Посланное Вами получили — спасибо. Молитвенно Вас и Ваших родных поминаю.
Помнящие Вас о Г. и Н. С. Пономаревы.
18.03.1995 г.
* * *
Многоуважаемый Евгений Сергеевич!
Ваше письмо получили. Благодарим Вас за поздравление нас с Днем Ангела и добрые пожелания. Дай Бог силы проходить Вам жизненный путь в добром здоровье и в бодрости душевной. Старайтесь укреплять себя каждодневной сердечной молитвой и за дочь Лидию молитесь, чтобы и у ней все было благополучно. Слава Богу, что супруга ваша Таисия имеет желание больше читать духовные книги.
Наше здоровье слабеет, особенно во время снегопада.
Храни Вас Господь!
Молитвенно поминаю Вас и Ваших родных.
Нина Сергеевна посылает Вам сердечный привет.
С уважением, о. Г и Н. С. Пономаревы.
5.02.1997 г.
Приложение 3. Документы из семейного архива
Сарапульский
Архиепископ
Вр. Управ. Свердловской
епархией
1931 года июля 24-го, № 262
Псаломщику Петропавловской
Полевского завода церкви
Григорию Александровичу Пономареву
Согласно Вашего прошения и желания прихожан, Вы перемещаетесь на псаломщическую вакансию к Вознесенской Михайловского завода церкви Свердловской епархии, о чем Вам и сообщается.
Вр. Управ. Свердловской епархией
Алексий, Архиепископ Сарапульский
* * *
Московская Епархия
Софроний, Архиепископ Ирбитский
14/XI–1932 г.
№ 314, г. Свердловск
Григорию Александровичу Пономареву, псаломщику В.-Нейвенской Николаевской церкви
Настоящим удостоверяю, что Вы 13 сего ноября посвящены были в стихарь.
Управляющий Свердловской епархией Архиепископ Софроний
* * *
Московская Епархия
Софроний, Архиепископ Ирбитский
30/XI–1932 г.
№ 358, г. Свердловск
Григорию Александровичу Пономареву
На перевод Ваш из Верх-Невьянского завода к кладбищенской церкви града Невьянского Николаевского прихода на вторую псаломщическую вакансию согласен. От вышеписанного… считаетесь переведенным.
Управляющий Свердловской Епархией Архиепископ Софроний
* * *
Удостоверение
Для церковной надобности
Сарапульский
епархиальный
архиерей
5 сентября 1937 года
№ 68 г. Сарапул
Согласно распоряжения Его Блаженства Патриаршего Местоблюстителя Сергия, Митрополита Московского и Коломенского… псаломщик градо-Невьянской Вознесенской кладбищенской церкви Григорий Александрович Пономарев рукоположен мною в сан диакона… 5-го сентября 1937 года при священнослужении в Сарапульской Георгиевской кладбищенской церкви, что и удостоверяется.
Алексий, Архиепископ Сарапульский, 1937 г. 18/Х.
* * *
Дело
о рукоположении в сан диакона
псаломщика Вознесенской православной кладбищенской
церкви г. Невьянска, Свердловской епархии,
Кировградского района Свердловской области
Пономарева Григория Александровича
1937 г. 3/IX. Читал.
В формуляре не отмечено семейное положение Г. Пономарева и не удостоверено его первобрачное состояние, о чем он обещал представить надлежащие сведения, что и принято во внимание.
Архиепископ Алексий
* * *
Послужной список
псаломщика градо-Невьянской Вознесенской кладбищенской церкви Свердловской Епархии Свердловской области
Пономарева Григория Александровича
Имеет значение исключительно по
церковным делам, частного характера
Псаломщик Григорий Александрович Пономарев староцерковнической ориентации.
Родился 25-го января 1914 г.
Сын протоиерея.
Получил домашнее образование в объеме курса Духовной Семинарии под руководством протоиерея А. Пономарева.
Псаломщиком служит с 1929 г. в пределах Свердловской Епархии.
В настоящее время служит при градо-Невьянской Вознесенской кладбищенской церкви с 1932 г., по назначению Высокопреосвященного Софрония, Архиепископа Свердловского. Указ № 358.
В 1932 г. тем же архиепископом был посвящен в стихарь.
Указ от 16-го ноября № 314.
Высокопреосвященным Макарием, Архиепископом Свердловским и Ирбитским, награжден почетной грамотой 13-го декабря 1934 г. № 909.
Псаломщик: Григорий Александрович Пономарев.
7-го мая 1937 г.
Правильность сведений, изложенных в настоящем списке, удостоверяю: Московской Патриархии, Свердловской епархии, Кировградского района Благочинный протоиерей Григорий Лобанов
1937 г. Мая 9-го дня № 16
* * *
Справка
Мы, нижеподписавшиеся, Церковный Совет Вознесенской кладбищенской церкви г. Невьянска: Ведунов Иван Иванович, Чернобровина Евдокия Ивановна и Уткина Анна Васильевна, — свидетельствуем, что бывший псаломщик нашего храма Григорий Александрович Пономарев, ныне диакон, служащий в настоящее время при нашем храме, до получения сана диаконского вступил в первый, законный брак с девицей Ниной Сергеевной Увицкой. Браковенчание происходило в нашем православном Вознесенском храме 23 октября 1936 г.; браковенчание совершил протоиерей Григорий Лобанов с протодиаконом Николаем Ивановым.
В подтверждение своего свидетельства прилагаем при сем свои подписи.
16/Х-37 г.
Председатель: Чернобровина.
Секретарь: Уткина.
Казначей: Ведунов.
* * *
Его блаженству, Блаженнейшему Сергию,
Митрополиту Московскому и Коломенскому
Псаломщика Вознесенской кладбищенской
г. Невьянска церкви, Свердловской епархии,
Григория Александровича Пономарева
Прошение
Я, нижеподписавшийся, родился в 1914 г.; сын протоиерея, образование получил домашнее, в объеме прежней Духовной Семинарии. Будучи 16 лет от роду, возымел крепкое желание посвятить себя на служение Церкви Божией, и с благословения преосвященного Валериана, епископа Шадринского, временно управлявшего Свердловской епархией, стал служить псаломщиком в пределах Свердловской епархии. С указанного времени и по настоящее время служу на православном приходе. В продолжение всего моего служения по Милости Божией оставался верным сыном Святой Православной Церкви, не уклоняясь ни в какие церковные течения, как-то: обновленчество, григорианство. Стремясь всем сердцем к тому, чтобы как можно больше приносить пользы Святой Православной Церкви, и памятуя слова Священного Писания: «Благо есть мужу, егда возмет ярем свой от юности своей», я желаю посвятить все свои молодые годы и силы Церкви Божией, а потому покорнейше прошу Вас, Блаженнейший Владыка, удостоить меня посвящения в сан диакона, чтобы я в этой новой для меня должности больше бы имел возможности все свои силы и способности проявлять и отдавать на пользу Святой Православной Церкви.
К сему прошению подписуюсь:
псаломщик Григорий Александрович Пономарев.
20 августа 1937 г.
* * *
1937 г. 4/IX.
К рукоположению
в сан диакона
Архиепископ Алексий
Присяга
Я, нижеподписавшийся, призываемый ныне к служению диаконовскому, обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом пред Святым Евангелием и животворящим Крестом в том, что желаю и при помощи Божией всемерно потщусь проходить служение сие, согласно со словом Божиим, с правилами Церковными, ни что сие произвольно не изменяя, учение веры содержать и другим преподавать по руководству Святыя Православныя Церкви, Святых Отцов; провождать жизнь благочестивую, трезвенную, от суетных, мирских обычаев устраненную, в духе смиренномудрия и кротости, и благим примером руководствовать других ко благочестию, во всяком деле служения моего иметь в мыслях моих не свою честь или выгоды, но Славу Божию, благо Святой Церкви и Спасение ближних, в чем да поможет Господь Бог благодатию Своею, молитв ради Пресвятыя Богородицы и всех Святых.
В заключение сего клятвенного обещания моего целую Слова и Крест Спасителя моего. Аминь.
По сему клятвенному обещанию присягу принимал псаломщик Григорий Пономарев.
1937 года сентября 3-го дня н/стиля.
К присяге приходил 4-го сентября 1937 года протоиерей Николай Тонков.
* * *
Удостоверение к рукоположению в сан диакона
1937 г. 5 сентября.
Означенный в сем деле ставленник стихарный псаломщик Вознесенской невьянской церкви Григорий Александрович Пономарев, согласно распоряжения Его Блаженства Патриаршего Местоблюстителя Блаженнейшего Сергия, Митрополита Московского и Коломенского, рукоположен мною в сан диакона на псаломщической вакансии при вышеназванной церкви 5-го сентября 1937 г., в день отдания Праздника Успения Пресвятыя Богородицы, при священнослужении в Георгиевской кладбищенской г. Сарапула церкви, что и удостоверяю своим подписанием с приложением именной печати.
Алексий, Архиепископ Сарапульский.
Ставленнической грамоты, за неимением таковой, не выдано.
К рукоположению подводил: протодиакон Павел Ермолаев.
«Удостоверение к рукоположению в сан диакона получил» — диакон Григорий Пономарев.
5/IX–37 г.
Печать: Архиепископ Сарапульский Алексий (Кузнецов).
* * *
1937 г. 3/IX.
К духовнику протоиерею Н. Тонкову
Архиепископ Алексий (Кузнецов)
Опрос ставленника пред рукоположением во диакона
1937 года сентября 3-го дня н/стиля
Проситель — псаломщик г. Невьянска, Кировградского района Свердловской области, проживающий в г. Невьянске Кировградского района Свердловской области. Григорий Александрович Пономарев, определенный, согласно его прошения и Приходского Совета, Патриаршим Метоблюстителем Сергием, Митрополитом Московским и Коломенским, на диаконское место г. Невьянска к Вознесенской церкви Свердловской епархии, при опросе показал:
- Родился в 1914 г. января 25-го дня. Сын протоиерея Александра Ипполитовича Пономарева.
- Образование получил домашнее, в объеме Духовной Семинарии.
- Увечья и болезней, препятствующих священнослужению, не имеет.
- Женат на девице Нине Сергеевне Увицкой.
- Звание диакона избирает для славы Божией и спасения души, и проходить оное будет по правилам Святых и Богоносных отцев и согласно установления Святыя православныя Церкви.
- Ставленую грамоту всегда будет содержать в памяти, и неведением своего долга извиняться не будет, и до конца жизни своей сохранит верность Православию и Московской Патриархии и его Местоблюстителю.
К сему опросу руку приложил псаломщик Григорий Александрович Пономарев.
При снятии опроса присутствовал: г. Сарапула Георгиевской церкви протоиерей Николай Тонков.
«Означенный в сем деле ставленник псаломщик Григорий Пономарев, назначенный Патриаршим Местоблюстителем Сергием, Митрополитом Московским и Коломенским, к посвящению в сан диакона на псаломщической вакансии при Вознесенской невьянской церкви мною исповедан, и препятствий к рукоположению в сан диакона не имеется, что и удостоверяю».
г. Сарапула Георгиевской кладбищенской церкви
протоиерей Николай Тонков.
4-го сентября 1937 года.
Свидетельство о браке № 247 Невьянского городского бюро ЗАГС 20 октября 1936 г.
Паспорт № 068642; отношение к воинской службе — не состоит; выдан 16/Х-1936 г. в Невьянске.
Перешел в вневойсковика в 1937 г.
* * *
«Приложить сие к ставленническому делу».
Архиепископ Алексий
15/Х-37 г.
Высокопреосвященнейший Владыка!
Настоящим сообщаю, что высланная Вами ставленническая грамота мною получена. Благодарю Вас за Ваши хлопоты и прошу Ваших святых молитв.
С искренним уважением, диакон Григорий Пономарев.
* * *
1937 г. 31/Х.
«Принять к сведению, и согласно Его Блаженства
испытать Г. Пономарева в правоспособности его к провождению
диаконского служения и выявить не встречается ли каких-либо
препятствий к рукоположению в сан диакона».
Архиепископ Алексий (Кузнецов)
Его Высокопреосвященству
Первосвященнейшему Алексию,
Архиепископу Сарапульскому.
Церковного Совета православной
Вознесенской кладбищенской церкви
г. Невьянска Свердловской епархии
Прошение
Предъявитель сего, Пономарев Григорий Александрович, является псаломщиком при нашем храме. Согласно нашего ходатайства пред Блаженнейшим Митрополитом Сергием о поставлении его в сан диакона, последовало указание Его Блаженства обратиться за этим делом к Вашему Высокопреосвященству, как ближайшему епископу к нашей Патриархии.
1/IX-37 г. Председатель: Чернобровина.
Секретарь: Уткина.
Казначей: Ведунов.
1937 г. 4/IX. «Читает Г. Пономарев и поет очень хорошо,
с выражением и без ошибок. Порядок церковной
службы знает и вполне может быть диаконом,
к посвящению в каковой сан канонических
препятствий не встречается».
Алексий, Архиепископ Сарапульский
* * *
СССР
Министерство
внутренних дел
Управление лагеря «АВ-5»
30 октября 1947 г.
Форма «А» Видом на жительство не служит,
при утере не возобновляется.
2-ВЩ
Справка № 5441
(форма для заполнения при освобождении из лагеря,
записанная рукой отца Григория, но не заполненная — ред.)
Выдана гражданину Пономареву Григорию Александровичу,
1914 года рождения, уроженцу(ке) г. Шадринск, гражданство (подданство) СССР, национальность русский, осужденному по делу УНКВД Свердловской области
21 ноября 1937 по ст.ст. «__»УК «__»к лишению свободы на десять лет с поражением в правах на «__»года, именующему в прошлом судимость (сведений нет),
в том, что он отбывал наказание в местах заключения МВД по 30 октября 1947 г. и по отбытии срока наказания с применением ст. 39 положения о паспортах.
Освобожден 30 октября 1947 г. и следует к избранному месту жительства (город, село, дер., район, область), до ст. «__»желез. дороги.
Начальник лагеря «АВ–5»: лейтенант Шевченко.
Начальник ОУРЗ: лейтенант Столбов.
Место для
фотокарточки или дактил-го
оттиска указательного
пальца правой руки.
Печать.
Выдано продовольствие на «__» суток с «__________» 194_г.
Выдано денежное пособие в сумме; «нет» рублей (прописью)
Выдано денег на питание в пути рублей «__» (прописью).
Выдан билет на проезд до ст. «__» (железной дороги или деньгами на билет)
Стоимостью рублей в сумме:___
Возвращено личных денег в сумме (руб): Восемьсот одиннадцать.
Подпись начальника ОУРЗ: лейтенант Столбов.
Подпись инспектора ОУРЗ: мл. л-нт Лупятимов.
Подпись освобожденного: Пономарев.
Отметки о выдаче продуктов и денег в пути следования:
Дата и подпись лица, производившего выдачу:
Расписка освобожденного:
* * *
Ордена Трудового Красного
ЗНАМЕНИ
Строительство Дальнего Севера
Северное Горно-Промышленное
УПРАВЛЕНИЕ
ДОРОЖНЫЙ ОТДЕЛ
12 ноября 1952 года, №129/к
Удостоверение
Выдано Пономареву Григорию Александровичу в том, что он действительно работает в Дорожном отделе в должности десятника дистанции «Джелгала». Выдано для предъявления органам МВД и МГБ и действительно по 1 мая 1953 года.
Инспектор по кадрам Доротдела: Панов.
Печать: Северное Горно-Промышленное Управление МВД СССР
Дорожный отдел
* * *
Заштатному о. диакону
Григорию Александровичу Пономареву
Указ
Настоящий Указ выдан в том, что Вы назначаетесь на штатную диаконскую вакансию к Иоанно-Предтеченскому Кафедральному Собору г. Свердловска.
Отец диакон Григорий Пономарев находится в молитвенно-каноническом общении с Патриаршей Церковью, в священнослужении не запрещен.
Предлагается у соответствующих органов гражданской власти получить регистрацию и Указ предъявить о. Благочинному.
Архиепископ Свердловский и Ирбитский Товия
Г. Свердловск, июля 30-го дня 1953 г. № 136.
* * *
Гр. Пономареву Григорию Александровичу.
Г. Кушва Свердловской области,
ул. Зырянова, дом № 21.
Сообщаю, что решение тройки при УНКВД Свердловской области от 21/ХI-37 года в отношении Вас определением Судебной Коллегии по уголовным делам Верховного Суда СССР от 23/III-1955 года отменено и дело прекращено за отсутствием состава преступления.
Начальник отдела УКГБ по Свердловской области Горшенин
27 апреля 1955 г. № 7/1-1401, г. Свердловск.
* * *
Акт о рукоположении
1955 года, ноября месяца 6 дня в Иоанно-Предтеченском Кафедральном соборе г. Свердловска во время Божественной Литургии,Его Высокопреосвященством Высокопреосвященнейшим Товией, Архиепископом Свердловским и Ирбитским, диакон Григорий Александрович Пономарев рукоположен в сан Пресвитера.
К рукоположению подводил:
«Верно»: Архиепископ Свердловский и Ирбитский Товия.
* * *
Свидетельство духовника
1955 года ноября месяца 6 дня означенный в сем деле диакон Григорий Александрович Пономарев был мною исповедан, и препятствий к рукоположению его в сан пресвитера не имею.
Духовник: протоиерей Павел Топорков.
* * *
Ставленая присяга
Я, нижепоименованный, призываемый ныне к служению в сане, обязуюсь Всемогущим Богом пред Святым Его Крестом и Евангелием в том, что желаю, при помощи Божией, всемерно потщусь проходить служение сие согласно со словом Божиим, и правилами Св. Отец, и указаниями руководителей.
Богослужения и таинства совершать со тщанием, ничего произвольного не допускать, учение веры содержать и другим преподавать по руководству Православной Церкви и Св. Отец. Заблудших вразумлять на путь истины, провождать жизнь благоговейную в духе смирения и кротости и благим примером руководствовать других ко благочестию.
Во всяком деле служения моего иметь не мою честь или выгоду, но славу Божию и благо Святой Церкви ко спасению ближних, в сем деле поможет мне Господь Бог Своею Благодатию, молитв ради Пречистыя Богородицы и всех Святых.
В заключение сего моего обещания целую Слова и Крест Спасителя моего. Аминь.
К присяге подводил: духовник протоиерей Павел Топорков.
Присягу принял: диакон Григорий Пономарев.
Ноября 6 дня, 1955 г.
г. Свердловск.
* * *
Допрос
ставленнику перед рукоположением во иерея
1955 года, ноября месяца, 6 дня в присутствии протоиерея Кафедрального Иоанно-Предтеченского собора Павла Топоркова проситель диакон Григорий Александрович Пономарев назначен, согласно прошению, Высокопреосвященнейшим Товией, Архиепископом Свердловским и Ирбитским, к рукоположению во (Пресвитеры — ред.).
Заявил: 1. От роду имею 41 год, сын протоиерея.
- Обучался и окончил Ленинградскую Духовную Семинарию.
- Женат первым браком.
- Исповедания православного, с раскольниками и сектантами в религиозном общении не состоял и не состою.
- В преступных политических делах не замешан и вообще дел, препятствующих поступлению в священный сан, не имею.
- Болезням заразным и неизлечимым не подвержен и физических недостатков не имею.
- Рукоположения в сан Пресвитера для славы Божией и спасения душ пасомых с искренним намерением послужить Святой Церкви, как Святых Отцев правила и церковные Уставы повелевают.
Для сего обязуюсь:
а) всякое Священнодействие и Молитвословие совершать по чиноположению церковному, с благоговением, довольствуясь добровольным за то даянием от своих прихожан. В воскресные и праздничные дни без уважительной причины не опускать Богослужений — не только Литургию, но и положенных по Уставу служб;
б) утверждать своих прихожан в истинной вере и благочестии;
в) дом свой править, то есть содержать домашних своих, как то подобает служителю Алтаря, и не давать их поведением повод к соблазну прихожан, а также иметь попечение о вверенном мне клире;
г) в Святом Алтаре и храме буду держать себя как того требует святость места, внушая уважение к Святыне и другим;
д) в проходимом служении буду держать себя благочестно, достойно высокому своему званию, опасаясь, как бы не уронить оное или не причинить верующим соблазна своим недостойным поведением;
е) одежду буду носить только присвоенную духовному званию — скромную и приличную, волос и бороды не стричь, соблюдать установленные Православною церковью посты, и никаких зазорных поступков нетрезвости, картежной игры, табакокурения, посещения театров, вымогательств и тому подобное допускать не буду;
ж) без уважительной причины перепрашиваться на другой приход не буду;
з) памятуя, что священнослужитель без воли своего Епископа ничего не совершает, обязуюсь все распоряжения своего духовного начальства исполнять беспрекословно, а равно все документы церковные вести в надлежащем порядке;
и) ставленую Грамоту буду хранить благоговейно и всегда содержать в памяти;
к) для достойного напоминания о принятом мною высоком звании, чтобы возогревать в себе Дар Благодати Священства, кроме Богослужений и Таинств, обязуюсь упражняться чтением Слова Божия, Святоотеческих творений и прочих духовных писателей, книги Правил Святых Отцев и книги творений Святых Иоанна Златоуста, Василия Великого и Тихона Задонского;
д) копию с настоящего допроса обязуюсь иметь и хранить у себя для постоянного руководства, посему оправдываться неведением своего долга не буду и присягу, данную мною перед духовником на исповеди, а равно врученную мне грамоту твердо хранить обязуюсь.
Допрос снял: духовник протоиерей Павел Топорков
Ставленник во иерея: диакон Григорий Александрович Пономарев.
(Дата не указана — ред.)
* * *
Московская патриархия
Архиепископ Свердловский и Курганский,
управляющий Челябинской епархией
620109, г. Свердловск, 109, ул. Крауля, № 11
16 января 86 г., № 2
Указ
Клирику Свердловской епархии
протоиерею Пономареву Григорию Александровичу
Копии:
церковному совету Воскресенской церкви г. Шадринска;
уполномоченному совета по делам религий по Курганской области Таранченко И. И.;
церковному совету Петро-Павловской церкви г. Куртамыша;
Благочинному церквей III округа протоиерею И. Бигарю — к сведению;
в личное дело.
Ради пользы Церкви, согласно Вашему прошению и прошению церковного совета Петро-Павловской церкви г. Куртамыша, моим определением от 16 января 1986 года Вы освобождаетесь от занимаемой должности настоятеля Воскресенской церкви г. Шадринска и назначаетесь на должность настоятеля Петро-Павловской церкви г. Куртамыша с 20 января 1986 г.
Мелхиседек, Архиепископ Свердловский и Курганский,
Управляющий Челябинской епархией
* * *
Автобиография
Диакона Пономарева Г. А.
Родился 25-го января 1914 г. в г. Шадринске Курганской области. Сын протоиерея. Получил домашнее начальное 4-х классное образование у частных преподавателей. С 15-летнего возраста стал самостоятельно служить при церкви в качестве псаломщика, одновременно получая духовное образование духовной семинарии под руководством протоиерея А. Пономарева. Псаломщиком служил все время в пределах Свердловской епархии. В 1932 г. Высокопреосвященнейшим Софронием, Архиепископом Свердловским, был посвящен в стихарь. В 1934 г. Высокопреосвященнейшим Макарием, Архиепископом Свердловским, награжден почетной грамотой.
В 1936 г. вступил в брак с девицей Ниной Сергеевной Увицкой, дочерью протоиерея Увицкого Сергия. В 1937 г. 5/IX был посвящен в сан диакона Алексием, Архиепископом Сарапульским, и назначен на псаломщическую вакансию при Вознесенской кладбищенской церкви г. Невьянска Свердловской области.
В 1937 г. 30/Х был осужден Свердловской тройкой НКВД по делу УНКВД сроком на 10 лет. Последнее место отбытия срока была Колыма, где и был мною в 1947 г. закончен срок. По отбытии срока работал по вольному найму в предприятии Дальстрой. Последняя занимаемая должность — десятник дорожной дистанции. В 1953 г. уволен из системы Дальстроя в отпуск с последующим увольнением.
* * *
Автобиография
Я, протоиерей Григорий Александрович Пономарев, родился в 1914 г. 7 февраля в г. Шадринске Курганской области в семье священника.
По национальности русский.
Образование получил светское — среднее, духовное — заочная Ленинградская Духовная Семинария, которую окончил в 1955 году.
Трудовая деятельность началась с 1932 года. Служил в церкви в должности псаломщика в разных приходах Свердловской области.
Семейное положение — женат.
В 1936 году женился на гражданке Увицкой Нине Сергеевне, 1910 года рождения, дочери священнослужителя. В 1937 году родилась дочь Ольга, которая в настоящее время проживает в г. Свердловске.
Духовный сан диакона получил в 1937 году. Назначение получил к Вознесенской церкви г. Невьянска.
В 1937 году решением Свердловской тройки НКВД был административно выслан на 10 лет по ст. 58-10. Определением Судебной коллегии Верховного суда СССР от 23/III 1955 года реабилитирован. Дело прекращено за отсутствием состава преступления.
По отбытии срока находился шесть лет в системе Дальстроя, работал по вольному найму на разных работах.
В 1953 году, возвратившись с Дальстроя, работал при церкви в должности диакона г. Кушвы Свердловской области.
Сан священника получил в 1955 году и был назначен Преосвященнейшим Товией, Архиепископом Свердловским, к Казанской церкви г. Н. Тагила Свердловской области.
В 1962 году был переведен в г. Курган к Свято-Духовской церкви Преосвященнейшим Флавианом, Архиепископом Свердловским.
В настоящее время и нахожусь в должности настоятеля означенной церкви.
Протоиерей Григорий Пономарев
* * *
Автобиография
Я, нижеподписавшийся, Пономарев Григорий Александрович, родился в 1914 г. 7 февраля в г. Шадринске Курганской области.
Сын священника.
По национальности русский.
Образование получил светское — среднее, общее, специальное богословское — Духовная Семинария.
Трудовая деятельность началась с 1932 года. Служил в церкви в должности псаломщика в разных приходах Свердловской области.
Семейное положение: в 1936 году женился на гражданке Увицкой Нине Сергеевне, 1910 года рождения, дочери священника. В 1937 году родилась дочь Ольга, которая в настоящее время проживает в г. Свердловске.
В 1937 году был посвящен в сан диакона.
Решением Свердловской тройки НКВД в 1937 году был административно выслан сроком на 10 лет по ст. 58-10.
Определением Судебной коллегии Верховного суда СССР от 23/III 1955 года реабилитирован — дело прекращено за отсутствием состава преступления.
По отбытии срока находился шесть лет в системе Дальстроя, работая по вольному найму на разных работах.
В 1953 году, возвратившись с Дальстроя, работал при храме в должности диакона г. Кушвы Свердловской области.
В 1955 году по заочному сектору окончил Ленинградскую Духовную Семинарию.
В 1955 году был посвящен в сан священника и в том же году назначен в Казанский Собор г. Н. Тагила, Свердловской области.
В 1962 году правящим епископом был назначен настоятелем к церкви г. Кургана в поселок Рябково.
В настоящее время храм находится в поселке Смолино, где в настоящее время и работаю в означенной должности.
Протоиерей Григорий Пономарев
18/V. 1970 г.
* * *
Послужной список за 1953 год
Пономарева Григория Александровича,
диакона Михайло-Архангельской церкви города Кушвы
Свердловской епархии. Улица Зырянова, д. № 15
Имя, отчество, фамилия: Пономарев Григорий Александрович.
- Должность: Диакон.
- Год, месяц, число и место рождения: 1914 г., 25-го января (ст. стиля — ред.), г. Шадринск Курганской области.
- Национальность и гражданство: русский, СССР;
- социальное происхождение: сын священника.
- Общее образование, когда и что окончил: домашнее в объеме семи классов, 1928 г.
- Специальное образование, когда и что окончил: нет, III класс Духовной семинарии.
- Семейное положение, когда и с кем повенчан (если женат): женат в 1936 г., повенчан с девицей, дочерью священника Ниной Сергеевной Увицкой.
- Кем и когда посвящен в священный сан: архиепископом Алексием Сарапульским, рукоположен в сан диакона в 1937 г. 5-го сентября.
- Последние две награды (когда и кем награжден): не имею.
- Был ли судим церковным или гражданским судом и по какой статье: Церковным судом не судим. Гражданским судом судим по 58 ст. по делу УНКВД в 1937 г. Свердловской тройкой НКВД осужден сроком на 10 лет.
- Когда и кем назначен на занимаемую должность: архиепископом Свердловским и Ирбитским Товией назначен к сей Михайло-Архангельской церкви г. Кушвы на штатную диаконскую вакансию в 1953 г. 3-го августа. Указ № 143.
- Был ли в обновленческом расколе, кем и когда именно принят в общение с православною церковью: не был.
- Особые обязанности по церковной службе: не имею.
Послужной список (назначения, перемещения)
По окончании общего и духовного образования в объеме Духовной Семинарии, полученного домашним образом, с благословения Епископа Валериана, Свердловского, исполнял обязанности псаломщика при Петро-Павловской церкви завода Полевского, Свердловской епархии — 1929–1931 гг.
Архиепископом Софронием, Свердловским, назначен штатным псаломщиком к Вознесенской кладбищенской церкви г. Невьянска с 1932 по 4/IX 1937 г.
Тем же Архиепископом Софронием посвящен в стихарь, согласно распоряжения Его Блаженства Патриаршего Местоблюстителя Сергия, Митрополита Московского и Коломенского.
Архиепископом Алексием Сарапульским, временно управляющим Свердловской епархией, был рукоположен в сан диакона с оставлением на псаломщической вакансии при Вознесенской церкви г. Невьянска — 1937 г. 5-го сентября.
Постановлением Свердловской тройки НКВД осужден по ст. 58 по делу УНКВД сроком на 10 лет в 1937 г.
По отбытии срока возвратился в Свердловскую епархию.
Высокопреосвященнейшим Товией, архиепископом Свердловским и Ирбитским, назначен на штатную диаконскую вакансию к Михайло-Архангельской церкви г. Кушвы Свердловской епархии. Указ № 143 от 1953 г. 3-го августа.
* * *
Послужной список за 1955 год
священника Григория Пономарева
Казанской г. Н. Тагила церкви
Имя, отчество, фамилия: Григорий Александрович Пономарев.
- Должность: священник.
- Год, месяц, число и место рождения: 1914 г., февраля 7, г. Шадринск.
- Национальность и гражданство: русский, гражданин СССР,
- социальное происхождение: сын священника.
- Общее образование, когда и что окончил: домашнее в объеме семи классов, с 1922–1928 г.
- Специальное образование, когда и что окончил: Духовная Ленинградская Семинария.
- Семейное положение, когда и с кем повенчан (если женат): вступил в брак с девицей Ниной Сергеевной Увицкой в 1936 г.
- Кем и когда посвящен в священный сан: Высокопреосвященнейшим Товией, Архиепископом Свердловским и Ирбитским, 6/Х 1955 года.
- Последние две награды (когда и кем награжден): Высокопреосвященнейшим Товией 4/X 56 г. награжден набедренником.
- Был ли судим церковным или гражданским судом и по какой статье: Церковным судом не судим. Решением Свердловской тройки НКВД в 1937 г. был административно выслан сроком на 10 лет, ст. 58-10 . Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР от 23/III 55 г. обвинение отменено и дело прекращено за отсутствием состава преступления.
- Когда и кем назначен на занимаемую должность: 6 ноября 1955 г. Высокопреосвященнейшим Товией, Архиепископом Свердловским и Ирбитским. Указ № 412.
- Был ли в обновленческом расколе, кем и когда именно принят в общение с православною церковью: нет.
- Особые обязанности по церковной службе: нет.
Послужной список (назначения и перемещения)
С благословения епископа Валериана Свердловской епархии исполнял обязанности псаломщика при Петро-Павловской церкви завода Полевского Свердловской епархии с 1929 г. по 1931 г.
Архиепископом Высокопреосвященным Софронием Свердловским назначен штатным псаломщиком к Вознесенской кладбищенской церкви г. Невьянска 1932-1937 гг.
Согласно распоряжения Его Блаженства Патриаршего Местоблюстителя Сергия, епископа Московского и Коломенского, был рукоположен Архиепископом Алексием, Сарапульским, временно управляющим Свердловской епархией, в сан диакона с оставлением на псаломщической вакансии при Вознесенской церкви г. Невьянска.
1937 г. 5-го сентября решением Свердловской тройки НКВД административно выслан по ст. 58-10 сроком на 10 лет в 1937 г. По отбытии административного взыскания возвратился в Свердловскую епархию.
В 1953 г. Высокопреосвященнейшим Товией, Архиепископом Свердловским и Ирбитским, назначен на штатную диаконскую вакансию к Михайло-Архангельской церкви г. Кушвы Свердловской епархии. Указ № 143.
Высокопреосвященнейшим Товием архиепископом Свердловским и Ирбитским, посвящен в сан пресвитера 6/XI 1955 г. и назначен к Казанской г. Н. Тагила церкви. Указ № 412 от 6/XI 1955 года.
* * *
Послужной список за 1962 год
Священника Григория Пономарева
Казанского Собора г. Нижнего Тагила
Имя, отчество, фамилия: Григорий Александрович Пономарев.
- Должность: священник.
- Год, месяц, число и место рождения: 1914 г., февраля 7, г. Шадринск Курганской области.
- Национальность и гражданство: русский, гражданин СССР, социальное происхождение — сын священника.
- Общее образование, когда и что окончил: домашнее — среднее, 1928 год.
- Специальное образование, когда и что окончил: Духовная Лениградская Семинария.
- Семейное положение, когда и с кем повенчан (если женат): вступил в брак с девицей Ниной Сергеевной Увицкой в 1936 г.
- Кем и когда посвящен в священный сан Высокопреосвященнейшим Товией архиепископом Свердловским и Ирбитским, 6/Х 1955 года.
- Последние две награды (когда и кем награжден) Преосвященнейшим Флавием, Епископом Свердловским и Курганским, 30/IV 1960 г. награжден камилавкой.
- Был ли судим церковным или гражданским судом и по какой статье. Церковным судом не судим. Решением Свердловской тройки НКВД в 1937 г. был административно выслан сроком на 10 лет по ст. 58-10. Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР от 23/III 55 г. обвинение отменено и дело прекращено за отсутствием состава преступления.
- Когда и кем назначен на занимаемую должность: 6/XI 1955г. Высокопреосвященнейшим Товией Архиепископом Свердловским. Указ № 412.
- Был ли в обновленческом расколе, кем и когда именно принят в общение с православною церковью: нет.
- Особые обязанности по церковной службе: нет.
Послужной список (назначения и перемещения)
С благословения еп. Валериана, управляющего Свердловской Епархией, исполнял обязанности псаломщика с 1929 г. по 1937 год в приходах Свердловской Епархии. Рукоположен в сан диакона.
1937 год. Решением Свердловской тройки НКВД административно выслан по ст. 58-10 сроком на 10 лет.
По отбытии административного взыскания возвратился в Свердловскую область. В 1953 г. Высокопреосвященнейшим Товией, Архиепископом Свердловским и Ирбитским, назначен на штатную диаконскую вакансию к Михайло-Архангельской церкви г. Кушвы Свердловской Епархии. Указ № 143.
6/XI 1955 г. Высокопреосвященнейшим Товией, Архиепископом Свердловским и Ирбитским, посвящен в сан пресвитера и назначен к казанской г. Н. Тагила церкви. Указ № 412 от 6/XI 1955 года.
Священник Григорий Пономарев.
20/I 1962 года.
Заполнение анкеты на служителя культа
- Фамилия, имя, отчество: Пономарев Григорий Александрович.
- Год, месяц и место рождениия: 1914 г. 7/II, г. Шадринск.
- Национальность: русский.
- Кем и где служит в настоящее время: настоятелем православного храма г. Кургана, пос. Смолино.
- Образование:
духовное — среднее, окончил Ленинградскую Духовную Семинарию;
светское — среднее;
имеет богословскую степень — нет.
- Год посвящения в сан: 1937 год.
- Сведения о судимости: не судим.
- Адрес местожительства: пос. Смолино, ул. Р. Люксембург, 16.
13/IV–1970 г.
* * *
Послужной список за 1970 год
(назначения и перемещения)
1932 год. Псаломщиком при Вознесенском храме г. Невьянска Свердловской области.
1937 год. Диаконом при том же храме.
1937 год. Тройкой УНКВД Свердловской области осужден по ст. 58-10 сроком на 10 лет. Реабилитирован определением Судебной коллегии Верховного суда в 1955 году, за отсутствием состава преступления.
1953 год. Диаконом при Михайло-Архангельском храме г. Кушвы Свердловской области.
1955 год. Священником при Казанском Соборе г. Н. Тагила Свердловской области.
1962 год. Священником при Свято-Духовском храме г. Кургана пос. Рябково — Смолино.
13/IV 1970 г.
Анкету сдал уполномоченному 25/V 1970 г.
* * *
Послужной список
Пономарев Григорий Александрович
(диакон Михайло-Архангельской церкви г. Кушвы)
Имя, отчество, фамилия: Григорий Александрович Пономарев.
- Должность: Диакон.
- Год, месяц, число и место рождения: 1914 г., 25-го января, г. Шадринск.
- Национальность и гражданство:
русский, гражданин СССР;
социальное происхождение:
сын священника.
- Общее образование, когда и что окончил:
домашнее в объеме семи классов, с 1922 по1928 гг.
- Специальное образование, когда и что окончил:
духовное домашнее в объеме Духовной семинарии — 1924-1933 гг.
- Семейное положение, когда и с кем повенчан (если женат):
вступил в брак с девицей Ниной Сергеевной Увицкой в 1936 г.
- Кем и когда посвящен в священный сан:
Высокопреосвященнейшим Алексием, Архиепископом Сарапульским, 5/IX 1937 г.
- Последние две награды (когда и кем награжден): нет.
- Был ли судим церковным или гражданским судом и по какой статье:
Церковным судом не судим.
Гражданским судом судим по 58 ст. по делу УНКВД в 1937 г. Свердловской тройкой НКВД осужден сроком на 10 лет.
- Когда и кем назначен на занимаемую должность:
3-го августа 1953 г. Высокопреосвященнейшим Товией, Архиепископом Свердловским и Ирбитским.
- Был ли в обновленческом расколе, кем и когда именно принят в общение с православною церковью: нет.
- Особые обязанности по церковной службе: нет.
Послужной список (назначения и перемещения)
С благословения Преосвященнейшего Валериана, епископа Шадринского, исполнял обязанности псаломщика с 1924 по 1932 гг. при Петро-Павловской церкви завода Полевского.
Высокопреосвященнейшим Софронием, Архиепископом Свердловским, назначен на штатную псаломщическую вакансию к Вознесенской кладбищенской церкви г. Невьянска с 1932 по 1937 гг.
Высокопреосвященнейшим Алексием, Архиепископом Сарапульским, временно управляющим Свердловской епархией, определен диаконом на псаломщическую вакансию к этой же церкви, 1937 г.
По отбытии срока заключения назначен Высокопреосвященнейшим Товией, Архиепископом Свердловским, на штатную вакансию к Михайло-Архангельской церкви г. Кушвы, 3-го августа 1953 г.
Диакон Григорий Пономарев
* * *
Московская Патриархия
Свердловское Епархиальное Управление
Г. Свердловск, ВИЗ, ул. Крауля, № 11, Телефон № Д–1–48–49
№ 98 8 апреля 1958 г.
Священнику Николо-Казанской церкви г. Нижнего Тагила Григорию Александровичу Пономареву.
Вр. Управляющим Свердловской Епархией Епископом Пермским Павлом за ревностное служение Церкви Божией, Вы ко дню Святой Пасхи сего 1958 г. удостоены награждения Скуфьей.
Для возложения на Вас Скуфьи правящим Епископом Вы будете вызваны телеграммой в г. Свердловск.
Секретарь Свердловского Епархиального Управления протоиерей (Д. Фесвитянинов).
* * *
Московская Патриархия
Ленинградская Епархия
Православная Духовная Академия
6 февраля 1959 года
№ 50. г. Ленинград ,Обводной канал, № 17
Справка дана (сан):
священник
Ф., и., о:
Пономарев Григорий Александрович,
в том, что состоит в списках студентов первого курса Ленинградской Православной Духовной Академии Заочного Сектора.
Настоящая справка выдана для представления в Епархиальное Управление.
Секретарь Заочного Сектора (Матвеев А. М.).
С подлинным верно. Настоятель Казанского собора протоиерей… (далее не понятно — ред.)
15/II 1959 г.
* * *
Московская Патриархия
Управляющий Свердловской епархией
30 апреля 1960 г.
№ 280. Свердловск
Справка
Дана священнику Казанского собора города Нижнего Тагила Свердловской области Пономареву Григорию Александровичу в том, что он за усердную службу церкви Божьей к празднику Св. Пасхи мною награжден Камилавкой.
Епископ Свердловский и Курганский (Флавиан).
* * *
Московская Патриархия
Канцелярия
Епископа Свердловского и Курганского
4 мая 1960 г.
№ 295, г. Свердловск, Крауля, 11
Тел. Д1-48-49
Настоятелю Казанского Собора гор. Н. Тагила, протоиерею о. Николаю Мухину.
По благословению Преосвященного Епископа Флавиана прошу командировать в Свердловск 7-го мая с. г. священника о. Григория Пономарева для служения Владыке Божественной Литургии и возложения на о. Григория камилавки.
Отцу Григорию Владыка благословил за литургией сказать проповедь.
Секретарь Епископа Свердловского и Курганского
(Прот. Ф. Завьялов.
* * *
Справка
Дана священнику — настоятелю Свято-Духовской церкви города Кургана в Рябково Пономареву Григорию Александровичу, в том, что он ко дню Св. Пасхи 1963 года Его Святейшеством, Святейшим Патриархом Московским и всея Руси, по моему представительству награжден Наперсным Крестом.
Епископ Свердловский и Курганский (Флавиан).
* * *
Удостоверение
Выдано сие настоятелю Свято-Духовской церкви гор. Кургана, Смолино, протоиерею Пономареву Григорию Александровичу в том, что он ко дню Св. Пасхи 1974 года удостоен награждения — Палицей.
Что подписью и приложением печати удостоверяется.
Епископ Свердловский и Курганский (Климент).
26 марта 1974 г.
№ 47 г. Свердловск
* * *
Удостоверение
Дано настоящее настоятелю св. Богоявленской Церкви с. Усть-Миасское Курганской области, протоиерею Григорию Александровичу Пономареву, в том, что он по моему представлению награжден Святейшим Патриархом Пименом к празднику Святой Пасхи 1984 года Митрой.
Архиепископ Свердловский и Курганский, Управляющий Челябинской епархией.
16 апреля 1984 г.
Приложение 4. Из архива протоиерея Григория Пономарева
Поваленный крест
(размышления о грехе самоубийства)
Кто только начинает жизнь, так же легко встречает мысль о самоубийстве, как и тот, кто кончает жизнь.
Каждый подвал, каждый тупик жизненного лабиринта имеет быстро открывающуюся выходную дверь — «мысль о самоубийстве».
В разных положениях, по разным поводам, причинам и соображениям, как вода, стремящаяся к узкому горлышку воронки, мысль человека, сдавленного страданием, устремляется к самоуничтожению…
Страдание же есть тайна, понятная лишь немногим, хотя и открытая всем. «Перечеркни свою жизнь», «просвета нет», «все кончено», «бессмысленно все» — шепчутся в сердце слова, а какая-то подхватывающая и притягивающая (словно обнадеживающая) сила влечет к уходу от страданий бессмыслия (кажущегося бессмысленным страдания — ред.)
«Покоя… Освобождения…»
«В моей власти это».
«Что?» — страшный вопрос.
Что «это» в моей власти?
Нажать гашетку?
И здесь открывается вера самоубивающейся души: темная, блуждающая, тупая, иногда страшливая, переплетенная с зарницами святых сомнений, — вера в то, что «ничего нет», или — «есть Покой», или (самое беспомощное) — «Бог простит».
Взрыв низкой гордости, преступного «товарищеского» подстрекания, оскорбленного самолюбия (оскорбленного, по промыслу, для смирения и спасения), утрата кумира, идеала жизни: денег, наслаждений, чувственной или идеальной любви, друга, ребенка, женщины («озарявшей» жизнь вместо Бога), прекращение праздной жизни, телесного здоровья, славы перед людьми или надежды на эту славу… — все кумиротворчество, на которое только способна душа, отошедшая от Духа Утешителя или не пришедшая к Нему, влечет человека к самоистреблению по непреложному закону вечной Божией правды, распростертой над человеческой природой, свободой.
Великое томление испытываемого духа!
Выдержит — пригоден для настоящей, Вечной Жизни. Не выдержит — Крест повален, и им перечеркнуто существование человека для жизни и открыто для жизни смерти. Жизнь смерти — это тоже жизнь, только иная, чем жизнь жизни.
Бедные страдальцы-самоубийцы!
Как ответственны за вашу гибель ваши близкие, ваши отцы, ваши друзья, ваши пастыри — те, кто вас воспитывал, те, кто с вами грешил, кто не поддержал вас, кто не молился за вас, когда вы были у возможности вечной жизни — жизни. Вы повалили Крест, вы свергли страждущего за вас Христа на землю.
Вы убили, вы отравили, вы бросили под поезд Самого Бога — вечно живущую в вас жизнь.
Вы не приняли искупления — кратких земных очищающих страданий, сладких для принявшего; гораздо более сладких, чем те призрачные наслаждения, в тоске по которым вы умерли.
Да, в вашей власти было сделать это, как подсказала, шепнула вам сила зла, не имевшая над вами тогда никакой власти. Но в вашей же власти было не делать этого. В вашей власти было знать, что есть Бог; что Он есть не только высшее выражение правды и справедливости, недоступных вашему пониманию, но даже гораздо более всех слабых человеческих понятий об этом. В вашей власти было понять, что не может Бог дать вам Крест и не дать сил, — в вашей власти было обратиться к Богу, спастись призыванием (не ложным) Его имени.
Если бы могли ответить, ответили бы некоторые из вас: «Мы обращались к Богу, и Бог нам не помог».
Но, братия, поймите (пусть идущие к тому же злу, к которому вы пришли, тоже поймут):
— Не всякое призывание Бога есть обращение к Своему Создателю.
Призывать так, как вы призывали, это не значит обратиться к своему Небесному Отцу.
«Если Ты Сын Божий, сойди со Креста», — иными словами так говорили вы. Это — призывание Бога людьми, проходящими мимо Креста. Это — не молитва.
Призвать, обратиться к Богу — значит прежде всего — покориться Его Воле и, уже покорившись Богу, молиться Ему.
Ропотливое, боязливое за себя, пристрастное к своему низшему кругу жизни, бьющееся в своем мирке — разве может наше сердце соединиться с Пламенем Триединого Божества? Это — невозможно, и потому не считайте, что вы призывали Бога, когда вы беспокойно обращались к Нему как к виновнику ваших страданий или равнодушному их зрителю.
Те, кто призывал Бога-Творца, покорившись Ему, те остались живы, и их жизнь есть открытое свидетельство против тех, кто не покорился.
На последнем Суде никто не сошлется на «обстоятельства», или на «обстановку», или на «невыносимое состояние духа» как на причины своего самоистребления. Тут же будут стоять легионы людей святых, Божиих, бывших в более тяжких обстоятельствах, в более невыносимой обстановке и в более нестерпимом состоянии духа. Они были во всем этом и покорились Богу, не приняли помысла клеветнического на Создателя Любви. И это было как раз то, что сделало их теперь по праву — сияющими и свободными.
Сияние это было предложено и вам…
Чем тяжелее испытание, тем больше, значит, Божие доверие к человеку (исповедники, мученики), тем больше должно быть ожидание доверия человека к Богу. Поймите это… Отвергнутая тайна Креста — есть отвергнутое пламя любви.
Отвергнуть Божью Жизнь!
Это не случается сразу. Шаг за шагом подготавливает себя несчастный к этому в течение всей своей жизни!
Закопавший десять талантов скорее подготовит себя к убиению, чем закопавший один талант. Но и этот последний не к жизни себя готовит.
Попущение Богом самоубийств телесных — есть зов Божией трубы, кричащей миру о том, что:
- Есть самоубийство духовное — атеизм теоретический и практический (при не оживляющей душу мнимой вере в Бога).
- Есть у человека свобода произволения.
И, самое главное,
- Существует во вселенной Богооставленность.
Самоубийца, как и всякий грешник, соглашающийся на грех и говорящий о своей вере в Бога, не верит в возможность Богооставленности.
— Господь так милосерд, — говорит он, принимая яд.
Какая хитрая уловка зла, какое тонкое и кощунственное искушение!
— Господь так милосерд, — говорит блудник, идя на блуд, вор, идя на воровство, убийца — на убийство.
И то величайшее, святое святых, милосердие Божие, которое ведет нас к покаянию, грешники, знающие свой грех и остающиеся нераскаянными, обращают в оправдание своего преступления. Это все равно, что Иуда Искариотский, идущий предавать своего Учителя и Бога, говорил бы: «Господь так милосерд…».
Да, Господь силен простить и миллионы душ, но лишь те, которые не ведают, что творят, и не создают в себе геенны томления, а, узнав, что сотворили, каются великим плачем сердца перед Богом Спасителем.
Самоубийство же верующего есть то лобзание, о котором предупреждает Церковь перед Святой Чашей.
Святые отцы, тонко знакомые с ухищрениями и методами действий бесплотного врага, говорят истину, которая подтверждается всюду и которую надо знать всем.
«До падения нашего бесы представляют нам Бога человеколюбивым, а после падения — жестоким» (Преподобный Иоанн Лествичник).
За кого молился Господь на Кресте?
Молился за тех распинателей, которые «не ведают, что творят». За Иуду Господь уже не молился («Не о всем мире молю…» /Ин.17:9/), ибо сознательно грешащий есть «сын погибели», и он должен непреложно пойти в «свое место», по слову Евангелия (то есть самоистребиться).
Закон самоистребления в Иуде был так силен, что даже после того, как он повесился, он упал и из него выпали внутренности. Для всей человеческой истории это образ того, что физическое самоубийство есть лишь выпадение того, что внутри (то есть самоубийства духовного) ???. (это напоминание о том, что физическое самоубийство есть образ самоубийства духовного, «выпадение того, что внутри» /потеря бессмертной души/ — ред.),
Механической, бездуховной спасаемости нет, как нет и бездуховной гибели. Человек имеет свободную волю призвать на себя волю Божию (открытую в Евангелии) или не признавать ее и тем оставить себя перед злой, богооставленной волей демонов. И потому есть «грех к смерти» — грех противления жизни (Ин.5:16). Бог велел о нем написать Апостолу любви, ибо этот грех — против любви. Убийство своей любви к Богу — самоубийство.
Церковь не может совершать над самоубийцей ни отпевания, ни панихиды. С пением Трисвятого Церковь провожает его останки до кладбища, вручая почившего Богу, каясь за него перед Пресвятой Троицей, и… келейно умоляет о нем Творца. Но иного пения Церковь не может дать, ибо иное пение было бы неправдой, а Церковь никогда не говорит неправды.
«Блажен путь воньже идеши днесь, душе, яко уготовася тебе место упокоения» (прокимен погребения), — не может сказать Церковь, зная весь ужас души, самовольно оторвавшейся от тела.
Не может Церковь сказать и того, что упование свое усопший возложил на Бога: «На Тя бо упования возложиша, Творца и Зиждителя и Бога нашего…» (слова панихиды).
И не ставится над самоубийцей Крест.
На Кресте был распят Бог, претерпевший человеческую жизнь — весь ее позор и всю ее боль.
(Все выделенные слова в тексте сохранены со ссылкой на оригинал)
[1] Всего же в 1918-1944 гг. в Свердловской епархии репрессировано не менее 334 священнослужителей, из них расстреляно 146 человек (Протоиерей Валерий Лавринов В. Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы. — Екатеринбург: Изд-во Екатеринбургского университета, 2001.
[2] Протоиерей Лавринов В. Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы. — Екатеринбург: Изд-во Екатеринбургского Университета, 2001.
[3] Демидовы — русские заводчики и земледельцы, род которых идет от тульских купцов (ХVII-ХIХ века); основатели более 50 заводов, выпускавших более 40% чугуна в стране.
[4] Протоиерей Введенский Александр Петрович. Родился 8 октября 1884 года в Черниговской губернии в семье священника. В 1905 годе окончил Черниговскую Духовную Семинарию. В 1909 году окончил Московскую Духовную Академию со степенью магистра богословия. 14 сентября того же года рукоположен в сан священника и назначен законоучителем Одесской мужской гимназии. С 1915 года законоучитель Одесского реального училища. С 1919 года настоятель Вознесенской (Мещанской) церкви города Одесса. С 1925 года настоятель Ботанической церкви. С 1929 года настоятель Алексеевской церкви там же. В 1933 году приговорен к трем годам ссылки на Беломорканал. В 1936-1950 годах на гражданской работе. С 1951 года священник города Троицка Челябинской епархии. В 1953 году награжден митрой. С 30 июля 1953 года настоятель Михаило-Архангельской церкви города Кушва Свердловской области. В 1957-1959 годах благочинный 3-го округа. С 1 июля 1960 года настоятель Казанского собора г. Нижний Тагил. С 1962 г. за штатом. Искуснейший проповедник. скончался 4 апреля 1973 года Погребен на Широкореченском кладбище города Екатеринбурга.
[5] Протоиерей Мухин Николай Петрович. Родился 4 июля 1895 года в селе Чистоперевалочное Оханского уезда Пермской губернии в семье священника. В 1912 году окончил Пермское Духовное училище. В 1916 году окончил Пермский миссионерский институт и 4 августа рукоположен в сан диакона с назначением к церкви завода Ползана. 20 июля 1917 года рукоположен в сан священника и назначен к церкви села Чистоперевалочное. В 1919 году отступил с Белой Армией на восток. 20 декабря того же года назначен приписным священником Свято-Софийской церкви города Харбин и законоучителем гимназии. С 20 октября 1923 года приписной священник Пророко-Ильинской церкви города Харбин. С 15 марта 1927 года настоятель церкви станции Шуаченку. С 19 марта 1933 год настоятель Пророко-Ильинской церкви города Харбин. В 1939 году окончил богословский факультет Харбинского института святого Владимира со степенью магистра богословия. С 17 июня 1949 года настоятель Свято-Софийской церкви города Харбин. В 1955 году награжден митрой. В 1955 году вернулся на родину и 5 октября 1955 года назначен настоятелем Казанской церкви города Нижний Тагил. С 1959 года благочинный вначале 1-го, затем 3-го округа. В 1959 году награжден вторым золотым крестом с украшениями. С 1965 года настоятель Петро-Павловской церкви пос. Черноисточинск. Скончался 24 апреля 1979 года. Погребен на поселковом кладбище.
[6] «Житие и чудеса преподобного Кукши Одесского». — Одесса, 2000.
[7] Прот. Лавренов В. Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы. — Екатеринбург, 2001.
[8] Ежов Николай Иванович (1895-1940) — нарком (министр) НКВД с 1936 года. Время его руководства деятельностью НКВД самой черной страницей вошло в историю наркомата (массовые расстрелы, жестокость на следствиях). Был обвинен в антипартийной деятельности, шпионаже. Расстрелян в 1940 году.
[9] Харитоновский дворец — родовое гнездо богатых купцов Расторгуевых-Харитоновых (Харитонов П. Я. — зять купца Расторгуева, построившего дворец), пользовавшихся худой славой. Существует мнение, что в многочисленных подвалах и переходах харитоновского дворца купцами оставлены богатства, но до сих пор их найти не смогли.
[10] Ипатьев Николай Николаевич (1867-1938) — инженер-строитель, военный инженер-поручик в саперных частях на строительстве железнодорожных магистралей, внесен в список особо отличившихся офицеров. Отличался безупречной честностью. Был выдворен из своего дома в Екатеринбурге, когда дом выбрали для проживания Царской Семьи. После расстрела Романовых ключи Ипатьеву были возвращены, но, судя по всему, там он жить не стал. В начале 20-х годов, по некоторым свидетельствам, Ипатьев обосновался в колонии русских эмигрантов в Праге. Там он и скончался.
[11] Толковая Библия под ред. А. П. Лопухина. — СПб, 1903.
[12] Эти обстоятельства невольно подтвердились следующим фактом. На титульном листе заказанной мною в декабре 2005 года в здании Публички на Московском проспекте книги Эбергарда Деннерта «Религиозные воззрения естествоиспытателей» (Харьков, 1912 г.) я обнаружила характерную печать (в виде нарисованной обложки книги) с надписью: «Фундаментальная библиотека С-Петербургской Семинарии», рядом с которой стоял номер «10521». Поверх этой печати была поставлена другая печать, прямоугольная, в которой вписано слово «Погашено» и от руки проставлен новый номер и шифр Публички. Судя по шифру, книга поступила в библиотечный фонд в 1957 году.
[13] Митрополит Анастасий. Пушкин и его отношение к религии и православной Церкви. — СПб: М. п. «Инга», 1991.
[14] Неизвестные атеистические стихи Д. П. Горчакова//Наука и религия». — 1959. — № 3. — С. 63-64.
[15] Митрополит Анастасий. Пушкин и его отношение к религии и правослоавной Церкви. — СПб: М. п. «Инга», 1991. — С. 59.
[16] Там же.
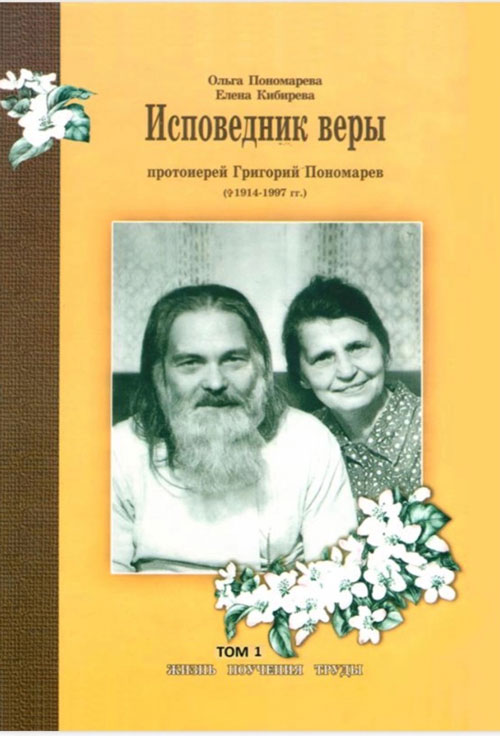
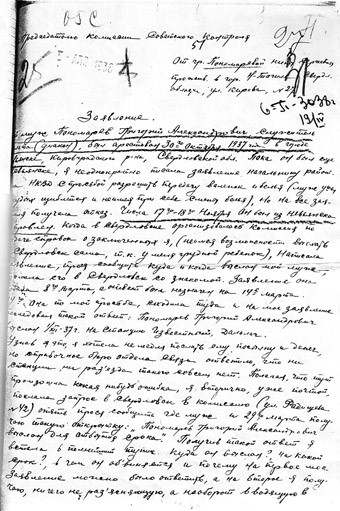
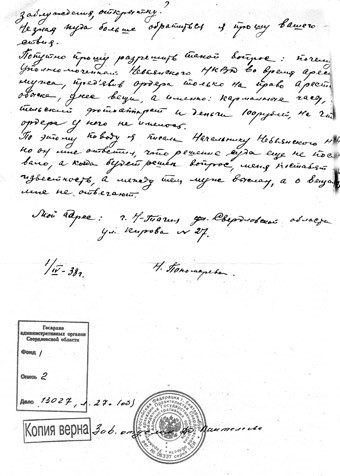

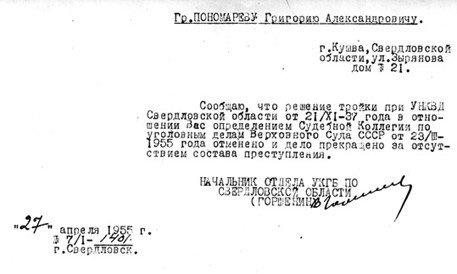





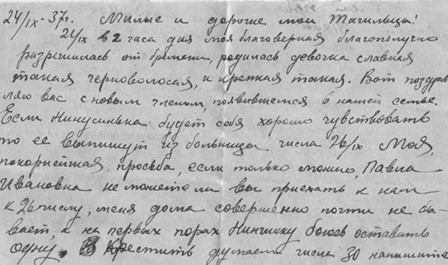

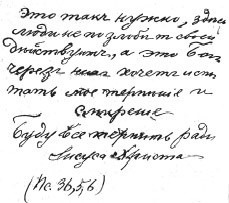
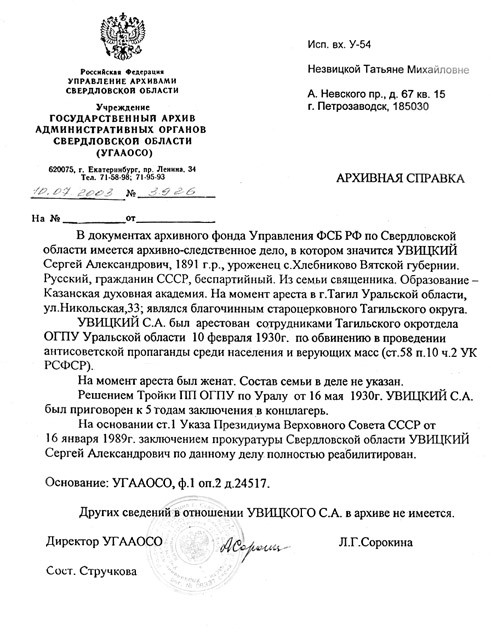
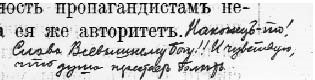
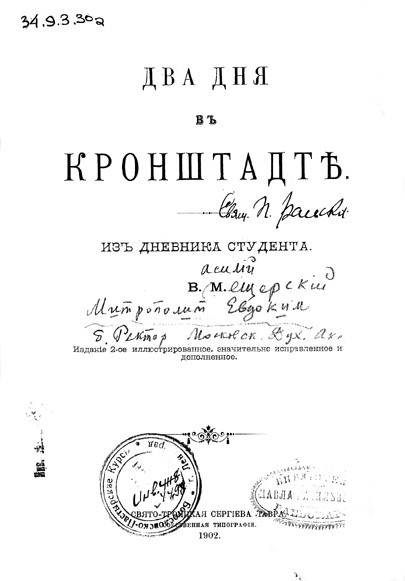

Комментировать