- Предисловие
- Крестоносцы
- В Пасхальную заутреню
- Просфора
- По молитве матери
- Это — он
- За чужие грехи
- Воскресшая вера
- Господь награждает и в сей жизни добродетельных людей
- Вразумление вольнодумца
- Промысел Божий о спасении людей
- Пути Божия промысла
- Безрассудная молитва матери о смерти своих детей
- Следствие материнского проклятия
- Спасительный промысел Божий о покаянии грешников
- Вразумление у гроба святителя Петра
- Случаи помилования Божия в опасностях жизни
- Чудесное спасение от смерти
- Подвиг христианской любви
- Последняя лепта
- Книга
- Рассказ голландского ученого
- Требник Петра Могилы
- Чудо на тропинке
- Пальто
- Признание разбойника
- Красные яблоки
- Поразительный пример верности
- Напоминание
- Недостойная молитва и ее следствия
- Матренушка
- Друзья до гроба и за гробом
- Невероятное для многих, но истинное происшествие
- Был явлен сон
- Наказанная клятвопреступница
- Примеры наказания за кощунство
- Сила православной веры
- Замечательное сновидение (покойного ярославского архиепископа Нила)
- Обращенный атеист
- Замечательное обращение старообрядки
- Поучительное явление в последние минуты жизни
- Исцеление от глазной болезни по молитвам к Пресвятой Богородице
- Памятный бал в воскресенье перед Масленицей
- Смирение — венец добродетели
- Суд Божий
- Капитан Бопп
- Два простеца
Предисловие
Так случилось, что между изданием двух книг: «Лилии полевые» и «Лилии полевые. Крестоносцы» прошло достаточно много времени… 11 августа 2008 года ушел в мир иной светлый человек, владыка Михаил, епископ Курганский и Шадринский, имевший попечение о книгах, и с его уходом на коллектив «Звонницы» посыпались и большие, и мелкие неприятности, отодвинувшие работу над изданием архива отца Григория Пономарева (1914 — 1997 гг.) почти на пять лет.
Однако за время подготовки к изданию этой книги произошли важные события в истории канонизации новых святых Екатеринбургской епархии, и эти события имеют самое непосредственное отношение к исповедническому служению митрофорного протоиерея Григория Пономарева и его супруги Нины Сергеевны (в девичестве Увицкой).
Нашим дорогим читателям напомним, что отец Григорий и его верная супруга матушка Нина (так все ее звали) более 60-ти лет служили Богу в храмах Свердловской и Курганской областей. Они почили во Господе Иисусе Христе в один день 25 октября 1997 года, явив своей смертью пример истинно христианской кончины.
В 2008 году в городе Екатеринбурге была издана прекрасная книга «Жития святых Екатеринбургской епархии», подготовленная к печати Комиссией по канонизации святых Екатеринбургской епархии. Выпуск книги приурочен к 90-летию кончины Святых Царственных Стастотерпцев, преподобномучениц Великой княгини Елисаветы Феодоровны и инокини Варвары, а также новомучеников и исповедников, которые пострадали за веру на уральской земле.
Велика же наша радость и благодарение Господу и Его угодникам, что в этом сонме новых святых просияли родители отца Григория и матушки Нины Сергеевны — архимандрит Ардалион (Пономарев) и протоиерей Сергий Увицкий. И не случайно эта книга выходит в свет к Царским дням на Урале — как напоминание о том, что отец Григорий стал последним хранителем Царского Креста-мощевика, переданном 19 мая 2001-го года по просьбе его дочери Ольги Григорьевны Пономаревой на Ганину Яму.
Преподобномученик Ардалион (память 16/29 июля), в миру Александр Ипполитович Пономарев, родился 22 июля 1877 года в семье священника и с детства отличался большими способностями к наукам; он знал три языка: французский, греческий и латинский. Закончив курс Пермской Духовной семинарии по первому разряду, он служил в храмах Екатеринбургского уезда и одновременно преподавал Закон Божий в разных духовных учреждениях уезда.
В 1905 году отцу Александру довелось сослужить великому святому Иоанну Кронштадтскому, который прибыл в Екатеринбург из Перми на 3 дня и «каждый день совершал утреню и Литургию в одном из городских храмов,.. потом служил молебны по домам («Жития святых Екатеринбургской епархии», 2008, с. 261). «Отец Александр стал одним из тех, кому посчастливилось принимать отца Иоанна Кронштадтского у себя дома…» (там же, с. 261).
После смерти супруги в 1933 году протоиерей Александр принял монашеский постриг с именем Ардалион. А в феврале 1936 года его перевели в Каслинский завод с целью добиться установления епархиального управления в Челябинской области; кандидатурой на возведение в сан епископа стал архимандрит Ардалион как последователь Патриарха Тихона. 4 января 1937 года его арестовали, предъявив обвинение в контрреволюционной деятельности. Однако «отец Ардалион был единственным из десяти обвиняемых, который “упорно” не признавал своей “вины” ни на допросах, ни на очных ставках» (там же, с. 270). А вскоре его отправили по страшному этапу, перегоняя шестидесятилетнего измученного узника из одного лагеря в другой, пока он не умер от истощения в стационаре лагерного пункта «Адак» Воркутинской исправительно-трудовой колонии.
«Исповедничество отца Ардалиона — это плод духовного пути, по которому он следовал в течение всей своей жизни. Любовь к Богу и ближним, молитва, ревность к богоугождению, деятельное исполнение Евангельских заповедей всегда были главными для него, мученичество же явилось лишь венцом его святой жизни» (там же, с. 273).
Священномученик Сергий Увицкий (память 27 февраля/12 марта) родился в 1881 году в семье народного учителя, позднее ставшего священнослужителем. Закончил с отличием Казанскую Духовную Академию и несколько лет преподавал в духовных школах Екатеринбургского уезда. Отец Сергий был прекрасным проповедником, так что даже неверующие люди в годы гонений на церковь приходили в Покровский собор города Камышлова, где служил отец Сергий, чтобы послушать его проповеди. В 1920 году его арестовали первый раз, но прихожане Покровского собора не побоялись заступиться за пастыря. Через год, когда батюшка переболел тифом в Екатеринбургском губернском концлагере и ему каким-то чудом удалось выжить, он был освобожден из заключения. Служа в храмах села Меркушино и Нижнего Тагила, отец Сергий хранил верность Патриарху Тихону и активно боролся против обновленчества. Когда в 1922 году началась кампания по изъятию церковных ценностей, протоиерей Сергий Увицкий принял все меры, противодействуя этим требованиям и призывая верующих еще теснее сплотиться вокруг церкви и встать на защиту православных храмов. 10 февраля 1930 года его снова арестовали и осенью 1931 года перевели в вишерский исправительно-трудовой лагерь «Булаг», а далее — в лагерь на Беломорканал, где он и умер 12 марта 1932 года. Обстоятельства смерти отца Сергия неизвестны, однако в его архивно-следственном деле осталось заявление от 23 апреля 1930 года, написанное им из заключения, которое хранит слова подлинного христианина-мученика, явившегося на земле, чтобы сделать ее Небом.
«…Я — убежденный православный христианин и священник, — писал он своим врагам, — избравший таковую деятельность по внутреннему произволению. Мои религиозные убеждения сложились под влиянием воспитания меня в религиозной семье и образования в духовной среде, законченного в Духовной Академии. Получив такое воспитание и образование и имея полную убежденность в истинности христианского вероучения и морали, я по внутреннему влечению избрал для себя деятельность священника как наиболее соответствуюшую таковым убеждениям и благоприятствующую практическим целям христианской религии — устроению жизни на началах Евангельского учения любви к Богу и человеку, нравственному возрождению и достижению спасения в вечной жизни…» (там же, с. 36).
За свою трудную, но истинно христианскую, исповедническую жизнь отец Григорий и матушка Нина, воспитанные на примере родителей, прославленных ныне в лике святых, собрали огромную библиотеку из рукописных и машинописных текстов, часть которых печатается в новой книге «Лилии полевые. Крестоносцы». И мы верим, что архимандрит Ардалион и отец Сергий Увицкий вместе с нашим отцом Григорием невидимо предстоят сейчас Престолу Божию и молятся Господу Иисусу Христу, умилостивляя Его о нашем спасении. Аминь.
Ольга Пономарева
Крестоносцы
Повесть Толшевского[1]
Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною…
И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником.
Святки. Отец Митрофан Радугин, священник села Белые Гари, целый день ездил по приходу со «славой».
Возвратившись домой усталый и переодевшись в легкий подрясник, он вошел в столовую, где за самоваром сидела матушка, Васса Никаноровна, и разливала чай. Перекрестившись истово на иконы, отец Митрофан сел к столу и тяжело вздохнул. Видимо, какое-то недовольство тяготило его душу и отцу Митрофану хотелось высказаться, но он поборол себя и стал молча пить чай. Да и устал он после славления, лень было говорить.
— Хорошенько бы прошел завтра вечер, — вздохнула матушка и почему-то так посмотрела на мужа, будто ожидала, что именно он и может помешать этому.
— Ну, мать, напрасно затеяла ты эту суматоху с гостями, — тихо уронил отец Митрофан. — Не люблю я этой суеты. Да славление еще не кончено. Завтра я до самого вечера пробуду на приходе, а возвращусь — гости уже съехались. Крик, шум… И отдохнуть вовсе не придется.
Легкий упрек слышался в голосе отца Митрофана, и упрек этот рассердил матушку. Лицо ее покрылось розовым румянцем, а глаза строго устремились на отца Митрофана, и в них забегали острые огоньки.
— Уж если ты ничего не понимаешь, так лучше молчал бы! — внушительно заговорила матушка. — Надо же детям повеселиться! Что ж, по-твоему: всем только и делать, что петь молитвы?
Матушка остановилась, глядя вызывающе на отца Митрофана, словно желая услышать от него утвердительный ответ. Но ничего не сказал отец Митрофан, молча продолжал он пить чай и только опустил голову.
— Нет уж, покорно благодарю! — энергично продолжила матушка и даже стукнула пальцем по краю стола. — Для этого будет свое время. А теперь мы должны о детях подумать, которые подрастают. Не женский же монастырь нам в своем доме устраивать. Верочка уже совсем невестой стала, с осени семнадцатый год пошел, давно пора ее показывать. Да и Дуняше два месяца до шестнадцати осталось. Сам знаешь, Дуняша у нас не очень казиста, надо женихов-то исподволь приваживать.
Больного, видно, места коснулась матушка и еще больше рассердилась, теперь уже больше сама на себя. Она встала из-за стола и громко добавила:
— А то он: на-ка! Видите ли, «суетливости не люблю»! Скажите на милость! Нет уж, позвольте нам тут действовать! Мы лучше знаем, что нам делать!
— Да ну, ну! Я ведь это так сказал. Делайте, как знаете, — испуганно махнув рукою и с виноватым видом ответил отец Митрофан. — Устал в приходе, ну и сказалось. А ты уж пошла… Налей-ка еще стаканчик чайку, — добродушно закончил он.
— То-то, — торжествующе проговорила матушка и, налив стакан чаю, все же с обидой вышла из комнаты.
Ах, если бы знала матушка Васса Никаноровна, что означает для ее воспитанниц строптивость по отношению к словам священника в эти святые рождественские дни и какое крестоношение ждет их вскоре, после устроенных против воли отца Митрофана веселых смотрин…
Отец Митрофан, высокий, благообразного вида священник с большой, длинной бородой и с густыми волосами, плотно сложенный и, по-видимому, обладающий значительной физической силой, производил на всех обаятельное впечатление со своей добродушной улыбкой, которая у него никогда не сходила с лица.
Всегдашняя доброта отца Митрофана, его приветливость решительно ко всему и всецелая, беззаветная преданность великому делу пастырства были настолько для всех ощутительны, что прихожане от мала до велика просто души не чаяли в своем батюшке.
«Наш добрый, добрый батюшка!» — иного названия не было отцу Митрофану во всем приходе. С лишком двадцать лет священствовал отец Митрофан в Белых Гарях. Сжился он за это время со своими прихожанами, полюбил их и знал всех по имени. Даже малых ребятишек почти всех называл по имени; когда бывал с требой в чьем-либо доме, редко кого забудет. И ценили прихожане священника, и искренно любили его в простоте своего сердца.
Особенно же любили отца Митрофана ребятишки. Для них он являлся прямо кумиром! И малыши, и подростки сбегались со всех сторон, как только узнавали, что он приехал в деревню. Ласкаются к нему, обращаются с разными детскими вопросами, берут его руки и целуют. А веселыми, невинными глазами так и впиваются в добродушное, всегда улыбающееся лицо отца Митрофана. И сам он обнимает ребятишек. Кого по растрепанной голове погладит, кого по спине любовно похлопает. Всех приласкает. Бабы обыкновенно отгоняют ребятишек, боясь, чтобы они не надоели дорогому батюшке и не помешали ему поговорить со взрослыми. Но отец Митрофан всегда ласково говорил:
— Не троньте их! Пускай, они мне не мешают!
И женщинам любо-дорого, что батюшка ласкает их ребятишек.
Внутренний распорядок в доме отца Митрофана всецело держался его женою. Тут он уже ни во что не вмешивался, так как хорошо знал, что все равно его не послушают. Конечно, иногда батюшка невольно и выскажет свое мнение, но если видит, что все это не нравится матушке, то и сейчас же скажет примирительно: «Ну-ну, это я так! Думал, хорошо будет! Делай сама, как знаешь. Я не мешаюсь». И матушка Васса Никаноровна знала, что делала. Про нее во всей округе говорили: «Матушка Васса умеет дом держать! Умеет и гостей принять!».
Довольно миловидная на лицо, среднего роста, коренастая, с плавными движениями, она всюду, где ни появлялась, вселяла уверенность, что ее действия и распоряжения безошибочны и целесообразны. Она и сама всегда была в этом уверена. Отличаясь по природе наблюдательностью и изрядной долей здравого «житейского» смысла, она знала цену решительно всему, легко, как ей казалось, умела определять достоинство людей и встать к каждому в должные, выгодные для нее отношения.
* * *
Детей у отца Митрофана, кроме единственной дочери Дуняши, не было. Дуняша училась в последнем классе епархиального училища. Здоровая и крепкая, как мать, лицом она была некрасива, хотя и не безобразна. Главным недостатком, который портил ее лик, были довольно пухлые губы. Когда она молчала, то казалась как будто весьма чем-то недовольной. Дуняша хорошо сознавала, что она некрасива, и бессознательно чувствовала, что едва ли ей в жизни представится возможность иметь опору в чьей-либо мужской руке, чтобы вдвоем с суженым разделить радости и тяготы жизни. Но, умная и трудолюбивая, как мать, добродушная и ласковая, как отец, она не тяготилась, однако, своим физическим недостатком. Она просто свыклась с ним.
Учась последний год в училище, Дуняша мечтала быть сельской учительницей и в разговорах с подругами часто высказывалась, что учительствовать ей придется, быть может, всю долгую жизнь.
В семье отца Митрофана жила еще одна девушка — его племянница Верочка, дочь его умершей сестры, вдовы незначительного чиновника казенной палаты. Одиннадцати лет отроду Верочка осталась круглой сиротой. Кое-какие близкие родственники со стороны отца и были у нее, но все они — бедняки, которые едва перебивались собственными семьями. Приютиться поэтому одиннадцатилетней сиротке было почти негде. Отец Митрофан по своей всегдашней доброте и решил взять Верочку к себе, как бы в дочери. Имущество же, которое осталось после смерти ее матери, отец Митрофан частично продал или роздал родным, а кое-что забрал и увез к себе на хранение — на случай, если когда-нибудь пригодится Верочке.
Приняв на себя заботу о племяннице, отец Митрофан устроил ее на время учебы на квартиру у одного многодетного родственника, городского диакона. Училась она в гимназии — в том же городе, где было местное епархиальное училище. А на каникулы и в выходные приезжала в деревенский дом отца Митрофана, который стал ей родным.
Верочка Серебрякова (такова была ее фамилия) и раньше, до своего сиротства, не раз гостила у своего дяди, отца Митрофана, в деревне. А потому Дуняшу она давно знала и была с ней в дружбе. Дядю же и тетю она любила как своих родителей. И вполне довольна была бы Верочка своим положением, если бы не мысли о преждевременной кончине ее мамы, которые часто томили ей сердце. Но маму постаралась заменить добрая Васса Никаноровна. А отца своего Верочка совсем не помнила — когда он умер, ей шел второй год.
У отца Митрофана девочке жилось хорошо. В этом доме она незаметно выросла и превратилась в стройную и красивую, жизнерадостную девушку. Будучи в последнем классе гимназии, Верочка имела определенное намерение по окончании гимназии продолжать свое образование на высших педагогических курсах, чтобы поступить затем учительницей в родную гимназию. Намерение это постепенно крепло, и, когда Верочка окончила гимназический курс, оно окончательно созрело. В деревню к дяде Верочка поехала уже с твердым намерением во что бы то ни стало осуществить свой план ближайшей осенью. Так думала Верочка, но не так вышло на самом деле…
По приезде в деревню тонкая и эмоционально настроенная девушка душою сразу же влилась в чудную сельскую природу, захватившую ее поэтический ум, и перспектива остаться в шумной суете столицы на какое-то время потеряла для нее всякую привлекательность. А практичная Васса Никаноровна, заметив это, предложила:
— Отдохни, Верочка, эту зиму. Наберись побольше сил. А если будет у тебя желание, то на следующее лето справим тебя на курсы. К тому времени как раз и Дуняша окончит. Может, вместе и поедете… И нам с батюшкой будет веселее. А то все одни да одни! Оставайся, право!
Она с такой любовью посмотрела на Верочку, что та, не сдержавшись, порывисто бросилась ей на шею, горячо поцеловала и, ничего не сказав, быстро убежала из комнаты.
* * *
Отец Митрофан, усталый, спит сном праведника. Завтра ему опять надо будет славить целый день по приходу. Тихо в спальне, только изредка потрескивает лампадка в большом углу перед старинным киотом с иконами. Слабый свет ее тихо разливается по комнате и падает на изголовье кровати, которая находится под самыми иконами. В углу под киотом, на круглом деревянном столике лежит истрепанный и засаленный от долголетнего употребления молитвенник, а рядом с ним — толстый огарок восковой свечи. Лики Спасителя и Божией Матери как будто с любовью смотрят на спящего отца Митрофана. Словно помнят они, сколько раз за двадцать лет, стоя перед Ними с этим молитвенником в руках, проливал он слезы умиления и возносил горячие молитвы о своих грехах и о людских невежествах. Много сердечных воздыханий о чужом горе, много пламенных благодарений за Божии благодеяния возносились у этого столика и днем и ночью. В самом воздухе спальни как будто носятся шептания священнических молитв, которые привлекают на людей неиссякаемую благодать Божию.
На задней стене, на вешалках — рясы и подрясники отца Митрофана, пропитанные кадильным дымом. Все они — немые свидетели ревностного служения батюшки Богу и людям. В складках облачений незримо таятся задушевные и сокровенные тайны духовных детей отца Митрофана, и эти тайны отец Митрофан возвещает Богу. Сколько раз широкие рукава этой священнической рясы любовно покрывали головы кающихся грешников! Сколько раз под их покрытием, при тихой молитве батюшки, падали с людских душ великие тяжести. Сколько счастья зарождалось под этими рукавами в душах вступающих в брачную жизнь через благословение Божие рукою отца Митрофана! Много тайн хранят эти одежды!
Тихо и безмятежно спит отец Митрофан. Может быть, во сне ревностная душа его возносит хвалу Богу! Такова его праведная жизнь!
Тихо спит отец Митрофан, словно и нет ему дела до того, что совершается в других комнатах, вдали от его тихой спальни. А там происходит нечто противоположное, к чему не лежит и с чем не мирится душа ревностного пастыря. Там — совершенно иная картина.
— Ну совершенный купидон! Матушки мои… Глаз оторвать нельзя, все бы и смотрела! С ума сведешь завтра кавалеров-то! — глядя на Верочку, одетую в самодельный маскарадный костюм, говорила просвирня Анна Егоровна, хлопая себя по бедрам и захлебываясь от восторга. — Крылышки-то, крылышки так и шевелятся! Матушки мои! Ан вон и улетит! — причитала Егоровна.
— Не кричи ты, Анна! Еще отца Митрофана разбудишь, — серьезно произнесла матушка, которая стояла на коленях на полу около Верочки с ножницами, чтобы удобнее было подровнять, где нужно, костюм.
— Ну, теперь, кажется, все готово! — наконец сказала она, вставая и оглядывая Верочку со всех сторон.
— Так ты уж, Анна Егоровна, приходи завтра помочь нам при гостях, — собираясь уходить, почтительно обратилась матушка к просвирне. — Без тебя-то что мы сами станем делать?
— Да как же, ненаглядные мои! — закланялась просвирня. — Приду, непременно приду.
— А ведь хорошо, что мама придумала маскарадные костюмы, — сказала Дуняша, когда матушка ушла спать и барышни остались одни. — Под маской свободнее себя чувствуешь. А то эти противные губы так стесняют, что не знаешь, что и говорить. То и думаешь, что с тобою говорят только из милости. А ведь под маской и я повеселюсь. Что делать! На папуську похожа! — тяжело вздохнув, но со смехом закончила Дуняша.
Верочка обняла ее и крепко поцеловала, прибавив:
— Ну, полно! Глупости!
Они немного помолчали.
— А у меня какое-то беспокойство начинается, — продолжала Верочка. — Я перестала думать о курсах… В самом деле, чего я выжидаю тут, в селе Белые Гари? Как будто гимназию кончила для того, чтобы никуда не двигаться? Право, как-то стыдно признаться, что отдыхаю здесь. Всякий подумает, что я напрасно год теряю, и сочтут за лентяйку. Пожалуй, скажут так, что глупеть начала.
— Ну, завтра повеселимся, а там видно будет, — успокоительно сказала Дуняша. — Приедет Саша из Дубняков с братом. Ты ее немного помнишь — веселая такая. И брат у нее хороший. Приедет отец Иван с матушкой и с ним брат отца Ивана, тоже семинарист. Будут семинаристы из Пугачихи. Там их, кажется, целая дюжина! Есть там Петруша Козырев. Препотешный!
— Ну, давай спать, мало ли есть на свете потешных. Мы ведь тоже препотешные, — притворно зевая, сказала Верочка. — Надо к завтраму хорошо выспаться.
Самой же Верочке не спалось. Нахлынуло что-то и как будто затягивает. «Воля совсем теряется. Плывешь, точно волна какая несет тебя, и сил нет. Да, кажется, и охоты нет противиться ей! Куда несет? Не все ли равно? Куда-нибудь да вынесет! Но ведь цель жизни теряться начинает, — думала тревожно Верочка. — Живешь изо дня в день — и все одно и то же! Сытно, тепло, по временам развлечения. Иногда в гости съездишь. А впереди?»
Мысли Верочки перепутались, и она стала дремать. Засыпая, думала: «Тетя говорит: “Не отшельницами же вам быть с Дуняшей”. Ну а что же? Судьбу свою ждать? Суженого? Его, говорят, и конем не объедешь. Да и дело все в том, где поедешь. Если здесь будешь сидеть да с семинаристами маскарады устраивать, так нечего тут на коне объезжать суженого — как раз за священника или диакона угодишь! А там сиди век свой в какой-нибудь Глухарихе, — тяжело вздохнула Верочка, — и сама будешь рада-радешенька устраивать для кого-нибудь маскарады…».
— Вставать пора, Верочка! — прибежала Дуняша и начала тормошить заспавшуюся подругу. — Вставай! Я уже давно и кофе напилась, и на улицу сбегала, и кружева к рукавам платья пришила. Папа давно уехал, и мы одни с мамой. Десять часов, вставай скорее! Ведь после двенадцати надо быть совсем готовыми к встрече гостей. Отец Иван Варнавин с матушкой у нас с двух часов бывает.
— Эх, как тебя захватило! — энергично потягиваясь, весело ответила совсем проснувшаяся Верочка и начала быстро одеваться.
Комнаты дома отца Митрофана приняли торжественный вид. Все, чем можно было блеснуть пред гостями, Васса Никаноровна умела выставить напоказ. Мебель была покрыта накидочками и ковриками искусной, изящной работы, как ее собственных рук, так и дочери и племянницы. В буфетном шкафу со стеклянной дверкой блестел на виду не один серебряный чайный сервиз и золоченые большого формата тарелочки, подносы. На столах заботливо были расставлены вазочки со всевозможными печеньями и разного рода вареньем. Васса Никаноровна окинула все опытным взором и осталась довольна.
* * *
«Какой славный юноша этот высокий неизвестный! И какой умный. Вот с кем бы не скучно было проводить время! Кажется, может поговорить решительно обо всем. И как все интересно рассказывает! А голос какой приятный, ласкающий — так и вызывает доверие. И внешне очень хорош, даже несмотря на то, что лицо его скрывает маска. Кажется, это семинарист. Но откуда и кто он, не сказал. С тем, говорит, и приехал, чтобы не открываться. Нельзя, их четверо. Уговорились они…»
Все четверо неизвестных были в масках, и за весь вечер никто так от них и не допытался, кто они и откуда. Весь вечер они без устали танцевали. И выпивать не отказывались. Повеселившись до полуночи, а затем поблагодарив хозяев, уехали в ночь.
«Да кто же это и откуда?» — тщетно искала ответа Верочка и не находила. Да и найти этот ответ было трудно. В село Залесье, в десяти верстах от Белых Гарей, к диакону Гавриилу Заведееву приехал на Святки брат, семинарист пятого класса Андрей Иванович. Отец диакон служил в Залесье только второй год после окончания семинарского курса. Приехал он издали, ни с кем еще не познакомился и ни у кого из местного духовенства в гостях не бывал. Соседи знали, что есть в селе Залесье диакон Гавриил Заведеев, но, каков он, что за человек, никто не знал, да и не интересовался никто. А человек отец Гавриил был очень хороший — умный, благодушный, общительный. Любил поговорить о высоких материях, но как человек молодой и притом новый, он не находил себе единомышленников.
Вот к этому-то дьякону, когда у него на Святках гостил брат Андрей, приехали из соседнего села за восемь верст двое знакомых ему семинаристов-шестиклассников, чтобы провести денек-другой. Когда Заведеев был еще в шестом классе семинарии, они были в пятом и дружили с ним. Теперь же с удовольствием прибыли навестить на праздник приятеля. Приехал к ним еще и четырехклассник, сын псаломщика из того же села.
Во время этого кратковременного пребывания у Заведеевых семинаристы как-то случайно узнали, что в Белых Гарях у отца Митрофана состоится большая вечеринка и будет много приглашенных, а значит, и веселья хватит на всех.
— Съездим-ка, братцы, — сказал один из семинаристов, — лишние не будем. Никто нас там не знает. Несомненно, на вечеринке будут и семинаристы. Чтобы не быть узнанными ими, хорошо замаскируемся.
Сказано — сделано.
Матушка-дьяконица сделала из черного коленкора четыре отлично закрывающих лицо маски, в селе раздобыли у крестьянских парней четыре кумачовых рубахи — и костюмы были готовы. В них решительно нельзя было узнать даже хорошо знакомого человека.
Семинаристы решили строго сохранять свое инкогнито и, чтобы никто не узнал, откуда они прибыли, поехали на вечеринку без кучера, который мог бы нечаянно проболтаться. Приехав в Белые Гари, они поставили лошадь на чужом дворе, у псаломщика, задав ей побольше корму. Явившись в дом отца Митрофана в самый разгар веселья, четверо одинаково одетых и замаскированных молодых людей произвели полную сенсацию среди гостей и хозяев. Непринужденно разговаривая со всеми и отвечая на разные вопросы, новоприбывшие лишь упорно молчали о том, кто они и откуда прибыли. Даже барышни никакими хитростями не могли выпытать у них эту тайну. Все, разумеется, догадывались, что это семинаристы, но и только. Семинаристы из ближних сел были все налицо, а новеньких никто не мог узнать, и от этого интерес к ним все увеличивался.
Весело и беззаботно проводили время неизвестные. Однако для одного из них этот памятный вечер оказался роковым — именно сегодня молодой человек, сам того не ведая, взвалил на себя тяжкий крест, который ему пришлось донести до самой могилы.
* * *
Верочка Серебрякова, племянница отца Митрофана, была привлекательнее всех местных барышень, гостивших в этот день в доме Вассы Никаноровны. В течение всего святочного вечера она отдавала предпочтение одному из неизвестных семинаристов, а именно Андрею Ивановичу Заведееву. Он показался ей настолько интересным и привлекательным, что она даже попросила его открыть свое лицо. Так как Андрей Заведеев был из дальнего уезда и в этих краях находился в первый раз, то его, конечно, здесь никто не знал. Поэтому он охотно снял перед Верочкой свою маску. Всего на одну минутку. Увидев красивое лицо своего собеседника, Верочка была приятно удивлена, и не было ничего странного в том, что после этого знакомства молодые люди по-особенному крепко пожали друг другу руки.
Это рукопожатие и стало для Андрея роковым. Несмотря на двадцатилетний возраст, сердце его еще ни разу не трепетало так странно, хотя он уже много раз встречался с барышнями, среди которых были и очень красивые. Даже гораздо красивее этой барышни — хозяйки дома. Но как будто именно ее и ждало его сердце. Ей отдалось оно сразу, безраздельно.
Так ничего о взаимном влечении и не сказали друг другу молодые люди, но одинаково тонко почувствовали при расставании, что они — свои. Андрей Иванович уехал с того вечера с измененным сознанием. До сих пор он всецело был занят семинарской учебой и совершенно не думал о том, что ждет его впереди. Теперь же на всякую его деятельность чувство, охватившее его, набрасывало особый колорит, сообщавший будущему некоторую определенность. Андрей Иванович был уверен, что с этой барышней они созданы друг для друга.
* * *
Время шло своим чередом.
Андрей Иванович Заведеев в самые горячие дни учебных занятий в семинарии и в среде шумной и беззаботной жизни учащегося юношества носил в себе свою заветную тайну. Теперь он уже не представлял себя одиноким и думал, что учится в семинарии не для себя только, а и для той, близкой ему.
Жизни без нее уже не было. И от сознания этого на душе у Андрея Заведеева было восторженно, радостно.
Так проходило время. Приближалось уже окончание курса. Андрей чувствовал себя наверху счастья, будучи уверен, что скоро осуществится его заветная мечта, которую он носит в сердце вот уже полтора года: милый образ, так широко захвативший его жизнь, скоро станет реальностью и сделает легким и радостным его жизненный путь. Почти каждый день Андрей заходил, хотя бы ненадолго, в приходскую церковь и горячо молился о себе и о той, которая должна была разделить с ним радость и горе до конца жизни.
Он живо представлял себе ее. Вот она стоит перед ним, и ясный взгляд ее глаз говорит ему: «Да, я пойду с тобой по жизни и никогда не покину тебя» — и от этого радостно, хорошо делалось у него на душе. Все мечты о продолжении образования в высшем учебном заведении, которые когда-то сильно занимали Заведеева, теперь были им совершенно оставлены. Его всецело захватило другое… Он начал горячо говорить товарищам о святости и величии пастырского служения и о том, что не следует оттягивать время своего вступления в это великое служение.
«Молодой, только что со школьной скамьи, еще не испорченный жизнью, с идеальными взглядами пастырь, — говорил Заведеев, — сразу же свято отнесется к своему высокому служению и сопряженным с ним обязанностям. Его непорочное сердце как бы непосредственно от Самого Бога будет воспринимать из Евангелия главы Живота Вечного. Он весь проникнется апостольским духом и неослабно, с дерзновением будет вещать Божественное учение словесному стаду…»
Товарищи поняли, что Андрей окончательно решил идти на служение Богу в сане священника. Так оно и было на самом деле. Заведеев действительно готовился вступить на этот святой, великий, но вместе с тем и тернистый путь. Проповедуя товарищам в семинарии о величии пастырского служения, он в последнее время так возогрел в себе желание пастырства, что по окончании курса сразу же подал прошение о назначении его на священническое место и через полтора месяца уже получил указ консистории.
Прочитав указ, Андрей Иванович было искренно обрадовался, но вдруг пришел в крайнее смущение. И было отчего. Только теперь он сообразил, насколько смешон и наивен; ведь он имеет невесту, образ которой носит в своей душе второй год, даже не зная ее имени! Но непростительнее всего было то, что, тщательно скрывая от всех всецело захватившее его чувство к случайно встреченной барышне, он никогда не наводил о ней справок, чтобы не выдать себя, и теперь не знал, свободна она или нет. «А что если она уже вышла замуж? — ужаснулся Андрей. — Ведь идет уже второй год! Что тогда будет?» И на душе его стало холодно и тоскливо. «Да что же это я, наконец! — одумался он. — Ведь надо действовать. И как можно скорее!»
В тот вечер Андрей написал подробное письмо отцу Митрофану Радугину в Белые Гари, в котором говорил, что получил священническое место и желает жениться на его дочери, руки которой он просит теперь для скорости письменно. Лично явиться в Белые Гари Андрей Иванович обещал через несколько дней. Ответ же просил послать на его имя в село Залесье дьякону Гавриилу Ивановичу Заведееву.
Отправив письмо, он начал собираться в поездку в Белые Гари и целыми днями только и думал о том, как встретит его невеста, которую он так долго ждал.
* * *
Получив письмо, отец Митрофан сильно удивился, что какой-то ему совершенно неизвестный Андрей Иванович Заведеев просит руки его дочери. «Хорошо, что претендент в зятья поступает в священники. Это меня радует, — думал отец Митрофан. — Будем служить Богу, а главное, будет кому нас поминать! Свой молитвенник — великое дело! А что вот Верочка?! Вышла за инспектора народных училищ. Живут в городе, ходят по театрам накануне праздников. Сама пишет, что жаль тихой жизни».
«Так! Значит, Андрей Иванович Заведеев! — произнес, рассуждая сам с собой, отец Митрофан. — Ладно. Что вот мать только скажет? Как решит? А я что? Я — ничего, если хороший человек. С Богом! Главное же — в священники» — и, запев вполголоса «Кто Бог велий, яко Бог наш!», отец Митрофан пошел в другую комнату, где находились матушка с Дуняшей за какой-то работой.
— Вот, мать, письмо получил. Читай-ка. Что скажешь? — говорил он. — Подумайте, потолкуйте, да и решите сами. Ответ нужен немедленный.
Отец Митрофан медленно вышел, а Васса Никаноровна принялась за чтение письма.
От первых же строк письма матушка пришла в сильное волнение. От неожиданности у нее даже задрожали руки.
— Твоей руки просят, Дуняша! — выпив воды и пройдясь два раза по комнате, наконец сказала матушка трогательно-дрожащим голосом и, подойдя к Дуняше, крепко и порывисто поцеловала ее.
Дуняша как-то кисло улыбнулась.
— Верно, по ошибке… — шутливо уронила она и затем прибавила уже серьезно: — Кому же я могла, правда, понравиться?
— А вот слушай! Сама увидишь, — и матушка начала вслух читать письмо:
«Достопочтеннейший отец Митрофан!
Назад тому полтора года я был у Вас на Святках, на вечере в числе замаскированных семинаристов. Но Вы и никто из ваших меня не знаете. А между тем с тех пор я не переставал о Вас думать. Вам это покажется, конечно, странным, и вполне естественно, но Вы поймете меня, когда я скажу, что Ваша дочь произвела на меня сильное впечатление. Я тогда же решил, что мне не надо лучшей подруги в жизни.
В настоящее время мне предоставлено священническое место в селе Вознесенском, что на Высокой горе, и указ на вступление в брак мною уже получен. Итак, время приспело, и я прошу руки Вашей дочери. Не откажите.
Письменный ответ прошу прислать на мое имя в село Залесье, к моему брату Гавриилу Ивановичу Заведееву. А через несколько дней я приеду к Вам лично.
В ожидании ответа с глубоким почтением к Вам имею честь быть Андреем Заведеевым».
— Вот они, замаскированные-то! — в волнении заговорила матушка. — Помнишь, Дуняша, никто не мог их узнать. Всяко пытались, но ни один не проговорился! Повеселились, да и уехали! А вот один из них свою судьбу здесь нашел. Истинно, суженого и конем не объедешь!
— Не знаю, мамочка! Мне кажется, что тут как будто что-то не то, — в недоумении сказала Дуняша. — Зачем, в самом деле, обманываться? Ведь ты сама знаешь, что никому нет охоты увлекаться мною? Ужели ты, — продолжала Дуняша, — можешь думать, что я кому-нибудь понравилась? И понравилась настолько, что обо мне только и думали целых полтора года. Лучше ему, видишь, и не надо подруги жизни. Нечего сказать, нашел красавицу! Умора, да и только. Это, я скажу тебе, мамочка, или сам он на обезьяну похож, или же совершенно глупый! За того и за другого кто замуж пойдет? Вот он и метит таких уродин, как я.
— Полно пустое говорить! — возразила матушка. — И совсем ты не уродина! Посмотри-ка вон! Совершенно безобразные и те выходят замуж. И живут счастливо. Да еще важничают как! За примером ходить недалеко. Матушку отца Петра, из Котлова, знаешь? Ведь уродина уродиной, — с явным пристрастием рассуждала Васса Никаноровна, — а отец Петр: «Нюрочка» да «Нюрочка!» — точно лучше ее для него на свете никого нет. А ведь сам мужчина видный! Так что не говори пустого! Уж если делают тебе такое решительное предложение, значит, ты понравилась чем-то?
— Конечно, есть и хуже меня, — согласилась Дуняша, — но трудно поверить, чтобы этот самый Андрей Заведеев за всю свою жизнь не встречал ничего лучшего. Будь правдива, мамочка! В моей наружности трудно найти что-нибудь привлекательное, а хорошие, душевные качества если бы у меня и были, то случайный замаскированный семинарист едва ли успел в какой-нибудь час заметить и достаточно оценить их.
— Ну, об этом толковать много нечего! — начиная горячиться, заявила матушка. — Значит, что-нибудь да понравилось жениху! Решай вот, да отцу ответ дать надо. Видишь, требует безотлагательно. Диакона-то Гавриила Заведеева из Залесья, — задумчиво прибавила матушка, — я видела: видный мужчина. Если и брат похож на него, значит, он очень красивый. Так что ты скажешь, Дуняша? — остановилась она перед дочерью. — Ведь Сам Бог посылает жениха!
— Да я, конечно, не давала обет безбрачия, — раздумчиво ответила Дуняша. — Но заочно дать слово не могу. Как приедет, тогда и видно будет. За урода или за какого-нибудь неряху, а тем более за невоздержанного в напитках, прямо скажу, не пойду. Лучше век учительницей быть, чем всю жизнь переживать свою тяжелую, горькую долю с нелюбимым человеком.
В тот же вечер в Залесье было послано письмо. Отец Митрофан приглашал Андрея Ивановича к себе, уверяя, что он и его семья очень польщены предложением руки и сердца его дочери. Родители действительно были в высшей степени рады, что находится жених для Дуняши. Ведь столько времени никто даже не изъявлял желания сделать малейшее поползновение в этом направлении.
* * *
— Вот не ожидал я от тебя, Андрей, что ты сейчас же по окончании курса пойдешь в священники! — с удивлением говорил диакон Гавриил Заведеев только что прибывшему к нему брату. — Ведь ты в Академию все собирался поступать. Что же ты изменил свое решение? Конечно, я рад и отговаривать тебя не стану, но все-таки хочется знать причину перемены таких давнишних намерений.
— Невесту боюсь прозевать, — весело заговорил Андрей Иванович. — И ей, и мне долго ждать не стоит. А священство для меня всегда было привлекательно. Значит, одно к одному, и откладывать не стоит. Невеста моя тут по соседству, — продолжал он, — в Белых Гарях. Отца Митрофана дочь. Я уже писал, что приеду на днях. Вот вместе с тобой и поедем.
— Что за сказки ты рассказываешь! — удивился диакон. — Когда же ты познакомился со своей невестой? Ведь ты почти и не бывал у них. Где же ты успел узнать о ней?
— Отца Митрофана я видел, но семьи его не знаю! — прибавил после недолгого молчания диакон. — Кто же у него в семье есть?
— Да я, собственно, не знаю, велика ли семья отца Митрофана, — конфузливо ответил Андрей Иванович. — А с его дочкой я познакомился у них на вечере, в тот единственный раз, как гостил у вас на Святках.
— Значит, с тех пор вы переписывались?
— Ни одного письма не написали друг другу. Да я ничего и не слышал про свою невесту. Так же и она не знала, что я решил идти в священники и непременно жениться на ней.
— Что за чушь несешь, Андрей! — теперь уже заволновался диакон. — Друг друга не знаете, а браком сочетаться хочешь! Один раз встретил, ты был в маске и, по всей вероятности, не сказался, кто ты и откуда? Значит, она тебя совсем не знает. Ты тоже ее не знаешь, а только видел ее, может быть, танцевал с ней. А знаешь ли ты, как зовут-то ее, твою невесту? Пожалуй, и это забыл спросить?
— И правда, не знаю. В голову не приходило спросить об этом, — густо покраснев, сказал окончательно сконфуженный Андрей Иванович.
Диакон только руками развел и, комически изображая страдание на лице, посмотрел на жену.
— Ну уж, должно быть, и жар-птица твоя невеста, за которой мы намерены с тобой отправиться! А не надо ли каких особых приспособлений, чтобы изловить ее благополучно и посадить в клетку? — расхохотавшись наконец, закончил диакон.
— А вот увидишь, увидишь… — загадочно улыбаясь, сказал Андрей Иванович.
— Утро вечера мудренее, — заметил диакон. — Слышали начало удивительной сказки, дождемся и конца. А пора, пора уже спать.
Конца этой сказки диакон дождался через несколько дней, когда пришло письмо от отца Митрофана и когда они, пообедав, отправились в Белые Гари.
* * *
В доме отца Митрофана еще издали заметили подъезжающих гостей и приготовились к должной встрече. Матушка, Васса Никаноровна, постаралась принять торжественно важный вид. Она хотела показать, что они с выдачей дочери здесь в замужество не спешат, хотя, с другой стороны, и противиться не намерены, если жених соответствует невесте.
Кроткий отец Митрофан радушно встретил гостей при входе их в дом; матушка же вышла из другой комнаты уже тогда, когда отец Митрофан, излив все свои приветствия, поздоровался с прибывшими. Произошло взаимное представление. Прибывшие и хозяева остались взаимно довольны произведенным друг на друга впечатлением. Завязался обычный в таких случаях разговор: у кого какая родня, где она живет и где служит. Матушка отозвалась очень одобрительно о том, что Андрей Иванович задумал сразу же по окончании курса принять священнический сан, а то нынешние семинаристы не торопятся, да многие и совсем не имеют желания быть в духовном звании.
— Вы, отец диакон, — обратилась она к Заведееву, — тоже еще очень молодой. И не раскаиваетесь, что рано встали на такой путь?
— Да я из-за невесты, — шутливо ответил тот. — Боялся, чтобы не прозевать! Тоже вот, как брат, сразу же по окончании курса женился и сразу рукоположили во диакона.
Посреди этого разговора в комнату вошла Дуняша. Смущенная и растерявшаяся, она забыла все наставления матери относительно того, как надо держать себя при гостях. Да и было отчего. Она имела все данные думать, что жених должен оказаться или глуповатым, или уж очень неказистым и нескладным. А взглянув на него, она просто обомлела: перед ней был на редкость симпатичный и даже красивый молодой человек.
— Наша дочь! — взяв Дуняшу за руку, представила ее гостям Васса Никаноровна, а затем слегка пожурила: — Что ты так долго заставила ожидать тебя! Мы тут всю родню узнали друг от друга! Оказывается, отец диакон — родной брат Андрея Ивановича и наш близкий сосед. До Залесья от нас всего десять верст!
Васса Никаноровна внимательно взглянула на жениха. Андрей Иванович, вдруг смертельно побледневший, обтирал платком градом катившийся с лица холодный пот, и, когда Дуняша приблизилась к нему, он едва смог протянуть ей руку.
Все почему-то сразу почувствовали себя неловко, а жених еле-еле удерживался, чтобы не заплакать. Ужасное состояние, какое он переживал в эту минуту, описать было невозможно. До сих пор радостный, под влиянием ожидания скорой встречи с той, образ которой он так долго носил в своей душе, Андрей был теперь смертельно поражен в самое сердце и чувствовал, что силы его совершенно оставляют. Страшным усилием воли ему удалось, однако, сдержать отчаянный вопль, готовый вырваться из стесненной груди, и мало-помалу он овладел собой.
За эти несколько секунд Андрей пережил невыносимую душевную драму. Теперь все дорогое, обещавшее в его жизни одни только радости, без остатка погибло для него. Его давила нестерпимая мысль: «Все пропало». Но ужаснее всего было то, что это смертельное крушение, в котором бесповоротно погибало его счастье, необходимо было скрыть от всех! Надо было показать вид, что ничего особенного не случилось, а произошла неловкость, неожиданно произведшая во всех некоторое смущение.
«Но и после крушения надо жить! — неслось в голове Андрея Ивановича помимо его сознания. — Господи, помоги мне все принять со смирением. Жизнь моя будет теперь крестоношением. Но, видимо, промыслом Божиим уготовано мне это испытание…»
Однако перед его внутренним взором стояла другая невеста, которою пленилось и жило полтора года его сердце и мечты о которой изменили намеченный им ранее план жизни. Насколько та была очаровательна и мила, настолько эта прямо противоположна. И это чувство надо было скрыть! Как мимолетная молния отдаленной грозы еще мелькала в душе Андрея Ивановича надежда на то, что его желанная невеста, другая дочь отца Митрофана, появится вдруг в этой комнате или же он узнает, что она в данный момент отсутствует и находится где-нибудь в гостях у родственников или знакомых. Но такое предположение ему самому казалось совершенно нелепым — как же, ждали жениха к определенному времени, а невесту в гости отпустили? И тоска все больше и больше овладевала его сердцем.
«А может быть, она заболела и сейчас кто-нибудь скажет об этом?» — еще одна мысль робко блеснула в его сознании.
— Единственная у нас дочь! — похлопывая Дуняшу по плечу и расплываясь в улыбке, громко сказала Васса Никаноровна, желая этим, очевидно, подчеркнуть, что невеста, Дуняша, — не бедная.
— Единственная! Других детей у нас не было… — как бы торжествующе подчеркнула матушка.
«Кто же та, другая, которая навсегда пленила мое сердце? — жгучий вопрос повис в сознании Андрея. — Как же я был тогда ослеплен, что даже не потрудился узнать имени той, которую решил назвать своей! А ведь это было так просто! — думалось Андрею Ивановичу. — Стоило только спросить у нее, кто она такая и как ее имя, тогда счастье мое было бы обеспечено». Она сама в тот вечер высказала ему явные признаки расположения и даже попросила показать из-под маски лицо. Он ясно и живо помнит, как после этого они нежно пожали друг другу руки и этим как бы навсегда скрепили союз, не оформленный словами. Очарованные друг другом, они почти молча сидели рядом, лишь по необходимости перебрасываясь немногими фразами, нисколько не относящимися к их душевному состоянию.
«Что же делать? Как выяснить положение?! На что решиться?» — вихрем неслось в голове Андрея Ивановича. Он чувствовал, что эти страшные вопросы требуют немедленного, сиюминутного разрешения, и без решительного ответа на них жизнь его как бы останавливалась. «Что же, на самом деле, делать? Узнать, где та, желанная невеста?» — снова блеснуло в его сознании. Но спросить об этом можно было только у отца Митрофана или его семейных. А сделать это было нельзя без кровного оскорбления всей семьи отца Митрофана, которая уже и без того смущена его крайне расстроенным видом и чувствует, несомненно, что Дуняша, а не кто другой, произвела на Андрея Ивановича неблагоприятное впечатление. «Прямо сказать, что я ошибся, — думалось Андрею, — тоже нельзя: сам же письмом просил у отца Митрофана руки его дочери! А ведь дочь-то у него оказалась единственная! Сознаться, что за дочь отца Митрофана я принял какую-то другую барышню? Спросят, кого же? Да и что подумают о человеке, столь легкомысленно решающем такой первостепенный жизненный вопрос, как выбор подруги жизни!»
«О, если бы знать, где та, другая? — мучился в душе Андрей Иванович. — Тогда для меня было бы все ясно. Знал бы, как поступить мне в теперешнем безвыходном положении! Тогда я честно сознался бы в своей непростительной ошибке и обратился бы к той, другой…»
— А у нас Дуняша собиралась на следующей неделе на Оку, — заговорила матушка, стараясь разнообразить разговор, чтобы чем-нибудь заинтересовать гостей и рассеять общую неловкость, которую испытывали все вследствие странной перемены, происшедшей с Андреем Ивановичем. — Там чудные места, как пишет племянница. Это наша воспитанница. Сиротой мы ее взяли лет двенадцати. Осталась, знаете ли, без отца и без матери! Училась уже в гимназии. Так у нас и выросла, и курс гимназии окончила. Росла вместе с Дуняшей. Собиралась было ехать учиться на высшие курсы, да все откладывала. Сначала мы думали, что с Дуняшей ей не хочется расставаться, а потом оказалось, сама не знает из-за чего. Дуняша стала ее звать ехать на курсы вместе, и вдруг она решительно отказалась! Вот не угодно ли?! — развела руками матушка. — Да что-то захандрила и сама не своя стала… Ныне зимой, слава Богу, замуж выдали. За инспектора народных училищ. На Оку… Он был учителем гимназии, где Верочка училась, и человек хороший. Что же, казалось бы, надо радоваться. И должность видная. А она вдруг уперлась. Да так, что все диву дались. Не хочу, говорит, выходить замуж! Едва-едва уговорили, и то почти насильно принудили. А теперь вот живут хорошо. Письмо недавно прислала, зовет к себе Дуняшу погостить. На Оке, пишет, очень красиво, хорошо. Только скучает все что-то! Оттого и Дуняшу зовет!
Андрей Иванович слушал болтовню матушки, стараясь не пропустить ни одного слова. Он сразу понял, что Верочка, о которой идет речь, и есть желанная невеста, которая теперь потеряна для него навсегда. Она, как сладкая греза, мелькала теперь в его сознании и вследствие своей недостижимости постепенно вносила в его душу хоть какую-то определенность. И вот в душе Андрея стало крепнуть решение — подчиниться роковой неизбежности и спокойнее взглянуть на события настоящей тяжелой минуты.
Андрей Иванович теперь пристальнее взглянул на Дуняшу, и на душе у него где-то глубоко-глубоко затеплилось чувство жалости к ней. Да, отказаться от Дуняши значило бы без вины жестоко обидеть ее, а этого Андрей боялся больше всего. Ведь ему, если уж он решил идти в священники, разве не все равно? Надо же жениться! К тому же Дуняша и ее родители — самые близкие люди его так нежданно-негаданно потерянной невесте. «Что делать? Значит, Господь посылает жизненный крест!» — с горечью в сердце подумал Андрей Иванович и… мало-помалу стал принимать участие в разговорах с родителями Дуняши. «Да будет воля Божия! — решил он. — Понесу посланный крест мне безропотно. Господи, благослови!»
С переменой душевного настроения Андрея Ивановича всем стало легче и общая беседа о разных предметах пошла непринужденнее. Андрей вступил в разговор с Дуняшей, и ему так успешно удалось преодолеть все только что пережитые им тяжелые чувства, что в разговоре с ней он даже переходил иногда на шутливый тон.
Казалось, что предшествовавшее всему странное состояние Андрея можно было объяснить временным нездоровьем, которое как быстро наступило, так быстро и прошло. Никому, кроме одной Дуняши, и не пришло в голову подозревать истинную причину этого временного обстоятельства. Дуняша же сразу сообразила истинное положение дела. Она невольно вспомнила восторженные отзывы Верочки об одном из замаскированных семинаристов, бывших у них на вечере полтора года тому назад. С этим семинаристом Верочка не расставалась весь вечер и потом все время до самого замужества бредила своим неизвестным героем.
«Это, несомненно, он — Андрей Заведеев! Очевидно, с ним случилось то же, что и с Верочкой. Она так и не узнала, кто он; да и он не догадался спросить, кто она, приняв ее за дочь хозяина дома. Они оба мечтали друг о друге, ждали счастливого случая объясниться и… не дождались. О, Господи! Что же делать? — чуть не вслух простонала Дуняша. — Ведь разрубить этот так крепко затянутый узел придется мне!»
После наплыва тяжелых дум, с которыми ей было, видимо, трудно справиться, Дуняша даже встала и вышла из комнаты. Этим и решил воспользоваться Андрей и наконец заговорил о цели своего приезда. Сконфуженный, путаясь в словах, он сказал:
— Многоуважаемый батюшка отец Митрофан и матушка Васса Никаноровна! Я письменно уже просил у Вас руки Вашей дочери, а теперь подтверждаю это и словесно. Если ничего не имеете против меня лично и против того, что я хочу быть священником, то удостойте благоприятным ответом!
— Сердечно благодарим за честь, — в волнении сказала матушка, — рады выдать Дуняшу за священника. Но для окончательного решения дела все же надо спросить и ее согласия, — с веселой улыбкой закончила она.
Когда пришла Дуняша, ей объявили о сделанном официальном предложении Андрея Ивановича. Дуняша густо покраснела и совершенно для всех неожиданно спокойно попросила дать ей три дня на обдумывание.
* * *
— Что ты наделала, безрассудная! — журила по отъезде гостей Дуняшу до крайности возбужденная матушка. — Ведь другой на месте Андрея Ивановича прямо бы заявил, что если сейчас согласия не дают, то он найдет себе другую невесту.
Матушка от волнения даже не могла спокойно стоять на одном месте и, размахивая руками, быстрым шагом ходила по комнате.
— Женихов-то сколько времени ждем! — горячилась матушка. — Сама знаешь, выбирать-то не из кого. А тут такой видный, красивый мужчина, и вдруг она просит подождать!
— Не сердись, мамочка, и не брани меня, — сказала Дуняша, — мне и без того тяжело! Я в эти три дня успокоюсь, обдумаю все, и ответ мой будет разумным. Ведь решение этого вопроса — на всю жизнь! Не надо делать ошибок, а если почему-либо и случится ошибка, надо заблаговременно сообразить, можно ли будет в жизни с этим примириться.
— Ну, как знаешь! — махнув рукой, окончательно рассердилась матушка. — Многому ныне вас учат в училище! Умнее родителей стали!
А Дуняша действительно оказалась умнее родителей. Затворившись в своей комнате, она начала серьезно обдумывать предложение Андрея.
И ей было о чем подумать!
Дуняша теперь хорошо понимала, что Андрей Иванович сейчас подтвердил словесно свое предложение только потому, что уже ранее сделал это письменно, когда вообразил другую невесту, которой в действительности не оказалось. И нет сомнения, что если бы он знал ее, Дуняшу, раньше, то никогда бы не сделал ей предложение быть его подругой жизни. А теперь вот против своего желания просит ее руки! Как тут быть? Об этом следует думать и думать.
Дуняша думала… Но что перечувствовала она за эти три дня — можно только догадываться. Однако в конце концов решение ею было принято, и в оправдание его она сочла необходимым обо всем написать сердечной подруге, Верочке, вместо которой Андрей по ошибке попросил руку и сердце у Дуняши.
Вот что написала она Верочке:
«Милая, дорогая Верочка! Ты не можешь представить себе, что я пережила за эту неделю. Нечто неправдоподобное окутало меня и вместе такое безвыходное, что можно просто сойти с ума. Во что бы то ни стало мне надо было выпутываться из этого ужасного положения — точно какой-то злой колдун устроил мне западню, из которой только два выхода, и оба худых. А выходить как-то все-таки надо было! Если прямо тебе сказать, что случилось, то тебе трудно будет понять это. Напишу лучше все по порядку, и тогда сама увидишь, ладно ли я поступила.
Знаешь ты меня хорошо, и покорность моя судьбе не подлежит перед тобой сомнению: наружность моя такова, что поневоле предашь себя воле Божией…
Родители ничего особенного не предпринимали для устройства моей судьбы, хотя мама и обнаруживала время от времени некоторые попытки “показать товар” — то к соседям куда-нибудь съездим, то к себе гостей пригласим. Само собой разумеется, что физические недостатки моей особы мама старалась затенить богатыми нарядами, дорогими украшениями и непременным заявлением, что я — единственная дочь в семье.
“Купцы” смотрели на “товар”, и иногда не в один прием, но никогда не приценивались. Так я спокойно и утвердилась на мысли, что быть мне вековушей! Поэтому я при первой возможности решила идти в учительницы. И маму уже “уломала”, так что она дала наконец свое согласие.
Но человек предполагает, а Бог располагает. В один, может быть, и прекрасный, но роковой для меня день папа получил очень ясное и определенное, и в то же время странное письмо. Некий Андрей Иванович Заведеев, только что закончивший курс Духовной семинарии и уже получивший священническое место, просит моей руки и сердца, уверяя, что лучшей подруги в жизни ему не найти. Пишет, что меня хорошо знает и уверен, что отказа не будет. Он был у нас в числе замаскированных семинаристов на вечере. Помнишь, ты еще все бредила прекрасным незнакомцем после этого вечера? Так вот, Андрей Иванович просил папу дать немедленно ответ и обещал скоро быть лично. Конечно, ты не сомневаешься, что пригласительное письмо в тот же день было отправлено и начались ожидание жениха и подготовка к показанию в наилучшем виде “товара”.
Откровенно тебе скажу, это предложение быть подругой жизни будущего священника Андрея Заведеева, который меня знает, сразу же мне показалось направленным не по адресу, то есть какой-то странной ошибкой. Суди сама: ведь очень подозрительно, чтобы кто-либо пленился мною настолько, что для него лучшей подруги жизни, кроме меня, не требуется? Если видевший меня решил на мне жениться, то, естественно, думалось мне, он или урод какой, или совсем человек недалекий, которому трудно найти невесту без недостатков. Об этих предположениях я объявила маме.
Куда тут! Мама страшно рассердилась за такие глупые мысли. И вот приехал жених с братом диаконом. Я смотрела в щель из своей комнаты: диакон красивый, а жених еще красивее! Видный, здоровый брюнет, веселый, бойкий! Сразу защемило сердце. Ведь такой красивый молодой человек сознательно не мог сделать мне предложение, и я почему-то сразу убедилась, что жених приехал не по адресу.
Папа и мама встретили гостей. Слышно было, как они весело разговаривают. Я немного помедлила и вышла минут через десять. И… о, Боже! Когда мама представила меня жениху, с ним положительно сделалось дурно! Он побледнел и едва мог подать мне дрожащую руку. Не сказав ни слова, он стал нервно обтирать носовым платком катившийся у него с лица крупными каплями пот.
Всем стало неловко! А каково мне?
Оправившись немного, жених отчасти присматривался ко мне, отчасти посматривал на дверь, откуда я вышла. С этого времени я начала читать его мысли. Очевидно, он ждал, не выйдет ли из соседней комнаты та, лучше которой ему не нужно бы было подруги жизни. Так мне стало окончательно ясно, что он приехал не для меня! И знаешь, что я тогда подумала?
Мне пришло в голову, что этот молодой человек — тот, кем бредила ты, и, предполагая, что я твоя сестра, он ждет, что из другой комнаты скоро выйдешь именно ты. И я, кажется, не обманулась! Он стал немного спокойнее и начал смотреть веселее. А когда мама, конечно, с целью выставить невесту в лучшем виде, намекая этим на хорошее приданое, сказала, что я у них единственная дочь и что других детей у них не было, с женихом опять сделалось нехорошо! Он опять начал утираться платком и теперь смотрел на меня каким-то особенно безнадежным взглядом.
Мне стало очевидно, что он искал не моей руки и в моем сердце нужды ему не было.
Я видела, что он переживал крушение ожидаемого счастья, но как будто слабая надежда на что-то еще не покидала его. Но вот мама помянула о том, что на днях я чуть было не уехала к тебе, и сообщила гостям, что ты — племянница папы, которая жила у нас, так как с двенадцати лет осталась круглой сиротой. Окончила курс гимназии, хотела ехать на курсы, но потом что-то захандрила и раздумала. Нынче зимой едва выдали замуж: совсем не хотела выходить, да уж приневолили…
Ну кто же, хоть немножко знакомый с твоими прошлыми мечтами, не поймет, моя дорогая Верочка, что жених письменное предложение сделал тебе, а не мне? И стремительно прилетел из далеких краев, чтобы взять тебя от нас и с восторгом унести куда-то на “Высокую гору”? Можно представить его душевную муку, когда он узнал, что тебя подменили! Никто, конечно, не мог догадаться об истинной причине всего происшедшего, хотя все видели, что с женихом почему-то дурно. Одна я только знала, что он навеки потерял свое счастье и теперь не знал, что ему делать. Наконец он оправился и даже сумел принять достойный для жениха вид. Но со мной сделалось дурно и, чтобы хоть немного прийти в себя, я вышла из комнаты.
Когда минут через десять я возвратилась, мне объявили нечто невообразимое и до того неправдоподобное и ошеломляющее, что на меня напал столбняк. Я лишилась способности понимать, что происходит: в моем сознании все перепуталось и вокруг словно все кружилось. Случилось то, чего я никак не ожидала. Андрей Иванович вошел в официальную роль жениха и напомнил родителям о цели своего приезда. Он торжественно попросил моей руки, о чем мне и сообщили папа и мама, да и он сам.
Представь себе мое удивление и, не скрою, даже негодование на жениха, сердце которого принадлежит другой и мне принадлежать не может. А он вдруг просит моей руки и сердца, к которым, несомненно, более чем равнодушен! Но и я, в свою очередь, удивила всех: попросила три дня, чтобы подумать о сделанном мне предложении.
Произошла, конечно, картина! Но иначе я не могла поступить. Надо было разобраться в этой удивительной истории, чтобы разумно занять в ней место. В эти три дня я пришла к заключению, что Андрей Иванович, видя для себя невозможность возвратить потерянную невесту, иначе говоря, тебя, и не желая выдать посторонним свою тайну, решился на тяжелый подвиг — действительно жениться на мне, соображая, по всей вероятности, что женятся ведь иногда и на более худших…
На третий день после долгих размышлений я написала ему отказ, в котором говорила, что счастье в жизни доставить ему не могу и сама быть счастливой с ним не имею решительно никаких данных. При этом просила оставить всякие с его стороны попытки повторить свое предложение.
Мама, конечно, была в высшей степени раздосадована на это и даже пролежала несколько дней в постели. Правда, у меня была мимолетная мысль пожалеть Андрея Ивановича и быть утешительницей в его жизни, иначе говоря, стать его женой, не рассчитывая с его стороны на искреннее, сердечное ко мне расположение. Но я нашла это в конце концов совершенно-таки нецелесообразным.
Итак, дорогая Верочка, рассуди теперь сама: хорошо ли я поступила? С нетерпением жду твоего правдивого и откровенного, без всякой утайки ответа.
Твоя горячо тебя любящая Дуня!».
Дуняша послала письмо, а события пошли далее своим чередом.
* * *
— Простите, Ваше Преосвященство, за великую вину мою перед Вами! — Андрей Заведеев повалился в ноги Преосвященному — добродушному старцу, искренно любимому всеми знавшими его.
— Что такое наделал?
— Не могу осуществить своего намерения. Отказываюсь от священнического места, представленного мне в селе Вознесенском, что на Высокой горе. К тому же священником быть совсем отдумал!
— Полно чудить-то! — опешил владыка. — Вставай да говори толком, что с тобой случилось? Ведь не преступление же какое, храни Бог, совершил? Или, может быть, не в меру себя подбодрил, да и начудил что, а теперь и боишься, что мне пожалуются на тебя? — и, приготовившись слушать, владыка опустился в кресло. — Рассказывай-ка, рассказывай! Да смотри, не хитри, а выкладывай все как было. Сам понимаешь, никто не тянул тебя на откровенность, уж если пришел виниться, то не щади себя. Ну-ка, садись, да повествуй!
Владыка указал ему на стул.
— Нет, не начудил я, Ваше Преосвященство, и ничего предосудительного не сделал. А судьба начудила надо мною так, что у меня все жизненные планы спутались! Одно только ясно: жениться не могу и потому от священства отказываюсь.
С каким крайним удивлением посмотрел владыка на рассказчика; но ничего не сказал, давая ему свободу высказаться яснее.
— Я сам кругом виноват, — продолжал свою исповедь Андрей Иванович, — и понесу на себе крест безропотно. Боюсь только, что по моей вине и на других взвалены на всю жизнь немалые тяжести. Вот в чем моя ошибка, преосвященнейший владыка!
И Андрей Иванович подробно и откровенно рассказал все свои злоключения, происшедшие с ним из-за его легкомыслия. Окончив рассказ, он прибавил как бы в оправдание:
— Что было мне делать? Счастье разрушено, и восстановить его нельзя. А с другой стороны, передо мной невеста, руки которой я просил и которую заверил, что, кроме нее, на другой жениться не могу! Что же мне оставалось делать? Объяснить им свою ошибку? Но я кровно оскорбил бы ни в чем не повинных людей из-за моей глупой неосмотрительности, и к своему тяжкому горю прибавил бы только новое мучение совести, и был бы несчастен вдвойне! Я решил покориться необходимости, — лучше понести тягчайший жизненный крест, чем оскорбить неповинных, — и остался в роли жениха, о чем и напомнил всем присутствующим. Но, к общему удивлению, невеста попросила три дня срока на размышление о моем предложении, а на третий день послала письмом решительный и бесповоротный отказ, вполне поняв, по всей вероятности, мою ошибку и фальшивый способ действий для прикрытия этой ошибки.
— Великая умница! — сказал владыка, поднимая голову, в продолжение всего повествования склоненную на опиравшиеся на локти руки. — Ну, что же? Ищи другую невесту, если тут не вышло, — прибавил он, — а за откровенность спасибо! Видно, что ты хороший человек по душе, но в жизни требуется строгая осмотрительность и разумность во всем. До сих пор ты был как наивное дитя.
— Простите, владыка, ради Бога, — заявил Андрей Иванович, — не примите это за глупое упрямство, но я уже не женюсь. Мое сердце поражено, и я не могу отдать его другой. Чувствую, что это было бы ничем не оправданной ложью, а со лживой душой что же за священник я был бы? Лучше останусь так и буду служить Богу как-нибудь иначе. Попытаюсь поступить в Академию, а там видно будет.
— Господь да направит твой путь, — ласково сказал владыка, — молись Богу, и Он тебя не оставит! Может быть, ты и не прав, — раздумчиво продолжал он. — Теперь, разумеется, тяжело. А там откроется другая жизнь, пойдешь по учебной службе, поумнеешь, повидаешь всяких людей, забудешь и теперешнюю неудачу, и, может быть, жизнь тебе улыбнется и принесет много радостей. Все совершается не без воли Божией. Только помни теперешний урок: поступил неразумно и поспешно, и вышел такой удар, от которого да поможет тебе Господь излечиться скорее!
Владыка опустил голову и задумался, тихо перебирая четки. А затем посмотрел на Заведеева каким-то испытывающим взглядом и продолжил:
— Под влиянием глубокой сердечной раны не пытайся броситься в противоположную крайность! Боже тебя сохрани от того, чтобы спешно и необдуманно принять монашество. Ныне многие молодые люди приобщаются к лику иноков во время академического курса. Заманчиво! Молодое воображение рисует широкую и почетную дорогу сразу же по окончании курса: начальственные должности в учебных заведениях, к тридцати годам, а то и раньше — архимандрит, а еще год-другой, и тебе уже, смотришь, поют «исполла эти деспота». Голова закружится! Такие-то быстрокрылые орлы в своем самомнении так высоко улетают, что нередко даже со многими академическими товарищами, случайно оказавшимися на службе у них в епархии, держат себя высокомерно: я, дескать, беспристрастен, никому предпочтения не даю. И невольно говорят правду, потому что, действительно, никому, кроме себя лично, предпочтения не дают. У тебя-то, видишь, на душе чисто и какие-то там благородные порывы! Ты, чтобы не обидеть введенных по твоей ошибке в заблуждение добрых людей, решился взять на себя страшный подвиг — жениться на девушке, которая тебе совсем не нравится. Когда же это, по разумному решению, оказалось для тебя не нужным, ты обрекаешь себя на безбрачие, боясь быть нечестным и вступать в брак с сердцем, плененным ранее другой. Вон как хорошо! Не испорти же свою душу неуместным стремлением к славе и почестям! Не торопись с принятием монашества: оно хорошо, но «Могий вместить, да вместит» — по Апостолу. А вместишь ли ты его? Этого определить у тебя данных нет. А ты готов броситься куда угодно, лишь бы заглушить свою сердечную рану. А когда рана затянется, тогда что будет? Вот дотерпи до заживания раны, и тогда сразу поймешь, как тебе поступить. А пока, брат, не торопись! Если нужда в чем будет, смело обращайся. Не откажу, — закончил владыка.
— Прошу не оставить, преосвященнейший владыка! — целуя руку владыки, со слезами произнес Заведеев. — Постараюсь поступить в Академию и приложу старание к занятиям. Не откажите в совете, если что спрошу письменно. А теперь от всей души благодарю за Ваше внимание ко мне, за добрые пожелания и советы!
— Господь да благословит тебя и управит на всякое благое дело, — произнес растроганный владыка, осеняя Андрея Ивановича крестным знамением.
* * *
«Вот время-то летит как быстро! — говорил сам с собою Заведеев, охваченный изучением академических богословских и гуманитарных наук. — Не успеваешь сделать всего, что необходимо! Даже письма написать не удосуживаешься».
Времени действительно не хватало. Особенно много трудов уходило на чтение книг. Знания, сообщаемые на лекциях профессорами, как находил Заведеев, были то неудобопонятные, то голословны, а иногда заключали в себе некоторые противоречия. Вот и надо было все уяснить и пополнить академские знания дополнительным чтением.
Академская жизнь, в общем, нравилась Андрею, но он много находил в ней и непонятного. «Давно собираюсь написать владыке о здешнем академском монашестве, — рассуждал Заведеев. — Как он мудро все предсказал мне о молодых монахах! Действительно, глаза у большинства из них устремлены в высоту, но, кажется, не в небесную. Все они живут изолированно от прочих студентов, и у них особая жизнь и особые интересы: они сейчас уже смотрят на себя как на нечто высшее сравнительно с другими студентами, как-то нехотя вступают с ними в разговоры. Да и во всех их отношениях к другим студентам держат себя покровительственно. Да! Значит, голова начала кружиться! И начальство наше уже восхваляет монашество и намеренно подчеркивает быструю карьеру монашествующих, и славу, и почести, которых они легко могут достигнуть. Так и чувствуется, что это искусственное завлечение. Надо написать владыке».
— Что это ты, Андрей Иванович, торчишь за книгами, точно крот в своей норе? — обратился один раз к Заведееву товарищ по курсу, Зефиров. — Пойдем, проветримся немного. Кстати, сегодня праздник, а потому следует, безусловно, отдохнуть. Зайдем-ка к одному протоиерею, моему земляку, — продолжал Зефиров, с равнодушным видом глядя в окно, — прекраснейший человек, образованный, с широкими взглядами, любит поговорить! Знаю, он тебе очень понравится. Собирайся, право!
— Не хочется мне знакомства заводить, — как-то неопределенно ответил Андрей Иванович Заведеев, — да и неловко как-то: совсем незнакомый батюшка, ни дела для него нет, ни поводов к знакомству. Скажешь, что пришел познакомиться, а он вдруг спросит: с какой целью?
— Чудак ты и больше ничего, — засмеялся Зефиров, — сидишь вот только над книгами и так совсем оглупеешь! С какой целью, с какой целью… Разве подобные вопросы предлагают, когда приходят с визитом, чтобы с семьей познакомиться? Никто тебя ни о чем и спрашивать не будет, а будешь говорить то, что сам найдешь нужным.
* * *
— Вот будущая наша знаменитость, — с апломбом представив Заведеева, проговорил Зефиров толстому и небольшого роста протоиерею Гущину. — Все, что можно найти по известному вопросу, — найдет; что нужно прочитать, прочитает, что нужно выписать, непременно выпишет и аккуратно приобщит к ученым материалам, для справки. Великий ученый! Это теперь! А что будет потом? Во-с! — шутливо закончил он, раскрывая обе руки, точно для объятий.
Отец протоиерей благодушно улыбнулся в бороду и приветливо сказал:
— Милости просим, милости просим! Очень люблю ученых людей. С такими непонятное выяснишь и много нового от них узнаешь.
— Но я еще хочу только сделаться ученым, — скромно ответил Заведеев. — Льщу себя надеждой научиться многому от Вас, а то и не пришел бы знакомиться.
— О-о! Язычок у Вас острый! — весело произнес хозяин дома. — Не в бровь, а в глаз метите!
— Господа, пожалуйте в столовую, — обратился к гостям какой-то рыжий господин развязного вида, в студенческой университетской тужурке.
— Кучумов! — отрекомендовался он Заведееву и, взяв под руку Зефирова, как давнишнего знакомого, вышел из комнаты.
За ним пошли хозяин и Заведеев.
— Вот этот совсем не хочет быть ученым, — мотнув головой на рыжего студента, сказал отец протоиерей. — У него свой талант: без умолку болтать о чем попало.
Хозяин представил Заведеева своей жене и трем барышням, из которых две были его дочери, а третья — их подруга.
— Вот тут, Андрей Иванович, ученость свою надлежит подальше спрятать, — с веселым смехом сказал Зефиров, — потому что барышни терпеть не могут ученых людей. А с другой стороны, и от этих отчаянных болтунов, у которых язык без всякого толка болтается во все стороны, охотно отворачиваются. Вроде вот таких, — и указал рукой на рыжего студента Кучумова.
— Что это за диво, что барышни и ученых, и болтунов не любят! — весело отвечал тот. — Вот у нас на Оке есть инспектор народных училищ. Так у него жена ученая и терпеть не может неученых! И согрешил же с ней супруг! Просто не знает, как подойти. Говорят, с самой свадьбы она ему как чужая! Все ученые книги читает и сама целые тетради исписывает.
Скоро подошли еще гости и составилась довольно веселая компания. Вечер прошел оживленно. Но случайное напоминание рыжего студента о жене инспектора народных училищ на Оке испортило настроение Андрея Ивановича. Он ни на минуту не сомневался, что это была Верочка. И это напоминание раскрыло его сердечную рану, так что, возвратясь после вечера в Академию, он почувствовал невыносимую тоску. Он ясно сознавал, что его счастье потеряно. И потеряно навсегда. Его уже никогда не воротишь, оно ушло, образовав в душе пустоту, которую совершенно нечем заполнить.
«Верочка, значит, тоже несет тяжесть креста, — думал он. — И она, покорившись судьбе, осталась сердцем верна тому, которого не знала, но с которым однажды ощутила неразрывную связь навеки. Мечта о потерянном счастье владеет ее сознанием. Суровая необходимость заставляет ее раздваиваться: надо жить для семьи, а в душе семья другая, несостоявшаяся. И это уже навсегда, на всю жизнь! Как несказанно мила и очаровательна эта воображаемая в глубине ее души, скрытая от всех, тайная мечта о семье с другим! А действительная семья, подчиняясь неизбежности, остается только внешне благополучною…»
«Да! — содрогнулся от нахлынувших мыслей Заведеев. — Тяжел ее крест! Помоги ей Господи! Мой крест что в сравнении с этим? Мне неизмеримо легче: не приходится двоиться. Один я ношусь с милым образом в душе и испытываю муку, что оригинал этого образа для меня недосягаем. Но сам я остаюсь, по крайней мере, свободным! Вся моя жизнь впереди! — думал Заведеев. — Однако, будешь вот так по гостям ходить, как сегодня, того и смотри, попадешься кому-нибудь случайно и не ведаючи окажешься в таком же двойственном крестоношении, как Верочка! Нет! Надо как-то обезопасить себя, — решил он. — А то уловлять будут. Да и с крестом своим справиться не знаешь как! — простонал Заведеев. — Все образ Верочки как живой стоит в воображении! Что бы ни делал, чем бы ни занимался, — он тут как тут! Ведь совершенно здоров, а до расстройства нервов, кажется, дойдешь! Главное — худо то, что иногда такая тоска нападает из-за навек утерянного счастья, что цель жизни расплывается…
Что же за слепое стечение обстоятельств, что люди, которые друг без друга жить не могут по-настоящему и как бы предназначены составлять единую гармоническую жизнь, по каким-то причинам должны жить не только врозь, но еще и против воли, в соединении с людьми, ничего с ними общего по душе не имеющими? Для чего это? Что за игра судьбы на страдание людям?
Что за цель моего креста и креста Верочки? — жгла мысль голову Заведеева. — Да и Дуняша, отказавшись стать моей спутницей в жизни, осталась не без душевной тяжести на всю жизнь! Правда, крест Дуняши легче, но зачем он? Вот я — один, и весь в науку ушел. Надо бы, кажется, забыться, в приобретении знаний найти успокоение. И острота чувств давно должна бы притупиться. А, однако же, иногда бывает настолько невыносимо и тяжело, что весь мир становится не мил! Прямо болезненное состояние! Надо же его чем-нибудь излечить, заживить сердечную рану!»
Заведеев обратил взор на икону и, полагая на себя крестное знамение, возбужденно сказал вслух:
— «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Я не перестаю молить Бога, а упокоения все нет, — и поник головой. — Знать, не умею просить! Верно, холодна моя молитва!
И в другие дни так же долго и упорно думал Андрей Иванович о своей участи и не находил ответов на мучительные мысли и вопросы. И от этого еще тяжелее и безнадежнее становилось у него на душе.
* * *
Старый лаврский иеромонах отец Савватий, сидя на деревянном табурете, бледными как у мертвеца губами едва считал бой стенных часов. Насчитал всего одиннадцать. Он неторопливо потер переносицу, передернул несколько раз костяшками четок и, медленно повернувшись к сидевшему на диване Андрею Ивановичу, сказал:
— Пробили свое и опять: тик-так, тик-так! Придет время, опять зазвонят, и зазвонят двенадцать, а потом опять. И каждый раз звонят, сколько нужно! И пробьют не больше и не меньше, а сколько нужно!
Отец Савватий задумался, а затем медленно продолжил:
— Так и в жизни человека: все идет своим чередом и ничего зря не происходит. Живешь спокойно, ровно, осмотрительно. Это и значит: «тик-так». Налетело чувство — в сердце зазвонило: радостное чувство зазвонило светло, горькое чувство зазвонило мрачно. Пролетела волна бурного чувства, и жизнь опять вошла в свое русло — опять «тик-так»! А пока живешь, все так и будет: то спокойная жизнь, то волнения. Если бы в жизни шло только «тик-так», то это была бы машина и ничего больше! Испортилась бы машина, перестало «тик-так», и конец машине — жизнь в ней кончилась навсегда. А человеческая жизнь — не машина, и человек волен управлять всем, что у него на душе появляется; он может чувства укротить, желание ослабить, ненужное прекратить и возбудить другое. Если чувство здоровое и ведет к славе Божией, а это уж человек определить может, то пусть оно в душе звонит, покуда само не утихнет! Если же это не во славу Божию, то все усилия нужно употребить, чтобы внутренняя жизнь опять пошла как «тик-так».
— Да что мне делать, батюшка, когда страшная тоска нападает и сладу с ней нет? — почти выкрикнул со стоном Андрей Иванович. — Ну, понимаете, образ, носимый мною в душе, настолько и до того ясен, что точно живой человек рядом со мной находится! А тут вот словно буря бушует! — ударив себя в грудь, простонал Андрей Иванович.
— А и пусть! — бесстрастно прошамкал отец Савватий. — Буре, значит, пришло время быть. А ты не опускай руки — стой против! Да еще говори: «Не боюсь! Все могу во укрепляющем меня Иисусе». Будешь бороться с бурей, она реже будет приходить к тебе, да и кратковременнее и слабее будет. А такая уж и не страшна.
— Да так, батюшка, но все же страшно, — глубоким голосом проговорил Андрей Иванович.
— Ведь и ты воин Христов! Чего боишься? — по-прежнему бесстрастно, как автомат, проговорил старец. — Не диво, что бывает буря: говорю, ей надо быть! Пройдет, и опять «тик-так»! Бывает, на улице дождик застанет. Скрываешься от него под какой-нибудь навес, чтобы тебя не промочило; переждешь дождик — остался сухой, и опять пошел куда надо. Тик-так!
— Да! Хорошо Вам говорить, батюшка, когда Вы все уже пережили и у Вас все прошло, — горячился Андрей Иванович и чуть из себя не выходил от спокойствия этой старой, как он думал, «деревяшки».
Заведеев, как и все, знавшие отца Савватия, уважал его как мудрого советника и уже давно пользовался его руководством для урегулирования своей мятущейся души, но его в высшей степени раздражало совершенно естественное спокойствие этого, кажется, во всякую минуту уже готового рассыпаться старого человека.
— Вы все пережили, и Ваше сердце не способно волноваться, потому что Вы не чувствуете ни радости, ни горя. А мне что делать, когда горе вот тут так и палит, как огонь? — указывая на сердце и наклоняясь почти к лицу бесстрастного старца, простонал Заведеев.
— Да, я пережил, и Вы переживете, — отозвался отец Савватий. — Я волновался и перестал. И Вы перестанете. У меня все утихло в душе, и у Вас утихнет.
— Покорно Вас благодарю за такое утешение, спаси Вас Господи! — с волнением проговорил Андрей Иванович. — Тут человек горит, почти погибает, а Вы говорите: «Пройдет все, все переживете!». Да ведь нет мочи переживать, вот что, святой Вы человек! — уже весь дрожа от волнения, Заведеев как бы выбрасывал слова, совершенно не понимая, что он говорит. — Мне душно! Я словно задыхаюсь от какого-то внутреннего огня! Дайте мне хоть каплю охлаждения из вашего ледяного сердца, и я, может быть, сделаюсь таким же бесстрастным, как и Вы!
— А вот, — указывая почти безжизненным пальцем на икону Спасителя и Божией Матери, заговорил старец и в упор поглядел на Заведеева, — смотри на эти Образы, и капля охлаждения придет. У тебя в душе свой образ, и он жжет. А ты посмотри на эти Образа, и пламень в душе утихнет.
От отца Савватия Андрей Иванович вышел все же в каком-то неудовлетворенном состоянии. «Нет, безотлагательно пойду в монахи! Тогда уж поневоле начнется настоящая борьба. Обреку себя на подвиги, спать на голом полу буду, подвергну себя всевозможным ограничениям и лишениям. Наконец, вериги буду носить. И вот только тогда сокрушу себя, загашу внутренний огонь внешним огнем тяжелых лишений. А теперь что за борьба! Знаешь, что немонаху всякая борьба непродолжительна. Поэтому откладывать нечего — пойду в монахи!»
Решение это у Андрея Ивановича созрело окончательно и быстро. Через три дня он пришел к отцу Савватию с намерением не отступать от своего решения.
— Решил в монахи идти, — угрюмо сказал он, принимая благословение старца. — Благослови, отче!
Отец Савватий беззвучно пожевал губами и спокойно сказал:
— Нет! Не благословляю, — и даже не посмотрел на собеседника, а молча начал перебирать четки.
— Почему же?! — удивился тот.
— В монахи так не идут. Тут надо спокойно обдумать свое положение, оценить по достоинству принятое решение оставить мир и ясно определить: с любовью ли желаешь принять иноческий чин, для служения ли Богу без помех, или посторонние цели какие тут есть? А у Вас кипение в душе, — продолжал старец. — Говорите, что горит! Надо, стало быть, затушить внутренний пожар.
Отец Савватий замолчал. Закрыв глаза, он словно погрузился в свои мысли. А затем, тяжело вздохнув, тихо добавил, как бы рассуждая про себя:
— Значит, из огня поневоле готовы броситься куда Вам угодно…
Наступила тишина, которую нарушало лишь тяжелое дыхание Андрея Ивановича.
Это продолжалось несколько минут.
— Так нельзя! — не открывая глаз и спокойно перебирая четки, снова заговорил старец. — Примешь постриг — оттуда уже возврата нет и уклониться на сторону некуда. Сначала, по новости, как бы и забудешь все прежнее, так как надо учиться новому житию. Даже к новой одежде будешь присматриваться и по ней определять свою бедность. Подумаешь: «Вот все, что я имею, и теперь навек обречен на нищету!». Будешь размышлять о других обетах, данных тобою Христу. Но ты молод. Не успеешь навыкнуть, а вдруг огонь-то теперешний с новой силой захватит тебя и будет палить, нестерпимо палить. Теперь от огня хотите выскочить в монашество и в нем утушить жгучесть пламени. А тогда куда выскочите? Некуда! И гори, как в геенне огненной! А враг рода человеческого еще будет соблазнять благами мира сего, представляя тебе монашество просто заблуждением или твоей ошибкой. Нет! До монашества перегореть надо! — говорил старец, делая рукой неопределенный жест. — Надо успокоиться. Когда господствующее направление жизни пойдет ровно, тик-так, тик-так, вот тогда надо решаться на принятие монашества, — закончил старец и строго посмотрел на собеседника. — С огнем надо осторожно!
— Что же мне делать? — задорно возразил Заведеев. — А ну как в ожидании успокоения я совсем оставлю мысль о монашестве и останусь так? А ведь из меня, может, выйдет хороший монах. Сколько пользы церкви принес бы я! Без монашества же буду учителем семинарии и только. А в безвестности немного чего наделаешь.
— Надо же кому-нибудь и немногое делать! — снова закрывая глаза и как бы весь уходя в себя, сказал отец Савватий. — В безвестности иногда больше можно принести пользы, чем стоя на виду у всех. Потерпите, поразмыслите! Теперь, говорю Вам, для Вас рано монашество принимать. Меня скоро не будет, — закончил отец Савватий, — но Вы помните, что торопиться с монашеством не следует. Оно не уйдет, если Богу угодно!
— Ну, спасибо, отец Савватий! Простите, ради Бога, что покой Ваш нарушаю, — подставляя руки под благословение, сказал Заведеев, — Вы устали. Отдохните, а я уже пойду.
— Бог да хранит Вас от всякого зла! — вставая с табурета и осеняя Заведеева крестным знамением, говорил отец Савватий. — Пора бы давно моим костям на покой, да вот все живу! Всему свое время, и время всякой вещи под небом. И подождем своего времени: я своего, а Вы — своего!
* * *
«Да, мудрый был отец Савватий, Царство ему Небесное!» — думал Андрей Иванович Заведеев, осмотревшись на месте своей новой службы в одном из городов северной России.
Молодой учитель семинарии энергично и с любовью отдался весь новому делу и в новом положении почувствовал как будто облегчение своего креста. Но вечерами, особенно в праздники, ему почти всегда приходилось бывать среди молодежи, в гостях у кого-нибудь из сослуживцев, и тут особенно остро давала себя чувствовать бесповоротная потеря Верочки, образ которой с поразительной живостью вставал в его воображении как раз именно в такие вечера.
«Вот ведь искушение, как говорят монахи, — думал Заведеев, завязывая перед зеркалом галстук и повертываясь то в одну, то в другую сторону. — И некогда бы идти, да и неохота, а идти надо. Сегодня вечер у владыки. Жена его давно умерла, а дочка в невестах ходит, и довольно недурненькая. Вот зовут веселиться, а какое от меня веселье? Если бы знали, что ни крупинки своего сердца я не могу отдать никому, то сразу бы оставили меня в покое. И вот изволь-ка умеючи себя держать! Тяжело так-то!» — закончил свои думы Заведеев и отправился в переднюю надевать пальто.
Местный владыка, из вдовых священников, поневоле жил полусемейной жизнью. Вдовым он остался с двумя сыновьями и маленькой дочерью. Сыновья по окончании курсов в высших учебных заведениях устроились на службах и жили в других городах самостоятельной жизнью. При владыке же осталась дочь и пожилая сестра — вдова чиновника.
Жил владыка уединенно от семьи и занимал парадные комнаты. Дочь с теткой и женской прислугой помещались в задних комнатах, окнами выходившими во двор. Все в женской половине происходило не без ведома владыки, но сам он ни во что не вмешивался. Дочка росла, окончила курс гимназии, и начались неизбежные приемы и выезды.
«Согрешение! — сознавался владыка ректору семинарии. — Как тут быть со всем этим? — разводил он руками. — Вы, отец ректор, везде бываете и знаете все житейское. Уж как-нибудь помогите мне. Ведь дочку надо выдать за приличного человека в замужество. Так уж, пожалуйста, устройте!»
И отец ректор принялся устраивать. Он подбивал несемейных учителей семинарии ходить на вечеринки, которые завел у себя дома, а временами собирались и у самого владыки — в задних комнатах, на женской половине.
— Пожалуйте, пожалуйте, Андрей Иванович! — весело говорил отец ректор, встречая Заведеева в покоях владыки. — Вот и наш ученый и будущий монах, — шутливо говорил он, подводя Андрея Ивановича к владыке. Сиднем все сидит за книгами, и только силой его можно оторвать от занятий.
— Какие там занятия! — скромно отвечал Заведеев. — Только еще присматриваюсь. Вот ознакомлюсь с учебниками и со всем учебным делом — и за ученые труды.
— И жизнь не надо забывать! Тоже надо присматриваться… — заметил владыка. — От жизни не уйдешь, не закупоришься, она тебя найдет, хотя и сам хотел укрыться от нее. Вот я: совсем бы вне жизни надо стоять, — улыбнулся владыка, — а слышите, на рояле играют? Это в архиерейском-то доме! А нельзя иначе: семья моя не может и не должна вести жизнь затворников. Так-то, — и владыка ласково потрепал Андрея по плечу, а затем добавил: — Пожалуйте и Вы туда, слушать музыку. Вам там будет, по всей вероятности, повеселее, чем с нами, стариками, да еще со старыми взглядами на все и с отживающими привычками.
Много раз уже встречался с архиерейской дочкой Андрей Иванович и чувствовал, да это и все замечали, что его «ловят» самым добросовестным образом. А потому он держал себя смущенно и молчаливо, изобретая всевозможные способы, чтобы не попасть в сети, устраиваемые ему на каждом шагу.
— Сегодня Вы мой кавалер, — смело, хотя и шутливым тоном, заявила Заведееву Екатерина Ивановна, архиерейская дочка. — Должны же Вы оказать предпочтение хозяйке, — продолжала она, смягчая тон и глядя прямо в глаза Заведееву, точно хотела высмотреть там самое чувствительное место, в которое легче всего его поразить.
— Очень рад, но простите, если не сумею быть интересным, — ответил Заведеев и, отдавшись в распоряжение хозяйки, пошел рядом с ней.
— Славная парочка будет, — вполголоса шептались мамаши нескольких тут же находящихся барышень.
— Уж отец ректор устроит свадьбу! На это он мастер, — говорила полная жена учителя семинарии, завистливыми глазами посматривая на Андрея Ивановича.
— У нас ведь богатства нет. Наши дочки подождут, — язвительно улыбалась соседка. — Тут приданое-то княжеское дадут, да и капиталец тоже. Да и по службе поведут.
— Андрей Иванович что-то не очень увивается около Екатерины Ивановны, — заметила жена секретаря консистории. — Ровно бы он нисколько не интересуется барышней, отдающей ему предпочтение. Сидит спокойно, только улыбается или что-нибудь спокойно скажет. А она-то! Так и трещит, так и порхает!
— А кто ж знает, может быть, у него уже есть где-нибудь свой предмет симпатии? — наклонившись к собеседницам, заметила третья дама. — Таких-то не зевать, ловить надо, еще пока учатся. Я думаю, что петербургские мамаши с дочками поискуснее будут нас с вами-то! Так все обставят, что дело крепко будет!
* * *
«Пора, ждать больше нельзя, — говорил сам с собой Андрей, возвратившись домой после вечера у владыки. — Так жить невозможно! Будешь ходить в гости, принимать участие в играх, танцах, и будут непременно смотреть на тебя как на жениха или кандидата в чьи-либо женихи. Вот Екатерина Ивановна уже, кажется, хвастливо смотрит на всех. Она уверена, что соперничать с ней никто не посмеет, и заранее торжествует победу. К чему вводить ее в заблуждение? — думал Заведеев. — Надо как-нибудь дать понять, чтобы на меня как на жениха она не рассчитывала. А как это сделать? Вот тут ответа и не найдешь! — развел руками он. — Просили запросто, когда только вздумаю, заходить, посидеть. Да почаще… А чего же еще яснее!»
Он остановился среди комнаты.
«Еще немного времени, — продолжал рассуждать Андрей Иванович, — и либо сам повесишь себе новый крест, совсем ненужный, либо в страшную неприятность введешь совершенно невинного человека. Столько мук придется ей перенести: и оттого, что обманулась, и от неизбежных насмешек со стороны тех, кто завидует, будучи уверены в успехе Екатерины Ивановны. А что же делать? — вопрос этот застрял в его сознании. — Просто не ходить к ним невозможно: владыка будет недоволен. Сказать, что в монахи решил идти, — никто не поверит. Сочтут еще за обиду. Подумают, что “ему честь такую оказывают, а он и внимания не обращает!”. Ведь это Бог знает что! Никуда не ходить и ни с кем не заниматься? Но тогда все будут считать его фальшивым человеком. Вот она, действительная-то жизнь! — тяжело вздохнул Андрей Иванович. — Трудная жизнь. Никто твоему душевному состоянию не поверит, а если бы кто и поверил, что я жениться действительно не буду, так кому же я нужен? Что бы сказал отец Савватий? — вспомнил старца Андрей Иванович. — Какой бы совет дал? Увидел бы, что борьба с жизненными обстоятельствами невозможна, и, думается, дал бы благословение идти в монахи».
На другой день Андрей Иванович Заведеев написал письмо товарищу — обер-прокурору Священного Синода, в котором объяснил неудобства продолжения службы на настоящем месте, просил совета и изъявил желание принять иноческий чин. Не прошло и недели, как Андрей Иванович получил ответ: «Берите отпуск и приезжайте в Петербург. Мы Вас устроим».
* * *
В одну из суббот посетители академического храма были свидетелями происходившего в конце всенощной трогательного обряда. Преосвященный ректор Академии с несколькими монашествующими вышли на средину храма и обратили взоры в дальний угол, откуда из-за ширм при пении певчими стихиры: «Объятия отца отверсти ми потщися…» двое монахов вели босого, в длинной рубахе человека. Приблизившись к ректору, человек этот земно поклонился и на вопрос: «Зачем пришел?» — ответил: «Иноческого жития ищу». Затем при совершении обряда пострижения он изрек иноческие обеты и постепенно облачился в монашеские одежды. Со свечой в руке, с сандалиями вместо сапог на ногах встал по правую сторону царских дверей, перед иконою Спасителя, новопостриженный инок Агапит.
* * *
Пусто и неуютно в большой, высокой комнате в два окна; как огромные бельма висят на окнах измятые и грязные полотняные занавеси. В простенке между окон — большой письменный стол, обитый клеенкой; на нем лежит несколько книг в толстых кожаных переплетах. В заднем углу скромно приютилась железная койка, накрытая байковым одеялом. Сиротливо жмется она к самой стене, точно ждет-не дождется, скоро ли будет согрета прилегшим на отдых человеческим телом. Рядом на вешалке висит монашеская одежда…
Это — спальня и вместе рабочий кабинет инспектора Н-ской Духовной семинарии, иеромонаха Агапита. Сам отец Агапит в переднем углу, перед угольником, совершает правило «двунадесяти псалмов» и отбивает число поклонов, назначенных старцем-монахом, руководителем недавно постриженного молодого монаха.
Весело, ровным пламенем горят перед иконами две лампадки. Лицо отца Агапита то становится суровым и мрачным от усталости и изнеможения, то на несколько минут озаряется тихой радостью, так что с него можно было бы писать икону архангела. В первом случае полусогнутый, стоя на коленях, он с силой прижимает к груди обе руки вместе с крупными черного гранита четками и, кажется, готов разразиться стенаниями. Во втором — он стоит со взором, устремленным куда-то выше икон, как бы в далекое пространство. И, кажется, вот-вот запоет радостную евангельскую песнь: «Слава в вышних Богу!».
Последние поклоны отсчитаны, и отец Агапит едва двинулся с места: устали ноги. Он непрерывно молился и клал поклоны около двух с половиной часов. Добравшись до заднего угла комнаты, отец Агапит осенил крестом свое убогое ложе и, не раздеваясь, лег на кровать поверх одеяла. Вытянувшись во всю длину, он издал глубокий, болезненный стон и почти тотчас же заснул тяжелым сном изможденного в трудах человека.
В шесть часов назойливо звучит, звенит колокольчик. Наскоро крестится, хочет встать на ноги отец Агапит, но… «О Боже, как ломит кости!» Все тело его разбито, пальцы рук распухли, а на коленях вздулись какие-то волдыри. «Это монашеский крест, — глубоко вздохнул отец Агапит. — Смирение и послушание…» Он еще раз перекрестился, сидя прямо на кровати, и начал одеваться, продолжая думать: «Если бы был жив отец Савватий, он более легким способом приучил бы меня к монашескому смирению и послушанию. А вот отец Леонид только поклонами да совершением чина “двенадцати псалмов” во все дни и ночи упражняет… Господи, прости! Господи, помоги!» — тяжко вздохнул отец Агапит и перекрестился. Он взял бутылочку с деревянным маслом, налил его на ладонь и крепко натер воспаленные колени и пальцы рук. Походив минут десять по комнате и немного размяв затекшие члены, он наскоро умылся и совершил краткую утреннюю молитву.
«Сейчас начнется служебный день. Надо быть внимательным и строгим по отношению к студентам. Скоро позвонят на молитву. Надо сходить — невнимательно стоят на утреннем правиле семинаристы», — отец Агапит укоризненно качает головой, и глаза его делаются строгими. «А ты сам, когда был семинаристом, — как молния мелькнуло в сознании отца Агапита, — помнишь, как перед поездкой на Святки к брату в Залесье всю утреннюю молитву в день отъезда возбужденно разговаривал со своим соседом?»
Высокая гора… Маскарад… Верочка…
Все это плывет в сознании отца Агапита как незабвенное и милое прошлое. Точно огнем обожгло его при воспоминании о той роковой встрече. Пальцы на руках его захрустели — так заломил их от напряжения отец Агапит… Обливаясь неудержимо льющимися слезами, повалился он в переднем углу перед иконами на пол и замер пред очи Божии в крепкой молитве о прощении своих греховных воспоминаний.
Прозвенел звонок на семинарское правило. Отец Агапит наскоро умылся холодной водой, натер руки одеколоном и сбрызнул им одежду, чтобы отбить запах деревянного масла. Затем, приняв кое-как важный вид, вышел в коридор. «А ведь и ты, будучи семинаристом, разговаривал с друзьями на общих молебнах», — вспомнил опять отец Агапит, заметив нерадивых студентов. И снова внутри его поплыли радостные воспоминания юности… Нет, не может он изжить из сознания образ Верочки! В пот бросает его от напряженной внутренней борьбы. «Искушение», — шепчет он, тяжело вздыхая, однако по наружности держится важно и ничем не выдает своего волнения.
После окончания утреннего правила отец Агапит сделал замечание двум-трем семинаристам и в начальствующей позе проследовал в свою квартиру.
Придя, он опустился на стул. «Батюшки, как страшно болят ноги! — мысленно простонал он. — Уж если и был строг отец Савватий, но отец Леонид еще строже. Замучит поклонами. А про сегодняшнее искушение рассказать ему надо обязательно. Ах, какой же тяжелый крест! Покойный отец Савватий все говорил: “Не торопись!” — вспомнил он. — “Как пойдет жизнь «тик-так», тогда и можешь идти в монахи”.
Правда, я рад, что решился принять иноческий чин, и нисколько не раскаиваюсь, но уж очень тяжело с подвигами — до головной боли и ломоты во всех членах. Да и душевные-то искушения все сильнее и острее себя дают чувствовать. Сил просто не хватает!»
— Сегодня мой урок в пятом классе по Священному Писанию! — произнес вслух отец Агапит. — Глава четвертая от Матфея. Посмотрим, посмотрим, — он перелистнул страницы старенького Евангелия: — «Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал… (Мф.4:1-2)».
От этих слов, внезапно пронзивших сознание, отца Агапита охватил священный трепет. Душа его трепетала перед страшными искушениями Спасителя от диавола в пустыне. «Господи-подвигоположник! — взмолился он. — Пошли и мне силу и крепость вынести борьбу с моими бесконечно малыми, сравнительно с Твоими, искушениями. Сорок дней и ночей Ты был в посте и молитве! А я всего лишь от нескольких дней, проведенных в самых малых молитвенных упражнениях, изнемогаю. А отец Леонид, мой наставник и духовник, как нарочно, становится со мною все суровее и суровее. Совсем не щадит…» — вспомнил он, проявив человеческую немощь, и стал надевать рясу, собираясь идти на урок.
— Отец инспектор, Вас просят! — доложил дежурный семинарист.
— Кто?
— Иван Кириллович, — буркнул семинарист и скрылся.
«Опять с этим Иваном Кирилловичем стряслось что-нибудь неладное, — подумал отец Агапит. — Больно уж часто он придирается ко всем. Искушение!»
Иван Кириллович Лебединский, желчного вида, долговязый господин лет под сорок, был помощником инспектора. Он выглядел точно затравленный зверь, сам готовый во всякую минуту броситься на кого угодно. Отвесив отцу Агапиту низкий поклон, он глухим голосом доложил:
— С жалобой, по обычаю, отец инспектор. Первоклассники проходу не дают. Показаться нельзя…— и кошкой мяукают, и собакой лают, и петухом кричат. Клепикова поймал. Наказать надо. И построже! Давно я до него добиваюсь.
— А раньше Вы не наказывали его? — спросил отец Агапит.
— Как же, много раз, — осклабился Иван Кириллович, точно удивляясь, как до сих пор отец инспектор не знал об этом.
— Какому же наказанию Вы думаете подвергнуть его на сей раз? — глядя в упор на помощника инспектора, задал вопрос отец Агапит.
— Да я бы, отец инспектор, советовал его дня на три без обеда оставить, — как-то боязливо ответил Иван Кириллович, — уж больно задирист этот мальчишка.
— Пришлите его ко мне! А там видно будет, какое наказание назначить. А то я его совсем не знаю. Заглазно ошибиться можно.
— Слушаюсь, отец инспектор. Но мы-то его хорошо знаем.
Минут через пять появился Клепиков. Небольшого роста, гладко выстриженный, с бойкими, веселыми глазами, он производил впечатление еще совсем мальчишки. Казалось, что достаточно малейшего повода, чтобы он разразился смехом. Что-то наивное и по-детски бесхитростное чувствовалось во всем внешнем виде озорника.
Клепиков, красный от смущения, сложил руки ладонями кверху и наклонил голову под благословение.
— Что наделал? — спокойно и просто спросил отец Агапит и в ожидании ответа вперил сострадательный взор в лицо Клепикова.
Краска еще более залила лицо маленького семинариста, и он едва внятно пролепетал:
— Дразнил Ивана Кирилловича. Простите, отец инспектор! Больше не буду.
— Вот это хорошо, что сразу сознаешься. А родные у тебя есть в городе?
— Есть. Дядя, священник у Антипы Мученика… Да Вы не сказывайте ему, пожалуйста, отец инспектор, — просительно прибавил он, — я больше не буду.
— Не скажу! Только ты помни, что сам обещал мне больше не дразнить Ивана Кирилловича. И не дразни его, хотя бы для меня, — прибавил отец Агапит, благословляя Клепикова. — А теперь ступай!
Мальчик как-то неопределенно затоптался на месте и вопросительно посмотрел инспектору в глаза. Отец Агапит невольно остановился в ожидании. У Клепикова задрожали губы, и он едва слышно выговорил:
— А наказание мне какое будет?
— Поди с Богом. Никакого, — ответил отец Агапит. — Ведь ты же дал мне обещание? — он вопросительно взглянул на озорника.
— Угу, — еле вымолвил маленький семинарист и, прежде чем уйти, схватил руку инспектора и горячо поцеловал.
Окончив разговор, отец Агапит вышел из квартиры, чтобы идти на урок. В коридоре перед ним точно из-под земли вырос Иван Кириллович. Решительным тоном он спросил:
— Так уж разрешите, отец инспектор, Клепикова-то без обеда оставить. Это ему будет чувствительнее всего, а то совсем забылся мальчишка!
— Знаете, Иван Кириллович, — ответил отец Агапит, — такие сильные наказания нам вообще нельзя накладывать на воспитанников без согласия педагогического совета. На совете выслушалась бы Ваша жалоба и мой доклад о душевном состоянии ученика, который считается Вами преступным.., и, думается, — отец Агапит в упор посмотрел на оторопевшего Ивана Кирилловича, — совет никаким образом не наложил бы на него наказания.
— Так Вы, отец инспектор, хотите его оставить без наказания? — угрюмо спросил обескураженный Иван Кириллович. — Но ведь это значит, что нам теперь житья не будет!
— Станем, Иван Кириллович, стараться делать так, чтобы всем житье было: и нам, и ученикам, — ведь и им хочется получше жить.
И отец Агапит, бросив многозначительный взгляд на своего помощника, вошел в класс, где должен был давать урок. На уроке он горячо говорил об искушениях Иисуса Христа от диавола и со вдохновением изъяснял юным семинаристам, в чем состояла победа человеческой природы Спасителя над ухищрениями врага рода человеческого. Он говорил так живо и увлекательно, точно сам лично пережил и превозмог подобные искушения.
Урок закончился. По окончании урока словно кто-то шепнул ему: «Да разве у тебя такие искушения?! Голод, самолюбие и гордость и тебе, наверное, победить гораздо легче, чем ту душевную муку, какую ты испытываешь от сознания потери человеческого счастья — счастья с единственно любимым человеком, которое могло выпасть на твою долю».
«О, Господи! Прости мне мое искушение. Помоги преодолеть грех, который неминуемо влечет меня к душевной смерти», — торопливо крестясь и отгоняя внушаемые извне коварные мысли, шептал отец Агапит, возвращаясь после уроков домой. В грустном унынии подкрепился он скромной пищей в обеденное время. И все думал о тяжести своего креста и о том, что не помогают ему многочисленные поклоны. Да и тяжелые сны не отступают. А отец Леонид все не смягчает строгости и не убавляет число земных поклонов.
«Уж очень тяжело… — тоскливо думает отец Агапит. — Особенно тяжело при моих сложных научных и инспекторских обязанностях. — Прямо непосильно. А все-таки сегодня надо сходить к отцу Леониду». И после вечерни он стоял и стучал в келью старца Леонида в коридоре монастырского общежития.
— «Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, помилуй нас!» — проговорил отец Агапит монашеский пароль уже третий раз с небольшими промежутками.
Но обычного ответа «Аминь» все не было. Входить было нельзя. «Что же такое это значит?» — проговорил сам с собою отец Агапит и, еще потоптавшись с минуту на месте, медленным шагом пошел, чтобы постучаться в соседнюю келью и сказать, что от отца Леонида нет ответа на стук в дверь и молитву. Но в то время щелкнул замок и дверь кельи отца Леонида отворилась.
Отец Леонид, высунувшись из двери, замахал рукой и суровым голосом сказал:
— Что, нет терпенья? Знать, не очень нужно, коли домой пошел! Зайди, ежели какое дело есть до меня.
Отец Агапит смущенно возвратился и при входе в келью сделал хозяину низкий поклон, дотронувшись до пола пальцами правой руки. Отец Леонид уже сидел на стуле. Здоровый, коренастый, с длинной бородой, с густыми, сросшимися бровями и огромными кулаками, он как бы представлял собою олицетворение угомонившейся силы, которую беспокоить небезопасно… — она отдыхает, притихла.
Отец Леонид был из крестьян и едва грамотен. Известен от монастырской братии как сурово строгий исполнитель монастырского устава и монашеских обетов. От его религиозности веяло непосредственностью: если он говорил «Господи, помилуй!» или «Пресвятая Богородица, спаси нас!», то, значит, искренно верил и был убежден, что Господь или Матерь Божия вот и стоят перед ним, грешным Леонидом.
Отец Леонид был прям и прост до грубости. Говорил он без лести и без всяких уверток. Это считали признаком мудрости, и за это назначили его в руководители новопостриженных монахов. На него указали и отцу Агапиту как на искусного и твердого учителя иноческой жизни.
— Ну, — не оборачиваясь к отцу Агапиту, обратился к нему старец, — да сядь вот тут-то, на стул. В ногах-то правды нет!
Отец Агапит смиренно сел и высказал все, что пережил он за прошедшую ночь и следующий за ней день, перечисляя все свои искушения и подробно описывая душевную муку. Ни словом не обмолвился, ни одного движения не сделал старец, пока говорил «новоначальный монах». А когда тот окончил, он, как статуя, не двигаясь ни одним мускулом тела, проговорил:
— Прибавь сто поклонов!
Поежившись немного, словно хотел что-то сказать, отец Агапит, однако, встал, сделал глубокий поклон, коснувшись рукой пола, и тихо вышел из кельи.
А отец Леонид так и остался сидеть на стуле, даже не пошевельнулся.
«Вот крест-то! Вот тяжесть! — думал отец Агапит, возвратившись домой. — Днем труды и служебные искушения, а ночью смирение плоти и духа».
— Прибавь сто поклонов! — вслух повторил он слова старца и тут же подумал: «Это к обычным тремстам поклонам, которые я выполняю, и чину двенадцати псалмов! И это каждый день и каждую ночь!».
— О, Господи, помоги мне! — вырвался тяжелый стон из груди отца Агапита, который не знал уже, что для него мучительнее: грех, так пленивший его, или иноческое послушание.
* * *
Наступило время летних каникул, и отец Агапит решил воспользоваться свободой от занятий, чтобы попутешествовать по святым местам. Он и отпуск уже взял на все лето, и несложное имущество, нужное для дороги, уложил в чемодан. Пора бы ему в путь, да толком не надумал еще, куда поехать.
Инспектор внимательно осмотрел скромную обстановку своей квартиры — и так отчего-то защемило его сердце, точно он навсегда покидал немых свидетелей своей трудной жизни. Эти захватанные стулья, закапанный письменный стол точно хотели сказать: «Прощай, отец Агапит, и не поминай нас лихом!».
Вот угольничек перед дорогими сердцу намоленными иконами — сколько он видел слез и сколько слышал воздыханий. А кровать, сиротливо прижавшаяся к стене в самом углу! Если б только она могла говорить, то сколько поведала бы всевозможных сновидений, занимавших душу отца Агапита после тяжких молитвенных трудов?
Жаль почему-то расставаться со всем этим. Какое-то предчувствие того, что он уже никогда не возвратится сюда, посетило отца Агапита. Именно поэтому вот уже три дня он все никак не может отправиться в путь.
«Завтра непременно поеду», — задумчиво расхаживая по комнате, наконец решает он.
— Письмо вот, отец инспектор, — говорит появившийся служитель, подавая пакет.
На почтовом штемпеле помечено: «Златарунь». Это от брата. Прочитав письмо, отец Агапит широко осенил себя крестным знамением и произнес:
— Вот Божие смотрение! Если бы я уехал раньше, то и не знал бы ничего. А теперь прямое указание, куда мне надо ехать.
Брат отца Агапита, диакон села Залесья, Гавриил Заведеев, оказывается, «сильно болен и едва ли поправится», пишет его жена. А потому он просит своего брата поскорее, если можно, приехать. «Хочет посмотреть на Вас и проститься». Сейчас же отец Агапит собрался в путь. «Простите, дорогие!» — точно к живым, обратился он к предметам обстановки в своей квартире и, стоя посреди комнаты, широко осенил ее на все четыре стороны крестным знамением. «Точно в последний раз… — грустно думалось ему. — Вот как вымотала меня борьба с греховными чувствами! Скоро ли доживу до времени, когда в душе все наладится и пойдет, по словам отца Савватия, “тик-так”!»
На третий день отец Агапит подъезжал уже к селу Залесье. Странные чувства волновали его. Сердце сжималось от сознания близкой опасности потерять любимого брата. И в то же время какое-то радостно-трепетное воспоминание о давно прошедшем, когда он гостил у брата в первый раз, превращало его грусть в уверенность, что все обойдется благополучно и болезнь отступит.
Вот и домик брата! Окна в спальне совершенно закрыты. Что там?! Матушка-дьяконица, заслышав стук подъезжавшего экипажа, вышла на крыльцо и, обливаясь слезами, бросилась к отцу Агапиту на грудь, чем привела его в крайнее смущение.
— Да полноте, полноте, сестрица, — сам готовый расплакаться, утешал отец Агапит рыдавшую матушку. — Бог милостив. Теперь лето, тепло, поправиться куда легче. Чем болен-то? — задал он вопрос.
— Да Бог его знает. Простудился, должно быть. Сначала думали, нездоровится просто! Мало ли у кого голова болит или какая там слабость. А вот теперь вторую неделю пластом лежит, не вставая.
— Ну, ведите, посмотрим!
Больной спал. Расспросив подробно про болезнь и посмотрев на спящего брата, отец Агапит распаковал свой чемодан. Он вынул из него ящичек с гомеопатическими средствами и лечебник по гомеопатии. В утешение же невестке сказал:
— Попробуем полечить гомеопатией, иной раз просто чудеса творятся от этих лекарств.
Больной скоро проснулся и слабым голосом спросил, не приехал ли Агапит.
— Приехал, приехал, дорогой мой! — радостно вошел отец Агапит в комнату к больному, неся в руках коробку с лекарствами.
Благословив больного, он припал к нему на грудь и крепко прижал его, точно желая возбудить в нем ослабевшие жизненные силы. Желтое, истощенное лицо больного просветлело и озарилось едва заметной улыбкой, но печать страдания с лица еще не пропала.
— От моих лекарств, да даст Бог, поправишься! — говорил отец Агапит брату. — А я поживу здесь, пока ты не выздоровеешь.
Минут через десять больной, приняв лекарства, снова уснул. Отец Агапит только теперь заметил, что длинный маятник стенных часов мерно выстукивает: тик-так, тик-так! «Это хорошо, — подумал он, — это предзнаменование, что все пройдет ровно и правильно. Дай Бог!» — и отец Агапит осторожно, на цыпочках, вышел из комнаты.
* * *
Молитвы отца Агапита, тщательный уход за больным, аккуратный прием лекарств и прекрасная летняя погода сделали свое дело. В скором времени отец диакон уже мог свободно разговаривать с родными, а недели через две начал понемногу вставать с постели.
Дело быстро шло на поправку.
Живя у брата, отец Агапит любил совершать прогулки в окрестностях села и особенно бродить по полям.
— Благодать Божия! Ширь-то какая! — с восторгом рассказывал он брату, возвращаясь домой.
Часто в своих прогулках он направлялся по дороге, которая вела к Вознесенскому селу, что на Высокой горе. «Там, — невольно думалось ему, — улыбнулось было мне счастье! Но вместо него я посвятил свою жизнь Богу и служению людям. Впереди у меня очень много дел. Этим лишь утешусь?»
— А она, Верочка?.. — тоскливо шептал он, когда в сознание его, инока, вползал как тать и теперь любимый им образ. — Ее насильно выдали замуж. Не хотела ведь идти… Как-то теперь она живет?
Отец Агапит даже не знал, в каком городе находится его бывшая невеста. Знал только, что где-то на Оке. Постоянная дума о Верочке наполняла против воли сознание отца Агапита картинами его собственной фантазии, и он ясно чувствовал, что спасения от них надо искать в монашеских подвигах. Строгий пост, продолжительные молитвы, поклоны до ломоты во всех членах — все это было крайне необходимо ему, и как можно скорее.
«Да разве возможны подвиги среди чарующей поэзии летней природы, где на полной свободе все цветет, поет, движется?.. — думал отец Агапит. — Миллиарды жизней зарождаются здесь под каждым листочком и поют на бесконечное множество ладов свои песни, выражая этим жгучую радость — радость своего бытия. В природе с раннего утра и до позднего вечера — головокружительный, веселый праздник. Уединиться мне тут решительно некуда. На этом празднике жизни и бытия можно только снова зажечь то, что потухло!» — с ужасом сознавал он.
И это сознание угнетало отца Агапита и вместе с тем почему-то радовало. Но почему, он сам, как ни старался, не мог определить.
— Невозможно жить рядом с этой природой и не петь. Вот он, милый какой! Так и кланяется, точно говорит: «Возьми меня», — нервно срывая напитанный влагой тюльпан и припадая к нему губами, бормотал отец Агапит. — А вот незабудка! Это значит: «Не забудь меня!».
Целый букет душистых полевых цветов набрал в поле отец Агапит, жадно, всей грудью вдыхая их девственный аромат. «Вот он, пир жизни! — думалось ему. — И все живущее принимает участие в этом празднике жизни. Вот пчелка гудит и летает с цветка на цветок, добывая оттуда капли меда. Вот целые рои разноцветных бабочек гоняются друг за другом…»
«Мир точно приласкать тебя хочет, — ласково говорит сам себе отец Агапит, разглядывая ярко-красную Божию коровку, которая села ему на руку. — Видишь, посидела секунду-другую, расправила крылышки и поднялась на высоту. Лови ее теперь…» Он снял шапку и подставил свое лицо под ласкающие лучи солнца.
Хорошо и радостно было ему на природе. Высоко-высоко в небе поет свою песню жаворонок. Целые стаи стрижей с неистовым криком носятся с места на место, словно о чем-то хлопочут. Мохнатый, полосатый червяк выгибается, взбираясь на гнущийся под ним стебелек травы, и вдруг, испуганный ветром, сгибается в колечко, да так и притих, словно замер. Чары природы повсюду, и, кажется, нет в мире существа, которое чаровница-природа лишила бы своих горячих объятий.
Да, везде ликование, и в первый раз в жизни пришло на ум отцу Агапиту, что нет греха в том, чтобы принимать участие в этом безудержном веселии природы. Это — радость жизни! Это — свободная от всего земного хвала Великому Творцу всей Вселенной!
«Благослови, душе моя, Господа! Вся премудростию сотворил еси!» — в радостном восторге произнес молодой инок, возвратившись домой с ароматным букетом полевых цветов.
«А я еще размышляю о смысле монашеской жизни… — думал отец Агапит. — Вот цветы… Все они радуют человеческий взор и издают тонкое благоухание, а ведь они выросли на различной почве: одни — на плотном месте, другие — на рыхлой земле, иные — на сухих пригорках, а незабудки — в трясине. Так и букет добродетелей в душе человека. Все добродетели доброхвальны и привлекательны — приобретены ли они в юности, в зрелом возрасте или в старости; в мире ли среди широкого простора, на шумном празднике природы или в монашестве, среди уединенных тяжких подвигов. Именно так надо стяжать букет добродетелей! Да приобрести-то их трудно. Надо сначала очистить сердце от всяких греховных влечений и помышлений, и тогда уже насаждать доброе. А бороться с грехом и очищать душу легче в уединении, где меньше всего соблазнов…»
«Ну, кажется, я начинаю фальшивить, отдавая преимущество приобретению добродетелей монашеской жизни, — сказал сам себе отец Агапит, возвратившись с прогулки и сбросив с себя волну тревоживших его дум, — ведь решительно везде любит Господь сокрушенных сердцем и “на всяком месте владычествия Его”».
— А вот тебе письмо, — сидя под вишнями в садике перед домом, сказал отец диакон, заметив вернувшегося Агапита. — Иди-ка, брат, поскорее!
«Наверно, что-то важное из канцелярии митрополита. Что же? — подумал отец Агапит. — Ведь прошла только половина каникул, и мне еще целый месяц можно быть в отпуске».
— Посмотрим, — сказал он, вскрывая конверт и просматривая бумагу.
Канцелярия митрополита извещала, что Его Высокопреосвященство просит отца инспектора семинарии иеромонаха Агапита немедленно возвратиться из отпуска, если ничего серьезного удержать его на месте не может.
— Вот тебе и раз! — развел руками отец Агапит. — Монаху везде послушание. Завтра надо в путь! Только было отдохнул на природе душой в разгаре ее праздника, а тут опять в келью. Нет, буду проситься куда-нибудь в захолустный монастырь. Среди природы лучше славить Бога! Ни ты никому не мешаешь, ни тебе никто. В пустыню, в пустыню, — решительно и возбужденно закончил речь отец Агапит.
* * *
— Вот спасибо, что на призыв скоро пожаловали, — говорит владыка митрополит, благословляя отца Агапита. — Садись-ка, да потолкуем о совершившемся уже факте! Вас назначили ректором семинарии в Н-ск, — продолжал владыка, усевшись в кресло и указав отцу Агапиту рукой на место против себя. — Это я отрекомендовал Вас туда для исправления семинарии.
— Благодарю за внимание, владыка святый, — низко поклонился отец Агапит, крайне смущенный сообщенным известием, — но что же я могу там сделать? Человек я малоопытный и молодой. С самим собой еще не навык справляться и учусь жить у других. А тут не только одну сотню юношей, будущих пастырей, надо вести правильным путем, но должно исправлять всю семинарию, в которой, очевидно, много проблем. Боюсь я, владыка святый! Весь отдаюсь в волю Божию и всякое послушание готов исполнить, которое мне по силам, но будет ли по моему разумению наложенное на меня великое и трудное дело? Вот я инспектором семинарии старался исполнять устав и распоряжения начальства — и все было легко. А самому делать распоряжения и давать направление всей семинарской жизни — другое дело. Повиноваться неизмеримо легче, чем безошибочно других призывать и руководить!
— Об этом говорить поздно, — сказал владыка. — А вот давайте помолимся сначала.
Тут же, в приемной владыки, в большом углу перед иконами стоял аналой, и на нем лежали крест и иерейский молитвослов.
Владыка возложил на себя епитрахиль и начал читать ектении из молебного пения «На всякое прошение», а отец Агапит, стоя на коленях, горячо молился о благопоспешении ему в предстоящем трудном служении.
— Ну, отец ректор, — начал владыка по окончании молебна, садясь на диван, — садитесь-ка и слушайте!
— Слушаю, владыка святый! — поклонился низко отец Агапит и тоже сел.
— В Н-ской семинарии в прошедшем году не раз были довольно сильные волнения, так что ректора, несколько строптивого и не в меру сурового, пришлось перевести на другое место. Вот вам прежде всего и совет: не следует быть очень суровым по отношению к воспитанникам. А у Вас стремление к этому есть. Далее. Мало в этой семинарии церковности. А приучить к этому семинаристов у Вас тоже есть данные. Вот главное!
Владыка на некоторое время задумался.
А затем продолжил:
— Хорошо, что теперь каникулы. У Вас будет много времени для ознакомления со своими делами до начала учения. Сразу же заведите определенные порядки и следите за неуклонным их исполнением! Вот и все! — закончил владыка и поднялся.
Уходя, добавил, благословляя:
— Завтра побывайте у обер-прокурора Священного Синода и его товарищей. Не мешает также зайти к председателю Учебного комитета и еще к кому найдете нужным или нелишним.
* * *
«Господи, Боже мой! С новым назначением у меня как будто все переменилось, — думал, любуясь недорогою, но блестящей митрой, новопроизведенный архимандрит Агапит, ректор Н-ской семинарии. — И камни красивые, как будто настоящие», — трогал он пальцами разноцветные стеклышки, украшавшие митру.
Взяв в руки большой архимандритский крест, он почему-то потряс его на ладони, точно хотел узнать приблизительный вес. Затем не спеша перекрестился, поцеловал крест и позвонил в специальный колокольчик.
— Что прикажете, Ваше Высокопреподобие?
— Обед подавай! А потом укладываться надо, — однословно и официально отдал приказание отец Агапит.
Это вышло как-то само собой. «Да, все изменилось, — бросив еще раз взгляд на митру, стоявшую на письменном столе, подумал отец Агапит. — Последняя ступень к архиерейству… И Алексей это чувствует! Иначе как-то стал держать себя. Сразу, как только я возвратился из поездки, начал звать меня “Ваше Высокопреподобие”! Ох, эти горе-келейники!»
За обедом Алексей с салфеткой в руке стоял уже в столовой, а не как раньше: подаст блюда да и юркнет в свою комнату, продолжать прерванный было им обед.
Во все время обеденной трапезы отец Агапит вел с ним разговор:
— Ты, Алексей, купи себе приличную одежду, — наказывал он, — да и бельем запасись, чтобы не покупать сразу же по приезде все необходимое. По железной дороге поедем в отдельном купе. На целое купе и билет возьмешь. Сегодня же сходи на центральную станцию, завтра уже некогда будет, вечером поедем.
* * *
— «… Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!» — робко произнес отец Агапит в тот же день вечером, стучась в дверь лаврского духовника, архимандрита Исаии.
Отец Исаия, из крестьян Курской губернии, уже лет двадцать жил в лавре. Маленький, юркий, жизнерадостный, со всеми ласковый и приветливый, чуть ли не каждый день принимал он на исповедь кого-либо из братий, начиная с самых старших — наместника и других архимандритов — и кончая послушниками, приступающими к принятию монашеского пострига. Сам уже почти совершенно бесстрастный, с каким-то детским и даже наивным образом мышления, жизнерадостный отец Исаия и на все грехи смотрел как-то особенно, по-своему.
«Что бояться грехов, — постоянно говорил он, — эка невидаль! А Господь-то на что? Он, батюшка, всякие грехи простит, коли у тебя душа мягкая! Его только не забывай — и посрамишь диавола. Дьявол думает, ты согрешил, значит — ему послушник. Он тебя сейчас же в свой список: как бы, по-нашему, приуказить решил. А ты сейчас же вспомни Премилосердного Владыку и воздохни: “Господи! Согрешил, человек бо есмь, очисти и помилуй меня!”. Вот диаволу-то и конфуз — чужого записал в свой список! Да, брат кривохвостый, ничего не поделаешь, придется вычеркнуть раба Христова! Так-то! Значит, руки коротки. Только жестокой душе трудно очиститься, избавиться от диавола, — говорил отец Исаия. — Гордецу-самолюбцу нелегко смягчить душу, но и тех Господь вразумляет и приводит к покаянию. Вот хула на Духа Святого, упорство или противление истине не простятся, потому что противник раскаяться не может! Противиться истине — значит себя истинным считать. Старайся только душу сделать мягкою и ничего не бойся! Тогда Христос всегда придет к тебе и утешит твое сетование о грехе…»
И шла к отцу Исаие согрешившая братия, выплакивала свои прегрешения под его дырявой мантией и уходила радостная до новых беспокоящих душу грехов! А отец Исаия лишь махнет рукой вслед ушедшему только что раскаявшемуся грешнику и, посмотрев умиленным взором на икону Спасителя, как бы для своего собственного успокоения скажет: «Господи, человек бо есмь!».
— Ну, и что же, отец архимандрит, — весело встретил отца Агапита отец Исаия, — никак словом, делом, помышлением в дни и в нощи и на всякий час? Знаем Ваши грехи! Вздохнул бы к Богу, да и все тут!
— Нет уж, исповедайте, отец архимандрит, ради Бога, — умоляюще попросил отец Агапит. — Уезжаю завтра, так все-таки спокойнее с чистой совестью на новое место прибыть. Там, может, и не скоро удосужишься.
Отец Исаия молча облачился в мантию, поручи и епитрахиль, встал к аналою тут же в углу перед иконами, и весь сосредоточился на Лике Спасителя, как бы заранее указуя: «Человек бо есмь, Господи!».
Прошло минут двадцать. Наконец отец Агапит поднялся, разрешенный от грехов. Весь заплаканный, как прощенное матерью дитя, он целовал отца Исаию в обе щеки и только говорил:
— Вот не знаю только, как с искушением-то? Образ-то моей невесты все не отступает, точно вчера ее видел! Крест ведь это, батюшка, — и не знаешь, что с ним делать!
— А и пусть! — весело сказал отец Исаия. — Значит, так нужно. Господь попускает не без цели. Вот и надо радоваться, что Он наряду с архимандритским крестом и этот дал! Вспомни-ка, как апостол Павел говорит: «Дадеся ми пакостник плоти, да не превозношуся!» (Ср. 2 Кор.12:7 — ред.). Без нападения искушений не будешь хорошим воином Христовым, а тут что за искушение: образ невесты представляется! А вот и слава Богу! Радуйся этому! Значит, надо постоянно молиться за нее, чтобы ей жилось хорошо. Знать, она на тебя одного и надеется; за нее, верно, некому молиться. Это, выходит, и твоя прямая обязанность. А он: «Искушение!..» — с серьезным видом развел руками духовник. — Да я и не знаю, что бы дал, кабы у меня были сотни таких неотступных образов! Тогда было бы за кого молиться! А то что я? Встану вот на молитву и не знаю, кого поминать. Хорош молитвенник! Знать, никого не любил, коли всех забыл, а без любви разве возможно? Вот апостол-то и говорит: «Ежели имеешь веру, то и горы переставишь, а любви не имеешь — ничтоже есмь!» (Ср. 1 Кор.13:2 — ред.). Вот, брат, как!
— Ну, спасибо, отец архимандрит, за все, — сказал отец Агапит, прощаясь. — Не забудьте, пожалуйста, меня, грешного, в своих молитвах и благословите.
— Бог благословит, Бог благословит! — лобзая молодого человека, весело говорил отец Исаия. — Не забудь и меня! Смотри, не пройдет и десятка лет, как архиереем будешь. Дай Бог! Строгим не будь только, а милостивым будь! Помни: «Блаженны милостивии, яко тии помилованы будут!».
* * *
При выходе отца Агапита из вагона к нему приблизился желчного вида господин со щетинистыми усами, в длинном пальто и в фуражке с малиновыми кантами. Черные лихорадочные глаза его, казалось, готовы были пронзить насквозь того, в кого они вонзались. Все движения его отзывались нервозностью, а правую щеку немного подергивало.
— Имею честь видеть вновь назначенного в нашу семинарию отца ректора? — обратился он с вопросом к отцу Агапиту голосом, не уступающим в важности начальнику отделения какого-либо присутственного места. — Инспектор семинарии, Платон Степанович Рыкачев, — отрекомендовался он и немного приподнял фуражку.
Отец Агапит благословил его и сказал:
— Да, я ректор. Примите меня с миром.
— Со счастливым приездом! — ответил инспектор, но руку не поцеловал. — Здесь эконом ожидает Вас и коляска, — прибавил он. — Пожалуйте.
— Алексей, получи вещи и приезжай в семинарию на извозчике, — отдал приказание своему келейнику отец Агапит, направляясь через вокзал к выходу.
На крыльце вокзала его встретил низким поклоном отец эконом, диакон семинарской церкви. Небольшого роста, коренастый, с благодушным лицом, со спокойными манерами и голосом, свидетельствовавшим об искренности, отец диакон с первого раза так и располагал к себе. Приняв благословение и приложившись к руке отца Агапита, он отворил дверцу кареты и пригласил нового ректора садиться.
— Пожалуйста, и Вы со мной, отец эконом! Место свободное есть, а мне будет веселее, если хозяин дома сам введет меня в квартиру, — усаживаясь в угол кареты, сказал отец Агапит. — До свидания, — крикнул он инспектору, крайне смущенному тем, что ректор не пригласил его в карету.
Семинария была недалеко от вокзала, и карета скоро остановилась у подъезда ректорской квартиры.
— Ах, отец эконом, как мне благодарить Вас! — при входе в квартиру дрожащим от волнения голосом сказал отец Агапит. — Как все хорошо, сердцевед Вы! — говорил он, осеняя себя крестным знамением и со слезами на глазах взирая на икону Спасителя и ярко горящую перед ней лампаду. — Люблю, когда лампадочка горит перед иконой! Этой радости я уж, конечно, не ожидал. Спасибо, отец эконом! — и новый ректор, обняв правой рукой диакона, поцеловал его в щеку.
Диакон моментально смахнул рукой скатившуюся слезу и растроганный пошел показывать другие комнаты.
Обстановка везде была приличная: зеркала и даже комнатные цветы на полу в больших кадках. В уютной спальне опять оказалась горящая лампада перед образом Богородицы.
Помолившись перед иконой, отец Агапит снял клобук и положил его на угольничек.
— Вот и дома! — произнес он.
— Рядом вот столовая, Ваше Высокопреподобие, — пригласил отец эконом. — Пожалуйста.
Здесь был накрыт стол с холодными закусками и весело шипел небольшой самоварчик, а рядом с ним стоял начищенный кофейник. Было тепло и уютно.
— Ну, отец эконом, Вы решительно сказочник! — поблагодарил удивленный отец Агапит. — Жить рядом с Вами, очевидно, будет очень хорошо.
— Дай Бог благополучно и счастливо послужить с Вами, — поклонился эконом. — Что не досмотрим, уж извините нас и научите.
И эконом, благословившись, откланялся.
«Хороший, сердечный эконом, — оставшись один, думал отец Агапит, — а вот инспектор мне не понравился. Должно быть, он не последняя из причин бывших здесь волнений семинаристов».
* * *
— Нуте-ка, нуте-ка… Милости просим, новый устроитель семинаристов!
Такими словами встретил на другой день отца Агапита благодушный владыка Н-ской епархии, епископ Нифонт. — Благо, каникулы и укрощать-то теперь некого. Вы много выиграли, потому что раньше займете позицию и сами будете встречать семинаристов, а не семинаристы Вас, — шутил владыка. — Это много значит! Бунтуем, вот ведь что! — беспомощно развел руками владыка, кряхтя и усаживаясь в глубокое кресло. — Разберитесь Вы, пожалуйста, и направьте дух семинарский в тихое русло, а то так бывает тяжело от этих неурядиц, что и сказать не умею. Жаль юношества! Много хороших ребят гибнет ни за что. Я надеюсь на Ваше доброе сердце. Надо больше разумною ласкою действовать, а ее-то у нас и не было.
Владыка печально наклонил голову и тяжело вздохнул, а затем, многозначительно посмотрев на отца Агапита, снова продолжил:
— Своих взглядов на семинарских деятелей высказывать Вам не буду. Как Вам там действовать, советы давать тоже не буду — не нахожу полезным, чтобы готовыми мнениями не испортить Ваши начинания и действия. Свежий ведь человек всегда вернее видит положение дела. А мы тут изнервничались и, конечно, вполне естественно заблуждаемся. Будем жить ближе друг к другу и будем, не скрывая ничего, делиться мнениями. Ко мне во всякое время милости прошу, — говорил в заключение владыка. — Приходите запросто, не стесняясь. Думаю, что от Вашего назначения надо ждать успеха. Господь да благословит Ваше вхождение к нам!
Прощаясь с отцом Агапитом, владыка ласково предупредил:
— Для Вас на первых порах страда будет, но не бойтесь, будем помогать друг другу.
Как и предсказал владыка, для нового ректора, действительно, началась «страда»…
* * *
— Знаете, для чего Господь избрал святых апостолов и держал их при Себе до Своих страданий? — обратился отец Агапит к воспитанникам семинарии после молебна перед началом учения. — А для того, чтобы научиться у Него и получить силу возвещать людям путь спасения. И мы все пришли сюда учиться и приобретать силы, чтобы продолжать апостольское дело. Будущая наша задача — задача всей нашей жизни — возвещать людям учение Господа нашего Иисуса Христа, а Он прежде всего говорил: «Мир вам!». И еще: «Мир Мой даю вам!». Итак, мир или спокойствие во всех случаях жизни, начиная от сего времени, когда вы знаете, какое великое и святое дело предстоит вам в жизни, — должен преобладать в нашей душе. Что бы ни случилось, прежде всего подумайте: «Я должен сохранить спокойствие духа!». И вы увидите сами, что только при душевном спокойствии всякое дело и может идти разумно. Но не иначе. Ваш возраст таков, что душа еще не приобрела никаких дурных навыков. А приобретая хорошие навыки, в них легко и утвердитесь. Да поможет вам Бог во всем добром и да сохранит от всякого зла!
В заключение проповеди отец Агапит сказал:
— У вас, естественно, бывают различные житейские нужды, и неудовлетворение их производит в душе беспокойство. А вам, как раз наоборот, надо заботиться о мире душевном. Поэтому я прошу дежурных всех классов ежедневно высказывать эти нужды. Я, что могу, сделаю или дам совет, как, что сделать, а чего делать нельзя, объясню, почему нельзя. При полном доверии друг к другу гораздо легче будет идти по пути к апостольству, а если доверия нет, то истинному апостольству не научиться. Вспомните, что среди апостолов Христовых был ученик и с лукавым сердцем! Юношеские сердца — хорошие сердца! Пусть ваши сердца навсегда останутся хорошими, милые юноши!
— Повеяло, братцы, теплом! — говорил басом здоровенный шестиклассник товарищам в перемену между уроками. — Сегодня хотел было я отчитать живодера-инспектора, совсем уж рот было раскрыл, да как-то язык не повернулся, когда вспомнил речь отца ректора. Махнул рукой, думаю, а ну его в болото! Пристал из-за пустяка. «Зачем, — говорит, — каблуками стучите? Чтоб этого у меня не было!» Вспылил, по обычаю, и застучал двумя пальцами правой руки по ладони левой. Трудно было удержаться, но удержался! Вот что значит влияние человека с любящим сердцем, — имея в виду ректора, закончил шестиклассник.
— А представьте, какой случай с Юрьевым из второго класса произошел! — сказал другой семинарист. — Он из дома письмо получил. Пишут, что и так бедно живут, а тут еще по какому-то делу нужно неотложно пятнадцать рублей заплатить. Взять негде, надо из двух коров одну продавать, и бедная мать, как пишет отец-псаломщик, горько плачет: с малыми ребятишками, мол, молока не хватит от одной коровы. Понятно, прочитал письмо мальчишка, разрюмился, а отец ректор мимоходом как-то и увидел. «О чем плачешь?» — спрашивает. Тот еще сильнее начал плакать. «Да скажи, перестань, — добивался отец ректор, — все равно ведь слезами ничего не выплачешь». Мальчишка и рассказал все подробно. Отец ректор погладил его по голове и сказал: «Хорошие твои слезы, а потому до Бога дойдут! Успокойся же!». И что же вы думали? — с загадочным видом посмотрел на товарищей семинарист. — Мальчишка вчера получил письмо, что кто-то неизвестный послал отцу 25 рублей и все обошлось благополучно, да еще и про запас осталось. Понимаете, что это значит?!
* * *
— Ах, как хорошо поют в семинарской церкви, ведь целая семинария поет, — делятся впечатлениями два каких-то господина. — Семьсот человек — и вдруг «Свете Тихий!». То тихо, чуть слышно, то торжественно и громко несется хвала Богу многосотенного хора юношей. А «Хвалите имя Господне»! А «Великое славословие»! О, как чудно все это и глубоко трогательно! Говорят, раза по три в неделю спевки бывают! Ректор завел. И сам всегда на спевках!
* * *
— Ну что, отец ректор? Второй год идет, а бунтов у Вас нет! — с шуткой обратился один раз владыка к отцу Агапиту. — Верно, зачаровали семинаристов-то. Тишь да гладь да Божия благодать!
— Да некогда бунтовать, владыка, — тоже с шуткой ответил отец Агапит, — а будет свободное время, и побунтуем. Но теперь пока некогда, учимся жить и Бога хвалить, а там, может быть, и совсем отвыкнем бунтовать.
«Хороший отец ректор, очень хороший!» — подумал владыка. А по уходе отца Агапита обратился к пришедшему с докладом иеромонаху архиерейского дома:
— Вот отец ректор-то в семинарии! Поискать таких-то.
— Чего лучше! — согласился эконом.
— Семинаристы при нем совсем другие стали. Даже шапку при встрече снимают, а прежде, поди-ка! Стоящий архимандрит.
— Что и говорить, только что-то особенное в нем есть, — прибавил эконом. — К духовнику часто ходит. Иной день не один раз прибежит.
— Гм… С чего бы это? — раздумчиво, как бы про себя, сказал владыка. — Человек он благодушный, не прочь и шутку сказать, никогда мрачного лица не показывал, напротив, всегда лицо веселое. А такому зачем бы на исповедь?
— Ходят слухи, владыка, — таинственно заговорил эконом, — что по ночам отец ректор на молитве долго стоит, подвиги разные на себя накладывает и чуть ли не вериги носит на теле. Тайно благотворит будто бы. О доброте его и святости семинаристы твердят всюду. Правда, он на вид-то не подходит для святого: всегда такой веселый, радостный. Но кто его знает!
— Разве и святому нельзя быть веселым? Вот какой он! — неопределенно протянул владыка. — А к духовнику часто ходит, знать, для очищения совести. Верно, чувствителен очень.
То, на что намекал эконом владыке, было известно уже всему городу. Об отце Агапите говорили как о человеке необыкновенно праведной жизни и даже как о святом. Толки эти, расширяясь все шире и шире, скоро перешли на более реальную почву.
В один из воскресных дней, возвратясь домой после вечерни в семинарской церкви, где он, по своему обыкновению, вел духовные собеседования и давал многочисленные объяснения вопрошающим, отец Агапит с удовольствием растянулся на кушетке, чтобы расправить уставшие члены. Но тяжелые думы наполнили его уставшую голову. Сколько сомнений, сколько борьбы, сколько неописуемого горя пришлось узнать ему в соприкосновении с людьми, обращавшимися к нему за разъяснениями по поводу различных религиозных вопросов и за советами в тех или иных жизненных затруднениях!
«Сколько всевозможных страданий — больших и малых крестов — несут люди, изнемогая под их тяжестью. Они падают, готовые предаться отчаянию, но несут все до конца, спасая свои души! — думал отец Агапит. — Я же все вожусь со своим крестом. А что мой крест? Правду говорил отец Исаия: “Радоваться надо, когда есть за кого молиться. Помолишься, и отступит образ невесты. Вот и молись!”. Теперь я знаю это! Да и за всех требующих от Бога помощи надо молиться! А таких и не перечтешь!»
— О, Господи! Спаси всех! Помоги всем! — взглянув в угол на иконы и перекрестившись, произнес воодушевляясь отец Агапит.
— Вас желают видеть! — сказал появившийся в дверях послушник и подал визитную карточку.
— Сейчас, я только оденусь, — посмотрев на карточку, ответил отец Агапит и распорядился: — Проведи в гостиную.
Быстро надев рясу, он вышел к посетителю.
— Простите великодушно, отец архимандрит, что решился обратиться к Вам с неотложной нуждой, — с дрожью в голосе начал высокий пожилой полковник. — Просьба моя, может быть, покажется Вам очень странной. Но не судите, а помогите! Уставший хватается за соломинку, а я считаю Вас силою, на которую надеюсь; почему это так — опять не спрашивайте. У меня дочь взрослая тяжко больна, — продолжал после недолгого молчания полковник, — доктора не могут понять болезни. Лечили, лечили, и сегодня наконец консилиум заявил, что организм истощен и на восстановление его нет надежды. Жизнь угасает постепенно. Вся она тает точно воск и становится все тоньше и тоньше. Я приехал просить Вас: не откажите помолиться за нашу бедную, больную Верочку! Ей почему-то думается, что Ваша молитва возвратит ей здоровье!
Полковник низко поклонился и со слезами на глазах закончил:
— Сознаю всю неуместность моей просьбы к Вам, начальнику учебного заведения, занятому исключительно педагогическими интересами, но прошу Вас: признайте уместность просьбы отца, готового решиться для спасения дочери на что угодно!
Отец Агапит молча выслушал просьбу полковника, а затем распорядился позвать дьякона-эконома и приказал ему взять из церкви запасные Святые Дары.
В квартире полковника с нетерпением ждали результата посольства отца. У всех в голове была одна неотвязная мысль: приедет или не приедет «святой архимандрит»? В святости его почти не сомневались, а потому все думали: «Уж если приедет, то больная непременно поправится!». Сама же больная в какой-то счастливой, детской уверенности постоянно твердила: «Приедет, приедет!». Вот и звонок. У всех замерло сердце. Приехал отец архимандрит. Войдя в гостиную и глядя куда-то выше голов встречающих его лиц, коротко спросил:
— Где комната больной?
Его провели. Больная лежала на кровати, вытянувшись во всю длину, с застывшей на бескровных губах улыбкой и смотрела на вошедшего отца Агапита, словно думала: «Вот он, “святой архимандрит”! А приехал-таки. Теперь я оживу».
Слабое сердце так сильно забилось в груди больной девушки, что она едва не задохнулась от волнения и конвульсивно схватилась за грудь. Отец Агапит, помолившись на икону, благословил больную, взял ее за холодные руки и держал их, слегка пожимая, точно через них силился влить чудодейственную Силу, способную оживить умирающий организм.
Сердце больной усиленно трепетало и несколько раз замирало так, что от какого-то непонятного чувства она в страхе закрывала глаза. Но вскоре сердце девушки снова спокойно застучало в слабой и истощенной груди.
Наконец архимандрит встал на колени и долго молился так перед образами, перебирая в руках монашеские четки. Затем, исповедав и причастив больную, он твердо сказал:
— Именем Иисуса Христа будешь здорова!
Архимандрит еще раз истово благословил больную и поспешно удалился.
Вера ли родителей и самой больной, или же пережитые ею сильные волнения в ожидании отца Агапита, или его сосредоточенная и вдохновенная молитва произвели какой-то перелом в истощенном организме умирающей девушки, но с этого дня душевное состояние Верочки стало спокойным и уверенным, так что началось ее выздоровление. День ото дня больная чувствовала в себе как бы прилившую откуда-то извне силу, так что каждое утро, пробудившись рано, она силилась как можно крепче сжать свои кулачки и кричала матери:
— Мама, я сильная!
Действительно, совершилось чудо! Девушка, жизнь которой еще совсем недавно угасала, выздоровела.
Ровно через два месяца Верочка приехала вместе с родителями в семинарскую церковь помолиться, а потом и к отцу Агапиту — поблагодарить его за молитвы. Отец Агапит очень испугался этого внезапного посещения, естественно, предполагая, что его будут благодарить. Чтобы не дать времени для похвалы, он накинул на себя веселость и бойко начал хлопотать об угощении: сам расставлял на столе вазочки с разным вареньем, коробочки с искусным печеньем. Полковнице предложил исполнять роль хозяйки, а сам живо интересовался тем, как Верочка ощущала постепенное выздоровление и что она чувствует сейчас.
С этих пор молва о святости отца Агапита и его силе творить чудеса распространилась не только по городу, но и далеко за его пределами.
В душе же самого отца Агапита с новой силой возникла борьба — борьба не на жизнь, а на смерть, с самыми ужасными натисками старых искушений. Выздоровевшая Верочка, открывшая ему во время болезни свою душу, растравила в его сердце застарелую рану, и дорогой образ его Верочки с такой ясностью встал в сознании отца Агапита и с такой неотступностью был при нем, что он готов был даже принять его за реальность! Он рад был протянуть к нему руки, и обратиться, как к живому существу, и даже заговорить с ним… Но в то же время отец Агапит хорошо осознавал, что это — искушение. Он был серьезно озабочен — боязнь новых наваждений дошла до того, что архимандрит стал спать сидя в кресле, даже не раздеваясь. Но чем больше изнурял он себя подвигами, тем сильнее беспокоили его дьявольские наваждения.
Временами отец Агапит вспоминал наставления отца Исаии и успокаивался.
«Что бояться образов, — говорил ему когда-то отец Исаия, — это-то и хорошо, что они являются. Хоть знаешь, за кого молиться! Вот и молись!»
Эти слова старца ободряли отца Агапита. Он сразу оживал и, молясь за Верочку, об одном только и думал: «Лишь бы ей добро жилось! А мне живется хорошо, слава Богу! В семинарии установилось все наилучшим образом, и дух церковности утвердился здесь крепко. Воспитанники в церковном чтении и пении так преуспели, что семинарская церковь всегда полна народа, и с ним столько пастырских забот… Что делать? — вздыхал тихонько про себя отец Агапит. — У каждого свои нужды, свое горе. И всякому от горя хочется избавиться! Вот и обращаются они к священнику за молитвенной поддержкой да за разной помощью по нужде. Что делать, жаль людей, помогать надо…».
И ходили за помощью и утешением к отцу Агапиту все, кто о нем слышал, не стесняясь, во всякое время. Даже во время уроков приходили в семинарию и ожидали, когда он выйдет из класса.
За семь с половиной лет службы в семинарии архимандрита уже знал весь город, и даже дети, услышав о болезни кого-нибудь из родных или знакомых, уверенно говорили:
— Надо сходить к батюшке Агапиту!
* * *
Однажды в зимний вечер был довольно сильный мороз. Небо было ясное, светила полная луна, а миллиарды звезд точно яркие свечки мерцали в глубокой темноте неба. Набежит временами невесть откуда облачко, закроет луну, и звезды вспыхивают еще ярче, точно желая наверстать минутное уменьшение света луны. Дунет ветерок, разорвет в клочья облачко — и опять улыбается луна. Словно всем земнородным хочет сказать: «Что, испугались, голубчики? Ну-ну, я пошутила!». Отец Агапит в благодушном настроении сидел у окна, глядя на небо, и размышлял о дивной красоте природы, крепко заснувшей на целую зиму под пухлым белым покровом. И вспомнилась ему такая же зимняя ночь, когда он чуть не полтора десятка лет назад ездил семинаристом в село Белые Гари, где в первый и последний раз увидел свою Верочку. Сколько счастья сулил ему этот памятный вечер! Сколько радостных грез пережил он после этого вечера за полтора года, до окончания семинарского курса! Прямо со школьной скамьи попросил он священническое место. И получил его. На крыльях мечты летел он на Высокую Гору, чтобы «мановением палочки» превратить свою пленительную грезу в действительность и вместе с этой грезой ринуться в дальнейшую жизнь и трудиться без отдыха во славу Господа и на пользу Церкви и паствы. «Но увы, — тяжело вздохнул отец Агапит, — все разлетелось, как мечта, без надежды на счастье. Вот мое счастье — черный клобук да никому не ведомый тяжелый крест на спине! А где же моя милая “греза”? Где? Какой она несет крест? Тяжел ли он ей и под силу ли?»
— Простите, отец архимандрит! В передней никого нет, и я вошла, — проговорила изящно одетая во все черное высокая, стройная дама под густой вуалью. Приблизившись к отцу Агапиту, она протянула сложенные для благословения руки.
Отец Агапит смущенно благословил посетительницу, пригласил ее садиться, а сам поместился на стуле у противоположного конца стола и спросил:
— Что прикажете?
— Я к Вам за советом, отец архимандрит, — тихо уронила дама.
— К вашим услугам, и готов помочь, — поклонился отец Агапит.
— У меня очень тяжелая жизнь… — медленно и тихо заговорила дама, — и я часто не знаю, что мне делать, чтобы справиться с собой. Мне бы хотелось поговорить с Вами откровенно, но чтобы о нашем разговоре никто не знал. Я слышала, что Вы обладаете силой утешать бедствующих и облегчать всякое горе. Мне хотя бы малую отраду уметь находить в дни тяжелых душевных мук, от которых я по временам невыносимо страдаю! Подумать только, чего я лишилась по своей глупости и в какой брак вступила по чужой воле на всю жизнь… — посетительница, не закончив речь, смущенно отвела в сторону взгляд.
Нервно дрожащей рукой она вынула из сумочки изящный и сильно надушенный платок и вытерла им глаза, полные слез. А затем боязливо спросила:
— Вы позволите рассказать Вам о моей жизни? Вся она составляет никому не ведомую тайну, и мне думается, что одно уже сообщение о ней другому лицу, которому я, безусловно, доверяю, облегчит мой поистине тяжелый жизненный крест! Все считают Вас сильным пред Богом, — прибавила она, — и я буду утешена тем, что Ваши молитвы за меня пойдут к небесам.
Отец Агапит вдруг смутился. Непонятное малодушие, как никогда прежде, овладело им, словно ему угрожала неминуемая беда. В трагическом голосе незнакомки ему послышались какие-то тревожные оттенки — точно электрическим током били они прямо в его сердце. Архимандрит позвонил в колокольчик и приказал явившемуся келейнику подать графин воды, вазу с вареньем, стаканы и фрукты. Когда все это было подано, он предложил даме варенье и фрукты, а себе налил воды и залпом выпил. Вскоре, немного успокоившись, произнес:
— Я слушаю Вас!
— Кто я такая, откуда родом, где живу — на эти вопросы отвечать не буду, — начала дама. — Они для Вас не имеют значения. Я дочь небольшого чиновника, рано осталась сиротой и поступила на воспитание к дяде, сельскому священнику. Жизнь моя шла безмятежно и счастливо. Училась я в гимназии, а каникулы проводила у дяди, где подругой моей была их дочь — моя двоюродная сестра. Наконец я окончила курс и имела намерение ехать на высшие педагогические курсы…
— Виноват, я сейчас приду, — вдруг вскочив с места, сказал отец Агапит и быстро вышел в другую комнату.
Там он вынул из кармана платок, зачем-то вытер им губы и нос. Затем нервно достал из этажерки коробку с мятными лепешками и, сунув одну из них в рот, немного постоял так в задумчивости. Вскоре же вышел к посетительнице и как ни в чем не бывало сел на свое место.
— Не утомляю ли я Вас? Может быть, Вам неприятно слушать странную повесть совершенно незнакомой Вам особы? — сказала с беспокойством дама. — Но я, ради Бога, прошу Вас выслушать меня до конца, потому что в другой раз я, кажется, и не решилась бы уже более говорить об этом.
— Нет, пожалуйста, продолжайте! — глухим голосом сказал отец Агапит. — Я свободен и готов выслушать Вас. Буду рад, если смогу чем-нибудь помочь Вам.
— По окончании курса, — продолжала дама, — я беззаботно набиралась сил на просторе деревенской природы — среди спелых хлебов, зеленых лесов и обширных благоухающих лугов. Моей двоюродной сестре еще год осталось учиться в епархиальном училище, и тетушка, видя нашу неразлучную дружбу, уговорила меня подождать с курсами — прожить год у них дома и на следующее лето ехать поступать вместе с сестрой. Так я осталась. Хороша уж очень казалась жизнь — все впереди представлялось приятным и заманчивым, хотя совершенно неизвестным. Впереди рисовалась чудная сказка! Когда сестра уехала в училище, я осталась на зиму в деревне с дядей и тетей; за книгой, за легкой работой: шитьем и вязаньем — проводила я время. Я не скучала. Но сердце мое было в ожидании. На Рождество приехала моя двоюродная сестра, хозяйская дочка, и мы задумали устроить веселье. Духовное сословие — люди патриархальные, вечеринки проходят у них просто и бесхитростно. Все уже веселились, когда в средине вечера в наш дом прибыли четверо замаскированных молодых людей. Оказалось, что это семинаристы…
Отец Агапит снова залпом выпил стакан воды и съел три мятные лепешки подряд. Косточки четок мелькали в его руках, пальцы были в нервном напряжении, и весь он как-то монотонно покачивался, точно старался осилить какую-то большую тяжесть.
— Один из замаскированных молодых людей не оставлял меня целый вечер, — говорила дама. — Он так говорил и вел себя, что я не заметила, как заиграло вдруг мое сердце. Ничего подобного до этого я никогда не испытывала. Тогда я попросила незнакомца показать мне лицо. Вдали от людей он снял маску, и я увидела чудный, милый лик с блестящими, ласковыми глазами. Сердце мое запело дивную песнь, и мы крепко пожали друг другу руки. Молчаливым крепким пожатием рук мы и простились, не сказав друг другу ни слова о том, что в душе каждого из нас. Он не открыл мне ни своего имени, ни фамилии, так как у приехавших в масках было условлено никому не открываться. Про меня он тоже ничего не спросил, вероятно, предполагая, что я дочь хозяина.
Дама тяжело вздохнула и нервно поднесла к глазам платок.
— Уехали маскированные, — снова заговорила она, — и с тех пор образ того, чье лицо я видела под маской, не покидал моего воображения. Я носилась с ним, как с драгоценностью, дороже которой для меня ничего не могло быть на свете. Я уверена была, что мы созданы друг для друга и что не за горами то время, когда мы вместе вступим в эту жизнь. Я чувствовала, что и он не перестает думать обо мне и мечтает о том же счастье, что и я. Целый год я была несказанно счастлива в мечтах. Будущность для меня была решена, и самым пленительным образом: впереди грезилась чудная сказка жизни с тем, кто всецело владел моим сердцем!
Незнакомка вдруг замолчала, словно погрузилась в далекие мысли. А вскоре, встрепенувшись, продолжила:
— Но вот чужой человек, точно злой колдун, прервал мою милую сказку и грубо разметал мои грезы. Инспектор народных училищ, бывший мой учитель по гимназии, попросил у дяди и тети моей руки.
Отец Агапит, не будучи более в силах побороть свое волнение, быстро встал и, сказав, что сейчас вернется, снова поспешно вышел из комнаты. Дама, оставшись одна, с благоговением посмотрела вслед ушедшему архимандриту и, перекрестившись, со вздохом произнесла:
— Святой человек!
А «святой человек», кое-как справившись с предательским волнением, снова вышел к посетительнице и сел на прежнее место.
— Мои родные, — продолжила дама, — конечно, несказанно обрадовались. Такой жених и такая честь сироте! Но, когда они сообщили мне об этом, я наотрез отказалась выйти замуж. Никакими словами не могли они заставить меня выйти к жениху, так что тетушке пришлось объявить ему, что я нездорова. Жених уехал с намерением приехать к нам через некоторое время снова. Что я пережила за свое упрямство, говорить не стоит! Через две недели жених пожаловал опять и был принят тетушкой, конечно, с распростертыми объятьями, но я снова не вышла и решительно заявила, что за этого человека замуж не пойду. Сконфуженная тетушка еще раз доложила о моем нездоровье. Пожелав мне заочно скорейшего выздоровления, жених откланялся, но на другой день неожиданно явился и застал меня совершенно здоровою. На личное предложение его я ответила отказом. Он, совершенно обескураженный таким ответом, заявил, однако, что все-таки не теряет надежды. После этого начались его частые посещения, письма мне и тетушке, наседания тетушки и угрозы до лишения крова включительно с указанием перспективы оказаться бездомной, без всяких средств к жизни… Чего только я не перенесла за эти два месяца, пока продолжалось мое упорство. Добрые сами по себе, мои родственники считали такое сватовство необыкновенным счастьем для сироты, а потому и старались воздействовать на меня, не останавливаясь ни перед какими средствами, так как думали, что, отказываясь выйти замуж по своей глупости, я теряю счастье. Я же не говорила им своей настоящей причины: они не поняли бы меня, да и сказать ничего определенного я тоже не могла…
Дама ненадолго прервала рассказ, в течение которого через каждые две-три минуты отец Агапит брал мятную лепешку и полагал ее в рот.
— Наконец я изнемогла, — снова заговорила дама, — и в припадке какого-то исступления вскричала: «Делайте со мной что хотите, только оставьте в покое!». Жених торжествовал. Как автомат привели меня в церковь, и нежеланное венчание состоялось.
Дама не могла больше говорить и зарыдала. Прошло несколько томительных минут, прежде чем она, немного успокоившись, снова заговорила. Выпив налитый отцом Агапитом очередной стакан воды, она, всхлипывая, продолжила свое горестное повествование:
— С тех пор моя жизнь представляет сплошное страдание. Я несу крест, бороться с которым уже истощаются силы. Да и муж мой тоже не нашел счастья. Сразу, как только мы остались после венчания вдвоем, я сказала ему: «Вы знали, что я шла замуж против воли, и все-таки не отказались от меня, ну и живите себе, а мне до Вас дела нет!». Нехорошо это, но я живу как чужой ему человек. Душой же я связана с тем, кого избрало мое сердце. Развода муж не дает. — Такая жизнь для меня просто невыносима! — почти крикнула дама и снова залилась горькими слезами. — Считать мечту за действительность! Ведь это близко к сумасшествию! — сквозь слезы выговорила она.
Отец Агапит тяжело вздохнул, когда дама замолчала, и в глубокой думе низко склонил голову над столом.
— Семейная жизнь уже непоправима, — отрывисто и с волнением заговорил он наконец. — Значит, надо духовную жизнь регулировать. Известный образ в Вашей духовной жизни является господствующим. Опытные в духовной жизни люди говорят, что это хорошо: значит, надо молиться за того человека, так как он нуждается в Вашей молитве. Это признак того, что и он думает о Вас и молится Богу. Вот и поддерживайте друг друга горячей молитвой ко Господу Иисусу Христу!
Голос отца Агапита задрожал, и он, не будучи в силах сдержать своего волнения, внезапно замолчал. Наконец, кое-как справившись с волнением, продолжил:
— Господь сказал: «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Вот Вы и успокойтесь духом! Вспышки недовольства жизнью, конечно, будут. Временами будете возмущаться своим безвыходным положением. Пожалуй, будет возникать в Вашей душе и ропот. Но тогда скажите себе: «Именем Иисуса Христа не боюсь искушений!» — и сейчас же пройдет. Рассудите, в самом деле, здраво, вдумайтесь в свое тяжелое, безысходное положение: ведь ни возмущением, ни ропотом, ни слезами, решительно ничем здесь себе не поможешь! Если угодно, то все, что я сказал, запишите для памяти по приходе домой, — закончил отец Агапит, — когда будет тяжело, берите эту бумажку и перечитывайте! Молясь за того, чей образ Вам дорог, помяните и меня в молитве, бедного монаха Агапита. Господь Вас благословит! — осенил посетительницу крестным знамением отец Агапит и позвонил слуге, приказав проводить барыню. Та со слезами припала к руке отца Агапита. Затем горячо поблагодарила его за совет и медленно и тихо вышла в дверь. А отец Агапит скрылся в другую…
Двенадцатый час ночи. Пятый раз подходит келейник Алексей к спальне отца Агапита, чтобы спросить, подавать ли чай. Но, заглянув в дверь, снова молча уходит. Архимандрит молится. «Служить, что ли, завтра собирается? — думает слуга. — Давно уж пора пить чай, скоро уж и нельзя будет».
Закончив молитву, отец Агапит, вытирая ладонями влажные глаза, каким-то особенным, как будто радостным голосом произнес:
— Ну, благослови, Господи! Уезжать надо!
На другой день он взял отпуск и уехал в Петербург, хлопотать о переводе на другое место.
* * *
Шумные улицы столицы, точно вчера оставленные, когда отец Агапит был еще Андреем Ивановичем, вызывали в нем странные чувства. По этим улицам совсем недавно он свободно расхаживал, когда ему вздумается. А теперь вот поди… — почему-то думал и грустно улыбался отец Агапит. — Вот поди теперь!
Вот и лавра. Монахи в разных направлениях бродят по тропинкам лаврского сквера, совершая предобеденный моцион.
Послушники в черных подрясниках, заломив на затылок бархатные скуфьи, гуляют по тротуару и с важностью посматривают на случайных прохожих. Взгляд их точно бы говорит: «Вы точно куда-то спешите? А вот мы так отлично себя чувствуем…».
Архимандрит, прибыв в комнаты, предназначенные для приезжающих в лавру, и приведя себя в порядок после дороги, спросил прислужника:
— Жив ли, здоров ли отец Исаия?!
— Нет! Отошел! Осенью мы его схоронили, — ответил монах. — Да и время уж, — прибавил он. — Ведь ему годов, почитай, чуть не сотня была. А старец был благочестивый, Царство ему Небесное! Дня за два перед этим, перед кончиной-то, подал я ему стакан чая. Он посмотрел так на меня загадочно, улыбнулся да и говорит: «Спасибо тебе за угощение, Филиппушка! Я вот скоро ухожу от тебя! Приходи и тогда ко мне в гости!». Так не видаючи и отошел. Пришел это я — лежит на постельке и руки на груди сложил крестом. Блаженная кончина! Теперь, смекаю, и мне, пожалуй, собираться надо в гости к отцу Исаие, — весело закончил монах и улыбнулся.
— Да, хороший был старец, — перекрестившись, сказал отец Агапит. — А знаешь, брат Филипп, в какое время удобно к владыке митрополиту заявиться?
— Нету владыки-то дома. В Ладогу уехал. На освящение церкви.
* * *
В обширной приемной синодального сановника десятка три посетителей разного вида и звания. Три архимандрита в черных шелковых рясах, с внушительными золотыми крестами, при орденах, перебирая пальцами богатые четки, обмениваются время от времени короткими фразами. Каждый думает о своем деле: чего бы не забыть на аудиенции?
Несколько протоиереев со звездами на груди и без таковых. Многие из них при многочисленных орденах и с дорогими, золотыми крестами. Дальше — священники, скромно, полушепотом переговариваются между собою или с кем из соседей.
Между посетителями и преподавателями духовно-учебных заведений большинство пришедших — в форме установленного образца. Этот педагогический люд в затасканных большею частью вицмундирах как-то жмется друг к другу и боязливо озирается по сторонам. Из знаков отличий тут преобладают маленьких степеней ордена, несмотря на то, что многие из педагогов люди уже поседевшие.
Прием еще не начинался. Сановник занят в кабинете с синодальным чиновником, явившимся с обычным докладом. Чувствуется какая-то нудность. Слышны глубокие вздохи, каждому хотелось бы поскорее вырваться.
При входе в приемную к отцу Агапиту быстро подошел чиновник особых поручений и спросил:
— Кто? Откуда? О чем просьба? — и приготовился записывать в памятный листок требуемые ответы.
Отец Агапит ответил, а затем подал свою визитную карточку и попросил ее отнести в кабинет. Сам же, поклонившись на все стороны, скромно сел на стул недалеко от входа. Уставшие от напряженного ожидания посетители почти не обратили на него никакого внимания. Скоро дверь кабинета отворилась, и оттуда вышел чиновник, неся в руках портфель с бумагами. С олимпийской важностью он прошел по приемной, глядя перед собой вдаль бесстрастными, словно у замороженного судака, глазами. Чиновник особых поручений быстро юркнул в кабинет с карточкой отца Агапита и уже через какую-нибудь минуту вышел оттуда и пригласил его войти:
— Пожалуйте, отец архимандрит!
Теперь уже все без исключения обратили внимание на отца Агапита и начали тихонько перешептываться: «Верно, какая-то важная птица этот архимандрит, если пришел последним, а первого приняли!».
— Ах, отец ректор! Вот уж как кстати Вас Бог принес. Не знаю, как сказать… — с распростертыми объятьями встретил отца Агапита сановник, смачно лобзаясь с ним.
— Вот кого мне нужно! — продолжал он, когда они уселись в кресле. — Второй день думаю, кого бы мне подходящего на одно место посадить? И все не мог придумать. А теперь вот вопрос решается сам собою. Преосвященному Герасиму надо помощника, — прибавил сановник. — Стар стал, а послать на покой — не хочется огорчать старца. Так вот Вас ему викарием-епископом и пошлем.
От такого счастливого неожиданного оборота дела отец Агапит до того опешил, что ничего не мог говорить, кроме одной фразы:
— Недостоин я. Недостоин…
— Нет уж, отец архимандрит! Это дело решенное — завтра же будет доклад, и все проведем ускоренным темпом, а не позднее как недели через две и Вас отправим!
Облобызавшись с отцом Агапитом, сановник под руку вывел его из кабинета и, прощаясь, пожелал ему доброго здоровья.
* * *
— Брат Филипп, как мне разыскать могилу отца Исаии? — спросил отец Агапит келейника по возвращении в лавру.
— А тут, сразу за алтарем Исидоровской церкви и есть. Мраморная плита на могиле лежит, а на ней надпись. Тут сам и пожелал упокоиться.
С чувством благоговения и трепета припал отец Агапит к могильной плите архимандрита Исаии и долго молился, орошая золотые буквы надгробия обильно текущими слезами. О чем плакал отец Агапит? Ведь не было у него ни родственной, ни какой другой особенной связи с погребенным под этой плитой старцем; он и знакомства не вел с ним, а виделся только по нужде, ради духовного совета, и то два-три раза в жизни. Отчего так слезы сами льются? А оттого, что много вытерпевшая в борьбе с искушениями душа отца Агапита раза два-три в жизни получила от отца Исаии не только временное облегчение в искушениях, но и предсказание на будущее время. Вспомнилось отцу Агапиту и последнее свидание со старцем в день возведения в сан архимандрита. «Смотри, не пройдет десятка лет, как и владыкой будешь!» — говорил тогда отец Исаия. Вот и сбылось предсказание старика! Не прошло еще и десятка лет, а уже обещают через две недели сделать епископом.
Сидит отец Агапит на скамейке у могилы отца Исаии и задумчиво перебирает костяшки четок, а сам точно со старцем разговаривает. Не верится, что старец умер. Он представляет его живым и словно ждет советов относительно того, как быть ему с его искушением, когда он станет епископом, ведь епископский сан обязывает поддерживать в себе важность, а подвиги самоуничижения, изнурения плоти, кажется, с этим саном несовместимы. «А между тем тяжелый крест, самое сильное искушение моей жизни, требует смирения духа и телесных подвигов, — с тоской думал отец Агапит. — Что сказал бы отец Исаия, если бы он был жив?» И вспомнились ему слова старца: «Божественная благодать немощное врачует, недостающее восполняет и научит всему…».
— Что, отец архимандрит, старца задумали навестить? — тронув отца Агапита за плечо, проговорил высокий монах с длинными черными волосами, спускающимися на плечи. — Прозорливец был и наставник, — прибавил монах, — теперь многое сбывается из того, о чем он, живя с нами, говорил.
— Да, разумный и учительный был старец, — сказал отец Агапит со вздохом и, еще раз поклонившись над могильной плитой, пошел с кладбища.
«Как-то легко стало на душе, точно и в самом деле повидался с отцом Исаией, — думал он. — Ведь семь лет прошло, как я виделся с ним в последний раз, а точно вчера это было! Как живой стоит перед глазами!»
* * *
Скоро возвратился из Ладоги владыка митрополит, и отцу Агапиту приказано было готовиться к наречению и посвящению в епископский сан.
— Чудное, братец, дело! — говорил в один из вечеров келейнику архимандрита-цензора послушник Филипп, прислуживающий отцу Агапиту. — Век не видал таких монахов, а особенно архимандритов, так истово готовящихся к посвящению в епископы, — разводя руками, сетовал он. — Те обыкновенно целый день в разъездах с визитами к членам Синода и к другим архиереям, к синодальным чиновникам да к разным знакомым. А приедут домой — суетятся, мечутся: то неладно, другое неладно, это не по-ихнему. Просто с ног собьешься! А мантию им принесут и посох — вот тут и начинается примерное действие: и благословляют, и садятся, и шествуют. И все это перед зеркалом! А этот… его точно и дома-то нет! Запрется в спальне да бьет поклоны часами. Иногда весь красный выйдет. К обеду что подашь, и половины не скушает. Поблагодарит. «Спасибо, — скажет, — Филипп, за угощение! Вкусно и хорошо у вас готовят!» А другие, бывало, все фыркают: и это им невкусно, и другое пережарено или недожарено; и белье в столовой плохое, и вино такое, что «в порядочных домах не подают». Ну так-таки все и расхают! А этот — ни-ни! Как будто лучшего и быть ничего не может! Какой же из него хороший архиерей выйдет! Так может и святой человек выявиться, вроде Феофана Затворника Вышенского. Нет, на епархии надо с жезлом, а не кротким агнцем, — закончил брат Филипп и как-то неопределенно махнул рукой, словно хотел сказать, выразить мысль: «Нет, отец Агапит не таков, как другие, и потому совсем в архиереи не годится!».
Отец Агапит, действительно, так увлекся созерцанием высоты и святости епископского служения, что совершенно забыл всякую формальность. Благоговея перед великостью этого служения, он даже при самом посвящении в сан епископа поставил всех архиереев, совершавших его хиротонию, в немалое изумление. Когда за Литургией отца Агапита вывели на середину церкви и поставили перед сонмом иерархов, то на положенный по чину вопрос первенствующего иерарха: «Чесо ради пришел еси?» — отец Агапит в смущении молчал; ему иподьякон подсказывает, а он молчит. Долгое молчание для всех показалось слишком неловким, тогда первенствующий прямо сказал отцу Агапиту:
— Говорите — «Епископства ищу!».
По окончании Литургии новохиротонисанный епископ Агапит в лиловой архиерейской мантии с епископским жезлом в левой руке, радостный, устремленный куда-то в безбрежную даль глазами, долго благословлял подходивший к нему народ.
* * *
— Да будет благословен вход Ваш к нам, Ваше Высокопреосвященство, отныне и до века! — широко раскрыв объятия, встретил епископа Агапита архиепископ С-й епархии Герасим. — Как я рад Вашему прибытию! Сами видите, немощен есмь и многолетен. Пора бы уж и на покой, да еще не благословляют. Что делать? Вот и прошу Вас усердно: облегчите мою тяжелую ношу!
Маститый старец, довольно полный, от волнения ли или от слабости физических сил говорил с трудом, но его выцветшие серые глаза радостно улыбались, и полная, дебелая рука как-то любовно, чисто по-отечески, похлопывала по плечу сидящего рядом с ним на диване молодого епископа Агапита.
— Жить будем в одном доме! Вот Ваши четыре комнаты, — указал рукой владыка, — а я буду жить на другой половине. Ссориться не будем, — добродушно улыбнулся старец, — потому что мне без Вас никак нельзя!
И зажили владыки, действительно, как отец с сыном, так что и вся жизнь их пошла сообща. Трапеза и чай утром и вечером вместе, епархиальными делами тоже занимались по вечерам вместе; отдыхали же и разговоры вели в общем зале: старец обыкновенно сидел на диване, а владыка Агапит расхаживал перед ним взад и вперед. Только лишь молитва у каждого владыки была своя, тайная.
Старец изживал свой век тихо и безмолвно. Едва ли кого он сознательно обидел за свою долгую жизнь, и совесть его не была омрачена тяжкими грехами, поэтому и молитва была не многосложна: славословие Богу за все не сходило с его уст и моление «за всех и за вся». «Господи, помилуй!» — следовало всегда за его славословием Богу. Перед отходом ко сну огонек в спальне у старца скоро потухал, и лишь весело горела ночью лампадочка перед киотом с иконами. В спальне же владыки Агапита огонь горел до второго часа ночи. Он правил по-монашески чин «двенадцати псалмов» с поклонами, потом читал длинный помянник за живых и умерших. Наконец огонек потухал, но долго еще слышались воздыхания: «Господи, спаси, помилуй и сохрани! Господи, помоги и поддержи!». За себя ли возносились эти воздыхания, или за тех, кто записан в помянник, или еще за кого — Бог весть!
* * *
Среди епархиальных дел и частых богослужений владыка Агапит принужден был принимать посетителей не только по служебным делам, но и по частным нуждам: люди приходили к нему за молитвами и советами.
Молва о человеке часто идет впереди него. Случилось это и с владыкой Агапитом. Некоторые из жителей города С. имели родственников и знакомых в городе, где молодой отец Агапит был ректором семинарии. Они и постарались собрать о нем сведения еще до прибытия его в С. На месте прежней службы владыка Агапит был известен как теплый молитвенник и помощник во всяком затруднении. Почитали его даже за чудотворца.
Вот и здесь поначалу робко, да и то смельчаки или кого безжалостно прижимала какая-либо нужда, люди стали обращаться к владыке Агапиту за советом. Отказа никому не было, владыка всегда всех утешал, и вскоре народ осмелел так, что к нему шли все и со всякой нуждой — от семи утра до десяти часов вечера пройдет иногда не один десяток посетителей.
Шла молва, что молодой владыка замаливает чей-то большой грех, а чтό это за грех, свой он или чужой, никто не знал и не интересовался. Но многие почему-то считали, что от постоянной покаянной молитвы владыка сделался святым и сильным перед Богом. «Грех уже давно прощен, — толковали досужие люди, — а владыка из смирения все замаливает и замаливает…»
Поначалу местному духовенству владыка Агапит представлялся какой-то непонятной, двойственной личностью. Как архиерей, он обладал сильной властью и был строг, издавая всевозможные консисторские циркуляры, предписания и прещения. С другой стороны, его считали человеком святой жизни, несказанно милостивым и стяжавшим добродетель любови к людям.
Как архиерея его, по традиции, боялись; а как человека богоугодного почитали и тянулись к нему с какой-то восторженной, детской верой.
* * *
В архиерейской приемной ожидают выхода владыки Агапита к посетителям, не заявившим желания видеть его наедине.
— Как Вы думаете, Ваше Высокопреподобие, — обратился важный протоиерей к другому, менее важному, — благосклонно посмотрит владыка на это?
— Да как Вам сказать? — вполголоса ответил тот. — Дело задумали Вы достойное! Заводить в церквях общее пение теперь всюду поощряется. Думаю, что владыка одобрительно отзовется.
Вышел владыка Агапит, и протоиерей первый приступил к нему с прошением.
— О чем? — односложно спросил владыка посетителя, взяв из его рук бумагу.
— Да вот, Преосвященнейший Владыка, задумал я в своей церкви общее пение завести, — пересохшим от волнения голосом сказал протоиерей, — и прошу на то Вашего архиерейского разрешения.
— Давно ли в этой церкви служите? — сухо спросил владыка.
— Девятнадцать лет, слава Богу, — хвастливо ответил протоиерей и самодовольно прибавил: — И все забочусь об улучшении.
— Во-первых, батюшка, общее пение в церкви уже давно следовало завести, а во-вторых, неужели Вы не понимаете, что о подобных вещах прошения не подаются? Что за цель прошения о деле, которое исключительно от Вас зависит? Ведь этак, пожалуй, Вы будете входить к архиерею с прошением и относительно, например, покупки сосудов и всего прочего для украшения церкви. Возьмите свое прошение! — сказал владыка, отдавая обратно бумагу протоиерею, и немедленно перешел к другому посетителю. Второй протоиерей только хитро подмигнул первому: что, мол, хотел выставиться? Вот и выставился!
В конце концов владыка выслушал всех и со всеми поговорил. У самых дверей остался последний посетитель-проситель. В старом, потертом подряснике из синего сукна, с большими заплатами на локтях и около карманов, тщательно расчесанный, седовласый дьячок опустился, кланяясь владыке, на колени. Затем, быстро встав, подал прошение. Лицо его было мокрым от слез.
— Что плачешь? — участливо спросил владыка. — О чем ты просишь?
Утирая заскорузлыми руками слезы, дьячок ответил, всхлипывая:
— В просвирни бы, владыка святый! То есть не меня, а мою жену, значит, дьяческую супружницу, Акулину Зефирову. Просвиры бы печь у Ильи Пророка, в Бурелове. Детишек семеро. Двое старших учатся. Тяжело, владыка святый!
И проситель вновь повалился в ноги архиерею, а поднявшись, прибавил:
— Меня-то самого, владыка святый, значит, Парамоном зовут. Как дьячок, я знаю, что Акулину-то мою не подобало бы просить в просвирни, потому что в одной семье две должности, да обеднели мы с детишками-то. Двое-то не получают пособия, так в просвирни бы, ради Христа, владыка святый! — закончил проситель, и опять заскорузлые, точно деревянные, руки начали мазать струящиеся по коричневым от загара щекам слезы.
— Да что ты все плачешь, Зефиров? — взволнованно спросил владыка. — Ведь плакать, кажется, нечего?
— А как же, — воскликнул дьячок. — Я дьячок, а Вы владыка! Может, не только в просвирни мою Акулину не приуказите, а еще и мне самому вдруг какое взыскание за беспокойство в архиерейской резолюции обозначить соблаговолите! Да еще, может, и со внесением в формуляр. А у меня семеро… — и опять проситель заплакал. — Двое старших учатся. Не погубите, владыка святый, ради Христа!
И он снова повалился в ноги.
— Ладно, иди с Богом! — сказал, растрогавшись, владыка.
Вечером в покоях владыки другая картина. Вот он сидит у стола на диване, в длинной черной ряске, без клобука; одна только простенькая, из кипарисового дерева панагия на груди свидетельствует о его архиерейском сане. Здесь владыка Агапит представляет собою сердобольного отца: прост, ласков, приветлив. Здесь он не владыка, а только утешитель.
— Тебе что, Зефиров? — с некоторым удивлением спросил владыка дьячка, который приходил утром с прошением о должности просвирни для жены. — Ну-ка, выкладывай, что у тебя за тайна великая! — ласково продолжал владыка. — Да садись, не стесняйся!
Дьячок совершенно спокойно взял висевшую на груди у владыки панагию, смачно поцеловал ее и сел рядом на стул. Энергично чеснул для чего-то два раза волосы обеими руками, а затем глубоко вздохнул и, наклонившись к владыке, таинственно заговорил:
— Тяжесть душевная меня мучит. Да так, прости, Господи, что чуть не осатанеешь!
Дьячок опять тяжело вздохнул, видимо, не зная, с чего начать.
— Какая тяжесть? — подсказал владыка.
— Да пять лет прошло уж, как диакон наш выпросил у меня пять рублей денег. На нужду, вишь, куда-то у него не хватало. А я только что мед из ульев продал, знал он это. Ну как не дать! Да с тех пор не могу получить деньги-то обратно.
— Что же, не хочет отдавать? — спросил владыка.
— Сколько раз напоминаю, — развел руками дьячок. — Почитай, каждый месяц при дележе кружки и иногда, бывает, при батюшке отце Петре! «Отдам, — скажет только, — Парамон Дмитриевич, отдам, как не отдать!» Вот и пять лет минуло, пора бы! Не жаль мне денег, невелики, а в том дело, что злость меня берет несказанная! В зверя готов бываю превратиться, на клочки, кажется, разорвал бы! И в какое время: за обедней!
Дьячок даже привстал и с неподдельным отчаянием на лице продолжал:
— Как скажет: «Благослови, владыка» — так вся моя душа хуже и хуже! Чуть рассудок не теряю! Как скажет: «Станем добре, станем со страхом» — в глазах аж темно делается. Мочи просто нет! Думаю: «Ах, кощунник, у самого-то страх есть ли? Да ни стыда и ни совести! Да я вот тебя, хульника, вот сейчас!» — и со сжатыми кулаками, с налившимися кровью жилами только повернусь к нему с клироса, чтобы вцепиться в него, как в зверя лютого, а его уж нет, в алтарь ушел! Думаю, изловчусь когда-нибудь, не вырвешься! Мужики, любители, поют у меня в это время на клиросе, сами не знают, а диву даются, что это с Парамоном делается! И все вот так: как воскресенье или праздник — не рад жизни! А кончится обедня — и ничего. Никакой злости на дьякона нет. Идем из церкви вместе, разговариваем о житейском, как самые мирные и добрые соседи. Ведь и в гости ходим друг к другу, и семья мирно живет. Человек дьякон хороший, и жена у него женщина хорошая. И детишки его с моими в дружбе. А вот только за обедней сам не знаю, что со мной делается. Вот от этой болезни излечиться бы, владыка. Будь милостив, отец, помолись за несчастного Парамона, отгони беса! Ведь это он тешится над моей бедной душой! Еще Господь, милосерд и многомилостив, не допустил пока до беды! А ведь долго ли! Помолись, Христов святитель! — схватив руку владыки и покрывая ее поцелуями со слезами, закончил посетитель.
А владыка сидел и молчал, не отнимая руки, которую держал в своих заскорузлых руках дьячок.
— Вот что, Парамон, — сказал наконец владыка, — это дело беса, врага и губителя рода человеческого. Присмири его, и он никогда не приступит. В первое же воскресенье, как диакон придет в церковь, поздоровавшись с ним, скажи: «Прости меня, отец диакон! Я много и долго на тебя сердился за долг твой. Я тебя прощаю. Квиты теперь мы с тобой». И чистосердечно расцелуйся с ним! Так и сделай, а теперь поди с Богом! — благословил владыка успокоенного и радостного дьячка.
Так вот вечерами и беседовал попросту владыка Агапит со всяким приходившим. А настанет ночь — все выслушанное за вечер приходит на ум ему, и льется тогда горячая молитва владыки за всех скорбящих и обремененных жизнью, и творит нередко великие чудеса.
* * *
В необычное время, около восьми часов вечера, гулко разнесся по городу звон большого колокола на соборной колокольне.
Ударили 12 раз — это осиротела С-кая паства: умер престарелый владыка Герасим. Умер архиепископ безболезненно, от старости.
Все шло своим чередом в тот день. Владыка Герасим и делами занимался, сколько мог, и обедал, и чай пил, и разговаривал. А вечером, перешедши из одной комнаты в другую, сел в кресло, глубоко вздохнул и отдал Богу душу.
«Праведная кончина!» — говорили в народе, и люди толпами валили в архиерейские покои. Все хотели проститься со своим добрым пастырем, архиепископом Герасимом, а заодно и благословиться, если это возможно, у благодетеля и милостивца епископа Агапита. Все были уверены, что владыка Агапит, свыше семи лет пробывший помощником почившего, будет назначен на С-кую кафедру, и несказанно этому радовались. Слишком уж известен был молодой владыка и в городе, и за его пределами своей выдающейся добротой.
Погребение архиепископа было поручено Святейшим Синодом епископу соседней епархии. А в обычай вошло, что погребающий епископ и назначался затем на кафедру после усопшего. Преосвященный Агапит понимал, что новый епископ не будет нуждаться в епископе-помощнике и ему дадут другое назначение. То же подумывали и многие…
Схоронили владыку Герасима.
Бывший на погребении владыка всем своим поведением давал понять, что, вне всякого сомнения, на осиротевшую кафедру назначат именно его. Однако Святейший Синод временно управляющим архиереем назначил епископа Агапита.
* * *
— Владыка! Вы бы хоть немного себя поберегли, — сказал однажды эконом архиерейского дома, иеромонах Павма. — Ведь целый день у народ Вас толпится! Тут никакого здоровья не хватит! Ну, по епархиальным делам все больше по закону делается, — продолжал он, — так тут еще ничего! А вот вечерами за советами-то к Вам ходят по частным делам. Ведь Бог знает, с какими просьбами к Вам подойдут! Разве люди думают о том, что Вы архиерей, что у Вас своих дел по епархии много? Им нужды нет знать об этом: им только помогай, давай, чего просят! Вот сегодня женщина одна приходила: она уже третий раз приходит с двумя детьми! Говорит, некуда их девать! Простите, ради Бога, Ваше Преосвященство, я два раза ее обманывал: владыка, говорю, по частным делам совсем не принимает! Если, говорю я ей, Вы не знаете, куда детей девать, то владыка-то как может помочь Вам? Ведь ни к себе же он возьмет их? Ушла, но вон опять сидит в приемной.
— Что же станешь делать, отец эконом? — с грустной улыбкой ответил владыка. — Пока Бог дает силы, надо как-то помогать нуждающимся в помощи, а если сил не хватает — это, значит, отслужил, по Господню велению! «Делайте, дондеже день есть!» — сказал Господь. Ну и не следует терять времени. Идут, значит, нужда заставляет. Верно, больше некуда сунуться! Так-то, отец эконом, уж больше не обманывайте бедных! Пусть идут! — закончил владыка.
— Простите, владыка, — конфузливо извинился отец эконом, — я ведь из жалости к Вам. Все говорят: «Измучается ведь у вас владыка-то!».
— Спасибо, отец эконом, я знаю, что Вы с добрым намерением это говорите, — сказал ласково владыка и отпустил эконома.
Вошла скромно одетая, почти старая женщина, ведя за руку мальчика и девочку в возрасте шести-семи лет. Приблизившись к владыке, она опустилась на колени, а с ней и дети, видимо, наученные этому раньше.
Владыка, обескураженный такой неожиданностью, быстро встал с места и, благословив всех троих, пригласил садиться. Детей он погладил по волосам и обоих поцеловал в голову.
Женщина подала владыке бумажку, на которой было написано: «Надо поговорить по секрету». Опустив голову, она тихо добавила:
— Нельзя ли чем занять детей?
Владыка позвонил, вошел келейник.
— Принеси-ка, Алексей, Библию с картинками, — приказал он. — Она в кабинете на этажерке. Да и альбом с видами тоже. А вы, деточки, читать умеете? — обратился он к детям.
— Андрюша хорошо читает, а я еще плохо, — со слезами на глазах ответила девочка, в смущении теребя в руках конец своего черного передника.
— Ну-ну, скоро и ты будешь хорошо читать! — снова погладил по голове девочку владыка. — Алексей, возьми деток в столовую да покажи им там картинки. А сначала угости апельсинами.
— Простите, владыка, Вы очень добрый, и я осмелилась обратиться к Вам в своем горе, — начала рассказ женщина, когда дети вышли из комнаты. — Эти дети круглые сироты: ни отца, ни матери. Их главное горе в том, что они незаконнорожденные, и родных никого нет. Прямо ужасное положение! Только Вы, Преосвященнейший Владыка, не подумайте, что я пришла что-то выпрашивать у Вас; нет, я пришла только попросить совета и указания и, если можно, содействия, куда бы их пристроить. Тут целая драма, — вытирая слезы, продолжала старушка. Это дети инспектора народных училищ Корневского. Бог да простит ему! Тяжелая была у него жизнь. Женился он несчастливо, на племяннице одного священника. Невеста и слышать не хотела о нем. Говорят, у нее был где-то жених. Долго ее уламывали и наконец принудили.
Женщина тяжко вздохнула и продолжила:
— Ну, женился он на одно горе — стали жить они как чужие. И вот появились у него дети на стороне. Вот они, эти самые… — мотнула старушка по направлению к столовой, где были дети Андрюша и Верочка.
Владыка, энергично дергая четки, глубоко вздыхал и по временам произносил: «Господи, помилуй!».
— Мать-то их мне племянницей приходится, — говорила старушка. — Учительницей в школе была. Пришлось ей уволиться. На содержание детей отец давал достаточно, да и сама она шитьем занялась, так что жили безбедно. Но вот уже второй год пошел, как она померла и я с детками осталась за мать. Ничего, погоревали и стали жить. Да судьба уж, видно, такая, — всхлипнула старушка. — Сегодня двадцатый день, как и сам-то Богу душу отдал. И нечем жить, и нет у детей имени. Сироты, скитальцы. Что вот мне с ними делать, Преосвященнейший Владыка? Научите, Христа ради! Я — мещанка. Что я знаю! Уж кого-кого я ни просила научить меня, куда бы их пристроить, да никто ничего придумать не может, потому что незаконные! Куда их возьмут? В приют хоть какой-нибудь… — закончила просительница. — Да и в школу пора их определить, а никто ничего придумать не может. Мальчику-то восемь лет, а девочке в сентябре семь будет!
— Так, говорите, и жить нечем? — с грустью заговорил владыка. — Квартира, где живете, нанятая. Или свой домик у вас?
— Ничего нет своего. Квартиру нанимаем, уж несколько лет живем. Мне-то ничего не надо, все равно после меня все так останется. Вот все ненужное и продаю. Трудно приходится так, что хотела было даже ко вдове их отца, к инспекторше, обратиться. Сказывают, добрая она, тоже Верой зовут, Верой Михайловной. Да раздумала. Побоялась, что может узнать, что у ее мужа детки на стороне родились, а я этого не хочу.
В крайнем смущении владыка начал ходить взад и вперед по комнате, посматривая время от времени на икону Спасителя с открытой под левой рукой книгой. В книге большими буквами было написано: «Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененные, и Аз упокою вас». Так, в замешательстве, прошло какое-то время.
Наконец владыка, видимо, на что-то решился. Остановившись перед тихо плачущей старушкой, он сказал:
— Вы теперь с детками идите домой, а я что-нибудь придумаю. Детки будут пристроены. Скажите мне Ваш адрес, и я извещу Вас, как и что придумаю для детей.
Он сунул в руку обрадованной старушке золотую монету и позвонил. Появившемуся слуге велел одеть детей и проводить. Обласкав их еще раз и обнадежив старушку, владыка всех благословил и отпустил.
— Она не знает, что это его дети! — оставшись один, проговорил владыка вслух.
Перебирая четки, он быстро расхаживал по комнате. «А как же они попали сюда, в С.? Ведь Корневский был на Оке. Видно, перевели его. Дивны дела Господни! — перекрестился владыка. — У кого похитил счастье, тому Господь приводит устроить осиротевших детей. О, кресты, кресты! — с тяжелым вздохом подумал владыка. — И как их много! Но чем больше и чем тяжелее они, тем радостнее для тех, кто приобретает наклон принимать иго Христово как благо и кто чувствует, что бремя Его легко!»
— О, Господи, помоги! — прошептал в молитве владыка, сосредоточенно взглянув на Лик Спасителя.
* * *
Со следующего дня в архиерейском доме началось нечто необычное. Сам владыка, веселый и радостный, распоряжался переноской своей канцелярии из отдаленной части дома в большую заднюю комнату своей квартиры. Комната эта была меблирована, но всегда стояла пустой; канцелярия же отлично уместилась в ней. Комнаты (числом три), где ранее помещалась канцелярия, владыка распорядился приготовить для жилья, разделив перегородкой одну из комнат на две части. Через неделю большая канцелярия превратилась в уютную, обставленную всем необходимым квартирку в четыре довольно больших комнаты.
На робкие вопросы эконома, отца Павмы, владыка весело сказал как-то:
— Детей, отче, хочу поместить! Круглые сироты. Отец-то их мне хороший знакомый был. Родных и близких нет. Бедствуют дети! Уж придется нам с Вами их нянчить, отец эконом! — весело закончил владыка. — Не посетуйте на меня за эту затею.
Отец Павма только руками развел, а глаза его сделались такими большими, что едва не выскочили из орбит. Он, по-видимому, мог предположить что угодно, только не это!
— Детей?! — наконец выговорил он. — Да откуда же, прости, Господи, они свалились? Жаль, что Вы, владыка, мне об этом раньше ничего не говорили! Жаль, ведь об этом надо было подумать! Да и как подумать! Тут одной головы мало для думанья, — продолжал он. — А требуется не одна… Да!
Эконом встал в позу и, вытянув вперед левую руку, загнул мизинец и весомо произнес:
— Первое… Отбою не будет теперь от ненужных посетителей: все поведут лишних ребят к нам. Владыка, скажут, приютит их!
— Второе-с… — пригибая другой палец, продолжал отец Павма. — Могут подумать, что мы на церковные деньги или какие-нибудь казенные деньги чьих-то детей содержим.
И эконом, пригибая третий палец и возвышая голос до последней степени, прибавил:
— Третье-с… Будут думать и досконально домогаться, чьи же это дети так понравились владыке, что он даже квартиру для них отделал и поместил их у себя? Сказав последнюю фразу, отец Павма немного прищурил левый глаз и так посмотрел на владыку, что тот беспокойно отвернулся и как-то робко заговорил:
— Ну, мало ли что могут говорить? Пусть говорят! А я рад, что Господь дал мне повод сделать доброе дело. Воспитывать же детей будем на мои деньги. Чего беспокоиться!
— Как знаете, владыка! Дело Ваше. А, пока еще есть время, можно и отдумать бы. Ну подавайте просто на содержание этим детям, и пусть они живут там, как знают — чем дальше от греха, тем будет лучше!
— Чудный Вы, отец эконом! — сказал владыка. — Какой же это грех? Ведь грешить мы с Вами не собираемся.
— Мы-то не собираемся, да другие будут думать, что мы грешим, — безнадежно махнув рукой, сказал эконом.
— Нет уж! Я заменю бедным сиротам отца, несмотря ни на что! — проговорил владыка, осеняя себя крестным знамением.
* * *
— Нуте-ка, показывайте, как вы тут разместились? — весело проговорил владыка, когда дети, Андрюша и Верочка Неждановы, переселились со своей бабушкой в архиерейский дом, в приготовленную для них квартиру.
— Так Вы, Анна Петровна, — обратился он к плакавшей от счастья старушке, — бабушкой приходитесь деткам-то? Где же у Вас иконы, что от родителей остались в наследство детям? Вы их уж непременно поместите со здешними! А вы, деточки, утром и вечером, когда молитесь, никогда не забывайте, глядя на иконы, сказать: «Помяни, Господи, папу и маму!». Что, нравится квартира-то вам здесь? — поглаживая по головам обоих, спросил владыка.
— Хорошо тут! Комнаты большие и светлые, — ответила девочка.
Она относилась к владыке с доверием, с любовью, как к близкому, родному человеку.
— Да и тепло здесь. А у нас там, где мы жили, зимой было очень холодно.
— Ну, вот и живите во славу Божию! Вы уж, Анна Петровна, все, что надо, спрашивайте и приказывайте: когда обед, когда чай или что другое потребуется. Учитель к детям будет приходить. А вы, деточки, что учитель вам покажет и задаст на урок, хорошенько исполняйте!
«А учителя-то детям надо подыскать хорошего, — думал владыка, медленно расхаживая по кабинету. — Ректору семинарии сказать надо, он может указать прекрасного и умного семинариста. А куда их готовить? — задал сам себе вопрос владыка и тут размышлял: — Андрюшу надо приготовить к духовному званию, пусть будет священником. Впрочем, насиловать не следует! Когда вырастет и пройдет духовную школу, то род жизни, конечно, изберет сам. А вот Верочке все равно, где кончить курс. Но в память моей Верочки пусть учится в гимназии».
— Отец ректор пришел! — раскрыв дверь, доложил келейник.
— А, хорошо, хорошо! — обрадовался владыка. — Вот ведь кстати.
Вошел тучный, немного сопящий, с грузной походкой архимандрит Корнилий, обеими руками придерживая на животе портфель с бумагами. Приблизившись к владыке и положив портфель на стол, он подставил руки под благословение.
— Садитесь, отец ректор, — пригласил владыка, — что у Вас хорошего?
— Хорошего нет, владыка. С худым пришел, — как-то сурово ответил архимандрит. — Есть у нас в четвертом классе ученик Георгиевский, — после значительной паузы начал он свой доклад. — Главный умница из всей семинарии. С самого начала первый идет. Сочинения пишет прекрасно, толково и обстоятельно. Уроки готовит превосходно, ведет себя безукоризненно. Но инспектор и начальники жалуются, что он непростительно дерзок. Уже несколько раз наказывали его за дерзость, но он все не исправляется. И дерзость у него не какая-нибудь бессмысленная, а всегда разумная! Ошибется в чем преподаватель на уроке, а Георгиевский непременно поправит его. Утерпеть не может и скажет: «Вы, господин преподаватель, сказали вот так, а надо вот так!». Преподаватель, конечно, прикрикнет на него, не твое дело, мол. Ну, а тот и ответит, что ошибка, чья бы она ни была, должна быть поправлена. Преподаватель этого, конечно, снести не может и обращается с жалобой, и за это уже не раз наказывали Георгиевского. Не раз… А на днях вот инспектора оскорбил! Тот доложил об этом в педагогический совет и потребовал строгого наказания. Преподаватели поддержали инспектора, и вот состоялось постановление: в виде меры исправления лишить семинариста казенного содержания, — ректор ненадолго задумался, прервав рассказ, а вскоре продолжил: — А проступок его действительно груб. В среду инспектор нашел в парте четвертого класса кусок колбасы и по этому поводу, естественно, разразился пространной речью о том, как преступно, безнравственно и безбожно будущим пастырям нарушать посты, о необходимости и святости которых они будут потом проповедовать своим прихожанам. «Кто совершил этот скверный проступок? — обратился инспектор к классу. — Будь хоть мужественен, будущий пастырь, и сознайся!» И вдруг на это кто-то из толпы семинаристов при совершенной тишине сказал: «У вас самих сегодня скоромное готовили!». «Кто это сказал? Георгиевский, конечно?» — спросил инспектор. «Конечно я, хотя мог сказать и другой!» — ответил Георгиевский… И вот лишили казенного содержания, — закончил ректор. — А жаль, лучший ученик семинарии. Как теперь будет жить? — вздохнул ректор. — Бедняк, сын многосемейного причетчика.
— А Вы бы, отец ректор, особое мнение подали за Георгиевского. Я бы с Вашим мнением согласился… — сказал владыка. — Долго ли погубить человека? Сами же Вы о нем хорошего мнения и говорите, что это лучший ученик семинарии. А ведь он, живя кое-где и кое-как, легко может стать и худшим! Справедливо, что врачам самим надо излечиться, — раздумчиво продолжал владыка. — Зачем сами готовят скоромное в постные дни, ни от кого не скрываясь? Ведь Георгиевского за его поступок можно было только секретно пожурить, но лишить казенного содержания ни в коем образе не следовало бы.
— Да Вы, Ваше Преосвященство, не утверждайте нашего постановления, — смущенно сказал ректор, — и Георгиевский останется у нас.
— Нет, этот Георгиевский решительно нравится мне! — говорил владыка, благословляя собравшегося уходить ректора. — Видно, он честный и мужественный! Из него может выйти замечательный человек! Пришлите его, отец ректор, ко мне завтра, я с ним поговорю!
— Да он мало ли что может наговорить теперь, Ваше Преосвященство! — заявил совсем смутившийся ректор. — Ведь семинаристы никогда хорошего отзыва не дадут о своем начальстве.
— Не беспокойтесь, отец ректор! — улыбнулся владыка. — Такой человек неправду говорить не будет! И потом, не для отзыва о начальстве я желаю с ним говорить, так уж безбоязненно пришлите его! — убежденно закончил архиерей.
На другой день бледный и дрожащий Георгиевский стоял в архиерейской приемной, обдергивая залоснившиеся рукава суконного сюртука и приглаживая щетинистые волосы. Вот его позвали к владыке… Вошел и, робко ступая, подошел под благословение.
— Вон ты какой, — любуясь застенчивостью семинариста и улыбаясь, говорил владыка. — Ну, Бог тебя благословит! Отец ректор хвалит тебя, Георгиевский, — продолжал владыка, — что ты хорошо учишься и что, вообще говоря, трудолюбивый и исправный ученик. А мне вот такого бы и надо! Как тебя зовут? — задал вопрос владыка.
— Николаем, Ваше Преосвященство! — растерянно глядя на владыку, облегченно ответил Георгиевский, вытирая платком вспотевшие руки.
— Ого, победитель, значит! Дай же Бог тебе всегда быть победителем в добре. Отец у тебя причетчик. А велика ли семья у вас? Всех-то сколько? — спросил вдруг владыка.
— Да, кроме меня, три сестры и брат, — ответил Георгиевский. — Брат учится в третьем классе духовного училища, да сестра в епархиальном первый год, а другие две еще маленькие, живут дома.
— Вот что, Георгиевский, — встав с дивана, сказал владыка, — у меня живут двое детей: мальчик и девочка восьми и семи лет. Читать они умеют и еще кое-что знают. Вот их и надо приготовить — мальчика в Духовную семинарию, а девочку в гимназию. Переходи ты ко мне жить, и будешь заниматься с детьми часа по два в вечер! Ведь найдется у тебя столько времени; думаю, не хуже будет, чем в бурсе? Так что, согласен?
Низко поклонился Георгиевский, поняв всю деликатность владыки, который ни словом не коснулся его последнего поступка, занимавшего в текущие дни всю семинарию. В волнении он поблагодарил владыку и изъявил полное согласие с его предложением, таким для него заманчивым.
— Слава Тебе, Господи! — воскликнул владыка по уходе Георгиевского. — Еще один хороший человек спасется! Да и у деток теперь занятия пойдут хорошо. Все славно. Велико Имя Господне! Вот и я семейный почти человек! — радостно продолжал владыка. — Деточки-то хорошие. Как бы сохранить их от всякого зла. Да будет их жизнь гладка и богоугодна! А мне еще много крестов предстоит, если только Господу будет угодно продлить мою грешную жизнь.
Владыка тяжело вздохнул, истово перекрестился на икону Спасителя и, удалясь в свою спальную комнату, встал на монашескую молитву.
* * *
Один раз вечером доложили владыке о приезде княгини Параскевы Филипповны Сиверской.
— Проси в гостиную! — сказал владыка, а сам быстро встал, надел на себя шелковую рясу, панагию и крест, возложил на голову клобук, обмотал правую руку четками.
Княгиня любила пышность и без знаков архиерейского сана не признавала владык, о чем сама как-то сказала преосвященному Агапиту, когда он в первый раз принял ее только в простенькой черной рясе, без клобука и с кипарисовой панагией на груди.
— Что это Вы не по-архиерейски встречаете посетителей? — спросила она тогда. — Всякий должен чувствовать при встрече с архиереем неотразимую власть духовную! В архиерее должно быть нечто такое, что сразу же должно, так сказать, выбить каждого человека из обыкновенной колеи жизни и настроить к восприятию чего-то высшего, какой-то неземной силы, которая бы потом и давала направления всем душевным силам человека и отпечатывалась на всей его деятельности. Я княгиня и привыкла повелевать и распоряжаться! У меня слуги, как автоматы, молча и беспрекословно исполняют все мои повеления. Сама я с достоинством держусь и в высшем обществе, и с высокопоставленными лицами, но, несмотря на это, перед владыками испытываю какой-то трепет, потому что чувствую их духовную власть. Я сознаю, что этой властью он стоит выше всех высокопоставленных, и чем архиерей торжественней, чем пышнее на нем одеяние и чем драгоценнее у него знаки архиерейского сана, — тем власть его духовная всеми ощущается сильнее. Простите, владыка, но я говорю сущую правду! Без пышности и с убогими знаками архиерейского сана на нас, грешных, Вы должного влияния не производите!
После первого знакомства с княгиней преосвященный Агапит всегда уже принимал ее официально, как архиерей, — в клобуке, с панагией и крестом на груди и с четками в руках.
Старая — уже семидесяти лет — княгиня Сиверская, разодетая, напудренная, с искусственными локонами на голове, поддерживаемая безукоризненно выдержанным лакеем, быстро засеменила навстречу показавшемуся владыке с протянутыми для принятия благословения руками.
Согнувшись под прямым углом, она энергично, три раза подряд прижала к своим подкрашенным губам архиерейскую руку.
— Прошу, Ваше сиятельство, вот сюда, на диван, — пригласил владыка гостью, торжественно осенив ее крестным знамением. — Как Вы здравствуете и что у Вас особенного?
— Благодарю Вас душевно, Преосвященнейший, — зашепелявила княгиня и, схватив руку сидящего рядом владыки, снова прижала ее к губам, — дело у меня до Вас важное. Не приехала бы сама, да переговорить обо всем с глазу на глаз нужно. Осиротела я совсем, — продолжала она. — Оставался один сын из всей близкой родни, но теперь он умер в Швейцарии, там его и схоронили. Теперь осталась я одна, наследников близких нет, а поместья обширные, да и денег много. Мне же немного надо! Год-другой — да и самой за детками и мужем в иной мир! Вот и хочется, владыка, и имущество-то еще при себе во имя Христово употребить! Чтобы не обидеть каких сродников, думаю оставить всем наследникам, какие объявятся после моей смерти, миллион рублей! С них будет! Они, конечно, никогда не рассчитывали что-нибудь получить от меня. А остальные деньги и все поместья хотелось бы употребить вот как: думаю здесь, в городе, основать общину образованных сестер милосердия, с исключительной целью давать воспитание детям-сиротам или детям бедных интеллигентных людей, хотя и состоящих на службе, но недостаточно обеспеченных. Как благословите, Преосвященнейший Владыка? — закончила княгиня и опять поцеловала руку владыки.
— Хорошо, очень хорошо Вы придумали, Ваше сиятельство, — сказал владыка. — И с радостью призываю на Вас Божие благословение на это дело! Сколько Вы молитвенников за себя приготовите! Сколько из нищеты вырвете! Сколько радости внесете в дом интеллигентов, иногда едва прикрывающих самую вопиющую нищету.
— Так слава Богу, владыка! — говорила княгиня. — Обрадовали Вы меня, одобрив мои предположения. Откладывать не буду: сразу же оборудую свой дом под общину. Недели через две прошу Вас освятить, и с благословения Божия начнем дело. Пока человек на пятьдесят будет приют, а к следующему году, если потребуется, Бог даст, то выстроим и более вместительное здание, не на одну сотню детей.
Владыка проводил княгиню до передней и еще раз истово ее благословил.
— А Вам большое спасибо, Преосвященнейший, — говорила, прощаясь, княгиня, — и за одобрение планов моих, а главное — за пробуждение их. Своим добрым примером благотворительности Вы пробудили от спячки мою совесть и заразили меня.
— Что Вы, что Вы, Параскева Филипповна! — запротестовал Преосвященный.
— Не протестуйте, владыка! Ведь слухом земля полнится, — добродушно засмеялась княгиня.
* * *
Не прошло и двух лет, как во владениях княгини Сиверской, занимавших чуть не целый квартал, появился ряд зданий с различными специальными назначениями. На противоположных концах владений привлекали внимание прекрасно отделанные, с лепным изображением входа Господа Иисуса в Иерусалим над парадным крыльцом два величественных здания совершенно одинакового вида. Особенностью этого лепного изображения было то, что около сидящего на осленке Христа изображены были исключительно дети с пальмовыми ветвями, а взрослые только виднелись вдали, сплошною толпою.
Эти здания — мужская и женская гимназии при «Просветительной общине сестер милосердия имени княгини Сиверской». При каждой гимназии было свое общежитие для учащихся. Дети дошкольного возраста помещались в особом общежитии, и у них были особые воспитательницы, подготовляющие их к поступлению в гимназию. Воспитание и обучение в «Общине» совершалось под руководством владыки в церковном духе, с соблюдением всех церковных уставов. В соседней церкви, куда ходили дети «Общины», девочки становились на левую сторону, а мальчики на правую, и пели все, составляя правый и левый хоры с отдельными регентами. И пели очень хорошо. «Просветительная община» сделалась популярной не только в своей губернии, но и в соседних. Многие интеллигентные бедняки из ближних уездов соседних губерний стали делать попытки определить своих детей в «Общину», и отказа им не было.
Год от году дело все ширилось, и при обеих гимназиях скоро уже пришлось открывать параллельные классы. Начальницей общины считалась престарелая княгиня Параскева Филипповна, которая души не чаяла в том, что совершалось в ее «Общине».
Часто она говорила:
— Я, кажется, умру от радости!
С утра, часов с десяти, отправлялась она в «обход» своих учреждений и возвращалась домой только к обеду, в половине четвертого. Пышно разодетая, она торжественно ехала по двору к зданию мужской гимназии, куда старалась прибыть в первую перемену между уроками. Гимназисты, издали увидев шествие княгини, кричали по коридорам: «Мамашенька едет!» — и высыпали на улицу; там они окружали экипаж, вытаскивали оттуда «мамашеньку» и почти на руках несли в зал, где и усаживали в специально для нее поставленное кресло, и начиналось обычное шествие к «ручке».
Каждый гимназист, большой и маленький, подходил к княгине, быстро становился на одно колено и тут же быстро чмокал костлявую руку благодетельницы. А княгиня всякого умела приласкать, прошамкать какую-нибудь милую шутку. Иного возьмет за подбородок, иного погладит по щеке, иному скажет: «Ты, забияка, щетины-то подстриги!». Иному скажет: «Должно быть, плутишка ты, шалун!».
Когда последний гимназист, приложившись к ручке, отступал, княгиня неизменно спрашивала: «Кто же сегодня лампадку зажигал?». Это делалось по очереди учениками старшего класса. И вот выступал очередной, делал изящный поклон и с любезной улыбкой, чуть-чуть склоняя голову на бок, неизменно докладывал: «По приказанию Вашего сиятельства, такой-то». При этом по поводу имени или фамилии ученика княгиня всегда шутила самым непринужденным образом, что вызывало неудержимый смех гимназистов.
Скажет, например, ученик: «По приказанию Вашего сиятельства — воспитанник ваш Каллистрат Эвонников». Княгиня притворно накидывает на себя серьезность и, выпячивая губы, говорит:
— Уж и имя же у тебя, и фамилия. Нечего сказать. От фамилии постным маслом пахнет, а имя… Каллистрат! Пройдет годов пять-шесть, отпустишь бакенбарды да выбреешь подбородок, и на кого похож будешь?
— На министерского чиновника особых поручений, — бойко ответит гимназист.
— Ах ты, орленок! — радостно засмеется княгиня. — Поди-ка, я тебя поцелую. Важно звонить начинаешь.
И, поцеловав в голову будущего «министерского чиновника», княгиня вдруг почему-то с лукавой улыбкой погрозит ему костлявым пальцем.
Все эти шутки и перебрасывания остроумными фразами сопровождались здоровым, искренним смехом гимназистов. «Ну, мне пора, — скажет княгиня, посылая рукой общий поцелуй. — Прощайте, теперь не скоро приеду. Уморили вы меня совсем» (а сама на другой же день, в то же самое время, опять тут как тут!). Гимназисты провожают княгиню на улице, высаживают ее в экипаж, и кто-нибудь из них крикнет кучеру Ерофею: «Пошел!».
В здании детей дошкольного возраста княгиня обычно ласкает маленьких насельников, выпивает у них чашку молока, расспросит обо всем заведующую и других сестер и отправляется в женскую гимназию. Там она ежедневно завтракает за общим столом с гимназистками и потом присутствует на разных уроках, где бывает до конца занятий. При таком любовном отношении княгини к своим просветительным учреждениям воспитание и учение детей шло там прекрасно.
* * *
Владыка Агапит два раза в месяц посещал «Общину» и подробно знакомился со всем, что там происходило. Его воспитанница, Верочка, тоже училась в гимназии княгини Сиверской, и владыка поручил ее особенному вниманию директрисы Веры Михайловны, всецело преданной делу воспитания гимназисток. Она не имела своих детей и всю гимназию считала своей семьей. Происхождение Верочки как дочери неизвестного отца особенно трогало любящее сердце Веры Михайловны. Она при всяком случае ласкала ее и старалась выказать свое внимание и расположение; при этом расспрашивала ее о жизни владыки. Но девочка знала только о том, как идет у нее жизнь с братом в другой половине архиерейского дома. А как живет сам владыка — об этом ей ничего не было известно.
Вся губерния считала владыку за святого, и всякому, конечно, хотелось сколько-нибудь приподнять завесу с тайны его жизни; хотелось знать, чем, какими подвигами благоугождает он Богу. Вера же Михайловна наряду с благоговением, с которым она относилась к владыке, испытывала по отношению к нему какое-то совершенно не понятное ей чувство…
С детьми в гимназии владыка был прост и ласков. Дети очень любили его и, когда владыка приезжал к ним, так и льнули к нему, чтобы хоть пальцем дотронуться до его одежды, а иные девочки, особенно маленькие, держались за рукава его рясы. Вот и Вере Михайловне неудержимо хотелось так же, по-детски непосредственно выразить владыке свое почтение, как это делали ее ученики. Но она только в скромном отдалении наблюдала, как владыка гладил детей по их юным головкам, весело разговаривая с ними и расспрашивая, не трудно ли им учиться в гимназии.
Самую же директрису он как-то торопливо при прощании благословит и скажет только: «Ну, помогай Вам Бог! У Вас девочки хорошие, счастливы Вы!»…
Вспоминая однажды вечером сдержанное благословение владыки и его слова о счастье, она громко воскликнула:
— О, если бы Вы знали, владыка святый, каково мое «счастье», может быть, тогда и пожалели бы меня!
«Что же такое в нем есть, в этом святом человеке, который так тепло и по-детски, с любящим сердцем относится ко всем? — размышляла Вера Михайловна. — Ведь он, кажется, необыкновенный человек, но все у него выходит как-то просто и бесхитростно. На всех смотрит он одинаково светло и радостно, точно все люди для него ровня и, как и он сам, без единого темного пятнышка на душе. Есть в нем что-то таинственное, что влечет к нему как к самому близкому человеку, — продолжала рассуждать Вера Михайловна. — Кажется, будто я давно знаю его, и поэтому испытываю особенное волнение, когда вижу. Точно что-то общее есть у нас, что-то дорогое, чего и сама я боюсь, не смея проникнуть в его тайну. Почему же он избегает общения со мной и всякий раз старается побыстрее удалиться, когда я прохожу мимо? Да и в глаза почти никогда не смотрит. Очень странное обстоятельство! Ведь с другими он разговаривает подолгу, заглядывая своими детскими, ясными глазами прямо в душу, точно видит в ней самое сокровенное. Вот и сегодня. Будто самый дорогой человек посмотрел и сказал: “Помогай Вам Бог! У Вас детки хорошие, счастливы Вы!”. А сам моментально опустил глаза и, быстро благословив, точно поневоле быстро удалился. Уже на ходу обернулся и сказал: “Простите, тороплюсь, засиделся у Вас!”»
«“У Вас!” — заломила в тоске руки Вера Михайловна. — Можно подумать, что этот святой человек знает мое душевное состояние и как бы в насмешку говорит, что засиделся. Может быть, он считает для себя неприличным и тяжелым разговаривать с глазу на глаз с женщинами? Кто знает этих святых людей! Но ведь с другими дамами он разговаривает непринужденно! А стоит появиться мне, как сразу обрывает речь и спешит уйти. Не узнал ли он, что это я приходила к нему, когда он был ректором семинарии? — догадалась Вера Михайловна. — Ведь тогда я без утайки все рассказала ему о своей тайной любви. Если так, то, быть может, именно поэтому он уклоняется от разговоров со мной, щадя мое самолюбие. Он называет меня счастливою рядом с чужими детьми, — продолжала думать Вера Михайловна. — Но я глубоко несчастна! Я навсегда потеряла образ того человека, который для меня дороже всех! Может быть, он и жив, но я совершенно не знаю, что с ним. Молюсь за него, даже не ведая имени. Это ли счастье? Правда, Бог, наверное, примет мою молитву, лишь бы она была нелицемерна…»
— Господи, что со мной? — проговорила громко Вера Михайловна и быстро начала шагать по комнате.
Мысли новой волной захватили ее сознание: «Ведь я, кажется, совсем было успокоилась, захоронив глубоко в душе свою тайну. Я давно привыкла к своему кресту и некоторым образом даже счастлива своей фантазией — представлением того, что могло бы быть в моей жизни. Но похороненное вдруг опять оживает, терзая меня с удвоенной силой. Временами я хожу по ночам как лунатик. Господи, что мне делать?»
Она обхватила обеими руками голову, воспаленную от тяжелых воспоминаний, словно пыталась хоть на хоть одну минутку приостановить жгучие мысли.
«Кажется, я разгадала причину своего мучительного беспокойства, — от неожиданной мысли Вера Михайловна остановилась посреди своей комнаты, будто парализованная. — Глаза владыки Агапита, его невольный взгляд, обращенный на меня, напоминают мне глаза того, кому я когда-то отдала свое сердце. К сожалению, я до сих пор не знаю, где мой избранник и что собой представляет. Дуняша писала мне, когда он приехал просить моей руки… Узнав, что я замужем, он решился было пожертвовать собой и просил руки Дуняши, но та благоразумно отказалась. А благоразумно ли? — мысли Веры Михайловны текли стихийно. — Да, у владыки —глаза и взгляд того семинариста… Господи, неужели это он?! — Вера Михайловна до боли сжала виски. — Тогда он узнал меня! И не потому ли избегает?»
Она снова попыталась приостановить свои тревожные мысли, чтобы хоть как-то привести свои внезапные страшные догадки в относительный порядок. Но не смогла справиться с ними, и новые догадки вихрем пронеслись в ее воспаленном сознании. «Поэтому тяжело ему быть со мною таким же простым и искренним, как с другими, — думала она. — И если это он, то надо отдать ему справедливость: он держит себя необыкновенно. Если же он не узнаёт меня, то это хорошо. Скорее всего, он совершенно забыл обо мне, ведь видел он меня только раз в жизни. Тогда, конечно, ему легко! Он много трудится, стяжая добродетель любви, и находит смысл своей жизни в святительском служении людям».
— Как мучительно будет мне нести свой крест в присутствии того, кто возложил этот тяжкий груз на мои слабые плечи! — с тоской проговорила Вера Михайловна. — Кто пожалеет меня и поможет? Некому! Я одинока…
Ломая руки, она в отчаянии разразилась непрошенными горькими слезами.
* * *
Чудесный майский день.
Солнце греет довольно сильно, хотя еще только девять часов утра. В теплом воздухе реют золотые хоругви нескольких крестных ходов, окружающих величественную церковь, которая освящается сегодня во имя евангелиста Иоанна Богослова во дворе благотворительных учреждений княгини Сиверской. Металлические хоругви, притягивающие к себе солнечные лучи, слепят многотысячную толпу, пришедшую с крестными ходами на освящение храма.
Храм — величественной и изящной архитектуры. Но главная красота его заключается в вызолоченном куполе, который на фоне нежно-голубой окраски самой церкви кажется огромным солнцем, горящим в безоблачной небесной синеве.
Многотысячная толпа людей, которые не вместились в храм, стоит вокруг в немом восторге и ожидании чего-то таинственного. Верующие понимают, что в эти минуты глубокого молчания под золотым куполом нового храма укрепляется вековечная, ничем не разрушимая связь земли с Небом. Как только новый храм будет освящен, откроются еще одни врата на небо. И люди ждут открытия этих благодатных врат, через которые ангелы будут сходить на землю, а человеческие души стремиться к небесам.
И вот среди благоговейной тишины заговорили вперебой колокола новой звонницы. Самые большие из них спокойно и величественно возвещали густым боем о начале торжественного открытия небесных врат, а малые, точно по-детски, перебивали друг друга и старались поскорее выкрикнуть весть о начале этой великой минуты.
Колокола заговорили. И как заговорили!
Каждый оттенок звучания новой звонницы отдавался в человеческих сердцах молящихся людей, словно этим звоном и в них пробуждались им самим неведомые струны! От этой неизъяснимой радости и от переполнявших всех присутствующих чувств людям хотелось плакать! И они плакали, восторженно запрокинув головы в сторону свободно льющейся колокольной музыки. Это был голос церкви, голос Неба!
И вот из широко открытых церковных дверей показалась процессия священнослужителей со святыми мощами. Впереди — архиерей, одетый сверх блестящих церковных облачений в длинную белую полотняную одежду, подпоясанную широкой голубой лентой. Он несет на голове прикрытый воздухáми дискос со святыми мощами. Поддерживаемый двумя иподиаконами в стихирах из белой парчи, он, как ветхозаветный первосвященник, идет совершать торжественное жертвоприношение. Сонм священников, тоже одетых поверх риз в белые полотняные облачения, сошествует архиерею, как ангельский лик. Чудное пение псалмов многоголосым хором архиерейских певчих сопровождает это небывалое торжественное шествие…
Завидев только процессию, многотысячная толпа людей в молитвенном порыве пала на колени, не в силах сдержать своего благоговения, и полились ее обильные слезы на землю, как роса Божия. Эту росу испарит скоро жгучее солнце и облачком унесет в бесконечную небесную синеву, к самому престолу Божию.
Торжественным чином священнослужители обошли вокруг храма и возвратились к западным дверям. Двери наглухо затворены. Архиерей в молчании стоит. Толпа, в недоумении от того, что происходит, онемела. Но друг раздался громкий голос архиерея:
— «Возьмите врата, князи ваша, и возьмитеся врата вечные, и внидет Царь Славы!».
— А-а-а… знать, по чину так полагается! — пронеслось в толпе.
После возгласа архиерея двери храма сразу отворились и люди как один человек опустились на колени, замерев в земном поклоне.
— Врата на небо отверзлись! Входов на него от земли стало одним больше.
— Слава Тебе, Господи! — замахали руками, совершая крестное знамение, поднявшиеся на ноги люди.
Внутри самой церкви совершалось освящение престола и стен. Огромные снопы солнечных лучей, врывающиеся в большие окна под куполами, отражались на золоченом иконостасе и миллиардами рассыпались по всему пространству храма. Голубоватые облака кадильного дыма носились в солнечных лучах, и благоухание благовоний, употребляющихся при освящении престола, наполнило воздух.
Вместе с торжеством освящения церкви совершено было еще одно знаменательное событие: рукоположение в священнический сан первого священника этого храма. Во время «Херувимской песни» вывели из алтаря высокого и стройного юношу в белом стихаре, с покрытою воздухом головою. Так он и стоял во все время совершения Великого входа, а когда наступило время вводить его в алтарь и когда воздух был снят с его головы, то в посвященном многие узнали архиерейского воспитанника Андрюшу Нежданова, только что окончившего курс Духовной семинарии. Владыка подготовил Андрея, чтобы тот занял священническое место при храме просветительных учреждений княгини Сиверской.
Владыка так полюбил учреждения княгини, что с самого их открытия принимал в них деятельное участие. Свою воспитанницу Верочку владыка сразу же поместил в гимназию княгини, а по окончании ею курса еще более закрепил свою связь с «Просветительной общиной сестер милосердия», выдав ее замуж за учителя мужской гимназии. Воспитанника же своего Андрея Нежданова, женившегося по благословению владыки на окончившей курс здешней гимназистке, назначил священником в любимую «Общину».
* * *
Последние несколько лет Вера Михайловна Корневская, директриса женской гимназии, была сама не своя. Давно уже овладевшее ею тревожное чувство по отношению к владыке не давало ей покоя. Все ей думалось, будто чутьем она угадывала, что владыка Агапит не кто иной, как единственный, любимый ею человек, когда-то давно и навсегда пленивший ее сердце. Но такие непонятные события происходили вокруг нее последние годы, что она совершенно не могла в них разобраться.
«Все решительно перепуталось, — постоянно думала Вера Михайловна. — Откуда вдруг у владыки появились воспитанники? Он взял их жить в архиерейский дом, обставил им комнаты, нанял репетитора, а затем определил их на самостоятельную жизнь и устроил того и другого в одно и то же заведение вблизи себя. Все это заставляет думать, что он не тот человек, за кого я его принимаю. Тот, мой, не сделал бы этого! Его сердце, я чувствую, беспредельно принадлежит мне, если он еще жив, и у него не могло явиться нежданных воспитанников, о которых так горячо и усердно он заботился бы, как о собственных, кровных детях. Но, с другой стороны, глаза владыки Агапита, проникающие в самые тайники души, его добрый взгляд, приводящий в непонятный трепет, так и будят в душе образ того незабвенного семинариста, который снял по моей просьбе маску; как живой остался он у меня в душе на всю жизнь, и много сходного с ним в лице владыки! Борода, монашеский клобук и одеяние ведь много изменяют! Тот и не тот! — металась в догадках Вера Михайловна. — Может быть, он. А может, и не он! Ужасно! Господи, лучше, если бы это был не он. Тогда бы я успокоилась. Как же мне в этом получше разобраться!»
— Владычице, помоги мне! Умири мою душу! И так всю жизнь страдаю, — рыдая, опустилась на колени перед иконой Богоматери Вера Михайловна. — Теперешний крест кажется тяжелее прежнего, когда я впервые осознала, что всякая надежда на земное счастье для меня потеряна.
* * *
«О, Господи, что делать! — разводил руками владыка, расхаживая по кабинету в глубокий вечер. — Она, кажется, начинает догадываться, что я и есть тот, кто прозевал, по ее мнению, свое человеческое счастье совместно с нею! Догадывается, но еще и мучается сомнениями. А если ее сомнения закончатся и настанет полная уверенность? — Владыка беспомощно опустился в кресло, вытер платком выступивший от напряжения пот. — С одной стороны, это хорошо. Тогда она Верочку и Андрюшу признает действительными моими воспитанниками, а не подложными. Но, с другой стороны, будет и очень худо, потому что неизвестно, в какие отношения встанет она ко мне. В простые, то есть искренние, или же деланные, фальшивые? И что будет, ежели она еще разузнает каким-нибудь манером, что Верочка и Андрей — незаконнорожденные дети ее умершего мужа, которого она едва терпела? Верочку она искренно любила в гимназии, а как отнеслась бы к ней, узнав о ее происхождении? Благодарение Богу! — перекрестился владыка. — Я свой крест донес до Голгофы, распялся на нем и воскрес к жизни во Христе Иисусе. Лишение земного счастья было для меня несказанно тяжело, но Господь помог мне найти другой путь жизни и идти дорогой духовной. Все в руках Божиих. Теперь земное счастье потеряло для меня значение. Но вот для нее?» — владыка нервно встал и снова заходил по кабинету.
«Она все-таки не исцелилась, — рассуждал он. — Теперь моя задача в том, как бы устроить так, чтобы она убедилась, что я не то лицо, о котором она думает. Как отвратить ее от мысли обо мне как о человеке, с кем она навсегда связана сердцем? Самым делом надо показать что-нибудь такое, чтобы сразу заставить ее искать Андрея Заведеева в другом месте. А что такое придумать, ума не приложу, — развел руками владыка. — Вот здесь для меня начинается новый крест! Надо спасти ее, во что бы то ни стало».
* * *
На другой день с первой почтой владыка получил письмо от брата-священника села Залесье, с которым он назад тому двадцать один год ездил за невестой в село Белые Гари к отцу Митрофану.
Владыка несказанно обрадовался этому письму из далеких родных краев. Брат между прочим писал, что в Белых Гарях умер священник, которому отец Митрофан в свое время передал место вместе с дочкой Дуняшей, и что теперь матушка Евдокия, Дуняша, осталась с малолетней дочкой без всяких средств к жизни. Осенив себя крестным знамением, владыка прослезился и громко сказал, глядя на икону Спасителя и как бы призывая Его в свидетели:
— Благодарю Тебя, Господи, что Ты опять указал мне близких людей, нуждающихся в моей помощи. Я не оставлю их, пока жив и пока они нуждаются, — прибавил он и тотчас же написал письмо следующего содержания:
«Неизвестный Вам человек глубоко сочувствует Вашему горю, Евдокия Митрофановна! Молитесь за Вашего мужа, но не бойтесь беспомощности. Господь поможет Вам благополучно вырастить и воспитать малютку-дочку. Приезжайте сюда и обратитесь за советом, как Вам быть, к здешнему архиерею. Он любит помогать беспомощным и все непременно устроит так, что лучшего Вы и не пожелаете. На дорожные расходы прилагается при сем пятьдесят рублей. Только не сказывайте владыке, что Вам кто-то об этом написал в письме».
Написав письмо, владыка Агапит позвонил в колокольчик и приказал явившемуся келейнику позвать эконома. Скоро явился отец Павма.
— Отец эконом, услужите мне, пожалуйста, — заговорил владыка, — перепишите вот это письмо и пошлите его с деньгами по адресу. Вот на бумажке я адрес написал. Уж сейчас же сделайте это, отец эконом, — прибавил просительным тоном владыка.
— Эх… — почесывая затылок, вздохнул отец Павма. — И охота Вам, владыка, канителиться с разными вдовами да с ребятами. Уж если есть желание благотворить, то просто посылали бы деньги, что ли. А то искушение: боишься не потрафить, ведь и хорошие женщины народ привередный. А иные есть такие, что и самому сатане в злости да разных каверзах не уступят! Кто знает, — прибавил он, — может, такую злющую да капризную принесет сюда нелегкая, что хоть все уходи! Не дело, владыка! Право, не дело! Послушали бы Вы меня, пока еще не поздно.
— Ну, уж не сердитесь, отец эконом. Эту вдову-матушку я хорошо знаю.
— Так-то оно так, да все бы лучше как-то подальше от женщин.
— Да что Вы, отец эконом, все боитесь? — шутливо спросил владыка. — Ведь и сатану надо побеждать, а Вы боитесь женщин.
Но на этом разговор владыки и отца эконома не закончился…
* * *
Как-то вечером владыка гулял по двору в простенькой ряске и в черной скуфье вместо клобука на голове. Вдруг в ворота вошла прилично одетая женщина и прямо направилась в сторону владыки.
— Батюшка! — обратилась она к нему. — Мне бы надо владыку видеть!
— А на что он Вам нужен? — спросил в свою очередь владыка.
— Да говорят, что он святой человек и всякому помогает в нужде. Вот я и хочу обратиться к нему с просьбой помочь воспитать девочку.
— Что же так? — задал как бы из любопытства вопрос владыка.
— Осиротели мы, — прослезилась женщина. — Мой муж, священник, недавно умер. Средств не осталось никаких. Имущество кое-какое есть, но его придется распродать. Я бы, хоть годов мне уже и порядочно, учительницей могла быть, — прибавила женщина, утерев слезы. — Может быть, владыка устроит меня в учительницы.
— А сколько Вам лет, матушка?
— Да скоро сорок будет, но я могла бы еще учительствовать. Покажите, пожалуйста, батюшка, как пройти к владыке-то? — просительно сказала женщина. — Говорят, совсем святой человек: только и думает о том, как бы кому какое благодеяние сделать.
— Ну, относительно святости-то только Бог знает, — тихо произнес владыка и громче уже добавил: — А то, что помогать нуждающимся, это он действительно любит. К архиерею-то, пожалуй, сейчас неудобно, не примет. Придется Вам прийти еще раз.
— Когда же, батюшка?
— А Вы вот что, матушка, — как бы спохватился, сообразив что-то, владыка, — идите-ка к отцу эконому. Он вон там живет, — указал рукой владыка, — видите, первая дверь направо. Он Вас и научит, как все сделать. Он добрый, — прибавил владыка, — и напишет, что надо, и подскажет, когда к владыке удобнее сходить. Он все это знает! Да и попросит владыку-то. Владыка его слушается. Умный эконом-то. Идите-ка скорее, — закончил владыка.
* * *
— Батюшка, тут к Вам пришли, — высунув только белобрысую голову из дверей передней, доложил келейник отцу Павме и тотчас же скрылся.
— Кто спрашивает, Петруша? А, Петруша? Поди-ка ты сюда, ради Бога. Где ты там? — заволновался отец Павма.
Петруша, сутулый парень лет двадцати двух, на вид как будто глуповатый, в затасканном подряснике и сапогах, которые давно уже «просили каши», подошел к столу, за которым сидел с какими-то бумагами отец Павма, и лениво спросил:
— Что надо-ть?
— Ах ты! — сердито, полушепотом вымолвил отец Павма. — Сколько раз тебе говорено, чтобы все толком рассказывал! А то крикнет что-то в дверь… Принеси-ка мне рясу, — уже более спокойно прибавил эконом. — Кто там пришел?
— Барыня какая-то желает видеть Вас, — припадая к самому лицу эконома, басом сказал Петруша и, повернувшись, вышел из комнаты.
Минуты через две он возвратился с рясой в руках.
— Зови барыню-то, — взяв рясу и надев ее, приказал отец Павма.
— Прошу садиться, — предложил он вошедшей матушке, указывая на стул. — Что скажете?
Матушка подставила руки под благословение и только после этого села.
— Да я вот осиротела… К владыке приехала, — сбивчиво заговорила она. — Осиротела я с ребенком… Владыка-то, говорят, очень добрый… Я была учительницей. Может быть, он и пристроит?
— Так Вы, матушка, к владыке и идите! Ко мне-то чего ж? Я ведь тут сделать ничего не могу, — развел руками отец Павма.
— Меня к Вам послали, — боязливо сказала женщина. — Монах тут какой-то встретился на дворе. Я было у него стала расспрашивать про владыку, как к нему пройти и как с просьбой обратиться, а он сказал: «Я этого ничего не знаю. Иди к эконому, он все и расскажет».
— Владыка дома, идите сейчас к нему, он во всякое время принимает, и, не стесняясь, расскажите все, что находите нужным, — сказал отец Павма и встал, указывая в окно на парадное крыльцо архиерейского дома.
Владыка тем временем в каком-то радостном волнении быстрыми шагами ходил по комнате в ожидании просительницы. Он знал, что эконом сейчас отделается от нее, направив ее к нему. Все былое из отдаленной юности всплыло в его памяти с поразительной ясностью и словно приветствовало владыку, как старого знакомого. Прошлое будто заглядывало в самые тайники его души, чтобы удостовериться: сохранилось ли там все хорошее, не затемнилось ли в жизненном полете все то, что казалось тогда святым и высоким? Это прошлое словно спрашивало, не умерли ли в нем среди, может быть, беспечальной и богатой жизни горячие, неудержимые порывы ко всему прекрасному?
— Нет, нет, милые мои! Ничто во мне не умерло и не заглохло! — утирая умилительные слезы, разговаривал владыка с нахлынувшими на него милыми образами, точно это были живые люди.
Будто заново помолодевший, он возбужденно и нервно вышагивал в просторном зале архиерейского дома, когда келейник доложил о приходе просительницы.
— Проси в гостиную! — сказал взволнованно владыка. — Я сейчас.
Он оправился немного, выпил воды, усилиями воли умирил душевное волнение и смело, как бы бесстрастно, вышел в гостиную. Но по приходе просительницы, когда-то чуть не ставшей его женой и мало изменившейся, владыка в высшей степени смутился духом. А когда его бывшая невольная невеста, и без того внушавшая чувство сожаления, как пришедшая в нужде за помощью, поклонилась ему в ноги, владыка не выдержал и заплакал.
— Ну-ну, родная! — заговорил он, благословляя просительницу. — Видно, горя-то у тебя много! Что станешь тут делать? Господь все устрояет во благое, хотя часто и не по нашим желаниям. Садись и рассказывай, с чем пришла?
— Я из Н-ской епархии, владыка святый, — начала просительница. — Муж был священником. Жили хорошо, да только дети все умирали. Двое в семинарии учились, а третий в училище. На детей все уходило. Теперь осталась я с малолетней девочкой. Я бы еще, владыка святый, учительницей могла быть, девочка-то у меня не очень маленькая, шести лет, не помешает. В своей епархии трудно попасть на место, скажут, стара. А про Вас я слышала, что Вы всякую сироту и из чужой епархии пристроите. Простите, ради Бога, владыка святый, — поклонилась просительница, — сама-то я и не подумала бы, да люди смутили. Прожила бы как-нибудь; есть ведь много людей и в худшем состоянии. Только особенно тяжело сиротство — никого из близких! Нужда какая случится, не к кому обратиться. А нужды мало ли?
Владыка сосредоточенно молчал, только по временам из его груди вырывались тяжелые вздохи да стеклянные четки побрякивали в руках. Он сидел плотно закрыв глаза, точно думал великую думу.
— А вот что, матушка, — открыв глаза, обратился он к просительнице, — учительницей Вам быть я не советую, не время уж. Не потому, что делать Вы этого не можете, а потому, что Вам надобно беречь себя для дочери.
— Знаете, что я Вам скажу? — немного помолчав, сказал владыка. — У меня воспитывались двое детей и жили здесь в архиерейском доме с теткой-старушкой. Теперь мои воспитанники взрослые; мальчик уже давно священник и законоучитель в женской гимназии. Тут останавливаются только кто-либо из приезжающих ко мне лиц, но для таких найдутся другие комнаты. А Вы бы с Вашей дочкой жили в этой квартире! И содержания Вам будет довольно, и девочку мы устроим в гимназию — так и проживете Вы у нас беспечно. Мне давно тяжело сознавать, что много людей, которые живут в крайней нужде, а тут столько свободного места, никому здесь не нужного, даром пропадает! Соглашайтесь-ка вот! Гимназия здесь хорошая, и близко. Если Вы не захотите так жить, то живите в своей епархии, а я буду высылать Вам деньги на содержание. Раз уж Вы обратились ко мне, я не оставлю Вас без помощи. Только, по-моему, здесь Вам лучше! — подытожил владыка. — К гимназии я стою близко, и там меня слушают. Значит, Вашей девочке, как моей воспитаннице, будет хорошо! Да и Вам беззаботно! Как Вас зовут-то? — догадался наконец спросить владыка.
— Евдокия Разумовская, — ответила матушка, и опять опустилась на колени, и сквозь слезы сказала: — Простите, владыка святый, милость Ваша ко мне, совершенно неизвестному человеку, несказанно велика, и я не знаю, как поступить, чтобы не обременять Вас. По правде сказать, владыка святый, мне стыдно принять такое великое благодеяние ни с того и ни с сего. Я шла в надежде, что Вы поможете мне пристроиться к какой-нибудь должности, где я бы и постаралась оправдать Вашу заботу обо мне с малюткой. А тут Вы принимаете меня как близкую родню.
— Так Вас, Евдокия, как по батюшке-то?
— Митрофановна, владыка святый, — ответила матушка.
— Евдокия Митрофановна, так у Вас, говорите, сбережений нет и надо проживать то, что осталось из Вашего имущества?
— Да, сотни три с трудом выручится от продажи хозяйственных вещей. И это все. Так что мне без работы нельзя оставаться, — утирая платком катившиеся слезы, отвечала матушка.
— Ну, значит, и толковать нечего! — сказал владыка. — Господь взыскал Вас за чью-то святую жизнь, Вашу или кого-либо из родных. Сами посудите: разве не Божие это дело, если Вы из чужой епархии обратились ко мне, а у меня как раз и помещение есть, и средства к жизни, и способы воспитания девочки? Ведь и для меня это не ново, — продолжал владыка. — Спросите здесь кого угодно в городе, и всякий вам скажет, что чужие мне дети, брат с сестрой, воспитывались в моем доме и теперь стали прекрасными людьми. Вас никто иной, как Господь направил ко мне. Значит, Вы со своей девочкой мне уже не чужие. А как зовут дочку? — задал он вопрос.
— Верочкой, владыка святый. У меня была подруга, двоюродная сестра Вера, так я в воспоминание о ней и назвала свою дочь.
— О, Господи! — воскликнул владыка. — Ведь и моя воспитанница, теперь жена директора гимназии, тоже Верочка! Вот я буду рад, что у меня опять будет маленькая Верочка! А как чрезвычайно будет рада моя воспитанница — жена директора! Да Вы сходите к директору! — спохватился владыка. — Расспросите его жену про то, как ей жилось у меня здесь с братом. Да и к брату тоже сходите, к законоучителю гимназии, отцу Андрею. Нет, матушка, нечего и раздумывать, — закончил владыка. — Двоих детей воспитал вместо своих, а третьего уж Бог привел воспитать!
Владыка позвонил.
— Алексей, — сказал он вошедшему слуге, — пойдем-ка, покажи комнаты, где жили мои воспитанники: отец Андрей и Верочка. Они и теперь, когда приходят ко мне, непременно заглядывают в свои комнаты.
Владыка обратился к матушке:
— Пойдемте, посмотрите.
В комнатах все оставалось по-прежнему, и владыка любил часто заходить сюда, чтобы отдохнуть и вспомнить о своих воспитанниках-сиротах, которым, не помоги им архиерей, предстояла в жизни незавидная участь, как рожденным вне закона. «А вот Господь возвеличил их и поставил наверху», — думал он всегда в такие минуты.
При осмотре комнат владыка рассказал матушке, которая так и не могла прийти в себя, множество случаев из детской жизни своих воспитанников, и говорил о них с такой любовью, точно эти дети были его собственными, родными детьми. Матушка же только утирала украдкой катившиеся по ее щекам слезы. Она готова была разрыдаться от выпавшего ей незаслуженного счастья, почти чуда, и не могла удерживать слез. Все происходившее с ней казалось ей какой-то сказкой! Архиерей, совершенно чужой им с дочкой человек, с которым она видится в первый раз в жизни, принял ее как родную и почти упрашивает их жить с дочерью в чудных комнатах, о каких она никогда даже не мечтала!
— Бог Вас благословит, Евдокия Митрофановна! — сказал владыка при прощании с матушкой. — Собирайтесь к нам! Я буду Вас ждать. И чем скорее соберетесь, тем лучше!
Принимая прощальное благословение, матушка, не в силах более сдержать радостных чувств, опустилась перед своим благодетелем на колени и, припав к руке владыки, щедро окропила их солеными слезами.
«Дивны дела Твои, Господи! О, как премудро Ты все устроил! И как милостив и щедр! — мысленно изливал свою душу владыка Агапит, стоя перед образом Спасителя по уходе Евдокии Митрофановны. — Все те люди, которых судьба ставила рядом со мною при начале моей самостоятельной жизни, на закате моих дней Промыслом Божиим опять собираются около меня, и их дети становятся и моими детьми. Двое детей уже вышли в жизнь, — думал владыка, — и из них вышли добрые, богобоязненные люди, которые живут во славу Божию! Помоги, Господи, — перекрестился он, — и третью малютку воспитать во славу Божию. Во славу Твою!»
* * *
— Владыка опять свою воспитанницу определяет к нам в гимназию, — сказал секретарь педагогического совета директрисе Вере Михайловне Корневской. — Прошение в совет прислал.
— Вот как! — едва выговорила Вера Михайловна, а затем прибавила: — Дивный человек владыка! Сколько он тайных благодеяний нуждающимся оказывает!
Говоря это, Вера Михайловна машинально достала из своей сумочки дамский платок и взволнованным жестом несколько раз приложила его ко лбу.
— Дай ему, Господи, доброго здоровья! — прибавила она.
Немного помедлив, Вера Михайловна прошла в канцелярию совета и с заметным интересом ознакомилась с прошением владыки о принятии в гимназию его воспитанницы.
— Вера Разумовская, Вера Разумовская… — недоумевающе бормотала Вера Михайловна, выходя из канцелярии. — Опять Вера. Ведь и прежнюю воспитанницу владыки тоже звали Верой…
— Владыка приехал! — доложил запыхавшийся служитель. — Уже по лестнице поднимается.
В ту же минуту в зал вошел владыка, ведя за руку маленькую девочку.
— Хочу представить Вам, Вера Михайловна, мою воспитанницу, Веру Разумовскую, и прошу принять ее в число учениц первого класса. Жить она будет у меня, как и прежняя воспитанница, и меня прошу считать заступающим ее родителей. А Вы, Вера Михайловна, возьмите ее под свою защиту, пока она будет здесь, — прибавил владыка.
Вера Михайловна ласково обняла девочку и обратилась к владыке:
— Чья она?
— Конечно, сиротка, иначе не жила бы у меня! — коротко ответил владыка.
— У меня родственники есть Разумовские, — как бы про себя сказала Вера Михайловна, желая этим вызвать владыку на откровенность относительно девочки. — Двоюродная моя сестра…
Но владыка не стал слушать и перебил ее:
— Пойдемте, Вера Михайловна, покажем моей Верочке гимназию и тот класс, где она будет учиться! А потом нам надобно и домой, — прибавил он, — некогда здесь долго быть.
Действительно, минут через пятнадцать владыка с девочкой уже уехали из гимназии.
— Ну, Евдокия Митрофановна, Верочка теперь гимназистка, — весело сказал владыка, приведя девочку к матери по возвращении из гимназии. — Скоро начнет учиться.
А затем, чтобы не дать времени матушке рассыпаться в благодарностях, сразу же продолжил:
— Живите тут как дома! Не стесняйтесь! Что нужно, скажете отцу эконому Павме, он все сделает. Ко мне заходите вечерами, когда нет посетителей, а я уж беспокоить Вас не буду. Живите с Богом, — закончил владыка, собираясь уходить. — Да хранит вас Господь!
* * *
У благочинного городских церквей отца Семицветова собрались представители городского духовенства по частному совещанию: по какому-то экстраординарному вопросу-случаю. А по какому именно, пока этого решительно никто не знал из собравшихся.
В разосланной благочинным повестке было только написано, что на собрании быть необходимо. И вот собралось человек двенадцать священников, а отца благочинного нет дома; ушел к владыке, наказав собравшимся непременно его дождаться. Долгое ожидание подняло интерес к собранию до крайней степени: что могло случиться экстренного, если на обсуждение вчера еще было приглашено духовенство повестками? О предмете обсуждения никто до сих пор не знал. Что за таинственность такая? Благочинный в назначенное для сего время находится у владыки, значит, что-нибудь особенное и важное?
— А может быть, относительно владычного юбилея? — высказал предположение один из молодых священников.
— Что Вы, батюшка, с луны свалились, что ли? — важно возразил кафедральный протоиерей. — Ведь владыка решительно заявил в консистории и духовенству, чтобы никакого празднования по поводу его юбилея не было и чтобы с поздравлениями никто не являлся. Это всякому известно! Только Вы вот почему-то не слыхали, — наставительно и вместе с тем с иронией добавил отец кафедральный.
— Нет, Ваше Высокопреподобие, и я слышал это, — спокойно сказал молодой батюшка, — но высказал это предположение потому, что знаю особенное усердие благочинных и вообще высокостоящих представителей духовенства как-нибудь и чем-нибудь выказать свою почтительность непосредственному начальству! Хотя бы это начальство и не желало, они все-таки ухитряются попасть ему на глаза со своим усердием. Вот и тут, — продолжал священник, — владыка хотя и не велит, а мы все-таки что-нибудь да придумываем…
— Маслом каши не испортишь, вот что.
— А-а-а, вот Вы какой!
— А где изволите служить, в какой церкви? — по-начальнически спросил протоиерей, вплотную приближаясь к говорившему.
— А служу я Богу и Святой Церкви в приходе Благовещения, — спокойно ответил молодой священник и присовокупил: — А вот и отец благочинный! Послушаем-ка, что он скажет нам.
Все окружили благочинного и, здороваясь, спрашивали:
— Ну, что у владыки?
Благочинный суетливо замахал руками.
— Садитесь по местам, отцы и братия, — начал он, стоя перед столиком, на котором лежала тетрадка в синей обложке и два карандаша: обыкновенный и красный. — Созвал я вас сегодня по очень важному делу! Известно, что через две недели исполнится двадцать пять лет архиерейства нашего благостнейшего архипастыря Преосвященнейшего Агапита, и этот день требуется отметить чем-нибудь.
Дружный смех невольно вырвался у всех присутствующих, ибо недавние предположения молодого священника оправдались. Муху выгнали в окно, а она в другое. Благочинный не ожидал ничего подобного и растерялся.
— Но ведь владыка запретил предпринимать что-либо по поводу юбилея, — сказал кто-то, — так что об этом, кажется, бесполезно и речь разводить.
— То-то и есть, что не бесполезно! — оправившись, заволновался благочинный. — Правда, он ни за что не соглашался ни на какие, даже в скромнейшей форме, чествования и просил ничего не предпринимать. Но ведь нельзя же так-то пройти молчанием это событие?
Благочинный развел руками и после некоторой паузы, во время которой он обвел глазами всех присутствующих, продолжил:
— Пусть он не желает торжественного празднования, так мы келейно его совершим! Придем к нему вечером, когда он нас и ждать уже не будет, поздравим и поднесем ему на память панагию или что-нибудь. Он, понятно, по смирению своему уклоняется от чествования, а мы-то по долгу обязаны в сей день оказать ему внимание особенным образом! Как вы думаете, отцы и братия? — закончил свою речь благочинный вопросом.
— Не обиделся бы! Может быть, ему неприятность сделаем большую, не исполнив его просьбы, — высказался кто-то.
— Отцы и братия! Да ведь честь хотим воздать и любовь свою владыке засвидетельствовать! — не унимался благочинный. — А честь и любовь кому же из людей может быть неприятной?
— Да отец благочинный! Не честь и любовь наша неприятны будут владыке, — сказал молодой священник от Благовещения, — а наше ослушание. Он и без того знает, что мы его горячо любим и честь готовы воздать чем угодно. А что относительно нашего послушания, так он, очевидно, сомневается, если настойчиво просит не отличать ничем день его юбилея! По-моему, лучше бы оказать владыке послушание! — закончил молодой батюшка.
После долгих разговоров все же было решено понести владыке «Адрес» в теплых выражениях через депутацию с кафедральным протоиереем во главе и при отце благочинном; правда, в неофициальное время. Решение это постановлено было держать в строгом секрете даже и от членов своих семей.
Настал день юбилея. Владыка с утра уехал в монастырь за десять верст и там помолился за литургией и отслужил молебен.
Гражданские и военные власти, а также представители других светских и городских учреждений оставили в архиерейском доме свои визитные карточки. В четыре часа служитель при архиерее, заранее предупрежденный, сообщил кафедральному протоиерею по телефону: «Владыка сейчас возвратился и хочет отдохнуть!».
Депутация духовенства из пяти человек с горячим «Адресом» собралась в квартире кафедрального вечером, в половине седьмого.
— Не пора ли, братия?! — не то спросил, не то распорядился отец кафедральный. — Владыка ведь долго отдыхать не любит! По всей вероятности, уже и чаю напился. Я думаю, что сейчас самое время к нему.
Торжественно, в камилавках, при орденах и иных регалиях, вступила депутация в архиерейские сени. Позвонили у двери передней. Отворил старый послушник, подметавший шваброй пол в приемной.
— Владыка уехал! — заявил он обескураженным депутатам. — Через неделю приедет!
— Куда уехал? Давно ли? — в один голос стали задавать вопросы отцы-депутаты, совершенно не ожидавшие такого сюрприза.
— Да вот с полчаса еще не будет, как уехал, — ответил старик и затем, снова принимаясь за свое дело, прибавил: — А куда поехал, уж не могу вам сказать.
Растерянные депутаты вынуждены были, не выполнив своей миссии, разойтись по домам.
— Владыка ведь вчера уехал на целую неделю неизвестно куда! — сообщил на другой день как новость кафедральный протоиерей, здороваясь в консистории с секретарем. — Мы было к нему вечером с поздравлением, а его и духу нет!
— А вот телеграмма из Святейшего Синода, разрешающая владыке отлучиться на неделю в соседнюю епархию, — сказал секретарь, подавая телеграмму. — Владыка мне вчера ее и прислал.
— Что же Вы мне об этом не сообщили? — сразу же обиделся кафедральный. — Мы бы тогда не оказались в смешном положении.
— Да помилуйте, отец протоиерей! — возразил секретарь консистории. — Мне и в голову не могло прийти, чтобы экстренно оповещать о ней членов консистории. Разрешено владыке отлучиться, ну и все тут!
* * *
Поодиночке или маленькими кучками в два-три человека входят в задние ворота архиерейского дома бедняки разного рода. Есть между ними мужчины и женщины, есть старые и молодые, есть подростки и малые дети, есть даже женщины с грудными детьми на руках. Весь этот люд входит в старинное длинное здание, на котором большими буквами написано: «Бесплатная столовая для бедных». Здесь ежедневно в 12 часов дня открываются двери, а в половине первого собравшиеся бедняки садятся за стол и им подается горячая пища: в скоромные дни — скоромное, а в постные дни — все постное.
Обед состоит только из одного блюда: щей или похлебки, к которым полагается полтора фунта хлеба. Но и это большое благодеяние для бедняков, особенно ввиду того, что другой бесплатной столовой в городе нет.
Заведует столовой матушка Евдокия Митрофановна Разумовская, облагодетельствованная по неисповедимому Промыслу Божию владыкою Агапитом и живущая со своей дочкой в архиерейском доме. Проводив девочку в школу, матушка тотчас же отправляется в столовую и старается из нехитрых запасов наготовить побольше похлебки и сделать ее посредством разных специй повкуснее. С какой любовью и жалостью смотрит она на обедающих бедняков, часто утирая украдкой слезы! В сознании у нее встает вопрос: откуда все эти бедняки? Их всегда здесь не меньше полсотни. Загнанные нуждой в этот город из разных мест, они нашли в трудную минуту жизни приют, чтобы не умереть с голоду. «Это Господь рукою владыки дает им, как и мне, хлеб, — думает матушка. — А святое дело владыки умиляет и мою сиротскую душу!»
Однажды, только пропели бедняки «Отче наш» и сели на свои места, вошел в столовую сам владыка. Все в глубоком молчании встали, а владыка Агапит, помолившись на икону, поклонился беднякам и сказал:
— Ну, матушка, угощайте нас, чем Бог послал!
— Сегодня среда. Так горошек варили.
— Люблю горох с малых лет.
После обеда владыка всех благословил, поблагодарил матушку по-простонародному «за хлеб, за соль» и скоро удалился. А молодой парень, благословившийся последним, так и остался стоять с раскрытым от удивления ртом. Вытаращенными глазами смотрел он вслед уходившему владыке. Он даже не опустил рук, а так и держал их скрещенными для принятия благословения ладонями вверх.
— Что ты, молодец, так смотришь? Здоров ли ты? Видишь, уж все разошлись, — подошла к нему матушка, — и тебе надо уходить.
— Да ведь он у нас недавно был, — встрепенулся пришедший наконец в себя парень. — Я из Н-ской губернии, из Белых Гарей. Село такое есть.
— Ты из Белых Гарей? — несказанно удивилась в свою очередь распорядительница столовой. — Да чей ты? Как попал сюда? — засыпала она его вопросами.
— Я-то как попал? — запуская руку в затылок, говорил парень. — Я на заработки, на суда, значит! Один раз уж сделал путь на судах за четыре рубля с полтиной. Дней через десять опять пойдем вниз. Из Шеломатихи я, — продолжал он, — деревня, значит, так прозывается! Феди Лукича я, вот чей!
— Да где же ты владыку нашего видел? — торопливо спросила матушка.
— Этого-то! А это уж недели три будет. Перед отъездом на заработки мы были в воскресенье в церкви у службы. Кончилась обедня, мы это, приложиться к Пречистой бы, а вдруг он, что благословлял сейчас, и вышел из алтаря. А на голове-то вот это, что и сейчас было. Сам с кадилом…
— Ну! — нетерпеливо затормошила парня матушка.
— А это… Он пошел по нашим священникам, значит, панихиду править. «Где туточка, — диакона спрашивает, — могила отца Митрофана и отца Александра?» Александра-то я помню, как помер, а отца Митрофана не помню, до Александра был. Вот панихиду и справили на могилах. Да еще старую матушку поминал, запамятовал, как ее звали.
— Вассой, может? — подсказала матушка, утирая обильно катившиеся по щекам слезы.
— В-о-о! Точно, — обрадовался парень. — После панихиды долго еще крестил могилы. Народ весь за ним. А он на обе стороны благословляет; идет и все благословляет!
Возвратившись в свою квартиру, матушка долго молилась перед своими домашними иконами, перешедшими к ней от родителей, а когда возвратилась из гимназии Верочка, то она обвила руки вокруг ее шеи и, крепко прижав к себе, залилась неудержимыми слезами. Верочка смутилась и, как могла, утешала мать. Было уже время обеда.
— Мама, да успокойся же! — говорила Верочка, сама начиная морщить лицо от подступавших слез. — Давай обедать! Да что же такое случилось, что ты огорчена и не можешь успокоиться? Ведь нельзя же так! Пойдем, а потом за обедом поговорим.
— От радости я плачу, дорогая! — сказала наконец сквозь слезы матушка. — Вести с родины получила и много узнала такого, что от радости моей совсем обессилела! Владыка-то наш, оказывается, у нас на родине был, в Белых Гарях, и панихиду служил на могилах папы и дедушки с бабушкой! — матушка, не в силах более сдержаться, громко зарыдала.
— Что ты, мама, Христос с тобой! — испугалась Верочка, предполагая, что мать совершенно нездорова и начинает бредить. — Успокойся, пожалуйста, пойдем обедать!
— Что же это значит? С какой же стати владыка у нас на родине был и разыскивал могилы наших родных? — недоумевала матушка, успокоившись и вопросительно глядя на дочь. — Значит, любовь его к нам и беспокойство о нашем сиротстве не случайная! Нет, это надо разъяснить, — решила наконец Евдокия, — не в заколдованном же, в самом деле, кругу жить?
* * *
— Евдокия Митрофановна?! Проси, проси, — сказал владыка келейнику, когда тот доложил вечером в тот же день о приходе матушки Разумовской.
— Пожалуйста, дорогая матушка, — весело говорил владыка, издали идя навстречу посетительнице, — ведь сегодня виделись. Все ли в добром здравии? Что Верочка?
— Благодарю Вас, Преосвященнейший владыка! — поклонилась матушка, принимая благословение. — Здоровы мы. А только вот что у меня… — матушка сильно смутилась и не договорила до конца предложение.
— Сегодня в столовой у нас обедал рабочий с моей родины, — вскоре продолжила она, — и когда Вы благословили его после обеда, то он удивился так, что на него напал столбняк. Придя в себя, он рассказал, что Вы были у нас на родине и даже служили панихиду на могилке моего покойного мужа и моих родителей. Это меня так поразило, что я признала было парня не совсем здоровым.
— Был я, родная, у Вас на родине! — весело заговорил смутившийся владыка. — Проезжал мимо, а было как раз воскресенье. Остановился, чтобы отслужить Литургию. Тем более что вспомнил, что это родина моих семейников. Дай-ка, думаю, помолюсь на их родных могилах! Помните, Вы ведь подробно рассказывали о своих родителях и о супруге? Я с тех пор имена их не забываю и возношу во время литургии вместе с близкими мне поминаемыми. Был, матушка, был, — закончил владыка, — и радуюсь, что это было в воскресенье, а Вам-то уж, простите, не сказал об этом; как-то совестно… Точно бы нахвастал, вот-де я какой! Уж простите, Христа ради!
Низко наклонилась матушка к владыке, горячо целуя его руку, и от слез едва выговорила:
— Сил моих не хватает молиться Богу за Вас, святый владыка! Надо молиться день и ночь!
— Ну, ну, матушка! Господь печется о вас с Верочкой. А я что? Орудие лишь в руках Его. И радуюсь, и благодарю Господа за то, что Он мне, грешному, дает возможность проявить любовь к вам!
* * *
— Владыка просит Вас к себе обедать, — объявил появившийся келейник, — все уже готово, — и, уходя, добавил: — Посторонних никого не будет.
— Ай, что же это мы? — засуетилась матушка. — Надо бы приодеться тебе! Да и я в обыкновенном костюме.
— Ну, ничего, мамочка, пойдем! — сказала Верочка. — Никогда мы у владыки попросту не обедали! Значит, задерживаться не надо!
— Пожалуйте, пожалуйте! Я-то сколько раз у вас обедал, а к себе запросто и не пригласил никогда, — улыбаясь, встречал владыка гостей. — У вас сегодня радость — празднуете окончание курса Верочки. Но ведь и у меня не меньшая радость — последнюю Богом данную дочку воспитал. Больше уж не удастся никого воспитывать. Стар стал. Годов не хватит! Так что Верочка — последняя дочка у меня! Слава и благодарение Господу, что Он сподобил еще при мне ей окончить курс. Ну-ка, милости прошу за стол, — пригласил владыка, — сегодня у меня по-праздничному.
После обеда, благословляя Верочку, владыка вручил ей сберегательную книжку на пять тысяч рублей.
— Это тебе на приданое, накопил за десять-то лет! — сказал он. — Видишь, как Господь милостив! Теперь раздумывайте, как жизнь устроить, — говорил, прощаясь с гостями, владыка, — а я об этом и по-своему подумаю. Может быть, что-нибудь с Божьей помощью и удастся придумать хорошее.
* * *
— Инспектор народных училищ! — доложил вечером келейник.
— Проси! — сказал владыка, и по лицу его разлилась приятная улыбка.
Он встал и радостно пошел встречать посетителя, точно дорогого гостя. И гостем посетитель был для владыки действительно дорогим. Георгий Васильевич Световидов, сын бедного чиновника, в бытность свою в гимназии «Просветительной общины» княгини Сиверской пользовался стипендией владыки и его любовью. По окончании курса он поступил учителем гимназии в одну из средних губерний, но прослужил там лишь три года. В родном его городе С. освободилось место инспектора народных училищ, и Световидов благодаря содействию владыки занял это место. Теперь, возвратившись из поездки на экзамены в школах своего района, он явился к владыке, чтобы навестить его и засвидетельствовать ему свое уважение.
— Пожалуйте, Георгий Васильевич! Очень рад Вас видеть, — радостно улыбаясь и обнимая гостя, приветствовал его владыка. — Давненько уж не виделись. Как Вы поживаете?
— Закончил экзаменационные дела и теперь на отдых собираюсь, — говорил инспектор. — Да как-то скучно, владыка, без живого дела. Чуть не целый месяц был на людях, в живом, кипучем с ними общении, а вот теперь один! Погуляешь вечером, придешь домой — скучно! Кое-как и стараешься скоротать время за чтением какой-нибудь неважной книжки.
— А вот что, мой друг, — начал как-то загадочно и вместе с тем торжественно владыка. — Сказано: «не добро человеку быть одному…». Пока молод, женись-ка! — продолжал он. — Послушай меня! А чтобы не откладывать дела в долгий ящик и не ставить тебя в немалое затруднение по разыскиванию невесты, я помогу тебе. Сказывай-ка без утайки, есть ли у тебя на примете хорошая невеста? Обещался ли кому? Если есть, то я первый порадуюсь. Ан нет, так помогу найти. Так есть или нет?
— Нет, владыка, никого еще не успел приглядеть, — просто и с доброй улыбкой ответил Световидов.
— А жениться-то ты как, не прочь? — снова спросил владыка.
— Чего лучше бы! — согласился тот. — Да сначала надо обзавестись немного приличной обстановкой. А то как семейному жить почти в пустой комнате-квартире? Обстановка, оставшаяся мне после родителей, уже стара, очень устарела! Надо бы всю мебель новую.
— Ну, это пустяки, — сказал владыка и, откашлявшись, продолжал: — Я дам тебе невесту из гимназии и с небольшими деньгами. А что она хорошая по душе и по виду, за это я ручаюсь. Знаешь Верочку Разумовскую, воспитанницу мою? — владыка посмотрел на Световидова. — Чай, много раз с ней разговаривал. Ты хороший, но и она тебе не уступит. Вот тебе невеста! — закончил владыка.
Георгий Васильевич вскочил с места и, взяв руку владыки, почтительно и вместе с тем горячо поцеловал ее.
— Спасибо Вам, дорогой владыка! — сердечно сказал он. — Без Вашей помощи я, по всей вероятности, и образования достаточного не получил бы. Ведь я Вам обязан всем. А теперь Вы и окончательно судьбу мою устраиваете. Знаю я Верочку хорошо, — закончил он, — и она мне очень нравится!
— Утешил ты меня! — целуя в голову Световидова, сказал владыка. — Ведь этим ты снимаешь с меня самое трудное дело, которое мне оставалось сделать по отношению к моей Верочке. Теперь же зайди к ним и объяви о своем желании, — благословляя Световидова, говорил владыка, — да и скажи о моем полном согласии относительно общего устройства вашей жизни, — прибавил он. — Боже вас благослови!
«Слава Тебе, Господи! Как промыслительно и хорошо все устраивается, — думал по уходе Световидова владыка. — Ведь просто чудо Господь совершает в жизни нас, грешных. Явное чудо и неизреченное милосердие Божие! — расхаживая по кабинету, говорил сам с собой владыка. — Все хорошо так устроилось в моей жизни! Слава Тебе, Боже, слава Тебе! Земное, кажется, все уже сделал…»
В глубоком благоговении повергся владыка перед образом Спасителя.
* * *
— Да годы вроде бы еще и не преклонные… — говорил доктор эконому архиерейского дома отцу Павме. — Живут владыки и очень долго… Но тут организм уже отслужил. Много, по-видимому, пережил.
— Вот ведь простудился, как ездил по епархии, — разводил руками отец Павма. — Сперва направился было совсем, а вот другая идет неделя, как стал хиреть. Силы слабеют. Сам-то бы духом и ничего, но аппетита нет совсем и немощь какая-то нападает.
— Может быть, еще неделю-другую протянет, а дальше — Бог знает, — сказал, уходя, доктор.
Проводив доктора, отец Павма возвратился к больному владыке; тот сидел на постели радостный и спокойный. Он любовно остановил взор на отце Павме и сказал:
— Вот что, отец Павма! Мы с тобой мирно жили. Спасибо тебе. Ты помогал мне и сирот воспитывать… Спасибо…
Владыка на минуту замолчал, тяжело вздохнул и продолжал:
— Теперь еще услужи мне на прощанье. Хочу пособороваться. Устрой мне, только проще, без торжественности. — Владыка тяжело вздохнул.
— Ты сам пригласи духовника, отца Иова, да еще отца Андрея Нежданова из гимназии. Втроем сегодня вечером и совершите таинство. Да пусть придут на соборование и обе мои воспитанницы с родными.
Отец Павма в точности исполнил желание владыки, и вечером над ним было совершено таинство Елеосвящения. После соборования владыка повеселел и еще с полчаса беседовал со всеми бывшими на таинстве, так что все успокоились и, уходя домой, говорили между собою:
— Слава Богу, владыка выглядит совсем здоровым! Даст Бог, живо поправится!
А на другое утро в семь часов отец Павма шепотом спрашивал келейника: «Ну что, как? Спал хорошо?».
— Это отец Павма? — раздался слабый голос владыки из соседней комнаты. — Поди-ка сюда!
— С добрым утром, владыка святый! — низко кланяясь, произнес отец Павма и протянул к нему руки для благословения.
— А разве это уже утро? — спросил владыка.
— Да, сейчас шесть часов.
— «Слава Тебе, показавшему нам свет!» — сев на постели, проникновенно и торжественно произнес владыка и, обратив влажный взор на икону Спасителя, вдруг медленно склонился на подушку.
Душа праведника тихо отлетела в Небесные Обители…
Через десять минут медленно и сладко раздавались в морозном воздухе один за другим двенадцать ударов большого колокола на колокольне кафедрального собора. Этим жители города С. поставлялись в известность о кончине доброго и праведного архипастыря — владыки Агапита.
* * *
— Батюшка, отец Гавриил! Вы какими судьбами очутились здесь? — после одной из панихид приступила с расспросами к своему соседу по родине, священнику села Залесье отцу Гавриилу Заведееву, матушка Евдокия Разумовская.
Она не понимала, почему здесь, в чужой епархии и на похоронах чужого владыки присутствует отец Гавриил.
— Да ведь брат мой владыка-то, Евдокия Митрофановна! — ответил отец Гавриил. — Разве Вы этого не знали? Помните Андрея Ивановича Заведеева, первого Вашего жениха? Я ведь это с ним приезжал тогда сватать Вас! В Белых-то Гарях.
— Ах! — и Евдокия Митрофановна как сноп свалилась к ногам отца Гавриила.
Он едва только успел поддержать ее голову…
Так и Вера Михайловна Корневская узнала наконец великую тайну владыки Агапита. Не сдерживая более горьких слез, она разразилась неудержимыми рыданиями.
— Сколько лет вместе — и ни одним словом не проговорился, ни одним действием не выдал себя! — сквозь слезы проговорила она. — Всех близких собрал около себя, всех поддерживал и всех устроил… Великая, праведная душа!
Да и все горожане как один человек рыдали, когда опускали в землю «домовину» с усопшим телом. Город с великой скорбью провожал в последний путь своего владыку — сильного молитвенника и тайного благотворителя.
Толшевский
Журнал «Русский паломник», 1912 г.
От редакции: В основу новой литературной обработки повести Толшевского «Крестоносцы» лег машинописный текст из архива протоиерея Григория Александровича Пономарева (1914-1997 гг.).
г. Курган, 2007/12 гг.
В Пасхальную заутреню
Рассказ-быль
I
Была Страстная Суббота.
В большом доме купца Павла Степановича Недоборова закончилась к праздникам уборка комнат.
Сама Матрена Марковна царила на кухне. Здесь стоял сдобный аромат горячих куличей, ромовых баб и готовился вынырнуть на свет из огромного горячего зева печи еще целый ряд разнообразных печений.
Матрена Марковна была вся поглощена этим важным делом. Взволнованная, разогретая кухонным жаром, она, когда одна партия куличей была вынута из печи, а другая еще не поставлена, бежала в дом — посмотреть своим зорким глазом, что там делается, и забегала в столовую. Здесь был полный хаос. На столе, на полу лежали кульки со всевозможной снедью. На громадных блюдах красовались праздничные кушанья: индейки, поросята, окорока; окрашенные в разнообразные цвета яйца. Все это ждало своей очереди и своего места. Матрена Марковна оглядывала все это изобилие внимательным взором, планируя в уме расстановку стола, и опять спешила в кухню.
Самого хозяина дома не было. Павел Степанович с утра был в своем магазине. Этот магазин, осененный зеленой вывеской с крупными, выпуклыми золотыми буквами: «Торговля мануфактурным и галантерейным товаром купца Недоборова», — был известен каждому городскому обывателю. Это было излюбленное место местных франтов и франтих. В последний день перед Пасхой магазин был переполнен народом. Все спешили сделать себе последние закупки к празднику. Приказчики метались как угорелые, выбиваясь из сил, чтобы угодить покупателям, а их количество все росло.
Весеннее теплое солнце смотрело в большие зеркальные стекла магазина — потоки золотистого света обливали брошенные на прилавки груды бархата, шелка, разнообразных рисунков ситца и других всевозможных материй, суетящихся, охрипших, вспотевших приказчиков и толпу народа, жадно разглядывавшую товары. Слышался звон денег, крик торгующихся голосов.
Сам хозяин магазина, плотный седеющий мужчина с благообразным лицом, в длиннополом черном сюртуке, подстриженный в скобку, стоял за кассой, и его зоркий, привычный глаз следил и за приказчиками, и за покупателями, и за всем тем, что происходило в магазине, а чуткий слух был насторожен, и вместе с тем он с правильностью машины принимал, считал деньги и сдавал сдачу. По временам, вытирая цветным платком струившийся по лицу пот, он наблюдал, как в кассе увеличивался приток серебра, золота и кредиток, и с удовольствием потирал руки. Торговля шла как по маслу.
Но вот перед кассой появился телеграфный рассыльный и над самым ухом Павла Степановича крикнул:
— Телеграмму вашему степенству!
Павел Степанович, углубленный в дело, от неожиданности даже вздрогнул. Прочитав телеграмму, он заволновался, засуетился, и лицо его покраснело.
— На чаек бы с вашей милости, — робко попросил рассыльный.
Павел Степанович сунул ему пятак и велел позвать поскорее в магазин своего старшего сына. Это был парень лет восемнадцати, одетый по последней модной картинке. Павел Степанович посадил его на свое место, за кассу, и шепнул:
— У меня дело наклевывается, надобно отлучиться, так ты смотри хорошенько в оба и за приказчиками, и за покупателями.
— Да уж будьте покойны, не впервой. Дело-то доходное?
— Тысячное. Ну, я побегу домой. Время теперь дороже денег, — сказал Павел Степанович.
Запыхавшись, он ввалился к себе в дом.
— Каждая минута теперь дорогá, ехать сейчас же надо, — крикнул он.
— Ехать? Куда ехать? — вскрикнула в испуге Матрена Марковна.
— Дело подвернулось. Да дело-то — тысячное!
Матрена Марковна насторожилась.
— Помнишь, я торговал березовую рощу у помещика Золотницкого? — продолжал Павел Степанович. — Рощица — одно слово — «золото». Деревце к деревцу, стройное, крупное. Знатный лесок. Сам Тит Филимонович, чай, знаешь Елизарова, нашего золотопромышленника, сейчас мне десять тысяч за такой лесок вывалит. Только бы не пронюхала эта лисица; пронюхает — и всему делу крышка. Только бы опередить мне его… Только бы опередить.
— Ну так что же теперь?
— Да вот то, что по-моему вышло. Долго не сдавался Золотницкий. Семь тысяч просил. А я ему: так, мол, и так. Четыре тысячи можно дать, ежели желаете. Так вот, чистоганом, и полeчите! Денежки верные. Какое! И слышать не хотел. Ну, говорю, для вашей милости можно еще тысчонку набавить. А более не могу дать — себе дороже станет. Нет, уперся на своем. Семь тысяч и то, говорит, дешево отдаю, да деньги больно нужны. Ну, думаю, ежели тебе деньги больно нужны, так отдашь и за пять тысяч. Я пока повременю, а там можно будет и еще тысячу надбавить. А нынче получил телеграмму: приезжай, дескать, мол, согласен за пять тысяч, деньги до зарезу нужны; привози тысячу сейчас в задаток, а остальные — после уж купчей.
— Во, гляди-ка, — сказал Павел Степанович, вынув телеграмму.
— В ТАКОЙ-ТО ДЕНЬ ехать! Полно, Павел Степанович! Опомнись, отложи. Помолимся Богу, встретим Светлый Праздник, тогда и поедешь.
Павел Степанович задумался. В нем стала бороться жадность наживы со светлым чувством, и боязнь греховного поступка охватила его. «А если пропущу? Ежели Елизаров опередит? Ведь он чует, где есть нажива!» — пронеслось у него в мыслях.
— Э! Ну тебя. Сказал: еду, — и ты не перечь, — нетерпеливо крикнул он на жену.
— Ты подумай, Павел Степанович! Время весеннее, половодье, дороги непроезжие… Там ведь на лошадях. Цел ли доберешься?
— Добраться-то доберусь. Дороги, кажись, просыхать стали. Вона, как солнышко пригревает. А едина мысль только и смущает меня: к Светлой-то заутрене едва ли уж и поспею.
— Вот и останься. Не бери ты греха на душу. Не вводи ты меня в страх. Праздник-то какой, подумай только.
Павел Степанович почувствовал смущение: «Не остаться ли? Сходить к заутрене, встретить с семьей праздник, разговеться, как должно быть, а затем ехать!». Но мысль о Елизарове сразу перевернула его настроение, и он, прикрикнув на жену, бесповоротно решил ехать. Матрена Марковна, проводив самогó, с мокрыми глазами пришла в кухню, но уже прежняя горячка работы оставила ее: стало тоскливо, и все показалось неинтересным и скучным.
II
Павел Степанович, захватив с собой тысячу золотыми, несмотря на спех, заглянул еще раз в магазин и, удостоверившись, что торговля идет ходко и сын управляется, нанял извозчика и поехал на вокзал.
Чтобы попасть в имение Золотницкого, надо было проехать около двух часов по железной дороге. Поезд отходил через полчаса. Павел Степанович потребовал себе порцию чая с постными баранками. Он оканчивал пятый стакан, как увидел среди пассажиров прибывшего поезда гороподобную фигуру с широким красным, обветренным бородатым лицом лесопромышленника Елизарова.
Он отвел глаза в сторону, пригнулся и притаился за своим столиком, шепча:
— Только бы его пронесло.
Но уголком глаза он видел, что Елизаров уже заметил его и шел прямо к нему.
— Павлу Степановичу нижайшее почтение, — с громким перекатом зазвучал его голос над Недоборовым. — Какими судьбами здесь обитаетесь?
Недоборову показалось, что Елизаров неспроста к нему подошел, что он, пожалуй, уже догадывается о тайне березовой рощицы, а только тень наводит, чтобы получше выпытать.
— Наше вам… — обратился он к Елизарову. — Не угодно ли чайком побаловаться, компанию нашу поддержать? — добавил он, оставляя безо всякого внимания вопрос Елизарова.
— Нет, увольте, прощения просим, к себе торопимся, — ответил Елизаров, стараясь своими острыми глазами, как показалось Недоборову, выпытать у него тайну березовой рощицы.
— Как дела? Большой у Вас сплав? — обратился Недоборов к Елизарову.
— Да дела ничего — веселят. А Вы-то как здесь обретаетесь? Чай, в магазине у Вас нынче как в котле кипит? А Вы тут на вокзале чайком балуетесь! Что-то на Вас не похоже… — добавил Елизаров с хитрой усмешкой, как показалось испугавшемуся Недоборову.
— Да, знаете, в торговом деле бывают всевозможные у нас экстренности, — уклончиво ответил Недоборов.
— Ну какие у Вас в мануфактуре могут быть экстренности, да еще в последний день перед праздниками? Вот у нас, лесовиков, встречаются таковые дела, как лесок какой-нибудь невзначай приобрести. Или там со сплавом какая-нибудь оказия. А у Вас… Сиди в магазине, деньгe получай да на счетах пощелкивай. Так-то-с, — сказал Елизаров, и глаз его лукаво подмигнул Недоборову.
— Это Вы касательно нашей мануфактуры? Ах, оставьте. В каждом деле свои экстренности. А засим прощения просим, — добавил Недоборов и быстро поднялся, увидев подошедший поезд, с которым он должен был ехать.
III
Недоборов ехал в третьем классе — по привычке, усвоенной им в то время, когда он был еще бедняком. Вагон был набит людьми. Ехал преимущественно рабочий народ. Все спешили добраться домой к празднику. Недоборову удалось все-таки занять место в вагоне. После того как он простился с Елизаровым, у него появилось благодушное настроение. Теперь он скоро будет у своей цели и березовая рощица не ускользнет от него. Под однообразный стук колес и общий гул в вагоне он задремал и проснулся только тогда, когда кондуктор, хлопнув дверью, пробежал по вагону и громко выкрикнул:
— Станция Поставино. Поезд стоит две минуты.
— Павел Степанович! — вскрикнул начальник станции, увидев Недоборова. — Какими судьбами в такой день? Не к Золотницкому ли опять? Дело-то, видно, выгодное. Деньгý все сколачиваете, богатеете. Только не знаю, как доберетесь-то. Большое половодье, плотину у «Черного Кута» снесло, придется в объезд ехать, да и то чуть шагом. Колдобины большие, и дорогу размыло…
— Эй, Ефрем! — обратился начальник станции к сторожу, внимательно слушавшему этот разговор.
Ефрем отвесил низкий поклон Недоборову.
— Ты, Ефрем, постарайся раздобыть сáмого что ни на есть удалого ямщика с бойкими конями, а я за чаевыми не постою, — сказал Недоборов.
Через полчаса изодранный, дребезжащий тарантас, запряженный тройкой мохнатых низкорослых лошадей, стоял у крыльца станции. Чернявый ямщик в рыжевато-синем армяке быстрым, обшаривающим взглядом оглядел Недоборова.
— Как звать-то тебя? — спросил Недоборов.
— Федором, — ответил ямщик, снимая шапку.
— Так вот, Федор, ты знаешь имение «Клины» Золотницкого?
— Известное дело, знаю.
— Я за ценой не постою, и чаевые получишь. Вези только как можно шибче.
— За посул много благодарны, только больно дорогу размыло, да притом в объезд ехать. Прежним путем часа три езды, а нынче и угадать нельзя, сколько проедешь.
Недоборов посмотрел на солнце, значительно склонившееся к западу. «Эх, была не была», — тряхнул головой и влез в тарантас.
Федор хлестнул лошадей, и тройка, чмокая копытами по грязи, потащила хлюпающий по воде тарантас.
Проехали небольшую деревушку, провожаемые любопытными взорами мужиков, баб и ребят да визгливым собачьим лаем, и выехали в поле.
Под голубым куполом младенчески-чистого и невинно-ясного, глубокого и высокого сияющего весеннего неба, под теплыми, ласкающими, золотистыми волнами света лежали рыхлые, черные парýющие поля, прорезываемые ярко-зелеными полосами озими. Прозрачные леса с набухшими почками напряженно ждали минуты пробуждения к жизни. Чистый воздух, напоенный ароматами березовых почек, разрыхленной земли, дрожал и сверкал. Гремели веселым рокотом, сверкая золотом, ручьи. И, поднимаясь все выше и выше к голубому, ласково улыбающемуся небу, неслась и разливалась серебристая песня жаворонка. Победная, животворная, жизнерадостная, светлая, как мечта юности, стояла весна. Простором и могучим спокойствием творческих сил веяло здесь.
Недоборов, после душного вагона, наполненного гамом и криком, чувствовал, как в нем рождается что-то успокоительно-хорошее, и его закаменевшая душа, сдавленная постоянной мыслью о наживе, стала как-то расширяться и смягчаться. Эта близость с возрождающейся природой пробудила в нем мысли о горьком детстве; но тем не менее он вспомнил то тихое, светлое, радостное состояние своей чистой души, когда он ребенком бегал по полям, лесам, лугам в родной деревне, и также была весна, гремели ручьи, звенела песня жаворонка, и сыроватый теплый ветер ласкал его лицо. Вспомнил он, как это светлое, радостное состояние его души стало тускнеть и бледнеть при встрече с жестокостью жизни; как стал он озлобляться, деревенеть, и жажда к сытой, привольной жизни проснулась в нем. Эта жажда заслонила все. Все было принесено в жертву наживе. Да, он стал богат, но в настоящий момент он смутно чувствовал, что не в этом смысл жизни, а в другом — светлом и высоком, и что-то тоскливое и грустное стало закрадываться в его душу.
— Жизни не переделаешь, — сказал Павел Степанович.
— Чего-с? — спросил Федор.
Он давно, обернувшись, наблюдал жадным, проницательным взором, в котором вспыхивали какие-то искорки, за задумавшимся Недоборовым.
— Нет, это я так, про себя, — сказал Недоборов и стал расспрашивать Федора про деревню, пахоту и посевы.
— Сам я ведь из крестьян, все мне знакомо, — сказал он.
— Из крестьян? — недоверчиво сказал Федор.
— Ну да, из крестьян. И ты тоже можешь разжиться, лишь бы умение, да сметливость, да старанье…
— В нашей жизни не разживешься, — мрачно сказал на это Федор.
— Конечно, ежели будешь на печи лежать, то таким и останешься, — сказал Недоборов с усмешкой. — Надо, брат Федор, быка за рога брать. Наметил в точку — и бей.
— Да наметить-то некуда, — буркнул Федор и, оглядев Недоборова странным взором, оборвал разговор, отвернулся и чмокнул на лошадей.
От этого взора Недоборову стало не по себе. Какое-то жуткое ощущение пробежало в нем. Он замолчал. Федор тоже угрюмо молчал, чмокая на лошадей.
Лошади, пофыркивая, трусúли мелкой рысцой; шуршала и хлюпала вода. Дорога была тяжелая. Последний солнечный луч погас за черневшим вдали бором. Воздух похолодел, и стали сгущаться сумерки.
— А что, Федор, скоро теперь доедем? — спросил беспокойно Недоборов.
Федор молчал. Недоборов опять повторил свой вопрос. Федор словно проснулся:
— Дорога больно плохá. Уж не знаю, как быть. Не ночевать же нам в поле?
— Оно так-то так, да что поделаешь? А ты лошадей хлестни посильнее.
— Хлестнуть-то можно, да только того и гляди из тарантаса вывалимся.
— Да ты постарайся, Федор, а я прибавлю.
— А деньжищ, видно, у тебя много! — шепнул Федор, опять оглядев Недоборова страшным взором.
Что-то загадочно-темное было, как показалось Недоборову, в этой брошенной вскользь фразе, и опять жуткое чувство охватило его. Федор более не оборачивался, чмокал, похлестывал лошадей, и тарантас, подпрыгивая, дребезжал и жалобно скрипел.
Замигали звезды, настала ночная тишина. Недоборов не помнил, как долго он ехал, но ему казалось, что он едет давно, очень давно по этому пустынному, темному, безлюдному полю… И вода под колесами хлюпает, фыркают лошади, и черным четвероугольным пятном качается спина Федора. Жуткое чувство одиночества, потерянности и беспомощности среди охватившей его со всех сторон темной, безлюдной пустыни холодом прошло в нем. Ему стало жаль покинутого дома, жаль оставленной им семьи.
— Чай, к заутрене стали собираться, — шепнул он.
Он стал раскаиваться, что погнался за этой березовой рощицей, и вся его жизнь, представлявшая одну наживу, показалась ему в настоящий момент какой-то свинцовой тяжестью, под которой билась его задавленная, трепещущая душа.
Тарантас въехал в лес, и здесь от сдвинувшихся, тесно обступивших, словно стенами, деревьев стало еще темнее, мрачнее и тяжелее. Чувство бессознательного страха закралось в душу Недоборова, и ему почему-то показалось, что страх этот исходит из темноты леса и из черного четвероугольного пятна двигавшейся спины Федора на кóзлах. Одно время ему казалось, что Федор обернулся и пристально смотрит на него, но затем опять закачалось четвероугольное пятно перед его глазами и он вздохнул свободнее. Недоборову казалось, что он долго-долго, вероятно, до конца жизни, будет так ехать и что не видно конца этому путешествию.
Но вот он опять увидел, что Федор обернулся к нему, и вдруг кучер стал сползать с кóзел прямо на него. Он хотел крикнуть, но не мог, и ему показалось, что он видит какой-то тяжелый сон. Он почувствовал на своем лице горячее дыхание Федора, крепкие, мускулистые руки охватили его, и он услышал хриплый шепот:
— Деньги, деньги…
Петр Степанович рванулся, собрал все свои силы, и в тарантасе началась молчаливая борьба. Слышно было только учащенное дыхание. Лесная тьма, словно насторожившись, смотрела и молчаливо слушала. Лошади, никем не сдерживаемые, тащили тарантас. Недоборов чувствовал, как он, несмотря на свою силу, изнемогает в борьбе. Федор сильнее и сильнее сжимал купца, и хриплое, горячее, звериное дыхание злоумышленника обдало Недоборова.
— Федор! Опомнись! В такой День… — хрипел Недоборов. — Все, все отдам, только не убивай.
Но вдруг словно с неба упал торжественный колокольный звон, и медные дрожащие голоса, догоняя друг друга, плавно потекли в воздухе, и за этим одиноким торжествующим медным густым басом быстро зазвенели теноровые медные голоса малых колоколов… Ночное безмолвие огласилось радостным, торжествующим Пасхальным звоном.
Недоборов почувствовал, как руки, сдавливающие его, ослабли, и Федор выскочил из тарантаса. Недоборов последовал за ним. В пылу борьбы они не заметили, как миновали лес, и теперь их взорам предстало неожиданное зрелище. Невдалеке на пригорке стояла ярко освещенная деревянная церковь, словно вся трепетавшая в огне. Вокруг храма шел Крестным ходом народ с зажженными свечами. Радостно и торжественно гудел Пасхальный звон; соединившиеся звездочки из свеч падали, казались золотыми ручейками, бегущими по земле. Федор упал на колени перед Недоборовым.
— Прости меня, окаянного, не погуби, — зашептал он, дрожа всем телом. — Давно у меня появилась мысль разбогатеть. Как повез тебя, так она не давала мне покоя. Долго крепился греха на душу не брать, да нет, одолел диавол. А как услышал звон Пасхальный, как увидел храм Божий — почувствовал я, что тоже православный. Прости, сделай милость, не погуби. Христом Богом прошу, — и лицо его, за минуту до этого звериное, стало жалобным и по-детски кротким.
— Встань, встань. К заутрене пойдем. Там помолимся и испросим прощения грехов, — сказал Недоборов.
Он почувствовал, как что-то радостное, светлое поднялось в его испуганной и смятенной душе.
Федор беспрекословно повиновался. Когда они, войдя в церковь, переполненную народом, услышали: «Христос Воскресе!», — то взглянули друг на друга.
Далее они не поехали. Разговевшись яйцами и куском кулича у кума Федора, они заночевали у него, а наутро вместо того, чтобы ехать к Золотницкому, Федор повез обратно на станцию Недоборова и был им щедро вознагражден.
Когда Недоборов прибыл домой, радость семьи, отчаявшейся видеть его в живых, была неописуема. А Павел Степанович, рассказав произошедший с ним случай, задумчиво добавил:
— Да! Пасхальный звон, Пасхальный звон! Истинно красный звон для души христианской!
Н. Языкова
Просфора
Жили мы очень небогато, хлеб и тот мачеха отрезала всегда сама и давала к завтраку, обеду и ужину, и только черный, а белый лишь в праздники видели. Сахар давался по счету. Строго нас держали, и ослушаться родителей я ни в чем не смела, только в одном я им не подчинялась: в воскресенье на весь день убегала из дома. Проснусь в воскресный день рано-рано (я в темной коморочке спала), пока еще никто не вставал, оденусь, тихонечко из дома выскочу и… прямым сообщением в Кремль, в церковь к ранней обедне. И не думайте, что на конке, денег у меня не было ни гроша. Это расстояние я пешком отмеривала.
Стою обе обедни, все молебны отслушаю, панихиды и начну по Кремлю из храма в храм бродить — жду, когда придет мне время идти в Кадаши, там отец Николай Смирнов по воскресеньям устраивал для народа беседы с туманными картинами. Этого я уже ни за что не пропускала.
А есть между тем хочется, сил нет, но терпи! Домой вернешься — больше не выпустят, а ведь после туманных картин как на акафист не останешься?
Или к отцу Иоанну Кедрову пойду, там тоже уж совсем не уйдешь, до того хорошо.
Вот после такого-то дня, едва ноги передвигая, и притащишься в одиннадцатом часу ночи. Постучишь тихонько, мачеха выйдет, дверь откроет и только скажет:
— Опять допоздна доходила! Иди уж скорей! Я тебе под подушку две картошки и ломоть хлеба положила. Начнешь есть — смотри, не чавкай, чтобы отец не услыхал. Он тебя весь день ругал и не велел кормить.
Справедливая была мачеха, хорошая, но строгая, конечно.
В один раз до того я находилась, что сил моих не было, а время еще только два часа дня; вот и пошла я в Кремле в Вознесенский монастырь, там мощи преподобной Ефросиньи лежали.
Стала я перед ними и прошу:
— Мати Ефросиния, сделай так, чтобы мне есть не хотелось.
Потом подошла к образу Царицы Небесной, а в храме ни души, только монашки на солее убираются, и никому из них меня не видно. Так вот, я подошла к иконе, взобралась по ступенечкам, стала и молюсь:
— Царица Небесная, сделай так, чтобы мне не хотелось есть, ведь еще долго ожидать, пока вечер наступит и я домой вернусь.
Помолилась я так (мне ведь тогда только 12 лет было), и схожу со ступенек вниз, и вижу, что рядом с образом стоит монахиня в мантии, высокая, красивая. Посмотрела она на меня и протягивает мне просфору пребольшую:
— На, девочка, скушай! — и тихо мимо меня прошла, только мантией зашуршала и вошла прямо в алтарь. А я стою с просфорой в руках и от радости себя не помню. И надо еще сказать, что таких просфор я не только никогда в руках не держала, но и не видывала. Я могла редко купить за две копейки маленькую просфорку, их пекли целой полосой и потом ножом отрезывали.
И вот пошла я, набрала в кружку святой воды и здесь же, в церкви, в уголочек забралась да всю просфору с водицей-то и съела. И думаю, что это дала мне ее сама преподобная Ефросинья…
По молитве матери
«Много, много есть необъяснимого на свете. Бывают чудеса и в наш неверующий век, — произнес моряк и рассказал нам случай из его жизни: Я был мичманом, молодым, веселым юношей. Плавание наше в тот раз было очень трудное и опасное. Я отлично помню тот вечер. Океан угрюмо шумел.
Наш командир был очень добрый человек, но суровый на деле и очень взыскательный. Мы страшно боялись его…
Все кругом было спокойно. Мы зажгли лампы. В окна каюты долетали сердитые брызги океана… И вдруг мы услышали поспешные шаги капитана. По его походке мы заключили, что он чем-то раздражен.
— Господа! — сказал капитан, остановившись в дверях каюты. — Кто позволил себе сейчас пробраться в мою каюту? Отвечайте!
Мы молчали, изумленные, недоуменно переглядывались.
— Кто же? Кто был сейчас там? — грозно повторял он, но, вероятно, прочтя полное недоумение на наших лицах, быстро повернулся и ушел наверх.
Но и там грозно зазвучал его голос. Не успели мы опомниться, как нам было приказано явиться наверх.
Наверху выстроилась вся команда.
— Кто был сейчас у меня в каюте? Кто позволил себе эту дерзкую шутку? Кто? — грозно вопил капитан.
Общее молчание и изумление было ему ответом. Тогда капитан рассказал нам, что сейчас он, лишь только прилег в своей каюте, услышал в полузабытьи чьи-то слова:
— Держи на юго-запад, ради спасения человеческой жизни. Скорость хода должна быть не менее триста метров в минуту. Торопись, пока не поздно…
Мы слушали рассказ капитана и удивлялись. Решено было идти в указанную сторону.
Рано утром мы все по обыкновению были на ногах и толпились на палубе. Рулевой молча указал капитану на видневшийся вдали черный предмет. Капитан подозвал боцмана и что-то тихо сказал ему. Когда капитан повернулся к нам, его лицо было бледнее обычного. Через полчаса мы увидели невооруженным глазом, что черный предмет был чем-то вроде плота, и на нем виднелись две лежащие человеческие фигуры. Это был матрос и ребенок. Волны заливали плот. Еще немного, и было бы поздно.
Капитан, как самая нежная мать, хлопотал около ребенка. Только через два часа моряк пришел в себя и заплакал от радости. Ребенок крепко спал, укутанный и согретый.
— Господи! Благодарю Тебя! — воскликнул матрос. — Видно, матушкина молитва до Бога дошла!
Мы все обступили его; он рассказал нам печальную повесть корабля, разбившегося о подводные камни и затонувшего. Народу было много, некоторые как-то спаслись, а многие погибли. Он уцелел каким-то чудом на оставшейся части корабля.
Ребенок был чужой, но дитя ухватилось за него в минуту опасности и спаслось вместе с ним.
— Матушка, видно, молится за меня! — говорил матрос, благоговейно крестясь и смотря на небо. — Ее молитва спасла меня. Видно, горячо помолилась она за меня. Вот в кармане и письмо ее ношу при себе. Спасибо родимой моей!
И он вынул письмо, написанное малограмотной женщиной. Мы перечитали его все, и оно произвело на всех нас сильнейшее впечатление. Последние слова письма, помню как сейчас, были: “…Спасибо, сынок, за твою память, за ласку. Что не забываешь ты старуху. Бог не оставит тебя. Я день и ночь молюсь за тебя, сынок, а материнская молитва доходна Богу. Молись и ты, сынок, и будь здоров и не забывай твою старую мать, которая молится за тебя. Сердце мое всегда с тобой, чую им все твои горести и беды и молюсь за тебя. Да благословит тебя Господь и спасет, и сохранит тебя мне!”.
Матрос, видимо, глубоко любил свою мать и постоянно вспоминал о ней.
Спасенный ребенок, шестилетний мальчик полюбился капитану, человеку бездетному, он решил оставить его у себя.
Дивны пути Провидения! Велика сила материнской молитвы! Много есть на свете таинственного, необъяснимого, непонятного слабому человеческому уму!».
Это — он
На одной из окраин Москвы стоял небольшой серенький домик. Немощеный переулок, покосившиеся заборы, тянувшиеся далеко по сторонам, и, наконец, самый домик с покосившимися ставнями и давно уже не крашеной крышей показывали, что горькая, неотступная нужда прозябает в этом закоулке большого города. Кругом ни звука: но это не то безмолвие, которое приятно действует на душу, например, в тенистом лесу в жаркий полдень, а тяжкая, подавляющая тишина, которую вы найдете в доме, где вся семья безмолвствует под гнетом большого горя.
Так было и здесь. В этом сереньком домике жил некто Д. Человек он был уже пожилой, уже пятый десяток насчитывал он своей жизни, но никогда ему еще не было так тяжело, никогда он еще не испытывал такой нужды, которая выпала на его долю теперь.
Трудолюбивый с молодости, он сумел было добиться того, что труд позволял ему жить, никогда и ни в чем не нуждаясь. Семьи у него не было, и Д. ничего не сберегал, как говорится, на черный день, твердо веря в свои силы. Но, увы, этот черный день настал! И как в ясный день темное облачко внезапно бросает тень и, издавая глухие раскаты грома, сыплет крупным дождем, так и нищета нагрянула вдруг и неожиданно.
Давно известно, что человек среди ряда счастливых дней, среди долго улыбающегося ему счастья забывает о Боге. Так было и с нашим героем. И вот Господь, Который до сих пор благословлял его Своими милостями, теперь отвернулся от него. Д. сильно заболел. Болезнь захватила его в такую минуту, когда рядом с ним никого не было, и он доходил почти до отчаяния. Едва двигаясь, он переехал из центра города на глухую окраину; и здесь, быть может, умер бы с голоду, если бы не один старый друг, который помогал ему кое-чем перебиваться.
Тяжело и горько было ему. Так неожиданно потерять здоровье, которое давало ему все, и от безбедного существования перейти к нищете было ужасно.
— Если тяжело, — говорил он, — никогда ничего не иметь, то иметь и потерять все сразу во сто раз тяжелее.
Живо припомнилась ему вся его жизнь, все ее хорошие стороны, и невыносимая тоска поднялась в его груди. Как хотелось ему вернуть прошедшее, вернуть дни радостей, веселья и беззаботной жизни!
Но нет! — болезнь неумолимо приковывала его к креслу, не позволяя почти двигать ни рукой, ни ногой; он едва мог сделать десять шагов. Страшные страдания искажали его лицо. Серебристая седина все более и более завладевала его головой. Так прошел месяц, другой, а страдания не уменьшались. Придет, бывало, к нему старый приятель, принесет деньжонок и провизии кой-какой, сидит с ним, разговаривает, утешает, а у Д. уже слезы на глазах — участие друга трогает его сердце.
— Неужели этому конца не будет? — сквозь слезы боли говорил он.
Но пока конца не было. Страдал он по-прежнему, и по-прежнему крики от боли оглашали его неприветливую обитель. И так с утра до ночи и с ночи до утра.
Прошел еще месяц, другой, третий, и, наконец, год.
Бедный больной все так же еле влачил свое жалкое существование.
Было теплое майское утро. Веселая молодая весна давно уже одевала своей изумрудной зеленью поля и леса. Летние гостьи — беззаботные пташки — с зарей оглашали воздух тысячами переливов своих звонких песен… Яркое солнышко, как бы улыбаясь, сыпало свои золотые лучи на проснувшуюся от зимнего сна землю. Все кругом пело, ликовало, веселилось.
Д. сидел у окна; тяжелые думы бродили в его голове. Вспоминалось ему, как радостно, бывало, встречал он пробуждение природы, а теперь слезы навертывались у него на глазах. Далеко, далеко унесли его мечты и воспоминания, и ему больше, чем когда-либо, захотелось жить: захотелось ожить вместе с природой и вместе с ней радостной улыбкой встречать ясное солнышко. И Д. плакал. Это были горячие слезы безнадежно погибающего человека.
— Господи, помилуй меня! Не лиши и меня, грешного, Своей милости! — весь в слезах, воскликнул он.
За всю свою жизнь он так мало думал и вспоминал о Боге, что, когда это горячее восклицание вырвалось из глубины его наболевшей груди, — он пришел в ужас от своей прежней жизни и ему стало невыразимо страшно за себя: ему захотелось молиться и молиться без конца.
Он взглянул в окно: вдали перед ним виднелся блестящий в лучах солнца золотой купол церкви. Д. страшно обрадовался: со слезами, но уже не отчаяния, а искреннего раскаяния он стал креститься и шепотом твердить молитвы. Ему вдруг стало легко и приятно на душе после молитвы, и даже легкая улыбка озарила его лицо, на котором давно уже не было видно ее.
Прошло минут пять. Д. все еще сидел у окна, изредка осеняя себя крестным знамением. Вдруг он заметил, что с другой стороны переулка к нему приближается молодой странник. Он сейчас же опустил руку в карман, достал последнюю оставшуюся у него медную монету и протянул ее прохожему.
— Не нужно! — сказал тот, отстраняя руку.
Д. посмотрел на него с удивлением. Ему очень понравилось лицо незнакомца, и он не мог оторвать от него глаз.
— Но что же Вам нужно?! — спросил он.
— Сказать тебе? Веруй в Бога, молись Ему, и Он спасет тебя!
— Верю! — в слезах сказал болящий. — Но не достоин Его милости за грехи мои.
Странник помолчал минуту и сказал:
— Ты сильно страдаешь. Бог сжалился над тобою. Иди к угоднику Божиему Пантелеимону и молись ему усердно!
Д. слушал и как бы не понимал, что вокруг него делается. Когда он пришел в себя, у окна уже никого не было. Весь этот день он провел в сильном волнении.
На другое утро пришел к нему его друг.
— Что с тобой? — спросил он. — Тебя узнать нельзя!
Д. рассказал ему все и просил проводить. Через час они вышли из дома. Опираясь на руку друга, Д. едва передвигал ноги. Он никогда не был ни в каких часовнях, и ему пришлось расспрашивать прохожих по дороге. Но все сочувственно относились к нему, видя, что этот больной идет молиться, и охотно указывали ему путь. Долго они шли, и один Бог видел, сколько страданий вытерпел Д. Каждый шаг вызывал страшную боль во всем теле, но он все-таки шел, крестясь на попадающиеся по дороге храмы. Наконец они подошли к часовне. Перед входом в нее Д. перекрестился и в сильном волнении вошел. Слезы были в его глазах. Но едва он подошел к иконе, как вдруг страшно побледнел и прошептал:
— Это — Он!
Потом вдруг залился горячими слезами и, опустившись на колени, стал горячо, горячо молиться.
На изображении иконы он увидел лицо того странника, который вчера стоял у его окна.
Долго молился Д. Долго горячие слезы текли по его лицу; он впервые испытывал то блаженное состояние, которое возбуждает в душе нашей молитва. Ему не хотелось уходить отсюда, не хотелось подниматься с колен. Наконец он встал и, взяв друга под руку, вышел. Светло, благодатно было у него на душе, оживила его твердая вера в милосердие Божие и Его святого угодника!
Прошла неделя. По-прежнему было тихо в доме, где живет Д., но только сам хозяин сильно переменился: в одну неделю он поправился так, что без посторонней помощи выходил из дому и ходил, наслаждаясь весенней природой и сердечно благодаря Всевышнего, Который помиловал и исцелил его. Через месяц он был совершенно здоров и принялся за обычный труд. Все стало по-прежнему, как и до болезни, только душа его возвысилась и очистилась от прежних грехов. Вместе с тем Господь исцелил и сердце больного, его больную совесть.
Да, Милосердный Господь не отвращает Лица Своего от неверующих и грешных, а помогает им стать на путь истинный. Ему, Всевышнему, дорогáдуша, пробудившаяся от заблуждения, как вернувшийся блудный сын дорог отцу, который считал его погибшим!
Е. А-в. «Кормчий», 1903 г.
За чужие грехи
Кто только не знал в городе юродивой Настеньки! Решительно все ее постоянно встречали на улицах, а чаще всего в церкви. Из церквей же она больше всех любила «Девичий монастырь», где у окна в самом дальнем углу всегда можно было видеть эту необыкновенную, несколько смешную фигуру женщины, одетой в мужской костюм.
На Настеньке неизменно круглый год бывало короткое мужское пальто, холодное, широкое, сшитое не по ней, из-под которого виднелись недлинные шаровары из темной бумажной материи, какие носят небогатые простолюдины. Грубые, не всегда крепкие сапоги и шляпа-котелок довершали этот своеобразный наряд. Шалуны-мальчишки не прочь были посмеяться над Настей, но она так равнодушно, так кротко относилась к этим насмешкам, свисткам и издевательствам, что окончательно отбила у них всякую охоту дразнить ее.
Все давно привыкли к юродивой и даже не знали, когда именно появилась она в этом городе, сколько ей лет и почему она такая странная, молчаливая, необщительная!
— Известно, юродивый человек! — говорили молоденькие клирошанки. — Бог знает, кто она такая и что у нее на душе! А только знаем мы, что она строгой жизни, каждую неделю причащается и все, что ей подают, неизвестно куда девается!
Даже почти никто хорошо не знал, какое было лицо у Насти, потому что она всегда низко напускала на него несколько всклокоченных волос, остриженных в кружок, и, стоя в церкви, почти совершенно отворачивалась от всех молящихся к окну, а на улице нахлобучивала на свою наклоненную голову старую, порыжевшую шляпу.
Никогда ни на кого она не смотрела, ни с кем почти не разговаривала. Только старичок-священник монастырский во время исповеди и слышал звук ее голоса.
— Молчальница! — шушукались молодые послушницы, заинтересованные таинственной Настенькой.
— Что зря болтаете? — строго останавливала их мать Филарета, сурово сдвигая брови и сверкая на них своими карими глазами. — не вашего ума дело! Вовсе не молчальница, она обета такого не давала, а так, не любит говорить, не охотница, и все тут!
Но где жила Настенька! Многие не верили, что эта слабая женщина, которой приблизительно было уже под пятьдесят лет, жила круглый год в холодной беседке, построенной кем-то на конце монастырского двора. Беседка была из половинчатых бревен, с одиночными окнами и старой тесовой дверью.
Настя жила тут уже несколько лет, постоянно покашливала, молилась и почти не зажигала огня. Ела она очень мало, хотя ей приносили из монастырской трапезной обед, а разные богомолки-почитательницы — и калачей, и чаю, и сахару, и даже варенья. Калачи Настя раскрашивала на мелкие кусочки и кормила голубей, чай иногда пила, когда ей приносили монахини кипяток, а варенье отдавала старухам, которые лежали в монастырской больнице. Денег она не принимала. У нее к ним был необъяснимый страх…
Однажды какая-то богатая купчиха, узнав о «святой жизни» Настеньки, пришла к ней в беседку и предложила ей денег на теплую одежду, так как стояли порядочные морозы.
— Деньги!.. — с непритворным ужасом простонала Настя. — Нет, нет! Избави Боже! Я боюсь… боюсь денег! Не надо!..
И в первый раз она заговорила с жаром, и все увидели ее лицо, на котором изобразился непонятный испуг при виде щедрой денежной помощи богатой женщины.
— Что-то было в ее жизни, связанное с деньгами? — спросила последняя, уходя от Насти.
— Не знаем, сударыня, ничего не знаем! — уверяла сопровождавшая ее монахиня. — Может быть. Говорят… Настенька тоже богатая купеческая дочь! Женихи сватались, отец ничего не жалел для нее, а она потихоньку ушла из дома, уехала из города. Откуда-то издалека она и уже давно в нашем монастыре поселилась, а пострига не принимает!
— А такая-то она давно?
— Какая же?
— Да мне кажется, она не в своем уме.
— И что Вы! Божий человек, да и только! Мало ли таких на Руси у нас! Кому-нибудь надо же молиться-то!
Дама задумалась и не стала спорить, сунула провожатой в руку монету, за что получила: «Спаси Вас Господи», — и уехала.
Хотя к странной женщине в мужской одежде все давно привыкли, а в городе она была известна под именем «монастырской Насти», но интересоваться ею не переставали и с любопытством смотрели на нее, когда она, нагнув свою растрепанную голову, сидела на крылечке своего холодного домика и резала ножницами кусочки хлеба, бросая их голубям.
Голуби целыми стаями слетались к ней, хотя она ни одним звуком не скликала их, вились над нею, садились ей на плечи, дерзко вырывали у нее из рук большие куски. Наевшись досыта, точно сговорившись, поднимались они с земли и исчезали под широким карнизом монастырской церкви. А Настя, даже не подняв головы, чтобы взглянуть на своих любимцев, тихо вставала с приступка и уходила…
Раз кто-то подсмотрел, что она при свете воскового огарка что-то писала. Но куда потом девалось то, что она старательно выводила карандашом по большому листу желтоватой бумаги, этого никто не мог узнать, а монахини долго потом шептались и допытывались, что такое могла писать Настенька.
Шептание дошло до матушки-игуменьи, которая сразу оборвала любопытных:
— Что пишет? А вам все надо знать! Пишет поминанье, вероятно! Конечно, не письма же какие-нибудь!
Она не любила сплетен и лишних разговоров.
Оригинальный костюм Настеньки возбуждал толки в мирянах. И вот однажды игуменья позвала ее к себе и стала уговаривать переменить свой наряд на обыкновенный монашеский, чтобы не было «искушения и соблазна».
— Не достойна! — только и сказала юродивая и осталась по-прежнему.
Но батюшка, поговорив с Настей, убедил ее хотя бы к причастию не подходить в ее обычном наряде, и с того времени на Настеньку накидывали черную ряску, когда она подходила к Святым Дарам. Судя по внешнему виду этой женщины, никому и в голову не могло прийти, что и она когда-то жила обыкновенной жизнью зажиточной семьи: быть может, и у нее были привязанности, даже страсти — и все это прошло, и живой человек превратился в сухое, невозмутимо-спокойное, какое-то бесстрастное существо. Она и на молитве-то не проявляла ни особого рвения, ни горячего экстаза… Неподвижно стояла она на своем месте, боясь показать людям свое лицо и закрывая его иногда от слишком любопытных взоров руками… И тогда молчаливые слезы выступали между тонкими пальцами, тесно прижатыми к глазам.
Многие думали, что в прошлом у Насти был роман, но едва ли это было верно, так мало она была похожа на героиню романа. Другие думали, что на душе у нее преступление, что старый священник-духовник монастырский знает ее тайну, которую, конечно, никому не откроет, как узнанную на духу.
Но и это было под сомнением, потому что Настенька была почти молчальница, и пронырливые молодые клирошанки, как ни старались уловить хоть один звук ее голоса, когда она подходила под епитрахиль отца Владимира, ровно ничего не слыхали.
— Так и стоит, девушки! — толковали они. — И хоть бы словечко! Знать, отец Владимир принимает «немую» исповедь нашей Настеньки и отпускает ей грехи так, в молчанку!
Однажды Настя заболела и не выходила из своей холодной келии, а стояли уже первые морозы. Ее навестила сама настоятельница.
— Переходи в монастырскую больницу, Настасья! Там тебя наши доктора полечат. Там уход хороший!
— Нет!
— Да что нет? Грех не беречь свое здоровье! Ведь оно тоже от Бога! Бог повелел беречь данные Им человеку дары!
Но Настя продолжала молчать, и ее оставили в покое, только укрыли теплыми одеялами да почаще стали навещать.
— А то, избави Боже, умрет, закоченеет необмытая, — говорила обеспокоенная игуменья.
Настя пережила зиму, которая была несуровая, да и в беседку ей поставили железную печку, которую топили два раза в день.
Но вот настала весна, ранняя, дружная и радостная. Зацвел монастырский погост, засуетились черные фигуры между цветниками, тополями, издававшими бальзамический аромат, и кустами сирени да акации.
Могилы богатых граждан города на монастырском дворе убирались и украшались: высаживались ранние цветы в грунт. Темная зелень маслянистых листиков травки раньше всех вышла на свет Божий, а почти одновременно с листиками показались и лиловенькие цветочки, задорно смотревшие на солнце и на людей, старавшихся вырастить причудливые цветы, покрупнее да поярче.
Все ожило и радовалось, а бедная Настенька тихо, не жалуясь, таяла и обращалась в прах.
Одним чудным, живительным утром пришли в ее беседку монашки и нашли ее труп, уже остывший, так как она умерла среди ночи, под немолчный хор нескольких соловьев и воркование голубей, напрасно ожидавших кусочка хлеба от Насти. Тогда увидели лицо умершей: оно вовсе не было некрасиво, и выражение было такое спокойное.
Свою тайну она так и унесла в могилу. Так, по крайней мере, думали все, и остались бы в этом убеждении навсегда, если бы случай не раскрыл целую историю страдальческой жизни одинокой девушки, которую звали Анастасией Ивановной Белугиной.
Открылось это так.
Давно уже матушка игумения собирала деньги, привлекая щедрых жертвователей на построение нового летнего храма и на расширение и ремонт келий. Вся ее жизнь проходила в заботах о сестрах и благолепии храма. Она была заботливая игумения и очень распорядительная хозяйка. И вот наконец давнишняя ее мечта могла осуществиться. Капитал набрался. Начали сломку ветхой каменной церкви и деревянных корпусов келий. Горы мусора и песка завалили весь двор с бесчисленными могилками, раньше украшенными цветами. Дошла очередь и до беседки, в которой жила и скончалась Настя. Все знали покойницу, и старое жилище ее стали ломать как-то осторожно и тихо, как бы боясь нарушить ее покой. «Уважая память рабы Божией» — как говорили между собой рабочие.
— Кто ее знает, может, и вправду святая была!
— Нет, юродивая! Мало их тут.
— Не говори, парень! Таких поискать; ведь, слышно, и зиму, и лето жила тут! Ну-ка, сам ты поживи! Небось, не выдержишь, на печь запросишься, даром что мужик!
И все смолкли и тихо, без прибауток продолжали ломать беседку.
— Гляди-ка, что это такое? Сверток бумаги! Знать, кто-нибудь обронил! Не подрядчик ли? Тут он все прохаживал.
Найденный сверток отнесли матушке Агнии, казначейше, которая следила за порядком.
— Это что же такое, матушка? В беседке нашли, за плинтусом застряло. Не обронил ли кто?
Зоркая Агния так и ухватилась за находку.
— У Настеньки нашли! Не то ли, что она писала? — промолвила она и сама, без госпожи-начальницы развернула бумагу и с трудом прочла:
«…Прошу молиться обо мне, грешной, и о моих родителях, Иване и Пелагее». Затем следовало какое-то слово, очевидно, фамилия, которое разобрать было совершенно невозможно. Бумага была серая, с пятнами от сырости и долгого лежания. Слова были нацарапаны неразборчиво.
Бедная, неученая Настенька и это едва осилила написать. Мать Агния завернула опять все в старую хлопчатую бумагу и понесла находку игумении.
Игумения была занята с подрядчиком; отпустив его, она выслушала Агнию.
— Настенька? В ее беседке, говоришь, нашли? Ну-ка, дай сюда! — и прочла, но последнего слова не разобрала.
— Постой-ка, у меня есть стекло такое. Купец один подарил, спаси его, Господи! Когда читаю мелкое, всегда его беру.
Матушка приложила лупу и с трудом, но прочла: «Ивана и Пелагею Белугиных».
— Так Настя Белугина была… Купцы такие были, знавала я. Так вот что! Богачи были, а дочь в холодной постройке в нашей обители свои дни скончала убогие! Подвиг, мать Агния! Великий подвиг на себя взяла Настя!
И обе матушки повздыхали, помянули умершую и разошлись. Узнав, кто такая была Настенька, весь монастырь, который быстро облетела молва о найденной записке, еще более заинтересовался.
— Что за притча! Богатая купеческая девица бросила все — дом, богатство — и сделалась юродивой.
Но разгадки не находилось.
Когда разломали и убрали все, во дворе сделали закладку. Приехал архиерей, губернатор, положили первые камни, доску с надписью о времени постройки нового храма. И закипела работа. Один из рабочих неожиданно обратился к другому:
— Смотри-ка, дядя Никита! Что за оказия? Вон на бугре — каждый день примечаю — голубей туча. Корма, что ли, им там насыпают монашки?
— Настенькина могилка там! Вот и голуби, — объявила проходившая за водой старая монахиня Филарета. — Была здесь такая Настенька, Божий человек! Голуби около нее кружились, любили ее, она их кормила. А теперь вот, как умерла, они все вьются тут, около ее праведной могилы.
— Что ж она, из монахинь была? — спросили каменщики.
— Нет, купеческого рода, Белугина по фамилии, из уездного города.
— Белугин, действительно, купец у нас был: еще из простых он, — сказал каменщик Никита.
— Как звали его, не помнишь? — спросила монахиня.
— Как не знать? Еще мой отец у него служил при складе. Самовары и медные приборы там хранились. Иван Егоров звали его.
— Иван! — мысленно воскликнула монахиня; она знала, что отца Настеньки звали Иваном.
— А как же он разбогател?
— Э, такое ему счастье вышло, — усмехнулся Никита. — Кто говорит — счастье, а кто — грех! Дело темное, вестимо.
— Расскажи в кратких словах, — просила мать Филарета.
И рабочий рассказал про то, как разбогатели два брата Иван и Петр Белугины:
«Давно это было-то! Ехала однажды почта, везла много денег, в кожаных мешках за печатями, а на мешках — почтари. Ехали мимо леса — ничего, к городу подъехали — а тут беда — выскочили два молодца да молодой мальчишка. Один лошадей под уздцы, двое других — к мешкам.
— Отдавай добром деньги, не то убьем, — говорят.
Почтари — народ трусливый, испугались. Куда тут бороться! А Иван да Петр Белугины на всю слободу славились силой: здоровенные детины. Сдались почтари. Деньги у них отобрали. Все как в воду кануло.
Монахиня всплеснула руками и перебила рассказчика.
— Ну, а почтари что же? Показали, наверное, на Белугиных?
— Да дело темное, говорю. Я тогда мальчишкой был и не понимал. Как они вывернулись, живыми остались, Богу одному ведомо!
— Так с того, значит, и разбогатели?
— Из города они тогда же уехали, чтобы следы замести. И делу конец.
Как бы то ни было, а дознание по делу ограбления почты было произведено. В те давние времена не было не только следователей, но даже суда-то настоящего не было, а приводили к присяге под колокольный звон.
Это была тяжелая церемония, на религиозных людей обряд присяги под звон колокола производил известное действие, удручающее, и вызывал на полнейшее признание и покаяние в преступлении.
Не так было с Белугиными. Настоящих улик не было, и вот назначили им присягу на основании сильного подозрения.
Набралось множество народа около собора. Все шли сюда по разным побуждениям. Кто ожидал увидеть унижение богачей, у которых много завистников, кто бежал на этот суд увлеченный чувством правды, справедливости суда Божия, а кто просто был любителем сильных ощущений, потрясающих сцен.
Священник истово и громко произносил слова присяги. Оба Белугина стояли степенно, потупив взоры, а с высокой соборной колокольни гулко раздавались удары колокола, словно выносили покойника…
Белугины выдержали искус: народ так и ахнул и разошелся по домам разочарованный.
И все было пошло хорошо. Но тут и начинается настоящая драма… Единственная дочка старшего Белугина (второй брат был холостой), Настенька, жадно следила за всей историей своего отца, думала целыми днями и ночами о происхождении несметных богатств его и, наконец, об исходе этого последнего акта присяги, обставленной такой исключительной торжественностью.
Настя была в высшей степени романтическая натура. Она росла сиротой, потеряв мать еще в раннем детстве. Ее старуха-нянька рассказывала своей любимице и были, и небылицы — воображение ее не знало границ, а сама Настя, как пушкинская Татьяна, трепетно ждала своего Онегина. Последний явился в лице довольно уже пожившего приказчика, Филиппа Ефимова, когда-то помогавшего Белугиным в нападении на почту.
Не такого, конечно, «суженого» ждала молоденькая девушка. Но Филипп был малый не промах, и наука хозяев не прошла для него даром.
— Иди за меня замуж! Не то я сейчас пойду и погублю хозяев, а всему вашему богатству — конец, и вместо палат каменных — кандалы да Сибирь!
Услышав эти беспощадные слова, Настенька обомлела, но не потому только, что боялась разорения, позора наказания, грозящего отцу. Нет! Ее ужаснуло все, и она со страхом ждала, повинится ли отец или останется клятвопреступником. Она возненавидела Филиппа, который казался ей бóльшим злодеем, чем дядя и отец, а деньги, из-за которых бывает на свете столько преступлений, до конца жизни страшили ее.
Решение созрело не сразу. Смолкли колокола, присяга окончена. Белугины опять подняли головы и вернулись к своим делам. Только на другой день Настя исчезла из дома и пропала бесследно.
Прошло еще много лет. Одно время в городе пронесся слух о замечательном молодом проповеднике. Слушать этого священника приходили из разных концов города. Однажды пришел и Иван Егорович Белугин, так как он был человек богомольный. Батюшка говорил о святости данного слова, об обетах и клятвопреступлении.
Белугин стоял бледный, как приговоренный: точно слушал намек на его дело, о котором давно все забыли, да и сам он давно уж перестал думать о нем. Горячая речь молодого оратора заставила крепко задуматься Белугина.
Говорили потом, что Белугин уехал в Афон, где доживал свой век строгим старцем Иннокентием; а что сталось со вторым братом, никто не знает».
— Ведь вот оно что! — задумчиво проговорила старая Филарета. — Бог-то правду видит, да нескоро сказывает. А мы-то все по-своему.
А голуби все вились и кружились над заброшенным бугром, заваленным мусором, из-под которого слабо пробивалась зеленеющая травка…
Каменщики прекратили работу; стало тихо, торжественно. На старой колокольне монастырского зимнего храма ударили ко всенощной. Черные фигуры плавно и бесстрастно проходили к службе.
Время вступило в свои права, жизнь покатилась по старой колее однообразно, ровно и мирно.
Л. Коцевольская. «Кормчий», 1906 г.
Воскресшая вера
Рассказ-быль
I
Суд только что вынес заключенному смертный приговор, и на заре приговор этот должен был быть приведен в исполнение.
С мрачным спокойствием выслушал виновный свое осуждение и презрительно отказался от напутствия священника и от причастия.
Он был один в глубокой тишине. И вот то наружное спокойствие, которое напускал он на себя, вдруг слетело с него, как плохо надетая маска, и он, шатаясь, взялся руками за голову, опустился на стул и закрыл глаза.
Это был юноша 22-х лет с приветливым, еще детским лицом; шапка почти черных волос и небольшая курчавая бородка резко оттеняли восковую бледность его лица.
Мучительное сознание терзало его:
— Все кончено! Все…
Через несколько часов он перестанет существовать.
То «нечто», что заставляет его страдать, трепетать и мыслить и делает его отличной от прочих личностью, исчезает… Но куда?
Есть ли у него душа? Или это дыхание жизни погаснет, как тухнет свеча от порыва ветра?
Смерть его близка!
Без колебаний и страха предавал он смерти многих других. Их агония его не трогала, а в эту минуту, когда страшная гостья протянула ему свою костлявую руку, когда ее ледяное дыхание пахнуло ему в лицо, его охватил ужас и бросило в пот. С глубоким стоном вскочил он со стула и зашагал по каземату.
Он презирал законы, установленные для поддержания людского порядка и безопасности, он глумился над правосудием. Он отрекся от всего, чему поклонялся прежде. Он отрицал Бога, потому что Он не давал ему доказательства Своего бытия…
А разве сатана, которому он потом отдался, подтвердил ему свое бытие?! Дал ли он ему хоть одну из своих диавольских наград за его «великие деяния» — убийства, грабежи, поджоги?
Нет! Как ад, так и небо — молчат! И Он — один в эту страшную минуту!
Вихрем пронеслись в его памяти те два года, которые сделали из него преступника. Он вспоминал лукавых товарищей, циничные речи, которые подрывали в корне его былые воззрения. Особенно ярко рисовалась ему «она», черная Эсфирь — молодая студентка-экстремистка с огненным взглядом.
Страстное слово ее лилось в душу как вино, убеждая его, что он может стать «освободителем ее народа», покровителем бесправных, карающим судьей тиранического, преступного правительства, составлявшего горе и бедствие страны… Эти свои вдохновенные воззвания она ловко умела подкреплять заманчиво обрисованным миражом будущего, в котором легко рисовались золото в изобилии, упоение властью и тем тайным могуществом, перед которым дрожат и «сильные мира сего».
Он безумно полюбил эту пылкую, но жестокую женщину, которая только и грезила кровью и резней. Чтобы освободить ее угнетенный народ, он был готов решиться на все. Она ведь будет с ним, или они вместе умрут… Увлеченный и ослепленный, не имея уже над собой власти, он предался этой безумной идее.
Быстро летели полные приключений годы. С мучительной ясностью теперь оживали в памяти заключенного их митинги, или тайные совещания, на которых «он и она» играли первые роли; вспоминались ему их отважные с целой шайкой под его начальством «экспроприации», ограбления церквей, поджоги имений и, наконец, смерть высокого сановника от его руки «по приговору революционного трибунала».
Бог знает почему всплыло воспоминание о старухе-матери и о том позоре, который она испытала, узнав, что он это сделал.
Несмотря на свое ожесточение, он колебался перед этим последним своим преступлением. Но вокруг него поднялась целая буря: как это он отказывается дать блестящий пример «служения идее»?! И Эсфирь шумела больше всех — то она уговаривала его, то грозила своим презрением, то на коленях умоляла быть героем, пожертвовать собою за родину.
Он сдался, и намеченная жертва пала.
Заключенному почудилось в эту минуту, что он вновь слышит стон этой последней жертвы.
Он чувствовал, что волосы на его голове становятся дыбом. Теперь его охватила безумная ярость при мысли, что его бросили одного с той поры, как он схвачен. Все эти лукавые друзья спрятались, а женщина, которую он любит до самозабвения, тоже не пошла за ним, как обещала. Она покинула его и бежала. Вся шайка исчезла, как крысы под пол, бросив его одного.
Он в ярости затопал ногами.
— Сатана! — глухо крикнул он. — Я продал тебе свою душу и тело, и ты обещал мне золото и славу, а вместо этого ты покинул меня на произвол судьбы и этих чудовищ! Явись же! Приди помочь мне! Освободи меня!
Заключенный зашатался и грохнулся без чувств на пол.
II
Старик-полковник, начальник тюрьмы, сидел в своем кабинете за бумагами. В это время вошел один из тюремных надзирателей и доложил, что старая дама желает его видеть.
— Это мать приговоренного к казни на завтра, — добавил он.
— Впустите! — сказал начальник, подумав.
Через несколько минут в кабинет вошла старушка в трауре. Как ни велика была перемена, произведенная в ней летами, но старик узнал в женщине подругу детства, которую потерял из вида по выходе ее замуж.
— Бедная женщина, несчастная мать! Думал ли я, что встречу Вас при таких обстоятельствах, — дрогнувшим голосом сказал он.
— У меня к Вам просьба! Не откажите, ради Бога, — пробормотала она и хотела стать на колени, но полковник успел подхватить ее и усадить в кресло.
— Вы хотите, вероятно, его видеть? Но знаете ли Вы, что приговор состоялся? — произнес он тише.
— Нет! Видеть я его не хочу, хотя мне известно, что он приговорен к смерти и отказался от причастия. Вот в чем моя просьба, смотрите! — она развязала принесенный с собою узелок, в котором оказались древнего письма образ Божией Матери, лампадка, пузырек и еще что-то, завернутое в шелковую бумагу.
— Это икона, перед которой он всегда молился ребенком, перед которой мы вместе много лет молились. Тогда он был еще невинным и верующим. Так вот, умоляю Вас приказать отнести образ в его камеру — он его узнает, — зажечь перед ним лампадку, поставить около пузырек со святой водой и положить просфору, она довершит остальное.
— Я сделаю все, что Вы желаете. Я сам отнесу икону в его камеру, затеплю лампадку, и да спасут Христос и Матерь Божия душу Вашего заблудшего сына… На свете больше бывает чудес, чем воображают неверующие, — дрогнувшим от волнения голосом прибавил он.
Старушка встала, приложилась в последний раз к иконе и затем крепко пожала руку полковнику.
— Спасибо Вам, я теперь пойду в церковь и буду молиться всю ночь, а завтра, когда все будет кончено, я зайду.
Голос ее задрожал, и она торопливо, как только позволяли ей слабые ноги, вышла из комнаты.
Начальник позвал надзирателя и пошел с ним в камеру осужденного. Тот лежал ничком, отвернув голову к стене, и не двигался. Тихо поставив икону с пузырьком на стол и положив рядом просфору, полковник зажег лампаду и, перекрестившись, вышел из камеры, не окликая осужденного.
III
Было около полудня. Узник очнулся наконец от своего забытья. Он с трудом приподнялся на колени. Ему вспомнилась ужасная действительность, по телу пробежала холодная дрожь, и сердце судорожно забилось в груди.
В эту минуту его смутный взор заметил полоску света на полу, и это его удивило. Откуда свет?
Он повернул голову и еще более поразился, увидев на столе икону. Лампада мягким светом озарила грустный лик Божией Матери. Каким чудом мог очутиться здесь знакомый ему образ из комнаты его матери? Его мать… Вдруг она, как живая, представилась ему, с любовию глядящая на него. Видение этого самого дорогого ему существа точно сломало невидимую преграду, отделявшую его от прошлого. Проснулись в памяти случаи давно забытые, связанные со стоящим на столе образом, от которого он теперь не мог оторвать глаз.
Он видел себя курчавым ребенком, который в рубашонке стоял на коленях перед этим образом и повторял за матерью слова молитвы. А как он молился, когда его мать заболела тифом и была приговорена врачами к смерти! Он видел себя перед этим же образом, молящимся за успех своего первого экзамена. На память пришли слова молитвы, которую он каждый день читал с матерью:
«Христианскую кончину, безболезненную, непостыдную, мирную у Господа просим».
Позднее, в университете, он уже вовсе не молился, и теперь кончит жизнь на виселице.
Тяжелый вздох вырвался из его груди, и его охватило жгучее сожаление о том мирном, светлом и невозвратимом детстве. Его прежняя вера… Сколько счастья, смирения и душевного спокойствия давала она!
Неуверенный взор заключенного обратился к образу Богоматери. Как и прежде, большие, глубокие, кроткие очи Покровительницы всех скорбящих с грустью взирали на него. Но какая пропасть отделяла теперь его от Нее! В эту минуту он не смел даже протянуть к Ней руки — руки, запятнанные столькими преступлениями, и он даже забыл, как молятся.
Вдруг в нем вспыхнуло неудержимое желание взять образ, прижать его к груди и поведать ему, как в детские годы, свое последнее моление…
Обливаясь пóтом, с сильно бьющимся сердцем пододвинулся он к столу. Он протянул уже было дрожащую руку к образу, но тотчас опустил.
Смеет ли он коснуться святыни грязными руками?
Нет!
Неуверенно взял он пузырек и откупорил. Вымыл святой водой голову, руки и лицо, а остаток выпил. И ему показалось, будто с него свалилось что-то тяжелое. Ледяная кора ненавистничества, сковавшая его душу, словно таяла, сменяясь живительным теплом. Что-то прежнее просыпалось в нем.
Он вздрогнул, перекрестился и съел кусочек просфоры, затем дрожащими руками схватил образ, прижал его к себе, и дрогнувшие, забывшие молитвы уста с жаром зашептали:
— Отче наш! Иже еси на Небесех!
Из глаз брызнули потоком успокоительные слезы, и бессознательно неудержимо потекли признания в преступлениях и кощунствах.
Когда кончилась эта странная исповедь, он, жадно прильнув губами к образу Божественной Покровительницы своего невинного детства и отрочества, с отчаянием и верою повторял:
— О! Избавь меня от ужасного страха смерти! Дай мне мирную кончину!
О земном он не молил. Вместе с воскресшей верой пришли раскаяние, покорность и смирение, а вместе с тем и удивительное спокойствие, успокоение, сменявшее страх перед смертью.
Она, Царица Небесная, поможет ему. Она его спасет! Как — он не знал, но в Ее помощи он больше не сомневался.
Душевный порыв становился все горячей, и восторг — глубже. Земля, страшное «завтра» — все словно растаяло и отодвинулось куда-то в туманную даль. Словно огненный поток приливал к мозгу. Образ Богородицы разрастался и отделялся от киота. Как живая, на огненном облаке витала Она и возложила на его сердце Свою светозарную руку.
Послышались слова:
— Ступай! Засвидетельствуй матери свое спасение и награду за веру!
Свет погас, лучезарное видение вмиг исчезло, а он закружился, словно над бездной, и потерял сознание.
В старой маленькой церкви подле самой тюрьмы перед образом Божией Матери стояла на коленях старушка в трауре. Не отрывая от иконы глаз, она так жарко молилась, что душа ее словно унеслась от земли, чтобы отнести свою мольбу к трону Вечного Милосердия.
Вдруг как бы порыв холодного ветра пахнул ей в лицо, и она вздрогнула. Оторванная от молитвы, она с удивлением и страхом увидела в двух шагах от себя человеческую фигуру, прозрачную и воздушную, в которой она признала сына. В его глазах, устремленных на нее, горела прежняя чистая любовь к ней, и хорошо знакомый, но точно издалека донесшийся голос радостно сказал:
— Я свободен, мама. Я раскаялся и буду работать над спасением от гибели моих ослепленных, как и я, собратьев. И все это благодаря тебе. Спасибо, да благословит тебя Бог!
— Петя, дитя мое! — крикнула бедная мать и упала без чувств.
Когда же под утро пришли в камеру за осужденным, то нашли его неподвижно лежащим на полу; к груди он судорожно прижимал образ Богородицы.
В. Крыжиновская
Господь награждает и в сей жизни добродетельных людей
Рассказ-быль
В одной из столиц нашей обширнейшей православной Руси жил купец Михаил Петрович Г. Отец его, бедный, но честный мещанин одного уездного города, научив сына русской грамоте, преимущественно церковной печати, все силы употребил для того, чтобы сделать своего сына истинным христианином и честным гражданином. Свои последние трудовые деньги отдал он на то, чтобы приобрести нравственные книги, из которых бы юное сердце сына более и более утверждалось в вере в Бога, в любви к ближнему, в безусловном повиновении высшей власти. Будучи набожен, отец Миши всегда сам читал утренние и вечерние молитвы вслух, а сына, вытвердившего правило наизусть, заставлял тихонько, но со вниманием произносить те же слова вслед за собой.
Ни одна служба Божия не проходила без того, чтобы добрый Петр Иванович не присутствовал на ней. Никакие дела не могли ему воспрепятствовать пойти в церковь Божию и с собою взять Михаила. Заметив в сыне достаточное утверждение в нравственности, он начал думать, как бы в сей жизни сын мог прожить безбедно. Он отдал его в лавку к столичному купцу, человеку доброму и набожному. Прощаясь с сыном, отец так говорил ему:
— Михаил! Я делал все, что нужно для твоей души, умей только то, что преподано мною, хорошими книгами да добрыми людьми, сохранить и исполнить — и ты всегда будешь счастлив. Не слишком гоняйся за богатством, оно непрочно, заботься лучше о душе и о приобретении благ вечных. Если будешь молиться Богу и искать прежде Царствия Божия и правды Его, то блага мира легко приобретутся, если это будет полезно для тебя. Спаситель наш говорит: «Ищите прежде Царствия Божия и правды Его, а остальное приложится вам» (ср. Мф. 6, 33). Господь лучше нас знает, кому что дать. Я тебе и прежде говорил, и в книгах ты читал, что эта жизнь скоропреходящая, а истинная наша жизнь — за гробом, там, на небесах. Ты знаешь, что всевозможные земные мучения не могут сравниться с теми мучениями, которые Бог определил злым людям, и никакое блаженство в сем мире не сравнится с тем блаженством, какое Бог уготовал любящим Его. Если же Господь благословит тебя богатством, то заботься всегда о том, чтобы уделять из него бедным людям, памятуя всегда, что они твои братья. Прощай, сын мой! Помни все сказанное мною и исполняй. Быть может, мне уже недолго жить…
Да, я еще забыл тебе сказать: в церковь Божию всегда ходи, а после обедни читай Божественные книги, у тебя их довольно. А станешь получать жалованье — еще прикупи книг, только Божественных. Хозяина своего уважай, люби, во всем слушайся; если бы даже он поступал с тобою строго, переноси все терпеливо. Кажется, я все тебе нужное сказал, а если что-то недосказал, ты услышишь в церкви Божией или вычитаешь из книг.
Сказавши это, добрый Петр оградил сына знамением креста, благословил его образом Божией Матери, присовокупив следующие слова:
— Тебе, Царица Небесная, поручаю своего Михаила, — и оставил его жить у хозяина.
Тяжело было расставаться юному сыну со своим отцом, но он перекрестился и сказал тихо:
— Ведь отец же мой поручил меня покровительству Божией Матери, а я читал в книге «Училище благочестия», как Она сохранила порученное ей семейство. На тебя, Божия Матерь, уповаю, приими меня под кров Свой.
После этих слов он с веселым видом приступил к работе в купеческой лавке.
В первый же день юный Михаил, желая усердно трудиться, сказал хозяину:
— Хозяин! Прикажи мне, какую работу делать?
— Этот день ты погуляй, — сказал хозяин. — А там и дело найдем.
— Не привык я дома гулять. Отец мне говорит, что праздность есть мать всех пороков и величайший грех пред Богом, а коли милость твоя будет, то позволь мне сегодня почитать.
Полюбились купцу слова мальчика:
— Изволь, читай! Да что ты будешь читать?
— «Училище благочестия»!
— Да все ли у тебя есть части этой книги?
— Нет, хозяин, только одна часть есть!
Тотчас послал хозяин за книгами, а когда их принесли, отдал Михаилу. Как же обрадовался юноша, увидев эти книги! Через несколько минут он сидел за прилавком и читал. Хозяин пошел по своим делам домой, а один из мальчишек, совсем не добрый, начал было смеяться над Мишей.
— Да что лучше? — сказал тут Миша. — В бабки играть или книгу читать? В ней найдешь себе утешение для души и пользу для житейского быта. Вот, например, ты смеешься, а скажи, кто и когда составил чин обедни, у которой ты бываешь?
— Не знаю! — ответил мальчик.
Тогда Михаил нашел статью и прочел вслух, как святой Василий Великий просил Господа, чтобы Он научил его служить обедню, и как Господь, явясь в сонном видении святителю, совершил обедню вместе с апостолами — точно так, как после Василий Великий и передал нам.
— Правду ты сказал, Миша, — сказали все слушавшие его. — Пожалуйста, читай нам эти книжки по воскресеньям.
На другой день Михаил, пришедши в лавку, начал заниматься своим делом.
Прошло три года его службы… По прошествии этого времени хозяин хотел наградить Михаила и между тем испытать его честность. Для этого он послал его утром на рынок за покупкой съестных припасов и вместо трех рублей серебром как сказал, дал ему пять. Михаил дорогой увидел, что не три целковых ему дано, а пять, и подумал, что хозяин второпях не рассмотрел. Купив все нужное, он пришел домой и объявил хозяину, что он дал ему лишних два рубля. Хозяин поцеловал Михаила в голову и сказал:
— Благодарю тебя за честность. Хотя тебе по условию жить без жалованья два года, но буду давать тебе по 30 рублей серебром в год, — с этими словами он тут же вынул деньги и отдал их Михаилу, вперед за полгода. И прибавил:
— Умей ими распорядиться. На пустяки не трать. А с сегодняшнего дня я назначаю тебя приказчиком.
Как обрадовался Миша, что, имея теперь деньги, может по совету отца употребить их на полезное! Он тотчас пошел к поздней обедне, купил свечки, подал записки за болящего отца «о здравии» и за мать «о упокоении». Купил несколько благочестивых книг, а остальные отослал отцу.
По прошествии договорного срока работы в лавке хозяин позвал к себе Михаила и сказал:
— Закончился срок твоей работы, о котором я договаривался с твоим отцом. Если хочешь, оставайся у меня, я тебе положу приличное жалованье. А хочешь, ищи себе лучшего.
— Нет, хозяин! Я Вами доволен! — ответил Михаил и так остался у него жить.
Через год отец Михаила умер. Между тем Господь посетил хозяина скорбью. У него умерла жена, оставив ему единственную шестнадцатилетнюю дочь. Отслуживши годовое по жене поминовение, хозяин Михаила стал думать, как бы пристроить дочку. Подумав, он призвал к себе дочь и сказал:
— Елена! Я уже стар и слаб здоровьем. Мне хочется при жизни тебя пристроить. Люб тебе будет приказчик Михаил, сын Петров? Он хоть и небогат, но зато добрый и честный малый.
— Я из Вашей воли никогда не выйду! — сказала скромная девушка.
— Нет, дочка! Я никогда не стану навязывать тебе того, кто тебе не по сердцу, ведь не мне с ним жить, а тебе!
— Согласна, батюшка! — сказала Елена.
Купец, позвав Михаила, предложил ему жениться на его дочери. С радостью принял предложение Михаил и возблагодарил Господа Бога, благодеявшего ему. Обвенчав свою дочку с приказчиком, купец отдал им в распоряжение все свое имущество.
Пять лет прожил тесть Михаила вместе с ними в спокойствии и благополучии, дождался видеть двух внуков и наконец, заболевши, принес исповедь, принял Святые Дары и благочестно умер.
Перед смертью он говорил своим детям:
— Будьте честны и добры, все оставленное принадлежит вам! Пользуйтесь им, и к тому же честными путями приобретайте еще. А наипаче молитесь Богу, от Него Единого все зависит. Молитесь о упокоении моей души и не забывайте бедных.
Похоронив тестя и справив сорокоуст, Михаил до конца своих дней жил честно и благочестиво. Он помогал ближним, не забывал бедных и всегда помнил слова Спасителя, заповеданные ему отцом:
«Ищите прежде Царствия Божия и правды Его, а остальное приложится вам» (ср. Мф.6:33).
Вразумление вольнодумца
Рассказ священника В. Ремерова, записанный им в 1870-м году
От княгини Г-й мне пришлось слышать замечательный рассказ о вразумлении вольнодумца.
В семействе дворян Н. хранился небольшой медный образок святителя Николая. Дороже всего имения, пуще глаза берегли эту святыню. Образок достался им от предков и много, много благодатных действий совершилось от него в добром, благонравном семействе.
Икона была богато убрана. Более всех украсила ее генеральша Ш., у которой в последнее время хранился образок. Получив в наследство икону святителя Николая, Ш. постоянно имела ее при себе. Нередко после шумных удовольствий и треволнений мира сего, удалившись в свою образнýю (молитвенная комната — ред.), она падала там на колени и проливала горячие слезы о своем бессилии в борьбе с мирским шумом… Раскрывала перед святителем Христовым свое сердце, свою душу, мысли и чувства, прося за себя ходатайства и святых молитв перед Господом.
Не укрылась теплая, слезная молитва Ш. от домашних. Внук ее, господин В., служивший в то время в Петербурге и отличавшийся вольномыслием, с каким-то небрежением и даже отвращением смотрел на благое дело своей бабушки и поносил крепкую ее веру в угодника Божия. В кругу своих приближенных он называл ее суеверной бабушкой, принимавшей за чистую монету мишуру, бредни и сказки, переданные будто бы суеверной стариной.
В одно прекрасное время, в бытность свою у бабушки, молодой человек, видя усердную и горячую ее молитву, не удержал себя и высказал перед доброй бабушкой все безумные мысли свои, не щадя дряхлости ее лет.
— Странное Вы, бабушка, дело делаете, — говорил молодой человек. — Достали где-то медную доску, украсили ее бриллиантами, драгоценностями да кланяетесь и слезы льете перед ней; разумное ли это дело?
— Друг мой! Это непростая доска. Это изображение угодника Божия святителя Христова Николая. Но ты не раз и не от меня одной, а от всех родных слышал о тех великих благодеяниях, которые обильно изливаются через эту святую икону на наше семейство! Как же мне не благоговеть перед святою иконою, как не приносить, как жертву благодарности, избытков моих на ее украшение?
— Сочиняйте сказки! До невероятного суеверия дошли вы, старые люди, с вашими пустыми верованиями. Да и молодежь туда же влечете. Все-то видится вам благодать чудотворений. Право, до крайности смешно слушать вас. Поверьте мне, любящему Вас внуку: такие верования нездорово действуют на состояние рассудка. Смотрите прямее на окружающие вас предметы, просто, без всяких предубеждений. Зачем входить в крайности? Согласитесь, вашими пустыми верованиями Вы сами делаете подрыв религии. Не дивитесь! Я не либерал, а только за Вас страшно… Сделавшись суеверною, вы показываете признак Вашей слабости в религии, Богопознании.
Бабушка молча слушала длинный монолог внука. Когда же он замолк, она сказала:
— Все ли высказано?
— Все, бабушка!
— Ну, друг мой любезный, не прогневайся и сделай милость, послушай и меня, суеверную старуху, как я тебя слушала. Вот уже семь десятков лет живу я на белом свете. Я мало слышала, чтобы люди гибли от суеверия, более же всего гибнут они, бедные, от безверия и гордости!… Странно и ты рассуждаешь! Разве суеверие — взгляд христианина на икону, от которой мысль с умилением несется к Богу и святым Его? Сам ты понимаешь, что не доске молится православный христианин, а только при взгляде на икону возносит ум и сердце к изображенному на ней, и дивится Божьему могуществу, чудно действующему через святые иконы, и благодарит своего Благодетеля за Его изливаемые неисчетные милости на него и на безблагодарный род человеческий… Разве суеверие — наблюдать за своею жизнью, за жизнью ближних и всматриваться в то, как дивно действует Промысел Божий в среде верных Ему людей? Нет, друг мой! Если бы мы чаще смотрели на свои действия и окружающие нас обстоятельства; если бы смотрели прямее, с религиозной точки зрения, а не просто под влиянием разнузданного нашего рассудка, который любит увлекаться самостью, самомнением… Так поверь мне, старухе, мы не потеряли бы веру, не ослабели бы, а более и более укрепились бы в ней. Мы увидели бы Десницу Божию, всечасно покрывающую нас от опасностей в жизни и от сетей врагов наших.
Взгляни на давно прошедшие времена, и там ты увидишь крепкую, простую, не доискивающуюся глубоких причин веру, не размышляющую по своему разуму, но действующую под влиянием сердца. Разве суеверие, например, простая вера Авраама, пославшего раба отыскивать в дальней стране невесту сыну и взять именно ту, которая напоит его верблюдов? Разве суеверие — борьба Иакова с Богом? Да мало ли чудес в Ветхом сеновном и в Новом благодатном Завете, совершенных Божественным Промыслом для верующих людей! Везде-то у нас суеверие и опасение потерять Богопознание. Вы-то вот, с вашим простым взглядом на вещи, близки ли к Богопознанию? Скажите! Как веруете вы в Бога? Что знаете о Нем? Как молитесь Ему? Как Его любите? Как надеетесь на Него?
— Ну, зарапортовались, бабушка. И до Нового, и до Ветхого Завета хватили. Там были чудеса, а у нас их нет. Ныне они не нужны, ныне вера утвердилась и укрепилась на пространствах земли. Заговорили Вы и о хóлодности, и нелюбви к Богу нынешнего поколения, нынешнего образованного класса. Знайте же, бабушка! Мы веруем очищенною верою. Веруем без примеси суеверий и предрассудков.
— Ну, будь по-вашему. Веруйте очищенно, если не хотите слушать опытных советов. Скажу только одно, что и ныне, ради вкоренившегося безверия и для укрепления истинно верующих христиан не перестают совершаться дивные чудеса. Напомню тебе, друг мой, про дивный образок, послуживший предметом нынешних прений с тобой. Замечал ли ты, что он не цельный, а раздроблен на две половины? Слушай же: я снова расскажу тебе, что было с моим покойным мужем…
В 1812 году в сражении при Бородино неприятельская пуля пролетела и ударилась в этот образок, висевший на груди моего мужа. Образок, как сам можешь видеть, разлетелся надвое, а грудь молодого офицера осталась невредима. Не было даже ни продавлины, ни пятна, ни боли. С чувством живейшей веры и любви, со слезами благодарности поцеловал молодой офицер образок свой — благословение родителей, — и снова спрятал его на груди, и никогда, до самой смерти, не разлучался с ним. После смерти мужа из благоговения к чудному образку, изливающему на наше семейство великие благодеяния, и из дорогих воспоминаний я берегу как зеницу ока и украшаю от моих избытков дорогую для меня икону…
Слова бабушки, по-видимому, не уронили в сердце образованного человека и капли веры. Каждый из спорящих остался при своих убеждениях.
В. скоро оставил свою бабушку и отправился на службу в Петербург. Прошло два-три года. И вдруг бабушка получает довольно знаменательное письмо от своего внука-антагониста. Вот что, между прочим, он писал:
«Вы правы, бабушка. Теперь с некоторого времени я одних с Вами мнений о Божием Промысле. Ныне и я благоговею к угоднику Божию святителю Николаю. Ныне и я ношу при себе подобный Вашему медный образок с изображением святителя Христова Николая.
Вы удивитесь! Еще более удивитесь, когда скажу Вам, чтj случилось со мной в последнее время.
Нынешнюю зиму с приятелями мчался я на рысаках по Неве. Нужно заметить, что несколько дней перед этим стояло тепло. Я не воображал об угрожавшей опасности, тогда как смерть ходила по моим пятам. На средине реки лед хрустнул и рысаки и сани со всеми пассажирами погрузились в Неву… Видя неминуемую смерть, я в ужасе воскликнул:
— Угодник Божий, святитель Николай, услышь и спаси меня! Я буду покорным рабом Бога и почитателем тебя до конца моей жизни!
Вопль мой был услышан. И до сих пор не понимаю, как совершилось наше спасение. Помню только одно: лошади стояли на берегу Невы. Я с пассажирами был еще в санях, наполненных холодной водой. Выбравшись из саней, стали мы выбирать и вещи.
И что же? Между прочими вещами мне попался медный небольшой образок святителя Николая…».
Журнал «Странник», 1870 г.
Промысел Божий о спасении людей
Рассказ священника Пантелеймонова, записанный им в 1865-м году
В Харьковской губернии Старобельского уезда, в селе Евгусе жил человек по имени Сампсон, расслабленный во всем своем организме, кроме головы и рук. Заболел он на пятнадцатом году жизни, а умер на тридцать шестом. В продолжение своей болезни он лежал почти без движения. Пить и есть подавали ему другие, а иногда его выносили из дома под открытое небо на том самом рядне, на котором он лежал.
Из родных никого не имел он, кроме матери-старушки. Крайняя нищета часто заставляла мать отлучаться от дому на целый день, а иногда и на два. Случалось, иногда она забывала поставить возле Сампсона хлеба и воды, и он, бедный, в это время терпел голод и жажду до тех пор, пока мать не возвращалась домой. Можно представить, как велики были его страдания, телесные и душевные.
Сампсон скорбел, но не унывал, а усердно молился Богу и всегда предавался в волю Божию. Мать его была самая добродетельная старушка. Она никогда не оскорбляла его, а часто плакала вместе с ним и говорила:
— Видно, Богу угодно, чтобы ты потерпел в этом мире. Дай только, Господи, чтобы нам лучше было в будущем. А здесь как-нибудь доживем до смерти.
Приходский священник, имея любовь и сострадание к больному, видел в нем рассудок и добрые чувства. Сампсон был словоохотлив и часто говорил посещающему его священнику, как иногда горько ему смотреть на живой мир.
— Птичка летит, — говорил он, — куда хочет. Она своим носиком ищет зерна, наелась и полетела напиться водицы. Скотина ходит, щиплет травку, она сыта и идет, куда ей надо. А я лежу на одном месте, жду, пока мне подадут кусок хлеба или корец воды. Желал бы куда пойти, но и на месте с великим трудом лежу и едва могу с большим напряжением и болью поворотиться. В таком положении я вот уже 20 лет и конца не вижу своему горю.
— Да, действительно горе!
Нельзя было не сострадать ему и не поплакать над больным, смотря на него. Священник старался утешать его, как мог, конечно, больше всего обнадеживая его отрадным будущим. Сампсон внимал священнику, когда тот говорил о радостях, ожидающих нас в Царстве Отца нашего Небесного, и нередко при этом в очах его и лице сияла радость. Надежда получить после смерти способность быть по благодати Божией везде, где он только захочет, особенно радовала несчастного. И не было меры благодарности его священнику за всякое его посещение и разговор с ним.
Однажды встал священник рано утром, чувствуя в сердце какую-то скуку. Чтобы размы´кать оную, он пошел к Сампсону. Входит к нему и с первого взгляда замечает в нем необыкновенную перемену. Больной был смущен и в каком-то раздумье. Священник начал было говорить ему, чтобы словами утешить его, но больной и слушать не стал. Тогда у священника мелькнула мысль говорить о грехе самоубийства, и он начал:
— Были на свете такие люди, которые от какого-нибудь горя сами себя умерщвляли — принимали яд, стрелялись, в воде топились, вешались или другим каким-то образом лишали себя жизни! Несчастные эти люди — погибшие. После такой смерти они идут прямо в ад и никогда оттуда не избавятся. За них и церковь не молится, и даже лишает их христианского погребения. За них не бывает ни панихид, ни поминовений на литургии.
— Отчего же это так? — с любопытством спросил его Сампсон.
— А оттого, — отвечал священник, — что самоубийство — самый тяжкий грех; с этим грехом они оканчивают свою жизнь в нераскаянности. Нераскаянным же молитва не помогает. Самоубийца хуже всякого разбойника. Разбойник, убив других, сам может еще покаяться и получить прощение в грехах, а самоубийца сам себя убивает, и нет ему уже времени каяться. После смерти нет покаяния, а стало быть, и прощения.
— Ах, батюшка! — с воплем сказал больной. — Сам Бог послал Вас ко мне.
И горько, и долго плакал несчастный. Священник смотрел с удивлением на плачущего. Наконец он спросил:
— Сампсон, что это значит? Отчего ты так плачешь?
— Погодите немного, я все Вам расскажу.
С великим трудом поворотился он на бок и из-под подушки вытащил веревку, и, показывая ее, сказал:
— На этой веревке я хотел повеситься.
— Я хотел, — продолжал Сампсон, — употребить все усилия, чтобы приподняться к жердочке (она висела над ним невысоко), привязать к ней веревку, сделать петлю, вложить в нее голову и опуститься с кровати на пол. «Чем страдать мне, — так думал я, — так лучше сам прекращу свою жизнь». Но, батюшка, я не знал, что это такой тяжкий и непростительный грех, мне об этом никто и никогда не говорил. Благодарю Вас, что Вы сказали мне об этом. Без Вас погибла бы моя душа!
— Бога благодари! — ответил ему священник. — Он послал меня к тебе, хотя я того и не знал. Он и в уста мои вложил слова, нужные тебе, и твою душу просветил светом познания греха, и твое сердце наполнил чувством раскаяния. С сих пор благодари Бога до конца своей жизни, — сказал ему священник и спросил:
— Приходила ли тебе прежде мысль в голову, чтобы прекратить свою жизнь?
— Нет! — отвечал Сампсон. — Прежде никогда я об этом не думал.
— По замечанию опытных людей, — сказал священник, — желание умертвить себя приходит человеку часто тогда, как и естественно скоро уже нужно ему умереть. Я думаю, что и к тебе, по Божьему определению, смерть близка. Лукавый, вероятно, знает это, и хотел взять твою душу к себе, а потому и вложил в твою голову мысль умертвить самого себя, но милосердный Господь не попустил ему погубить твою душу и разрушил его козни. Смотри же, помолись усерднее Богу и приготовься к исповеди и Святому Причащению. Завтра я приду к тебе со Святыми Тайнами. Ты исповедуешься, а я причащу тебя. Господь Сам даст тебе большую веру, терпение и преданность воле Божией. Тогда лукавый не приступит к тебе с такими искушениями до конца твоей жизни.
На другой день священник исполнил свое обещание. Сампсон исповедывался с великим умилением, принял Тело и Кровь Господа нашего Иисуса Христа и от всей души возблагодарил Господа.
Спустя три дня священнику пришлось идти мимо дома Сампсона к другому больному для исповеди.
«Дай, попроведаю Сампсона», — подумал он.
Входит в дом и что же видит: Сампсон уже мертв, но лицо его сияет такой радостью, какой батюшка никогда не видел на лицах умерших.
— Сию минуту, — сквозь слезы сказала мать, — кончился, как Вы были уже в сенях.
— Говорил ли он что-нибудь перед смертью? — спросил священник.
— Часа за полтора он сказал: «Мама, подойди ко мне!». Я подошла и услышала: «Мамочка, я умираю! Слава Тебе, Господи! Ты берешь меня к Себе! Кончились мои болезни, кончилось мое горе! У Тебя, Господи, — одна Радость! Слава Тебе, Господи!». Так он с тех пор беспрестанно благодарил Бога и меня просил, чтобы и я благодарила, а сам был так весел! Последнее слово его было: «Слава Тебе, Господи, за все!».
Пути Божия промысла
Рассказ священника Романовского
Бог не оставляет нас без Своего Всеблагого и премудрого промышления. Без воли Отца Небесного и волос с головы нашей не пропадет! И подлинно — оставит ли Всеблагой и Всемогущий Творец Свое творение без Своего промышления?
Возможно ли, чтобы человек, за которого Сын Божий пострадал и умер на Кресте, остался без Его внимания и попечения?
Нет! Не рассудительны те из называющихся христианами, которые не признают отеческого о нас Божия промышления. Всеблагий Бог как в древние времена промышлял о людях, так и теперь не перестает промышлять о них и в жизни их проявлять чудные действия Своего Всемогущества, Своей премудрости и благости. Если бы мы были внимательней к своей жизни, то каждый из нас ясно увидел бы в ней чудеса, совершаемые нашим Творцом и Промыслителем для нашего вразумления. Из многих примеров, встречавшихся мне в жизни других, я укажу на один. В жизни одного известного мне человека Господь поразительно показал пути Своего премудрого промышления.
Однажды я был позван к больному купцу Н. — человеку молодому, имевшему от роду 25 лет.
По приезде из Петербурга он остановился в гостинице. Это было зимою 1860 года в январе, когда морозы были очень велики. Этот молодой человек ехал в Москву на недолгое время в легкой обуви и отморозил себе ноги. Все пальцы на его ногах были черны как уголь. Болезнь, по замечанию врача, угрожала опасностью его жизни. Молодой купец позвал меня, чтобы очистить свою совесть покаянием и приобщиться Святых Христовых Тайн. Он рассказал мне о таких происшествиях в его жизни, которыми Промысл Божий явно искал обращения грешника.
Прежде нежели начать свой рассказ, он задал мне такой вопрос:
— А что, батюшка, велик ли грех отчаяния?
— Нужно ли спрашивать об этом? — отвечал я. — Стоит только вспомнить о несчастной кончине Иуды-предателя, погибшего от отчаяния, чтобы убедиться в том, как велик этот грех перед Богом. Сам Христос Спаситель сказал Иуде: «Горе человеку тому! Лучше бы для него было, если бы он не родился» (ср. Мф. 26, 24). Так и должно быть. Отчаяние изгоняет из души человеческой веру в будущую жизнь, надежду на Божие милосердие, а главное, отчаивающийся попирает бесценную Кровь Единородного Сына Божия, ради которой Бог прощает кающемуся грешнику всякий грех.
— Итак, умирающему от отчаяния не будет от Бога прощения?
— Конечно, так! — отвечаю я.
После сих слов больной со слезами на глазах рассказал мне:
— Я был на шаг от отчаяния. Приехав в Москву на самое короткое время по весьма важному делу, от успеха в котором зависит все мое счастье жизни, и внезапно пораженный тяжкой болезнью, приковавшей меня к одру вдали от родных и знакомых, я не видел другого исхода из моего тяжелого положения, кроме самоубийства, и уже обдумывал способ, как удобнее лишить себя жизни.
Намерение свое я непременно исполнил бы, если бы добрый сосед своим участием в моем положении не остановил меня в этом и не заставил меня послать за вами.
Теперь слава Господу Богу, Который по бесконечному милосердию Своему спас меня от вечной гибели.
— Да! Вы никогда не должны забывать столь явного милосердия Божия к Вам.
С сокрушением сердца он исповедовал пред Богом свои грехи и с великой верой и смирением приобщился Святых Христовых Тайн.
Так Милосердный Бог, видя некие семена веры в сердце грешника, благоволил спасти его от вечной гибели, послав к нему доброго и благочестивого христианина, который своими советами сумел остановить его от преступления и внушить ему необходимость примириться с разгневанным его грехами Божиим правосудием через исповедь и приобщение Святых Тайн.
На этом не окончилось мое свидание с ним. Больной пожелал, чтобы я навестил его на следующий день, обещая рассказать мне еще о некоторых важных событиях в своей жизни. Тронутый его тяжким положением, я с радостью принял это предложение. На сей раз он рассказал мне другой случай из его жизни, который поразительным образом доказывает ту истину, что молитвы, возносимые родителями к Богу за своих детей, имеют пред Ним великую силу.
— Я верю, — говорил он, — что молитвы родителей имеют великую силу перед Богом. Вот какой случай был со мною в жизни.
По коммерческим делам я отправился однажды на корабле в Архангельск. В первое время нашего плавания все было благополучно. Недалеко уже было до Архангельска, как поднялся ветер, который скоро превратился в страшную бурю.
Корабль наш страшно качало волнами. Когда поднялась буря, я со своими пятью товарищами, бывшими со мной в каюте, вышел на палубу посмотреть, что делается в море. Едва мы показались на палубе, как сильная буря схватила нас и всех шестерых сбросила в море.
Сначала мы боролись с волнами, ибо все умели плавать; нам кидали с корабля веревки, но, сколько ни употребляли мы сил, чтобы ухватиться за них, все наши усилия оставались тщетными: ярые волны отдаляли нас от корабля. Вот уже мои товарищи один за другим перед моими глазами ушли ко дну, потеряв силы. Остался я один с волнами.
Ну, думаю, погибну и я! Прости, белый свет! В это время снова бросили мне веревку с корабля. Как ни мало оставалось во мне сил, но я решился сделать последнее усилие, чтобы доплыть до веревки. И что же! Господь помог мне ухватиться за конец веревки, с помощью которой и втащили меня на корабль. Какая неописанная радость была тогда в моем сердце! Еще минута, и меня не было бы на этом свете! Как бы ни изнемог я от воды, но решился заметить минуту, в которую я был спасен от смерти. Посмотрев на карманные часы, я записал в своей памятной книжке день, час и минуту, в которую случилось со мной такое страшное событие.
Окончив свои дела в Архангельске, я благополучно возвратился в Петербург. Когда я вошел в родительский дом, то моя мать, увидев меня, от радости залилась слезами.
— Тебя ли я вижу, любезный Николай? — говорила она мне. — Я думала, что тебя уже нет в живых!
— Отчего же Вы так думали? — спрашиваю я.
— Однажды мне сделалось так скучно и грустно, что я не находила себе места. «Видно, какое-то несчастье случилось с моим милым сыном», — думала я.
— Когда же это было? — спросил я. — Не припомните ли этого дня?
— Как не помнить? Такой день не скоро забудешь!
И говорит, что это было в такое-то число. Она называет мне месяц, день и даже час, в который ей было тяжко от грусти и скуки. Я посмотрел в свою памятную книжку.
И что же увидел?
Это был день и час тот, в который я подвергался опасности погибнуть в морской пучине.
— Что же вы тогда делали, когда вас мучила тоска? — спросил я свою мать.
— Да что! От скорби не знала, что делать с собой. Засветила у образов лампадку, стала на коленях молиться Богу за тебя и читать акафист Спасителю!
Тогда ужас объял меня.
— Теперь вижу, — сказал я, — что Вы своей молитвой помогли мне ухватиться за веревку и остаться в живых!
Тут я рассказал ей печальную историю моего путешествия, и она от глубины сердца возблагодарила Бога за мое спасение. Так справедливы слова Священного Писания, что «благословение отца утверждает домы детей» (Сир.3:9).
— Над Вами Господь Бог исполнил Свое обещание! — сказал я.
* * *
Не могу обойти молчанием еще один рассказ этого человека о своем друге.
— Несколько лет тому назад, — начал он, — с моим другом случилось великое несчастье. У него пропало на одном должнике пять тысяч рублей серебром. Надо сказать, что на эти деньги он и его родитель очень надеялись. Другого капитала у них не было. Остался только один дом, который тоже подвергался опасности быть проданным за долги. Когда друг узнал о потере капитала и убедился в невозможности получить его, на него напало такое сильное уныние, что он не знал, как поступить. Дела, какими он занимался, выпадали из рук. Он сделался задумчив, бегал от людей и никому не хотел открыть скорби своего сердца.
«Я окончательно погиб! — думал он. — Теперь нет возможности поправить мое состояние. Мне остается одно — прекратить свою жизнь, чтобы не видеть ни себя, ни родителей своих в несчастии».
Эта мысль глубоко запала в его сердце. Он начал придумывать способ, как лишить себя жизни. И решился прекратить свои дни через повешение. На чердаке своего дома он уже устроил петлю и хотел возложить ее на себя, как вдруг на ум его пришло перекреститься. Со скорбью в сердце он взглянул на небо и сотворил молитву, сделав на себе крестное знамение.
И что же?
Как будто сильный ветер оттолкнул его от места возможной гибели более нежели на сажень. Он увидел тогда силу Божию, не допустившую его до погибели, и великий страх объял его так, что с лестницы чердака он не шел, а просто скатился. Долго не мог он избавиться от страха. Только наставления духовника, к которому он был вынужден обратиться, а затем исповедь и приобщение Святых Таин водворили мир в его душе.
— Да, батюшка! — закончил рассказчик свое повествование. — Я верю теперь, что крестное знамение имеет великую силу против искушений, делаемых нам врагом спасения, и жалки мы, если в борьбе с ним выпускаем из рук непобедимое оружие — Крест!
Безрассудная молитва матери о смерти своих детей
Рассказ священника Евфимия
Когда я был еще мальчиком лет двенадцати и учился в Севском училище, я и мой родной брат жили на одной квартире с двоюродными братьями Львом и Павлом Арембовскими. Старшему из них, Льву, было четырнадцать лет, а младшему, Павлу, — тринадцать.
Это было в 1815 году. На первой неделе Великого Поста мы все по обыкновению говели и в субботу приобщались Святых Тайн. А в воскресенье наш двоюродный брат Павел не пошел к обедне. С ним вместе остались еще несколько товарищей. Все они были здоровы, шутили, смеялись и пускали мыльные пузыри. Но вдруг Павел почувствовал боль и жар в голове, вышел в сени и через минуту, возвратившись оттуда, лег под святые иконы, как покойник, лицом кверху и захрипел.
Товарищи бросились сперва сказать хозяину, потом подошли к нему все вместе и с ужасом увидели, что он побледнел, как мертвый; глаза закрылись, из них пошел гной, а изо рта пена. Еще не окончилась обедня, как он уже закончил свою жизнь. Прибежал и семинарский врач с фельдшером: думали, что угорел покойник, хотя никто из оставшихся с ним товарищей не чувствовал никакого угара, да и комната в то время еще топилась.
Разными врачебными средствами мы старались возбудить в нем жизнь и чувство, считая смерть его припадком, хотя покойник никогда не был подвержен этому. Но через несколько минут обнаружились все признаки совершенной смерти и через три дня мы похоронили его.
Непонятной загадкой для нас осталась смерть нашего доброго брата. Но надо сказать вам, что он был сын диакона Мезенского уезда села Подмаслово. Отец его (наш дядюшка) жил в доме со своим отцом (нашим дедушкой), священником отцом Михаилом. Село это было в 180 верстах от города Севска.
Через неделю после смерти брата к нам в Севск приехал наш дедушка отец Михаил — старец почтенный и серьезный. Вошел он молча в нашу квартиру и, повидавшись с нами, сел на скамью и уперся рукою на стол. Я и брат Лев стояли перед ним и, видя, что он в большом огорчении, подумали, что, верно, получил он от кого-нибудь известие о смерти нашего Павла, а мы еще не успели ему написать, и стали по-детски утешать его.
— Что же, — говорим, — дедушка, делать! Так, видимо, Богу угодно…
А он между тем спрашивает у нас:
— Что же вы не все вместе? Где же ваш брат Павел? Или нет его дома?
— Да! — говорим. — Нет его с нами, дедушка!
— Да где же он? — с изумлением спросил старец.
— Он ушел от нас в Небесную страну!
— Что вы такое говорите? — не понял он наших слов.
— Да ведь он умер!
Старец всплеснул руками и залился слезами. Долго плакал он, а потом и говорит нам:
— Да ведь и отец его, драгоценный мой Иван Михайлович, помер. На первой неделе в воскресенье мы похоронили его.
— А у нас, — говорим, — в то самое воскресенье умер Павел!
Потом мы вместе с дедушкой поплакали. Сходили на могилу брата и отслужили панихиду.
Через четыре месяца после того настали семинарские каникулы. Мы с братом по обыкновению приехали домой в село Долгоруково Орловского уезда. А из дома через две недели покойный родитель наш, священник того же села, поехал с нами в село Подмаслово. Он хотел проведать дедушку и особенно — утешить бедную вдову-диаконицу, у которой было восемь человек детей, а самая старшая из них — дочь шестнадцати лет.
Приезжаем в Подмаслово и узнаем, что по смерти нашего доброго дядюшки Ивана Михайловича скорбь за скорбью, смерть за смертью посещала дом дедушкин. В тот же день, как схоронили его в Подмаслово, у нас в Севске скоропостижно умер брат Павел. Через месяц после того скоропостижно так же умер еще меньший брат Григорий, обучавшийся дома. Через месяц потом самая старшая дочь — невеста Евдокия. Она мыла белье на реке, поскользнулась и утонула. Из восьми детей — трех как не бывало в три или четыре месяца. И скорбь, и ужас водворились в доме дедушки, где, бывало, с таким весельем проводили мы время в своем детстве.
На другой день покойный родитель наш отслужил обедню за упокой дядюшки и его деток, сходили мы на их могилы и пришли домой. Все горько плакали, но больше всех убивалась по мужу и детям вдова Пелагия Ивановна. Родитель наш, сколько мог, уговаривал ее, утешал.
— Не ропщи особенно, — говорил он ей. — Умоляю тебя, не ропщи на Творца и Промыслителя. Хоть иногда и непостижимо для нас, но всегда мудро и праведно Он всем управляет по Своей Святой Воле.
А безутешно плакавшая вдова стала говорить ему:
— Неужели Вы думаете, батюшка, что я плачу только о разлуке с покойным мужем и детьми? Хоть и больно, и горько мне, но все-таки я надеюсь когда-нибудь на том свете увидеться с ними. Нет, мой родимый! Есть другая, важнейшая причина моих горючих слез.
— О, Боже мой! — тяжко вздохнула она и продолжала:
— Могу ли я, грешница, когда-нибудь омыть моими слезами тяжкую вину мою пред Тобою? Нет! Верно, никогда не умолить мне праведного гнева Твоего? Ведь я знаете, батюшка, что сделала? Как похоронила я мужа в воскресенье на первой неделе Великого Поста, пришла домой, и заперлась в своей спальне, да упала там перед образом Божией Матери и стала, как бешеная, роптать и богохульствовать.
«Матерь Божия! — кричу я. — Прибери же и моих родных деток!» Мало того, стала истошно вопить: «Забери их!.. Не нужны они мне!».
И вот, видите ли теперь, что со мною делается! О, помолитесь за меня, отец родной! Ах, Боже Мой!
— Что ты сделала, Пелагия Ивановна! — прервал ее мой отец.
— Да им-то, батюшка, ничего не сделала!
— Конечно, им-то ничего не сделала. По воле Божией они восхúщены были. «Чтобы злоба не изменила разума… или коварство не прельстило души…» (ср. Пр. Сол. 4:11 — ред.). Но тебе-то каково?
— Вот о том-то я и плачу, и рыдаю. В селах-то у нас, вы знаете, обедня бывает пораньше, а в городах попозже. Значит, в ту самую минуту, как я пришла от обедни, похоронили покойного. И стала я молиться в спальне. Сын мой скоропостижно умер за 180 верст, а потом умер и другой сын. Потонула и моя милая невеста, Дуняша. Не увидела она, бедная, и церковного венца на себе за мою страшную молитву. Так и полились на меня с тех пор беды за бедами, скорби за скорбями, выпрошенные и вымоленные мною самой.
1860 г.
Следствие материнского проклятия
Рассказ священника Гончарова
В Екатеринославской губернии в одном селении М. жила бедная вдова.
Вдовство, в каком бы состоянии или звании оно ни было, вообще тягостно. Но по преимуществу тяготит оно тогда, когда к скорбям одиночества и беспомощности примешиваются скорби от недостатка материальных средств, а это и было со вдовою Н.
Живя в крайней бедности, много страдала она по смерти мужа и много пролила горьких слез.
Наконец, подкрепляя себя усердной молитвой, она мало-помалу свыклась со своей долей. Тем более что Господь со смертью мужа не лишил ее всех утешений на земле. У нее остался семилетний сын Марк, и вот она часто со слезами стала молить Господа, чтобы Он сохранил ей это дитя и дал в нем подпору злополучной ее жизни. Господь, сжалившийся некогда над вдовою Наинскою, внял мольбам и этой бедной вдовы. Марк под бдительным надзором матери, доставлявшей своими руками все необходимое для жизни, вырос. Вот он уже и женат. Вот он уже и отец семейства. И вдова Н. имеет удовольствие нянчить внучат своих. Только все это не радует ее, она по-прежнему плачет и тоскует. Но причиною ее скорби был теперь уже Марк, не оказывающий любви и почтения матери. Еще с юношества установился у него нрав грубый и дерзкий, так что своими грубостями он нередко доводил свою мать до слез. Она утешала себя только надеждой, что он женится, Бог даст, и переменится к лучшему.
Но, к сожалению, женившись, Марк стал еще чаще обнаруживать свой дерзкий характер. Нередко без всякой причины он бил жену и детей, грубил матери и особенно не любил, когда она делала ему замечания и выговоры, касающиеся его несправедливых поступков по отношению к домашним.
Однажды Марк снова побил жену. Это было в отсутствие матери. Пришедши домой, мать стала со слезами уговаривать и увещевать его, чтобы он сколько-нибудь образумился. Между тем Марк, после побоев жены не пришедши в себя, обратился к матери со словами:
— Ты долго еще будешь ворчать, старая карга?
Он бросился к матери и в припадке исступления, схватив ее за грудь, несколько раз тряхнул с такой силой, что она больно ударилась головой об стену… Крик невестки, плач детей и стон матери заставили его выпустить из рук старуху и выйти из дома… Тогда сильно обиженная и униженная неблагодарным сыном мать в порыве оскорбленного сердца в слезах упала на колени перед святыми иконами и стала так молиться:
— Милосердный Господи! Ты видишь мою скорбь и обиду, причиненную мне моим неблагодарным сыном, который за мою любовь и попечение о нем заплатил мне бранью и унижением. Да будет он отныне проклят! Да не будет ему ни моего, ни Твоего благословения!
Горяча была, видно, и от сердца молитва обиженной матери, ибо Господь не замедлил совершить Свой суд.
Марк того же дня, кроме угрызений совести, почувствовал как бы лихорадочный озноб и дрожь по всему телу. Эта дрожь во всем организме с каждым днем возрастала все больше и больше и наконец усилилась до того, что, прежде работавший и сильный поселянин, он не мог владеть не только сохой и косой, но даже и ложкой. С трудом передвигался он с места на место и не иначе, как из рук жены и детей, принимал пищу.
Тут-то и начались его неизъяснимые страдания, душевные и телесные, за неисполнение одной из заповедей Божиих. Мать его вскоре умерла. Несмотря на то, что он чувствовал всю важность своей вины перед матерью, и смирился перед карающей его Десницей Божией, и из дерзкого и грубого стал тих и смирен, как дитя, жизнь его час от часу становилась тягостнее как для него самого, так и для его жены и детей.
Кроме горьких упреков от своего семейства, которые он постоянно слышал, ему часто приходилось томиться по целым дням от голода и жажды, а особенно в летнее, рабочее время, когда жена и старший сын его были в поле, а он оставался под надзором двух меньших детей, заботившихся больше об играх со своими сверстниками, чем об отце.
Через несколько лет по совету родственников и с помощью милосердных людей Марку купили лошадь и повозку, и он, чтобы не быть в тягость собственному семейству, стал ездить по ярмаркам, испрашивая себе Христовым Именем подаяний. Ездил он также и по местам, особенно прославленным присутствием благодати Божией, являемой в чудотворных иконах и мощах угодников Божиих, надеясь получить исцеление от тяжкого своего недуга. С этой целью посетил он Киевскую и Почаевскую Лавры, и Воронеж, и Святогорский монастырь, и другие. Но, видно, так велик и тяжел был его грех, что Господь, несмотря на слезные его просьбы, не даровал ему исцеления и в этих местах, прославленных проявлением особенной благости Его к людям…
Так протекло тринадцать лет страннической жизни Марка. Наконец в начале 1857 года болезнь Марка усилилась до того, что он от сильного трясения практически потерял способность говорить и не принимал никакой пищи, так что с часу на час стали ожидать его кончины и по его желанию привезли священника. Исповедовавшись с величайшим трудом со всей искренностью и сокрушением в своих грехах пред священником и приобщившись Святых Тайн, он почувствовал такое облегчение, что стал свободно говорить и, поучив довольно детей и родных, как тяжек грех несоблюдения пятой заповеди Божией, мирно почил о Господе с полным упованием, что ради страданий и скорбей земной жизни Господь дарует ему упокоение в жизни Небесной!
«Дети! От всего сердца почитайте отца своего и матерних болезней никогда не забывайте: помните, что вы родились от них, и чем воздадите им за то, что они сделали для вас?» (Ср. Cир. 7, 29-30). Делом и словом почитайте своего отца и мать, чтобы снизошло на вас их благословение, а не проклятие!
Журнал «Странник», 1861 г.
Спасительный промысел Божий о покаянии грешников
Рассказ протоиерея Дубовского
«Не хощу смерти грешника, но еже обратитися и живу быти ему» (Иез. 33, 11), — говорит Господь, и как иногда поразительно в жизни, и особенно при смерти, подтверждается эта святая истина самим опытом.
Милосердный Господь, ищущий только спасения человека, часто и самых упорных грешников при конце их жизни приводит к покаянию.
В продолжение тридцатилетней моей службы в сане священника мне случалось исповедовать таких кающихся, которые по 20 лет и более скрывали свои тяжкие грехи в тайне своего сердца, не исповедуясь в них своим духовным отцам. Но потом покаяние их было таким искренним, что нельзя не благоговеть к путям Промысла и силе Божией, совершающейся в самой закоренелой человеческой греховности.
В 1869 году 10-го числа ноября потребован был я для принятия исповеди к двум больным крестьянам моего прихода в одно и то же время: в деревню Блиново к Степану Леонову и в деревню Станки к Самуилу Артемьеву.
Надлежало поспешить к слабейшему из них.
Расспросив присланных, я узнал, что крестьянин Станков Самуил Артемьевич весьма тяжко болен, желает как можно скорей священника и что мне едва ли застать его в живых. Поэтому к нему, как к слабейшему, я и отправился. Верстах в семи от погоста Н., то есть от места моего жительства, дорога разделялась, то есть одна шла направо, в деревню Станки, а другая налево, в деревню Блиново.
Погрузившись в задумчивость, размышляя о многотрудной нашей жизни на земле, я вовсе не заметил, что лошадь вместо того, чтобы повернуть вправо, куда я поспешал к слабейшему больному, поворотила влево, и я осмотрелся только тогда, когда подъехали к деревне Блиново.
Это обстоятельство совершенно смутило мой дух. Я полагал, что крестьянина Самуила Артемьева не найду уже в живых, когда ворочусь в деревню Станки, и что ответственность перед Богом в его нераскаянности должна лечь на мою душу. Нечего было делать. Оставалось как можно скорее исповедовать больного Степана Леонова в деревне Блиново и потом поспешить в Станки к опасно больному Самуилу.
Вошедши в избу, я увидел старика (ему было от роду 67 лет), стоящего перед иконою Казанской Божией Матери, перед которой горела восковая свеча. Он держался левой рукой за скамейку и молился. Невестка старика тотчас подошла к нему и сказала:
— Батюшка приехал!
При этом он оглянулся, и на глазах его я заметил крупные слезы. Старик отер их рукавом своей рубашки и начал вставать. На слова мои: «Не торопись, Степан, кончай молитву!» — Он ответил: «Я окончил уже, батюшка!».
Невестка помогла ему подняться с земли, и он сказал ей:
— Пусти меня!
Сам подошел ко мне под благословение и сказал:
— Слава Богу, что Он принес Вас, батюшка. Я соскучился без Вас и стал молиться.
Не замечая в нем особой слабости, я сказал ему:
— Ты, Степан, не очень слаб и можешь еще жить, а вот я еще не посетил очень слабого Самуила Леонова в Станках, и Бог знает, найду ли его в живых.
— Нет, батюшка! — возразил мне старик. — Бог знает, переживу ли я сегодняшний день. У меня водянка, и вот уже подпирает под грудь. От нее скоро умирают, а я — великий грешник и не знаю, как еще мать-земля меня носит….
При этих словах слезы полились из его глаз. Я велел ему молиться, а сыну поддерживать его под руки, так как старик приметно слабел.
Я начал читать молитвы к исповеди. Во все время чтения их старик молился со слезами. По окончании молитв, когда все семейство удалилось из избы, я приступил к исповеди. Исповедь была самая чистосердечная, со слезами и вздохами, как человека, глубоко прочувствовавшего свое гибельное состояние.
В самом деле, грехи были тяжки, а некоторые из страха и стыда не исповеданы более 20 лет ни одному священнику, хотя, по его сознанию, эти грехи не выходили из его памяти и постоянно раздражали совесть. Подходя теперь к исповеди, старик был под влиянием какого-то необыкновенного ужаса и не находил в себе решимости исповедовать свои грехи и сознаться в них пред отцом духовным. Он начал было несколько сомневаться, простит ли его Бог.
Воодушевив больного надеждою на милосердие Божие, и напомнив о заслугах Христа-Спасителя, пролившего за спасение нас, грешных, Пречистую Свою Кровь, и утешив его примерами разбойника на кресте и других великих грешников, помилованных Спасителем Господом за чистосердечное их раскаяние, я разрешил его и удостоил причащения Святых Животворящих Тайн, как грешника глубоко раскаявшегося и с живой верой и надеждой на милосердие Божие приступившего к сему Великому Таинству.
Причастившись Святых Тайн, крестьянин Леонов благодарил Бога, стоя на коленях, слушал чтение молитв, положенных после причащения, и потом сказал:
— Теперь мне стало легко на душе, батюшка. Никакая дума не тревожит меня, и я не боюсь смерти, хотя бы и сейчас умереть, если Богу угодно!
Простившись с Леоновым, я поспешил в деревню Станки к больному Самуилу Артемьеву и, нашедши его действительно очень слабым, исповедал и причастил Святых Тайн. Выходя от него, я уже не надеялся видеться с ним в этом мире.
Но как дивны и непостижимы пути Небесного Промысла! Спустя два часа по прибытии моем домой явился из деревни Блиново старший сын старика Степана Леонова за дьячком для чтения псалтири по усопшем и рассказал, что по выезде моем отец его прожил не более получаса. Легши в постель и чувствуя предсмертную слабость, он велел всем детям и внукам подойти и принять его благословение. Едва он успел благословить и начал говорить: «Живите…» — вдруг закрыл глаза и немедленно скончался.
Итак, тот, который, по моему мнению, мог еще прожить несколько времени, тотчас умер, а другой, опасно больной, по моему и общему мнению семейных лежавший на смертном одре и с минуты на минуту ожидавший кончины, доныне еще жив и здоров.
Милосердный Господь в этой моей поездке к больным Сам управлял всеми обстоятельствами. Отправься я прежде к больному в деревню Станки, не застать бы мне в живых крестьянина Леонова.
Дивны пути спасительного Промысла Божия о покаянии грешников!
Вразумление у гроба святителя Петра
Рассказ офицера
Это было лет сорок тому назад.
Стояли мы на зимних квартирах недалеко от Варшавы и проводили время днем в смотрах и учении, а по вечерам, особенно зимним — в долгих беседах.
Однажды в наше подразделение был зачислен офицер из другого полка. Офицер скоро перезнакомился со всеми нами, но особенно сошелся он со мной, как и я с ним. С первого знакомства мы стали с ним друзьями, как бы своими людьми. Р., так звали новоприбывшего в наш полк офицера, оказался человеком добрым, честным, благородным, вообще таким, что на всех производил приятное впечатление и всех невольно привлекал к себе. Ему было лет cорок пять — возраст, уже перешедший половину человеческой жизни и поневоле заставлявший относиться ко всему с некоторой серьезностью и рассудительностью. Таким был и Р., который, кроме того, поражал всех обширностью своих познаний и большой начитанностью. Поэтому я все свое свободное от занятий время проводил с ним.
Что это были за беседы! Скажу только, что, кроме приятности времяпрепровождения, я многому научился из этих бесед, как человек, не обладавший такими познаниями и такой начитанностью, как Р.
Так шло время. Наступала Святая Пасха. В один из дней Страстной недели я стал чистить свои образа (родительское благословение), которыми я очень дорожил, и считал всегда святою обязанностью их чистить накануне праздника Воскресения Христова. С благоговением принялся я за дело. В это время входит Р., сел на стул, посидел немного молча, поглядел на меня и сказал:
— Охота, брат, тебе заниматься такими пустяками? Только время тратишь! Ну к чему ты чистишь эти вещи?
Риза выпала из моих рук. С удивлением посмотрел я на Р., думая, что он шутит. Но лицо его было, как и всегда, серьезно, и я ответил ему:
— Как — к чему чищу? — и подробно рассказал своему другу, что эти иконы дороги мне как родительское благословение.
— Нечего тебе делать, вот и нашел дело. Все это пустяки, лишнее! — отвечал Р.
— Что лишнее? — спросил я, более удивленный.
— Да вот, в религии… — сказал Р. каким-то убежденным тоном и, поспешно встав, пожал мне руку и тотчас же вышел.
По уходе Р. я долго стоял на месте не двигаясь. Слова моего друга удивили меня до крайности. Немного поразмыслив, я вспомнил, что Р. не верует и ведет себя не как христианин, а имеет какие-то особые убеждения, мало меня интересующие. Но теперь я решился обратить на них свое внимание.
С этого времени беседа наша касалась преимущественно религиозных вопросов. Р. охотно говорил об этих предметах. Мы старались, конечно, каждый доказывать свои убеждения. Спорили, горячились и все-таки оставались каждый при своем мнении. Отвергая всю обрядовую сторону христианской религии, Р. видел сущность ее только в слушании внутреннего голоса Божества, который руководит человеком, а с внешней стороны религия должна будто бы проявляться только в помощи бедным и несчастным и вообще в милосердии.
Горько мне было слушать такие речи, и я дал себе слово во что бы то ни стало обратить Р. на путь истинный. Я убеждал его, молил Бога вразумить его и возымел надежду, что милосердный Господь, желающий всякому спастись, не даст погибнуть Р.
И надежда не обманула меня. Однажды в конце августа по обыкновению я беседовал с Р. за самоваром. С некоторых пор мне стало казаться, что будто бы Р. немного сдается на мои увещевания. Это, конечно, меня очень радовало, и я еще более приложил старания для убеждения Р. В упомянутый вечер я спросил его:
— Кто твой небесный тезоименитый покровитель? Кажется, святой Петр, митрополит Московский?
— Может быть, и он, — сказал Р., которого звали Петром.
— Так вот что, друг мой! Поедем-ка в Москву, и там ты воочию увидишь мощи твоего покровителя святого Петра, великого чудотворца.
Вслед за тем я рассказал ему житие святителя. Р. слушал меня с большим вниманием, не перебивая. Я наконец закончил рассказ и ожидал, что скажет Р. Но он сидел с поникшей головой. Так прошло несколько минут. Наконец Р. взглянул на меня и сказал решительным голосом:
— Не знаю, что делается со мною. Пожалуй, поедем в Москву. Я не прочь прогуляться.
Нечего и говорить, как я обрадовался такому решению своего друга. Через неделю мы уже были в Москве. Переночевав и отдохнув в гостинице, мы отправились прямо в московский Успенский собор. Вошли. Собор был пуст. Время шло предобеденное. Подойдя к гробнице святителей, я прежде всего поклонился гробницам святых Фотия и Киприана. Р. шел за мной, с любопытством глядел на все и внимательно слушал мои объяснения, хотя не молился и не прикладывался. Затем мы вошли в придел святых апостолов Петра и Павла, где почивают мощи святителя Петра. Мощи были покрыты. В приделе никого не было, только в главном алтаре что-то убирали.
— Вот! — говорю я. — Мощи твоего покровителя святителя и чудотворца Петра.
Р. вздрогнул при этих словах и вперился глазами на раку. С волнением я приложился к мощам святителя, как будто чего-то ожидая, и, выйдя из придела, встал перед иконою Смоленской Божией Матери.
Вдруг слышу рыдания Р. Я поспешил в придел святых апостолов. И что же вижу? Р. лежит на ступеньках раки и горько плачет. Подошли сторожа. Посмотрели. И равнодушно продолжили свое дело. Я стоял сзади своего друга и даже не пытался утешать его. Пусть, думаю, выплачется — слезы смягчают душу! Но проходит несколько минут, Р. не перестает рыдать. Тогда я поспешил к нему, при помощи сторожей поднял его, вывел из Собора и усадил на извозчика.
Дорóгой Р. не проронил ни одного слова, только по временам вздрагивал и из глаз его катились слезы. Приехали в гостиницу. Я уложил Р., посоветовал ему успокоиться и, встревожившись не на шутку, заговорил о докторе. Но Р. отрицательно качнул головой. Тогда я вышел в другую комнату, думая, что, может быть, один он скорее успокоится, и был в каком-то томительном ожидании. Тем не менее, на душе у меня было легко и радостно. Через полчаса слышу — зовет меня. Вижу, что еще лежит, но плакать перестал.
— Вот что я тебе скажу, — обратился он ко мне, когда я сел возле него. — Дай мне руку. Поздравь меня и выслушай. Я отныне — православный христианин. Бог обратил меня на путь истинный, — при этом Р. перекрестился и продолжил: — Когда ты вышел из придела, я остался перед ракой один. На душе было невыносимо тяжело. Я схватился за край раки, внимательно стал всматриваться в мощи и думал: «Неужели здесь лежит нетленное тело?».
И вот, к моему ужасу, покров шевельнулся, из гроба поднялся благообразный старец и сел в раке. Вперив свой взор в меня, тихо и кротко он сказал:
— Перестань упорствовать! Оскорбляешь ты меня! Верь по-православному и спасешься!
С этими словами все пришло в прежний порядок.
Святой старец по-прежнему покоился в гробнице. Покров так же, как и прежде, лежал на нетленных мощах его. Но взгляд святителя пронзил меня и перевернул всю мою душу. Это был такой небесный, чистый взгляд, которого и описать невозможно. Я зарыдал как ребенок, и с меня как будто свалилась какая-то тяжесть. Мне сделалось легко и приятно. Ум просветился, все прежние мысли показались пошлыми и глупыми, а твои слова — святою истиною. Святость православной веры вытеснила все другое в моей душе, и только она одна наполняет ее. Теперь я нашел истинное блаженство и понял, что только тот счастлив, кто православно верует, кто поучается в слове Господнем и слушает Святую Церковь как свою любящую мать. Слава тебе, Господи!
При этих словах Р. перекрестился и слезы снова полились из его глаз. Не мог удержаться и я. Припав на грудь друга, долго-долго плакал я слезами радости и благодарности Богу за обращение на путь истины заблудшего….
На другой день мы оба отправились в Собор, отстояли там обедню и отслужили молебен святителю Петру. Горяча была наша молитва. От глубины растроганного сердца благодарили мы благоволившего нам Бога. Так провели мы в Москве неделю и вернулись в полк. С тех пор Р. сделался неузнаваем. Прежнее равнодушие его к обрядам Православной Церкви исчезло. Теперь он сделался ревностнейшим христианином и таким оставался до конца своей жизни. Умер он в 60 лет, безропотно перенося тяжкий недуг, и с благоговением принял напутствие в загробную жизнь Святыми Таинствами.
Записано со слов священника В. Петрова
Случаи помилования Божия в опасностях жизни
Рассказы священника
В 1844 году на двенадцатом году от рождения во время летних каникул я гостил в Коломне у своего деда, диакона Покровской церкви. В один прекрасный вечер вместе с его сыном, моим дядей, учителем Московского училища, я отправился к родному брату моей бабушки, дьячку Никольской церкви. Но в его доме нас никто не встретил. Дядя мой в ожидании хозяев, бывших в это время в саду, стал рассматривать висевшие на стенах большой комнаты картины и другие вещи. Приметив на шкафу ружье, достал его и, держа в своих руках, спросил меня:
— Ваня, ты видел, как стреляют?
— Нет! — отвечал я.
— Сейчас покажу тебе, — хладнокровно заметил неосторожный дядя.
В самом деле, он навел ружье на меня, начал целиться и только хотел поднять курок, как послышалось сзади:
— Оно заряжено!
Так вскричала дочь хозяина дома, войдя в переднюю из смежной столовой комнаты, где занималась рукодельем. Несмотря на то, что кроме нее никого из домашних не было, она сначала не хотела по своей застенчивости показываться молодым гостям, но, слыша разговор наш, подумала и решила выйти к нам, победив ложный стыд.
Малейшее замедление ее было бы гибелью для меня. Но я был спасен благостью Того, без ведения и воли Которого и «волос с головы вашей не пропадет» (Лк.21:18).
Помню, как вслед за словами: «Оно заряжено» — у дяди задрожали руки. Он побледнел и не вдруг мог говорить. На вопрос его: «Зачем зарядили ружье?» — девица отвечала: «Отец боится воров».
* * *
В 1862 году в Вологде я однажды переходил через улицу и был задумчив. Прямо на меня мчалась неизвестно чья лошадь, запряженная в легкие сани, но я не замечал грозящей мне опасности. Я непременно был бы задавлен или страшно изувечен, если бы один мальчик не закричал мне:
— Батюшка, лошадь на Вас!
Едва-едва я успел отсторониться. Мальчик, предостерегавший меня в минуту опасности, был нищий, которому я иногда подавал милостыню в своей келье. Не напрасно же сказано в Священном Писании, что «милостыня избавляет от смерти» (Тов. 12, 9). И если бы мы постоянно соблюдали повеления Божии, то Господь Бог чаще соблюдал бы нас от всякого зла.
* * *
Вот еще один памятный мне случай избавления Божия от смертельной опасности.
Возвращался я в полуоткрытом тарантасе из Заоникиевской Владимирской пустыни, отстоявшей в четырнадцати верстах от Вологды.
Это было в июне 1860 года.
Погода стояла ясная. Воздух после дождей дышал приятной прохладой. Лошади весело бежали по торной дороге. Надо было спуститься с довольно крутой горы, внизу которой расположена не помню какая деревенька. И здесь тройка лошадей, не удержанная вовремя, быстро понеслась. Между тем на середине дороги у самого склона горы беззаботно сидели малые крестьянские дети и чем-то забавлялись.
Ямщик, увидя их, будучи не в силах смирить лихих лошадей, начал махать рукой и кричать изо всей мочи. Но дети оставались глухи и неподвижны. Я положительно страдал в эти минуты и горько сетовал на матерей, не помня слов Самого Господа: «Егда забудет жена отроча свое, еже не помиловати исчадие чрева своего? Аще же и забудет сих жена, но аз не забуду» (Ис. 49, 15).
Уже в нескольких саженях от нас дети вскочили со своих мест и разбежались в стороны; только один малютка еще не трогался. Наконец, испуганный криком ямщика и прочих детей, он поднялся на ноги, хотел бежать да на грех упал. В это момент промчалась наша тройка, потом вскоре остановилась. Слышу неистовый крик крестьян, сбежавшихся на улицу из своих изб. Но, к изумлению моему и невыразимой радости, узнаю, что младенец жив, невредим и уже на руках своей матери, которая нежно целует его и поистине «не помнит скорби от радости, как будто он только что родился в мир» (ср. Ин.16:21).
Ни пристяжная с левой стороны, ни колеса не задели его, тогда как головкой он был обращен к тарантасу и трудно было подметить расстояние, отделявшее его от линии, очерченной колесами!
— Подлинно, Господь хранит младенцев!
Чудесное спасение от смерти
Рассказ-быль
В 1867 году по делам торговым я был в Кокане и в январе 1868 года возвращался оттуда в Россию через Казалы по Каракумской степи. Со мною были два спутника: один русский, другой — наш проводник — киргиз. Мы ехали на трех верблюдах. Большую часть пути до европейской границы русских владений мы проехали благополучно. Но 15-го января мы подверглись опасности погибнуть.
В этот день погода стояла сначала тихая, хотя весьма холодная, потом поднялся степной буран. Мороз становился все сильнее и сильнее и доходил до сорока градусов. Дорогу нашу стало заметать; наконец совсем замело. Ни впереди, ни по сторонам ничего не было видно. Метель слепила глаза. Мы и верблюды дрожали от холода. Мы не только сбились с дороги, но совсем потеряли направление, по которому надлежало вести путь. Не зная, куда движемся, мы плутали в степи более двенадцати часов.
Верблюды остановились и стали издавать жалобный крик. Нами овладела тревога, напала тоска. Ночное время еще более затрудняло наш путь. Проводник киргиз говорил, что добром наш путь не кончится. От этого бурана обыкновенно погибают большие караваны, которые заносит снегом, и недавно было подобное несчастье. Киргиз не преувеличивал опасности. Скелеты и кости животных и людей, валяющихся на дороге и по сторонам, свидетельствовали, что он говорит правду. Тогда я, видя безвыходность нашего положения, предложил моим спутникам помолиться Богу о помощи и предаться Его святой воле.
— Хотя не все мы исповедуем одну веру (киргиз был магометанин), — сказал я им, — но помолимся вместе.
Мы пали на колени, и каждый из нас стал про себя молиться. Я вспомнил Москву, мою родину, покойных родителей и близкого к нам митрополита Филарета, а также всех моих родных. О смерти митрополита Филарета я еще тогда не знал, но за год до этого я был у него для получения благословения в дальний путь. Перебрав в памяти всех упомянутых дорогих мне людей, я стал мысленно изливать мои чувства пред Богом.
«Господи! За что меня наказуешь, посылая мне смерть вдали от родины, в безлюдной степи, без христианского приготовления? Видно, по грехам моим стóю я того. Но разве не достоин я Твоей милости? По крайней мере, ради моих благочестивых родителей, ради святителя — нашего общего молитвенника вспомни меня Твоею милостью, не дай мне и моим спутникам умереть в настоящем положении, укажи нам средство спасения. Впрочем, да будет во всем Твоя святая воля!»
Молитва моя была горяча, вся душа излилась в ней. Кончив молитву, я поднялся на ноги и прислонился к верблюду. На меня напала дремота, от усталости ли или от начинающегося в теле замерзания, и в этом состоянии мне представилось следующее зрелище.
Приближается ко мне процессия. Впереди ее идет митрополит Филарет в полном облачении, с крестом в руках. Его ведет под руку мой родитель, за ними следует моя мать и все мои сродники, живые и умершие. Слышал я, как мой родитель сказал митрополиту Филарету:
— Благослови, Владыка, сына моего Василия!
Владыка осенил меня своим благословением и промолвил:
— Бог благословит тебя благополучно продолжать путь!
С этим видение окончилось. Дремота прекратилась, и вдруг до слуха моего донесся лай собаки.
С нами никакой собаки не было. Лай собаки услышал не я один, но и мои спутники, и даже верблюды, которые сейчас же сами собой, без нашего понукания, повернули в ту сторону, откуда раздался лай, и бодро пошли по этому направлению.
Собака бежала впереди нас, лай ее сопровождал нас во все продолжение нашего пути на пять или более верст и прекратился не прежде, чем мы достигли киргизского аула. Итак, мы были спасены. В киргизской юрте отогрели мы свои закоченелые члены и подкрепили себя верблюжьим мясом. Потом спросили хозяев:
— Где же та собака, которая привела нас к жилью?
Наш вопрос удивил их. Они ответили, что никакой собаки у них нет, даже во всем ауле не бывало. Значит, появление собаки и услышанный нами лай были делом чудесного проявления промышления Божия.
Горяча была наша благодарственная молитва Господу, спасшему нас от гибели. Он помиловал не меня одного, но и спутников моих, послав к нам для избавления от неминуемой беды благоугодивших Ему святителя Филарета и моего родителя, в чем я уверен.
Вечная память вам, мои благодетели! Продолжайте вашими молитвами охранять меня и весь род наш на житейском море, волнуемом бурею искушений и напастей, пока не придем все к тихому пристанищу и не вступим в вечное блаженное общение с вами.
Прибавлю, что через день после описанного события мы доехали до Уральского укрепления, и при нас в это время привезли сюда 15 человек — замерзших киргизов. Они погибли в Каракумской степи от того самого бурана, от которого Господь чудесно спас меня и моих спутников.
Из журнала «Душеполезное чтение», 1872 г.
Подвиг христианской любви
Рассказ-быль
Однажды поздним вечером в августе 1860 года в городе Н. подле сада богатого гражданина проходила девица Мария К. Поравнявшись с беседкой, бывшей в саду, она намеренно оборотилась и сквозь решетку увидела при лунном свете нечто темное и движущееся у большого дерева. Любопытство ее побудило остановиться и всмотреться пристальнее. Вскоре она с ужасом заметила, что кто-то привязывает веревку к толстому суку сосны. Послышался печальный голос:
— Говорят, что самоубийце нет прощения, что он должен идти в ад, но кто может противиться судьбе? Несчастная жена! Бедные дети! Не оставь их, Господи! Услышь последнюю молитву грешника!
Голос умолк. Вслед за тем говоривший после некоторой нерешительности перекрестился и накинул себе на шею петлю. Мария, окрыляемая жалостью, забыв страх, бросается через забор в сад, и с большим трудом успевает перерезать веревку перочинным ножом, случившимся при ней на этот раз, и ослабляет петлю на шее полумертвого человека. Им оказался сам хозяин дома и сада Иван Петрович.
— Что заставило Вас решиться на такое ужасное дело? — спросила Мария пришедшего в чувство Ивана Петровича.
— Кто ты, оказавшая мне не вовремя услугу, я не должен жить! — проговорил несчастный.
— Почему же так?
— Потому что я разорил жену и детей. Потому что я завтра — нищий, и поведут меня в тюрьму. Можно ли вынести этот срам?
Бедный Иван Петрович забыл о вечном позоре и казнях, ожидающих грешника в будущей жизни. Между тем он уже был в состоянии встать на ноги и узнал свою избавительницу.
— Что заставило Вас, почтенный Иван Петрович, покуситься на свою жизнь? — снова спросила Мария.
— Повторяю! Я разорил своим мотовством себя, жену, бедных детей и некоторых добрых знакомых, доверивших мне значительные суммы, и нет средств поправить это зло.
В душе Марии между тем родилась мысль, без сомнения, обрадовавшая святых ангелов: спасти несчастного Ивана Петровича и его семью, пожертвовав собственным состоянием.
— Вы знаете, — сказала она ему, — что я имею состояние. Живите! У Вас прекрасная молодая жена. У Вас дети. Постарайтесь устроить их счастье. Если не достанет моего имения на уплату ваших долгов, я продам мои драгоценности, мои платья. Я одинока, имею руки, кое-чему полезному обучена, с голоду не умру. Дайте слово принять мое предложение. Вы поправитесь, и этого с Вашим умом при помощи Божией можно ожидать; тогда возвратите мне, что будет можно.
Изумленный Иван Петрович не знал, что сказать. В нем происходила тяжкая борьба. Наконец с громким рыданием он пал к ногам своей избавительницы и сказал:
— Нет, нет! Никогда не соглашусь я ввергнуть в нищету еще и тебя, ангельская душа! Никогда, никогда!
— Будьте хладнокровнее, — возразила Мария, — и выслушайте меня!
Тут она с жаром изложила причины, почему он должен решиться принять ее предложение.
Язык испытанной добродетели красноречив и наконец поколебал Ивана Петровича. Он остался жить и заглаживал свои проступки жизнью, приличной благоразумному человеку и христианину.
Нужно, впрочем, сказать, что Иван Петрович, разорившийся от безумной расточительности, несмотря на свое легкомыслие, не был жестокосерд и глух к мольбам несчастных. Он щедро помогал всем, кто просил его помощи. И, верно, за молитвы сирот и бедных Всемилостивый Господь и помиловал его, избавив от самоубийства. Ныне Иван Петрович — примерный христианин и доселе оплакивает грехи своей молодости, но в особенности безумное свое посягательство на жизнь.
Мария через полтора года после своего христианского подвига перешла в вечные обители Отца Небесного. Она, прежде любившая богатые наряды и щегольство, после своего доброго дела совершенно изменилась и вела уединенную жизнь. Любимым ее занятием было чтение Библии и «Житий святых». Мы не будем перечислять всех ее добродетелей, но нельзя обойти молчанием одно важное обстоятельство, замеченное при ее кончине.
Вскоре после приобщения Святых Тайн, уже чрезвычайно слабая, она, как бы встрепенувшись и обрадовавшись чему-то, сказала тихим, но слышным для духовника и прислуживавшей ей старушки голосом:
— О! Как многомилостив Господь! Целый полк провожатых за такое малое дело!.. Слава Тебе…
И с этим словом скончалась.
Подлинно, великую имеет силу истинная любовь христианская, и велика за нее награда от Господа!
Последняя лепта
Рассказ
Екатерина Николаевна Громова поспешно отперла дверь своего грязного номера, который сдавался жильцам внаем, лихорадочно сорвала с головы шляпку и устало опустилась на просиженный диван.
— Всё кончено, — произнесла она.
Действительно, для нее, по-видимому, всё было кончено. В последнем уроке ей отказали из-за отъезда ученика и его родителей в другой город. Что теперь делать? Как быть? Где найти теперь работу, а то уже все средства к отысканию ее перепробованы… Все до нитки заложено. В газетных объявлениях ничего подходящего нет. Все рекомендательные конторы исхожены. И нигде ничего удовлетворительного. Что же остается делать, чтобы не умереть с голоду?
Молодая женщина облокотилась на убогий преддиванный столик, положила голову на руки, глубоко и печально задумалась.
Припомнилась ей ее молодость. Родилась она не здесь, в шумной и душной Москве, а в одном из приволжских городов, где отец ее был очень солидный хлебный торговец. Матери своей она не помнит. Она умерла в тот год, когда родилась Катя, ее единственное детище. Отец остался вдовым. Катя росла в холе и довольстве, окруженная роскошью и внимательным уходом дорогих воспитательниц, которых отец, не жалея денег, нанимал для нее.
Не такую судьбу пророчил ей ее отец, владевший сотнями тысяч рублей. Но неудачная навигация, потопившая много незастрахованной муки, несколько банкротств крупных фирм, с которыми отец Кати вел дела, и — он сам нищий, сам банкрот.
Вся его роскошная обстановка и дорогие рысаки пошли с молотка для удовлетворения кредиторов. Едва-едва удалось спасти кое-какие крохи, чтобы увезти ее, Катю, отсюда и обеспечить ее воспитание.
Катя поступила в гимназию, а отец ее вернулся домой, где, как слышала Катя, он с горя запил и, опускаясь все ниже и ниже, умер где-то чуть ли не под забором чужого двора. Катя много плакала и сильно горевала об отце, но помочь ему, пока он еще был жив, конечно, ничем не могла. Она в то время была очень мала и сама еще только училась. Да и теперь, взрослая и уже выучившаяся, чем бы помогла она ему в теперешнем своем положении? Разве только тем, что вместе голодали бы здесь? Помощь неутешительная и вряд ли нужна была бы старику-отцу.
Екатерина Николаевна задумалась, и горько стало у нее на душе.
— Да ведь этак жить страшно… Да совсем не стоит жить! — воскликнула она, обводя с тоской отчаянным взглядом голые стены своей бедной комнаты.
Голодно, холодно, и впереди ничего такого, что бы могло утешить или хотя бы вселить в сердце радостные надежды на лучшее будущее.
— Да! Да! Лучше смерть… — продолжала она вслух свои грустные думы. — Лучше умереть теперь, пока еще не успела никому задолжать, следовательно, пока еще меньше будут ругать и проклинать по смерти. Чем больше таких дней, тем больше мучений, больше долгов… ну хоть своей квартирной хозяйке, например, и тем больше потом проклятий от нее. Да и самой тоска… мука… Лучше разом, не задумываясь… Что ж, видно, судьба моя такая, и от судьбы, говорят, не уйдешь.
Таким мрачным размышлениям предавалась Екатерина Николаевна и вдруг с отчаянием решила: пойду утоплюсь, и все тут… Когда-нибудь найдут и, может быть, пожалеют, а может быть, тоже проклянут за то, что хлопот причинила собою. Э… да все равно. «Мертвые сраму не имут». И, надумав это, Екатерина Николаевна неторопливо одела опять шляпку, старательно завязала концы банта ее, оправила перед зеркалом выбившиеся волосы и внимательно оглядела себя, как будто отправляясь на деловой визит или на смотрины жениха. Затем она в последний раз обвела комнату долгим, пристальным взглядом, мысленно прощаясь с ее проплесневелыми стенами, в которых она провела столько бессонных ночей и тоскливых дней в ожидании перемены судьбы к лучшему, присела к столу, написала карандашом на клочке бумаги несколько строк и оставила эту записку открытой на столе, предназначая ее, очевидно, для полиции или для своей квартирной хозяйки. Выйдя из комнаты, она заперла дверь, а ключ по рассеянности положила в свой карман, хотя он был ей совершенно не нужен. Ведь больше она сюда не возвратится. Громова твердо решила это.
— Барышня, милая, куда это Вы? — спросила ее встретившаяся с ней на лестнице Устиновна, квартирная хозяйка ее.
— Так… прогуляться… К Каменному мосту, — сказала ей почему-то Екатерина Николаевна. Потому, может быть, что именно так она думала в эту минуту.
— Ну идите. Господь с Вами, прогуляйтесь… Хлебните свежего воздуха… подышите на вольной волюшке. Видите, Господь погоду-то какую послал… Благодать, да и только, — и она вежливо посторонилась, давая пройти женщине.
Погода была действительно прекрасная. Но Екатерине Николаевне было не до красот природы. Поспешно шла она к Москве-реке и, опустивши на грудь голову, думала:
«Через полчаса, а может быть, и меньше, меня не будет уже в живых. Что-то ждет меня на том свете? Что-то ждет меня за гробом?».
«Хорошо ли я делаю, что накладываю на себя руки? — вслед за этим подумала она. — Впрочем, все решено. Раскаиваться поздно».
И она прибавила шагу.
По дороге ей попалась часовня Спасителя. Екатерина Николаевна заглянула внутрь ее и увидела ряд горевших свечей, толпу богомольцев, в растворенные двери до нее донеслось стройное пение молебна.
«Разве зайти и помолиться в последний раз. Кстати, в кармане, кажется, есть пятачок. На хлеб его было берегла, но теперь мне хлеб уже не нужен… На том свете деньги тоже не нужны. Отдам же я его на свечку… Пусть это будет последняя моя лепта Господу».
Она вошла в часовню, отдала свой пятачок за свечку, стала в кучу богомольцев и принялась усердно молиться, молиться горячо вместе с ними, большей частью, как видно по одежке, простыми людьми. Чем дольше стояла она в часовне, тем молитвенное настроение все более и более захватывало ее. К концу молебна она чуть не рыдала перед иконой Спасителя, прося Его защиты в загробном мире.
Но вот молебен кончился. Богомольцы приложились к иконе и кресту и гуськом потянулись к выходу. Приложилась и Екатерина Николаевна и тоже пошла из часовни. «Ну, теперь последний путь, и он недалек уже. Мост почти рядом». Так думала она, поспешно идя к мосту и вся сосредоточиваясь на своей мысли, не замечая, что происходит вокруг нее. А сзади нее бежала какая-то старушка в поношенном атласном салопе и, заметя в числе вышедших из часовни ее, еще более ускорила шаг, совсем запыхалась, еле переводила дух, стараясь поскорее нагнать ее.
Екатерина Николаевна только что вошла на мост, как почувствовала, что кто-то дернул ее за рукав, да так сильно, что она против воли обернулась. Перед ней стояла Устиновна, мокрая от непривычно быстрой ходьбы и какая-то странная.
— Устиновна, что ты?
— Барышня, голубушка, насилу Вас догнала… Ох, пол-Москвы бы избегала, Вас искавши, да Вы сказали, что пойдете на Каменный мост, я и бросилась прямо туда, авось, мол, может, догоню либо навстречу попадется, так скорее порадую.
— Что такое, в чем дело?
— Голубушка моя, домой скорее, пожалуйста… Ох… силушки моей нету… — и старуха прислонилась к перилам моста. — Пожалуйста, домой… Там человек Вас ждет… Денег, денег он Вам принес, целую уйму…
— Что такое? Какой человек? Каких денег? — спросила растерянно Громова, не ожидавшая решительно ниоткуда получения ни гроша.
— Да там, увидите… какие деньги-то… В мешочках все… Похоже, золотые… В мешочках, говорю, за печатями.., а человек, принесший их, артельщик из банка. Он так нам сказывался.
— Решительно не пойму, — пожала Громова плечами.
— Еще бы тебе… где же сразу понять, ишь ведь озолотили тебя, мою голубушку… Да, по правде-то сказать, ты и стоишь этого… Добрая, как ангел Божий. Ну, известно, за добро-то Господь и посылает Вам.
Екатерина Николаевна вернулась вместе с Устиновной домой, и там действительно ожидал ее банковский служащий и вручил ей письмо и деньги, прося расписаться в получении в книге.
— Да, может, это не мне.., ошибочно… — лепетала Екатерина Николаевна.
— Нет, надо быть, Вам, потому что так сказано: Екатерине Николаевне Громовой, в такой-то улице, дом номер такой-то, квартира 7-я. Ведь Екатерина Николаевна Громова — Вы?
— Я, только я не знаю, от кого бы это и за что?
— А вот Вы вскройте письмецо-то да прочитайте; там, может быть, и узнаете, от кого это и за что.
Дрожащими от волнения руками Екатерина Николаевна отперла свой номер, разорвала конверт, вынула оттуда листок бумаги и прочла содержимое:
«Глубокоуважаемая Екатерина Николаевна! Ваш покорный родитель разорился благодаря краху моего отца. Но наша фирма мало-помалу поправилась и окрепла вновь, тогда как Ваш родитель по несчастному стечению обстоятельств весьма трагически и жалостно погиб. Принявши от отца ведение всех дел, я первым долгом считаю по возможности удовлетворить, хотя бы частично, наших кредиторов или наследников их. К настоящему времени они почти все удовлетворены, только с Вами не успел сделать этого, не зная адреса Вашего. Случайно я встретился в вагоне с теми лицами, в доме которых Вы давали уроки их детям, и от них я узнал Ваш адрес. Я поспешил поехать в Москву, чтобы здесь на деле проверить более точно свои догадки, и, к счастью, не ошибся. Стороной я собрал о Вас самые точные сведения, и, удостоверившись, что Вы и есть то самое лицо, которое я так старательно разыскиваю, я спешу через Н-ский банк препроводить Вам при сем часть моего долга Вам в размере двенадцати тысяч рублей, выдав на остальную часть вексель “по предъявлению”.
Простите, что я исполнил этот долг так поздно. Но пословица говорит, что “лучше поздно, чем никогда”.
Снимите же с моей души грех за преждевременную трагическую кончину Вашего дорогого и глубокоуважаемого родителя и за все невольно нами причиненные Вам горести и невзгоды.
Если простите, то черкните с сим посланным словечко, и я завтра зайду, чтобы попросить еще раз прощения лично.
Сын Н-ского купца, кандидат прав Владимир Пудиков».
Екатерина Николаевна прочла, и руки ее опустились. Она отлично знала того, кто писал ей это письмо. Это был ее хороший знакомый, почти друг детства, с которым она вместе росла, играла, забавлялась и с которым ей старики-родители их предопределили быть супружеской четою. Но налетела эта житейская буря-ураган и разметала их в разные стороны.
Так вот когда они встретились вновь! Bот при каких обстоятельствах! Всё это было в высшей степени неожиданно для нее: будто с неба свалилось или все еще происходило во сне. Да Екатерина Николаевна и почитала всё это за сон и ждала, что ее разбудят от него и она лишится этого капитала и того счастья, которое сулило ей это письмо. Но время шло. Ее никто не будил. Артельщик нетерпеливо топтался у порога и, осклабляя свои зубы, говорил:
— Ответец-то, барышня… Да на чаек бы с вашей милости. Больно устал.
— Ах! Сейчас-сейчас. — Громова написала с ним ответ, дала щедро на чай и потом, зажав в руке горсть золотых монет, побежала с ними опять к часовне Спасителя.
«Ведь это меня моя последняя лепта спасла, — думала она дорогой. — Не зайди я сюда помолиться… и всё уже было бы кончено… А теперь… Боже, сколько жизни, сколько радости, сколько счастья впереди!»
И она, упав со слезами благодарности на холодные плиты пола пред Ликом Спасителя, плача шептала:
— Верю, верю, Господи!
А. Н. Севостьянова
Книга
Рассказ
У меня есть жизнеописание преподобного Серафима Саровского. Книга эта мною очень любима, но до того уже истрепана, что я решила ее больше никому не давать.
Однако пришел мой хороший знакомый, увидал на полке книгу и так неотступно принялся просить ее, что я не выдержала и исполнила его просьбу.
— Но даю с условием, — сказала я, — чтобы никому Вы ее не давали: видите, какая истрепанная, и от переплета одни кусочки остались.
— Книгу буду читать сам и никому не покажу, — заверил меня мой друг, но не сдержал данного слова.
Книгу увидела у него соседка и так просила почитать о любимом святом, что он ее дал, строго наказав:
— Ни одному человеку не давайте, а то, если книга пропадет, что я хозяйке говорить буду!
Соседка и ее дочь с великой радостью читали полученную книгу и не спешили с ней расстаться.
За дочкой соседки ухаживал молодой инженер и наконец сделал предложение. Девушке он, видимо, очень нравился, но она отказала:
— Я верующая, а ты даже не крещеный. Венчаться со мной ты не пойдешь, в церковь пускать не будешь, а когда родятся дети, ты не позволишь их воспитывать так, как воспитала меня мама. Не пойду за тебя, слишком взгляды у нас разные!
Получив отказ, молодой человек еще несколько раз пробовал ее уговаривать, а потом, улучив время, когда девушка была на работе, пришел к матери и стал просить, чтобы она повлияла на дочь и та дала бы согласие.
Мать девушки отнеслась к гостю хорошо, но уговаривать дочь не согласилась. Видя, что он очень расстроен, она пригласила его выпить чаю и пошла в кухню приготовить все для этого нужное.
Пока она хлопотала, молодой человек сидел за столом и перелистывал лежавшее там жизнеописание преподобного; когда же хозяйка села с ним за стол, он стал просить дать ему прочесть книгу. Но никакие уговоры не подействовали. Тогда, поблагодарив за чай и попрощавшись, молодой человек схватил книгу и выскочил за дверь, пообещав на ходу скоро вернуть ее.
Бедная женщина боялась попадаться на глаза моему другу, так как дни шли, а молодой человек не появлялся.
Наконец она созналась ему во всем, что произошло, и они оба с тоской думали о том, что скажут мне.
Прошел месяц, другой. Настала пятая неделя Великого Поста, и вдруг молодой человек совершенно неожиданно появился перед матерью и дочерью.
— Дорогие мои, — радостно крикнул он, — я теперь ваш, я вчера крестился, а сделал все это преподобный Серафим. Когда я начал смотреть у вас книгу о нем, то она меня так заинтересовала, что я не мог уже оторваться. Потом мне захотелось узнать еще что-нибудь о вере, о Христе. Я начал читать, поверил и наконец крестился. А книга цела! Вот она! — и он положил ее на стол.
Книга была приведена в полный порядок и переплетена в дорогой и красивый переплет.
В таком чудесном виде она и была возвращена мне моим другом, но я думаю подарить ее жениху и невесте, так как мне кажется, что они имеют на нее большее право.
1961 г.
Рассказ голландского ученого
В 30-х годах нашего столетия один голландский ученый уехал в Индию для проведения научных изысканий. Работать ему пришлось где-то в глубине страны в тесном сотрудничестве с местными жителями. Прожив там довольно долго и войдя в доверие к окружающим, он узнал, что не очень далеко от того места, где он находится, на высоком горном плато живет пустынник, необыкновенный по доброте, уму и образу жизни. Индусы глубоко почитают его и, несмотря на то, что в силу природных условий доступ туда очень трудный, массами идут к нему за получением совета и утешения в своих бедах. Человек этот по своей национальности русский.
Ученый очень заинтересовался услышанным и с проводниками отправился к нему в горы.
Неизвестно, сколько времени они шли, только к шалашу пустынножителя они подошли ранним утром и сразу же увидели и самого хозяина. Одетый в убогую одежду, пустынник пил воду из протекающего возле его жилища ручья. Рядом с ним стояла большая гиена и тоже пила. Услыхав приближение людей, она зарычала и скрылась, а пустынник ласково приветствовал пришельцев. Поздоровавшись, ученый, пораженный видом дикого и свирепого животного, спросил хозяина хижины, как он не боится гиены и откуда она к нему приходит.
Пустынник опустил глаза и сдержанно ответил:
— Да это просто так, соседка!
Между ученым и пустынником завязалась беседа, которая часто прерывалась приходящими к пустыннику посетителями. Он так заинтересовал своего гостя, что тот прожил у него несколько дней. Когда же, наконец, ученый собрался в обратный путь, пустынник вынес ему из своего шалаша образ Богоматери «Всех Скорбящих Радость» и сказал:
— Отвезите Ее в православный храм, который находится в вашей стране, так как православие воссияет и в Голландии!
Рассказано в 1959 году
Требник Петра Могилы
Рассказ
Я болела в продолжение пяти месяцев, и, когда наконец окончательно поправилась, Эля увезла меня к себе на дачу. Было начало июня, и после душной квартиры я была просто опьянена массой зелени и цветов, которые увидела за городом.
Спали мы с Элей в мезонине, в светлой, как фонарик, комнате. На стене комнаты висел большой образ святителя Николая. Было мне, несмотря на внезапно наступивший холод и проливной дождь, удивительно спокойно и хорошо.
Отдохнув день, я принялась рассматривать, что есть интересного на полках Элиной библиотеки, которая находилась в чуланчике рядом с нашей комнатой. Но не успела я еще там разобраться, как сама Эля принесла и положила передо мной большую старинную книгу в кожаном переплете с медными застежками. Я ее бережно раскрыла и принялась листать. Чем дальше я разглядывала книгу и вчитывалась в славянский текст, тем больше волновалась, не веря своим глазам: передо мной лежал требник Петра Могилы. Я ничего толком не знала об этой книге, слышала только, что существует такая и что это — исключительная редкость. Я с трепетом держала в руках это сокровище, рассматривала со всех сторон, читала, разглядывала все детали, и все у меня внутри дрожало от радости. Помню, что я долго не могла расстаться с требником, закрывала его и вновь открывала; наконец поставила на место.
На другой день я вернулась домой и, войдя в свою светлую комнату, ощутила род какого-то не физического, а духовного удушья. Ничего подобного я в своей жизни не переживала, и это обстоятельство очень меня удивило, но потом все прошло, и я объяснила его тем, что на даче было уж очень хорошо по сравнению с домом.
Два дня спустя по приезде я пошла вечером к К. Д. После первых приветствий я принялась ей рассказывать о том, что видела требник Петра Могилы. К. Д. очень заинтересовалась моим рассказом, а потом сказала:
— Знаете, что я услыхала на днях от своей невестки о требнике Петра Могилы? У нее есть большой приятель, живет в К. Для работы, которую он сейчас пишет, ему по особому разрешению выдали из библиотеки на дом требник Петра Могилы. Был он старый, истрепанный, в пятнах воска и сала.
Историк принес его домой и положил на рояль, а сам ушел в другую комнату ужинать с семьей.
Не успели все сесть за стол, как в ванной с грохотом упала вдруг детская ванночка, потом загремел таз, свалилось еще что-то, затем стали падать вещи в той комнате, где все сидели. Кое-как окончив ужин, историк, очень удивленный тем, что поднялось в квартире, пошел в ту комнату, где оставил требник, но, открыв дверь, остановился: требник был раскрыт, и страницы его переворачивались сами собой. На другой день он сдал книгу в библиотеку, и в доме все успокоилось.
Рассказ меня заинтересовал очень, но я ему не особенно поверила и принялась снова придирчиво переспрашивать К. Д. Однако человек она была интеллигентный, образованный, до крайности правдивый и не склонный к преувеличениям. Невестка же ей все это рассказала со слов самого историка. Сама невестка неверующая, одно время занималась оккультизмом.
Прошел месяц, и я встретилась с ученым богословом, большим знатоком и любителем книг. Первым долгом я рассказала ему, что видела требник Петра Могилы.
— Это очень большая редкость, — сказал он, — завидую тому, кто имеет эту книгу. А знаете, между прочим, ее особенность? В том доме, где она находится, не водятся бесы, т. к. она содержит в себе особые заклинания против них.
— Так, может быть, мое состояние духовного удушья по приезде домой можно объяснить тем, что после пребывания в очищенной атмосфере я попала в обычную?! — воскликнула я и рассказала богослову все подробности своего состояния.
— Все может быть! — ответил он, выслушав мой рассказ.
Чудо на тропинке
Рассказ-быль
Одна моя молоденькая приятельница рассказала о себе такой случай.
Училась она и работала в Москве, а жила за городом где-то возле Немчениновки. Домой приезжала поздно, и возвращаться приходилось пустынной дорогой, а в одном месте надо было идти лесом. Самое же страшное было то, что там «пошаливали» — раздевали, грабили и даже насиловали.
Девушка очень чтила Царицу Небесную и особенно любила Ее образ «Нечаянная Радость» — во всех своих бедах она молилась ему.
Как-то зимой приехала она особенно поздно. Идет одна. Вошла в лес и спешит по узенькой тропинке, протоптанной в глубоком снегу. Вдруг видит, что навстречу ей идет мужчина. Ночь была лунная, и ей хорошо было видно, что он смеется и протягивает руки, чтобы схватить ее.
Непередаваемый ужас и омерзение напали на бедную девушку.
— Царица Небесная, Нечаянная Радость, спаси! — прошептала она, и такое ею сразу спокойствие овладело, что от страха ничего не осталось.
А мужчина подходит ближе и с изумлением смотрит, но не на девушку, а на Того, Кто находится сзади нее. И вдруг… он круто сворачивает в сторону, прямо в снег, и быстро-быстро уходит.
Девушка не смела оглянуться, но она чувствовала за собой, за своей спиной Спутника, а подойдя к концу леса, все-таки оглянулась — никого не было, только где-то далеко темнела спешно убегающая фигура того человека, который хотел на нее напасть.
Пальто
Рассказ старого директора
У нас в школе десятиклассники устраивали вечер. Это был не выпускной, а, кажется, в связи с днем 8 марта или что-то в этом роде.
Гостей было очень мало. Из педагогов только я с завучем, и потому решили няню у вешалки не оставлять, а обслуживать себя сами.
В конце вечера, когда все начали расходиться, ко мне подбегает плачущая девушка:
— Моего пальто нет на вешалке, а оно новое: мне его купили две недели тому назад, за полторы тысячи.
Я пошла с ней в раздевалку. Пальто нигде не было. Смущенные и взволнованные, десятиклассники обсуждали случившееся.
Делать было нечего. Пропажа ясна. Послали близ живущую ученицу домой за старым пальто для пострадавшей, а той я велела завтра приехать в школу с матерью. На другой день я вызвала нашего юриста, и решили так: родители пусть подают на нас в суд, а мы по решению суда уплатим стоимость пальто. Так все и сделали, и думать об этом деле забыли.
Наступил новый учебный год. Я сидела у себя в школьном кабинете. Стук в дверь. Входит девушка, здоровается, называя меня по имени и отчеству. Вид у нее взволнованный. Чтобы завязать разговор, спрашиваю, откуда она меня знает.
— Училась в вашей школе в девятом классе. Но очень недолго. Я у вас весной на вечере была в школе, меня девочки пропустили, как прежнюю ученицу!
Девушка опустила голову и замолчала, сжимая в руке что-то.
— И это пальто на вечере украла я и ходила в нем, и никто ничего не знал, — продолжала она почти шепотом. — Но потом пошла я в церковь на исповедь, и, когда сказала об этом священнику, он меня к причастию не допустил, а велел сначала вернуть вам пальто или деньги и все рассказать. Пальто я уже сильно поносила, а деньги вот.
Девушка разжала кулак, быстро положила на мой стол деньги и выбежала из кабинета.
Я развернула скомканные бумажки: там было полторы тысячи.
Признание разбойника
Года два прошло с тех пор, как я слышал этот рассказ, глубоко запавший мне в душу. И, кому ни приходилось передавать его своими словами, у всех невольно навертывались слезы на глаза, когда слушали они мою неумелую передачу этого трогательного случая из жизни государственного деятеля, занятого массой всевозможных дел и забот.
Лет пять-шесть тому назад, как передавали мне люди, близко знавшие этого сановника, он получил письмо без подписи, приблизительно такого содержания:
«Не старайтесь узнать, кто я, — этого вы никогда не узнаете. Я — преступник и убийца: говорю это по совести, так как и у меня, преступника, все же есть хоть какая-то совесть… Да и где вы будете искать меня, когда и сам не знаю, на что я решусь: пойду ли в далекий монастырь замаливать свои грехи или же, если совесть будет слишком мучить, может быть, и отдамся в руки правосудия. Но прежде, чем умереть в том и другом случае, я хочу побеседовать с вами… Повторяю, вы меня не знаете, я же слишком хорошо знаю вас.
Вы даже не подозреваете, сколько раз вы должны были быть убитым… Хочу сказать, что я был одним из тех, которые должны были на вас наложить руку. Но Господь не попустил этого. Не попустил Он и совершить мне еще более тяжелое преступление — убить ваших беззащитных детей.
Поймете ли вы меня, — не знаю, но в человеческой душе живет искра Божия, и у каждого разбойника где-то глубоко-глубоко она теплится внутри и иногда совершенно неожиданно вдруг выходит наружу… Как? Почему именно в данную минуту? Судить не нам. На все и всегда воля Божия.
Теперь позвольте мне рассказать вам, что я однажды пережил в качестве убийцы, которым я не сделался на этот раз только по воле Божией. Иначе этого объяснить ни себе, ни вам не могу.
Летом прошлого года без билета прибыл я на пароходе в г. К.: там в это время было много богомольцев и нашего брата, “проходимца”, тоже достаточно… В монастыре накормят даром, а переночевать летом везде можно, да и поживиться тоже.
Вот иду я с пристани на гору, прохожу мимо калитки, на которой написано: “Судебный следователь такой-то”, — ну и отлично. зайдем к судебному следователю, а если попадется кто, скажу, что по делу; не попадется — значит, судьба.
Встречи никакой не было, и я свободно спрятался за вешалку с платьем, осмотрев предварительно окно, в которое и рассчитывал удрать.
…Стоял я, завешанный платьем; для предосторожности платок большой, что тут же висел, на перекладину вешалки бросил, чтобы ног моих не видно было. думаю, что, кроме всего прочего, уж одежда-то точно вся мне достанется…
В это время из другой комнаты через переднюю прошла маленькая и худенькая женщина с ребенком на руках. Вошла в зальце, посадила ребенка на пол, зажгла лампу.
“Видно, сама хозяйка, — соображаю, — достатки плохи, если и прислуги не держат”. Зло меня разобрало: из-за этих пустяков, из-за одежды той не стоило бы и руки пачкать. А все стою, двинуться боюсь. Дверь в зальце она открытой оставила, так что в передней было светло.
Вот зажгла она лампу и остальных детей позвала: пора, мол, уроки готовить. С одним прочла, другому продиктовала, потом, уложив младшего спать, принесла работу и давай на машине шить.
Затем спросила уроки у детей, перекрестила их и отпустила спать. Только старшему сказала:
— мы еще с тобой задачи не кончили; принеси книжку, она у папы в кабинете на столе лежит.
Вышел сын ее — мальчик лет 10 в переднике. шевельнулся ли я, или так ангел Божий ему шепнул, только он бегом вернулся в зальце, прижался к матери и говорит:
— Мама, мне страшно, там кто-то есть!
— Кто там может быть! — спокойно сказала она; однако встала и сама принесла книжку, пройдя мимо меня, и начала объяснять мальчугану, что если греха нет на душе, то и страха быть не может.
— А если там разбойник? Настоящий разбойник, который так и родился разбойником?
Она серьезно, как с большим, стала говорить, что таких, как он говорит, настоящих разбойников нет. Господь их не создавал, а если есть дурные люди, то в этом не их вина, а вина тех, которые воспитали их, “…и если бы, — прибавила она, — этим людям, когда они были детьми, объяснили бы, что дурно, что хорошо, они никогда не были бы дурными…”.
Эти именно ее слова были мне больнее всего…
Вспомнилось мое заброшенное детство, вспомнилось все прошлое, пережитое, когда я никогда ни от кого не слышал не только слова прощения чужих грехов, но слова любви и ласки…
Смешно сказать, но заплакал я тут от ее слов.
Ушел спать и старший мальчик. Ну, думаю, сейчас конец: ляжет и она скоро — тогда я уйду, не замеченный никем.
Но не тут-то было. Она еще очень долго шила на машине, наверное, на заказ, чтобы заработать хотя бы лишний грош для своей семьи.
Начало светать, когда, потушив лампу, она вошла в переднюю, потрогала двери и перекрестила комнату. Наконец затихло все.
Мог бы я, кажется, не убивать никого, взять все, что на вешалке, и уйти, но какая-то великая сила — сила любви матери к детям, для которых трудится эта мать, еще уча их, что люди становятся дурными и злыми не сами по себе, а в силу обстоятельств, — заставила меня потихоньку уйти, ничего не тронув в этом доме.
Прошло несколько месяцев. Меня, как убийцу, потянуло еще раз взглянуть на тех, кого я мог убить и не убил. Теперь уже днем захожу в знакомый дворик. На дворе ни души. “Значит, и подозрения не было, если так беспечно относятся”, — промелькнуло у меня в голове.
Подхожу оборванный, с котомкой за плечами. У открытого окна сидит моя барыня со знакомой и кофе пьют.
Знакомая и говорит:
— Смотрите, какой-то бродяга по двору у вас идет, смотрите, чтобы не украл чего!
— Что у нас красть? — и, выглянув в окно, спросила:
— Что тебе, голубчик?
Так меня это слово “голубчик” словно обухом по голове ударило…
Шел я, по истине говоря, как убийца, посмотреть на место, где не по своей воле не совершил преступления — и вдруг “голубчик”.
— Водицы, — говорю, — испить захотелось!
— На тебе молочка и кусочек хлеба, — и подает мне кружку молока и кусок белого хлеба. — Сядь тут на крылечке, отдохни!
И тут же продолжает:
— Денег у меня нет, так хоть кусок подать!
Сел я, шапку снял, пью молоко и глаз не могу оторвать от нее, а она продолжает со вздохом:
— Вот болезнь мужа одна сколько стоила денег!
— Что он теперь, совсем поправился?
— Какое поправился, больной совсем на следствие поехал. Просил было председателя, чтобы назначил другого, а тот только покричал на него, говорит: “Не желаете служить, никто Вас держать не будет, Вы и так два месяца ничего не делали, а за Вас другие работали…”. А как быть? Точно он, бедный, виноват, что схватил воспаление легких и пролежал больной.
— Как же теперь его здоровье? Что говорит доктор?
— Да что! Говорит, беречься надо, не простужаться, куда-нибудь на Кавказ перевестись бы следовало…
Она заплакала и говорит:
— Чахотка скоротечная грозит — он и то уже кровью харкает… Что я буду делать с детьми, если он умрет! Ведь и теперь с жалованьем его и то приходится все самой делать. Прислугу я не держу да по целым ночам еще работу чужую делаю… Шью, чтобы гроши заработать.
Задумались обе. А у той, что я убить и ограбить хотел, так слезы и текут, а она их словно и не замечает.
— Вы бы попробовали попросить о переводе его куда-нибудь на юг.
— Кого просить-то? Кто о нас хлопотать будет? Ведь просить можно, когда есть связи, а какие у нас связи… Ведь не его же просить? — кивнула она на меня головой. — Нет! Уж, видно, так и пропадет он, бедный!
Простилась с ней ее знакомая, поблагодарил и я ее и пошел, а слезы бедной барыни не дают мне покою ни днем ни ночью. Вот и подумал я, дай попробую сделать попытку помочь ей, — и решился написать вам всю правду.
Может быть, и слово разбойника дойдет до вашего доброго, честного сердца. Справьтесь, вызовите эту барыню, допросите ее, пусть она подтвердит, говорила ли она то, что я слышал, стоя за вешалкой в ее квартире ночью, и увидите тогда, что я только правду написал вам и что хочется мне заместо сильных похлопотать о переводе на Кавказ больного мужа этой женщины».
Письмо было без подписи. Но адрес, имя и фамилия судебного следователя были подробно написаны.
Другой на месте сановника бросил бы это письмо, но не так поступил он. Все подробно рассказал Государю, который дал несколько сотен рублей, столько же прибавил от себя сановник и переслал все председателю Окружного суда, прося его вызвать эту даму и рассказать ей содержание письма.
Когда дошло до того места, где сын этой барыни сказал ей: «Мама, я боюсь туда идти — тут кто-то есть», и потом признание автора письма, что он ждал только, чтобы все заснули, чтобы зарезать ее и детей… с барыней сделалось дурно и она упала в обморок.
Придя в себя, она поехала отслужить молебен за чудесное избавление ее и детей от насильственной смерти.
Узнав обо всем этом от председателя, сановник выхлопотал место следователю на Кавказе, где он и сейчас служит, а жена его недавно приезжала поблагодарить сановника, но он не принял благодарности, говоря, что это не он, а тот разбойник ей все устроил.
История эта не вымышленная, и думается, что если ее прочитает тот, кто знает действующих лиц этого рассказа, то только подтвердит мои слова.
Из журнала «Кормчий» за 1906 г., № 15
Красные яблоки
Рассказ
Много лет тому назад жил в Москве богатый купец Иван Иванович Михайлов. Уже его прадед и дед были славными богачами, а он еще более увеличил оставшееся после них богатство своим умом, находчивостью, ловкостью и предприимчивостью, так что его ставили наряду с богатейшими купцами.
Но он был не только богатым, но и в высшей степени богобоязненным и милосердным человеком. Каждого бедняка он приютит у себя и никогда не откажет никому в помощи и в добром, ласковом слове.
А жил в то время в Москве один несчастный калека, который не мог ничего для себя заработать; благодаря же доброму сердцу Ивана Ивановича имел все: пищу, одежду, теплый угол в доме своего благодетеля.
Но как всему на свете бывает конец, так пришел смертный час и Ивана Ивановича. Он умер, а все его состояние перешло в руки его зятя, человека черствого и очень скупого, обходившегося с бедняками далеко не так, как его покойный тесть.
Вот и вышло, что бедный калека лишился всего, что имел в доме Ивана Ивановича, потому что новый хозяин не велел пускать его в дом.
С горячими слезами пошел калека на могилу своего благодетеля и, наплакавшись вдоволь, склонился над ней и заснул.
Уснувши, увидел он во сне покойника, который сказал ему:
— О чем ты плачешь, Степан Ильич?
— Как же мне не плакать, — ответил тот, — когда двери Вашего дома для меня уже заперты, и мне уже некуда склонить голову, и негде дожить остаток дней своих!..
Вздохнул покойник и сказал ему:
— Если двери моего дома уже заперты для тебя, так пойди в четвертый магазин направо от моего магазина, там живет купец Николай Саввич Рыжкин. Иди к нему и скажи: «Ради меня и тех красных яблок, о которых ты знаешь, дай мне три тысячи рублей». И он тебе даст, и тебе хватит этих денег дожить свой век — молись только о моей душе.
Проснулся Степан Ильич, и казалось ему, что он видел живым благодетеля. Помня хорошо о том, что слышал во сне, отправился наш калека с могилы Ивана Ивановича прямо в лавку купца Николая Рыжкина.
Пришедши, он увидел там большое богатство; множество купцов и приказчиков было занято — одни мерили аршинами очень дорогие материи, другие считали и получали деньги, а третьи записывали деньги в книги.
Сам же Николай Саввич сидел на возвышенном месте, и следил за всем, что делается в лавке, и любовался тем, как растет его богатство.
Со страхом подошел калека к купцу, но купец не выказал никакой гордости, а встал и подал нищему грош. Ободренный ласковым обращением купца, калека рассказал ему подробно весь свой сон.
Выслушавши его, Николай Саввич встал, перекрестился и сказал:
— Не три, а десять бы тысяч дал я тебе, если бы ты того пожелал, покойник! — и велел сейчас же отсчитать ему три тысячи рублей.
Калека, никогда не видевший такой суммы денег и пораженный всем случившимся, упал купцу в ноги и произнес следующие слова:
— Не возьму я этих денег до тех пор, пока Вы, Николай Саввич, не расскажете мне, что это за красные яблоки, ради которых Вы даете мне такую крупную сумму денег.
— Если ты хочешь об этом знать, — сказал купец, — то пойдем в мою квартиру, там я тебе расскажу!
Пошли они в очень богато убранную комнату, где все блестело золотом, серебром и шелком. Поклонившись святым иконам, взял купец калеку за руку, вывел на балкон, и посадил в кресло между дорогими растениями и прекрасными цветами, издававшими чудный аромат, и начал рассказывать:
«Дело было так. Иван Иванович был богатым купцом, а я был большим бедняком и торговал яблоками. Куплю, бывало, корзину яблок оптом, а потом продаю в розницу на копейки: если заработаю десять — пятнадцать копеек, то есть чем жить, а если ничего не заработаю, то приходилось очень-таки бедствовать. Заходил я с яблоками и в лавку к купцу Ивану Ивановичу, а он постоянно покупал их у меня и давал мне торговать, а потому я старался заходить к нему как можно чаще. Потом он женился. На свадьбу пригласил множество важных и богатых гостей. Пока гости веселились, танцевали, ели, пили, полил сильный дождь, который продолжался целый день, и я “благодаря” дождю не продал ни одного яблока. Уже наступал вечер, и мне не на что было купить хлеба. В отчаянии, по колено в грязи, ходил я от дома к дому и кричал:
— Прекрасные, сладкие яблоки! Покупайте, добрые люди!
Случайно выглянул в окно Иван Иванович, и, увидя меня, озябшего и продрогшего до костей, сжалился надо мной и послал слугу позвать меня в дом.
Я не смел войти в богато убранные комнаты, но он вышел ко мне и сказал:
— Бедный Николай, почему же ты в такой дождь не сидишь дома?
— Потому что я голоден! — ответил я. — Сегодня я еще не заработал ни одной копейки.
— Подожди, — сказал мне он и, взяв у меня мокрую корзину, понес ее к гостям.
Все стали спрашивать, что это такое. Что это значит? А он сказал:
— Любезные мои гости, братья дорогие, мы здесь пируем, а этот бедняк, что торгует яблоками, не ел сегодня даже хлеба и просит купить его товар, поэтому я и пожалел его и купил.
— А что заплатили? — спросил один богатый купец.
— Сто рублей! — ответил Иван Иванович.
— Это дешево, — сказал тот богач, — я дам триста рублей.
А другой сказал:
— Я даю пятьсот рублей! Нужно же помочь бедному во имя Господа нашего Иисуса Христа! —и стали все спорить.
Тогда Иван Иванович сказал:
— Господа! Спорить не нужно, потому что я купил яблоки и продаю каждое яблоко по пятьдесят рублей.
— Хорошо! — крикнули все и стали сыпать на стол золото. Было шестьдесят яблок, и покойный вынес мне три тысячи рублей.
Для таких богачей ничего не стоит дать три тысячи рублей, и они продолжали себе веселиться, но веселиться еще больше от сознания того, что сделали угодное Богу дело. Я же со слезами радости взял деньги и отправился в церковь благодарить Бога за такое неожиданное счастье. Молясь Богу, я просил Его не допустить мне впасть в гордость, но помочь мне увеличить этот капитал честным путем, на славу и счастье себе и ближним!
Потом я пошел домой, купил себе хорошую одежду, молитвенник и книжки и стал учиться писать и читать, а как выучился, то пошел к купцу в науку. Я дал на хранение ему свои деньги и слушался его во всем. Пока был жив Иван Иванович, я постоянно бывал у него в доме, а с тех пор как он умер, я непрестанно молюсь о нем, и память его стала для меня священной.
Десять лет спустя после случая с красными яблоками я женился на единственной дочери моего господина, а после его смерти все его состояние стало моим. И за все это счастье я обязан лишь Господу Богу и доброму сердцу Ивана Ивановича. Так вот почему я с радостью дал тебе три тысячи и от души желаю, чтобы с моей легкой руки они у тебя умножились так, как у меня с легкой руки Ивана Ивановича.
Теперь ты будешь знать, какое значение имеют в моей жизни “красные яблоки” и почему они никогда не выйдут из моей памяти…».
Кто опишет радость бедного калеки, которому сон принес такое счастье!
Из журнала «Кормчий», 1903 г.
Поразительный пример верности
Очи мои на вернии земли
I
Весною 1727 года царь Петр Алексеевич во время своего пребывания в Москве поручил князю Феодору Юрьевичу Ромадановскому заняться благоустройством «острожного» дела. И вот отправился Ромадановский осматривать застенки и тюрьмы московские. Прибыв в колодную тюрьму, он в сопровождении смотрителя и стражи прошел по всем коридорам ее, заглядывая в камеры и расспрашивая о преступниках.
Вдруг один из колодников говорит ему:
— Светлейший князь! Знаем мы, что ты человек набожный и богобоязненный, почитаешь память святых угодников, наипаче же чтишь святителя нашего Николая Чудотворца. Так вот ради него-то, милосердного, окажи свою щедрую милость, отпусти меня домой на побывку — всего лишь на два дня.
— Что? — изумленно воскликнул Ромадановский. — Да в уме ли ты, что решаешься просить об этом?
— Я в полном уме и памяти, — продолжал колодник, — скажу лишь, что на моей родине очень почитают праздник Николы Вешнего. Там в сельском храме есть престол угоднику. К тому же стосковался я по молодой жене и деткам малым. Обнять и расцеловать хочу их. Отпусти меня!
— Что это за человек? — спросил князь.
— Убийца царского воина! — отвечал сопровождающий.
— Какого?
— Убил преображенца, — пояснил смотритель, — правда, совершил преступление в запальчивости.
Тем временем колодник продолжал:
— Милосердный князь! Действительно, я преступник большой. Каюсь в том перед людьми и Богом. А все-таки хотелось бы побывать на родине. Прошусь всего только на два дня. И будь уверен, что на третий день сам вернусь сюда.
Понравилась столь открытая речь арестанта князю, и спросил он его:
— А кто поручится в этом за тебя?
— Святой Николай Чудотворец! — отвечал заключенный. — Он, угодник Божий, будет порукою мне на случай соблазна.
Взглянул тут Ромадановский прямо в глаза арестанту, и что-то умильно хорошее шевельнулось в его душе.
— Расковать и пустить его на два дня! — приказал он, махнув рукою в сторону колодника.
— Ваша светлость! — проговорил смотритель. — Осмелюсь доложить, обманет он Вас. Ему бы только из тюрьмы выбраться, а там поминай как звали. Ведь для этих колодников ничего нет святого в мире. Краснобаить же они мастера.
Задумался тут Ромадановский.
«В самом деле, — размышлял он, — раз только уйдет арестант из острога, где его искать потом? Может, и совсем не на родину просится, а так себе, на волю вольную. Эх, видно, погорячился я не в меру да приказ необдуманный изрек. Впрочем, что раз сказал, того уж не следует ворочать, потому что Ромадановские своих слов назад не берут». Еще раз взглянул тут князь в открытое лицо колодника и опять повторил:
— Освободить его из острога на два дня! Верю, что придет он назад к условленному сроку. Святой поручитель не допустит обмана.
Колодник бросился к ногам доброго князя, а смотритель, угрюмый и мрачный, приказал страже расковать преступника.
II
В двадцати верстах от Москвы, в селе Никольском праздник 9 мая в полном разгаре.
По окончании обедни народ высыпал из храма на базарную площадь. Там пестрой картиной расположилась ярмарка. Среди толпы довольный и радостный идет временно освобожденный арестант. На руках держит он красивого ребенка, крепко ухватившегося пухлыми ручонками за шею отца. А рядом идет статная молодица, ведя за руку шустрого мальчугана.
— Муженек мой горемычный, — говорит женщина, — не оставляй нас, сиротинок. Смотри, как хорошо и привольно на свободе. А там тюрьма, неволя. Правда, ты убил солдата царского. Но ведь ты сделал это без злого умысла и нечаянно. Зачем же мучиться тебе в заточении вечном и губить несчастную семью?
— Нельзя, родная! — отвечал арестант. — Я обещал.
— Мало ли что обещал ты в неволе острожной, — продолжала жена. — Если не вернешься к ним, то никто не сможет сделать ничего. Немедля убежим отсюда, уйдем на вольный Дон. Там заживем мы жизнью новою. Сыны же наши поделаются казаками удалыми и за тебя царю-батюшке отслужат.
И задумался арестант под соблазнительные речи жены: «Уйти на Дон, зажить вольготно… Но так ли надо поступить? И будет ли хорошо? А совесть? А тот святой поручитель, что сильнее всякой тюрьмы и каторги земной? Что стану я делать, обманув его память святую? Все отымется тогда! Не станет ни удачи, ни радости, ни счастья. Иссохну я и сгину, хуже раба подневольного. Недаром же князь сказал: “Святой поручитель не допустит обмана!”». Затем снова под улещением любимой женщины начинал колебаться несчастный, и уж был близок момент, когда полная решимость бежать с семьей из родного села овладела им. Но там, в глубине души, что-то властно-мощное останавливало его, направляя разум к истине и правде. И, прислушиваясь к нему, молвил арестант:
— Нет! Святитель Николай не допустит! Я должен поступить по правде и совести!
И на другой день, прощаясь с семьей, сказал:
— Хотя и тяжело расставаться с вами, зато я чувствую, что совесть моя спокойна. Верю, что мой великий поручитель спасет меня от дальнейших бед и несчастий.
III
Через два дня он был уже снова в Москве и пришел в тюрьму за час до того момента, когда к ней подъехал Ромадановский.
— А я, — сказал князь встретившему его смотрителю, — ехал мимо тюрьмы и вспомнил про колодника, что призывал порукою святителя Николая. Срок данной ему отлучки закончился. Вернулся ли он?
— Да, ваша светлость! — отвечал смотритель. — Поразительный пример. Он вернулся в срок и снова в тюрьме.
— Похвально! — воскликнул князь. — Сегодня же увижу царя и расскажу ему об этом редком случае.
На другой день колодную тюрьму неожиданно облетела весть, что поутру приезжал царский посланец и увез арестанта во дворец.
А когда тот возвратился, все с нетерпением спрашивали, что говорил ему царь.
— Наш государь, — отвечал арестант, — сам пожелал узнать о моем поступке, за который я заточен. Потом, милостиво выслушав меня, мое признание, сказал, что сокращает мое заточение до меньших размеров.
Тут арестант перекрестился и с чувством добавил:
— Слава Чудотворцу Николаю, который в трудную минуту помог мне побороть мое искушение.
И в скором времени арестант получил свободу.
И. Бабанин. «Русский Паломник», 1907 г.
Напоминание
Рассказ священника В. Ремерова
— Не верил и не верю я снам, батюшка, — говорил мне один господин, — но лет шесть тому назад приснился мне такой сон, который глубоко запал в мою душу и никогда, кажется, не изгладится из памяти…
Не знаю я, чем объяснить мое сновидение. Знаю только, что оно напомнило мне мой обет, который я мысленно дал при одре умирающего отца. Как теперь помню, больной старик лежал в переднем углу. С глубокой грустью окружала его вся семья. Более всех убивалась матушка. Припав к груди умирающего, она судорожно рыдала. Слезы ее, видно, горячим оловом канули в самое сердце охладевавшего старца.
— Не плачь, мать, — говорил он слабым, едва слышным голосом. — Бог и дети не оставят тебя!
Голос оборвался на последних словах… и батюшки не стало. Тронутый до глубины души словами родителя, я дал обет в мыслях: отслужить по покойному шесть обеден, несмотря на мое скудное жалованье в тогдашнее время.
Но мысленный обет мой так и остался мысленным. Я не попросил отслужить ни одной обедни по покойному отцу, да и забыл о том совершенно. Накануне сорокового дня я увидел сон, который поразил меня и о котором я хочу рассказать Вам. Снилось мне, будто я с дороги вернулся домой и, раздевшись, сел на стул. Семья вся была дома. Мать стояла у печки такая грустная. Как бы наяву заговорили о покойном отце. В минуту нашего разговора дверь в комнату отворяется и входит умерший отец в белой рубашке. Все испугались. Я первый, оправившись от испуга, подошел к нему и сказал:
— Зачем ты пришел, батюшка, ведь ты умер! Зачем же тревожишь нас?
Покойный родитель молча тусклыми глазами смотрел на меня. Я же, упершись руками в грудь его, стал толкать его из комнаты, приговаривая:
— Ступай, ступай от нас, батюшка, и не беспокой нас своим посещением!
Но тут-то и пришел мне в голову мой обет. Я пал к ногам родителя и со слезами закричал:
— Прости, прости меня, батюшка! Ведь я не исполнил обета, данного мною при твоей смерти…
Родитель кивнул головой, и я услышал:
— Ну, сын, теперь я пойду!
И медленными шагами он вышел из комнаты. Вышел и я за ним на крыльцо и смотрел, как он шел от нас. Он шел тихо к церкви, которая была против нашего дома, и скрылся из моих глаз в ее ограде. Проснувшись, я поспешил исполнить свой обет, и с тех пор вот уже седьмой год при всем моем желании, при всех думах, с какими я ложусь в постель, я не могу увидеть моего покойного батюшку…
Журнал «Странник», 1870 г.
Недостойная молитва и ее следствия
Рассказ протоиерея Полидорова
В селе Калужки недалеко от города Калуга есть, как известно, икона Божией Матери, называемая по месту Калужской.
Одна женщина из среднего сословия имела особое усердие к этой святой иконе. Часто обращалась она с молитвою и великой верой в своих нуждах и скорбях к Богоматери. Особенно по примеру пророчицы Анны — матери пророка Самуила — постоянно изливала она перед Владычицей свою душу в скорби по причине бесчадия, моля «Всех Скорбящих Радосте» разрешить ее неплодство и даровать ей чадо.
Молитва благочестивой жены была услышана. Она зачала и родила дочь. Но, по неисповедимым путям Промысла Божия, дочь ее, достигнув двенадцатилетнего возраста, заболевает и умирает. Кто опишет скорбь чадолюбивой матери, лишившейся своей единственной дочери! С рыданием и воплем она поверглась перед иконой Божией Матери и, пришедши от горести в исступление, стала поносить Владычицу, называя Ее немилосердной и немилостивой… Наконец в изнеможении впадает она в сон или обморок. В это время является ей Царица Небесная в неописуемой славе и говорит матери, сокрушенной скорбью:
«Безумная! Неужели ты думаешь, что Я забыла твою любовь ко Мне или оставила в пренебрежении веру и усердие, кои ты ко Мне проявляла? Нет! За сие-то Я и взяла было твою дочь к Себе и таким образом желала устроить полезное и тебе, и твоей дочери. Но ты не восхотела сего. Пусть будет по-твоему! Смотри — дочь твоя жива…».
Придя в себя, мать поспешила к телу умершей дочери, лежавшему на столе в ожидании погребения. И что же она видит? О чудо! На ланитах умершей играет румянец — признак жизни. С помощью некоторых средств она приводится в чувство и наконец к жизни и здравию.
А затем!.. Дочь, чудесным образом возвращенная от смерти к жизни, достигла совершенных лет и не только не доставила матери своей чаемого ею утешения, но, совершенно предавшись влечению страстей, постоянно огорчала ее. Когда же мать начинала учить беспутную дочь страху Божию, та дерзала подымать руки свои на родительницу и начинала бить ее! Тогда несчастная мать в горести души, бия перси свои, восклицала:
— О Владычице! Праведно Ты меня наказываешь. Я вполне заслуживаю, чтобы терпеть побои от моего исчадия, ибо я дерзала роптать на Тебя, когда Ты, Милосердная, хотела устроить душам нашим полезное!
Вот урок для нас! Будем молиться, но с глубоким смирением и величайшим благоговением. «Потому что Бог на небе, а ты на земле; поэтому слова твои да будут немноги» (Еккл.5:1).
Матренушка
Рассказ
Это рассказал мне один, ныне уже покойный, епископ Стефан:
«В 30-х годах меня заключили в концлагерь. Я тогда был врачом, и мне поручили в лагере заведование медпунктом. Большинство заключенных находилось в таком тяжелом состоянии, что мое сердце не выдерживало и я многих освобождал от работы, чтобы хоть как-нибудь помочь им, а наиболее слабых отправлял в больницу. И вот как-то во время приема работавшая со мной медсестра (тоже лагерница) сказала мне:
— Доктор, я слышала, что на Вас донос, обвиняют Вас в излишней мягкости по отношению к лагерникам, и Вам грозит продление Вашего срока в лагере до пятнадцати лет.
Медсестра была человеком в лагерных делах осведомленным, и поэтому я пришел в ужас от ее слов. Осужден я был на три года, которые уже подходили к концу, и я высчитывал месяцы и недели, которые отделяли меня от долгожданной свободы.
И вдруг… 15 лет! Я не спал всю ночь, и, когда вышел утром на работу, медсестра сокрушенно покачала головой, увидев мое осунувшееся лицо. После приема больных она мне решительно сказала:
— Я Вам, доктор, хочу один совет дать, но боюсь, что Вы меня на смех поднимете.
— Говорите! — попросил я.
— В том городе, откуда я родом, живет одна женщина, ее зовут Матренушка. Господь дал ей особую силу молитвы, и если она за кого начнет молиться, то обязательно вымолит. К ней много людей обращается, и она никому не отказывает. Вот Вы ее и попросите.
Я грустно усмехнулся:
— Пока мое письмо будет идти к ней, меня успеют засудить на 15 лет!
— Да ей писать не надо, Вы… покличьте, — смущаясь, сказала сестра.
— Покликать?! Отсюда? Она живет за сотни километров от нас!
— Я так и знала, что Вы меня на смех поднимете, но только она отовсюду слышит, и Вас услышит. Вы так сделайте: когда пойдете вечером на прогулку, отстаньте немного от всех и громко три раза крикните:
— Матренушка, помоги мне, я в беде!
Она услышит и Вас вымолит!
Хотя и казалось мне все это очень странным и похожим на колдовство, но все-таки, выйдя на вечернюю прогулку, я сделал все так, как научила меня моя помощница.
Прошел день, неделя, месяц… Меня никто не вызывал. Между тем среди администрации лагеря произошли перемены: одного сняли, другого назначили.
Прошло еще полгода, и наступил день моего выхода из лагеря. Когда мне выдавали в комендатуре документы, я попросил выписать мне направление в тот город, где жила Матренушка, так как еще перед тем, как ее покликать, я дал обещание, что если она мне поможет, то поминать ее ежедневно на молитве, а по выходе из лагеря первым делом поехать и поблагодарить ее.
Получая документы, я услышал, что два парня, которых тоже выписывали на волю, едут в тот город, куда направился и я. Я присоединился к ним, и мы отправились вместе. Дорóгой я начал спрашивать парней, не знают ли они Матренушку.
— Очень хорошо знаем. Да ее все знают — и в городе, и во всей округе. Мы бы Вас к ней свели, если Вам нужно, но мы живем не в городе, а в деревне, и очень уж домой нам хочется. А Вы так сделайте: как приедете, первого встречного спросите, где Матренушка живет, и Вам покажут!
По приезде я так и сделал, как меня научили мои попутчики: спросил первого встретившегося мальчишку, где живет Матренушка.
— Идите этой улицей, — сказал он мне, — а потом поверните возле почты в переулок, там в третьем доме слева и она и живет.
С волнением подошел я к дому Матренушки и хотел постучать в дверь, но она была не заперта и легко открылась. Стоя на пороге, я оглядел почти пустую комнату, посреди которой стоял стол, и на нем довольно большой ящик.
— Люди добрые, есть тут кто-нибудь? — громко спросил я.
— Проходите, владыка святый! — раздался голос из ящика.
Я вздрогнул от неожиданности. Какой же я владыка!
— Будешь, будешь им, — отвечал голос, называя меня по имени.
Заглянув в ящик, я увидел в нем маленькую женщину, неподвижно лежащую внутри. Она была слепая, с неразвитыми руками и ногами. Лицо у нее было удивительно светлое и ласковое. Поздоровавшись, я спросил:
— Откуда Вы знаете мое имя?
— Да как же мне не знать! — зазвучал ее слабый, но чистый голос. — Ты же меня кликал, и я за тебя Богу молилась, потому и знаю. Садись, гостем будешь!
Я долго сидел у Матренушки. Она мне рассказала, как заболела в детстве какой-то болезнью и перестала расти и двигаться. В семье была бедность, и мать, уходя на работу, укладывала ее в ящик и относила в церковь, оставляя ее там на скамейке до самого вечера. Лежа в ящике, она слушала все церковные службы, проповеди. Прихожане жалели ребенка и приносили то кусочек еды, то одежонку, а кто просто приласкает ее и поудобнее уложит в ящике. Священник тоже жалел девочку и занимался с ней. Так и росла она в атмосфере большой духовности и молитвы.
Потом мы заговорили с Матренушкой о цели жизни, о вере, о Боге. Я поражался мудрости ее суждений, ее духовному проникновению. Сидя возле нее, я понял, что передо мной лежит не просто больная женщина, а большой перед Господом человек. Мне очень не хотелось от нее уходить, так с ней было хорошо и отрадно, и я дал себе слово навестить ее как можно скорее, но не пришлось. Вскоре Матренушку увезли в другой город, где она и скончалась.
Похоронена она на Даниловском кладбище».
Друзья до гроба и за гробом
Видения духовного мира очень нередки в летописях святой нашей Церкви. Ими изобилуют Священное Писание и жития многих святых, они свойственны и ныне подвижникам христианского благочестия, имеющим просвещенные очи души.
Решаюсь предложить вниманию читателей один правдивый рассказ, в котором речь идет о сновидении весьма знаменательном и о настоящем уже видении из духовного мира, бывшем наяву одному благочестивому мужу.
В моем рассказе читатель встретит трогательные для христианского чувства черты взаимности и сочувствия человеческих душ даже за пределами гроба и найдет подтверждение церковному учению о благотворности бескровных жертв, молитв и милостыни, которыми привыкли мы умилостивлять Господа о душах усопших наших братий.
Из моего рассказа читатель увидит, что союз христианской дружбы и по Боге любви не прерывается совершенно нашей смертью, но переходит нередко и в самую вечность, соединяя нас невидимо с членами Церкви, торжествующей на небесах. Что видение, описанное в моем рассказе, никак не может быть приписано прелести темных сил, это видно из благотворных последствий его, которые невольно заставляют предполагать, что оно ниспослано свыше единственно для утешения истинно верующего человека, скорбящего о разлучении с любимым другом и тревожимого за участь его в загробном мире.
Очень отрадное впечатление произвел на меня этот рассказ, переданный мне лицом, хорошо знавшим обоих христианских друзей.
В начале нынешнего столетия в одном из губернских городов проживал некто Н. — отставной чиновник, человек довольно пожилых лет, истинно благочестивый и добрый раб Божий, неленостно работавший Владыке своему среди мира и его суеты. Он был очень дружен с В. — сотоварищем своего детства и сослуживцем, человеком одинаковых с ним лет и одинаковых воззрений на вещи. Благочестивые их души были столь тесно связаны, что самое обитание их в разных местах нисколько не мешало духовному их единению.
В., вдовец и бездетный, поместился на житье в одной иноческой обители невдалеке от города, где обитал Н. Этот же последний, хотя и также вдовец, но, обремененный довольно многочисленной семьей, принужден был обитать в городе, где имел небольшой дом.
Не терпя духовного одиночества, Н. почти каждый воскресный и праздничный день отправлялся в обитель к В. и проживал у него нередко по целым неделям.
Отрадно было смотреть на этих двух седовласых старцев-друзей. В старческой их дружбе проявлялась как бы беззаботная юность, прикрывающаяся сединами. Оба усердно пеклись о спасении своих душ. Оба усердные молитвенники и постники, они, миряне по одежде, были в душах своих истинными иноками. Их продолжительная дружба перешла, как покажут последствия, даже за пределы гроба — в неизмеримую вечность.
Однажды, посетив в обители своего друга, Н. нашел его больным, сильно изменившимся в лице и ослабевшим в силах. Обрадовавшись посещению товарища, больной В. всячески старался превозмочь свою слабость, не желая тревожить гостя своим болезненным состоянием. Заметив это, Н. просил его поберечься, умерить благочестивые свои подвиги, употреблять более питательную пищу, но больной, смеясь над его опасениями, уверял его, что это ничего более, как легкая простуда, которая через несколько дней пройдет сама собой.
Вопреки желанию своему Н. на этот раз не мог продолжить своего пребывания в обители у В. и расстался с ним с сильною скорбию о болезненном состоянии своего друга.
Мысли, одна одной мрачнее, тревожили его, и он всячески старался поскорее окончить задерживавшие его домашние дела, чтобы опять навестить В. Но В., как увидим, предварил его посещение уходом своим в Вечность, не разлучаясь в это время мыслями с Н. в своем предсмертном состоянии.
Дня через три после разлуки своей с больным другом Н. видит во сне монастырскую келью друга, видит в ней несколько монашествующих лиц в священных облачениях, совершающих над бледным, изнуренным, лежащим в постели В. таинство елеосвящения. Все действия и молитвы этого таинства, весь порядок священнослужения словно наяву совершались в глазах Н.: сам он, казалось, с возжженной свечой стоял у изголовья своего друга. По окончании тайнодействия при обычном в этом случае прощении подошел к больному и Н. С горячностью дружбы, казалось, обнял его В., причем чувствителен был холод помертвевших его рук.
«Дорогой Н., — еле слышно проговорил умирающий. — Как желал я всегда видеть тебя в предсмертные свои минуты! Я умираю, молись обо мне!»
Н. видел, как глаза умиравшего остановились на нем, как с последним вздохом душа оставила его тело, и с громкими воплями проснулся. Встревожив свою семью, с неутешными рыданиями начал он говорить, что В. умер, и, несмотря на все разуверения, тотчас же бросив все, поспешил к нему в обитель.
Действительно, пришед в келию, Н. нашел его уже на столе; по словам присутствующих при его кончине, он скончался в самый час сновидения Н., тотчас же после совершения над ним елеосвящения, вспоминая до самого конца отсутствовавшего своего друга, которому поручил передать предсмертную свою просьбу помолиться о нем.
С горькими слезами проводил Н. усопшего своего друга до последнего земного пристанища — могилы, сильно осуждая себя, что ради житейских попечений не присутствовал при его кончине и не принял последнего его вздоха. И только утешало его знаменательное сновидение: он веровал, что не напрасно было оно ему ниспослано, и, помня последние слова своего друга «молись обо мне», от глубины верующего сердца начал он возносить усердные молитвы ко Господу о упокоении души новопреставленного, творя при том посильные для себя милостыни. Часто думал он о загробной участи своего почившего друга, страшно было ему за любимую душу, хотя и надеялся на милосердие Творца к ней.
В сороковой день после кончины В., в который, по учению святой церкви, кончаются воздушные шествия по мытарствам отошедшей души и она, смотря по заслугам своим, водворяется в светлом раю или ввергается в пропасть ада, вследствие чего и усугубляем свои молитвы о ней, — в этот день Н., помянув своего друга по уставу церковному, погрузился в глубокую задумчивость, размышляя о том, где сейчас находится его душа и обрела ли она милость у Господа. Сидя одиноко в своей комнате, услышал он явственно скрип двери. Приоткрыв глаза, видит он входящего в комнату В., умершего своего друга, в том же послушническом одеянии, в котором положили его в гроб.
«Благодарю тебя, друг, — сказал тихим голосом явившийся, — за твои усердные обо мне молитвы и за милостыни, которые мне помогли при странствиях моих по воздушным мытарствам. По милости Божией избавлен я от ада: обитель моя покойна. Но всего этого достиг я единственно по милости Божией, ибо оправдания от всех дел, особенно в наше убогое время, нельзя достигнуть душе; неминуемо препнется она на мытарствах от воздушных наших врагов. По милости Божией чистосердечная моя исповедь во грехах, молитвы и милостыни твои исходатайствовали мне покой».
Неподвижный от ужаса и изумления внимал Н. речам чудного пришельца, не дерзая его прерывать: чувствовал он, как от слов трепетала его душа.
«Прости, друг, до свидания в вечности! — промолвил явившийся. — Уповаю, что скоро мы увидимся, будем обитать вместе, до того же потрудись еще для вечного своего спасения», — и с этими словами скрылся В. за дверью.
Н., как бы очнувшись, стремительно бросился ему вслед, но все было тихо и пусто за дверью, и лишь тихий ароматный ветерок освежал воздух соседней комнаты, напоминая собою легкий запах хорошего фимиама.
Успокоившись от сильного потрясения, Н. провел остальную часть дня без пищи в усердной слезной молитве, чтобы удостоиться и ему вместе и нераздельно обитать с другом.
Потом уже, вечером, собрав свою семью и некоторых близких, знакомых, поведал он им свое видение, заверяя, что видел В. и слышал его слова так же ясно, как видит теперь присутствующих и слышит их слова. Видя разительную перемену в лице почтенного старца и обильные слезы, текущие из его глаз, нельзя было усомниться в истине его слов.
Люди благочестивые и верующие поверили ему от глубины души. Сам Н. с того времени усугубил свои благочестивые подвиги, предоставил все житейские попечения о доме и семействе старшим своим детям и все свое время посвящал молитве.
Господь за благочестивую жизнь удостоил его самой блаженной кончины, о которой считаю нелишним сказать несколько слов.
Спустя два года после своего видения Н., уже очень ослабевший в силах телесных, в начале Рождественского поста располагал, по обычаю своему, говеть. Окружавшие его в эти дни замечали особенную светлость и приятность на старческом лице его. Кончив говение и приобщившись Святых Христовых Таин, старик окончательно ослабел и был доведен дочерью из церкви домой. Попив чаю, он сказал, что желает немного поспать. Н. оставил детей и удалился в свою комнату, прося их разбудить его к обеду. В урочное время старшая его дочь тихим шагом приблизилась к темной, освященной лишь лампадой комнате отца. Почти ощупью пробиралась она к завешенному окну, чтобы приподнять занавес и, по обычаю, разбудить старика, но на самой средине комнаты споткнулась обо что-то. В испуге поспешила она осветить комнату, и взорам ее представился на полу старик-отец. Голова его лежала на руках, сложенных одна на другую, как обыкновенно делают при земных поклонах, и все тело имело положение молящегося человека.
На крик дочери сбежались остальные члены семьи и, приподняв старца, нашли его усопшим. По-видимому, прежде чем заснуть, он захотел помолиться Богу, и в это время молитвы душа его рассталась с немощным телом.
Усердный молитвенник при жизни, старец явился таковым же и при кончине. Начал молитву на земле, окончил ее на небесах!
Самый вид этого старца-покойника, лежавшего уже во гробе, по словам очевидцев, был необыкновенно привлекателен. Что-то кроткое, как бы детское изображалось в его чертах, оживленных радостным созерцанием, самые морщины старческого лица обновились как бы юностью, цветя благолепием.
Рассказ мой окончен. Радость наполняет душу при мысли, что и ныне, как древле, готова награда подвижникам Божиим, что и в наше скудное благочестием время проявляются проблески светлого прошлого.
По милости Божией не только иноки совершенные, но и тайные среди мира рабы Божии удостаиваются явного Божия благоволения, обретают спасение.
Ковалевский
Невероятное для многих, но истинное происшествие
(Из опыта смерти)
«Когда я учился в Московской Духовной семинарии (1907-1911 гг.), к нам в Лавру приезжал архиепископ Вологодский Никон и говорил нам, студентам, что автор сей брошюры, Икскуль, лично ему знаком, и все, что здесь описано, есть факт, имевший место в Кронштадтской больнице.
Так как здесь упоминаются сотрудники городской больницы, при написании этого повествования здравствующие, то полностью имена их не названы».
Протоиерей Борис, г. Казань
I
Многие наш век называют «веком отрицания» и объясняют эту особенность его «духом времени». Не знаю, возможно ли тут вообще такое уподобление: дух времени — будто «поветрие» или «эпидемия» какая-то, но несомненно, что, кроме этих так называемых «эпидемических» отрицаний, немало есть у нас и таких, которые всецело выросли на почве нашего легкомыслия.
Мы зачастую отрицаем, чего совсем не знаем, а то, о чем слышали, то не продумано нами и тоже отрицается, и этого непродуманного накапливаются целые вороха, и в голове получается невообразимый хаос: какие-то отрывки разных и иногда противоречивых учений.
И в наш век кажется, что люди в иные времена не любили много рассуждать. Рассуждать стало модно именно теперь, в наш «просвещенный век».
Говорю я это по наблюдениям над другими и по личному своему сознанию. Не буду здесь вдаваться в общую характеристику моей личности, так как это не относится к делу, и постараюсь представить себя читателю только в моем отношении к религии, как выросшего в православной и довольно набожной семье и затем учившегося в таком заведении, где неверие не считалось признаком гениальности ученика.
Из меня не вышел яркий, завзятый отрицатель веры, каким было большинство молодых людей моего времени.
Получилось из меня что-то неопределенное: я не был атеистом и никак не мог считать себя сколько-нибудь религиозным человеком.
Официально я носил звание христианина, но никогда не задумывался над тем, имею ли я право на такое звание. Никогда мне даже и в голову не приходило проверить, чего требует от меня это звание и удовлетворяю ли я его требованиям.
Я всегда говорил, что верую в Бога, но если бы меня спросили, так ли я верую, как учит Православная Церковь, к которой я принадлежу, то я, несомненно, встал бы в тупик.
Однажды бабушка моя, которая всегда строго соблюдала пост, укорила меня, что я не выполняю его:
— Ты еще силен и здоров. Аппетит у тебя прекрасный, стало быть, можешь отлично кушать постное. Как же не исполнять даже и таких установлений Церкви, которые для нас совсем не трудны?!
— Но это, бабушка, совсем бессмысленное установление! — возразил я. — Ведь и Вы кушаете просто так, машинально, а осмысленно никто такому утверждению поста подчиняться не станет.
— Почему же бессмысленное?
— Да не все ли равно Богу, что я буду есть: ветчину или балык!
— Как же это ты так выражаешься? — продолжала бабушка. — Разве можно говорить, что это «бессмысленное установление», когда Сам Господь постился?!
Я был удивлен таким сообщением. И только при помощи бабушки вспомнил евангельское повествование об этом. Не то что я совсем забыл о нем, а просто мне помешали вспомнить об этом мои высказывания довольно высокомерного тона.
Недурной иллюстрацией к моему легкомысленному отношению к религии и к моему внутреннему устроению может служить и то, что я не знал в себе этого неверия.
Прошло много лет. К стыду моему, должен сказать, что я мало изменился за истекшие годы нравственно, хотя и находился уже в преполовении дней моих, т. е. был человеком средних лет; в моем отношении к жизни и к себе нисколько не прибавилось серьезности. Я по-прежнему не был ни атеистом, ни сколько-нибудь осмысленно набожным человеком.
Я жил и, как и прежде, ходил по привычке в церковь, по привычке говел один раз в год, по привычке крестился, когда это полагалось, и этим ограничивалась вся моя религиозность.
Никакими вопросами религии я не интересовался и даже не понимал, что там можно чем-нибудь интересоваться.
И вот в эту пору, в 1903 году, случилось мне попасть по делам службы в Кронштадт. Там я заболел очень серьезно. Так как своей прислуги у меня в Кронштадте не было, то пришлось лечь в больницу. Доктора определили у меня воспаление легких.
В первое время я чувствовал себя настолько порядочно, что не раз думал, что из-за такого пустяка не стоило ложиться в больницу. Но, по мере того как болезнь развивалась и температура быстро поднималась, я понял, что с таким «пустяком» вовсе не интересно валяться одному в номере гостиницы.
В особенности донимали меня в больнице длинные зимние вечера. Жар совсем не давал спать, иногда даже лежать было невозможно, а спать на койке неловко и утомительно, встать же и походить по палате не хочется и не можется. И так вертишься в кровати — то сядешь, то ляжешь, то спустишь ноги, то сейчас же их подберешь. Все прислушиваешься: да когда же это часы будут бить? Ждешь, ждешь, а они, словно назло, пробьют два или три, стало быть, до рассвета еще целая вечность! И так удручающе действуют на больного этот общий сон и ночная тишина! Словно живой попал на кладбище в общество мертвецов!
Но, по мере того как дело подвигалось к кризису, мне, конечно, становилось все хуже и труднее, и по временам начинало так прихватывать, что уже было ни до чего! И я уже томительности бессонных ночей не замечал. Но, как ни круты были приступы моей болезни, мысль о смерти ни разу не пришла мне в голову. Я с уверенностью ожидал, что не сегодня-завтра должен наступить поворот к лучшему, и терпеливо спрашивал врачей всякий раз, когда у меня вынимали градусник из-под руки: «Какова у меня температура?».
Но, достигнув известной высоты, она снова замирала на одной точке. И на мой вопрос я постоянно слышал ответ:
— Сорок и девять десятых…
— Ах! Какая это длинная канитель! — с досадой говорил я и затем спрашивал у доктора, неужели же и мое выздоровление будет идти таким же черепашьим шагом.
Видя мое нетерпение, доктор, утешая меня, говорил, что в мои года и с моим здоровьем нечего бояться. Я вполне верил этому.
В одну ночь было особенно плохо. Я метался от жара, и дыхание мое было крайне затруднительным, но к утру мне вдруг сделалось легче настолько, что я смог заснуть.
Проснувшись, первою мыслию я вспомнил о ночных страданиях.
— Вот это, вероятно, и был перелом, — подумал я. — Теперь же конец этим придушиваниям и этому несносному жару.
И, увидев входившего в соседнюю палату молоденького фельдшера, я позвал его и попросил поставить мне градусник.
— Ну, барин! Теперь у Вас дело на поправку пошло, — весело проговорил он, вынимая через положенное время градусник. — Температура у Вас нормальная.
— Неужели?! — радостно спросил я.
— Вот, извольте посмотреть. Тридцать восемь и одна десятая. Да и кашель Вас, кажется, не так беспокоит?
Я только тут спохватился, что действительно я с половины ночи не кашлял, не кашляю и все утро, хотя и шевелился, и выпил несколько глотков горячего чаю.
В десять часов пришел доктор. Я сообщил ему, что ночью мне было нехорошо, и высказал предположение, что, вероятно, это был кризис. Но теперь я чувствую себя недурно и перед утром мог даже заснуть на несколько часов.
— Вот и отлично! — проговорил доктор и подошел к столу посмотреть лежавшие на нем какие-то таблички.
— Градусник прикажете поставить? — спросил доктора фельдшер. — Температура у них нормальная.
— Как «нормальная»? — быстро поднял голову от стола и, с недоумением глядя на фельдшера, спросил доктор.
— Точно так. Я сейчас смотрел.
Доктор велел поставить градусник и даже сам посмотрел, правильно ли он поставлен. Но на этот раз градусник не дотянул и до 37. Оказалось, 37 без двух.
Доктор достал из кармана сюртука свой градусник, встряхнул его и повертел в руках, очевидно, удостоверяясь в его исправности, и поставил его. Второй показал то же, что и первый.
К моему удивлению, доктор не выразил никакой радости по поводу этого обстоятельства. Не сделал, ну хотя бы из приличия, сколько-нибудь веселой мины и, повертевшись, как-то суетливо и бестолково вышел из палаты.
Через минуту я услыхал, что в его кабинете зазвонил звонок телефона.
Вскоре явился старший врач и велел чуть ли не всю мою спину облепить мушками. Затем, прописав микстуру, они не сдали мой рецепт с общими, но послали отдельно с ним фельдшера в аптеку, очевидно, с припиской — приготовить мне лекарство вне всякой очереди!
— Послушайте! Что это задумали Вы теперь, когда я чувствую себя отлично, жечь меня мушками? — спросил я у младшего врача.
Мне показалось, что доктора смутил или раздосадовал мой вопрос, и он нетерпеливо ответил:
— Ах, Боже мой! Да нельзя же Вас сразу бросить без всякой помощи на произвол болезни только потому, что Вы чувствуете себя несколько лучше. Надо же вытянуть из Вас всю дрянь, что накопилась там за это время.
Часа через три младший доктор снова заглянул ко мне. Он посмотрел, в каком я состоянии, спросил, сколько я успел принять ложек микстуры.
— Три.
— Кашляли Вы?
— Нет! — ответил я.
— Ни разу? — удивился доктор.
— Ни разу!
— Скажите, пожалуйста, — обратился я по уходе врача к вернувшемуся почти неотлучно бывшему в моей палате фельдшеру. — Какая мерзость наболтана в этой микстуре? Меня тошнит от нее!
— Тут разные отхаркивающие средства. Немножко ипекуаны есть, — пояснил он.
Я мысленно осудил в непонимании дела докторов.
— Дали отхаркивающие средства, когда отхаркивать-то нечего!
Между тем спустя часа полтора или два после последнего посещения докторов ко мне в палату явилось их целых три! Два наших и третий, какой-то важный и осанистый, — чужой.
Долго они выстукивали и выслушивали меня. Появился и мешок с кислородом. Последний несколько удивил меня.
— Теперь-то к чему все это? — спросил я.
— Да надо же профильтровать Ваши легкие, ведь они небось чуть не испеклись у Вас, — проговорил чужой доктор.
— А скажите, доктор, чем это так пленила Вас моя спина, что Вы так хлопочете над ней вот уже третий раз за утро, выстукиваете ее и мушками расписали? Я же чувствую себя хорошо!
Я чувствовал себя настолько лучше сравнительно с предыдущими днями, что очень был далек мысленно от всего печального! Даже появление важного чужого доктора я объяснял себе как ревизию или что-нибудь в этом роде, никак не подозревая, что он был вызвал специально для меня, что положение мое требовало консилиума.
Последний вопрос я задал таким непринужденным тоном, что, верно, ни у кого из моих врачей не хватило духу хотя бы намеком дать мне понять о надвигавшейся катастрофе.
Да и, правда, как сказать человеку, полному радостных надежд, что ему, быть может, остается жить всего несколько часов?
— Теперь-то и надо похлопотать около Вас, — неопределенно ответил доктор.
Но и на этот раз я понял ответ в желаемом смысле, т. е. что теперь, когда наступил перелом, когда сила недуга ослабевает, они и должны приложить все средства, чтобы выдворить болезнь и помочь восстановиться всему, что было поражено ею.
Помню, часов около четырех я почувствовал как бы легкий озноб и, желая согреться, плотно увернулся в одеяло и лег было в постель, но мне сделалось дурно. Я позвал фельдшера. Он подошел ко мне, поднял меня с подушки и подал мне мешок с кислородом.
Где-то прозвенел звонок, и через несколько минут в мою палату вошел старый фельдшер и один за другим оба наши врача.
В другое время такое необычное сборище всего медицинского персонала и быстрота, с которой он собрался, удивила бы меня, но теперь я отнесся к этому совершенно равнодушно, словно это и не касалось меня.
Страшная перемена произошла вдруг со мной, с моим настроением. За минуту перед тем жизнерадостный, я, хотя теперь и видел, и отлично понимал, что происходит вокруг меня, но ко всему этому отнесся с какой-то непостижимой отчужденностью, как думается, совсем даже не свойственной живому человеку.
Все мое внимание сосредоточилось на мне самом! И здесь была удивительная, своеобразная особенность, какая-то раздвоенность!
Я вполне ясно и определенно чувствовал и сознавал себя и в то же время относился к себе настолько безучастно, что казалось, будто я утерял способность физических ощущений! Я видел, например, как доктор протягивал руку, брал меня за пульс. Я видел и понимал, что он делает, но его прикосновения к себе не чувствовал!
Я видел и понимал, что доктора, приподняв меня, что-то делали со мной и хлопотали над моей спиной, с которой, вероятно, у меня начинался отек. Но, что делали они, я ничего не чувствовал! И не потому, что я на самом деле лишился совершенно способности хоть изредка ощущать, но потому, что меня это нисколько не интересовало, потому, что, уйдя глубоко в себя, внутрь, я не прислушивался и не следил за тем, что делали со мной! Во мне как будто обнаружились два существа.
Удивительное это было состояние!
Одно существо, укрывавшееся где-то глубоко, стало главнейшим, а другое — внешнее — стало менее значительным.
И вот теперь то, что делало эти вещества одним целым, выгорело и расплавилось. Они распались, и сильнейшее чувствовалось мною ярко, определенно, а слабейшее стало безразличным.
И это слабейшее было моим телом!
Могу представить себе, как всего несколько дней тому назад был бы я поражен открытием в себе этого второго, неведомого мне дотоле моего внутреннего существа! Но теперь я чувствовал ко всему отчужденность!
Вот доктор задал мне вопрос: я слышу и понимаю, что он спрашивает, но ответа не даю. Не даю не потому, что мне незачем говорить (ведь он хлопочет обо мне), но до той половины моего я, которая теперь утратила для меня всякое значение, мне нет никакого дела!
Но вдруг эта часть (мое тело) заявила о себе. И как резко и необычайно заговорила и заявила о себе!
Я почувствовал, что меня с неудержимой силой потянуло куда-то вниз.
В первые минуты ощущение было похоже на то, что как бы ко всем членам моим подвесили многопудовые гири. Но вскоре такое сравнение не могло уже выразить моего ощущения! Представление такой тяги оказывалось уже ничтожным. Нет! Тут действовала какая-то ужасающая сила закона притяжения! Мне казалось, что не только всего меня, но каждый мой член, каждый мой волосок, тончайшую жилку, каждую клеточку моего тела в отдельности тянет куда-то с такой же неотразимостью, как сильнодействующий магнит притягивает к себе кусочек металла.
И, однако, как ни сильно было это ощущение, оно не препятствовало мне думать и сознавать все! Я сознавал и странность самого этого явления, помнил и сознавал действительность, т. е. то, что я лежу на койке, что палата моя во втором этаже, что подо мной такая же комната. Но в то же время по силе ощущения я был уверен, что будто подо мной не одна, а десять нагроможденных одна на другую комнат и все это мгновенно расступится передо мной, чтобы пропустить меня… куда?
Куда-то глубже… дальше… в землю! Да, именно в землю. Мне захотелось лечь хоть на пол, и я сделал такое усилие и заметался…
— Агония! — услышал я произнесенные надо мною слова доктора.
Так как я не говорил и взгляд мой, как сосредоточенного в самом себе человека, должно быть, выражал полную к окружающему безучастность, доктора, вероятно, порешили, что я нахожусь в бессознательном состоянии, и говорили обо мне уже без стеснения.
А между тем я не только отлично понимал все, но мог и мыслить, и в известной мере наблюдать.
«Агония! Смерть!» — подумал я, услышав слова доктора.
— Да неужели же я умираю?! — обращаясь к самому себе, громко проговорил я. — Но как? Почему? Объяснить я не могу.
Мне вспомнилось когда-то давно прочитанное мною рассуждение ученых о том, болезненна ли смерть, и, закрыв глаза, я прислушался к себе, к тому, что происходило во мне.
Нет! Физических болей я не чувствовал никаких! Но я, несомненно, страдал. Мне было тяжело. Томно. Отчего же это?
Я знал, от какой болезни я умирал.
Что же? Душил ли меня отек или он стеснил деятельность сердца, и оно томило меня? Не знаю! Быть может, таково было определение наступившей смерти по понятиям тех людей, того мира, который теперь был так чужд и далек от меня. Я же чувствовал то непреодолимое стремление куда-то, тяготение к чему-то, о котором говорил выше. И я чувствовал, что тяготение это с каждым мгновением усиливается, что я вот уже совсем близко подхожу, почти касаюсь того влекущего меня магнита, прикоснувшись к которому, я всем моим естеством припаяюсь, срастусь с ним так, что уже никакая сила не в состоянии будет отделить меня от него.
И чем сильнее я чувствовал близость этого магнита, тем страшнее и тяжелее становилось мне, потому что вместе с этим ярче обнаруживался во мне протест и я яснее чувствовал, что весь я не могу слиться, что во мне что-то должно отделиться, и это «что-то» рвалось от неведомого мне предмета притяжения с такой силой, с какой что-то другое во мне стремилось к нему.
Эта борьба и причиняла мне истому и страдание.
Значение услышанного слова «агония» было вполне понятно мне, но все же во мне как-то все перевернулось теперь, от моих отношений, чувств и до понятий включительно.
Несомненно, если бы я услышал это слово тогда, когда трое докторов выслушивали меня, я бы невыразимо был испуган словом «агония», но теперь слова доктора только удивили меня, не вызвав того страха, какой вообще присущ людям при мысли о смерти.
Только вот… это она, земля, так тянет меня? Вдруг ярко всплыло в моей голове: не меня, а то свое, что на время она дала мне! И она ли тянет, или оно, тело, стремится к ней?! И то, что прежде казалось мне столь естественным и достоверным, т. е. то, что по смерти я рассыплюсь в прах, теперь явилось для меня противоестественным и невозможным!
— Нет! Я не уйду! Не могу! — чуть ли не громко крикнул я и сделал усилие освободиться от той силы, что влекла меня…
II
И вдруг я почувствовал, что мне стало легко! Я открыл глаза… И в моей памяти с совершенной ясностью до мельчайших подробностей запечатлелось все, что я увидал в эту минуту.
Я увидел, что стою посреди комнаты. Вправо от меня, обступив что-то полукругом, столпился весь медицинский персонал; заложив руки за спину и пристально глядя на что-то, чего мне за фигурами не было видно, стоял старший врач. Подле него, слегка наклонившись вперед, старик фельдшер держал в руках мешок с кислородом, нерешительно переминаясь с ноги на ногу, по-видимому, не зная, что ему делать со своей ношей: отнести ли ее, или она, может быть, и пригодится? А молодой, нагнувшись, поддерживал что-то; мне из-за его плеча виден был только угол подушки.
Меня удивила эта группа. На том месте, где она стояла, была моя койка. Что же теперь привлекло там внимание этих людей? На что смотрят они? На что? Ведь меня там не было!
Ведь я стоял посреди комнаты!
Я подвинулся и глянул туда, куда глядели они все…
На койке лежал я!!!
Не помню, чтобы я испытал что-нибудь похожее на страх при виде моего двойника. Меня охватило только недоумение: как же быть? Как же это так? Я чувствую себя здесь, а между тем — там тоже я!
Я оглянулся на себя, стоящего посреди комнаты. Да! Это несомненно был я! Точно такой же, каким я знал себя. Я захотел осязать себя, взять правой рукой за левую: моя рука прошла насквозь! Попробовал охватить себя за талию — рука снова прошла через весь корпус!
Пораженный таким странным явлением, я хотел, чтобы мне со стороны помогли разобраться в нем, и, сделав несколько шагов вперед, я протянул руку, желая дотронуться до плеча доктора, но почувствовал, что иду как-то странно, не ощущая прикосновения к полу, и рука моя, как я ни старался, все никак не может дотянуться, достигнуть фигуры доктора. Всего какой-нибудь вершок пространства остается, а дотронуться до него никак не могу!
Я сделал попытку твердо стать на пол, но, хотя корпус мой и повиновался мне, моим усилиям и я опустился вниз, но достигнуть пола, как и фигуры доктора, мне казалось невозможным: тут тоже оставалось ничтожное пространство, однако преодолеть его я никак не мог!
И мне живо вспомнилось, как несколько дней назад сиделка нашей палаты, желая предохранить мою микстуру от порчи, опустила пузырь с ней в кувшин с холодной водой, но воды в кувшине было много, и она сейчас же вынесла легкий пузырь наверх; а старушка, не понимая, в чем дело, настойчиво и раз, и другой, и третий опускала его на дно и даже придерживала его пальцем, но он снова выворачивался на поверхность!
Так, очевидно, и для меня теперешнего окружающий воздух был слишком плотен!
Что же сделалось со мной?
Я позвал доктора. Но атмосфера, в которой я находился, оказалась совсем не пригодной для меня. Она не воспринимала и не передавала звуков моего голоса, и я понял свою разобщенность со всем окружающим, свое странное одиночество.
И панический страх напал на меня!
Было что-то действительно невыразимо ужасное в этом необычайном одиночестве! Заблудился ли человек в лесу, тонет ли в пучине морской, горит ли в огне, сидит ли в одиночестве, в одиночном ли заключении, — он никогда не теряет надежды, что его услышат. Он знает, что его поймут, лишь бы донесся его зов, его крик о помощи. Он понимает, что его одиночество продолжится только до той минуты, пока он не увидит живое существо. Что войдет сторож в его каземат, и он поможет, сейчас же заговорит с ним и поймет, чего желает заключенный.
Но видеть вокруг себя людей, слышать и понимать их речь и в то же время знать, что ты, что бы ни случилось с тобой, не имеешь никакой возможности заявить о себе, ждать от них в случае нужды помощи — от такого одиночества волосы на голове становятся дыбом.
Ум цепенел! Это было хуже пребывания на необитаемом острове, потому что там природа воспринимала бы проявление вашей личности, а здесь было столько мертвящего страха, такое страшное сознание своей беспомощности, какого нельзя испытывать ни в каком другом положении и передать словами!
Я, конечно, сдался не сразу! Я всячески пробовал и старался заявить о себе, но попытки эти приводили меня лишь в полное отчаяние.
— Неужели же они не видят меня? — с горечью думал я и снова и снова приближался к стоящей над моей койкой группе лиц, но никто из них не оглядывался, не обращал на меня никакого внимания, и я с недоумением осмотрел себя, не понимая, как могут они не видеть меня, когда я такой же, как и был? Я делал снова попытку осязать себя — рука моя опять пересекла воздух.
— Но ведь я не призрак? Я чувствую и осязаю себя! И тело мое есть действительно тело, а не какой-нибудь обманчивый мираж, — думал я, пристально осматривая себя, и убеждался, что тело мое было, несомненно, тело, ибо я мог видеть каждую черточку на нем.
Внешний мой вид оставался таким же, каким был и прежде; изменилось, очевидно, его свойство. Оно стало недоступно для осязания, и окружающий его воздух стал настолько плотен для него, что не допускал его полного соприкосновения с предметами.
«…Астральное тело… астральное… кажется, это так называется», — мелькнуло в моей голове.
— Но почему же? Что сталось со мной? — задал я себе вопрос, стараясь припомнить, не слышал ли когда рассказов о таких странных трансфигурациях в болезнях…
— Нет! Тут ничего не поделаешь! — безнадежно махнул рукой и проговорил в это время младший доктор и отошел от койки, на которой лежал другой я!
Мне стало невозможно досадно, что они все толкуют и хлопочут над тем моим я, которого я совершенно не чувствую, который теперь совсем не существует для меня, и оставляют без внимания меня, который все сознает и, мучаясь страхом неизвестности, ищет и требует их помощи.
— Неужели они не хватятся меня? Неужели не понимают, что там меня нет? — с досадой думал я и, подойдя к койке, глянул на самого себя, который, в ущерб моему настоящему я, привлекал внимание находящихся в палате людей.
Я глянул туда, и тут только впервые у меня явилась мысль: да не случилось ли со мной того, что на нашем языке, на языке живых людей, определяется словом «смерть»?
Это пришло мне в голову, потому что мое лежавшее на койке тело имело совершенно вид мертвеца: без движения, бездыханное, с покрытием какой-то бледности на лице, с плотно сжатыми, слегка посиневшими губами, оно живо напоминало мне всех виденных мною мертвецов.
Может показаться странным, что при виде своего бездыханного тела я сразу не сообразил, что именно случилось со мной! Но, если вникнуть и проследить, что именно чувствовал и испытывал я, такое недоумение мое станет понятным.
В наших понятиях со словом «смерть» неразлучно связано представление о каком-то уничтожении, прекращении жизни. Как же мог я подумать, что умер, когда я ни на одну минуту не терял самосознания, когда чувствовал себя таким же живым, как все люди, все слышал, все видел, все сознавал, был способен двигаться, думать, говорить?
О каком уничтожении могла быть тут речь?
Я отчетливо видел себя и в то же время осознавал странность своего состояния! Но даже слова доктора, что все кончено, не остановили на себе моего внимания и не вызвали догадки о случившемся, настолько не соответствовало видимое нашим представлениям о смерти.
Разобщение со всем окружающим, раздвоение моей личности скорее всего могло бы дать мне понять, что происходит, если бы я верил в существование души, был человеком религиозным!
Но этого не было, и я руководствовался лишь тем, что чувствовал, а ощущение жизни было настолько ясно, что я только недоумевал над странным явлением, будучи совершенно не в состоянии связать моих ощущений с традиционными понятиями о смерти, т. е., чувствуя и сознавая себя, думать, что я уже не существую!
Впоследствии мне не раз приходилось слышать от людей религиозных, не отрицающих души и загробной жизни, такое мнение или предположение, что душа человека, едва только сбросит с себя бренную плоть, сейчас же становится каким-то всемогущим существом, что для нее нет ничего непонятного и удивительного в новых сферах, в новой форме ее бытия, что она не только мгновенно входит в новые законы открывающегося ей нового мира и своего измененного существования, но что это ей все сродно, что этот переход есть для нее как бы возвращение в настоящее ее отечество, возвращение к естественному состоянию. Такое предположение основывалось, главным образом, на том, что душа есть дух, а для духа не может существовать тех ограничений, какие существуют для плотского человека.
Предположение такое, конечно, не верно.
Из вышеописанного читатель видит, что я явился в новый мир таким же, каким ушел из старого, т. е. почти с теми же способностями, какие имел на земле.
Так, желая заявить о себе, я прибегал к таким же приемам, какие обыкновенно употребляются для этого всеми живыми людьми, т. е. я звал, подходил, старался дотронуться, толкнуть кого-либо. Заметив новое свойство своего тела, я находил его странным. Следовательно, понятия у меня оставались прежними. Иначе все это не могло не быть для меня странным. И, желая убедиться в существовании моего тела, я опять-таки прибегал к обычному мне, как человеку, способу.
Даже поняв, что я умер, я не постиг каким-нибудь новым способом происшедшей со мной перемены и недоумевал, придумывая разные предположения: то называл мое тело «астральным», то у меня проносилась мысль, что не с таким ли телом был создан первый человек и что полученные им после падения «ризы», о которых упоминается в Библии, не есть ли то бренное тело, которое лежит на койке и через несколько минут превратится в прах?
Одним словом, желая понять все случившееся, я придумывал ему объяснения, какие ведомы и доступны были мне по земным понятиям, и это естественно: душа есть дух, дух, созданный для жизни в теле, поэтому каким-то образом тело может являться для души чем-то вроде тюрьмы, приковывающим ее к не сродному будто бы существованию… А может быть, тело есть земное, предоставленное ей жилище, и поэтому душа явится в новый мир в той степени развития своей зрелости, какой достигла в совместной жизни с телом в положенной ей нормальной форме бытия?
Конечно, если человек при жизни духовно был развит, духовно настроен, его душе в ином мире будет много сродного и оттого понятнее в этом новом мире, чем душе того, кто жил, никогда не думая о нем!
И тогда, когда первая, религиозная, душа будет в состоянии сразу «читать» там, в новом мире, хотя бы и не бегло, и с запинками, второй — подобной моей — душе нужно будет начинать с азбуки… Ей нужно время, чтобы уразуметь и «переварить» ту новую действительность, о которой она никогда и не помышляла.
Вспоминая и продумывая впоследствии свое тогдашнее состояние, я заметил только, что мои умственные способности действовали тогда с такой удивительной энергией и быстротой, что, казалось, мне не нужно было ни малейшего времени, ни малейшего усилия, чтобы что сообразить, сопоставить, вспомнить что-нибудь: едва какая-либо мысль являлась передо мной, как память моя, мгновенно пронизывая прошлое, выкапывала оттуда все завалившиеся там и засохшие крохи знаний, и то, что в другое время несомненно вызвало бы мое недоумение, теперь представлялось мне как бы давно известным.
Иногда я даже каким-то наитием предугадывал неведомое мне, но все-таки не раньше, чем оно представлялось моим глазам. В этом только и заключалась особенность моих способностей, кроме тех, которые являлись следствием моего измененного естества.
Перехожу к повествованию о дальнейших обстоятельствах моего невероятного происшествия.
Да! Невероятного! Невероятного! Но если оно до сих пор казалось только «невероятным», то эти дальнейшие обстоятельства явятся в глазах образованного читателя «наивными небылицами», такими, что о них и повествовать бы не стоило! Но для тех, кто пожелает взглянуть на мой рассказ иначе, самая эта наивность послужит удостоверением его искренности. Ибо если бы я сочинял, выдумывал, то здесь для моей фантазии открылось бы широкое поле, и я, конечно, выдумал бы что-нибудь помудренее и поэффектнее…
Итак, что же дальше было со мной?
Доктора вышли из палаты. Оба фельдшера стояли и толковали о моей болезни и смерти. А старушка няня-сиделка, повернувшись к иконе, перекрестилась и громко высказала обычное в таких случаях пожелание:
— Ну, Царство ему Небесное… Вечный покой!
И едва она произнесла эти слова, как подле меня явились два ангела! В одном из них я почему-то узнал моего ангела-хранителя, а кто был другой, я не предполагал. Таковым он и остался для меня, хотя впоследствии я у многих духовных лиц спрашивал, нет ли в учениях нашей Церкви или творениях отцов каких-либо указаний на его явление при смерти человека. Но до сих пор только от одного простого странника вскользь слышал, что нужно молиться встречному ангелу.
— Какой это встречный ангел? — спросил его я.
Он лишь кратко ответил:
— А тот, который там твою душу встретит…
Более я ничего не узнал.
Взяв меня под руки, ангелы вынесли меня прямо через стену палаты на улицу. Смеркалось уже. Шел небольшой тихий снежок. Я видел все, но холода не чувствовал. И вообще перемены между комнатной температурой и уличной не ощущал. Очевидно, подобные вещи сразу утратили для меня, для моего измененного тела свое значение.
Мы стали быстро подниматься вверх. И по мере того как поднимались, взору моему открывалось все большее и большее пространство.
Оно приняло такие ужасающие размеры, что меня охватил страх. Страх от сознания своего ничтожества, ничтожества перед этой пустыней!
В этом, конечно, сказывались некоторые особенности моего зрения. Во-первых, было темно. А я видел все ясно. Следовательно, зрение мое получило способность видеть в темноте. Во-вторых: я охватывал взором такое пространство, какого, несомненно, не мог бы охватить обыкновенным зрением.
Но этих особенностей я, кажется, не сознавал тогда, а, что я вижу еще не все, что для моего зрения, как ни широк его кругозор, все-таки существует предел, — это я отлично понимал и ужасался.
Я сознавал себя таким ничтожным, ничего не знающим атомом, появление или исчезновение которого должно было оставаться совсем незамеченным в этом беспредельном пространстве.
Но, вместо того чтобы находить для себя в этом некоторое успокоение, своего рода безопасность, я страшился, что затеряюсь, что эта необъятность поглотит меня, как жалкую былинку!
Идея времени погасла в моем уме, и я не знал, сколько мы подымались вверх, как вдруг послышался сначала какой-то неясный шум, а затем, выплыв откуда-то, к нам с криком и гамом стала быстро приближаться толпа каких-то безобразных существ.
— Бесы! — с необыкновенной быстротой сообразил я и оцепенел от какого-то особенного, неведомого мне доселе ужаса!
Бесы! — о, сколько иронии, самого искреннего смеха вызвало бы во мне всего несколько дней, даже часов, тому назад чье-нибудь сообщение не столько о том, что видел своими глазами бесов, но что он допускает существование их как тварей известного рода!
Как и подобало образованному человеку девятнадцатого века (конца), я под этим названием разумел дурные склонности, страсти в человеке, потому же и самое это слово имело для меня значение не имени, а термина, определявшего отвлеченное понятие.
И вдруг это «отвлеченное понятие» предстало мне живым олицетворением!
Не могу я до сих пор сказать, как и почему я тогда без малейшего недоумения признал в этом безобразном видении бесов. Несомненно лишь, что такое определение совсем не выходило из порядка вещей и логики. Ибо, предстань мне подобное зрелище в другое время, я, несомненно, сказал бы, что это какая-то «небылица в лицах», каприз фантазии! Одним словом, все, что угодно, но уж, конечно, никак не назвал бы это именем, под которым понимал нечто такое, чего и видеть нельзя! Но тогда это определение вылилось с такой быстротой, как будто тут и думать было нечего! Как будто я увидел что-то давно хорошо мне известное! А так как мои умственные способности работали в то время, как я говорил, с какой-то непостижимой энергией, то я почти так же быстро сообразил, что безобразный вид этих тварей не был их настоящим видом, их настоящей внешностью, что это был какой-то маскарад мерзкий, придуманный, вероятно, с целью больше устрашить меня. И на мгновение что-то похожее на гордость шевельнулось во мне, но после мне стало стыдно за себя как за человека вообще, что для того, чтобы испугать его, столь мнящего о себе, другие твари прибегают к таким приемам, какие нами практикуются лишь по отношению к малым детям.
Окружив нас со всех сторон, бесы с криком и гамом требовали, чтобы меня отдали им. Они старались как-нибудь схватить меня и вырвать из рук ангелов. Но, очевидно, не смели этого сделать.
Среди их невообразимого и столь же отвратительного для слуха, как сами они были для зрения, воя и гама я улавливал слова и целые фразы.
— Он наш! Он Бога отрекся! — вдруг чуть ли не в один голос завопили они, и при этом уж с такой наглостью кинулись на меня, что от страха у меня на мгновение застыла всякая мысль.
— Это ложь! Это неправда! — опомнившись, хотел крикнуть я, но услужливая память связала мне язык.
Каким-то непонятным образом вдруг мне вспомнилось такое маленькое, такое ничтожное событие, и к тому же относившееся к давно минувшей эпохе моей юности, о котором, кажется, я и вспомнить бы не мог.
Мне вспомнилось, как во время моего учения, собравшись однажды у товарища, мы перешли на разговор — есть ли Бог.
— Веровать в Бога как в существо личное и всемогущее, верить, когда я Его не вижу, это абсурд! Ведь правда? — смотря в упор на меня, спросил один из товарищей. — Ведь Бога нет?
— Может быть, и нет, — проговорил я.
Фраза эта была в полном смысле «праздным» глаголом. Во мне не могла вызвать сомнения в бытии Божием бестолковая речь товарища. Я даже не особенно следил за разговором. И вот теперь оказалось, что этот праздный разговор не пропал бесследно в воздухе.
Мне надлежало оправдываться от возводимого на меня обвинения. И таким образом подтвердилось евангельское сказание, что если не по воле ведающего тайны сердца человеческого Бога, то по злобе врага нашего спасения нам действительно предстоит дать отчет о всяком праздном слове!
Обвинение это, по-видимому, являлось самым сильным аргументом моей погибели для бесов, они как бы почерпнули в нем новую силу для смелости своих нападений на меня и уже с неистовым ревом завертелись вокруг нас, преграждая дальнейший путь.
Я вспомнил о молитве и стал молиться, призывая на помощь святых, которых знал и чьи имена мне пришли на память. Но это не устраняло моих врагов.
Великий невежда, христианин лишь по имени, я впервые вспомнил о Той, Которая именуется Заступницей рода христианского!
И, вероятно, был так горяч мой призыв к Ней, вероятно, так преисполнена была ужаса моя душа, что едва я вспомнил и произнес Ее имя, как вокруг нас появился какой-то туман, который стал быстро заволакивать безобразное сонмище бесов, скрывая их от моих глаз, прежде чем оно успело отделиться от нас.
Рев и гогот их слышался еще долго, но по тому, как он постепенно ослабевал и становился глуше, я мог понять, что страшная погоня отставала от нас.
Испытанное мною чувство страха захватило меня всего так, что я даже не сознавал, продолжали ли мы в это время, во время этой ужасной встречи, наш полет, или она остановила нас? Я понял, что мы движемся, что мы продолжаем подниматься вверх, лишь когда передо мною снова разостлалось бесконечное воздушное пространство. Пройдя некоторое его расстояние, я увидел перед собой свет; он походил, как казалось мне, на наш солнечный, но был гораздо сильнее его. Это было, вероятно, какое-то царство света… да, именно царство света, полное владычество света… так предугадывал я каким-то особым чувством еще не виданное мной…
— Почему при этом свете нет теней? — сейчас же заговорили мои земные познания.
И вдруг мы быстро вознеслись в сферу этого света и он буквально ослепил меня.
Я закрыл глаза, поднес руки к лицу, но это не помогало, так как руки мои не давали тени. Да и что здесь подобная защита? Боже мой! Да что же это такое? Что это за свет такой?! Для меня ведь словно такая тьма!
— Я не могу смотреть, как во тьму, не вижу ничего! — взмолился я, сопоставляя мое земное зрение с теперешним, забывая, что теперь такое сравнение не годилось.
Эта невозможность видеть, смотреть, неизвестность, естественная при нахождении в неведомом мире, увеличивала мой страх.
Я с тревогой размышлял:
— Что же будет дальше? Скоро ли мы минуем эту сферу света, и есть ли ей предел? Есть ли конец?
Но случилось иное.
Величественно, без гнева, но властно и непоколебимо сверху раздались слова:
— Не готов.
А затем… Затем — мгновенная остановка в нашем стремительном полете вверх — и мы быстро стали спускаться вниз.
Но, прежде чем мы покинули эти сферы, мне дано было узнать одно дивное явление.
Едва сверху раздались означенные слова, как все в этом мире — казалось, каждая пылинка, каждый самый малейший атом — отозвалось на них своим изволением. Словно многомиллионное эхо повторило их на не уловимом для слуха, но понятном для сердца и ума языке, выражая свое полное согласие с последовавшим определением.
И в этом единстве воли была такая дивная гармония! И в этой гармонии было столько восторженной, невыразимой радости, пред которой жалким, бессолнечным днем являлись все наши земные очарования и восторги!
Неподражаемым музыкальным аккордом прозвучало это многомиллионное эхо, и вся моя душа заговорила, вся беззаветно отозвалась на него пламенным порывом слиться с этой общей дивной гармонией!
Я не понял настоящего смысла относившихся ко мне слов, т. е. не понял, что я должен вернуться на землю и снова так же, как раньше, жить. Я думал, что меня несут в какие-либо иные страны, и чувство робкого протеста зашевелилось во мне, когда передо мной снова смутно, как в утреннем тумане, обозначились очертания города, а затем ясно показались знакомые улицы.
Вот и памятное здание больницы. Так же, как и прежде, через стены здания и закрытые двери был внесен я в какую-то совершенно мне не знакомую комнату.
В комнате этой стояло несколько окрашенных темной краской столов. И на одном из них, покрытом чем-то белым, я увидел лежащего себя, вернее, мое мертвое тело!
Неподалеку от моего стола какой-то седенький старичок в коричневом пиджаке, водя согнутой восковой свечой по строкам черного шрифта, читал псалтирь. А по другую сторону на стоящей вдоль стены черной лавке сидела, очевидно, уже извещенная о моей смерти и успевшая приехать моя сестра. А подле нее, нагнувшись, что-то тихо говорил ее муж.
— Ты слышал определение Божие? — подведя меня к столу, обратился ко мне безмолвствующий доселе мой ангел-хранитель и, указав рукой на мое мертвое тело, сказал:
— Войди и готовься!
III
Совершенно ясно помню, что и как произошло после этих слов со мной. Сначала я почувствовал, что меня как бы стеснило, затем появилось ощущение неприятного холода и возвращение этой утраченной способности чувствовать.
Все это живо воскресило во мне представление о прежней жизни, и чувство глубокой грусти, как бы о чем-то утраченном, охватило меня (замечу, к слову, что чувство это осталось после описанной мною истории навсегда при мне). У меня не было желания вернуться к прежней жизни, меня нисколько не тянуло к ней, хотя до этой поры не было ничего скорбного в ней.
Приходилось ли Вам, читатель, видеть пролежавшую некоторое время в сыром месте фотографию?
Рисунок на ней сохранился, но от сырости она выцвела, облиняла и вместо определенного и красивого изображения получилась какая-то бледно-рыжеватая муть.
Так обесцветилась для меня жизнь, превратилась в какую-то сплошную водянистую картинку, и такой остается она в моих глазах и поныне.
…Очнулся я уже лежащим в больничной палате на койке. Открыв глаза, я увидел себя окруженным чуть ли не целой толпой любопытствующих, или, вернее выражаясь, с напряженным вниманием наблюдавших меня лиц.
У самого моего изголовья на придвинутом табурете, стараясь сохранить свое обычное величие, сидел старший врач. Его поза, манера, казалось, говорили, что все это вещь обыкновенная и ничего нет тут удивительного, а между тем в его устремленных на меня глазах так и сверкало напряженное внимание и недоумение.
Младший доктор, тот уже без стеснения буквально впился в меня глазами, словно стараясь просмотреть меня насквозь.
У ног моей койки, одетая в черное платье, с бледным, взволнованным лицом стояла моя сестра. Подле нее — зять. Из-за плеча сестры выглядывало спокойное лицо больничной сиделки.
А еще дальше виднелась уж совсем перепуганная физиономия нашего фельдшера.
Придя окончательно в себя, я прежде всего поприветствовал сестру. Она быстро подошла ко мне, обняла меня и заплакала.
— Ну, батенька! Задали Вы нам жару! — со свойственным молодости нетерпением поделиться поскорее пережитыми необыкновенными впечатлениями и наблюдениями проговорил младший доктор. — Кабы Вы знали, что с Вами творилось!
— Да я отлично помню все, что со мной происходило, — проговорил я.
— Как! Неужели Вы не теряли сознания?
— Стало быть, нет!
— Это очень, очень даже странно, — проговорил он, взглянув на старшего врача. — Странно потому, что Вы лежали настоящей кочерыжкой, без малейших признаков жизни… нигде ничего… ни-ни! Как можно в таком положении, в таком состоянии сохранить сознание?
— Вероятно же, можно, раз я видел и сознавал все!
— То есть видеть-то Вы не могли, а слышать… чувствовать… и неужели все слышали и все понимали? Слышали, как Вас обмывали?
— Нет! Этого я не чувствовал. Вообще, тело мое для меня было не чувствительно.
— Как же так! Говорите, что помните все, что было с Вами, а ничего не чувствовали?
— Я говорю, что не чувствовал только того, что делали с моим телом… — находясь под ярким впечатлением пережитого, проговорил я, думая, что такого пояснения достаточно, чтобы понять высказанное мною.
— Ну-те… — видя, что я остановился, проговорил доктор и даже запнулся на минуту, не зная, что еще от меня надо. Мне же казалось, что вообще все тут понятно, и я снова проговорил:
— Я сказал Вам, что не чувствовал только своего тела. Следовательно, и всего, что касалось его, но ведь тело мое — не весь же я? Не весь же я лежал кочерыжкой? Ведь прочее жило? Жило и продолжало действовать во мне!
Так сказал я, думая, что раздвоение, или, вернее, раздельность в моей личности, которая была теперь для меня яснее божьего дня, была также известна и тем людям, к которым я обращал свою речь.
Очевидно, я еще не вернулся в прежнюю жизнь, не перенесся на точку ее понятий. А говоря о том, что знал и что чувствовал сам, не понимал, что слова мои могут показаться чуть ли не бредом сумасшедшего для не испытавших ничего подобного и отрицающих все подобное людей. Доктор еще что-то хотел спросить у меня, но старший доктор сделал ему знак, чтобы он оставил меня в покое, не знаю уж, потому ли, что этот покой мне действительно был нужен, или потому, что из моих слов он вывел заключение, что голова моя еще не в порядке, и поэтому нечего толковать со мной.
Убедившись, что «механизм» мой пришел в более или менее надлежащий вид, меня ослушали. Отеков в легких не оказалось. Затем, дав выпить, кажется, чашку бульона, все удалились из палаты, позволив лишь сестре побыть со мной еще некоторое время.
Думая, вероятно, что напоминания о случившемся могут волновать меня, вызывая всякие страшные предположения и гадания вроде возможности быть заживо погребенным, все окружающие меня и навещавшие меня в этот день избегали заводить со мной об этом разговор. Исключение составлял только младший доктор. Его, по-видимому, крайне интересовал бывший со мной случай. Он несколько раз прибегал ко мне — просто лишь взглянуть на меня, спросить, как и что, но задавать мне вводившие его в недоумение вопросы не решался.
Иногда он приходил один, а потом приводил даже с собой кого-нибудь из товарищей, большей частью студента, посмотреть на побывавшего в мертвецкой.
На третий или на четвертый день, найдя меня, вероятно, достаточно окрепшим, или, может, просто выжидать больше не было терпения, он, придя вечером в мою палату, пустился уже в более продолжительный разговор. Подержав меня за пульс, он сказал:
— Удивительно. Все дни у Вас пульс ровный, без всяких вспышек и отклонений. А если бы Вы знали, что с Вами творилось! Чудеса! Чудеса, да и только!
Я уже совсем освоился теперь, вошел в колею прежней жизни и, понимая всю необычайность случившегося со мной, спросил:
— Это когда же со мной чудеса творились? Перед тем как я вернулся к жизни?
— Да, перед тем как Вы очнулись. Я уже не говорю о себе, я человек еще малоопытный, а случая летаргии до сих пор и совсем не видал. Но, кому я ни рассказывал из старых врачей, все удивлены, понимаете, до того, что отказываются верить моим словам!
— Что же, собственно, было со мной диковинного?
— Я думал, Вы знаете? Впрочем, тут и знать нечего! Оно и так само собой понятно, что у человека, когда проходит обморочное состояние, все органы работают слабо, пульс едва уловить можно, дыхание совсем неприметное, а у Вас произошло что-то невообразимое!
Легкие сразу запыхтели, как какие-то меха исполинские. Сердце застучало сразу, что молот о наковальню! Нет! Это даже передать нельзя. Это надо было видеть!.. Понимаете, это был какой-то вулкан перед извержением! Мороз бежал по спине. Со стороны становилось страшно. Казалось, еще мгновение… и кусков не останется от Вас. Потому что никакой организм не может выдержать такой работы!
— Им не диво, что я перед тем, как очнуться, потерял сознание? — подумал я. А до рассказа доктора я все недоумевал и не знал, как объяснить то странное, как мне казалось, обстоятельство, что во время умирания, т. е. когда все во мне замирало, я ни на минуту не потерял сознания, а когда мне надлежало ожить, я, наоборот, впал в обморочное состояние.
Теперь это стало понятно для меня! При смерти я тоже чувствовал стеснение, но в крайний момент оно разрешилось тем, что я сбросил с себя то, что причиняло стеснение, а одна душа, очевидно, не может падать в обморок. Когда же мне следовало опять ожить, вернуться к жизни, я должен был принять на себя то, что подвержено страданиям до обмороков включительно.
Доктор между тем продолжал:
— И Вы поймите, что ведь не после какого-нибудь обморока, а после полуторасуточной летаргии! Можете судить о силе этой работы по тому, что Вы представляли собой замороженную кочерыжку, но спустя каких-нибудь 15-20 минут Ваши члены получили гибкость, а к часу согрелись даже конечности. Ведь это невероятно! Невиданно! И вот, когда я рассказываю, мне отказываются верить!
— А знаете, доктор, почему это случилось так необычно? — сказал я.
— Почему?
— Вы, по Вашим медицинским понятиям, под определением «летаргия» понимаете нечто сходное с обмороком.
— Да, только в наивысшей степени.
— Ну, тогда, стало быть, со мной была не летаргия…
— А что же?
— Я, стало быть, действительно умирал и вернулся к жизни. Если бы здесь было только ослабление жизнедеятельности, то тогда бы тело, конечно, восстанавливалось без подобной «бульверсии», а так как телу моему надлежало экстренно приготовиться к принятию души, то и работать все органы должны были экстраординарно.
— Да? Вы шутите? — сказал доктор, и лицо его приняло равнодушное выражение.
— Могу Вас уверить, что я и не думал шутить. Я сам несомненно верю тому, что говорю, и хотел бы, чтобы и Вы поверили. Ну хотя бы для того, чтобы серьезно исследовать такое исключительное явление. Вы говорите, что я ничего не мог видеть, а хотите, я Вам зарисую всю обстановку, в которой я живым никогда не был?! Хотите, расскажу, где и кто из вас стоял и что делал в момент моей смерти? Да и не только в момент смерти, и даже вслед за этим?
Доктор заинтересовался моими словами, и, когда я, рассказывая, напомнил ему, как все было, он с видом человека, сбитого с толку, промычал:
— Да… странно… какое ясновидение…
— Но, доктор, это уже совсем не вяжется что-то: состояние замороженного судака и… ясновидение!
Но верх изумления вызвал в нем мой рассказ о том состоянии, в котором находился я первое время после разъединения моей души с телом, о том, как я видел, как хлопочут над моим телом, которое, бесчувственное, имело для меня значение странной одежды. О том, как мне хотелось дотронуться, толкнуть кого-нибудь, чтобы привлечь внимание к себе, и как ставший слишком плотным воздух не допускал моего соприкосновения с окружающими меня предметами.
Все это он слушал, чуть ли не буквально раскрыв рот. И, едва я кончил, он поспешил проститься со мной и ушел, вероятно, спеша поделиться с другими столь интересным повествованием.
Вероятно, он сообщил об этом старшему врачу, ибо тот во время визитации на следующий день, осмотрев меня, задержался около моей койки и сказал:
— У Вас, кажется, была галлюцинация? Во время летаргии! Так Вы, смотрите, постарайтесь отделаться от этого, а то…
— Могу с ума сойти? – подсказал я.
— Нет! Это, пожалуй, уж много, а может перейти в манию.
— Разве при летаргии галлюцинации бывают?
— Что Вы спрашиваете? Вы знаете теперь лучше меня!
— Единственный случай, хотя бы со мной, для меня не доказательство. Мне хотелось бы знать общий вывод медицинских наблюдений по этому обстоятельству.
— А куда же девать случай с Вами? Ведь это факт!
— Да, но, если все случаи подводить под одну рубрику, не закроем ли мы этим двери для исследования разных явлений, различных симптомов? И не получится ли через подобный прием нежелательная односторонность в медицинских диагнозах?
— Нет! Тут ничего подобного быть не может! Что с Вами была летаргия — это вне всякого сомнения. Следовательно, должно принять и то, что было с Вами, за возможное в этом состоянии.
— А скажите, доктор, есть ли какая-нибудь почва для появления летаргии в такой болезни, как воспаление легких?
— Медицина не может указать, какая именно нужна для этого почва, потому что она приключается при всякой болезни; даже бывали случаи, что человек впадал в летаргию, в летаргический сон без предшествия какой-либо болезни, будучи, по-видимому, совершенно здоровым.
— А может сам по себе пройти отек легких? Т. е. во время летаргии, когда человек остается без всякой медицинской помощи, без всяких медицинских пособий, когда сердце его бездействует и, следовательно, увеличение отека не встречает никаких препятствий для себя?
— Раз это случилось с Вами, стало быть, возможно, хотя, вернее, Ваш отек прошел, когда Вы очнулись.
— В несколько минут?
— Ну, уж не в несколько минут… впрочем… хотя бы и так. Такая работа сердца, как у Вас, в момент Вашего пробуждения могла, пожалуй, и лед на Волге изломать, а не то что разогнать отек в короткое время!
— А могли стесненные легкие работать так, как они работали у меня? Стало быть… следовательно… ничего удивительного тут нет? — продолжал я спрашивать, видя, что доктор молчит.
— Нет, почему же?.. Это, во всяком случае… редко наблюдаемое явление.
— Редко… Или в таких обстоятельствах и при такой обстановке никогда?!
— Да… Как никогда…
— Следовательно, отек может пройти сам по себе, даже когда все органы человека бездействуют? И стесненное отеком сердце и отекшие легкие могут, если им вздумается, работать также на славу?! Тогда, казалось бы, от отека легких и умирать нечего! А скажите, доктор, может ли человек очнуться после летаргии, приключившейся с ним во время отека легких? Т. е. может ли он вывернуться от двух таких неблагополучных казусов?
На лице доктора появилась ироническая улыбка:
— Вот видите, я недаром предупреждал Вас относительно мании… Вы все хотите подвести бывший с Вами случай под что-то другое, а не под летаргию, и задаете мне вопросы с целью…
— С целью убедиться, — подумал я, — кто из нас маньяк: я ли, желающий выводами науки проверить основательность сделанного тобою моему состоянию определения, или ты, подводящий, быть может, вопреки даже возможности, все под одно имеющееся в твоей науке наименование?
Но я громко сказал следующее:
— Я задаю вопросы с целью показать Вам, что не всякий, увидев порхающий снег, способен указаниям календаря и цветущим деревьям доказывать, что, стало быть, зима! Зима, потому что, по науке, снег значится как принадлежность зимы! Ибо сам я помню, как однажды выпал снег, когда по календарю значилось 12 мая и деревья в саду моего отца были в цвету.
Этот ответ мой, вероятно, убедил доктора, что он не опоздал со своим предупреждением, что я уже впал в манию, и он ничего не возразил мне. И я тоже больше ни о чем не расспрашивал его.
Я привел свой разговор для того, чтобы читатель не обвинял меня в непростительном легкомыслии, что я по горячим следам не обследовал научно бывшего со мной случая, тем более что произошел он при благоприятной для меня почве. Ведь на самом деле: налицо было двое лечащих меня врачей — очевидцев всего случившегося и целый штат больничных служащих разных категорий.
И вот по приведенному разговору читатель может судить, чем должны были окончиться мои «научные исследования».
Что я мог узнать, чего добиться при таком отношении к делу? А мне все-таки хотелось узнать подробнее и понять весь ход моей болезни. Хотелось узнать, была ли хотя бы на йоту вероятность того, что отек у меня мог рассосаться в то время, когда сердце мое бездействовало и кровообращение окончательно прекратилось.
Басне, что он прошел у меня в несколько минут, когда я очнулся, тоже мудрено верить, потому что откуда тогда явилась столь бурная непонятная деятельность стесненных отеком сердца и легких?! Но после подобных вышеприведенных попыток я оставил моих врачей в покое и перестал расспрашивать их, потому что все равно и сам не поверил бы в правдивость и бесстрастность их ответов.
Пробовал я впоследствии «обследовать научно» этот вопрос, но результат получился все тот же!
Я встречал такое же апатичное отношение ко всяким «обследованиям», такой малодушный страх перешагнуть за черту очерченного наукой круга! А наука… Ах, какое тут меня постигло разочарование!
Когда я спрашивал: «Возможно ли человеку, впавшему в летаргию при наступившем при воспалении легких отеке, — очнуться?» или «Наблюдались ли в медицине и возможны ли по закону природы вообще такие случаи, чтобы во время летаргии больной совершенно выздоравливал от какой-либо болезни, выздоравливал сразу?», мне отвечали отрицательно, но сейчас же при малейших моих вопросах уверенный тон переходил в гадательный. Появлялись разные: «впрочем… знаете…» и тому подобные.
О том, что было со мной, конечно, нечего было и заикаться. Тут выплывало всеподданнейшее перед наукой, и всеобъясняющее, и всеудовлетворяющее «раз это было с Вами»… и проч. И ни минутного недоумения, ни удивления, что указывало на полнейшее отсутствие уверенности в обоснованности того, что говорилось за четверть часа перед этим!
Меня, как не посвященного в тонкости этой науки, ужасно злило это, и я не раз с горячностью спрашивал, ставя вопрос ребром: «Но скажите, пожалуйста, пусть летаргия — явление редкое, пусть сама она мало наблюдалась, мало исследована, но неужели же в ваших научных законоположениях о жизни организма нельзя найти сколько-нибудь определенный ответ на подобные вопросы?».
И тут приходилось убедиться, что это «научное законоположение» жизни организма имело под собой столько же незыблемой почвы, как гипотеза о происхождении каналов на Марсе и бываемых там наводнениях. Да и чего тут было забираться в «сущности-сущностей», когда даже на мой вопрос, бывают или не бывают при летаргии галлюцинации, я не получал прямого ответа.
И пришлось мне самому браться за собирание тех сведений, какие я думал найти готовыми в науке. И собирал я их (в особенности в первое время) довольно усердно! Во-первых, потому, что мне хотелось уяснить самому себе, что должно понимать под словом «летаргия». Глубокий ли сон? Или обморок? Одним словом, такое состояние, когда жизнь человека как бы замирает, но не покидает его совсем? Или такое представление о летаргическом сне неверно, и, в сущности, со всяким впавшим, по нашим определениям, в летаргию происходит то же, что было и со мной?! Во-вторых: я знал, что рассказ будет встречать недоверие (на мой взгляд, бессмысленное и неосновательное, ведь научно нельзя доказать невозможности такого явления). Но, будучи сам горячо убежден в происшедшем со мной, я желал найти подтверждение основательности моей убежденности в наблюдениях и всевозможных исследованиях данного обстоятельства.
Так какой же результат дали мои исследования? Что же именно было со мной?
Несомненно, то, что я описал! То есть душа моя покинула на время тело и затем Божиим определением вернулась в него — ответ, могущий, конечно, иметь двоякое в себе объяснение, безусловно невозможный для одних и вполне вероятный для других, в зависимости от внутреннего устроения, от миросозерцания человека. Для того, кто не признает существование души, недопустим даже вопрос о каком-либо правдоподобии такого определения. Как она, душа, может отделиться, когда ее, по словам неверующего, и совсем нет?!
Желательно только, чтобы неверующие читатели обратили внимание на то, что что-то в человеке может видеть, слышать — одним словом, жить и действовать и тогда, когда его тело лежит окоченелым и совершенно бесчувственным.
А кто верит, что в человеке, кроме физического состава, физических отправлений, есть еще какая-то сила, совершенно от них не зависимая, то для него в подобном факте нет ничего невероятного. А верить этому, думается, гораздо разумнее и основательнее.
Когда я с моим рассказом обращался к духовным лицам разных иерархических степеней, а между ними были люди и очень ученые, все они единогласно отвечали мне, что в происшедшем со мной случае нет ничего невероятного, что повествования о подобном имеются в Библии и в Житиях святых! Что в Своих благих, премудрых целях Господь допускает иногда такое предвосхищение души, дает увидеть по мере ее способности к созерцательности — одной больше, другой — меньше из того таинственного мира, в который всем нам надлежит неизбежный путь!
Прибавлю от себя, что иногда цель таких откровений бывает сразу ясна и понятна, иногда остается сокрытою, и даже настолько, что откровение кажется как бы беспричинным, ничем не вызванным, а иногда лишь через долгий промежуток времени каким-нибудь окружным путем обозначается его необходимость.
Так и в перечитанной мной литературе по этому предмету я напал на случай, где только для правнука подобное происшествие явилось грозным и столь властным и неотразимо воздействовавшим на него предостережением, что он воздержался от самоубийства, от которого дотоле ничто не могло отвратить его! Очевидно, в род его необходимо было пролить такое знание, но, кроме прабабки спасенного, никто не способен был воспринять его. А от нее и лег такой долгий промежуток времени между откровением и применением.
Такова духовная сторона этого обстоятельства. Перейдем к другим.
Из всех справок, из всего перечитанного мною по этому предмету я узнал, что галлюцинации в летаргии никогда не бывает и, по существу, быть не может! Что впавший в летаргический сон ничего не чувствует и слышит лишь то, что в действительности происходит вокруг него. Тела же своего на койке не видит и с ангелами никуда не летает. И медицинское наименование такого состояния как «сон» совершенно неправильно. Это, скорее, оцепенение, парализация или, как еще подходяще выражаются в народе, — «обмирание», которое в зависимости от степени его силы распространяется на все мельчайшие отправления, на всю тончайшую работу организма.
И в таком случае само собой разумеется, что ни о каких сновидениях и галлюцинациях речи быть не может, так как всякая деятельность мозга бывает так же парализована, как и прочие органы.
При более же слабой степени летаргии больной чувствует себя и сознает все вполне правильно. Мозг его находится в совершенно трезвенном состоянии, как у бодрствующего и умственно здорового человека, и, следовательно, этому страшному недугу совсем не свойственно даже и в малой мере подобие сна или легкого забытья, омраченного сознания.
Далее, несомненно веским, хотя, быть может, и не для людей «положительной науки», но для людей просто со здравым смыслом и с трезвым отношением к вещам, доказательством того, что случившееся в приключившихся со мной обстоятельствах — суть не галлюцинации, а действительно пережитое, служит сила реальности.
Думаю, что каждый из нас знаком с каким-нибудь ярким сновидением, бредом, кошмаром и тому подобными явлениями и каждый на себе может проверить, насколько продолжительными бывают оставляемые ими впечатления. Обыкновенно они бледнеют и рассеиваются вслед за пробуждением. А если дело идет о галлюцинации, достаточно человеку поправиться, прийти в себя, как он сейчас же отделывается от ее власти и сознает, что это был бред или кошмар.
Так, я знал одного больного горячкой, который спустя час после кризиса со смехом рассказывал о пережитых им страхах в бреду; несмотря на очень сильную еще слабость, он уже смотрел на едва минувшее глазами здорового человека, сознавая, что это был бред, и воспоминания о нем не вызывали уже страха.
Совсем иное то состояние, о котором я веду речь.
Я никогда ни на одно мгновение не усомнился в том, что все виденное и испытанное мной в те часы, которые протекли, выражаясь языком докторов, от моей «агонии» до «пробуждения» в мертвецкой, — были не грезы, но они столь же реальны, как моя теперешняя жизнь и окружающая обстановка.
Меня всячески старались сбить с этой уверенности, споря даже подчас до смешного: возможно ли заставить человека усомниться в том, что для него так же явственно, как пережитый вчерашний день! Попробуйте-ка заставить себя не поверить, что вы вчера обедали или пили чай, ходили на службу или что жили минувшее лето на даче, когда вы отлично помните дорогу туда и всю вашу дачную обстановку. И заметьте, что я здесь не представляю исключения.
Перечитайте или прослушайте повествования о таких случаях, и вы увидите, что подобные откровения загробного мира иногда очевидно имели чисто личную цель, и в таких случаях лицу, получившему их, запрещалось рассказывать о виденном другим, хотя бы это лицо прожило после того десятки лет. Какой бы это ни был легкомысленный, или слабохарактерный человек, или болтливый, он ни ради чего, ни даже самым близким ему лицам не открывал вверенной ему тайны.
Из этого явствует, насколько свято было для него полученное приказание и что оно на всю жизнь, стало быть, сохранило характер несомненной действительности и не было продуктом его расстроенного воображения.
Что это за странность? Что за исключительность такая? Каким образом вполне здоровый человек, каким я, например, знаю себя, может вопреки общему закону для подобных вещей всю свою жизнь оставаться под действием какого-то сна, кошмара, галлюцинации? А ведь я уже упоминал, что остался на всю жизнь с тихой, никогда не рассеиваемой грустью и особым взглядом на жизнь?!
Очевидно, что такое состояние не есть летаргия, а виденное и испытанное в нем — не галлюцинация!
Нужно ли повторять здесь все другие необычайности бывшего со мной происшествия?
Куда в самом деле девался мой отек, и отек, как должно думать, весьма значительный, если у меня сразу так понизилась температура и он так залил мои легкие, что я ничего не мог выхаркать, несмотря на все способствующие средства, хотя грудь моя была переполнена мокротой?! Как этот отек разошелся, как рассосался во мне, когда кровь у меня застыла? Каким образом смогли вдруг так сильно и правильно заработать мои отекшие легкие и сердце, если отек оставался у меня до пробуждения?
Очень мудрено при наличии таких условий верить, что я мог очнуться и остаться живым не чудом, а естественным путем; не очень-то часто выпутывается больной от отека легких даже и при более благоприятной обстановке! А тем более тогда, когда медицинская помощь оставлена, больного самого уже обмыли, нарядили и вынесли в нетопленую мертвецкую!
И потом, что это за непостижимое явление: я видел, слышал не какие-нибудь фантазии, а в действительности все, что происходило в палате и в мертвецкой, и понимал все это; стало быть, я не бредил и вообще был в полном сознании! И в то же время, каким образом, имея умственные способности в порядке, я видел, чувствовал и сознавал себя раздвоившимся? Видел лежащее на койке свое бездыханное тело и сознавал и помнил это тело — другого себя? Я сознавал странность этого обстоятельства и понимал все особенности формы моего нового бытия. Потом вдруг я перестал видеть, что происходит в палате… Почему? Потому что моя умственная деятельность погрузилась в настоящую нирвану и я окончательно потерял сознание?
Нет! Я продолжал видеть и сознавать окружающую меня обстановку в ином мире и не видел происходящего в больничной палате, потому что отсутствовал, а как возвратился — снова по-прежнему мог видеть и слышать все!
Но как же это я мог отсутствовать, если в человеке нет как самостоятельного существа — души?! И как могла отделиться душа от тела, если здесь не произошло того, что на нашем языке называется смертью!
Да и какая охота была бы мне в наш век неверия и отрицания всего сверхчувственного говорить о таком невероятном факте и доказывать его истинность, если бы все это не произошло и не было так для меня явственно! Так явственно и так несомненно! Это — естественная потребность человека не только верующего, но и уверенного в истинности православного учения о смерти.
Это исповедь человека, чудесным образом извлеченного из бессмысленного, грозного и слишком распространенного в наше время недуга — неверия в загробную жизнь!
+Икскуль
Был явлен сон
Октябрь 11 дня 1908 года.
Не пришел к утрене певчий, бас левого клироса соборного храма Ново-Афонского монастыря, послушник Пантелеимон. Ходивший будить его послушник Михаил стучал в дверь келии и звал петь на клиросе, но тот из келии голоса не подал. Перед ранней литургией монах Доментиан также звал его пособить им в соборе, прочитать «Апостол», и опять не мог его разбудить. Когда же он не явился к поздней обедне, даже не пришел и на трапезу обедать, тогда один из певчих влез к нему в окно и начал его будить, но Пантелеимон не отзывался и не просыпался. Трясли его, качали долго руками, но разбудить не смогли. Дверь в келию была отворена, когда в нее вошел иеродиакон с собравшейся у двери братией из певчих; они также долго будили собрата, но не могли разбудить и послали в больницу за старшим монастырским фельдшером, который, осмотрев спящего, ничего ненормального в его здоровье не заметил. Все видели в нем лишь спящего человека, только руки у него казались очень бледными и были холодными, а на лице замечался румянец, причем брови и веки слегка и часто почему-то подергивались: заметно было в лице его что-то необычное. Видели все, что он не просто спит.
Фельдшер дал понюхать Пантелеимону нашатырного спирта, и послушник вдруг проснулся, сел на кровати и быстрым взглядом окинул всех стоящих пред ним, а затем, бросив по-малороссийски фразу: «Цеж вы не тии», то закрывая свое лицо руками, то открывая его, стал горько плакать. «Вы не такие, как я видел вас…» — хотел сказать он. В это время фельдшер предложил ему поставить на шею горчичник, но Пантелеимон сказал:
— Это не нужно. Я ведь не болен.
Оказалось, что он проспал в общей сложности 16 часов. Вскоре он стал рассказывать про свой сон и что он видел во сне.
«После вечерни я пришел в свою келию. Просидевши минут десять, я стал чувствовать, что меня сильно клонит ко сну, и, потушив лампу, я лег спать. Только что я уснул, как чувствую, что в келии становится светло; я будто встал с кровати и сел. Стало еще светлее. Свет очень яркий, но не похож на солнечный. Я подумал: “Что же это такое, где это я?”.
Вдруг подходит ко мне умерший племянник пяти лет (он умер лет восемь тому назад) и говорит:
— Пойдем со мной.
— Куда, зачем? — спрашиваю я.
— Пойдем, пойдем!
Я встал, и мы пошли вместе. Шли сначала полем, потом подошли к морю, по которому проложены дорожки, покрытые травой.
Дорожки были широкие и узкие; и были еще очень узкие между ними же. В воде плавали лодки, в которых сидели в светлом одеянии юноши. По широким, украшенным зеленой травой и цветами дорожкам шли люди разного пола и возраста со светлыми и радостными лицами. А шедшие по узким плакали, срывались с дорожек, падали в море, с трудом вылезали опять на дорожки и опять падали в море. Тех, которые вылезали и успевали обсохнуть, сидевшие в лодках юноши брали к себе с большою радостью и увозили. Шедший со мною племянник говорит мне:
— Пойдем и мы по этой дорожке.
Дорожка, указанная им, была очень узкая, и я боялся по ней идти; но он велел мне держаться за него, а я сказал, что он маленький и если я начну падать, то и его утащу с собой; но он ободрил меня, и мы пошли.
Мое опасение сбылось: прошедши немного, я сорвался с дорожки и упал в воду, но при падении успел схватить племянника за одежду и при помощи его опять выкарабкался на дорожку, и мы пошли дальше. Когда мы пришли к концу моря, то увидели две дорожки. Одна была широкая, покрытая зеленой травкой и цветами, по левую же сторону ее шла узенькая, с вбитыми в землю заостренными кольями, которые перекрещивались между собою так, что идущим было очень трудно пройти, и они натыкались то на тот, то на другой кол. Те, кто прежде морем шел по широкой дороге, переходили опять на широкую дорогу, покрытую зеленью и цветами, и шли по ней попарно или по три, пели и славили Бога.
Когда же стали приближаться к берегу моря шедшие по узким дорожкам и срывавшиеся с них, к ним подошли страшилища, демоны с крючками в руках, и начали ими цеплять подходивших к берегу. Вытащивши, обвили их кругом цепью и начали гнать по убитой кольями узкой дорожке, погоняя позади палками. От страха и боли эти несчастные люди вопили не своими голосами и визжали. Я спросил своего проводника, за что их так бьют и мучают. Он ответил:
— При своей земной жизни они не признавали ни праздников, ни постов и не принимали Святых Христовых Тайн; жили для того только, чтобы есть и пить, говоря: ”Когда помрем, ни есть, ни пить не будем”. Жили они по своей воле, а не так, как велит христианам православная церковь — они пили, веселились и объедались, тело же свое берегли. А здесь, погубив души, получают муки по делам своим. Те же, которых ты видишь идущими теперь по широкой прекрасной дороге, при своей земной жизни шли узким и тернистым путем. За свою добродетельную жизнь они были гонимы и угнетаемы от злых людей. Они почитали праздники, соблюдали посты, причащались Святых Христовых Тайн. И время проводили не в праздности и лени, а в труде и молитве. И вот за то, что они так праведно жили, терпели скорби и плакали, они будут веселиться вечно. А те, которые насмехались над ними и оскорбляли, теперь плачут и мучаются!
Здесь на меня напал сильный страх. Мой проводник велел мне перекреститься и не бояться, а сам в это время скрылся. Тогда ко мне подошел молодой и красивый юноша и велел дальше идти с ним. Он привел меня к большим воротам, которые были как бы вымазаны сажей и были заперты большим замком. Мой проводник отворил их, и мы увидели за ними свет, непохожий на прежний — он был какой-то резкий и неприятный. Затем мы увидели другие небольшие двери и, открывши их, пошли вниз по винтовой лестнице. Сначала пришли к одним дверям, на которых было написано: “Плачьте до времени”. Здесь я опять сильно испугался, и мой проводник велел мне сотворить крестное знамение. Мы пошли ниже и снова увидели двери, на которых была та же надпись: “Плачьте до времени”. Еще ниже мы увидели другие двери, черного цвета, на которых было написано: “Плачьте и рыдайте без конца”. От этих дверей шел сильный смрад, и за ним слышался сильный шум; а в стороне от них, внизу, мы увидели как бы дрова, горящие, как раскаленное железо, и мне показалось, что они ворочаются сами собой. Я спросил своего путеводителя:
— Что это такое горит, как дерево?
Он ответил:
— Это не дерево, а люди.
Я посмотрел пристальнее и действительно увидел, что это — люди, которые шевелили ногами и руками и зевали ртами; на боках у них пылал жар, как у раскаленного железа, и отрывались, как уголья, куски тела. Я стал сильно страшиться. Вдруг из огня выскочили черные с красными глазами страшилища, державшие в руках крючки, и бросились прямо ко мне. Мой хранитель взмахнул на них своим мечом и сказал: “Не ваше дело касаться до нас” — и они убежали обратно. А мне велел сотворить крестное знамение и идти далее, обратно вверх. Дорогой я спросил:
— За что эти люди горят в огне?
Он сказал:
— За содомский грех.
Мы снова пришли к ранее виденным дверям, на которых написано: “Плачьте до времени”; мой проводник открыл их, и за ними мы увидели много людей, сидящих в одном котле. Между ними я узнал одну знакомую мне женщину. Она меня тоже узнала и подала мне руку; когда я не хотел брать ее, мой проводник велел взять ее руку. Я взял и стал тащить ее. Бывшие же вместе с нею люди уцепились все за нее, она же закричала:
— Хотя бы меня одну вытащили, но не всех вас.
В это время женщина упала обратно в котел. Мой проводник сказал мне:
— Видишь, какое у нас самолюбие и гордость. Если бы она не воспрещала другим браться за нее, то и сама спаслась бы, и другие спаслись бы вместе с нею.
Отсюда мы пошли выше и пришли ко вторым дверям с такою же надписью. Отворили оные, а за ними увидели в очень темном месте сидевших иноков, лица у которых были настолько мрачные, что трудно было их рассмотреть. Они зевали ртами, из которых выходила сажа. Когда я спросил, за что эти люди попали сюда, мой проводник отвечал:
— Они любили посещать светские дома мирских людей, перед которыми осуждали свои монастыри.
Идя далее, мы увидели страшилищ, которые цепями вязали и скрючивали людей, а в ушах их сверлили сверлами. Я сильно испугался, и мой проводник велел мне креститься и сказал:
— Этих людей мучают за то, что они в храме Божием плохо себя держали, обращались по сторонам, занимались разговорами, а молитву не творили.
Потом, идя далее, я увидел своих монастырских собратий: кто чем спасается. При этом возле некоторых знакомых из братий и посторонних людей я увидел какие-то предметы и людей, которые неотступно следовали за ними, доставляя им страдания и муки. Я спросил у моего провожатого:
— Что это за предметы и кто эти люди, так назойливо преследующие моих знакомых братий и посторонних?
Он ответил:
— Это обличители содеянных, непокрытых примирением или не исповеданных из-за стыда или по забвению грехов, которые, как свидетели прегрешений, всюду за ними следуют; а которые исповедывали свои грехи пред духовником, от тех изобличающие люди и предметы удалены и грехи их изглажены.
Среди таковых я видел одного мужчину из мирских, который, будучи нагим, по самую шею был обвит отвратительными змеями и гадами, которые ползали по нем и грызли его по всему телу. По обе стороны около него стояли обвитые гадами по пояс женщины с младенцами на руках, а поодаль, с правой стороны, была в светлом одеянии женщина, которая часто взглядывала на обвитого гадами мужчину и, как видно, плакала о нем. Проводник мой объяснил, что мужчина нарушил супружескую верность, прелюбодействуя с чужими женщинами, стоящими возле него с детьми.
Видел я обидчиков людских, наказанных за удержание платы, следуемой за работу, и другие обиды ближнему. Их по всему телу строгали острыми гребнями страшилища. У клеветников же изо рта стекала пена, черная как сажа, и сами они были с черными лицами. Рукоблудники скованы были цепями по рукам, сзади за спиной, и стояли они, согнувшись вниз головой, покачиваясь то вперед, то назад.
Засим мой проводник отворил одну дверь, и мы увидели за ней людей, которые сидели на горящих плитах голыми, сами себя рвали за волосы и кричали: “Горе нам, гордым!”. Сзади страшилища держали их железными крючками. Я сильно испугался при виде их и думал, что и меня зацепят крючком. Мой проводник велел мне сделать крестное знамение и не бояться и объяснил, что сии люди терпят такие наказания за гордость, так как они никого не признавали и никого не любили.
Идя далее, мы увидели ров, наполненный гадами; возле него стояли скованные люди, которых страшилища схватывали крючками и бросали в ров. Когда они падали туда, к ним подползали гады, и лезли в глаза и рты, и грызли и сосали их. Эти несчастные люди только руками отмахивались и ворочались. Я боялся, чтобы и меня не зацепили крючком и не бросили к ним.
Мой проводник сказал:
— Крестись и не бойся.
Я перекрестился и спросил у него:
— За что эти люди страдают?
— За блуд. Это очень большой грех, — сказал он.
Потом мы пришли к месту, где стояли весы. К ним подошли страшилища с хартией. На ней были написаны все мои грехи, многие от юности моей. Увидел это я, устрашился; страшилище положило эту хартию на одну чашу весов, а на другую мой хранитель положил книгу, которая перетянула все мои грехи. Эту книгу я когда-то подарил страннику, богомольцу. Увидевши это, страшилища завопили и убежали. Мой хранитель улыбнулся, а я тоже ободрился и повеселел. И мы пошли дальше. Я стал чувствовать, что становится все холоднее. Наконец мы увидели замерзшую реку и на берегу ее много людей. Мы подошли ближе и увидели переходящих через реку иноков. Одни из них шли со спутниками и имели светлые, радостные лица, а другие шли далеко от своих путеводителей, имевших печальный вид, и на каждом почти шагу проваливались в реку; иные выкарабкивались из воды и шли дальше, а иные так и оставались в воде. Я спросил своего проводника:
— Почему одни переходят реку, а другие не могут?
— Это вот что означает: кто, живя на земле, избрал себе путеводителя — старца и духовника, и принимал его наставления, когда исповедовался, и исполнял и нес налагаемое за свои грехи, тех теперь ты видишь безбедно переходящих реку. А которые в нее проваливаются и тонут, те при своей жизни не имели себе наставников, и исповедовались нерадиво, и говорили: “Мы сами знаем, что грех и что нет”. И вот их никто не провожает через реку и не поддерживает. Пойдем и мы через реку, — сказал он.
— Я боюсь, — ответил я, — я буду проваливаться.
— Твой старец поддержит тебя.
Действительно, тут подошел ко мне духовник и сказал мне:
— Пойдем, я тебе помогу!
Мы перешли с ним на другую сторону реки, потом мы увидели одну широкую, покрытую зеленой травой и цветами дорогу, и другую, узкую, обведенную цепью. По широкой дороге шли люди с радостью и пением, по узкой же шедших людей гнали с побоями страшилища, и эти люди стонали и кричали. Я спросил:
— Куда их гонят?
— В Иосафатову долину, где находится место судилища, — сказал мой проводник.
Он повел меня дальше. Вот мы подошли к кипящему котлу с водой, в котором стояли люди и махали руками. Когда же они переставали махать ими, к ним подбегали страшилища и били по головам железными палками. Я испугался и закричал. Мой проводник велел мне креститься и на мой вопрос: “За что этих людей так мучают?” — ответил:
— Эти люди небрежно полагали на себя крестное знамение. Эти люди не крестились правильно, на плечи не полагали креста, а только махали рукой, за это заставляют их здесь махать руками. По голове бьют за то, что, стоя в храме Божием, они помышляли, как бы своего брата обмануть или украсть что, роптали, что певчие нехорошо поют и что священнослужители не хорошо и долго служат.
От этого места мы пошли дальше, причем мой путеводитель так быстро подвигался вперед, что я не успевал за ним шагать; наконец он остановился у дверей, за которыми был слышен крик. Когда он открыл эти двери, мы увидели там стоящих людей, которым страшилища на голову лили кипящую смолу, а в глаза и рот пихали деньги. От крика и стона сих несчастных я очень испугался и спросил своего путеводителя:
— За что их мучают?
— За то, — ответил он, — что они обманывали людей, выдавая себя ложно за сборщиков на церкви и монастыри, брали от людей деньги на поминовение умерших и не поминали, а на эти деньги покупали водку. Это очень тяжкий грех, за них надо много молитв, чтобы избавить их от сих мучений.
Там же я увидел одного инока, к которому приступили страшилища, говоря: “Снимай одежду, ты давно наш, только одна твоя одежда препятствует нам”. Когда же страшилища хотели коснуться его, то от одежды этого инока вышел огонь и опалил их. Мой проводник объяснил мне, что к сему иноку так приступают бесы за его нерадивую жизнь в монастыре и нерадивое исполнение послушаний. Но он монашеское одеяние в чести имел и боялся его опорочить, посему одежда его и защищает. Царица Небесная умоляет Сына Своего и Господа Бога нашего за всех монашествующих, кои с усердием носят Ея ризу, дабы спасены были они во веки.
После этого мы пришли еще к одним дверям, откуда слышался стон и топот. Когда же мой путеводитель отворил их, мы увидели пляшущих людей. Лица у них были черными и непохожими на человеческие. Они кричали: “До каких пор мы будем плясать?”. Мой путеводитель затворил опять двери и сказал:
— Эти люди, когда приходил праздник, думали не о том, чтобы идти в храм Божий молиться, а о том, чтобы плясать в праздник. Отсюда их трудно вызволить.
Дошли мы потом до пропасти: над нею по узкой тропинке вдоль стены шли люди, держа в руках разного рода, вида, величины и формы предметы. Когда же некоторые из них на тропинке колебались и находились в таком положении, что едва не падали в пропасть, то они прикасались этими предметами к стене и этим спасались от падения; а у других таковые не прилипали к стене, и они падали в пропасть. По объяснению путеводителя, первые подавали милостыню с усердием, а другие — с неохотой и укоризной.
От сего места мы пошли далее и пришли уже к светлым, блистательным воротам чудной красоты, коей передать словами я никак не в состоянии. Мой путеводитель отворил их, и за ними мы увидели чудный, во много раз ярче солнечного, свет.
Здесь было много малых церквей очень красивого вида. Внутри их и снаружи были люди, на столиках, стоящих вблизи сих церквей, лежали просфорки. Я спросил своего путеводителя:
— Что это?
— Это приготовлено для тех людей, которые до звона колокола старались прийти в храм Божий, бросая свои занятия и работы.
Мы пошли дальше и, поднимаясь выше, пришли к другим воротам. Внутри за ними было еще светлее и красивее прежнего. Там увидели мы деревья неописуемой красоты и цветы. На одних листья были зелеными, на других — голубыми и других цветов. Между деревьями находилось много монахов, в руках которых были букеты цветов, а на головах — блестящие венчики такой красоты, что я не могу объяснить. Между ними я узнал инока нашего монастыря. Он улыбнулся и поклонился мне.
Мы шли очень скоро и миновали несколько шедших полков иноков. За ними следовали миряне с сияющими от радости лицами. Я спросил своего путеводителя:
— Куда они идут?
— Выше, в свои обители, — ответил он, — где им уготовано Небесное Царствие за то, что на земле переносили скорби, и болезни, и тесноту, и наготу, терпели холод и голод. Заповеди, которые надлежит исполнять христианам, исполняли и души свои полагали за Христа.
Потом мы увидели столы, на которых лежало множество венцов разных видов и цветов. Одни из них так сильно блестели, что трудно было на них смотреть, а некоторые были голубого цвета. Я спросил путеводителя:
— Кому приготовлены эти венцы?
— Это тем, кои соблюдали свое девство и терпели муки за Христа, — сказал он.
После сего мы подошли к большому, чудной красоты храму, и услышали в нем пение, какого я никогда не слышал: оно было столь сладко и умилительно, что я едва мог стоять на ногах. Я спросил своего путеводителя:
— Кто так хорошо поет?
— Это те, которые любили так плакать, как любят грешники услаждать себя скверными песнями. Здесь же вместо плача им дано наслаждаться сим дивным пением в приготовленном для них храме, — сказал он.
Наконец мы стали приближаться к нашей обители, и мой проводник сказал:
— Посмотри, где и как кто работает.
Я стал смотреть и увидел: кто исполнял свои послушания и работал без ропота, у тех над головами были венчики из голубых цветов; кто работал на своем послушании без усердия, тех я видел стоящими в холодной воде и в руках имеющих вместо работы горячее железо.
Возле обители мы увидели идущую, как бы не по земле, а в воздухе, Величественную, Прекрасную Жену, окруженную ярким светом. Мой путеводитель сказал мне:
— Перекрестись и поклонись Ей!
Когда я это сделал, Она сказала юноше:
— Отведи этого инока в его келию, ему еще не пришло время.
Когда он шел со мною, я спросил его:
— Кто это?
— Царица Небесная, — ответил он.
На душе у меня сделалось радостно, и я жалел, что только один раз поклонился Ей.
В келию меня проводили вместе с путеводителем еще несколько лиц в белых одеяниях, между коими я опять увидел своего племянника, с которым я прежде вышел из келии. Путеводитель осенил меня крестообразно иконой святого великомученика Пантелеимона и спросил:
— Знаешь ли, кто я?
— Не знаю, — ответил я.
Он сказал:
— Я — твой Ангел-Хранитель, которому ты всегда молился. Что я тебе велел не говорить, того не говори, а остальное можешь рассказывать.
Я хотел поклониться ему, но вдруг вижу, что он уже высоко и чуть светлеется его образ…
Этим видение кончилось. Я будто бы лег спать.»
Наказанная клятвопреступница
Рассказ священника Павловского
Сколько раз в обыденной жизни приходится слышать слова «ей Богу», «покарай меня Бог» и тому подобные страшные клятвы.
Люди, особенно необразованные, привыкнув употреблять божбу без всякого внимания к ее важности и там, где нет ни малейшего повода, не останавливаются и мыслью на тех случаях, в которых карающая десница Божия в научение других иногда так явно и страшно наказывает призывающих имя Господне всуе.
Одна солдатская жена по имени П., находясь по найму в услужении в доме зажиточного крестьянина, взяла без ведома хозяев для себя ли собственно или для продажи что-то из верхней одежды.
Прошло несколько дней, и по представившейся надобности в той вещи, которая была похищена, хозяин дома начал разыскивать пропавшее. Само собой разумеется, что отыскать то, что давным-давно было унесено, оказалось невозможным.
В досаде на похитителя и вместе с тем чтобы сколько-нибудь утешить себя, крестьянин всех бывших в его семье заставил клясться и божиться. Невинные домочадцы, как и виновная, в оправдание свое произносили клятву. Затем хозяин дома, сильно подозревавший изначально солдатку, счел за лучшее выслать ее из своего дома.
Недолго заставило ждать себя наказание за поступок — клятвопреступление! Возвращаясь в свою хижину, П. внезапно почувствовала сильный и необъяснимый страх; во всех членах ощущала она изнеможение и слабость, так что, с трудом прошедши несколько шагов, принуждена была всякий раз отдыхать. К увеличению ее страха, впереди на дороге представился ей неизвестный человек, окруженный пламенем, и в руках его было какое-то неизвестное для П. орудие.
От сотрясения, происшедшего вследствие ужаса, П. лишилась речи и употребления правой руки, так что ни выпрямить, ни согнуть ее не могла, а голову совершенно свело с левым плечом. Вдобавок же она постоянно ощущала внутри нестерпимый жар, заставлявший ее прибегать к частому употреблению воды, которая еще более увеличивала ее страдания.
Пробыв в таком состоянии 4 года, солдатка П. по совету одной умной женщины решилась идти на поклонение в какой-либо монастырь и просить Господа Бога о помиловании. Выбор ее пал на Белобережскую пустынь. Чтобы сильнее почувствовать тяжесть своих преступлений и через то навсегда удержаться от похищения чужих вещей, немощствующая для своего странствования выбрала самую тяжелую пору — именно холодный и ненастный ноябрь.
Поклонившись чудотворной иконе Божией Матери, именуемой Троеручицей, П. с твердым упованием и верою в милосердие Господа возвращалась домой в свое селение. Не доходя до места жительства своего 45 верст, заночевала она в одном постоялом доме, и здесь-то и случилось с нею ожидаемое исцеление, о котором рассказывала она так: «Не успела я отойти несколько шагов от святого монастыря, как не знаю отчего полились у меня слезы. Напрасно старалась я их удержать; чем больше заботилась об этом, тем сильнее был их поток.
Не помню как я дошла до Белизны (название постоялых домов), знаю только, что целые сутки ничего не ела и не пила. Обночлежившись, прочитала я в уме две-три молитвы, какие знала. Около полуночи я уснула с мыслью, что, если бы Господь Спаситель и Пречистая Богоматерь разрешили мою немоту и восстановили бы меня от болезни, я всегда бы только и старалась делать то, что угодно святой воле Божией.
Не знаю, долог ли был мой сон, но мне показалось, что кто-то назвал меня по имени и сказал: “Вот Господь даст тебе прежнее здоровье и прежний язык, смотри, берегись раздражать Бога своими беззакониями. Сколько у Него милости, столько же и гнева ко грешникам нераскаянным”. Назвав меня по имени, голос снова замолк, и я уже не слыхала больше ничего».
Действительно, с приходом в свое селение П. со всеми говорила свободно, как и до немоты; рука стала действовать, голова пришла в прежнее состояние, словом, она сделалась здоровою, как и была прежде.
Примеры наказания за кощунство
Третья заповедь Божия, «Не возмеши имени Господа Бога твоего всуе», запрещая грехи богохуления, ложной клятвы, нарушения обетов, данных Богу, божбы, ропота на Бога, невнимательности к молитве, запрещает вместе с тем и грех кощунства, т. е. когда священные предметы обращаются в шутку и поругание.
Бог поругаем не бывает! Но и в настоящей жизни кощунники не остаются без наказания. Приведем хотя бы два примера наказания кощунников.
Скажем нечто по этому поводу из повести о чудесах святого великомученика Артемия[2].
«…Один благочестивый человек, питавший особенную любовь к великомученику Артемию, взял свечей и масла и пошел к мощам его. На пути ему встретился один его знакомый и спросил его:
— Куда, друг, свечи и масло несешь?
— Иду молиться святому Артемию, — был ответ. Встретившийся, насмехаясь, сказал:
— Не забудь, друг, от него болезнь захватить и сюда принести, когда назад пойдешь!
Шедший к великомученику ничего не ответил на насмешку и, совершивши при мощах святого молитву, пошел домой.
Что же? На обратном пути его действительно постигла жестокая болезнь. Он почувствовал нестерпимую боль в теле — оно местами стало отекать — и стал не в состоянии дойти до своего дома.
Так как на пути стоял дом встретившегося ему насмехающегося над святым великомучеником друга, он с величайшим трудом побрел туда и, пришедши, почувствовал, что болезнь его еще более усилилась. На него напало нечто вроде беснования, язык его онемел, и болезнь казалась смертельною.
Однако через несколько времени он пришел в себя и, полагая, что болезнь приключилась ему из-за слов насмешника, сказал: “За что я так страдаю? Не из-за насмешки ли моего друга?”. Тот же, со своей стороны, начал укорять больного и снова насмехаться, и между обоими дошло до явной ссоры, так что многие спрашивали, в чем дело. Больной передал им о встрече с другом на пути к великомученику Артемию и о его кощунстве и, сказав это, тотчас же почувствовал себя здоровым. Но, о ужас! Его болезнь мгновенно перешла на кощунника, который и начал кричать: “Увы мне, горе!”.
Присутствовавшие ужаснулись, видя это, и, прославив Бога и святого угодника, сказали: “Праведен суд Божий! Ты бо еже искал его и обрел”».
* * *
«…В Оренбурге, на том месте, где ныне здание военной прогимназии, прежде была школа военных кантонистов[3], в которой учителем был некто П., смеявшийся над нашими постами, хотя он и считался православным христианином.
Однажды П. вместе учениками сидел за обедом в Великий пост и пил молоко; ученикам подавалось только постное кушанье. Обведши края кринки, П. вымазал молоком уста на изображении Казанской иконы Божией Матери и сказал обедавшим:
— Вот вы поститесь, а посмотрите, Сама Божия Матерь ест молоко.
Кто из присутствующих был помоложе, те засмеялись, а кто постарше — глубоко поскорбели.
В том же году на лето кантонистов по обыкновению перевели в село Дедово; учитель был с ними же.
Со своим задушевным другом П. часто ходил на ружейную охоту. Однажды, возвратясь в квартиру, усталый П. прилег отдохнуть и тут же вспомнил, что не осмотрел хорошенько свое ружье, а потому и сказал другу:
— Посмотри мое ружье, не помню, разряжено оно или нет?
Друг взял ружье: произошел внезапный выстрел, которым П. был убит наповал. Это было 8-го июля (по старому стилю — ред.), в день празднования Казанской иконы Божией Матери».
Сила православной веры
Однажды я был по делу службы у смоленского Преосвященного Тимофея в последних месяцах 1841 года. В это время явился к нему помещик из Вяземского уезда по прозванию Стефаний (помнится, Александр Федорович) — по вере протестант, а по духу почти православный христианин.
Он хотел было рассказать Преосвященному о весьма любопытном событии, случившимся с его 11-летнею дочерью, но, так как владыке помешали выслушать его, он поручил мне дослушать и впоследствии передать, что услышу. Потому господин Стефаний назначил время свидания со мною в моей квартире и в условленный час приехал ко мне и рассказал следующее.
«…Дочь моя на 11-м году своего возраста испытала вместе со мною необыкновенную милость Божию.
В один день крестьянин мой рубил дрова. Вдруг дочь говорит мне:
— Остановите его, иначе он разрубит себе ногу.
На эти слова и я, и моя жена не обратили особого внимания. Но вот дают нам знать, что крестьянин действительно разрубил себе ногу.
Тут мы живо представили себе предупреждение нашей дочери, а между тем она стала забавлять нас рассказами о том, что произошло в Лондоне, Париже и так далее, и эти рассказы ее, как впоследствии мы убедились из газет, были справедливы.
Такие явления побудили нас расспросить ее, откуда у нее такое знание, и она объявила, что при ней находится ангел. Жена моя обрадовалась этому дару неба в нашей дочери, а я невольно противоречил ей, зная, что мы нисколько не заслужили его, потому что живем, как и прочие наши соседи, в роскоши, рассеянности, прихотях, словом, в грехах.
— Ты как хочешь, жена, — возражал я, — пожалуй, верь, что это особый дар, а я в этом даре боюсь узнать наказание Божие.
Опасение мое оправдалось, когда я в один воскресный день решился идти с дочерью и женою к обедне. В церкви во время херувимской песни наша дочь вдруг упала, пришла в страшное, ковульсивное состояние и испускала пену изо рта. Тогда-то мы глубоко осознали себя грешниками и увидели, что находимся под наказанием. Теперь надобно было искать средств к избавлению дочери от страшного недуга. Нам присоветовали обратиться в Москву к одному почтальону, человеку набожному, который иногда избавлял людей от таких мучений. Мы нашли его. Хотя он ни за что не сознавался в своей силе и не брался за наше дело, однако ж нам удалось наконец упросить, под тем только условием, что мы будем несколько дней вместе с ним поститься и молиться. Это было сделано, но общие наши молитвы не имели силы. Тогда он посоветовал нам ехать в Воронеж и сказал, что наша дочь одержима злым духом.
Как ни тяжело было нам, возвратившись домой, оставить свое хозяйство без управляющего, на попечение соседских помещиков, но эта жертва была неминуема.
Мы отправились с дочерью в Воронеж. Там, видя, что на болящих возлагают мантию святителя Митрофана[4], после молебна мы попросили возложить ее и на нашу больную. И сколь велика была сила угодника! Дочь наша тотчас совершенно успокоилась и показала признак совершенного освобождения от зла. На вопрос наш: “Отошел ли от тебя ангел?” — она ответила утвердительно.
Пораженный таким чудом, я пожелал подержать и на себе чудодейственную мантию, хотя и не видел в этом особенной надобности. Но что же? Под этим покровом чувствую, что с моей головы начала сваливаться какая-то величайшая тяжесть, как бы в пуд или два, которая, постепенно спускаясь к ногам, наконец совсем отошла, отчего я как бы возвратился в юношеский возраст — сделался легок и жив!
Возблагодарив Бога и святителя, мы отправились домой, и дочь целый год не чувствовала влияния злого духа. Но через год этот зловещий ангел снова возвратился к ней и она по-прежнему начала предсказывать.
Боже мой! Новый удар для нас! Неужели опять в Воронеж? И доколе же нам, пускаясь в такую даль, разорять свое маленькое имение?
У меня родилась решимость молиться о своей дочери по вашим славянским книгам, и я часто принимался за это дело. Но странно! В моих глазах все переставлялось; вместо хвалебного славословия Богу и Божией Матери я читал хулу на Бога, либо язык мой вдруг свертывался и лишался способности произносить священные слова, даже странно искривлялись мои уста. Поднимал я руку, чтобы перекреститься тремя перстами, но рука моя переворачивалась.
Не отчаиваясь, я, однако ж, придумал средство другое: петь над своей дочерью со всеми домашними нашими людьми херувимскую песнь, и петь непрерывно до тех пор, пока не увидим, что будет: ибо недаром же, думал я, эта песнь так нестерпима для злого духа. Начали пение, и моя дочь стала испытывать то же, что было с нею в церкви: судороги, падение на землю и истечение изо рта пены. Но мы продолжали петь, доколе не увидели признака верной надежды: дочь утихла.
В это время, не прекращая пение херувимской песни, я, проникнутый верою, взял со стола икону Спасителя и провел ею по дочери от головы до ног. И — какая милость Божия! Дочь встала, как бы пробудившись от сна. На мой вопрос, что с нею, она ответила, что мучивший ее дух отошел от нее в чувственном виде выходящего как бы из всех костей ее нестерпимого дыма.
С тех пор дочь моя растет совершенно здоровою и веселою. И вот уже ей исполнилось 16 лет».
Когда Стефаний окончил свой рассказ, наступила и моя очередь говорить. Я начал вопросом: не чувствует ли он, что Бог призывает его от лютеранства к православию?
— Вот вы испытали тяжкую скорбь о своей дочери, потом в Воронеже от русского святителя получили, по крайней мере, хотя и на один год, исцеление ее, и, наконец, пением таинственной песни, воспеваемой Православной Церковью, и иконою Спасителя, не чествуемою лютеранами, совершенно отогнали от нее злого духа. Сколько несомненных доказательств, призывающих вас к свету истины, в недра Христовой Церкви! Вы хотели было читать над вашей дочерью молитвы, читаемые у нас только лицами, к тому призванными и посвященными, но вам, как лютеранину, Бог не дал силы и языка для чтения. А когда вы соединили свой голос вместе с голосом православных и стали петь херувимскую песнь, Бог даровал вам власть прогнать демона. Вы даже над самим собою испытали силу мощей святителя Митрофана. Скажите же, почему молитва и кирка[5] Лютера[6] не помогли вашей дочери, а наша Церковь, наша херувимская песнь, наш святитель и наши иконы и молитвы исцелили ее?
— Да! — отвечал Стефаний. — Чувствую всю истину ваших слов, но за всем тем никак не могу решиться на переход в Православную веру, как на переход весьма трудный и, полагаю, для меня даже бесполезный!
— Почему? — спросил я.
— Потому, — ответил он, — что мне, принявшему все от Православной Церкви, надобно будет принадлежать ей нелицемерно и выполнять все ее уставы с точностью, а для меня это невозможно!
— Как так?
— Вы сами знаете, что у нас постов нет, а у вас их много, и они строги, даже строже католических. Без привычки я не вынесу этого, а хотя бы и мог вынести, связь с соседями, не соблюдающими постов, с соседями русскими же, с которыми я часто должен разделять хлеб-соль, не позволит мне делать это. Поэтому считаю для себя достаточною для себя мерою спасения веровать в Православную Церковь, но не переходить в нее, чтобы не быть лицемерно православным.
Немало требовалось усилий, чтобы в столь важном деле победить упорство иноверца, опиравшегося на свое здравомыслие и желавшего довольствоваться и достигнуть полного спасения одной верою.
Прошел год. И вот я узнаю через Преосвященного Тимофея, что Стефаний принял наше вероисповедание, миропомазан, исповедан и причащен Святых Тайн.
Не явно ли здесь действие непостижимого Промысла Божия, утешающего нас, грешных, обращением иноверцев!
Замечательное сновидение (покойного ярославского архиепископа Нила)
В 1891 году состоявший певчим в хоре А. Я., прожив не более 24-х лет, умер от холеры. Через девять дней после смерти, именно утром 16-го июля, явился он мне во сне. На нем был знакомый мне сюртук, только удлиненный до пят. В момент явления ко мне Я-ва я сидел у стола в своей гостиной, а он вошел из залы довольно скорым шагом, как это всегда бывало. Показав знаки уважения ко мне, приблизился он к столу и, не сказав ни слова, начал высыпать на стол из-под жилета медные деньги с примесью серебряной очень истертой монеты.
С изумлением спросил я, что это значит. Он ответил:
— На уплату долга.
Надобно заметить, что накануне приходили от фотографа Г-а и объявили, что по книгам техника сего значится за Я-м четыре рубля.
Меня это очень поразило, и я неоднократно повторил:
— Нет, нет, не нужны твои деньги, я сам заплачу. При словах сих Я-в с осторожностью сказал мне:
— Говорите потише, чтобы не слыхали другие.
На выраженную же мною готовность уплатить за него долг он не возражал, а деньги не замедлил сгрести рукой со стола. Но, куда положил он их, не удалось мне заметить, а кажется, они тут же исчезли.
Затем, вставши со стула, я обратился к Я-ву с вопросом:
— Где находишься ты, отошедши от нас?
— Как бы в заключенном замке.
— Имеете ли вы какое сближение с ангелами?
Он ответил:
— Для ангелов мы чужды.
— А к Богу какое имеете отношение?
— Об этом после когда-нибудь скажу.
— Не в одном ли месте с тобою Миша?
(Миша — малый певчий, живший в одной комнате с Я-м и скончавшийся года четыре пред тем.)
— Не в одном.
— Кто же с тобою?
— Всякий сброд.
— Имеете ли вы какое развлечение?
— Никакого. У нас даже звуки не слышатся никогда: ибо духи не говорят между собою.
— А пища какая-либо есть у духов?
— Ни-и-и…
Звуки эти были произнесены с явным неудовольствием; конечно, по причине неуместности вопроса.
— Ты же как чувствуешь себя?
— Я тоскую!
— Чем же этому помочь?
— Молитесь за меня. Вот доныне не совершаются заупокойные обо мне литургии.
При словах сих душа моя возмутилась и я стал перед покойником извиняться, что не заказал сорокоуста, но уверил, что непременно сделаю. Последние слова, видимо, успокоили собеседника. За сим он попросил благословения, чтобы идти в путь свой. При этом я спросил его:
— Нужно ли у кого-нибудь испрашивать дозволения на отлучку?
Ответ заключался в одном слове: «Да!». И слово сие было произнесено протяжно, уныло и как бы по принуждению.
Тут он вторично попросил благословения, и я благословил его, знаменуя большим крестом, с произнесением следующих слов: «Благословит тебя Господь от Сиона, живый во Иерусалиме, отныне и до века!». Надобно заметить, что слова сии вовсе не обычны для меня и только во сне уста произнесли их.
Однако ж Я-в не удовольствовался сим благословением, ибо оно произносилось в тот момент, когда он занят был застегиванием пуговиц и вообще поправкою одежды, чтобы идти в путь. И так просьба благословения с простиранием рук для его принятия еще раз была повторена; и я в последний раз благословил его, произнеся: «Буди благословен вовеки, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!».
Я-в сильно прижал руку мою к устам своим, ему не захотелось выпустить ее. Сочувствуя ему, я облобызал его отеческим лобзанием, вполне сознавая, что он есть гость, пришедший ко мне из другого мира. И тут я стал вглядываться в него и, вглядевшись пристально, увидел, что знакомые черты практически не изменились. Только белизна и утонченность изменяли его обычный вид. К тому же пот в виде росы покрывал лицо. А глаза при всей яркости своей выражали утомление и упадок сил душевных.
Вышел он от меня дверью, обращенной к Туговой горе, на которой покоится прах его. За ним следил я с чувством глубокой скорби и с пламенным желанием видеть след его. И что ж? Сверх всякого чаяния очутился я на горном хребте, разделенном надвое. С высоты хребта в глубине расселины увидел я тот самый замок, о котором вспоминал Я-в.
Замок имел форму параллелограмма. Из четырех стен его только в одной, обращенной к югу, замечен был мною малый просвет, да и тот с железной решеткой. Кроме сего единственного просвета, стены представляли сплошную массу без окон, дверей и даже без кровли.
Последнее обстоятельство дало мне возможность видеть, хотя и сквозь сумрак, внутренность замка и совершающееся в нем. Особенно благоприятствовало мне положение мое на окраине горы, поднимавшейся гораздо выше стен. Казалось, что мой взор досягал до самого дна. Но, вглядываясь пристально, я замечал в глубине только мрак, движущийся наподобие черных облаков или волн. Но проявления жизни и определенных форм тут не было и следа.
Наконец душа моя возмутилась: я увидел Я-ва, за несколько перед сим минут посетившего меня. Местом же для него служил угол здания, обращенный к северо-востоку. Он сидел с поникшей головой и поджатыми ногами, а руки сложены были накрест. Одежда же его заключалась в сорочке, проявлявшей белизну даже сквозь мрак.
Белизна эта среди господствующего всюду хаоса показалась мне чрезвычайным явлением, и у меня родилась мысль, что положение Я-ва не безотрадно и он имеет некий почет сравнительно с прочими узилища сего заключенцами. Недвижимость Я-ва вызвала у меня такой вопрос: «Ужели душам умерших воспрещено всякое движение и всякая перемена позиций?». И, когда таким образом мысль моя и взор будто магнитом влеклись к Я-ву, какой-то почтенной наружности человек, неведомо как и откуда очутившийся позади меня и стоящий на некотором возвышении, обратил внимание мое в противоположную сторону.
Я заметил, что южная стена на небольшом протяжении в части, примыкающей к просвету, медлительно и грозно приподнимается; вслед за тем в основании стены на месте подъема, или, точнее, зева, показался на мгновение свет, а внутри вертепа произошло колебание мрака с ощутительным движением воздуха.
Еще минута — и все пришло в прежний порядок. Как ни велико было в ту минуту мое смущение, но все-таки я старался разгадать причину совершившегося передо мной явления.
Благодаря приходу таинственного незнакомца томился я недолго. Со стороны его донеслись ко мне ответные на мысль мою слова: «Это знак прихода новой пресельницы». Обратясь спешно в ту сторону, внимательным взором искал я человека, который рисовался уже в моем воображении ангелом, свыше посланным, но поиск не привел меня ни к чему. Я видел пред собой лишь безжизненную и страшную пустыню. Картина эта с рядом предшествующих явлений до глубины потрясла мою душу, и я проснулся. И тут же взялся за перо, чтобы виденное передать письменно с возможной верностью.
Архиепископ Нил (Исакович)
Обращенный атеист
В городе Гродно есть явленный образ Остробрамской Божией Матери.
Название это икона получила оттого, что явилась на остроконечном шпице Остробрамских ворот города.
Вскоре после явления иконы последовало столько чудесных исцелений, что жители Гродно уверовали всей душой в свою Небесную Покровительницу и берегут с нелицемерной любовию данное им Небом сокровище.
Список с этой чудотворной иконы в первый раз увидала я в доме одной моей знакомой, Б. О. Лопухиной.
Велика была ее вера к святому образу, потому что в их собственном семействе совершилось чудо, имевшее огромное влияние на всю жизнь одного из ее близких родственников.
Вот как передала она мне этот случай.
«…Родственник мой по матери В. П. К. был честен, умен, образован, богат. Только недоставало самого благородного, самого лучшего свойства ума и сердца — именно веры в Бога и любви к Нему. Все священное у него легко делалось предметом хулы и кощунства, он возмутительным образом открыто проповедовал свой атеизм. Счастливый и гордый своей завидной участью, он забыл, что счастию земному, как и горю, один и тот же исход, это — могила, а за ней — вечная жизнь, в которой потребуется отчет в делах жизни временной.
Страшно было нам слушать его безумные убеждения. Ни советы, ни просьбы, ничто не помогало, а судьба, как нарочно, баловала его, закоснелого безумца. Все ему удавалось; жизнь его текла светло и ровно, ни одной, кажется, горькой минуты не выпадало на его долю, и оттого он не нуждался в защите и утешении ни от Бога и ни от людей.
Но, должно быть, за добрые дела и непоколебимую веру давно умершей матери спасение этого несчастного безумца приняла на Себя Сама Матерь Божия.
Она ходатайством Своим удерживала до известного времени справедливо карающую руку Своего Возлюбленного Сына, желая чудесным образом обратить грешника на путь истинный.
Наконец настал час вразумления заблудшего.
Получив отпуск, К-н (он был военный) проездом через Гродно был у одной из своих знакомых, которая занимала антресоли высокого трехэтажного дома.
Комната, в которой они находились, выходила окнами на вымощенную диким камнем мостовую. С ними сидел у чайного стола с кренделем в руках трехлетний сын хозяйки.
Представьте себе их ужас, когда вдруг послышался страшный, пронзительный крик «горим», а вместе с тем внизу были видны клубы черного, густого дыма, быстро разносимого ветром.
Горел бельэтаж[7]. О спасении не было возможности и думать. Длинная, выкрашенная масляной краской лестница пылала уже в двух местах. И помощи им неоткуда было ждать. Вверху, кроме них троих, не было никого.
И теперь-то первый раз в жизни болезненно забилось сердце К-на. Он до того растерялся, что даже забыл об угрожавшей им опасности. Но у хозяйки квартиры чувство материнской любви к сыну пересилило чувства ужаса и отчаяния: она схватила своего ребенка и со словами “Матерь Божия, вручаю Тебе моего сына, спаси его!” — бросила его в окно на каменные плиты мостовой, а сама упала замертво в той же комнате.
Тут только К-н пришел в себя:
— Помоги и мне, неверующему, да уверую в Тебя, святая Заступница! — в свою очередь вскричал вразумленный К-н и, перекинув через шею бесчувственную г-жу Н., бросился вниз по пылающим ступеням лестницы.
Спасла его Матерь Божия, не отринула мольбы грешника. Спасла не только тело его от временных страданий, но и душу от будущих вечных мук.
Вполне вразумился К-н на мостовой, когда увидел невредимо сидящего и беспечно доедающего свой крендель ребенка.
И — дивное чудо! Младенец как будто не был сброшен матерью с высоты трехэтажного дома, а был бережно перенесен на мостовую.
Пресвятая Дева сохранила и мать, с крепкою верою поручившую Ей своего младенца.
С этой минутой церковь приобрела себе верного сына в лице спасенного богоотступника.
К-н вырезал себе небольшой из финифти образ Остробрамской Божией Матери и никогда с ним не разлучался. За то этот образок спас его от смерти и в другой раз.
Во время венгерской кампании прямо направленная ему в грудь пуля отскочила, вдавив только немного висевший у него на шее образок Богоматери. С тех пор К-н уже окончательно предался Покрову Ея: он вступил в монашество, и раскаяние его было так велико, так искренна вера, что к нему, кажется, могут быть применены евангельские слова Самого Спасителя о жене-грешнице: “Отпущаются греси ее мнози, яко возлюби много” (Лк.7:47)».
Елиcавета Богданова. Журнал «Странник», 1867 г.
Замечательное обращение старообрядки
Рассказ священника Михаила Лавденкова
Однажды я был приглашен одним из моих прихожан, помещиком Б., в день именин отслужить молебен. По окончании молебна все гости зашумели, заговорили, а одна почтенного вида дама, мне еще незнакомая, стояла в благоговейном положении и, казалось, все еще хотела молиться. Наконец она положила три земных поклона и, обратясь ко мне, попросила ее благословить.
— Это матушка моя, подарившая меня своим приездом, — сказал мне почтенный хозяин.
Обменявшись с нею приветствиями, мы по приглашению хозяина сели рядом и занялись разговором. Сначала речь шла о том и о сем; наконец заговорили мы о предметах серьезных, о предметах веры. Видно было, что этот разговор очень занимал мою новую знакомую: она слушала меня со вниманием, но, говоря в свою очередь, часто и к делу и не к делу примешивала слова: «Господи, грех юности моея и неведения моего не помяни!». Сначала я принял это за поговорку, но, заметив при этом тяжелые вздохи, решил спросить, имеют ли эти слова какое-нибудь особое значение в ее жизни.
— Ах, батюшка! — сказала она. — Можно ли святые слова обращать в поговорку? Если Вам угодно будет, я расскажу дивный случай из моей жизни, к которому имеют отношение эти слова. Пойдемте в отдельный покой. Я Вам, как пастырю, расскажу все.
Предложение было принято, и она начала:
«Мне более восьмидесяти лет. Я чувствую, что уже недалек конец моей земной жизни, и потому лгать мне не приходится. Значит, верьте, батюшка, что сказанное мною — все не выдумка, а совершенная правда.
О, Господи! Грех юности моея и неведения моего не помяни! На мне, грешной, проявил Господь милость Свою. Если бы не Его Вседействующая благодать, быть может, я бы навсегда погубила душу свою, коснея в страшном заблуждении.
Я родилась от богатых и благородных родителей православного исповедания, но ни богатством их, ни православием не досталось мне воспользоваться в юности моей. Семи лет я осталась круглою сиротою и была взята на воспитание двоюродной бабушкой моею, очень бедною дворянкою, жившей одним подаянием.
Но это еще не беда, беда в том, что бабушка моя была закоснелою старообрядкою, или, правильнее, раскольницей секты беспоповщинской, в которую и меня, как малосведущую и находящуюся в полном ее расположении, скоро совратила.
Имение родителей моих было отныне отдано, как водится, в распоряжение опекунов, которые не только не обращали никакого внимания на мое воспитание, но и самое имение разорили и по проискам родного моего дяди, составив ложные документы, передали оное ему во владение. Грамоте меня не учили, да, правду сказать, грамотность в то время считали для женщины делом вовсе не нужным.
Недобрый дядя, когда я достигла совершеннолетия, чтобы удобнее было владеть несправедливо захваченным имением, зная крайнюю бедность моей бабки и мою неопытность, хотел было выдать меня замуж за своего крепостного человека. Но Богу, Отцу сирот и несчастных, угодно было устроить все иначе. В это самое время вышел в отставку недальний наш сосед-помещик, поручик гвардии А. П. Б. Имея довольно ограниченное состояние, он хотел через женитьбу упрочить свою будущность. Соседи-помещики, не зная вполне моих обстоятельств, порекомендовали меня за хорошую и богатую невесту. Как образованный молодой человек, он скоро свел знакомство с нами и начал просить руки моей. Его чин, вежливое отношение и внимание к бабушке — все располагало в его пользу. Оставалось одно препятствие: жених был, по мнению нашему, “суетный” (так мы прежде называли православных). Но и это препятствие устранили: бабушка дала слово, но с тем, чтобы меня не только не совращать с прежней веры, но дать мне полную свободу молиться по-своему и не препятствовать ездить в раскольничью часовню.
Согласие последовало, и мы обвенчались. Надежды мужа на мое богатство не сбылись. Много нужно было хлопот и издержек, чтобы имение, по праву принадлежавшее мне, вырвать из рук недоброго дяди, а покойный А. П. был человек чуждающийся всяких тяжб, да и средства к тому имел ограниченные, и мы решились, возложив всю надежду на Господа Бога, жить как угодно Его святой воле.
Надежда нас не обманула. Занявшись в небольшом имении мужа хозяйством, мы имели безбедное содержание для себя и своей семьи, которою нас Бог благословил. Много времени прошло от моего замужества, а я все коснела в своем нечестии. Покойный муж мой был человек положительный, любил меня искренне, не напоминал мне о перемене веры и всегда готов был даже предупреждать мои желания.
Но заметно было, что разность веры сильно его беспокоила; однако он всегда умел скрыть это. Были минуты, когда мне приходило на мысль превосходство православной веры, но, пока не пришла пора моего возрождения, мысль эта скоро меня оставляла.
Меня особенно удивляли искренно-христианская жизнь моего мужа и свято исполняемые им благочестивые обряды. Например, в Великий пост, когда, бывало, говеет он, — поужинает (что во всю жизнь сохранил) в понедельник и до принятия Святых Тайн ничего не ест, да и после причащения Святых Тайн напьется только чаю и уже поздно вечером поужинает. Одна молитва да чтение душеполезных книг были в это время его пищею.
Размышляя об этом его трудном подвиге, я представляла себе, что это зависит от крепкого его сложения (он и зимой одевался очень легко). Пользуясь по милости Божией и сама цветущим здоровьем, я пыталась также это выполнить, но не могла и половину выдержать и наконец спросила, как может он так поститься и целую неделю ничего не есть? Зависит ли это от сил человеческих, или этому есть другая причина? Он нахмурил брови и, помолчав, начал говорить:
— Если бы ты… — и тотчас же замолчал, окончив начатую речь тяжелым вздохом.
Я сразу поняла, что этим он хотел напомнить то, что он не представлял возможным изменить данного бабке слова не совращать меня (как после и сам объяснил), и поэтому не стал далее говорить.
На этот раз и я замолчала и вошла в свои покои. Безотчетная какая-то грусть наполнила мою душу, в сердце ощущалась какая-то пустота, и я чуть не плакала, сама не зная о чем. Предложенный мной вопрос и его недосказанный ответ так меня заняли, что я почти об этом только и думала.
Целый год эта мысль меня не покидала, и наконец я решилась поднять прежний вопрос. Это было тоже в Великий пост, после принятия мужем моим Святых Тайн. Поздравив его с выполнением обряда (как прежде я это называла), я спросила:
— Ужели тебе легко так поститься?
Вторая попытка моя была удачнее. Он не изменил своего светлого взора, всегда бывшего у него после приобщения Святых Тайн, и с улыбкою сказал:
— Это не от наших сил зависит, а от помощи Божией; на это нужно время. Чтобы заслужить такую милость, нужно покорить тело духу, питать его молитвою и словом Божиим и особенно негиблющим брашном — Телом и Кровию Христовыми, Которых так называемые староверы по упорному невежеству своему не принимают…
Сказав это, он задумался.
— Продолжай, продолжай, — поросила я с веселым видом. — Я знаю, чего ты боишься, но я тебе позволяю.
— Да, друг мой! — продолжал он. — Дело великое — обрести веру истинную, где все располагает человека к Богу, где есть нужные таинства, освящающие его, где есть духовное брашно, питающее его душу, или, лучше, обожающее дух, ум же питающее, чего ваша кривая вера не имеет.
Последние слова, конечно, по наущению врага сильно оскорбили меня, и с недовольством я сказала:
— Довольно, я на твою веру не произношу хулы, а ты начинаешь порицать мою, называя ее кривою. Там, за гробом, узнаешь, кто был прав, кто виноват.
Он нахмурил брови и пошел в свой кабинет, как будто нехотя сказав: “Дело тут видное!”. А потом, обратясь ко мне, с неудовольствием, но довольно тихо продолжил:
— Сама же вызвалась!
Я, тоже взволнованная, ушла в свои комнаты.
Грусть более прежнего овладела мною, и я сердечно жалела, что вызвала его на этот разговор. Но мысль об этом разговоре все же меня не покидала. Я старалась быть веселою, но тайная грусть томила меня. О! Господи, грех юности моей и неведения моего не помяни!
Наконец Господь Бог, не хотяяй смерти грешника, но еже обратитися и живу быти ему, не оставил и меня Своею милостию. Пришла пора и моему обращению.
Это было в том же году, накануне Богоявления Господня. Мы жили на хуторе в семи верстах от церкви. Каждый год покойный мой А. П. отправлялся в церковь за святою водой и мне предлагал отправиться с ним в свою часовню, но на этот раз почему-то не предложил, а с торопливостью собрался и поехал, ни с кем не простившись. Более часа грусть и тоска томили меня, а после того внезапно какая-то отрада наполнила душу. Одно нетерпеливое желание увидеть мужа несколько омрачало мою радость. Я часто смотрела в окно в ту сторону, откуда он должен был приехать, и вдруг вместо радости меня объял какой-то страх.
Так как мы жили на хуторе, то священник в этот вечер не успевал приезжать к нам со святой водой, а приезжал на другой день.
Ценя дорого, как и должно, святую воду, покойный имел обыкновение для святой воды брать с собою зеленый с крышкою кувшин и по входе в переднюю начинал петь священный стих: “Во Иордане крещающуся Тебе, Господи…”, а при входе в залу открывал крышку, вливал святую воду в приготовленное блюдо, кропил дом и все службы в сопровождении всего нашего семейства и всей дворни, кроме меня, потому что я уходила в спальню.
Но на этот раз я осталась в зале. Священную песнь, по обыкновению, начал он петь еще на пороге дома, а пришедши в залу, начал снимать с кувшина крышку — и что же? Едва только крышка была снята с кувшина, как нам показалось, что из него вылетели три огнерадужные струи и разлились по всей комнате. Необыкновенное благовоние мы ощутили и невольно все пали на колени, а у А. П. и кропило выпало из рук, и едва удержался кувшин. Несколько минут все мы находились в ужасе и в каком-то оцепенении и не могли друг другу сказать слова, и песнь замолкла в устах поющего.
Я первая, как от летаргии, очнулась и первая прервала молчание. Первым словом моим было тотчас же послать за православным священником. Послали человека с письмом просить священника присоединить меня к Православной Церкви.
Добрый и всегда исполнительный, пастырь не замедлил исполнить нашу просьбу.
Не могу я Вам выразить, какая радость наполнила душу мою после присоединения к той Церкви, в которой я родилась и от которой отпала, но эту радость сменяла иногда грусть, что я так долго коснела в своем заблуждении. Пастырь предложил ехать к Богоявленской утрене. Все мы отправились в храм Божий. С каким нетерпением я ждала начала Богослужения в той церкви, в недрах которой крестилась и в которой между тем столько времени, как заблудшая овца, не была!
Вот началось чтение великого повечерия, и я вся превратилась в слух: каждое священное слово ловила с жадностью и старалась передать его сердцу. И вдруг услышала слова: “Господи! Грех юности моея и неведения моего не помяни”. Эти слова как-то особенно подействовали на мою душу, они пробудили во мне прежнее. Мне казалось, что пророк как будто для меня, грешницы, и написал эти слова. После утрени я была допущена до исповеди, а после Божественной Литургии удостоилась принять Тайны Христовы.
Радостен и памятен был для меня день этот: я окончательно удостоилась быть дщерью Истинной Церкви Христовой. С тех пор я читаю Божественные книги, и в них нахожу назидание и утешение, и благодарю Бога, пославшего мне Свою Неизреченную милость!».
Так окончила дама свой рассказ.
Журнал «Странник», 1861 г.
Поучительное явление в последние минуты жизни
Рассказ священника Пантелеимонова
К 1834 году пришлось мне быть свидетелем чудного события. Теперь я уже стар и немножко ленив, а тогда горячо исполнял свои обязанности.
В один какой-то день появляется у меня прихожанин и просит меня пройти в его дом и исповедать и причастить его больного отца. Я сказал пришедшему: «Сейчас буду, иди скорее домой, прибери хорошенько в доме, зажги перед иконами восковые свечи». А сам беру требник и хочу немедленно идти в церковь за Святыми Дарами.
В это время жена моя внесла в комнату кипящий самовар и стала упрашивать меня, чтобы я прежде напился чаю и потом уже пошел к больному.
— Да ты знаешь, — сказал я ей, — что у меня не в обычае медлить, когда просят меня к одру больного.
— Какой ты чудак! Неужели больной сейчас-таки и умрет?
— А что ж удивительного? Разве ты забыла, как на прошлой неделе я едва успел исповедать больную, как она в ту же минуту и скончалась?
— Но то был случай единственный почти за четыре года. Сделай же милость, послушай меня на этот раз: я верую Господу, что старик не умрет без напутствия.
Жена просила меня так убедительно, что я не хотел огорчить ее отказом — остался: а сердце мое так и ныло от страха сделать ошибку.
Пока напился я чаю, прошло минут десять, и я, взявши из церкви Святые Дары, скорым шагом пошел к больному. Прихожу: больной сидит на постели, но в сильном томлении. Читаю молитвы к Святому Причащению, оканчиваю, велю всем выйти из комнаты, и в ту же секунду больной падает на изголовье и испускает последний вздох. Общий крик раздался в доме, и я с ужасом вперил свои глаза в умершего.
Кроме семейства усопшего, в доме были родные и соседи.
— Скорее, скорее обмывать и одевать покойника, пока не застыл!
— Нет! — возразил я. — Становитесь все на колени и молитесь Богу.
Все пали на землю, я стал читать канон Божией Матери на исход души. Медленно читал я этот умилительный канон, а предстоявшие рыдали так, что мне в жизни не случалось слышать таких рыданий.
— Молитесь усерднее Богу! — говорил я несколько раз, оборачиваясь к ним. — Молитесь, чтобы не погибла душа умершего: без покаяния и причащения нет спасения!
И все молились. Молились, видимо, все с горячим усердием и верою.
Наконец я прочитал весь канон, подошел к умершему и стал читать последнюю молитву.
Когда я окончил и сказал об этом, умерший открыл глаза, тихо сам приподнялся и, взглянув на меня, слабо сказал: «скорее».
Все вышли из комнаты, и он с умилением исповедался и по возвращении всех приобщился Святых Тайн.
— Слава Тебе, Боже! Слава Тебе! — воскликнул я в радости духа и, обратившись к предстоящим, сказал:
— Все благодарите Бога, что Он, Милосердный, молитв ради Пречистой Матери услышал ваш общий вопль к Нему и разбудил раба Своего, уснувшего было сном смерти; теперь мы не сомневаемся, что он получит жизнь вечную, потому что Христос теперь в нем и он во Христе.
Едва я кончил все, что положено по требнику, как больной снова упал на изголовье и уснул уже вечным, непробудным сном, до общего воскресения всех умерших.
Неверующий, всегда и всячески старающийся оправдать свое неверие, назовет это, пожалуй, обмороком или чем-нибудь подобным; но верующий в этом событии признает поразительное свидетельство дивного милосердия Божия к людям, ищущим спасения, и изумительную силу молитвы, изливающейся из сердца, исполненного христианской любви и упования!
Исцеление от глазной болезни по молитвам к Пресвятой Богородице
В одном довольно многолюдном селе священствовал в недавнее время не очень ученый, но благоговейный священник.
Он был глубоко и простосердечно верующим человеком и свято хранил все правила и уставы священного сана, все законоположения Святой Церкви, бдительно наблюдая за благочестием и в своих прихожанах.
Ему с многочисленным семейством нелегко жилось материально, а все же он жил уже другой десяток годов, как по воле Божией постигло его бедствие, угрожавшее ему и малолетним детям его крайнею нищетою.
Поехав однажды зимней порой для напутствования больного в дальний хутор, священник сильно простудил себе голову и глаза. Сперва нестерпимая боль и шум в голове не давали ему покоя, что продолжалось довольно долго; потом боль эта сосредоточилась на полостях лба и у него начали чесаться и пухнуть глаза. Вдали от городов, за неимением под рукой врача, он начал сперва лечиться домашними, простонародными средствами, что еще более усилило его болезнь. На глазах его появилась кровавая плева, закрывшая вскоре собою весь правый глаз, угрожавшая тем же и левому.
Бедному священнику, видимо, предстояла грустная участь слепца. Видя безнадежность своего положения, решился он отправиться для лечения в губернский город, университет которого славился в то время искусным врачом-окулистом.
С великим трудом отслужив в приходском своем храме напутственный себе молебен, стал он пред местною иконою Богоматери и в слезной молитве вручил Ей свою семью.
— Не знаю, ворочусь ли я к вам, мои дорогие! — говорил он своим малюткам-детям. — Но вот вам мое завещание: молитесь Заступнице нашей Матери Божией, и Она не оставит вас Своею милостию.
Далеко за околицу села провожали своего батюшку усердные прихожане, желая ему от души полного выздоровления.
— Молитесь за меня, дети мои! — просил он их при прощании. — Молитесь, чтобы Господь помиловал меня! Не ради меня, грешного, а ради невинных моих малюток.
Прибыв в город, священник вскоре был принят в университетскую клинику, где получил даже отдельный покой и в тот же день был подвергнут осмотру врача, который нашел у него какую-то особого рода катаракту и, хотя не терял надежды ее снять, говорил, что подобная операция очень трудна и требует большой осторожности, ибо нужно будет разрезать плеву, закрывшую глаза, на самой ее середине, и притом так, чтобы не повредить при этом зрачка.
Для начала снял он бедному страдальцу плеву с левого только глаза, не закрывавшую еще зрачка, но и при этом от сильной боли и испуга больной совсем изнемог, так что дальнейшую операцию решили отложить до следующего дня.
Между тем левый глаз больного, освободившийся от плевы, опять сильно распух и, налившись кровью, причинял священнику сильную боль.
Лежа в темной комнате в глубокий вечер, предался он горестным чувствам: и одинокость беспомощной семьи, и горькая участь слепого представлялись ему в будущем; сон не смыкал его глаз. Чтобы сколько-нибудь успокоить переполненную скорбными чувствами душу, спустившись со своего ложа, стал батюшка на колени и начал читать на память канон Богоматери, поемый во всякой скорби душевной и телесной.
Глубокая тишина окружала его со всех сторон: ни шорох, ни говор людской не отвлекали его молитвы, и тем живительнее лились из его уст умилительные песнопения и моления к Пресвятой Деве.
И как кстати им избран был этот благодатный канон, как знаменательно звучали сердцу его слова: «Многими содержим напастьми, к Тебе прибегаю, спасения иский: о Мати Слова и Дево, от тяжких и лютых мя спаси!».
Усердна была его мольба, слезы изобильно струились при ней из болящих очей, скорбные вздохи облегчали тяжесть его груди.
Окончил молитвенник канон и начал воспевать Богоматери следующие за ним стихиры: «От многих моих грехов немощствует тело, немощствует и душа моя; к Тебе прибегаю, Благодатней, Надеждо ненадежных!..».
И Надежда христиан не презрела болезненного его возгласа. Мгновенно ночная темнота рассеялась пред его глазами, и предстала ему благолепная Дева в царском венце и порфире[8], окруженная сиянием неземным.
В страхе пал пред Нею молитвенник.
— Матерь Божия! Матерь Божия! — лепетали бессвязно его уста.
— Да, Я Матерь твоего Господа, — отвечала ему чудная Дева. — Я слышала вопли твоих детей, видела слезы твоей жены. Я посетила их и нашла на молитве о твоем исцелении; слышала и твой скорбный глас и пришла тебя исцелить.
С этими словами пречистыми руками Своими коснулась Она болящих его очей: боль на мгновенье сделалась невыносимою и сменилась сейчас же совершенным ее прекращением.
— Чудилось мне, — говорил впоследствии исцеленный, — что Она вырвала у меня с корнями оба мои глаза и заменила их другими.
Со страхом упал он после того на пол к Ее стопам; приподнявшись же, не видел уже перед собою Благодатной Целительницы; лишь легкий светоносный луч, заметный в ночной тьме, означал место Ее явления, но и тот вскоре исчез.
Помолившись от благодарной души к явившей ему неизреченную милость Пресвятой Деве, разбудил бывший больной очередного ординатора клиники, молодого врача, прося осмотреть его глаза, в которых не ощущал он прежней боли, так что самый свет принесенной зажженной свечи не причинял ему прежних невыносимых страданий и зонтик для глаз, бывший ему дотоле необходимым, лежал теперь в стороне.
С удивлением смотрел на него позванный врач, недоумевая, тот ли перед ним стоит человек.
— Да у Вас теперь и признака нет плевы в глазах, они у Вас чисты и светлы, как у меня. Что Вы с ними сделали? — спрашивал его ординатор и не хотел верить чудесному его исцелению.
И врач, делавший священнику операцию накануне, на следующий день недоумевал, глядя в его совершенно здоровые глаза.
— Не знаю, чему приписать ныне нами виденное, — сказал он при этом. — Чуду ли, если только возможны чудеса, или же дивному действию самой природы, которого понять мы не можем.
Но исцеленный твердил одно: что его исцелила Матерь Божия, сильно укоряя при этом врачей в их неверии его словам.
Вскоре этот священник возвратился домой, к семье и своему приходу, и первым его делом было собрать всю свою семью и идти в Божий храм, где и был им отслужен с глубоким чувством и слезами благодарственный молебен Господу Богу и Пресвятой Богородице, дивной и скорой Целительнице болезни его.
Священника этого случилось мне видеть самому впоследствии и из собственных его уст слышать этот рассказ об его исцелении.
Андрей Ковалевский
Памятный бал в воскресенье перед Масленицей
(Истинное происшествие)
— Как на свете весело! Это — прелесть, — говорила только что вышедшая из института Лиза Ч.
— Тут опомниться некогда — то в театр, то на бал! Ах, зачем меня не взяли пораньше! — ответила ей спутница.
— Всего неделя, как я вышла из института, а вот уже наступает Великий пост. Зато как буду веселиться на Масленице!
— В понедельник утром у нас ложа во французском театре, а вечером — в опере!.. Во вторник едем на горы, потом на блины, потом на бал; а в воскресенье бал у бабушки и в полночь заговляемся! Каково! Зато всю первую неделю буду отдыхать! — прощебетала третья девушка.
Две пожилые дамы прислушивались к разговору девиц; одна из них была госпожа Ч., мать молодой институтки.
— Приятно слышать, как молодые девушки так от души веселятся, — сказала она своей соседке, княгине Т. — Глядя на них, вспоминаешь и свою молодость и сама как будто молодеешь с ними.
— Молодым особам свойственно любить веселье, — отвечала княгиня. — Но ни в какие лета не должно предаваться ему так безрассудно, без устали! Что тут хорошего, когда говорят: «Опомниться некогда!». Разве это прилично разумному существу? Разве это цель жизни?
— В наши года, конечно, можно пофилософствовать, — возразила госпожа Ч., — а в молодости…
— Конечно, нельзя требовать бесстрастного и спокойного рассуждения, но наше дело — умерять ненасытную жажду суетных удовольствий, и словом опыта охлаждать излишний пыл желаний, и заставлять думать о себе серьезно!
— Но ведь жалко нарушать эту милую, счастливую беспечность! Когда доживут до наших лет и горький опыт разочарует их — сами остепенятся.
— А разве можно быть уверенным, что доживешь до старости и будет время опомниться? Как часто смерть уносит нас в те лета, когда, казалось бы, только жить да наслаждаться жизнью! Я скажу даже, что эта вечная сумасбродная суета сокращает наши дни, убивая физические и нравственные силы. Некогда подумать, не только заняться чем-нибудь дельным. И ум поневоле тупеет, ему некогда отдохнуть: нервы постоянно напряжены, силы изнурены искусственной жизнью. А когда наступит жизнь практическая, когда застигнет горе или страдание, которым все мы подвержены, — тогда ни тело, ни душа не приготовлены к борьбе, не в состоянии бороться с ними!
Г-жа Ч. слушала княгиню с приметным нетерпением: она любовалась своей хорошенькой дочкой и поспешила представить ее княгине, чтобы переменить разговор, принимавший, по ее мнению, направление для светского общества слишком серьезное.
— Которого числа был выпуск? — спросила княгиня молодую девицу.
— Выпуск еще будет в последних числах февраля — в конце первой недели поста, — отвечала институтка.
— Я взяла ее еще прежде выпуска, — сказала ее мать. — В пост будут только концерты, а мне хотелось доставить ей удовольствие побывать в театре, потанцевать, повеселиться на Масленице. Впрочем… я и забыла… Это не в Ваших правилах, княгиня: Вы так строго обсуждаете наши веселости…
— Как! Княгиня! Вы запрещаете веселиться? — вскричало вдруг несколько молодых голосов.
— Нет! — ответила княгиня. — Я не запрещаю веселиться, а только не одобряю неумеренных и несвоевременных забав!
— Как же это, по-Вашему?
— Так, чтобы драгоценный дар Божий — здоровье не страдало от частых бессонных ночей, от беспрестанных выездов во всякую погоду, без сострадания к слугам и к себе самим, — так, чтобы, кружась в вихре света, вы не забывали познаний, которыми в продолжение стольких лет заботливое воспитание старалось украсить ваш ум; чтобы забавы были для вас отдыхом после полезного труда, а не постоянным и почти естественным занятием; так, наконец, чтобы светские удовольствия не заставили вас забыть, что вы созданы не для света, не для одной этой жизни, чтобы они не отнимали у вас того времени, в которое Церковь предписывает вам углубляться в самих себя и особенно заботиться о душе своей…
— Вы говорите о времени Великого поста? — сказала Софья К. со вздохом. — Но тогда не бывает ни балов, ни театров. Оттого-то и надобно хорошенько повеселиться на Масленице!..
— А что такое Масленица? — возразила княгиня. — Это есть переход от мясоеда к посту! Приготовление к посту в смысле Церкви. В это время перестают кушать мясную пищу — это приготовление телесное. В церкви читаются покаянные молитвы, начинают поклоны — это приготовление духовное. А кто в те дни бывает в церкви? Оглушительная музыка — вот что мы встречаем на улицах; суета, безумное веселье… Вот вы говорите — надобно повеселиться хорошенько на Масленице! А почему бы не повеселиться пораньше, отдохнуть физически и нравственно, чтобы потом с облегченною душою и спокойными мыслями посвятить Великий пост молитве? Правда, это было бы лучше!
В это время к дамам подошла генеральша С.
— В воскресенье перед Масленицей я даю бал! — сказала она. — Надеюсь, что вы не откажетесь пожаловать ко мне…
Дамы поблагодарили за приглашение, девицы были в восхищении.
— Ну, уж в этот день можно потанцевать, княгиня, — сказала резвая Зинаида К., — заметьте, воскресенье перед Масленицей — против этого дня сказать нечего, не правда ли?
— Видите, как свет исказил все ваши понятия, — заметила улыбаясь княгиня. — В этот день читают Евангелие о Страшном Суде — вслушайтесь в него внимательно в церкви, потом, возвратившись домой, размыслите о слышанном, представьте содержание Евангелия живо в своем воображении — и тогда посмотрим, будете ли вы танцевать весело и беспечно, если в уме вашем утреннее впечатление не изгладится к вечеру.
— Ах, княгиня, пожалуйста, перестаньте! — вскричала Зинаида. — Вы говорите такие страшные вещи! Зачем вспоминать об этом!..
— Затем, милая Зинаида, что это страшное событие неизбежно и что оно сделается менее страшно, если мы будем чаще думать о нем!..
— Что все это значит? Я ничего не понимаю! — сказала генеральша.
Ей передали предыдущий разговор.
— К несчастью, светских условий нельзя всегда согласить с церковными постановлениями, — заметила уклончиво генеральша. — В свете свои законы, свои обязанности к обществу. Я обещала бал своей Верочке; притом должна отблагодарить добрых своих знакомых: мы столько выезжали нынче зимою. А на Масленице все дни разобраны, только это воскресенье и остается. Зато уж помолимся в Великий пост!
— Да, конечно. Не смущайте нас, княгиня — заговорили девицы. — Не мешайте нам на Масленице веселиться вдоволь. Зато уж в посте замолим грехи. Что касается до меня, всю первую неделю буду ходить в церковь.
— И я, и я! — раздалось со всех сторон.
Бал у генеральши был великолепный: много было молодых красивых девиц, много нарядных дам, много веселых кавалеров; прекрасная музыка, роскошное угощение. Одним словом, все условия для веселья! И было очень весело! Смеялись, танцевали, кружились до упаду!
В конце вечера Софья К., подавая руку своему кавалеру, зацепилась рукавом за канделябр — воздушное платье мигом вспыхнуло. Софья, испугавшись, бросилась бежать — ее хотели остановить, помочь ей, но она, обезумев от страха, кричала и бежала, зажигая на пути своем прикосновением все встречающееся: запылали занавеси на окнах, дверях, запылали легкие наряды дам — смятение сделалось общим; все бежали друг от друга и наталкивались друг на друга, распространяя движением огонь; падали, кричали.
Пламя развивалось все более и более. Между тем подоспела пожарная команда, комнаты наполнились гостями другого рода.
Через два часа пожар был потушен. Но какая страшная развязка блестящего праздника!
София К. и беспечная, спешившая на веселье институтка были подняты на улице мертвыми; многие девицы, обгорелые, полузамерзшие, через несколько дней кончили жизнь в ужасных страданиях!
Радушная хозяйка бала генеральша С. была до того перепугана случившимся несчастьем, что занемогла и через несколько недель скончалась, поручая себя усердным молитвам Церкви.
Этот несчастный бал перед Масленицей был предметом разговоров для Петербурга и, надеемся, оставит глубокое впечатление в душе тех, кого небесное милосердие на сей раз сохранило и помиловало.
Неужели такие случаи не заставят нас серьезнее глядеть на жизнь, не научат благоразумнее распределять веселье и не глумиться безрассудно над уставами Господа, в руках Которого не одно кроткое снисхождение к легкомысленным и заблуждающимся, но и грозные кары на упорствующих и непокорных?
Мария Броде
Журнал «Странник», 1861 г.
Смирение — венец добродетели
Поучение
Брат спросил у одного старца, как вести себя, чтобы спастись.
Старец отвечал:
«Моли Бога, чтобы Он вложил в твое сердце скорбь и смирение.
Не осуждай никого.
Избегай общества молодых и легкомысленных людей обоего пола.
Удаляйся от обращения с вольнодумцами.
Не надейся на себя.
Будь осмотрителен и скромен в речах.
Храни умеренность в пище и питании, а особенно в употреблении вина.
Не входи без нужды в споры.
Кто говорит тебе правду, кротко изъявляй свое согласие; если несправедливо, не вдавайся в состязание, а заметь только: “Не так”».
— Чувствую справедливость твоих слов, но как учиться всему этому?
— Смирением! — ответствовал старец. И умолк.
Суд Божий
В журнале «Гражданин» за 1886 год при воспоминании о скончавшемся недавно настоятеле Санкт-Петербургского Исаакиевского собора протоиерее Платоне Карашевиче рассказывается один из случаев его теплого участия к душе ближнего.
Однажды вечером его призывают причастить больного в дом одного чиновника. Он приходит и спрашивает:
— Где больной?
— Это я, батюшка, — отвечает ему хозяин квартиры, стоящий на ногах.
Отец Платон удивился и с кротким увещеванием сказал ему, что следует не призывать в дом священника с Причастием, а самому прийти в церковь поговеть и затем уже приобщиться, так как, по-видимому, он не настолько болен. Чиновник лет пятидесяти, хозяин дома, выслушав это увещевание, с благоговением сказал:
— Да, батюшка, Вы правы. Но пожалейте меня. Я не знаю, что со мною, но мне кажется, что мне надо спешить.., что я не должен.., не могу откладывать, а хочется исповедаться и причаститься. Пожалейте меня!
Отец Платон поразился этим словам. Любовь его сердца заговорила громче других мыслей и чувств. Он согласился на просьбу больного и приступил к исповеди. Во время чтения молитв перед исповедью стоявший на ногах исповедник прервал отца Платона:
— Ах, батюшка, нельзя ли поскорей, я боюсь опоздать.
Отец Платон заканчивает молитвы и приступает к исповеди. Из нее он узнает от несчастного исповедника, что тот не говел более 30 лет, и не только не говел, но и в церковь не ходил, а часто смеялся и глумился над Причастием и причастниками.
С кроткой любовью стал священник укорять своего нового духовного сына. На глазах того показались слезы и полились по бледному лицу кающегося…
— Давно не плакал, — сорвалось с уст исповедника.
Дрожащим голосом прочитал взволнованный отец Платон разрешительную молитву и затем приступил к Святым Дарам. В это время причастник попросил позволения сесть, чувствуя себя усталым.
Священник подошел к нему и начал читать молитву:
— Верую, Господи, и исповедую…
Больной тихо повторял. Слыша, что голос больного как бы ослабевает, священник ускорил чтение молитвы невольно, бессознательно… Кончена молитва. Священник берет Святые Дары и подходит к больному. Пока он делает эти четыре-пять шагов, он слышит легкий вздох. Подходит ближе… Несчастный уже мертв! Он дожил до разрешительной молитвы, до покаяния, но до приобщения к Таинству, над которым столь долго глумился, не дожил.
Капитан Бопп[9]
Корабль купеческий «Медуза»
Из Лондона в Бостон спешил,
Бопп, капитан, — моряк искусный,
Но человек недобрый был.
Он так своих людей тиранил,
Так притеснял жестоко их,
Так был развратен и бесстыден,
Что вызвал ненависть у них.
И бунт жестокий, беспощадный
Готов был вспыхнуть, как огонь.
Несдобровать бы капитану,
Погиб бы лютой смертью он!
Но вот Господь судил иначе:
Все изменилось в тот же миг,
Недуг тяжелый капитана
Вдруг неожиданно настиг.
А экипаж, пылая злобой,
В своем кругу постановил,
Чтобы никто к нему в каюту
Для помощи не заходил.
И вот за днями дни тянулись —
Никто к нему не приходил.
Никто подушку не поправил,
Уста водой не освежил.
Один… Забыт, заброшен всеми,
И смерть ему в глаза глядит.
И вдруг он слышит у постели,
Как будто кто-то говорит.
То юнга, Роберт, был на судне,
Не так давно еще служил.
Жестокий приговор матросов
В своей душе не выносил.
И он больного с лаской нежной
Спросил: «Чем Вам могу помочь?».
Но а в ответ больной сейчас же
Его прогнал сурово прочь;
Он в злобе сердца неуемной
Решил ни с кем не говорить…
И мальчик вышел, но наутро
Решил больного навестить.
Вошел и слышит голос слабый:
«Кто это? Роберт, это — ты?
Ах, Роберт, я страдал жестоко
Всю ночь. Помочь мне должен ты».
И Роберт с нежною заботой
Больного ласково умыл,
Ему постель кругом оправил
И крепким чаем напоил.
Согрелась лаской и вниманьем
Ожесточенная душа,
И на глазах его суровых
Блеснула горькая слеза.
Он чувствовал, что жизнь уходит,
Что смерть уже недалеко,
И душу ужасом сковало,
На сердце стало нелегко.
И вот, когда однажды Роберт
Открыл в каюту утром дверь
И, обратясь к нему с любовью,
Спросил: «Не лучше Вам теперь?», —
«Ах, Роберт, — капитан, вздыхая,
Ему ответил чуть дыша. —
Мне тяжело, страдает тело,
И тяжко мечется душа.
Что делать? Я — великий грешник,
Меня ждет ад, мне смерть страшна;
Погиб навеки я, надежда
Мне на спасенье не видна.
Ах, Роберт, что со мною будет?» —
Его страдалец вопросил.
«Вас Бог помилует, молитесь,
Молитва Вам прибавит сил», —
Так утешал больного Роберт,
Но капитан в унынье впал,
Метался в тягостном бессилье,
Словам он юнги не внимал.
И вот, когда опять в каюте
Однажды Роберт прибирал,
Больной, с трудом дыша, вздыхая,
Ему застенчиво сказал:
— Послушай, Роберт, я подумал,
Что, может быть, на корабле
Найдешь Евангелие и, может,
Его ты почитаешь мне?
И вот святую эту книгу
В каютах Роберт разыскал,
Ее принес он капитану
И радостно ему сказал:
«Вот, капитан, я Вашу просьбу
исполнил». Радостно глаза
Вдруг засверкали капитана,
И заблестела в них слеза.
«О, Роберт, друг! Читай скорее,
Теперь узнаю, что мне ждать,
Узнаю, в чем мое спасенье.
Сядь, Роберт, здесь прошу читать!»
И Роберт с трепетом сердечным
Святую книгу тут читал.
Он два часа читал прилежно,
И капитан ему внимал.
Святое слово жадно слушал,
Душа им озарилась вмиг,
Он жизнь свою окинул взглядом,
Все недостоинство постиг.
Хоть слышал слово он святое,
Спасенью верить не посмел,
Всю ночь он мучился жестоко
И сердцем горестно скорбел.
И вот опять его поутру
В каюте Роберт навестил.
«Ах, Роберт, я погиб навеки! —
Ему он горько возопил. —
Друг мой, ведь ты молитвы знаешь?
Так помолись же за меня!» —
«Нет, капитан, я только с мамой
Читаю “Отче наш” всегда».
«Ах, Роберт, встань же на колени,
Проси, чтоб Бог меня простил.
О, помолись, мой друг, прилежно,
Пусть мне Господь прибавит сил!»
И Роберт, вставши на колени,
Сложивши руки на груди,
В слезах воскликнул: «Боже правый!
О, пощади его! Спаси!
Боится он навек погибнуть,
Но Ты, Господь, его храни.
Боится в ад попасть кромешный,
На небо Ты его возьми!
Не дай диаволу навеки
Его душою овладеть.
Пусть Ангел будет с ним Хранитель,
И перестанет он скорбеть!
Мне жалок он: его, больного,
Все бросили, — но я ему
Служить теперь не перестану,
И за него Тебя молю!».
Больной молчал, лежал недвижно,
Молитве чистой он внимал,
Волненье в душу проникало,
Потоки слез он проливал.
И Роберт тихо-тихо вышел,
Дивясь, на палубе стоял.
Но к вечеру он, возвратившись,
Святую книгу вновь читал.
Когда же на другое утро
Явился Роберт пред больным,
Он поразился перемене,
Внезапно происшедшей с ним.
Следы тревоги, страха, боли
Исчезли вдруг с его чела,
Священной благодати искра
В душе больного расцвела.
«Ах, Роберт, — молвил еле слышно
Больной ему, вздохнув опять, —
Какую ночь провел! Послушай,
Мне словом трудно передать.
Как ты вчера меня оставил,
Я впал в какой-то полусон.
Душа полна была молитвой…
И вдруг ко мне явился Он!
Кто Он? Да Сам Христос Спаситель,
Распятый на кресте за нас.
Он, милосердный избавитель,
Явился мне в предсмертный час!
И показалось мне как будто,
Что я к ногам Его приполз,
И закричал я: “Сын Давидов!
Спаси, помилуй мя, Христос!”.
Еще мне показалось, Роберт,
Что на меня Он вдруг взглянул.
О, как взглянул! С какой любовью!
О, как легко я вдруг вздохнул!
Я задрожал, вся кровь волною
Мне к сердцу хлынула, в душе
Надежда ярко засияла,
И Он, отверженному мне, —
Да, мне! — С любовью улыбнулся!
Я на Него глядел и ждал.
Ах, Роберт, что со мною стало!
Я всей душою трепетал!
А Он с креста, который Кровью
Его святою был омыт,
Смотрел так благостно, с любовью!
Казалось, обо мне скорбит.
И вдруг уста Его открылись
И глас Его я услыхал.
Он мне сказал:
“Молись и веруй!..”,
И пред крестом я зарыдал.
И вдруг видение исчезло,
Очнулся я… Что это? Сон?
О, нет, теперь я знаю твердо,
Что это был не только сон.
Теперь я верю, что сказал Он
Среди Своих учеников,
Хлеб преломив, вино влив в чашу
Во оставление грехов.
Мой Искупитель жив! И смерть мне
Теперь уж больше не страшна.
Грехи мои теперь простятся,
Расстанусь с жизнью скоро я.
Я рад…» — при этом слове Роберт,
Дотоле плакавший в тиши,
Воскликнул: «Нет, не умирайте,
Не надрывайте мне души!»
«Не плачь, мой друг, мой добрый Роберт,
Мне милосердье Бог явил.
Теперь я счастлив, мне не страшно,
Расчеты с жизнью я закрыл.
Но жаль тебя теперь оставить,
Как сына мне родного, жаль,
Ты одинок, с кем остаешься?
Вот в чем теперь моя печаль!
Не попади на ту дорогу,
Которой жизнь моя прошла.
Ты юн, неопытен, ребенок,
Дорога эта так страшна!
Твоя любовь ко мне, друг милый,
Была, как подвиг, велика.
Благослови тебя Всевышний,
Пусть будет жизнь твоя легка!
Еще прошу тебя я, Роберт,
Скажи матросам всем моим,
Что я прошу у них прощенья
И что я все прощаю им…»
Весь этот день прошел спокойно,
Евангелие он слушал вновь.
Настала ночь, простился Роберт.
«Иди, с тобой моя любовь», —
Сказал ему больной и грустно
Его глазами проводил.
Когда же дверь опять поутру
В каюту Роберт отворил,
Что видит он? — Уж на постели
Больного нет, он на полу
Лежит ничком, склонив колени,
Оборотясь лицом к углу,
Где крест ему во сне явился…
В дверях каюты Роберт встал.
В тревоге он остановился,
И потихонечку позвал он
Капитана. Нет ответа.
Он, два шага ступив, позвал
Опять тихонько капитана,
Но капитан не отвечал.
Он подошел к больному робко,
Его ноги коснулся он…
Нога — как лед. В испуге громко:
«О, капитан!» — воскликнул он.
И приподнял его за плечи.
И тихо-тихо голова
Сама собою снова на пол
По-прежнему опять легла.
Глаза закрыты, щеки бледны,
Спокоен вид… Больной почил,
А руки сжаты на молитву…
Колени Роберт преклонил.
За упокой души отшедшей
Он с жаром Господа молил,
Потом поднялся и в каюту
Широко двери отворил.
«Войдите все, — сказал он тихо. —
Скончался ночью капитан.
У вас у всех просил прощенья
И вам свое прощенье дал».
Склонились головы в молчаньи.
«Прости и нас», — сказали все
И тело в саван обрядили,
С молитвой в волны опустили.
И стихло все на корабле.
Два простеца
I
К светлой речке скат отлогий,
А по скату ряд домов,
На вершине храм убогий,
А за ним — кайма лесов.
Влево тянется болото,
Вправо — ширь родных полей,
Где сверкает позолотой
Рожь от солнечных лучей.
Там же две-три деревушки,
А за ними вновь видны
Леса синие верхушки,
Как зубцы большой стены.
Небогата панорама,
Но зато какой покой!
Вот на горке возле храма
Виден домик небольшой.
Он от старости погнулся,
По окошки в землю врос
И как будто окунулся
В тень разросшихся берез.
А они зеленой сетью
Заплели его кругом
И качают тихо ветви
Над растворенным окном.
У окна скамья худая,
Старичок на ней сидит;
Борода его седая,
Будто белый снег, блестит.
На высоком лбу морщины,
Но в лице спокойном нет
Ни тревоги, ни кручины,
А какой-то тихий свет.
И полдневный зной, и тени
Нежат сердце старика,
На согнутые колени
Оперлась его рука.
Грудь вздымается легонько,
Голова наклонена,
И звучит, звучит тихонько
Слабый голос как струна.
Летний полдень зноем пышет —
Пусто в улице села,
Песня старца льется тише,
Тише… Вот и замерла.
И заснул он понемножку,
Головой к стене приник
И не слышит, как к окошку
Подошел другой старик.
На лице его тревога,
Он дрожит: «Отец Андрей!
Что Вы спите! Ради Бога,
Пробудитесь поскорей!».
— Кто тут?
— Я, дьячок!!
— Чего ты? —
И старик открыл глаза.
На ресницах от зевоты
Засветилася слеза.
— Ты зачем?
— Благословите!
— Ну, Господь благословит!
Что такое?
— Погодите. И язык не говорит.
Чуть дышу я…
— Отчего же?
— Я ведь к Вам из Слободы.
Благочинный наш… О, Боже!
Не минуем мы беды!
— Благочинный? Что такое? —
Побледнел отец Андрей. —
— Просто сердце не в покое,
— Говори, Ильич, скорей!
Благочинный, что ль, прибудет?
— Нет! Велел он Вам сказать,
Что сюда… Беда нам будет,
Как мы будем их встречать?
— Да кого? Скажи, почтенный,
Что такое за беда?
— Как же! Сам Преосвященный
Скоро будет к нам сюда!
— Полно, полно, ты немного,
Верно, выпил, милый друг!
— Ни стаканчика в дороге,
Просто было недосуг.
Как услышал — сердце в пятки,
Руки, ноги затряслись…
Я скорее без оглядки
К Вам…
— Постой не торопись!
Говоришь ты, сам Владыка?
— Сам, отец Андрей, не лгу!
Сами будут!
— Погоди-ка! Я очнуться не могу.
Ты меня совсем встревожил…
Да зачем же им сюда?
Сорок лет я здесь уж прожил,
И, однако, никогда
К нам они не приезжали…
Что ж отец-то Алексей?
— А они вот приказали
Приготовиться скорей!
Храм прочистить… Все как надо,
Речь велели сочинить…
— Ну, не ври! — сказал с досадой
Старичок… — Не может быть!
— Да позвольте! Вот записка,
Я ее не сочинил!
Прочитал старик и низко
Голову свою склонил…
Долго длилось то молчанье
В наступившей тишине,
Только листьев трепетанье
Раздавалось в вышине,
Да в березках тихо пела
Птичка нежным голоском,
Да пчела в саду гудела
Над раскрывшимся цветком.
— Как же быть, Ильич? — очнувшись,
Говорит отец Андрей.
Но Ильич сидел согнувшись
И не поднял вверх очей.
— Что ж молчишь-то?
Ну, советуй!
— Нет, увольте, не могу!
В голове ни мысли нету… —
И согнулся вновь в дугу.
— Эх, стряслось какое горе!
Что-то будет? Может быть,
Нам придется, братец, вскоре
На другое место плыть!
— Как, отец Андрей! Куда же? —
Прошептал Ильич с тоской.
— Погоди, Владыка скажет.
В монастырь, брат, на покой!
— Ах! Да, что Вы? Не пугайте!
Чем уж так вот горевать
И печалиться, давайте
Лучше все приготовлять!
— Это точно! Ну, а все же
Не минуем мы тревог!
Разве только уж поможет
Нам в несчастье этом Бог!
II
И пошли приготовленья…
Целый день Ильич в труде,
Он не знает утомленья,
Он присутствует везде.
В рамах стекла промывает,
Моет старые полы,
Пыль и копоть обтирает,
Поглядит во все углы…
У икон вставляет свечи,
Сам догматики поет
Иль со сторожем о встрече
Разговор живой ведет.
И отец Андрей не знает
Тоже отдыха совсем.
Он прилежно сочиняет
Речь свою на диво всем!
Встанет чуть не на рассвете
(А едва успел ведь лечь)
И засядет в кабинете
У окна скорей за речь.
Тут тогда его покою
Уж никто не смей мешать!
Лишь Ильич один порою
Завернет потолковать.
Старичок его усадит,
Скажет: «Слушай, братец мой!»,
Крякнет, бороду погладит,
И польется речь рекой!
— Ладно ль так-то?
— Превосходно!
Закипит отец Андрей:
— Вот, как грянем всенародно,
Только слушай Архиерей!
— Верно, верно Ваше слово.
— Ты, Ильич, не оплошай!
— Ой, у нас уж все готово,
А во храме — просто рай!
Посидят и вновь возьмутся
За привычный труд они,
И не слышно, как несутся
Чередой за днями дни.
Наконец пора настала…
Вспыхнул заревом восток,
Из-за леса солнце встало,
И затеплился денек.
В это утро пробудились
Старики мои чуть свет.
И тотчас засуетились,
Знать, покоя в сердце нет.
Побежал Ильич ко храму,
Отпер двери, растворил.
Стал тереть зачем-то раму
И чуть-чуть не продавил.
Захотел свечу поправить,
Помутилося в глазах —
Уронил. Хотел поставить,
Дрожь какая-то в руках.
И упал он пред иконой,
Шепчет: «Господи, спаси!
Будь нам в жизни обороной,
От несчастий упаси!».
Голова его седая
Бьется трепетно об пол,
И не слышит он, рыдая,
Что отец Андрей пришел.
Что стоит он тут же сзади,
Побледневший и худой,
Умоляя: «Бога ради,
Успокойся, братец мой!».
— Не могу, тоска напала.
Страшно мне, отец Андрей!
Вот свеча из рук упала,
Знать, задаст нам Архиерей!
— Полно, полно суесловить,
Встань-ка лучше, да пойдем,
Ризы надо приготовить
Да молебен спеть потом.
А над лесом, над полями
Разгорелся летний день,
И народ в село толпами
Шел из ближних деревень.
Оживилося селенье:
Тут и здесь, как ратный стан,
Приютилися под тенью
Группы пришлых поселян.
Вот крестьянки у ограды
На траве рядком сидят
И прилежно про наряды
Да хозяйство говорят.
Мужички, что поважнее,
Собрались толпой в притвор
И ведут об Архиерее
Пресерьезный разговор.
А другие с Николаем,
Старым сторожем села,
С колокольни озирают
Поле, где дорога шла.
В храме все уже готово,
Ярко блещет ряд свечей,
В алтаре в одежде новой
Ждет давно отец Андрей!
А Ильич, старик мой бедный,
Просто места не найдет.
То по церкви бродит бледный,
То на клирос завернет,
То на улице солидно
Как-то крикнет: «Николай!
Что, не едет?» —
— Нет, не видно.
— Ты смотри, не прозевай!
— Не тревожься! По заказу
Мы исполним все дела.
Как завидим, грянем сразу,
Только пой, колокола!
Солнце к лесу уж спустилось,
Тени на землю легли,
Вдруг внезапно закурилась
Пыль дорожная вдали.
— Едет! — громкий клич раздался.
С колокольни грянул звон,
Весь народ заволновался
И бежит со всех сторон,
К церкви бросился скорее.
В то же время из дверей
Вышел встретить Архиерея
С Ильичом отец Андрей
В новом, светлом облаченьи,
С дорогим крестом в руках.
Он старался скрыть волненье,
Трепетавший в сердце страх.
А Ильич, уж не скрывая
Ничего, как лист дрожал.
Грозный поезд, поспешая,
Между тем в село въезжал.
Вот уж тройка миновала
Избы улицы пустой.
Ближе, ближе… Вот и встала
У ограды пред толпой.
Вот и он идет со свитой
Прямо в церковь не спеша.
Строгий, важный, сановитый…
А у двери чуть дыша
Ждет толпа Архиерея…
Вот уж он и у дверей.
Тут ему дрожа, бледнея,
Подал крест отец Андрей.
И пошел во храм, нестройно
Напевая входный стих,
А Ильич за ним «Достойно…»
Начал петь. И вдруг… затих.
Горло словно чем-то сжало,
Силы нет. А свита вслух
Понукает… «Все пропало!» —
Прошептал старик. И… бух
Прямо в ноги Архиерею.
Тот смутился, говорит:
— Что с тобою? Встань скорее!
Но Ильич мой все лежит.
— Подними его! — из свиты
Кто-то поднял Ильича
И пошел он прочь, убитый,
Ноги старые влача.
Между тем отцу Андрею
Нужно было речь сказать.
Обратясь к Архиерею,
Он хотел тетрадь достать.
Смотрит — нет ее в кармане!
Побледнел старик: как быть?
Начал стоя, как в тумане,
Речь экспромтом говорить.
Голос слабый, сердце бьется,
Не припомнит ничего.
Слово скажет да запнется,
Повторит опять его…
А непрошеные слезы
Так и льются из очей.
Слышит: кротко, без угрозы,
Говорит Архиерей:
«Речь ты после мне доскажешь,
А теперь молебен пой!»
Что-то радостное даже
Пролетело над толпой.
И отец Андрей, очнувшись,
С прояснившимся лицом
Стал, к иконам обернувшись,
Петь молебен с Ильичом.
Тихо, ровно и согласно
Пели старцы. В их мольбе
Тлела искра веры ясной
И покорности судьбе.
Словно кто-то с сокрушеньем
О грехах своих рыдал
И, надеясь на прощенье,
К небу руки простирал.
Словно сын отцу о муках
Задушевных говорил,
Словно в этих тихих звуках
Кто-то плакал и молил.
И лились они, как волны,
Призывая к небесам,
И затих, народом полный,
Деревенский бедный храм.
Для людей, обремененных
И трудами, и нуждой
И с покорностью склоненных
Пред иконою святой,
В этих звуках было что-то
Благодатное. От них
Замирала вся забота
О несчастиях своих.
И недаром эти люди
Так усердно всей толпой
На взволнованные груди
Полагали крест святой.
И недаром, крест забывши,
Кто-то плакал у дверей.
Это все заметил бывший
В алтаре Архиерей.
И, когда затихло пенье,
Он сказал народу: «Вам
Богом дан на утешенье
И на помощь этот храм.
Не забудьте же вы это —
И с надеждою всегда
За молитвой, за советом
Приходите все сюда.
Здесь своим сердечным пеньем
Эти старцы вам дадут
Веру, мир и утешенье
От душевных бурь и смут.
А за это вы любите
Их на склоне старых лет,
И лелейте, и храните
От случающихся бед!
Вы же, — к старцам обращаясь,
Продолжал Архиерей, —
Послужите здесь, стараясь
Жить для них, своих детей.
Вы сумели с ними слиться,
Вы, служа примером им,
Научили их молиться
Пред Зиждителем своим.
Пусть же Божия Десница
Вас за то благословит
И за труд святой сторицей
В горнем мире наградит.
От себя же я награду
Обещаюсь вам прислать!».
Кто волненье и отраду
Старцев может описать!
Проводив Архиерея,
В храм пришли они и там,
Верить бывшему не смея,
Вновь припали к образам.
Вновь усердно помолились,
А потом пошли домой…
Тени ночи уж спустились
Над уснувшею землей.
Над низинами белея,
Поднималася роса,
За леском вдали, бледнея,
Гасла зорьки полоса.
От реки волна прохлады
Доносилась с ветерком,
В синем небе звезд лампады
Загорелись огоньком.
Со ржаного поля веял
Аромат в село волной,
И отрадный сон лелеял
Нежно грудь земли родной.
Люд рабочий на покое
По своим избушкам спал,
Только кто-то за рекою
Громко песню распевал.
Старцы вышли за ограду.
— Как же так, отец Андрей!
Про какую же награду
Говорил Архиерей?!
Неужели мне, примерно,
Он стихарь пришлет?
— А что! Уж тебе стихарь — наверно.
Али, может, не возьмешь?
— Как не взять! А Вам-то, значит, —
Камилавку либо крест…
— Ну, пошел опять судачить,
Как тебе не надоест!
Может быть, Владыка взгляды
Переменит, братец мой!
Ведь по правде-то награды
Недостойны мы с тобой.
Что мы сделали такое?
— Где, отец Андрей, мне знать?
— Ну, так значит, будь в покое
И напрасно слов не трать!
Старики ушли. В селеньи
Вновь настала тишина.
Только песня в отдаленьи
Все была еще слышна.
Я окончил. До свиданья,
Мой читатель дорогой!
Но теперь перед прощаньем
Мне хотелось бы с тобой
О моих героях скромных
Еще раз поговорить.
На Руси людей подобных
Много, много, может быть.
Не боясь ни притеснений,
Ни насмешек, ни нужды,
Все они несут с терпеньем
Здесь великие труды.
Все — и в слове, и в примере —
Каждый день из года в год
Учат правде, учат вере
Бедный, темный наш народ.
И, смягчая нрав суровый,
Сеют в грудь людской семьи
Семя жизни чистой, новой,
Полной мира и любви.
И, борясь с мирскою ложью,
Охраняют до конца
В людях веру в Церковь Божью
И в Спасителя-Творца.
А ведь только православной
Этой верой и сильна,
И себе не знает равной
Наша русская страна!
Только с ней в любую пору
Переменчивой судьбы
Находили мы опору,
Жизнь и силу для борьбы.
Только этой верой правой
Мы и дышим, и живем,
Только с ней одной со славой
Мы и в будущность пойдем!
От редакции: к сожалению, автор произведения «Два простеца» в первоисточнике (архиве) не указан. Редакция «Звонницы» обращается к боголюбивому читателю с просьбой поделиться любой полезной информацией об авторстве данного произведения, направляя письма по электронному адресу: zvonn93@mail.ru
[1] В новой литературной обработке.
[2] Артемий, великомученик — один из выдающихся военачальников в правление равноапостольного царя Константина Великого и его сына Констанция. Много сделал для распространения и укрепления христианства в Египте. Когда на престол взошел Юлиан — император-отступник, желающий возвратить язычество — Артемий его всенародно обличил в нечестии, за что был подвергнут жестоким пыткам. В темнице мученику явился Сам Христос и своими словами укрепил Артемия в вере еще больше. Он избавил Артемия от боли при пытках, пообещал ему венец славы в Небесном Царствии. После лютых пыток Артемий был обезглавлен (362 г.). После смерти Артемия сбылось его пророчество о скорой гибели Юлиана Отступника.
[3] Кантонист (от нем. Kantonist — новобранец) — в России в первой половине 19 в.: солдатский сын, приписывавшийся со дня рождения к военному ведомству и подготовлявшийся к солдатской службе в особой низшей военной школе.
[4] Святитель Митрофан, епископ Воронежский (1623-1703). Сначала благочестивый священник, после смерти жены пострижен в иночество с именем Митрофана (в 1663 г.). Подвизался в пустыни, стал игуменом, настоятелем монастыря. Его трудами сооружались храмы. По желанию царя был поставлен на вновь созданную Воронежскую кафедру, посвящен в епископа. Очень много потрудился на этом поприще; его трудами был воздвигнут Благовещенский собор. Мудро руководил духовенством. Жил почти бедно, несмотря на свой сан. После погребения через какое-то время обнаружилось, что тело почившего святителя нетленно. От его мощей происходили и происходят удивительные исцеления.
[5] Кирка (от нем. Kirche) — лютеранская церковь.
[6] Лютер Мартин (1483-1546) — деятель Реформации в Германии. Выдвинул тезисы против индульгенций, отвергавшие основные догматы католицизма. Основатель лютеранства. Перевел на немецкий язык Библию, утвердив нормы общенемецкого литературного языка.
[7] Бельэтаж (от франц. bel — прекрасный и etage — этаж) — второй, обычно лучший, парадный этаж здания (особняка, дворца и т. п.).
[8] Порфира (от греч. Porphyra – красные водоросли) – длинная пурпурная мантия, надеваемая монархами в торжественных случаях.
[9] От редакции: предлагаемый нами текст поэмы «Капитан Бопп» перепечатан из архива протоиерея Григория Александровича Пономарева.
Существует и другой, более известный, вариант произведения, широко распространенный в сети интернет, автором (или переводчиком с английского) которого считают знаменитого русского писателя Василия Андреевича Жуковского.
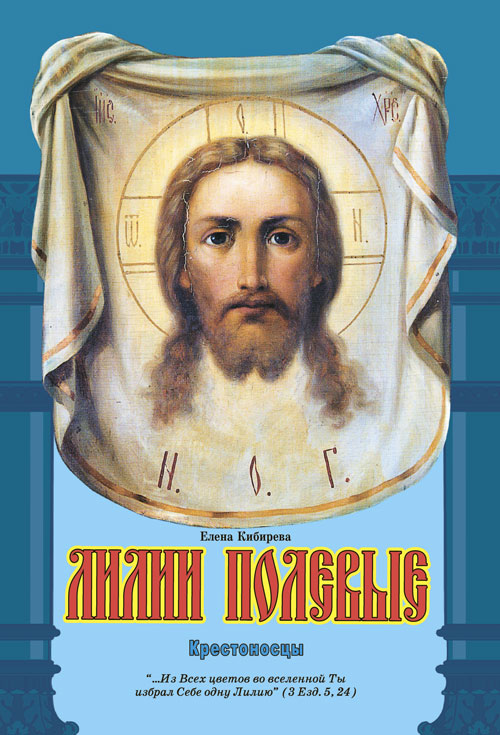




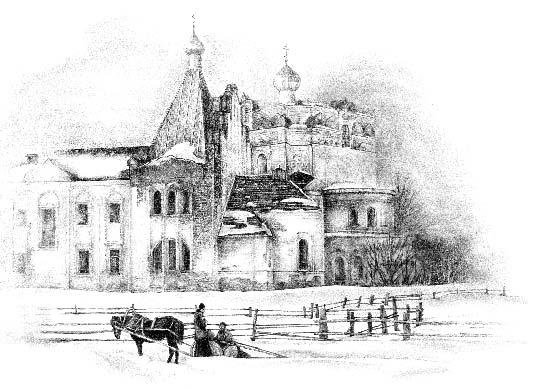

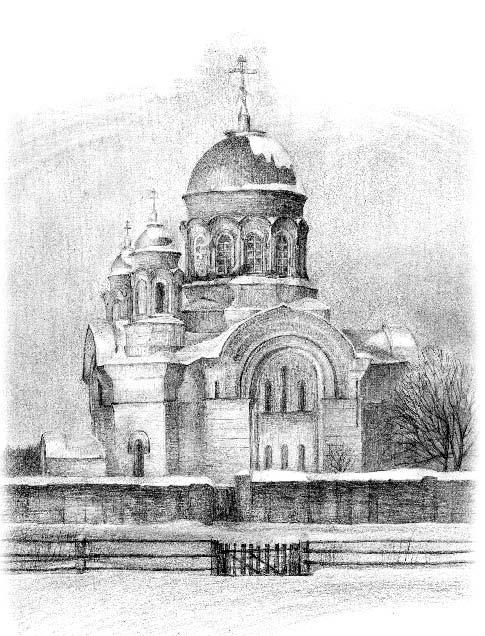

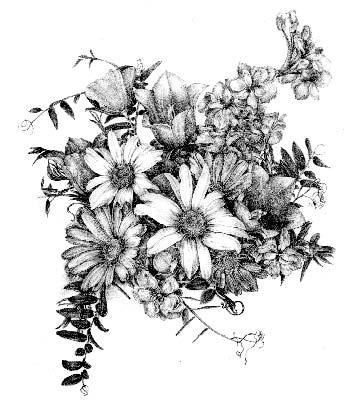







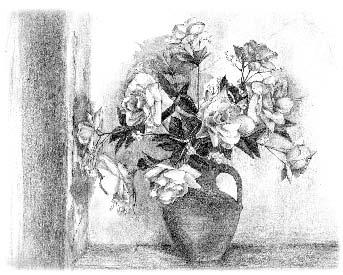

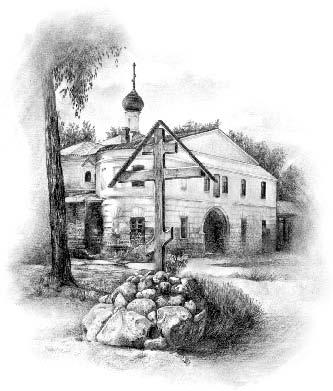
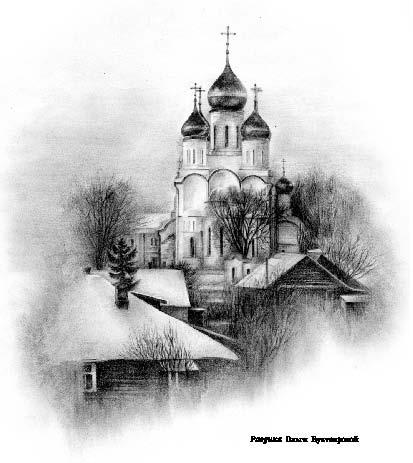
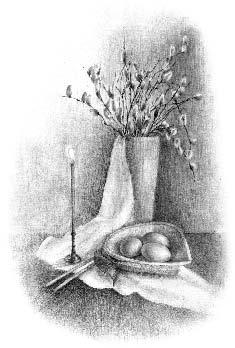




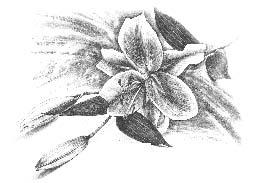
















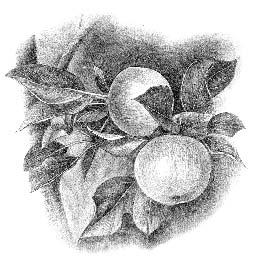










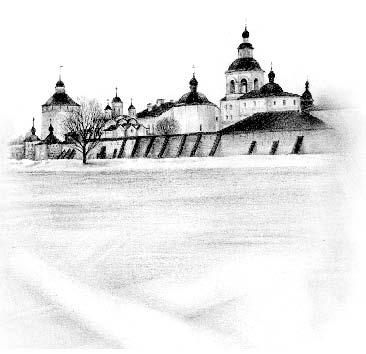





Комментировать