- Глава I. Введение. Стимулы борьбы с советской властью: национальное сознание
- Глава II. Стимулы борьбы с советской властью: социальные, экономические, психологические
- Глава III. Политическая карта Российского государства к середине 1918 года: Северная область, Финляндия, Прибалтийский край, Литва, Польша, Северо-западная область
- Глава IV. Бессарабия
- Глава V. Украйна
- Глава VI. Крым
- Глава VII. Закавказье
- Глава VIII. Дон: внутреннее строительство и вооруженная борьба с большевиками
- Глава IX. Дон: внешняя политика
- Глава X. Противобольшиевицкие организации внутри России: «Правый Центр», «Национальный Центр», «Союз Возрождения России», «Союз защиты Родины и Свободы» (Савинков)
- Глава XI. Германофильство Правого Центра и Милюкова. Группа Шульгина. Взаимоотношения Добровольческой армии с политическими организациями и союзниками. Роль офицерства
- Глава XII. Противобольшевицкое движение на Востоке: чехо-словаки, «Комитет Членов Учредительного Собрания» и «Народная армия»
- Глава XIII. Власть и армия в Сибири и на Урале
- Глава XIV. Дальний Восток. Военное положение на Восточном фронте. «Интервенция»
- Глава XIV. Внешние затруднения Добровольческой армии: немецкая оккупация, Астраханская и Южная армии
- Глава XVI. Внешние затруднения Добровольческой армии: отношения с Донским атаманом
- Глава ХVII. Конституция Добровольческой власти. Внутренний кризис армии: ориентации и лозунги
- Глава XVIII. Внутренняя жизнь Добровольческой армии: традиции, вожди и воины. Генерал Романовский. Кубанские настроения. Материальное положение. Сложение армии
- Глава XIX. Красная армия
- Глава XX. Второй кубанский поход: силы и средства сторон; театр; план операции
- Глава XXI. Взятие Торговой. Смерть генерала Маркова
- Глава XXII. Поход и бой от Великокняжеской до Белой глины
- Глава ХХIII. Тихорецкая операция
- Глава XXIV. Положение к 1 августа армии и освобожденного края. Облик Добровольческой армии
- Глава XXV. Второй кубанский поход. Подготовка Екатеринодарской операции: Кущевка, Кавказская, занятие Ставрополя, Пластуновская
- Глава XXVI. Бои на путях к Екатеринодару. Кореновская
- Глава XXVII. Взятие Екатеринодара
- Глава XXVIII. Политика кубанской власти. Взаимоотношения Кубани и Добровольческой армии осенью 1918 года
- Глава XXIX. Состав и положение Добровольческой армии в августе. Расположение сторон. Дальнейший план операции. Второй Кубанский поход: Освобождение Западной Кубани и Черноморской губернии. Преследование большевиков в Закубаньи. Взятие Майкопа
- Глава XXX. Состояние большевицких войск Северного Кавказа в августе и сентябре. Наступление наше в августе 18 г. Бои под Ставрополем, взятие Армавира и Невинномысской. Стратегическое окружение большевицкой армии
- Глава XXXI. Переход большевиков в контрнаступление в начале сентября 1918 года на Армавир, Ставрополь и по верхней Кубани. Перемена большевицкого командования и плана операции. Отступление большевиков в конце сентября к Невинномысской. Преследование их нашей конницей к Урупу. «Мятеж» Сорокина и его смерть. Террор в Пятигорске
- Глава XXXII. Оставление нами Ставрополя. Бои под Армавиром, на Урупе и в Баталпашинском отделе. Очищение от большевиков левого берега Кубани. Двадцати-восьмидневное сражение под Ставрополем (10 октября — 7 ноября)
- Глава XXXIII. Соприкосновение Добровольческой армии с немцами и грузинами. Наши взаимоотношения
- Глава XXXIV. События на Дону осенью 1918 года: положение на фронте; взаимоотношения с Добровольческой армией; проект Доно-Кавказского союза; Донской Круг
- Глава XXXV. Вопрос о всероссийской власти. Отношение к нему русской общественности и политических групп. Позиция вел. князя Николая Николаевича. Уфимская директория. Взаимоотношения командования Добровольческой армии с директорией
- Глава XXXVI. «Военно-походное» управление. Добровольческая политика. Образование «Особого совещания»
- Глава XXXVII. Приступ к государственному строительству на Юге. Смерть генерала Алексеева
Оригинал. Книгоиздательство «Слово». 1924
Очерки Русской Смуты. Том 3. Белое движение и борьба добровольческой армии. Май–октябрь 1918 года
Глава I. Введение. Стимулы борьбы с советской властью: национальное сознание
История откроет нам со временем истоки большевизма — того огромного и страшного явления, которое раздавило Россию и потрясло Мир, установить отдаленный и близкие причины катастрофы, заложенный в историческом прошлом страны, в духе ее народа, в социальных и экономических условиях его жизни. В цепи событий, поражающих современников своей полной неожиданностью, жестокой извращенностью и хаотической непоследовательностью — история найдет тесную связь, суровую закономерность и, может быть, трагическую неизбежность…
Но и перспектива времени не гарантирует еще абсолютной правды. Вселенская правда нам недоступна. Есть только многогранные отражения ее. И те, кто делают историю, и те, кто пишут ее, не могут сбросить с себя окончательно уз, налагаемых традициями и идеями эпохи, нации, общества, класса. Смутное время найдет и своего Карамзина с его национально-историческим подходом, и своего Жореса, который во введении к капитальному труду «История великой французской революции», порвав обязательные покровы объективности, говорит: «мы намереваемся изложить события с социалистической точки зрения для народа, для рабочих и крестьян».
Тем труднее положение современников, участников событий. Их мысленный взор застилает еще кровавая пелена; их душевное равновесие нарушено; в их сознании события более близкие, более волнующие невольно заслоняют своими преувеличенными, быть может, контурами факты и явления, отдаленные от фокуса их зрения. Их чувства глубже, страсти сильнее, восприятия элементарнее; они жили настоящим, воплощенным в плоть и кровь, — даже те, кто, став духовно выше среды и своего времени, проникали уже обостренным зрением за плотную завесу грядущего… Свидетельство современников, однако, весьма ценно. Не только установлением конкретных фактов, но даже субъективной формой их восприятия, дающей иногда ключ к разгадке многих сокровенных побуждений и действий людей, партий, общественных групп. Свидетельства эти — те кирпичи, из которых история возводит свое величественное здание.
С такой точки зрения я и смотрю на задачу моих «Очерков».
В этой книге я пишу главным образом о борьбе Добровольческой армии с советской властью в 1918 году, захватывая однородный и цельный период — с весны до осени, когда поражение центральных держав принесло совершенно новую политическую конъюнктуру, существенно отразившись и на условиях нашей борьбы. С этим событием почти совпала смерть ген. Алексеева, завершившая нашу совместную деятельность, и окончание Второго Кубанского похода Добровольческой Армии…
Менее подробно я буду останавливаться на прочих фронтах и формах противобольшевицкого движения, не связанных внутренне с судьбою Армии. Точно так же, говоря о большевизме, я главным образом касаюсь реальных его последствий и «достижений». Они, наряду со стихийными следствиями мировой войны и революции, в конец разрушили благосостояние страны и принизили дух ее народа. Они же дали стимулы той постоянной и непрекращающейся борьбе, которая продолжается и ныне, после падения всех белых фронтов, проявляясь в чрезвычайно разнообразных формах — активно и пассивно, явно и тайно, сознательно и рефлективно. И будет длиться до тех пор, нока не исчезнет возбуждающее ее начало — советская власть, ненавистная народу.
Поэтому в общем, пока еще тихом, но грозном ропоте народного моря тонут бесследно голоса представителей новых течений общественной мысли, осуждающих те или иные формы преодоления большевизма или приемлющих его, как власть «эволюционно изживающую себя и подверженную внутреннему органическому перерождению».
Противобольшевицкие движения не создавались отдельными людьми — они вырастали стихийно и непредотвратимо. И подобно тому, как некогда слово русских оппортунистов было бессильно остановить разрушительный поток народного безумия, так в будущем оно не в силах будет ввести в спокойное русло и в формы государственно-целесообразные проявления народного гнева.
* * *
Стимулы для борьбы с советской властью были крайне разнообразны, находя отклик почти во всех слоях русского народа и затрагивая самые чувствительные стороны народной психики.
Основной порочный недуг советской власти заключался в том, что эта власть не была национальной.
Никогда еще в русской истории после татарского ига представители страны, какими в дни величайшего ее падения явились последовательно господа Иоффе, Бронштейн и Бриллиант[1], не подвергались большему унижению, чем на Брест-Литовской конференции.
Никогда еще вероятно к жизненным интересам государства полномочные послы» его не относились с таким грубым невежеством или презрением, как те лица, которые говорили теперь от имени русского народа.
Трижды прерывалась и трижды возобновлялась мирная конференция. Встретив в третий раз все те же непомерные требования со стороны враждебных держав, — Бронштейн (конец января) отказался подписать мирный договор и уехал в Петроград, заявив вместе с тем, что советское правительство демобилизует армию и «выводит народ из войны»…
Но 6 февраля германские армии перешли в наступление по всему Восточному фронту, не встречая почти никакого сопротивления[2], и совет народных комиссаров в тот же день сообщил радиотелеграммой о принятии всех условии центральных держав. Наступление австро-германцев тем не менее продолжалось, достигнув к марту месяцу линии Псков–Киев–Одесса.
В конечном итоге последствия Брест-Литовского мирного договора (19 февраля) и дополнительных к нему соглашений свелись к следующему:
В политическом отношении: отторжение от России Финляндии, Украйны, Крыма, Прибалтийского края, Литвы, Польши, Грузин, Батума, Карса и Ардагана. Одни из этих окраин получили независимость, в других допускался плебисцит, исход которого предрешался фактом военной оккупации их германцами и турками.
Мирный договор этот довершил распад России, наметившийся в результате ослабления и вырождения центральной власти и максимализма в национальных устремлениях. Помимо отторжения огромной территории, страна отрезывалась от Балтийского и Черного морей; лишалась жизненно необходимых условии своего экономического развития, становясь данником новообразовании, за призрачной самостоятельностью которых виднелась сила германского меча и капитала; теряла, наконец, более или менее обороноспособные рубежи, культурные и промышленные центры и важнейшие железнодорожные узлы — обстоятельство, лишавшее признаков государственной целесообразности всю нервную систему страны — ее сеть железных путей.
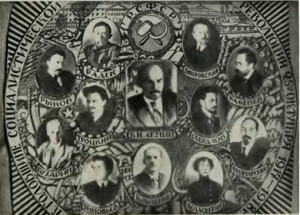
Россия отбрасывалась политически назад, к началу ХVII века, теряя одним ударом все, что было приобретено за три столетия на Западе и Юге гениальными усилиями ее собирателей, кровью ее воинства, трудами ее народа.
В экономическом отношении на Русское государство легли и прямые тяготы, непосильные для его разрушенного экономического положения. Восстановлен был с Германией торговый договор 1904 г.[3], причем остались прежние тарифы, которые ввиду обесценения рубля (тогда уже ½) привели фактически к беспошлинному ввозу германских товаров в Россию. Обусловлена была уплата убытков, понесенных в процессе революции или в силу советского законодательства лицами немецкого происхождения; за ними сохранены социальные и экономические права. Эти условия имели тем большее значение, что немецкий капитал являлся крупнейшим участником нашей промышленности и что цифра вкладов его только в акционерных предприятиях превышала 500 милл. золотых рублей. В скрытом виде наложена была на Россию и контрибуция в 6 миллиардов марок золотом «за все финансовые обязательства, предусмотренные договором»[4]… Наконец, огромные плодородные русские области с брошенными в них бесчисленными военными материалами оставлялись в руках австро-германцев. Как заявил цинично на конгрессе Чернин, «пока не заключен всеобщий мир, австро-германцы не могут отдать оккупированных областей; они являются областями снабжения нашей армии, с их фабриками, заводами, возделываемыми полями и т. д.»… А в союзном совещании приводил и мотивы такого требования: «Германия и Венгрия не дают больше ничего. Без подвоза извне в Австрии через несколько недель начнется повальный мор».
В военном отношении Россия обязывалась демобилизовать армию, разоружить флот и допускала впредь до выполнения всех условий договора занятие немцами Западного Края до линии Нарва-Рогачев.
Таким образом в силу официальных договоров и тайных сношений с правительством народных комиссаров, Россия поступала в полную экономическую зависимость от Германии, превращалась в новую базу центральных держав для борьбы с союзниками, базу, из которой можно было черпать военные материалы, обильные запасы всякого снабжения и даже людские контингенты — не только в виде сотен тысяч пленных австро-германцев, подлежавших возвращению из России, но и в качестве дружин рабочих, вербуемых во всех областях германской оккупации и становившихся затем в положение рабов.
* * *
Какое же оправдание имела Брест-Литовская трагедия?
Фразы советских правителей о «разгорающемся уже пожаре мировой революции», о переговорах «через головы немецких генералов с немецким пролетариатом» — были только фразами, предназначенными для толпы. Внутреннее положение Европы не давало никаких решительно оснований для подобного оптимизма народных комиссаров. В период Брест-Литовских переговоров состоялась, правда, сначала в Австрии, потом в Берлине всеобщая забастовка; о мотивах последней лидер независимых соц.-демокр. Гаазе говорил в рейхстаге: «Забастовка велась не для мелких экономических завоеваний, но служила политическим протестом с высоко идейной целью. Немецкие рабочие возмущались тем, что им приходится ковать цепи для угнетения русских братьев, бросивших оружие». Но это была лишь кратковременная вспышка, по существу использовавшая только подходящий предлог для сведения счетов социал-демократов со своим правительством. Рейхстаг огромным большинством одобрил мирные условия, при воздержавшихся социалистах большинства и против голосов «независимых».
Еще менее основания имело заявление Ленина, что договор этот — «только передышка, только клочок бумажки, который можно порвать когда угодно»… Немцы имели тогда реальную силу и обеспечили себе достаточные гарантии и выгодное стратегическое положение, чтобы настоять на выполнении договора.
Быть может, однако, в расположении советской власти не было уже никаких ресурсов, и «похабный мир» являлся неотвратимым? Даже советская Ставка не могла согласиться с такой безнадежной точкой зрения. Начальник штаба главковерха ген. Бонч-Бруевич на военном совете 22 января[5] настаивал на необходимости продолжения борьбы, указывая и новые способы ее: немедленный увоз всей материальной части вглубь страны, отказ от сплошных фронтов, переход к маневренным действиям на важнейших направлениях к жизненным центрам страны и широкая партизанская война. Силы для этой борьбы он видел в новой «рабоче-крестьянской» армии, в национальных формированиях и в уцелевших частях старой армии.
Можно быть различного мнения о боевой ценности всех этих элементов, но не подлежит сомнению, что огромные русские просторы, объятые восстанием, поглотили бы такие колоссальные силы и средства ослабленных уже в конец германцев, что вторжение их вглубь России приблизило бы катастрофу на Западном фронте…
Но для этого большевикам пришлось бы временно отказаться от демагогических лозунгов и повременить с гражданской войной.
Наконец, в то самое время, когда совет народных комиссаров в бурных и панических заседаниях обсуждал жестокий ультиматум центральных держав, в стане врагов настроение было еще более подавленным. Германское правительство, опасаясь разрыва, употребляло все усилия, чтобы сдержать неумеренные требования главной квартиры. Граф Чернин угрожал, что Австрия заключит сепаратный мир с Россией, если чрезмерная требовательность ее союзников расстроит переговоры. Берлин, Крейцнах (Ставка) и Вена переживали дни томительного ожидания и страха, не считая возможным вести длительную войну на Восточном фронте, хотя бы и против разваливавшейся армии. И когда после перерыва переговоров в Брест-Литовск к 7 января приехал Троцкиий, «было любопытно видеть — говорит Чернин — какая радость охватила германцев. И эта неожиданная, столь бурно проявившаяся радость доказала, как тяжела была для них мысль, что русские могут не приехать».
* * *
Итак, Германии нужен был мир во что бы то ни стало. Никакие промежуточные формы его (перемирие, «ни мира, ни войны») не могли спасти положения. Совету народных комиссаров также нужен был мир — какою угодно ценой, хотя бы ценою расчленения, унижения и разрушения России.
Лишь бы сохранить власть.
Этот мотив довольно откровенно прозвучал и в воззвании Совета в ночь на 6 февраля «ко всему трудящемуся населению России» — воззвании, оправдывавшем согласие совета на предъявленные ему центральными державами требования мира: «мы хотим мира, мы готовы принять тяжкий мир, но мы должны быть готовы к отпору, если германская контрреволюция попытается окончательно затянуть петлю на наш совет».
Только тогда отпор!
«Поставленная народом под знаком мира» советская власть должна была дать мир, хотя бы призрачный, иначе ей угрожала гибель. Гибель «в порядке народного гнева» или в силу германского наступления и оккупации столиц.
Мотив самосохранения советской власти, поставленный в основание Брест-Литовского действа, не вызывал никогда сколько-нибудь серьезных сомнений среди русской общественности. Несколько иначе обстоял вопрос по поводу другого обвинения народных комиссаров, вызывающего и поныне двоякое к себе отношение. Один считают Брест-Литовск просто комедией, разыгранной для соблюдения приличий, так как платные агенты германского генерального штаба, в числе которых называют Ленина и Троцкого, не могли не исполнить требований своих нанимателей. Другие отказываются признать это преступление, быть может, не столько по доверию к названным лицам, сколько из-за сознания чудовищности самого факта, смертельного стыда и глубокой боли за поруганное национальное достоинство России…
Немецкий генеральный штаб, который мог бы открыть глаза миру, молчит. В этих кругах есть своя профессиональная этика, не допускающая оглашения имен секретных сотрудников… Лично у меня в могилевской Ставке был в руках материал, создававший серьезные обвинения против Ленина и безусловно уличавший Раковского в шпионской деятельности в пользу центральных держав. В печати, русской и заграничной, кроме следственного производства о восстании большевиков 3–5 июля 1917 г., появлялись многократно данные, более или менее серьезные и правдоподобные. В ноябре 1918 г. в американской прессе были опубликованы официально документы[6], собранные Э. Сиссоном, командированным в Россию американским правительством. Ему «при содействии различных политических партий и лиц, служащих у большевиков», удалось достать около 70 документов, характеризующих как влияние немцев при посредстве большевиков на внутренние события в России, так и использование ими советской власти с первых же дней ее существования в интересах Германии. Я не буду останавливаться на этих материалах, рисующих подчиненное сотрудничество большевиков с германским генеральным штабом. Приведу лишь один основной документ, относящийся к самому началу революции:
Имперский Банк
2 марта 1917 г.
Берлин.
Представителям всех германских банков в Швеции.
Вы сим извещаетесь, что требования на денежные средства для целей пропаганды мира в России будут получаться через Финляндию. Требования эти будут исходить от следующих лиц: Ленина, Зиновьева, Каменева, Коллонтай, Сиверса и Меркалина, текущие счета которых открыты в соответствии с нашим приказом № 2754 в отделениях частных германских банков в Швеции, Норвегии и Швейцарии. Все эти требования должны быть снабжены подписью «Диршау» или «Волькенберг». С любой из этих подписей требования вышеупомянутых лиц должны быть дополняемы без промедления.
№ 7432. Имперский Банк.
Несколько мягче, но все же довольно определенно высказывалась по этому вопросу немецкая демократия. Соц.-дем. Бернштейн 11 января 1918 г. писал по поводу Брестских переговоров: «в военных кругах Германии успех переговоров с русскими совершенно открыто объясняют тем, что все, кто нужно, подмазаны. Что же касается нас, немецких социалистов, то, будучи на основании опыта многолетнего общения с Лениным и Троцким убеждены в их личной честности, мы стоим перед неразрешимой загадкой. Некоторые ищут разрешения загадки в том, что быть может первоначально большевики по чисто деловым соображениям воспользовались немецкими деньгами в интересах своей агитации и в настоящее время являются пленниками этого необдуманного шага»…
Я не знаю, что правильнее — уверенность Сиссона или прозрение немецких социалистов. Но вся совокупность трагических обстоятельств взаимоотношений немцев с большевиками создавало мне лично интуитивное глубокое убеждение в предательстве советских комиссаров. Такое убеждение, присущее широким кругам русской общественности, проникало в народ и обостряло ненависть к советской власти.
Каковы бы ни были внутренние побуждения народных комиссаров, перед Россией встал во всей своей гнетущей тяжести грозный реальный факт:
— Брест-Литовск.
Завершение в столь чудовищных формах длительного процесса разрушения армии, страны и ее международного значения как будто разбудило наконец сознание верхних слоев русского народа. Чрезвычайно единодушно вся русская общественность, весь пестрый конгломерат политических партий, вся печать, кроме официальных советских органов, отнеслись с глубоким негодованием к этому явному предательству интересов России. Даже на искусственно подобранном 4-м съезде советов, решавшем судьбу Германии, России и русской революции, из 700 голосов нашлось все же 300, протестовавших против заключения мира; они принадлежали не только профессиональным партийным деятелям лево-с.-р.-ского толка, но и рядовым крестьянам и рабочим. Рабочие промышленности и транспорта впоследствии, поняв всю экономическую тяжесть договора, воспрепятствовали широкому исполнению его, не допустив вывоза в Германию поездом с «национализированными» советской властью запасами мануфактуры, меди и проч. Московский комитет партии большевиков на экстренном заседании 7-го февраля постановил «настаивать на пересмотре советом народных комиссаров принятого решения, считая его «вредным делом для мировой революции» и призывая «вести беспощадную борьбу за демократический мир». Даже партия русских анархистов считала, что «Брестский мир навязан трудовому народу коммунистической власть… вопреки ясно выраженному желанию трудовых масс не подписывать мира с германским империализмом и продолжать революционное сопротивление»…
Как бы ни были разнообразны внешние обоснования этого широкого протеста, в основе его более или менее явно, более или менее ярко выступало национальное чувство. Конечно — только в верхних слоях. Потому что народ в широком смысле этого слова — или «трудовые массы» по другой терминологии — в этот период революции относился к чисто духовной стороне вопроса с величайшим равнодушием. Реальные же последствия событий сказывались не сразу.
Национальное чувство укрепило идеологию противобольшевицкого движения, дало ему новый стимул, значительно расширило базу борющихся сил и объединило большинство их в основной, по крайней мере, цели.
Оно намечало также пути внешней ориентации, вернув прочность почти истлевшим на пожаре революции нитям, связывавшим нас с Согласием, и прибавив к чисто моральным уже обоснованиям его («недопустимость измены союзникам») и элемент целесообразности[7].
Наконец подъем национального чувства дал сильный толчок к укреплению или созданию целого ряда внутренних фронтов — на севере, востоке и юге, к оживлению деятельности московских противобольшевицких организаций и, вообще, к началу той тяжкой борьбы, которая в течение нескольких лет сжимала петлю на шее советской власти.
Глава II. Стимулы борьбы с советской властью: социальные, экономические, психологические
К середине 18 г. обострение отношений к советской власти в широких слоях населения достигло уже большого напряжения, основываясь не только на возмущенном национальном чувстве, но и на причинах социального, экономического и психологического характера.
* * *
Отходил от власти дезорганизованный ею пролетариат.
Бессмысленная демобилизация всех фабрик и заводов, работавших на оборону[8], в месячный срок, национализация промышленности, разрушение торговли и транспорта, расстройство обмена с деревней и другие причины общего характера одним из важных последствий своих имели ставший хроническим кризис городов. Население их, не исключая покровительствуемого властью пролетариата, попало в тягчайшее материальное положение, испытывая гнет безработицы, постоянного недоедания, иногда голода, болезней и мора.
Как следствие всех этих явлений, началось расстройство рядов пролетариата и качественное его ослабление. Более беспокойные, властные и вместе с тем аморальные его элементы уходили в ряды советской бюрократии, в ее опричнину, в состав карательных экспедиций, не редко на вольный разбойный промысел. Уходили добровольно — иногда от не остывшего еще революционного экстаза — в красную гвардию, потом по повинности — в красную армию. Там они теряли связь со своим классом или гибли. Более хозяйственные и предприимчивые люди, в том числе множество квалифицированных рабочих, переходили с фабрик и заводов на кустарный промысел, или бежали в деревню, оседая на земле. Оставались лишь более рыхлые или консервативные в отношении веками установившегося уклада жизни. поступившие в конечном результате в разряд государственных пенсионеров: «пролетарская власть», взявшая в свои руки предприятия, вынуждена была содержать рабочих на счет казны, независимо от ценности труда и выгодности предприятий. Но так как разоренное государство вынести такой тяготы фактически не могло, то жизнь этой категории рабочих с каждым днем становилась тяжелее и безотраднее. Если вторая группа была для правительства безусловно потеряна, то и в этой третьей, им благотворимой, иллюзии первых месяцев революции в значительной мере поблекли, и создавалась оппозиция к власти, хотя и не организованная. Первоначально она не выходила из рамок местных экономических интересов. Но мало-помалу под напором жизни эти рамки раздвигались.
Уже в конце марта 18 г. собрание фабрично-заводских уполномоченных Петрограда говорило:
«Позорный мир, голод, и сумело ведущаяся эвакуация, полная дезорганизация фабрично-заводской жизни — все это обрушилось на рабочих… Профессиональные союзы утратили самостоятельность и независимость и уже нс организуют борьбы в защиту прав рабочих. На улицах и в домах днем и ночью происходят убийства… Убывают не врагов народа, а мирных граждан — рабочих, крестьян, студентов… Мы протестуем и требуем открытого суда над всеми, совершающими зверства и убийства».
С весны 1918 г. оппозиция рабочего класса к советской власти стала проявляться в формах активных, иногда угрожающих. Таковы, например, крупные волнения и забастовки в Петрограде и Сормове, вооруженные восстания на Ижорском и Сестрорецком заводах, и в особенности Воткинское и Ижевское восстания. Последнее потребовало от советской власти больших усилий и жертв, длилось три месяца и было кроваво подавлено в начале ноября, причем в первый же день овладения Ижевским заводом большевики казнили около 800 восставших рабочих.
При всех этих выступлениях, на митингах, в резолюциях, воззваниях, слышалось резкое осуждение советской власти, требование Учредительного Собрания и политических свобод.
* * *
Отошло от власти и крестьянство.
Советская власть была вначале весьма слабой, и крестьянское море, вынесшее ее на своем гребне, казалось еще слишком взбаламученным и опасным. Поэтому декрет о национализации земли не внес серьезных потрясений в уклад деревенской жизни, предоставленной первоначально своему самостоятельному течению в русле замкнутых классовых интересов.
Но уже к лету 18 года советская власть, несколько окрепнув сама, увидела вместе с тем серьезную опасность в двух явлениях крестьянской жизни: в чрезвычайном росте собственнического инстинкта, грозившем оторвать навсегда крестьянские массы от коммунистических идеалов, и в прекращении обмена деревни с городом, грозившем голодом пролетариату и красной гвардии — единственной, хотя и не вполне надежной опоре власти.
С первой опасностью, олицетворяемой средним крестьянином и «кулаком», советская власть начала бороться разгромом всех бытовых (волость) и революционных (советы и комитеты крестьянских депутатов) установлений деревни и насаждением, подчас вооруженной силой, комитетов бедноты. В состав этих комитетов обыкновенно входили элементы пришлые, давно уже потерявшие связь с деревней, или безземельные, бездомные, не хозяйственные, иногда с уголовным прошлым, составлявшие подчас больную и грязную накипь деревенской жизни. Деятельность их проявлялась в формах насилия и произвола, направляясь по преимуществу к «уравнению», т. е. к ограблению зажиточных и крепких крестьян, дележу их имущества, земледельческих орудий, рабочего скота и запасов.
Против второй опасности советская власть официально, в порядке управления, выдвинула средство еще более примитивное — вооруженные отряды различного наименования «продовольственные», «карательные», «заградительные», которые шли походом на деревню за «излишками» или отбирали на станциях железных дорог, на перепутьях и заставах крестьянское добро и запасы мешечников.
Власть нс делала попытки государственного регулирования этой своеобразной «социализации», которая обратилась в грабеж и дележ. При малейшем сопротивлении отряды забирали все в порядке контрибуции. Не только подневольная, но и официальная советская печать в 1918 году рисовала «потрясающие картины» походов на деревню, реквизиций и кровавых усмирений…
Отрицательные результаты советской аграрной политики были настолько разительны, что в правых кругах возник даже своеобразный взгляд на лечение социальной болезни путем «прививки большевизма». Так В. Шульгин писал в апреле 18 года: «самое важное, чтобы революция дошла до самого конца; нужнее всего действительное осуществление социализации земли в деревнях для того, чтобы вся толща крестьянского населения получила стихийное отвращение к лозунгу „земля и воля“, погубившему государство. Процессу этому отнюдь не следует мешать, каких бы жертв это ни стоило»[9].
Правительственная система и практика местной власти в отношении к деревне вызвали упорнейшее сопротивление векового уклада жизни и привели только к укреплению в крестьянстве начал собственности и классового самосознания. Сопротивление проявилось в сжатии крестьянского хозяйства до потребительных норм, что угрожало неисчислимыми бедствиями государственному хозяйству, и в прямых действиях: в 1918 году волна крестьянских возмущений пронеслась по всей советской России, сопровождаемая разорением советских и коммунистических хозяйств, сожжением ж. д. станции и складов, насилиями над комиссарами и членами комитетов бедноты, которых убивали, подвергали мучениям, иногда живыми закапывали в землю. Восстания возникали неорганизованно, стихийно, нося местный характер; бывало, впрочем, как например в Рязанской губернии, что выведенные из терпения притеснениями советской власти крестьяне подымались несколькими уездами, ведя настоящие длительные сражения многотысячными отрядами с пулеметами и орудиями.
Так как восстания эти первым своим результатом имели обыкновенно прекращение всякого подвоза продовольствия в города, то они встречались враждебно городским пролетариатом; между ним и крестьянством ложилась пропасть.
В результате — соединенными усилиями советской власти, пролетариата и его вооруженной силы — красной гвардии крестьянские восстания подавлялись жестоко и беспощадно.
Цели своей — упразднения многомиллионного слоя крестьянства — большевики, однако, не достигли. По советской статистике к 1919 г. число средних, вышесредних и крупных крестьянских хозяйств упало лишь до 49 %, т. е. на 10 % по сравнению с 1917 годом.
Позднее, в марте 19 г., подводя итоги советской аграрной политики и круто меняя ее направление, Ленин говорил, что стремление раздавить среднее крестьянство так, как это сделано с буржуазией, «будет идиотизмом, тупоумием и гибелью дела»… И тут же приводил классическое по своей моральной обнаженности обоснование мысли: «здесь нет той верхушки, которую можно срезать, оставив весь фундамент, все здание — той верхушки, которою в городе были капиталисты»…
В дальнейшем советская власть искала уже «путем завоевания доверия крестьянства»…
Ищет совершенно безнадежно и поныне.
* * *
Буржуазия просто истреблялась.
Ленин поставил задачу теоретически: «обеспечить диктатуру (рабочего класса), свергнуть буржуазию и отнять у нее те экономические источники ее власти, которые являются помехой в деле всякого экономического строительства».
«Чрезвычайная комиссия» решила задачу практически: «мы не ведем войны — писал Лацис — против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию, как класс… Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советов. Первый вопрос, который Вы должны ему предъявить, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определять судьбу обвиняемого»…
Истребление буржуазного класса шло самыми разнообразными путями: отнятием собственности, выселением из жилищ, голодным пайком, трудовой повинностью, лишением свободы; наконец казнями, казнями без конца, без счета.
Скорбь и ужас разлились по земле, одев и траур каждую русскую семью, не пощадив ни таланта, ни силы, ни молодости, внеся и естественное течение общественной жизни, как систему, как норму — институт заложников, родовую месть, надругательство над душой и телом человека, страдания и потоки кроши.
Большевицкая идеология в разряд буржуазии, кроме интеллигентского пролетариата, служилого элемента и мещанства, причисляла еще многочисленные слои других классов: более здоровую и крепкую часть рабочего класса, крупное и среднее крестьянство и, по мотивам вовсе уже не социальным, — социалистическую демократию, которая — один раньше, другие позже (левые с.-р.) — стала в ряды противников большевицкой власти.
Но советская практика делала серьезные различия между этими категориями «контр-революционеров». Буржуазия истреблялась как класс и как среда, недоступная влиянию коммунистических идей, независимо от степени ее сопротивления; рабочие подвергались притеснениям и преследованиям только индивидуально, преимущественно представители партий с.-р. и с.-д.-меньш.; террор в отношении крестьянства был направлен не против личности, а для «подавления его сопротивления власти и собственнических инстинктов»; наконец, по отношению к социалистической демократии в 1918 г. советское правительство, по выражению Ленина, проявило «много терпения и даже добродушия», в надежде, что она «сделает выбор» между большевиками и буржуазной диктатурой. Правда, терпение это было относительным: периодически, особенно же в день разгона Учредительного Собрания, потом в Ленинские дни[10] большевицкие тюрьмы наполнялись социалистами. Хотя положение их было привилегированным, но тюремный режим большевиков стал несравненно тяжелее, чем «царский», и не исключалось применение «высшей меры наказания», если не в силу политики центра, то — самовластия «мест».
Человеческое страдание — всегда страдание. Убийство — всегда убийство, льется ли при этом «белая» или «красная» кровь.
Но когда я читаю такие строки: «историк революции с недоумением и ужасом остановится на тех страницах деятельности коммунистического правительства России, которые говорят о гонениях на анархическую идею и (ее) деятелей. Он не сразу поверит. А, поверив, убедившись в их потрясающей правде, назовет их самыми черными страницами в истории коммунистической государственности»[11]… ..Когда с.-д. Дан пишет[12]: «весть о моем переводе на Урал (на службу по медицинскому ведомству) быстро разнеслась по городу… многие, даже из знакомых большевиков не хотели верить, что возможна такая дикая расправа… У одной большевички даже стояли слезы на глазах» Когда тут же через десяток страниц, без гнева, без осуждения, без «гражданской скорби» он проходит мимо картины искоренения бывшего колчаковского офицерства»: «окна подвала Губчека выходили на улицу, и летом, когда окна были открыты, можно было заглянуть вглубь этого ужасного помещения, где в невероятной тесноте и грязи сидели заключенные с бледными, измученными голодом лицами, покрытые всевозможными паразитами. Один из знакомых коммунистов рассказывал мне, что расстрелы производятся тут же, на дворе, под окнами заключенных»… —
..Мне хочется сказать людям в шорах: Говорите о ваших терзаниях. Чтите ваших мертвых. Но когда проходите случайно мимо бездонной могилы русской буржуазии — по существу русской интеллигенции, снимите шапку над ней. Ибо там, вместе с окровавленными трупами, погребены невознаградимые культурные ценности страны, ее интеллектуальные силы, ее надежды!
Оставшаяся в живых буржуазия была побеждена. Часть уходила в районы белых армий; другая — преимущественно крупная буржуазия — банковская и торгово-промышленная знать, к которой большевики относились почему-то с наибольшей терпимостью, шла в эмиграцию; третья — воплотившая в себе идею «буржуазного интернационализма», с большою легкостью принимала подданство и меняла его в любом новообразовании, отколовшемся от русской державы; четвертая — шла на службу к советской власти, составив многочисленные кадры «спецов» и чиновничества — только терпимых «слуг нового режима»; пятая, едва ли не наибольшая численно, обратилась в люмпен-пролетариат, задавленный духовно, бесправный и нищий. Появилась еще одна категория людей, о которых высказал компетентное мнение Ленин: «к нам присоединились… карьеристы, авантюристы, которые назвались коммунистами и надувают нас; которые полезли к нам потому, что коммунисты у власти; потому, что более честные «служилые элементы» не пошли к нам работать, вследствие своих отсталых идей, а у карьеристов нет никаких идей, никакой честности»[13].
Подобное расслоение произошло и в рядах офицерского корпуса старой армии, на который большевизм обрушился с особенной силою. Это расслоение может быть выражено символически четырьмя известными эпизодами, относящимися к зиме 1918–19 гг.
Генерал Духонин убит большевиками…
Генерал Скалон — военный эксперт большевицкой делегации в Брест-Литовске, не вынеся позора, застрелился…
Генерал Брусилов, «признавая здоровую жизненную основу советской власти», отдал ей свои последние силы.
Полковник Дроздовский сформировал добровольческий отряд и повел его за тысячу верст, на Дон для борьбы с большевиками…
* * *
Но помимо мотивов классового или личного самосохранения, общие явления распада государственной и народной жизни достаточно ярко и наглядно свидетельствовали о гибельности советского режима. Даже в элементарном отражении темной массы.
Народное хозяйство катилось стремительно по наклонной плоскости, ударяя больно по всем сторонам повседневной жизни, ослабляя людей физически и вызывая небывалую смертность.
Террор, широко развитая система шпионажа, лишение всех гражданских свобод, отсутствие норм закона и безграничный произвол власти придавили дух народа, создав невыносимо затхлую атмосферу, в которой, казалось, жить долго невозможно.
Гонения, воздвигнутые на религию, осквернение святынь возмущали народную совесть, и в храмах, переполненных верующими, возносились горячие моления «об избавлении от вражеска плена и раннея смерти».
Казалось, во всех слоях населения и во всех областях жизни были глубокие обоснования и стимулы к борьбе с не-национальной, не-государственной и не-народной властью.
К середине 1918 г., когда я с Добровольческой армией начинал второй Кубанский поход, эта мысль психологически владела всеми. Ее заносили к нам вырвавшиеся из советской России или жившие на Юге мудрые политики, громкие общественные деятели, генералы и офицеры, случайные беженцы. Она проходила красной нитью через все сводки, доклады, донесения с мест, через все разговоры, которые вели многочисленные посетители, бывавшие летом 18 г. у ген. Алексеева и у меня.
Так, например, Милюков писал 3 мая ген. Алексееву: «несомненно психология в России, хотя и не так быстро, как было бы желательно, но все же меняется — и не только на юге, но, как осведомляют меня мои московские друзья, также и на севере. Большевики изжили себя. За отсутствием внешней силы, которая бы их ликвидировала, они начали ликвидироваться изнутри»…
Не менее категорично определялось положение советской России и докладе Левого центра[14]: «в частном разговоре Ленин высказался: «мы, конечно, провалились; но великая заслуга наша в том, что в Париже коммуна просуществовала несколько дней, а у нас в России несколько месяцев». Большевики второго сорта уже теперь понемногу исчезают, а главные деятели получили гарантии от немцев, что драгоценная жизнь их будет сохранена».
Более экспансию относились к событиям штабные сотрудники. Одно из донесений, весьма характерное для общего тона осведомления и для тогдашних настроений Юга, гласило:
«Подводя итоги общему внутреннему политическому состоянию страны, все население Совдепии можно разделить на два лагеря: большевиков и небольшевиков. Грани политических убеждений в различных партиях кровожадным и нелепым управлением Совнаркома совершенно сгладились. Нескончаемые обиды и кровавый террор советской власти в связи с голодом настолько сгустили атмосферу, что вся Совдепия представляет из себя котел с громадным внутренним давлением, и достаточно одного сильного удара в стенку, как произойдет неслыханный и невиданными в летописях истории взрыв, которые даже без внешнего воздействия сметет с лица земли советскую власть и, если во время им не овладеть, то может погрести остатки всякой культуры»…
Прогнозы оказались неверными — мы убедились в этом скоро, ведя тяжелые, кровопролитные бои на северном Кавказе. Неверными — не столько в изображении подлинных народных настроений, сколько в оценке их активности, а, главное, в ошибочном сложении сил. Между тремя основными народными слоями — буржуазией, пролетариатом и крестьянством легли непримиримые противоречия в идеологии, в социальных и экономических взаимоотношениях, существовавшие всегда в потенции, углубления революцией и обостренные разъединявшей политикой советской власти. Они лишили нас вернейшего залога успеха — единства народного фронта.
Между тем, в противобольшевицком стане все усилия Москвы, Киева, Ростова, Самары, всех политических и общественных организаций — правых и левых — по крайней мере в 18 году, были направлены не на преодоление этих противоречий, а на поиски «вернейшей» ориентации и «наилучших» форм государственного строя.
Ни того, ни другого мы не нашли.
Глава III. Политическая карта Российского государства к середине 1918 года: Северная область, Финляндия, Прибалтийский край, Литва, Польша, Северо-западная область
Политическая карта Российского государства к осени 1918 года и до падения центральных держав представляется в следующем виде.
* * *
На крайнем севере Мурманский район оккупировали союзники, преимущественно англичане. Иностранных войск было там ничтожное количество. Только к осени союзники довели их до 9–10 батальонов[15] и 3 батарей[16]. Русские формирования ввиду безлюдности края не превышали нескольких рот. До 2-го августа в районе сохранялась советская организация, и только порваны были официальные сношения местного совета с Москвою. Английскому командованию была безразлична тогда политическая физиономия не только местной власти, но и формируемой им вооруженной силы, в состав которой вошли, в числе прочих, отряды финской красной гвардии, бежавшие из Финляндии, после занятия ее немецкими войсками. Безразличны были также и русские интересы: англичане приступили к формированию особого «корельского батальона», исходя из самоопределения Карелии в отдельную «нацию» и «государство»…
Позднее, 2 августа, союзный десант высадился в Архангельске, который весьма поспешно был брошен большевиками. Английский генерал Пуль вступил в командование всеми войсками Северной области (большая часть Архангельской губ.), в состав которых в Архангельском районе, кроме англичан (4–5 батальонов), вошли американцы (4–5 батальон.), французы (1 бат.), поляки, итальянцы… Эти части начали усиливаться новыми смешанными формированиями, вроде «русско-французской роты», «славяно-британского легиона» и т. д.
Приступлено было также к организации русской вооруженной силы, основанием которой послужили офицерские команды, сформированный в Архангельске из мобилизованных полк с двумя дивизионами артиллерии и, главным образом, крестьянские партизанские отряды, насчитывавшие в общем до 3 тысяч и разбросанные на громадных расстояниях у Пинеги, Шенкурска, на Сев. Двине, Онеге, Печоре, Мезени… Все эти силы были подчинены русскому «командующему войсками»[17], власть которого была, однако, лишь номинальной, ограничиваясь административными и организационными функциями. Англичане, вплоть до ухода союзных войск, держали в своих руках командование, боевое управление и снабжение русских войск. У русского «командующего» не было даже и органов — оперативных и снабжения. Назначенный в конце 18 года командующим войсками ген. Марушевский приступил к использованию партизанских отрядов, обращая их путем вливания офицеров и строевых рот из Архангельска в регулярные части.
К концу 1918 года общая численность союзных войск не превышала 10–15 тысяч смешанных частей весьма посредственного состава, а русских 7-8 тысяч человек, мало еще организованных.
23 июня 18 г. союзные посольства, переезжая спешно из Вологды в Архангельск, издали и широко распространили воззвание, в котором цели занятия Мурмана и дальнейших затем операций союзников в Северной области в направлении к Петрозаводск) и к Вологде объяснялись следующим образом: 1) необходимость охраны края к его богатств от захватных намерений германцев и финнов, в руки которых могла перейти Мурманская жел. дорога, ведущая к единственному незамерзающему порту России; 2) защита России от дальнейших оккупационных намерений германцев; 3) искоренение власти насильников и предоставление русскому народу путем установления правового порядка возможности в нормальных условиях решить свои общественно-политические задачи.
Поскольку первые две цели, вытекая из реальных к непосредственных интересов союзников, трактовались ими серьезно, настолько третья с первых же дней занятия Северной области обратилась исключительно в благовидный предлог морального свойства и в средство агитации.
Местное английское командование определяло цели борьбы разно. Ген. Пуль тотчас по своем прибытии в Архангельск объявил, что «союзники явились для защиты своих интересов, нарушенных появлением в Финляндии германцев», и торопил поэтому русское командование с организацией собственной армии. Сменивший его осенью ген. Айронсайд говорил о «наступлении на Вятку-Котлас для соединения с Колчаком и передачи ему привезенного для его армии имущества[18]». В то же время английским добровольческим частям, отправляемым из Англии на русский север, лондонские власти внушали, что они назначаются «лишь для оккупации, а не для боя».
Наступление, весьма впрочем вялое, союзники, занимавшие огромный фронт от финляндской границы до Пинеги, повели по двум направлениям: на Петрозаводск и на Вологду. В течение 18 г. они достигли, примерно, линии Пинега–Шенкурск–Плесецкая (станц. Сев. ж. д.) — Тургасово–Парандово (станц. Мурм. ж. д.).
На этих направлениях были сосредоточены небольшие советские силы, сведенные к осени 18 г. в две армии и насчитывавшие в общей сложности до 18 тыс. бойцов при 70 орудиях[19].
Войска эти в 1918 году не представляли из себя сколько-нибудь серьезной силы. Армии имели задание активно оборонять подступы к Москве и Петрограду.
С начала августа, после высадки англичан в Архангельске и начавшегося наступления на Вологду, Совет комиссаров пришел в чрезвычайное беспокойство. Большевицкие сводки до крайности преувеличивали и силы союзников[20] их серьезность их намерений. Переписка, обмен телеграммами, панические донесения с фронта свидетельствуют о полной растерянности большевицкой власти и командования. Над Москвой, казалось, нависла огромная угроза и возбужден был даже вопрос о необходимости эвакуации ее… Угрожаемое в то время с востока и юга советское командование начало лихорадочно перебрасывать подкрепления из Петроградского района, даже с Мурманского направления на Архангельское. 5 августа Чичерин обратился к германскому послу Гельфериху с просьбой возложить на германские войска оборону подступов к Петрограду (игнорируя даже Петрозаводск) на позициях по реке Свири, так как все советские силы оттягиваются в Вологду. Между прочим, в то время советская власть захватила в качестве заложников «англо-французскую буржуазию», объявив, что заложники будут расстреляны, если Вологда падет.
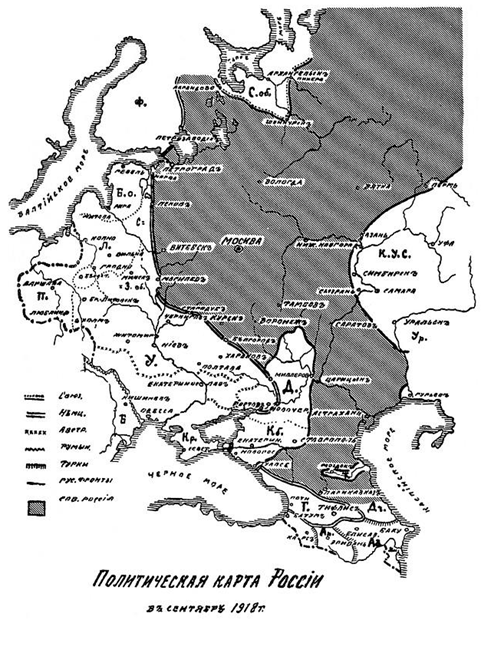
Германская главная квартира отнеслась, однако, к этим опасениям без особенного доверия, считая в частности полуразрушенную Мурманскую дорогу, угрожаемую с запада германо-финскими отрядами, достаточно обеспеченной.
Действительно, и силу суровости климата, пустынности театра и, главным образом, направления русской политики Лондона, находившейся под сильным давлением социалистов и рабочей партии, военные действия и Северной области не получили развития, а с уходом союзников фронт этот стал обреченным.
Государственное управление области представляет интерес и том отношении, что, в противовес прочим фронтам, на Севере оно осуществлялось демократией, без давления «белых генералов»: прибывший впоследствии, в начале 19 г. в Архангельск но приглашению Чайковского ген. Миллер стал лишь министром и составе кабинета — военным, путей сообщения, почт и телеграфа.
В начале августа с прибытием в Архангельск англичан советская власть была свергнута и верховное управление перешло к «временному правительству», во главе с Н. Чайковским, из членов Учредительного собрания северных областей, преимущественно левого толка. С неизжитой еще психологией «углубления революции», с традициями «керенщины» и соглашательства, правительство это скоро стало одиозным в глазах буржуазии, офицерства и английского командования. С ведома ген. Пуля, в сентябре правительство было свергнуто офицерством и заточено в Соловецкий монастырь, затем по требованию союзных дипломатов освобождено, причем Н. Чайковскому поручено было сформировать новое правительство из более умеренных элементов; в него вошли преимущественно народные социалисты.
Мурманский край управлялся «краевым советом» почти того же состава, что и при большевиках, подчиненным Архангельску, но, ввиду трудности сообщения, действовавшим почти самостоятельно.
Чайковский в январе 19 года выехал в Париж, где и остался, став членом «Парижского политического совещания» и продолжая числиться председателем правительства; вскоре я получил от него письмо, весьма характерное для программы и иллюзии умеренной социалистической демократии:
«После 8 месяцев работы я могу с удовлетворением сказать, что мы достигли положительных результатов»…
«При организации власти мы исходили из двух положений: 1) что во время войны вся организация правительства должна быть приноровлена к обслуживанию Главного командования и 2), что она должна сохранять за собой самостоятельность в глазах населения, являясь для него защитником прав и свободы и посредником между ним и военным командованием».
«Получилась следующая конструкция: Главнокомандующему (английский генерал Айронсайд) принадлежит вся полнота власти в стране, но фактически… в политическое управление он не вмешивается, разве лишь в исключительных случаях… в интересах немедленных оперативных действий… Благодаря этому, авторитет правительства поддерживается и укрепляется и тем самым доверие, возбуждаемое (к нему) среди населения, распространяется и на командование».
В дальнейшем при развертывании правительства в российском масштабе при такой конструкции его «нет места распространению среди населения подозрений в реакционности власти военного командования и его стремлении к диктатуре»…
Словом, весь вопрос сводился к созданию демократической власти, что достигнуто вполне на Севере и без чего всякая борьба обречена на неуспех.
Указывая, что задача в Северной области «упрощена до игрушечного масштаба». Чайковский все же горячо и задушевно советовал мне применить на Юге эту систему[21].
Жизнь, к сожалению, жестоко разбивала его мечты. Северная область явила пример полного раскола в среде демократии и интеллигенции, неизжитый психоз большевизма в массах и отсутствие в них всякого доверия к своему демократическому правительству. Не привлекши на свою сторону буржуазных кругов, это правительство, вместе с тем, встретило противодействие в широком фронте революционной демократии, в членах Учредительного собрания, в партийных организациях с.-д., с.-р., в земско-городском объединении, рабочих, кооперативах и т. д. Все они вели с правительством длительную борьбу, имевшую главною цель достижение власти. На ряду с этим с начала 19 года вспыхивали одно за другим кровавые восстания в войсках.
Очевидно, формы государственной власти были далеко не основными причинами неуспеха противобольшевицкой борьбы…
* * *
26 ноября финляндское правительство опубликовало декларацию о независимости страны. «В России нет теперь правительства — говорилось в декларации. Так как представители (России) перестали исполнять свои функции в Финляндии, законной русской власти (в стране) не осталось. Войска, расположенные в стране, служат источником ужаса и побуждают революционные элементы к бунту. Анархия в России обязывает финский народ освободиться навсегда от всякой зависимости от России».
Хотя Совет народных комиссаров в конце декабря признал независимость Финляндии, но тем не менее он продолжал вмешиваться активно в гражданскую войну в крае, поддерживая восстание финских коммунистов, снабжая обильно финскую красную гвардию и подкрепляя ее русскими отрядами.
В январе 18 года власть в стране перешла в руки социал-демократов и возглавлялась финским советом комиссаров, который утвердился в Гельсингфорсе; правительство с «белыми» войсками, предводительствуемыми ген. Маннергеймом, вынуждено было уйти на север, где образовался новый центр власти и борьбы — в Вазе. Гражданская война шла с большим ожесточением и переменными успехами, пока белое финляндское правительство не обратилось за помощью к Германии.
В середине марта германцы высадили в Финляндии дивизию ген. фон-дер Гольца, который вместе с Маннергеймом к середине апреля очистил край от красногвардейцев, заняв затем своими войсками все важнейшие стратегические пункты Финляндии.
Ненависть финнов к русским большевикам перешла ко всему, что носило русское имя. Гонению подверглось все русское население, не испытавшее ничего подобного в дни финляндского коммунизма. Если финляндская пресса того времени отражала действительно народные настроения, то они дышали страстной, болезненной нетерпимостью ко всему, что напоминало о России, даже к «проклятым луковицам» — так называли финляндцы купола православных храмов…
Был ли это только угар революционного похмелья или безудержное проявление заложенного прочно национального шовинизма?..
Немецкое влияние в стране окрепло до того, что 6 октября, накануне падения Германии, финляндский сейм высказался за монархию и за предложение престола Финляндии Гессенскому принцу.
Цель оккупации края немецкая главная квартира, помимо подчинения его политическому и экономическому влиянию Германии, видела в возможности «двинуться на Петроград, когда это будет желательно, чтобы свергнуть большевицкую власть»; в угрозе Мурманской жел. дороге и в воспрепятствовании англичанам, продвигавшимся по ней, «утвердиться в Петрограде»[22]. Германия через Финляндию явно протягивала руку к русскому незамерзающему порту на Ледовитом океане, а в то же время Совет комиссаров, обеспокоенный движением англичан, сам просил германское правительство произвести немецко-финский десант на Мурманском побережье[23]…
Просил интервенции «империалистических» войск Германии и финляндской «бедой гвардии»…
Финляндское правительство, возглавляемое и социал-демократом Свинхувудом, и монархистом Манергеймом, одинаково устремляло свои притязания на Печенгу, Восточную Карелию, Аландские острова, позднее на Эстонию, угрожая России окончательным превращением Финского залива в Финляндский.
Мировое положение запутывалось в такой степени, а интересы русского государства отметались с такой легкостью, что все три взаимно враждебные группировки держав наперерыв друг перед другом спешили с признанием независимости Финляндии.
22 декабря состоялось признание со стороны советов. В тот же день признала Финляндию Франция; через два дня — Германия; 23 апреля — Англия, выразив при этом надежду, что Финляндия не станет возражать против решения мирной конференции относительно ее границ.
Этот разрыв государственной связи Финляндии с ее метрополией, хотя и предопределенный историческим ходом событий, но не обеспеченный стратегическими гарантиями, поставил перед будущей Россией ряд вопросов капитальнейшей важности: беззащитность побережья и Петрограда[24]; потеря свободного выхода в Балтийское море через Финский залив и базы русского военного флота; угроза наиболее жизненным русским водным артериям[25] и единственному свободному выходу в Ледовитый океан.
* * *
Прибалтийский край был последовательно оккупирован немецкой армией; в нем введено было общее управление для Эстонии, Лифляндии и Курляндии, соединенных в 18 году в Балтийский округ. Управление военно-полевое, начиная от военного губернатора и кончая военным комендантом.
«Самоопределение» народностей Прибалтийского края (эсты, латыши, немцы и русские) и их будущее в значительной мере предопределялись общей политикой Германии, которая, при наличии серьезных и подчас весьма острых разногласий между правительством, главным командованием, с одной стороны, и парламентскими партиями — с другой, сохраняла твердо свои основные линии:
Имперский канцлер Бетман-Гольвег говорил в рейхстаге: «Германия никогда не вернет освобожденных ею и ее союзниками народов между Балтийским морем и Волынью господству реакционной России, будут ли это поляки, литовцы, балты или латыши»…
Ген. Людендорф «предусматривал соединение эстонцев и латышей — народов германской культуры — в одно государство под прусской гегемонией»…
«Курляндский народный совет» 23 февраля представил императору Вильгельму петицию о принятии им «короны Курляндии», об объединении всей Прибалтики в одно государство и о присоединении его навсегда к Германии.
Сообразно с такими взглядами, германское командование проводило в крае яркую политику германизации во всех областях — быта, школы, экономических отношений и т. д. В остальным отношение немецких властей к русским людям всех политических толков, кроме уличенных в германофобстве, было терпимое.
Об общественных настроениях того времени судить трудно, ибо общественная жизнь в Прибалтике под давлением военного положения и германской военной администрации совершенно замерла.
Нет сомнения, однако, что в Прибалтийском крае германофильские симпатии были совершенно чужды коренному населению. Они проявлялись неумеренно и пылко лишь немецким элементом городов и, главным образом, прибалтийским дворянством, пользовавшимся в России в течение веков привилегированным положением и благосклонностью династии. В органах немецкой печати и в воззваниях предводителей дворянства всех трех губерний прозвучали неожиданные мотивы: признание, что «с горячей симпатией и пламенным восторгом в продолжение четырех лет» оно «следило за успехами германского оружия и болело душой, что не имело возможности на деле доказать свой германизм»[26]… Радость, что «столь долго желанное отделение от России стало, наконец, действительностью»[27]… Призыв «пожертвовать самым дорогим — послать своих сыновей в германскую армию, чтобы они сражались вместе со своими освободителями»[28]…
Напротив, эсты и латыши относились к «освободителям» с глухой враждебностью, не только в силу исторического атавизма, но и по социальным побуждениям: не было сомнения, что Германия поддержит класс крупных помещиков и промышленников — по преимуществу немцев. Они тяготились иностранной опекой, но страх перед большевиками и ненависть к ним были еще сильнее, создавая благодарную почву для враждебных России влияний и национального шовинизма и побуждая их явно к признанию немецкого протектората, а тайно к борьбе за полную независимость.
Как бы то ни было, Прибалтийский край с его портами, связанными с внутренними областями страны рядом могучих ж. д. магистралей и привлекавшими более трети всего нашего внешнего товарообмена, был от России отторгнут, естественные, обороноспособные рубежи потеряны, флот обречен на упразднение и выход в Балтийское море закрыт.
* * *
Положение Литвы, оккупированной немцами еще с 1915 года, было совершенно таким же, как и Прибалтийского края, в смысле характера оккупации и общественных настроений. Новый привходящий элемент составляло разве то обстоятельство, что, кроме естественного страха перед русской анархией, у литовских шовинистов зрели уже планы, подогреваемые германским командованием, относительно объединения Литвы в «этнографических пределах», в которые они включали и большую часть белорусских губерний… Другой отличительной чертой был состав верхнего слоя буржуазии в Литве — по преимуществу поляков. Это обстоятельство облегчало значительно привлечение литовского народа в орбиту германской политики. Племенная рознь, с одной стороны, и польские притязания, с другой, обнаружились уже с самого начала оживившей национальные чаяния русской революции. Еще в мае 17 года польский центральный национальный комитет обратился к литовской «Тарибе» (совету) с приветствием и пожеланием возобновить унию, в которой «народы Литвы — литовцы, поляки и белорусы получили бы гарантию национального, культурного и экономического развития». Литовский совет отказался высказаться в данный момент по возбужденному вопросу и заявил, что был бы «счастлив видеть эту гарантию и теперь — в прекращении деморализации и полонизации литовского народа в церкви и школе»…
Под влиянием общей военно-политической обстановки, Литва не избегла предначертанной ей участи: «Тариба» в начале февраля 18 г. определила будущий строй «независимого» государства и обратилась к протекторату Германии, а 29 апреля император Вильгельм рескриптом своим признал «независимое и свободное Литовское государство, союзное по собственной воле с Германией».
На литовский престол был приглашен немецкий принц.
* * *
В судьбе Западных областей России в период германской гегемонии на Востоке есть черты, совершенно сходные. Представительства народов, населяющих эти области, собранные случайно и в обстановке, не располагавшей ни к духовному равновесию, ни к углубленному прозрению, не были следствием исторически слагавшихся взаимоотношений государств и племен. Мысли, чувства и решения вождей явились производной весьма реальных, но временных, преходящих причин:
1) Наличия на территории их единственной дееспособной силы, давившей на их волю, но обеспечивавшей временно их существование.
2) Страха перед русской анархией.
Не осталась, конечно, без влияния и память о русской политике, слишком мало считавшейся с культурно-национальными стремлениями народностей, населявших империю.
* * *
Едва ли не с наибольшей терпимостью и даже признанием отнеслась Россия к отделению русской Польши. Судьба ее в первой половине 18 г., благодаря резким противоречиям во взглядах берлинского и венского правительств, оставалась неопределенной, границы не установлены, и вся территория оккупирована немцами. Хотя независимость свою Польша получила не только из рук Временного Правительства, но и двух императоров (германского и австрийского), по отношение ее к центральным державам оставалось чрезвычайно сдержанным. И в русском общественном мнении слагалось все более прочное убеждение, что в новом государственном образовании оно найдет дружественное отношение и отклик в своем национальном несчастье.
Отказ польских корпусов, созданных Россией, оказать ей помощь против большевиков и подчинение затем этих войск Регентским советом главнокомандующему германским восточным фронтом вызвали у нам некоторое смущение.
Другой эпизод, относящийся к тому же периоду, служил еще более плохим предзнаменованием для будущего… Когда по договору центральных держав с Украйной к последней отошла Холмская Русь[29], это обстоятельство вызвало в Польше «взрыв негодования». Регентский совет обратился к народу с манифестом на тему о «новом разделе», а польское общество и вся пресса разразились шовинистическими выпадами нс только против договаривавшихся сторон, но и против… России.
Замечательно, что державы согласия тотчас же после заключения германо-украинского договора особым актом вступились за «попранные» права Польши, и лорд Бальфур обратился к члену польского национального комитета в Лондоне с торжественным заявлением о непризнании им отторжения Холмщины.
До лета 1919 года командование Добровольческой армии[30] с польским правительством никаком связи не имело. В конце мая 1918 года в штаб армии приехал из Киева полковник Зелинский, в качестве представителя негласной организации, образовывавшейся из состава польских корпусов[31], разгромленных и распущенных немцами. Впоследствии полномочия его были подтверждены «главным комитетом польских войск на Востоке», подчиненным Парижскому «Верховному национальному комитету».
В результате переговоров о создании при Добровольческой армии польских частей, появилась подписанная ген. Алексеевым и мною 30 мая декларация, которая, после определения целей армии, заключала следующие положения:
«III. Добровольческая армия широко раскрывает двери для польской регулярной армии, обеспечивая ей… независимую организацию на началах союзных войск, но с полным подчинением командованию Добровольческой армии в оперативном отношении.
IV. …Польские войска во время пребывания в Добровольческой армии должны принимать беспрекословное участие в выполнении необходимых операций против большевиков.
VI. С союзниками должно быть заключено соглашение относительно доставки для польских войск вооружения, патронов, артиллерии и всего боевого снаряжения.
С своей стороны Добровольческая армия будет братски делиться теми запасами вооружения и материальной части, которые она будет захватывать в своих боевых столкновениях с большевиками и внешним врагом».
До конца 18 года средствами Добровольческой армии удалось сформировать польскую бригаду из трех родов оружия, часть которой под начальством подполковника Малаховского приняла кратковременное, но видное участие в боях на Ставропольском направлении. Когда же в декабре в водах Черного моря появились союзники, я отправил польскую бригаду со всею ее материальной частью на русском пароходе в Одессу, откуда она двинулась на родину.
* * *
От Нарвы по линии Псков–Орша–Рогачев–Клинцы стояли передовые германские части, занимая железнодорожные узлы и прикрывая оккупированный район — большую часть Псковской губернии и всю Белоруссию. Эта обширная территория не входила в захватные планы немцев и занималась ими исключительно с целью эксплуатации средств ее. Конечный срок оккупации определялся установлением границ Эстляндии и Лифляндии и уплатой советским правительством определенной мирным договором контрибуции.
В соответствии, однако, с платежными средствами Москвы, легальный титул оккупации был обеспечен по крайней мере до конца войны.
Очистив край от большевицких банд и восстановив в нем внешний порядок и безопасность, немцы подчинили его всецело военному управлению, наводнив его своей администрацией, персонал которой стоял зачастую на очень низком нравственном уровне. Но ни это обстоятельство, ни хищническая эксплуатация и без того разоренного края не вызывали сколько-нибудь серьезного противодействия. В крае, в особенности в восточной части его, слишком еще свежи были воспоминания о нескольких месяцах большевицкого режима и слишком остро чувствовался страх перед вторичным нашествием «красных».
В крае существовали «комитеты объединенных общественных организаций» и белорусские национальные учреждения; хотя тенденции их были явно германофильскими, но никакой роли в местной жизни пм сыграть не удалось за отсутствием серьезной поддержки у немцев и авторитета среди населения.
Еще в декабре 17 года в г. Минске состоялся «Всебелорусский краевой съезд», состоявший преимущественно из солдатчины Западного фронта. Съезд был разогнан большевиками в первый же день, успев избрать из своей среды «Раду Белорусской народной республики». Рада бежала за линию фронта и вернулась в Минск в феврале вместе с немцами, пополнив затем свой состав буржуазным элементом.
Белорусский национализм в ряду других принял особенно оригинальные формы — конечно, только в интеллигентских кругах, не имевших никаких корней в народе и обративших национализм в средство политики, а иногда и… личного существования. Наряду с Минской появилось много других самостоятельных «рад», в том числе в Витебске, Могилеве, Гомеле, Гродно, Ковно, Смоленске, даже в Москве и Петрограде. Все они подымали спор о своей «всенародности» и первенстве; одни поддерживали идею единства России, другие требовали независимости; одни «ориентировались» на большевиков, другие на немцев, поляков или литовцев; издавали воззвания, остававшиеся без отклика, и выносили резолюции, не находившие исполнителей.
Минская рада, обладавшая некоторыми средствами, посылала, кроме того, делегации в политические центры, в том числе в Берлин, Киев и на Юг. «Чрезвычайный посланник» г. Тремпович прибыл в августе на Дон «для завязывания дружественных сношений с государствами, входящими в состав Юго-восточного союза (?)», и представил ген. Алексееву «меморандум». В нем высоким слогом определились исторические права «Белорусской народной республики», указывалось на «Трудности внутреннего положения молодого государства», обусловленные разорением его, отсутствием средств и реальной силы и «антиправительственной агитацией»… Тремнович просил «моральной, а при возможности, иной помощи и поддержки»[32].
В противоположность политике немецкой главной квартиры и Прибалтийском крае, где национальные части были распущены[33], и этой оккупационной зоне немцы допустили русские противобольшевицкие формирования для защиты края после их ухода. В Риге, Ревеле и других пунктах открылись вербовочные бюро в «Северную армию», какое название приняла к осени псковская организация. Образовался и штаб армии, возглавляемый ген. Вандамом (Едрихин), и состав которого пошли и немецкие офицеры. Немцы обещали выдать на формирование армии 150 милл. марок, вооружение и снаряжение на корпус…
Но шаги немцев в этом направлении были неискренни. Недоверие и опасение побуждали их оттягивать формирования и создавать им практические затруднения. Денег было отпущено в действительности не более 3 милл., оружия и орудий ограниченное количество, притом в большинстве брак. С другой стороны политиканство русской общественности и инертность населения лишали эти начинания русских средств и опоры; отсутствие популярных и авторитетных военных вождей — уверенности и духовного подъема. Поэтому попытки формирования вооруженной силы в Белоруссии ген. Кондратовичем и другими, в Псковской губернии «Северной армии», не привели к сколько-нибудь серьезным результатам.
Глава IV. Бессарабия
Бессарабия была порабощена румынами[34].
Если в русской политике центральных держав преобладало право силы, политическая беспринципность и полное отсутствие исторического предвидения, то Румыния углубила все эти элементы до… пошлости, набросившей густой покров на трон, правителей и генералов, и вызвав на долгие, долгие годы чувство острой вражды в русском народе.
Земледельческий край по преимуществу, богатый и плодородный, имевший в составе своего населения весьма незначительный контингент пролетариата — Бессарабия в течение первых месяцев революции не была вовлечена в анархию. Только к концу 17 года, после падения румынского фронта, когда волна солдатских масс прокатилась по губернии, оставляя за собой следы разрушения, начались повсюду аграрные беспорядки. Они подогревались намеренно румынским правительством, заинтересованным в создании обстановки, оправдывающей оккупацию… Проводниками его политики были тайные агенты, наводнившие край[35], «группа сознательных молдаван», пользовавшаяся широкой материальной помощью из Ясс, и «Сфатул-Церий» — молдавский «краевой совет», фактически зависимый от румынской власти. Наконец — даже делегаты Временного правительства, по роковому недоразумению… «имевшие, в то же время особую тайную миссию от румынских представителей в Петрограде»…
Организация краевой власти создавалась в порядке, совершенно исключительном. В конце октября местный революционный комитет, именовавший себя «военномолдавским исполнительным комитетом совета солдатских, офицерских и матросских депутатов», созвал в Кишиневе «Первый Всероссийский Молдавский Военный конгресс» из депутатов — в совершенно произвольном числе и пропорции — от войсковых и тыловых частей русской армии и местных дезертиров. Этот «конгресс», совершенно неинтеллигентный по составу и большевицкий по настроению, избрал «парламент» — Сфатул-Церий, в котором 44 места предоставил своим членам, 30 крестьянам-молдаванам, 10 — представителям молдавских партий и 36 — «национальным меньшинствам», в том числе и… русскому[36]. Позднее было прибавлено еще 42 места образовавшимся явочным порядком молдавским организациям.
С ноября началась борьба за власть между Сфатул-Церием и сохранившими еще свое бытие прежними органами — Временного правительства, земскими и городскими. Деятельность Сфатул-Церия, направляемая немногочисленной «группой сознательных молдаван», во всех своих проявлениях, даже в радикальных, большевицкого характера мероприятиях, имела основною своею целью подготовку румынской оккупации. Этот факт был настолько очевидным, что вызвал резкое негодование против Сфатул-Церия в бессарабском населении. Выражалось оно, однако, как и везде и России но отношению к случайным захватчикам власти, в формах далеко не активных: демократические городские думы и земские собрания составляли резолюции протеста; политических картин «воздерживались» от участия в Сфатул-Церии; отдельно представители их, вошедшие в состав «парламента» от «национальных меньшинств», говорили там горячие, патриотические, по безрезультатные речи; города игнорировали новую власть; деревня признавала ее лишь в части, относящейся к санкционированию захватов и разгрома помещичьих усадеб.
Здесь, в Бессарабии, приобщенной всецело к русской культуре, шовинистическо-национальное движение имело еще менее почвы, чем на Украйне. И хотя Сфатул-Церий и говорил устами поставленного нм молдавского премьера, Чегуряна, что «империалистическое правительство сделало все, чтобы задушить национальное самосознание»… что «в течение прошедших 100 лет рабства нам было запрещено все. Нам было запрещено обнимать своих зарубежных братьев и слушать призыв нашей общей матери — Румынии»… Но народ и общественность были глухи к этим жалобам. Даже в недрах Сфатул-Церия они звучали фальшиво, вызывая чувство неловкости, и предназначались главным образом для экспорта за Прут и оплаты проявленных чувств и усердия.
Составленный с вопиющим нарушением каких-либо норм, даже «революционного права», малокультурный по своему составу и не отражавший им в малейшей степени волн бессарабского населения Сфатул-Церий держался однако 13 месяцев — пассивностью бессарабской общественности, апатией народа, румынским золотом, потом румынским оружием.
В начале 18 года Сфатул-Цериии, сам поддерживавший в крае беспорядки своими демагогическими выступлениями, обратился уже официально к румынскому правительству с просьбой о присылке войск для их подавления. И 13 января корпуса ген. Броштиану вступили в Кишинев, без труда отбросив затем за Днестр малочисленные молдавские отряды, оказавшие сопротивление.
Цель появления румынских войск в Бессарабии в приказе начальника генерального штаба ген. Презана объяснялась исключительно поддержанием в крае порядка.
Достойно удивления то единодушие, с которым отнеслись к факту оккупации края и к интересам России ее представители, враги и союзники:
Штаб Людендорфа, в числе оснований будущего мирного договора, еще в кольце декабря 17года предлагал румынскому правительству занятие Бессарабии, а позднее для ее оккупации предоставил Румынии право сохранить в боевом составе несколько дивизий.
Французский посланник гр. Сент-Олер, от имени представителей всех союзных держав, оправдывал румынскую интервенцию и особым воззванием успокаивал население Бессарабии, что приход румынских войск нс может иметь никакого влияния на ее судьбу.
Бывший главнокомандующий Румынским фронтом ген. Щербачев давал моральное оправдание интервенции, продолжая дружественное сотрудничество с ген. Презаном по подготовке мобилизаций румынских дивизий. Считая, по-видимому, что события в Бессарабии являются лишь следствием политики Маргеломана[37], он принял участие в тайной подготовке политического переворота совместно с представителями союзников, оставшимися в Яссах, и с румынским королем. Предполагалось, что после образования Восточного фронта, Румыния сменит свое германофильское правительство Маргеломана, порвет договор с центральными державами и ударит в тыл украинской группе ген. Кирхбаха. В дальнейшем ген. Щербачеву рисовались перспективы русско-румынского альянса и движение вновь соединенных армий[38] против общего врага. Кишиневский плацдарм был, очевидно, очень удобным для этой цели, а дислокация вражеских сил как нельзя более благоприятствовала успеху: в Валахии было всего лишь 3 нем. и 3 австр. дивизии, а в Бессарабии и Молдавии — только немецкие реквизиционные комиссии.
Ген. Щербачев сообщал нам, что примет командование объединенной армией лишь «при условии, что ген. Алексеев выразит на это свое принципиальное согласие, причем в этом случае (он) будет считать себя подчиненным ген. Алексееву, как Верховному главнокомандующему»[39]..
Тщетные надежды!
Пройдет несколько месяцев, политические карты перетасуются вновь. Согласие победит, место Маргеломана займет Братиано, румынская политика в третий раз переменит свое лицо, но судьбы Бессарабии останутся неизменными. Тяжкий гнет румынизации будет тем сильнее, чем явственнее станет надвигающаяся из-за Днестра опасность. И теперь уже она нервирует румынских государственных людей и не дает им мечтать спокойно о великодержавности своей страны…
Тревога их не напрасна.
События в Бессарабии шли между тем быстро и планомерно. Прежде всего военные власти расстреляли ряд лиц из состава Сфатул-Церия и вне его — «красных» и «белых», но одинаково отрицательно относившихся к румынам. «Парламент» сбросил с себя немедленно всякий налет радикализма и уже открыто стал послушным орудием румынской власти. Затем состав его был пополнен членами от крестьянского съезда, избранными при подобающей обстановке: «ввода войск в здание заседаний съезда, арестов его членов, а затем и расстрела некоторых из них без суда, в том числе председателя и двух товарищей председателя». После принятия этих решительных мер съезд разбежался, а Сфатул-Церий, актом от 24 января, объявил о независимости Молдавской народной республики.
«Республика» просуществовала два месяца и три дня. За это время практика румынского командования после новых казней, арестов и бегства преследуемых за Днестр увенчалась еще большими достижениями. В Сфатул-Церии, в присутствии г. Маргеломана и румынских властей, в здании, окруженном войсками, был поставлен на открытое поименное голосование вопрос о присоединении Бессарабии к «Родине-матери». Только 3 человека имели мужество голосовать против и 36 воздержались. И актом 27 марта Бессарабия была присоединена к Румынскому королевству, на автономных правах.
Началось приобщение края к чуждой ему государственности, вопреки подтвержденной королевским манифестом автономии — приемами, соответствовавшими низкой культуре страны-поработительницы и нравам народа, не вышедшего еще духовно из традиций, относящихся ко времени турецкого владычества.
Бессарабская церковь отторгнута от Всероссийской, иерархи изгнаны, в чин богослужения повсюду введен румынский язык.
В учреждениях государственных все служащие заменены румынами и выброшены на улицу.
Земско-городские учреждения упразднены.
Русское право и русский суд заменены румынским правом и судом, на который возложено «кроме отправления правосудия еще и пробуждение национального чувства, которое должно воодушевлять впредь новых румынских граждан по левую сторону Прута»[40]…
Низшая школа и два класса средней подверглись немедленной и полной румынизации[41], прочие — последовательной.
Но наиболее тягостным был тот моральный гнет, которому подвергали население Бессарабии продажная администрация и темная, грубая как нигде, военная сила, явившаяся всевластным распорядителем жизни и имущества бессарабцев, в особенности в глухих местечках и деревнях. Осадное положение — как право; непомерные реквизиции и беспощадное обложение — как экономическая система; грабеж — как обычай; публичная порка мужчин и женщин — как возмездие за протест. «Записка комитета освобождения Бессарабии» приводит ряд документально подтвержденных эпизодов самодурства старших румынских офицеров — эпизодов, переносящих нас к началу XVI века. Мы узнаем из нее о коменданте м. Единцы, который сгонял народ и заставлял кланяться своей шапке, повешенной на шест… О ген. Штербеско, начальнике Измаильского гарнизона, требованием, «чтобы все должностные лица частных и общественных учреждений (русских) не выходили из дому, чтобы жители, гуляя но улице в числе ни более трех, нигде ни останавливались, чтобы в гостиницах не находилось в одном помещении более двух лиц одновременно, чтобы богослужения в церквах не начинались до прибытия туда жандармских чинов» и т. д., и т. д.
Деятельность румынской власти и ее передаточной инстанции Сфатул-Церия вызвала возмущение решительно во всех слоях населения, независимо от национальности и «ориентации». Оно проявлялось резкими протестами организованной общественности, городов, земств, волнениями и деревне, бойкотом румынского суда и школы. Более активные проявления народного неудовольствия смолкали, однако, перед аргументацией румынских штыков и пулеметов. Единственной организацией, обращавшейся добровольно с почтительнейшими уверениями в своей лояльности к румынскому правительству, был… «Союз земельных собственников». Эта «интернациональная» организация выражала одинаковую готовность служить немцам на Украйне, австрийцам в Новороссии и румынам в Бессарабии; американскому[42] и английскому[43] капиталам — лишь бы сохранить свои земли.
Создавшееся тогда в Бессарабии положение можно охарактеризовать словами видного члена Сфатул-Церия, румынофила Александри: «по всей стране стон стоит от края и до края: беззакония, издевательства, глумление такое, каких не было, быть может, от века. Времена царского абсолютизма кажутся чуть ли не раем».
Подготовляя такими путями почву, румынское правительство в конце ноября спешно сознало на очередную сессию Сфатул-Церий, и в заседании его 27-го числа, в присутствии 46 депутатов (из 162), без прений и голосования, криками одобрения провело постановление «от имени бессарабского населения» об отказе Бессарабии от своих автономных прав…
На другой же день, после принятия постановления королевским указом «Сфатуд-Церий» был упразднен.
Изданный вслед за тем специально для Бессарабии радикальный аграрный закон, имевший главною целью отобрание земель в общерумынский государственный фонд, устанавливал, между прочим, полное отчуждение земли у «иностранно-подданных», т. е. у тех русских и молдаван, которые отказались бы принести присягу на верность новому отечеству…
По поводу финального заседания бессарабского «парламента» «Записка» приводит один небезынтересный эпизод: генеральный комиссар Бсссарабии, ген. Войтояну во время беседы с крестьянской фракцией «Сфатул-Церия», почти в полном составе протестовавшей против акта 27 ноября, дал поразительно беззастенчивое объяснение своим действиям[44]: «румынскому правительству было необходимо получить этот акт, по совету дружественной Франции, как доказательство расположения к Румынии всего населения»…
Против насильственного захвата румынами Бессарабии из всех государств мира протестовала только… Украинская держава.
Глава V. Украйна
Украйна была порабощена немцами.
Ген. Гофман, начальник штаба Восточного фронта и участник мирной конференции, впоследствии, в 19 г. говорил[45]: «в действительности Украйна — это дело моих рук, а вовсе не плод сознательной воли русского народа. Я создал Украйну для того, чтобы иметь возможность заключить мир хотя бы с частью России»…
Эта самоуверенность немецкого генерала, не углублявшегося в сложную сущность украинской проблемы, находилась, однако, внешне в полном соответствии с военно-политическим положением. Германское правительство поспешно признало самостоятельность Украйны и полномочность Рады, правительства Голубовича и посольства на конференции никому неведомых г. г. Севрюка, Любинского и Левицкого, имевшими по существу такой же легальный титул, как Совет комиссаров и его делегаты г. г. Иоффе, Бронштейн и Бриллиант.
Вспомним, что и правительства союзников до «Брест-Литовска» готовы были признать фактически советскую власть, и Нуланс от имени союзников предлагал Троцкому материальную помощь… для борьбы против немцев. По тем же соображениям признали «украинскую республику» Франция[46] 5 декабря 17 г., и Англия в начале 18 г. «Представитель Великобритании на Украйне» Пиктон Багге заявил, что его правительство «будет поддерживать всеми силами Украинское правительство в стремлениях к творческой работе, к поддержанию порядка и войне с центральными державами — врагами демократии и человечества»…
Правительства центральных держав подписали мирный договор с Украйной 26 января — в то время, когда почти вся Украйна и стольный город Киев были во власти большевиков. По просьбе бежавшего в Житомир правительства Голубовича немцы двинули корпуса ген. Эйхгорна на Украйну и почти без всякого сопротивления (дрались только чехо-словаки), совместно с австрийскими войсками ген. Бельца в течение двух месяцев заняли весь наш Юго-Запад и Новороссию[47]. «Надо было подавить большевизм на Украйне, — пишет Людендорф, — проникнуть глубоко в страну и создать там положение, которое доставляло бы нам военные преимущества и позволило бы черпать оттуда хлеб и сырье».
Границы новообразования были определены в договоре лишь на западе — линией Белгорай–Красностав–Межиречье–Сарнаки. Но бурный протест поляков и давление австрийцев заставили мирную конференцию «разъяснить» и этот пункт, предоставив разграничительной комиссии право «провести границу, принимая во внимание этнографические отношения и пожелания населения… на восток от этой линии». На востоке границы устанавливались впоследствии теоретически-бесконечными, подчас весьма курьезными переговорами Шелухина с Раковским и соглашением гетмана с Донским атаманом. Фактически — линией расположения германских аванпостов, не считавшейся ни с этнографическими, ни с историческими признаками, а захватывавшей важнейшие железнодорожные узлы. Эта линия проходила через Клинцы–Стародуб– Рыльск–Белгород–Валуйки–Миллерово.
Мирный договор и дополнительные соглашения накладывали тяжкое экономическое бремя на Украйну. До 31 июня Рада обязалась доставить австро-германцами огромные количества хлеба и других продовольственных припасов, сырья, леса и проч.[48] Взамен за эти предметы вывоза, оцениваемые по низким ставкам и низкому валютному курсу, германцы обязались доставить на Украйну «предположительно», «по мере возможности» по очень высоким тарифам фабрикаты своей промышленности. В основу всей своей экономической политики Германия поставила: для настоящего — извлечение из Украйны возможно большого количества сырья, для чего был затруднен или вовсе запрещен товарообмен ее с соседями, даже с оккупированной немцами Белоруссией; для будущего — захват украинского рынка и торговли, овладение или подрыв украинской промышленности и искусственное создание сильной задолженности Украйны.
Осуществление этих целей требовало установления хотя бы элементарного порядка в крае и законопослушности населения. Между тем, Рада и правительство Голубовича с этой задачей справиться не могли.
Непопулярность и неподготовленность украинского правительства, его полная зависимость от немцев, дикие и обидные формы украинизации, отталкивавшие одних и не удовлетворявшие других, — восстанавливали против власти большевиков и противобольшевицкое население городов, настроение которых сдерживалось присутствием австро-германских гарнизонов. Полубольшевицкие лозунги универсалов и провозглашение социализации земли подняли анархию в деревне, до тех пор сравнительно спокойной. Требование разоружения и приемы, употреблявшиеся для выкачивания хлеба из деревни, усиливали волнения. Вмешательство фельдмаршала Эйхгорна, объявившего в приказе, что урожай принадлежит тому — помещику или крестьянину — кто засеет поля, вызвало только озлобление и в Раде, и в крестьянстве. Все это грозило прервать сообщения в крае и возможность его эксплуатации немцами.
И потому немецкая власть решила устранить Раду.
* * *
5 апреля был заключен договор между фельдмаршалом Эйхгорном и бар. Муммом, с одной стороны, и ген. Скоропадским, с другой — о направлении будущей украинской политики[49].
10 апреля австро-германцы спешно закончили и подписали «хозяйственное соглашение с Украинской народной республикой», чтобы одиум его лег на Раду, не на гетмана. 13-го фельдмаршал Эйхгорн ввел военное положение, с применением германской полевой юстиции, а 16-го при обстановке почти анекдотической немцы разогнали Раду и поставили гетманом всея Украйны генерала Скоропадского.
«Народ безмолвствовал».
Осведомленная в киевских делах организация Шульгина сообщала нам на Юг текст телеграммы императора Вильгельма от 13 апреля к фельдмаршалу Эйхгорну: «Передайте генералу Скоропадскому, что я согласен на избрание гетмана, если гетман даст обязательство неуклонно исполнять наши советы»[50]…

Знакомые мотивы. В 1708 году один из предшественников гетмана Иван Мазепа писал Стародубскому полковнику Скоропадскому: «с согласия всей старшины мы решили отдаться в протекцию шведского короля в надежде, что он оборонит нас от московского тиранского ига и не только возвратит нам права нашей вольности, но еще умножит и расширит; в этом его величество уверил нас своим неотменным словом и данной на письме ассекурацией». Полковник Скоропадский не послушался тогда «прелестных увещаний» Мазепы, поехал в стан московского боярина Долгорукова и сам получил гетманскую булаву.
Положение изменилось лишь внешне: водворился известный порядок, по крайней мере в городах, безопасность передвижения и даже видимый экономический подъем, в сущности лить прикрывший спекулятивную горячку. Впрочем, ненадолго — основа этого благополучия имела нездоровый предпосылки.
Зависимость Украйны и полная подчиненность ее германской общей и экономической политике при гетмане не только не ослабли, но даже возросли. Национальный шовинизм и украинизация легли в основу программы и гетманского правительства. Сам гетман в официальных выступлениях торжественно провозглашал самостийность Украйны на вечные времена и поносил Россию, «под игом которой Украйна стонала в течение двух веков»… Кадетское министерство не отставало в шовинистических заявлениях и в прямых действиях: министр внутр. дел Кистяковский вводил закон об украинском подданстве и присяге; министр нар. просвещения Василенко приступил к массовому закрытию и насильственной украинизации учебных заведений; министр исповеданий Зеньковский готовил автокефалию украинской церкви… Все вместе в формах нелепых и оскорбительных рвали связь с русской культурой и государственностью.
Только социальные мероприятия гетмана резко разошлись с политикой Рады: руль ее круто повернули вправо. Вскоре вышел гетманский указ о возвращении земли помещикам и о вознаграждении их за все понесенные в процессе революции убытки. Практика реквизиций (для экспорта), кровавых усмирений и взыскания убытков при участии австро-германских отрядов была жестока и безжалостна. Она вызвала по всей Украйне и Новороссии стихийные восстания, подчас многотысячными отрядами. Повстанцы истребляли мелкие части австрийцев, немцев, убивали помещиков, чинов державной варты, повитовых старост и других агентов гетманской власти. В повстанческой психологии не было и тени украинского сепаратизма: они видели своих врагов не в «русских», а в помещике и в немце. Вмешательство пришельцев вносило в общую сумму социальных и экономических причин возбуждения крестьянских масс еще и элемент ярко национальный — не украинский, быть может, и не российский, но во всяком случае в негативном его отражении противо-немецкий; им увлекалась и часть офицерства, поступавшего в отряды повстанцев и вносившего в них некоторую организованность.
«Жовто-блэкитный прапор», покрывавший собою политическое и социальное движение, служил национальным символом разве только в глазах украинской, преимущественно социалистической интеллигенции, но отнюдь не народной массы.
Гетманская власть покоилась только на германских штыках, а германские войска, занимавшие города и железнодорожные станции взбаламученного края, рыли окопы, оплетались колючей проволокой, чувствуя себя там, как в осажденной крепости.
* * *
Отношение к гетманскому режиму, хотя и по разным побуждениям, почти у всей русской и украинской общественности было отрицательным.
«Украинский национальный союз», объединивший в июле все украинские партии, поддерживал близкие отношения с вершителем судеб Украйны ген. Гренером[51], с его политическим противником — австрийским представителем гр. Форгачем и одновременно находил поддержку в левых парламентских кругах Германии. Союз вел конспиративную работу, стараясь направить волну народных восстаний демагогическими посулами в русло самостийной и социалистической политики прежней Рады.
Видные русские социалисты, примыкавшие к Союзу Возрождения России, составляли заговоры против «реакционной и не-национальной» власти и пытались организовать террористические акты, которые, однако, не приводились в исполнение, в виду глубоко мирного направления руководителей союза.
Национальный Центр писал 2 июля В. Шульгину: «мы с негодованием следим за развитием физического (?) процесса у вас в Киеве и считаем, что это бред, одержимый всякого рода манией»…
Конференция кадетской партии 13–15 мая приняла, как бесспорные начала — «воссоединение России, областную автономию и национальное равноправие» и воспретила членам партии «участие в правительстве, образованном при германской коалиции». От прямого осуждения своих киевских членов конференция, однако, отказалась: «Исполнительный Комитет, не высказывая в настоящее время своего окончательного суждения», поручал одному из членов своих выяснить… создавшееся положение и меры «для согласования положения членов на Украйне с… директивами Ц. К.» Только 27-го июня центральный комитет партии выразил им неодобрение «за принятие участия в организации власти, опирающейся на немецкую поддержку». В частной переписке отношение московских кадет к киевским высказывалось гораздо резче и лапидарнее. Так В. Степанов писал: «здесь нет никого, кто бы не считал (как) их поведения, так и не исключившего их из партии (Обл. ком.) возмутительным и марающим партию. Меня ободряет, что гонение на партию в Москве отчасти смывает ту грязь, которою облили нас киевляне, бросившись головой вниз в помойную яму германофильства»…
Киевские националисты, группировавшиеся вокруг В. Шульгина, сурово осуждали гетманскую власть по мотивам национальным и политическим.
На стороне ее оставались, притом лишь до падения Германии, только Союз хлеборобов-собственников в лице крупных землевладельцев, возглавлявших эту бутафорскую организацию, весь сектор крайних правых и «Протофис»[52]. Словом — земельная и финансовая знать — максималисты в области классовых целей и интернационалисты в способах их достижения.
Я приводу характеристику этой среды, исходящую из источника, который нельзя заподозрить в некомпетентности и в предвзятости. Кн. Гр. Трубецкой писал: «аристократический квартал Липки был… жутким привидением минувшего. Там собрались Петербург и Москва; почти все друг друга знали. На каждом шагу встречались знакомые типичные лица бюрократов, банкиров, помещиков с их семьями. Чувствовалось, в буквальном смысле слова, что на их улице праздник. Отсюда доносились рассказы о какой то вакханалии в области спекуляции и наживы. Все, кто имел вход в правительственные учреждения, промышляли всевозможными разрешениями на вывоз, на продажу и на перепродажу всякого рода товаров. Помещики торопились возместить себя за то, что претерпели, и взыскивали, когда могли, с крестьян втрое за награбленное. Правые и аристократы заискивали перед немцами. Находились и такие, которые открыто ругали немцев и в то же время забегали к ним с заднего крыльца, чтобы выхлопотать себе то или другое. Все эти русские круги, должен сказать, были гораздо противнее, чем немцы, которые, против ожидания, держали себя отнюдь не вызывающим образом».
Наконец, на стороне гетманской власти стояли еще довольно широкие бездейственные обывательские слон, нс углублявшие смысла происходящих событий и жаждавшие покоя, безопасности и примитивного порядка — какой угодно ценой.

Извне гетманскую власть поддерживал московский «Правый Центр» и примкнувший к нему персонально Милюков. Последний своим влиянием на кадет — членов правительства старался, сколько мог, умерить буйный характер их самостийной практики, но в самом факте украинского и донского переворотов видел «явление одного порядка и явление положительное… начало возрождения российской государственности»… «Государственная самостоятельность областей, освободившихся от большевиков раньше Москвы — писал он — [53] является неизбежной переходной стадией и неизбежным последствием Бессилия Москвы освободиться… собственными силами… Участие в перевороте германцев является печальною неизбежностью, но все же второстепенною чертой»…
В. Шульгин, отражая взгляды националистов, писал на Юг: «я не смог произвести над собою ломки, т. е. работать над восстановлением России с немцами… Вопреки мнению Милюкова утверждаю, что киевские кадеты всенародно продали единство России, что было совершенно непростительным шагом».
Эти два вопроса (единая государственность и «ориентация») поглощали всецело внимание русских политических кругов и вызвали среди них ожесточенную полемику. Все другие стороны жизни Украйны в их глазах отходили на задний план. В частности весьма характерно, что в том огромном калейдоскопе личных, письменных и печатных ориентировок, которые сосредоточивались в руках командования Добровольческой армии, они отражения почти не находили.
* * *
Как смотрел гетман на свои взаимоотношения с Германией?
За несколько дней до захвата власти он приехал к одному из известных киевских генералов и предложил ему принять участие в образовании нового правительства, «которое должно заменить Центральную раду и явиться посредником между германским командованием и украинским народом». Упомянул, что в этом деле заинтересованы немцы… Когда собеседник его ответил отказом, мотивируя «неприемлемостью для него работы с немцами и на них», Скоропадский возразил, что «немцы здесь не при чем, что он будет вести вполне самостоятельную политику, и закончил даже наивным заявлением, что надеется обойти немцев и заставить их работать на пользу Украйны».
«Обойти» оказалось невозможным.
В среде оккупантов шли серьезные внутренние трения: германское парламентское большинство и правительство, австрийское посольство в лице гр. Форгача — требовали самостоятельности Украйны; немецкая военная партия, исходя из практических расчетов — обеспеченности снабжения и ликвидации нарождавшегося Восточного фронта — временно склонялась к единству России. В зависимости от того, какая педаль нажимала сильнее на Эйхгорна и Мумма, определялся и политический курс гетманской политики.
28 мая генерал Гренер говорил делегации от свергнутой Рады: «Германия искренно желает самостоятельности Украйны и будьте уверены, что она — единственный могущественный защитник этой самостоятельности в Европе. Мы хотели вас поддержать. Но анархию и социалистические беспорядки по соседству с нашей империей терпеть не хотим, не можем и не будем»… И гетман клал руль вправо и насильственно украинизировал страну руками кадет и «умеренных» украинских националистов…
К этому времени относится разговор гетмана с одним видным русским генералом, которого прочили на должность военного министра. На вопрос его, правда ли, что гетман принял свой пост исключительно с целью воссоединения Малороссии с Россией, — генерал Скоропадский ответил отрицательно: «может быть, в отдаленном будущем это и случится; но сейчас я буду стоять на почве самостийности Украйны»[54]… Чрезмерно ревнивое отношение гетмана в то время к «русским влияниям» приводило иногда к курьезам. Так, когда архиепископ Антоний был назначен киевским митрополитом, Скоропадский, предполагая встретить в нем врага гетманской власти и немцефильской политики, отказался вначале признать патриаршее назначение и убедительно просил Эйхгорна воспрепятствовать торжественной встрече архипастыря православными киевлянами. Гетман уверял, что митрополит Антоний «большой реакционер» и что «из встречи его хотят сделать большую москвофильскую демонстрацию»[55]…
В октябре ген. Гренер заявил:[56] «положение момента выдвигает сейчас перед Украйной задачи укрепления здоровых национальных устоев и привлечения народных кругов и участию в строительстве страны, как и в ее управлении. И здесь, как и в Германии, в состав правительства будут привлечены представители левых и демократических течений»… Практиковавшаяся немцами ранее скрытая поддержка этих кругов теперь становится явной. И гетман привлекает в состав правительства украинских социалистов и нажимает еще сильнее пресс украинизации. «Новый состав совета министров — говорит премьер Лизогуб представителям печати 17 октября — в области внешней и внутренней политики будет стремиться к более резкому выевлению национального лица украинской державы, отстаивая всеми силами самостоятельность и суверенность Украйны».
А в то же время (9 октября) представителю Добровольческой армии, полковнику Неймирку, при «случайной встрече», устроенной самим гетманом в квартире его адъютанта гр. Олсуфьева, он говорил: «я русский человек и русский офицер; и мне очень неприятию, что, несмотря на ряд попыток с моей стороны завязать какие-либо отношения с ген. Алексеевым… кроме ничего не значащих писем… я ничего не получаю… Силою обстановки мне приходится говорить и делать совершенно не то, что чувствую и хочу — это надо понимать. Даю вам слово, что до сего времени я буквально ничем не связан, никаким договором с Берлином[57] и твердо отгородился от Австрии… Я определенно смотрел и смотрю — и это знают мои близкие, настоящие русские люди — что будущее Украйны в России. Но Украйна должна войти как равная с равной на условиях федерации. Прошло время командования из Петербурга — это мое глубокое убеждение. Самостийность была необходима, как единственная оппозиция большевизму: надо было поднять национальное чувство. И переворот, который был сделан пришедшими немцами, я ранее еще предлагал союзникам, лично говорил об этом с ген. Табуи»…[58]
В ноябре ген. Гренер, сменив Людендорфа, сдавал уже германские армии на волю победителей… В Киеве говорил авторитетно только… немецкий совет солдатских депутатов. И гетман распускал правительство, приглашал на пост премьера «царского» министра Гербеля и издавал грамоту о Всероссийской федерации со включением в нее Украйны. Одновременно ген. Скоропадский не прекращал весьма оживленных тайных переговоров с Украинским национальным комитетом, а на Юг сообщал, что «украинские силы… возглавляемые гетманом… в согласии с Доном и параллельно с Добровольческой армией направляются на борьбу с большевиками и на восстановление единства России»[59].


Такой же двойственностью отличалась политика украинского правительства. Наиболее влиятельная кадетская часть его, в замкнутом кругу киевского главного комитета, под сильным давлением Милюкова, стремившегося обуздать размах украинизации, выносила постановления следовать «по линии превращения местного национального движения в общегосударственное путем объединения всего Юга России»[60]. А вне стен комитета «согласованные действия» киевлян проявлялись проповедь на тему: «единая Россия — это нелепость… Насильственное соединение в одном государстве столь больших и столь разнородных частей недопустимо»… Вдохновитель и правая рука гетмана, Игорь Кистяковский, в конце 1917 года был приверженцем Корнилова и Добровольческой армии, весною 18 года — самостийником и германофилом, в октябре, когда немцы потребовали его удаления с поста, — федералистом и германофобом; а в ноябре… централистом и антантофилом…
В свою очередь — само двуличное — германское правительство находило также некоторые странности в украинской политике… Украинский посол в Берлине, бар. Штейнгель, 7-го июля доносил министру иностранных дел: «Императорское правительство находит, что наше правительство не достаточно твердо в своей политике, почему в Киеве происходит двойная политическая игра, вредящая упрочению дружбы между Германией и Украйной. Императорское правительство желает, чтобы политика Украинского правительства соответствовала во всех отношениях условию, заключенному 18 апреля (нов. стиля) 1918 г. между генерал-фельдмаршалом Эйхгорном и бар. Муммом с одной стороны и Украинским правительством Гетмана, в то время находившимся в процессе формирования, с другой стороны… В виду этого Императорское правительство желает расширить границы своих прав в целях организации порядка и правосудия»…
Впрочем, к концу сентября, после поездки гетмана в Берлин, взгляд германского правительства изменился, и министр ф. Гинце в рейхстаге заявил, что на Украйне «продолжается в утешительном направлении процесс консолидации. Гетман с министрами вошел в Берлине в соприкосновение с нашим правительством. Констатируем, что намерения гетмана лояльны, планы его нам откровенно ясны».
* * *
Внешние сношения Украйны также всецело зависели от немцев. Все спорные территориальные вопросы о западной границе, о подчинении Украйне Крыма, о Ростовском, Таганрогском округах и части Бессарабии, на которые претендовала Украйна, разрешались односторонней волей немцев и притом не в ее пользу.
Наиболее характерной была длившаяся бесконечно долго украино-большевицкая конференция, заседавшая в Киеве, с Шелухиным и Раковским во главе. Поскольку вопросы, касавшиеся интересов Германии, как например, передача оккупированной Украйне в большом числе подвижного железнодорожного состава и урегулирование железнодорожного сообщения, проходили быстро, постольку все остальные, в особенности вопросы о границах, затягивались неимоверно. Участники конференции играли положительно непристойную роль, будучи мешками в руках закулисного дирижера. Приводимый документ характеризует в достаточной мере эти взаимоотношения:
Секретно.
Г. Председателю мирной делегации Украйны С. Шелухину.
В виду того, что в частном разговоре с министром иностранных дел председатель мирной делегации Раковский выразил желание разрешить возможно скорее вопросы, относящиеся к соглашению между Российской республикой и Украинским государством, считаем необходимым поставить вас в известность, что ускорение украйно-русских отношений возможно лишь после того, как по этому вопросу выскажется германское правительство[61]…
Но если дела конференции не подвигались вперед, то многочисленная советская делегация с большим успехом вела пропаганду и организацию тайных большевицких очагов.
В октябре министерство внутренних дел обнаружило две большевицких крупных организации в Киеве и Одессе, находившихся в деятельных сношениях с делегацией Раковского. После произведенных арестов и выемок, как в организациях, так и у самих делегатов, обнаружилось, что работа большевиков велась совместно с Украинским национальным комитетом, и что посредниками между ними были… представители немецкой власти…
Результаты этого скандального разоблачения были совершенно неожиданные: удаление но требованию немцев с поста министра внутренних дел Кистяковского и освобождение арестованных большевиков.
Нужно было обладать поистине огромным самопожертвованием, неограниченным честолюбием или полной беспринципностью, чтобы при таких условиях стремиться к власти на Украйне.
* * *
Ведение самостоятельной внешней политики было тем более невозможно для Украйны, что, невзирая на наличность огромных военных запасов и людского материала, она не имела вовсе армии.
Вооруженные силы гетмана состояли: 1) из дивизии ген. Натиева, сформированной из добровольцев, стоявшей и Харькове, находившейся в подчинении у немецкого командования, совершенно разложившейся и впоследствии разоруженной немцами. 2) Сердюцкой дивизии (гвардейской), составленной по набору исключительно из сыновей средних и крупных крестьян-собственников и вскоре разбежавшейся. 3) Из охранных и пограничных сотен, несших службу первые — полицейскую в уездах, вторые — пограничную на западе. 4) Наконец, в августе, из Владимир-Волынска прибыла сформированная там австрийцами из военнопленных украинцев «1-я Украинская пех. див.», которая вслед за тем, ввиду непригодности была расформирована.
Немцы всемерно противились организации украинской армии, считая ее опасной для себя, и допускали только существование ее кадров.
Подготовка этих кадров — штабов без войск — шла планомерно и основательно. Предположено было создать 8 корпусов двух дивизионного состава и 4 конных дивизии. С условного согласия немцев готовился к обнародованию указ о мобилизации, и набор предположен был на 15 ноября. Точно также готовились кадры «украинского флота», в состав которого должны были войти впоследствии разоруженные и охраняемые немцами русские суда Черного моря. Как известно, к этому времени наступили события, потрясшие Германию м поставившие Украйну безоружной перед лицом большевицкого нашествия. Поэтому вопрос об украинской армии интересен лишь с бытовой стороны.
Офицерский состав ее был почти исключительно русский. Генералитет и офицерство шли в армию тысячами[62], невзирая на официальные поношение России, на необходимость ломать русский язык на галицийскую мову[63], наконец, на психологическую трудность присяги в «верности гетману и Украинской державе».
Побудительными причинами поступления на гетманскую службу были: беспринципность одних — «все равно кому служить, лишь бы содержание платили», — и идейность других, считавших, что украинская армия станет готовым кадром армии русской.
Так как истинные мотивы тех и других не поддавались определению, то в добровольчестве создалось резко отрицательное отношение ко всем офицерам, состоявшим на украинской службе.
* * *
Каковы же были истинные стремления гетмана и его правительства в центральном вопросе — об отношении к России? Было ли официальное исповедание разрыва с русской культурой и государственностью только личиной или искренним их убеждением?
Прежде всего в состав украинского правительства входили люди различных толков. Для одних самостоятельность Украйны была целью, для других — средством. Где — в средствах и целях — проходила грань побуждений личных, классовых, партийных, может быть своеобразно понимаемых национально-государственных, для нас было и осталось неясным. Но вся совокупность фактов украинской действительности приводила нас к неизменному убеждению в беспринципности украинской политики.
Сохранение русской государственности являлось символом веры ген. Алексеева, моим и всей Добровольческой армии. Символом ортодоксальным, не допускавшим ни сомнений, ни колебаний, ни компромиссов. Идея невозможности связать свою судьбу с насадителями большевизма и творцами Брест-Литовского мира была Бесспорна в наших глазах не только по моральным побуждениям, но и по мотивам государственной целесообразности. Идея эта не находила, однако, такого безусловного признания в глазах всей армии, как первая.
Эти положения легли в основу наших отношений к гетману. Ни ген. Алексеев, ни я не вступали с ним в сношения. Был только один случай, совершенно частный, когда я обратился к гетману, как к русскому генералу, с протестом против заключения немцами в киевскую тюрьму офицера штаба армии, подполковника Ряснянского. Ответа не последовало. Только с осени 18 года, когда обнаружилась близость катастрофы, висевшей над центральными державами и, следовательно, над Украйной, гетман делал попытки через третьих лиц вступить в сношение с командованием Добровольческой армии…
Но вместе с тем командование не прибегало ни к каким конкретным мерам, враждебным гетманскому правительству. Наше участие в украинских делах ограничилось гласным осуждением гетманской политики, извлечением из Украйны русских офицеров, попытками приобресть там оружие и патроны, разведкой австро-германских сил и расположения и подготовкой мер для противодействия предполагавшемуся германскому наступлению против Восточного фронта и Добровольческой армии. Такими мерами признавались, в случае возникновения надобности, партизанская война в тылу немцев, разрушение мостов и железнодорожные забастовки[64]. Киевский железнодорожный комитет и ряд видных путейских инженеров обещал нам содействие в этом отношении. Много видных гетманских сановников и представителей генералитета присылали «с оказией» в Добровольческую армию уверения в своей верности русской идее. А более экспансивные, не раз, быть может, авантюристы, неоднократно «испрашивали разрешение» устроить в Киеве «дворцовый переворот». Приезжал в штаб армии делегат даже от гетманского конвоя… Всем им ген. Романовский категорически запрещал какие либо выступления против гетманской власти.
Штаб Добровольческой армии не умел и не хотел вести политической интриги. Да и самый факт гетманства не казался угрожающим для национальной русской идеи. В годы, когда рушились вековые троны и сходили со сцены исторические династии, основание новых — представлялось весьма проблематичным… В этом убеждении укрепили нас и исторические прецеденты. «Малорусский народ — говорит историк — решительно не пристал к замыслу гетмана и нимало не сочувствовал ему. За Мазепою перешли к неприятелям только старшины, но и из них многие бежали от него, лишь узнали, что надежда на шведского короля плоха и что Карл, если бы даже и хотел, не мог доставить Малороссии независимости».
Для многих политических деятелей теперь, как и двести лет тому назад, — хотя обстановка стала неизмеримо сложнее, — решение украинской проблемы сводилось только к предвидению:
— Кто победит?
Карл — или Петр. Гинденбург — или Фош.
Глава VI. Крым
Жизнь Крыма до конца 1917 года текла довольна мирно. В крае уживались рядом власти — правительственные, земско-городские и революционные (совдепы) — , почти однородные по своему составу (с.-р. и с.-д. меньш.), и все одинаково бессильные. После октябрьского переворота собрание уездных и волостных земств и городов Таврической губернии создало центральную власть в лице Крымского краевого правительства — также из умеренных социалистов, во главе с кадетом Богдановым. Но собранный 26 ноября национальный совет татарского населения Крыма избрал татарский парламент (Курултай) и татарское правительство, которое также «взяло на себя защиту и управление как татарами, так и другими народностями, населяющими Крым». Совместное существование двух «правительств», порождая трения в их взаимоотношениях, очень мало, однако, отражалось на жизни края, обособившейся резко в замкнутых рамках городов и сел. Одинаково шаткою была опора обоих правительств: у первого — полубольшевицкие солдатские гарнизоны, у второго — немногочисленное «татарское национальное войско» — Крымский полк (конный) и пешие части, силою 2–3 тыс. чел. Оба правительства одинаково трепетали перед перспективой большевицкого нашествия и заключили соглашение о взаимной поддержке против большевиков.
Гроза на этот раз шла не с севера, не изнутри, где настроение совдепов, профессиональных союзов, рабочей массы и даже солдатских гарнизонов было довольно умеренное… Судьба Крыма оказалась в руках Черноморского флота.
Уже в ноябре, под влиянием агитаторов, присланных из центра, матросы Черноморского флота свергли умеренный совдеп в Севастополе, поставили новый большевицкий и организовали в городе советскую власть. Номинально она находилась в руках сложной комбинации из совдепа, комиссариата и революционного комитета, фактически — всецело в руках буйной матросской черни. С начала декабря в Севастополе начались повальные грабежи и убийства. А в январе Черноморский флот приступил к захвату власти и на всем Крымском полуострове. Описание падения крымских городов носил характер совершенно однообразный: «к городу подходили военные суда… пушки наводились на центральную часть города. Матросы сходили отрядами на берег; в большинстве случаев легко преодолевали сопротивление небольших частей войск, еще верных порядку и краевому правительству (правительствам?), а затем, пополнив свои кадры темными, преступными элементами из местных жителей, организовывали большевицкую власть»[65].
Так пали Евпатория, Ялта, Феодосия, Керчь и др. А 13 января пала и резиденция правительств — Симферополь.

За спиною матросской черни стояли ее вдохновители — элемент пришлый, часто уголовный и в огромном большинстве своем инородный. Состав агентов власти — говорит описание — «пестрит именами инородцев — латышей, эстонцев, евреев»… Большевицкая власть за четыре месяца своего существования не умела насадить советский строй. Она только упразднила буржуазные учреждения, «социализировала», преимущественно в свою пользу, буржуазное имущество и уничтожала буржуазию. Страницы крымской жизни того времени полны ужаса и крови. Я избегаю вообще распространяться о «злодействах большевиков» — понятии, ставшем в наше время банальным и не возбуждающим уже острого чувства возмущения в опустошенных душах и зачерствелых сердцах. Но приводимое ниже описание[66] судьбы евпаторийской буржуазии и преимущественно офицерства весьма характерно для «методов социальной борьбы» и психологии матросской черни, заполнившей своим садизмом самые страшные страницы русской революции.
«После краткого опроса в заседании комитета, арестованных перевозили в трюм транспорта «Трувор». За три дня их было доставлено свыше 800 человек. Пищи арестованные не получали, издевательства словесные чередовались с оскорблением действием, которое переходило в жестокие, до потери жертвами сознания, побои. На смертную казнь ушло более 300 лиц, виновных лишь в том, что одни носили офицерские погоны, другие — не изорванное платье. Обреченных перевозили в трюм гидро-крейсера «Румыния»… Смертника вызывали к люку. Вызванный выходил наверх и должен был идти через всю палубу на лобное место мимо матросов, которые наперерыв стаскивали с несчастного одежду, сопровождая раздевание остротами, ругательствами и побоями. На лобном месте матросы, подбодряемые Антониною Немич[67], опрокидывали приведенного на пол, связывали ноги, скручивали руки и медленно отрезывали уши, нос, губы, половой орган, отрубали руки… И только тогда истекавшего кровью, испускавшего от нечеловеческих страданий далеко разносившиеся, душу надрывающие крики — русского офицера отдавали красные палачи волнам Черного моря».
…
Властвовала только красная опричнина. Против них были и крестьянская, и рабочая среда, которая здесь, в Крыму, не переживала медового месяца большевицкой власти, как это было в центральной России. Крестьяне охотно восприняли практику социализации, но не могли примириться с захватом пришельцами добра своего и помещичьего, которое также считали своим. Рабочие, не взирая на ряд специальных мероприятий новой власти — сокращение рабочего дня, увеличение заработной платы и т. д., были за редкими исключениями ярко враждебны ей. Они видели, что наплыв в среду их массы безработных, по преимуществу городской черни, дезорганизует предприятия, что не они стали хозяевами, а пришлая власть, захватывающая Бессистемно и орудия производства, и материалы, и фабрикаты — для собственного прокормления. Рабочие организации, не сочувствовавшие большевизму, преследовались; практика реквизиций и изъятий не миновала и домов рабочих. В перспективе ясно рисовался развал промышленных предприятий, дезорганизация рабочего класса и голод.
Татарское население Крыма, совершенно не приявшее большевизма, подвергалось таким же расправам, как и буржуазия; беспощадные к татарам сами, большевики разжигали кроме того национальную ненависть к ним среди русского населения.
К весне 1918 года царило уже всеобщее возбуждение против большевицкой власти, как везде пассивное или выражавшееся в местных волнениях и в подготовке, совершенно, впрочем, не серьезной, активного выступления в среде заводских комитетов, профессиональных союзов, татарских и русских конспиративных кружков.
Вопрос разрешился приходом германцев[68].
Если украинская политика немцев имела в своем основании создание длительной, на многие годы, политической и экономической зависимости Украйны от Германии, то в Крыму их интересы ограничивались временными военно-политическими и стратегическими условиями. По крайней мере так смотрела на дело главная квартира. Людендорф уверяет, что он «считал фантастическими идеи создания колониального немецкого государства на берегах Черного моря»… Еще менее германское правительство склонно было поощрять в этом отношении притязания Турции. Германской станке необходимо было обеспечить себе безопасность сообщений в Черном море, которым угрожала Севастопольская крепость и непокорный центральной власти Черноморский флот. Крепость и порт были заняты поэтому германскими войсками 1 мая, а большая часть русских военных судов ушла в Новороссийск. Немцы предъявили советской власти требование выдать им весь Черноморский флот «для использования во время войны в мере, требуемой военной обстановкой». Повеление совета комиссаров последовало, но было исполнено только частично: матросы, не имея желания поступить в распоряжение немцев, и еще менее драться с ними, пустили ко дну часть судов. До сих пор на новороссийском рейде зловеще торчат из воды верхушки мачт символ «патриотизма» черноморцев, столь же фальшивого, сколько и бессмысленного.
Иначе отнеслись немцы и к государственному устройству Крыма.
Об отторжении его от Российского государства объявлено не было. Русский генерал Сулькевич, по происхождению литовский татарин, избранными немцами, вместо ханского титула принужден был удовлетвориться званием премьер-министра Крымского краевого правительства. В декларации, одобренной немецким командованием, Сулькевич определял целью образованной им власти «сохранение самостоятельности полуострова до выяснения международного положения его и восстановление законности и порядка».
По условию с советским правительством Германия обязалась очистить Черноморский район после ратификации договора между Россией и Украйной. Поэтому переговоры между Шелухиным и Раковским в Киеве умышленно затягивались немцами. Гетман предъявил требование о полном слиянии Крыма с Украйной, посягая на три северных хлебородных уезда Таврии, и устанавливал экономическую блокаду полуострова. Сулькевич через одного из своих министров, командированного в Берлин гр. В. Татищева, добивался признания независимости Крыма и защиты его от Украйны. Сбитая с толку крымская общественность[69] видела выход «в объединении Крыма с Украйной на условиях широкой автономии», полагая, что «путь объединения с Россией лежит только через Украйну».
Германское правительство встретило холодно миссию Татищева и «в связи с настоящим международным положением» не сочло для себя возможным «объявить о признании государственной независимости Крыма»; а в отношении столкновения с Украйной советовало уладить вопрос личными переговорами гр. Татищева с украинским премьером Лизогубом[70].
Политика крымского правительства была такого же правого направления, как и гетманская, встречая оппозицию в социалистических и либеральных кругах земских и городских собраний; весьма, впрочем, лояльную, благодаря наличию всесильных немецких штыков. Правительственная политика не носила официальных признаков национального шовинизма. За кулисами шла, однако, нелепая политическая игра объединенных в своих стремлениях Сулькевича, «Курултая» и татарской группы правительства. Айвазов, уполномоченный представитель Сулькевича в Константинополе, вел переговоры с Блестящей Портой об отторжении Крыма от России и присоединении его в той или другой форме к Турции… Д. Сейдамет, крымский министр иностранных дел, представлял германскому правительству в Берлине шовинистическое обращение «Курултая» от 21 июля. Это обращение, подписанное А. Хильми[71] и Хасаном Сабри[72], заключало в себе следующие положения:
«Крымско-татарский народ, который 135 лет тому назад подпал под русское иго», надеялся на помощь Германии, «опираясь на сулящие мусульманским странам счастие исторические высокие цели Его Величества Великого Государя Вильгельма»…
«Несмотря на то, что русские в течение 135 лет грабили имущество татар и оскверняли их святыни..! численный состав крымских татар все-таки не мог быть поколеблен; равным образом никакие притеснения не могли заставить их забыть то уважение, которым пользовалось господство их предков, пред коим некогда склонялась Москва»…
Далее идет описание национальных подвигов:
«Во время революции, когда ни у одного из населяющих Россию народов не было заметно национального движения. крымские татары заявили 25 марта на конгрессе о своей национально-гражданской автономии и реквизировали вакуфные земли… 8700 десятин и 1 миллион рублей»…
Скромное описание своего «международного» положения:
Несмотря на поражение в борьбе с большевиками, «крымско-татарский народ, опираясь на свое великое национальное самопожертвование и чувство владычества, стал играть в судьбах страны решающую роль»…
Исходя из этих соображений, «крымские татары желают восстановить в Крыму татарское владычество… преобразовав Крым в независимое нейтральное ханство, опираясь на германскую и турецкую политику».
И, наконец, апофеоз:
«В то время, как Россия, великий исторический враг (турецкого и мусульманского мира) погибла, и дорога в Индию, свободная для Германии, поколебала твердыню Англии, мусульманский мир находит силу в твердой решимости тех магометан, которые в Крыму и на Кавказе в течение столетий были лишены чести иметь право умереть за свои стремления и надежды»…
Я не стал бы приводить таких пространных выдержек из откровения людей, лишенных элементарного такта и грубо невежественных, если бы оно не было карикатурным отражением тех приемов и стремлений, которые присущи представителям многочисленных новообразований, возникших на развалинах России. Не народные массы, а именно люди, вынесенные волною революции на мутную поверхность вскипевшей до дна народной жизни, принесли с собою такую ненависть к России. Искажая перспективу и причинную связь исторических событий, порывая родственные связи, игнорируя тесные экономические взаимоотношения, мешая прошлое с настоящим и отождествляя русскую власть с русским народом, они приняли на себя роль суровых и пристрастных судей России, ее истории и народа. Их голоса раздавались громко в парламентах, радах, кругах, меджилисах, сфатул-цериях, курултаях, в приемных иностранных политических деятелей всех стран, в отечественной и мировой печати.
Они с большим упорством и старанием углубляли могилу, вырытую советскою властью для погребения русской государственности — могилу, в которой часто хоронились и их непрочные новообразования.
* * *
Поддержка «Великого Государя» и «Высокочтимого халифа» оказалась непрочной. Осенью 18 года центральные державы пали, увлекая в своем стремительном падении кесарей и троны, погребая под обломками много безумных надежд и фантастических планов.
Изменилась и судьба Крыма.
Немецкий генерал Кош письмом на имя Сулькевича от 3 ноября заявил, что он от дальнейшей поддержки его отказывается. И Сулькевич 4 ноября телеграфировал мне в Екатеринодар: «Развал среди германских войск идет полным ходом… В виду отсутствия вооруженной силы, формировать которую немцы категорически запрещали в Крыму, нет никакой опоры для борьбы… Возможны вспышки и повторение неистовств большевиков… Обстановка ясно говорит за необходимость быстрой помощи союзного флота и добровольцев… Ввиду борьбы в сильной агитации левых партий, кабинет мой слагает свои полномочия, уступая место коалиционному министерству из кадет, социалистов и татар»…
Генерал Сулькевич отбыл в Азербейджан, чтобы там продолжать в роды «военного министра» свою русофобскую работу, а новое правительство г. Соломона Крыма, вышедшее из недр Таврического губернского земского собрания, обязалось «всеми силами содействовать объединению расколовшейся России»[73].
Глава VII. Закавказье
Закавказский комиссариат под руководством сейма[74] с конца февраля 18 года вел мирные переговоры с Турцией.
Снабженный чрезвычайными полномочиями сейма председатель мирной конференции Чхенкели настаивал в Трапезунде на восстановлении русско-турецких границ 1914 года. Турецкая делегация, при закулисном участии германских дипломатов, требовала точного выполнения условий Брест-Литовского мирного договора и немедленного очищения от закавказских войск Карса, Ардагана и Батума. Вместе с тем турки, затягивая всемерно ход переговоров, окончательные условия мира ставили в зависимость «от точного декларирования закавказской делегацией сущности, формы, политической и административной организации Закавказской республики»[75]. Ибо, если Закавказье продолжает оставаться в государственной связи с Россией, то для него обязательно выполнение Брест-Литовского договора…
Положение Закавказья к этому времени было необыкновенно трудным.
Советская власть предъявила ультимативное требование выполнения условий договора; Кавказский фронт пал давно и на месте его стоял лишь декоративный заслон из храброго, но малочисленного отряда полковника Ефремова, армянских, частью грузинских новых формирований; кровавый призрак турецкого нашествия висел над христианским населением и тревожным предвестником его служили начавшиеся уже бесчинства татар в прифронтовом районе; в сейме, в правительстве и даже в среде самой мирной делегации мусульманские представители явно сочувствовали самым широким турецким вожделениям…
И когда 24 марта турки предъявили ультиматум о принятии в течение двух дней Брест-Литовского договора и немедленном очищении Батума, Чхенкели, превысив данные ему сеймом полномочия, принял все условия турок.
Сейм, однако, не согласился. В торжественном и бурном заседании 31 марта почти все национальные и политические фракции пришли к убеждению о необходимости продолжения борьбы. Даже мусульманские представители, отказываясь от активного выступления, обещали, однако, «всеми доступными средствами оказать возможное содействие другим народам Закавказья… к благоприятной ликвидации войны»[76].
Сейм отозвал делегацию Чхенкели и обратился к народам Закавказья с воззванием: «…Позорного мира мы не подписали — говорилось в нем. — Мирные переговоры с Турцией прерваны. Отныне спор решается оружием на полях сражений». Жест отчаяния — ибо бороться было нечем: не было войска для удержания фронта и не было пи подъема, пи единодушия для войны народной, партизанской.
Турки заняли 1 апреля Батум и, не встречая сопротивления, перешли в наступление в общих направлениях на Кутанис, Александрополь и Джульфу.
И 9 апреля в сейме, признавшем свое бессилие остановить турецкое нашествие, был поставлен на обсуждение, как последнее средство спасения, вопрос о независимости Закавказья. Сторонникам этого акта не туркофилам рисовались следующие перспективы: край, отделившись от России, избегнет заливающего ее большевизма; сохранится единство Закавказья и тесное мирное сожительство его народов; новообразование получить легальный титул для отказа от Брест-Литовского договора и заключения самостоятельного мира; наконец, приобретет симпатии и помощь Германии, которая давно уже толкала закавказских деятелей на этот шаг, имея целью расчленение России и утверждение своего политического и экономического влияния в Закавказье.
При полном согласии всех грузинских партий и стыдливом молчании былых властителей дум русской революционной демократии г. г. Церетели, Жордания, Гегечкори, Рамишвили и др…, при решимости холодного отчаяния армян…, при ликовании мусульман и горячем протесте русских была провозглашена Закавказская независимая федеративная республика.
Жизнь, однако, разбивала шаг за шагом иллюзии оппортунистов.
Прежде всего старые хитрые дипломаты оттоманской школы раскрыли, наконец, свои карты перед неискусными игроками «Закавказской республики».
На возобновившейся 28 апреля по инициативе нового правительства Чхенкели конференции в Батуме турко-германская делегация, под председательством Халил-бея, признала факт независимости Закавказья и освободила его от обязательств, налагаемых Брест-Литовским договором. Но вместе с тем, как новому государственному образованию, турки предъявили и новые территориальные требования, несравненно более тяжелые[77]…
Конференция была сорвана. Турецкая армия, продолжая наступление, заняла уже Карс[78], Александрополь, направляясь далее к Тифлису. Турецкое влияние в мусульманских частях Закавказья переходило в явное политическое господство там гурок, грозя сдавить в турецких тисках и отрезать от жизненных артерий грузинский и армянский народы.
В этот тяжелый момент грузинская социал-демократия, войдя в сношение с германским правительством, вручила ему без оглядки судьбы своего края.
Тожественные вначале интересы Германии и Турции, по мере увлечения последней панисламизмом в ущерб военным действиям против Англии, разошлись. Германия сочла себя вынужденной противодействовать быстрому распространению турок в Закавказье по мотивам, о которых немецкие государственные деятели говорят с исчерпывающей ясностью:
Гельфферих: «Германия очень интересовалась бакинскими нефтяными промыслами, которые соединены нефтепроводом с Батумом, и кавказскими богатейшими марганцевыми рудниками, имевшими для нас огромное значение, как в этой войне, так и после войны».
Людендорф: «Для нас (протекторат над Грузией) был средством, независимо от Турции, получить доступ к кавказскому сырью и эксплуатации железных дорог, проходящих через Тифлис. Мы не могли довериться в этом отношении Турции. Мы не могли рассчитывать на бакинскую нефть, если не получим ее сами».
Получив от германского резидента в Константинополе ген. фон-Лоссюва обещание активной поддержки, 13 мая национальный совет провозгласил односторонним актом независимость Грузинской демократической республики. Ной Жордания и Церетели в послании к центральному комитету российской социал-демократической партии оправдывали этот шаг необходимостью «спасения физического существования грузинского народа».
В тот же день, 13 мая, сложили полномочия сейм и общее правительство. Закавказская республика прекратила свое существование, и власть перешла к национальным советам трех новообразований: Грузии, Армении и Азербейджана. Германия остановила дальнейшее продвижение турок в пределах Грузии.
Решающую роль в актах 9 апреля и 13 мая сыграли не внутренние потрясения общерусской жизни, даже не большевизм — волны его еще не докатились до Закавказья и сущность его постигали только верхние слой народа — а смертельный страх перед турецким нашествием. Если наоборот — мусульманская часть населения отнеслась с явной симпатией к единоверным туркам, то главным образом потому, что надеялась на тот перевес, который теперь получат их интересы в вековой межнациональной распре. Но ни татары, ни грузины и армяне, ни все другие мелкие самобытные национальные группы в момент разрыва в массе своей не проявляли ненависти к России. По состоянию своей культуры, вековым навыкам, быть может национальным чертам характера, народы Закавказья менее, чем где-либо, принимали участие в государственной жизни. «Волеизъявление народа», «давление народных масс» — эти правовые и стихийные стимулы политических и национальных движений — в Закавказье имели значение несущественное. Если в общерусском масштабе волны революции смыли с высот жизни русскую интеллигенцию, то здесь наоборот: история Закавказья в годы смуты есть история его интеллигенции, преимущественно социалистической. Только она явилась вершительницей внутренних событий, и только на ней лежит поэтому историческая ответственность за судьбы закавказских народов.
Итак, примиряющего и объединяющего начала не стало. Пути народов Закавказья разошлись. В течение трех лет будут они вести «самостоятельное» существование и гореть в котле политических страстей и межнациональной распри, пока, наконец, не сольются вновь… в общем русле советского самодержавия.
* * *
После провозглашения самостоятельной Грузинской демократической республики делегация ее прибыла в Берлин, и 11 июня в рейхстаге было объявлено о признании Германией новой республики de facto. В Тифлисе появилась дипломатическая миссия полковника фон-Кросса с эскортом в две роты, и с тех пор внутренняя и внешняя политика края безраздельно была подчинена германскому влиянию. Началось выкачивание немцами сырья и одновременно организация ими грузинской вооруженной силы — по свидетельству ген. Людендорфа — как подсобного фактора в борьбе с англичанами на азиатском театре войны и против… Добровольческой армии, которая все более начинала тревожить немецкое командование.
Бакинская нефть особенно крепко владела умами и чувствами европейских и азиатских политиков. С весны началось резкое соревнование и «бег взапуски» в области войны и политики к конечной цели — Баку — англичан от Энзели, Нури-паши (брат Энвера) через Азербейджан и немцев через Грузию. Для той же цели Людендорф снял с балканского фронта бригаду кавалерии и несколько батальонов (6–7) и спешно стал перебрасывать их в Батум и Поти — порт, заарендованный германцами у грузин «на 60 лет».
Судьба, однако, распорядится иначе: Нури-паша предупредит немцев в Баку, и десантные немецкие войска, не успеют сосредоточиться, как отпадение в начале сентября Болгарии, поколебав окончательно положение центральных держав, заставит немецкую главную квартиру отозвать войска из Грузии обратно на Балканы…
Грузинский национальный совет, к которому перешла верховная власть, образовал правительство, под председательством Ноя Рамишвили. В силу преобладании в правительстве и в самом совете социал-демократов-меньшевиков, — преобладании искусственного для страны по преимуществу земледельческой, — политикой этих учреждений руководили всецело лидеры партии.
Деятельность правительства сосредоточилась прежде всего на сформировании вооруженной силы и на округлении границ новой республики. Под руководством Джунгелия возникли отряды «народной гвардии», общей численность 10–12 тысяч, по облику своему и составу, дисциплине м традициям отличавшиеся от советской красной гвардии только разве национальным шовинизмом. Народно-гвардейцы поступали добровольно, но рекомендации левых партий, были хорошо вооружены и получали высокие оклады; отряды были снабжены многочисленной артиллерией бывшего кавказского фронта. Во главе их стояли почти исключительно люди с большим революционным и тюремным прошлым «царской России». Пригодная для поддержки первых шагов социал-демократической власти в дни революционного угара и заманчивых лозунгов, народная гвардия становилась, однако, сильной помехой при переходе к мирному строительству и прямой угрозой для самой власти, в особенности в виду сохранения в крае советов рабочих депутатов… Поэтому правительство приступило вскоре к мобилизации возрастов от 16 до 43 лет, а также к формированию постоянной регулярной армии в 2 пех. дивизии и 1 кав. бригаду. С этой цель был объявлен призыв[79] всех «грузинских подданных», родившихся в 96–98 г. г., причем подданными считались лица всех национальностей, в том числе и русские люди, прописанные по месту жительства на территории, вошедшей в пределы Грузии, до 19 июля 1914 года[80]. Немцы всемерно способствовали организации и снабжению грузинских войск.
Еще в 1914 году образовавшийся из состава партии национал-демократов «Союз освобождения Грузии» заключил с турецким правительством договор, на основании которого за активное содействие Турции в войне против России «независимая Грузия» приобретала следующие территории: Тифлисскую и Кутаисскую губ., Сочинский и Гагринский округа Черноморской губ., Сухумский, Батумский и Закатальский округа, сев. часть Карсской обл. и часть Трапезондского вилайета (Лазистан). Как это ни странно, но социал-демократы, клеймившие некогда «империалистическую политику» царского и временного правительств, став у власти, восприняли всецело психологию грузинских национал-шовинистов — тех, для которых еще 15 июня, во время заседания национального совета в лексиконе Церетели нашлось слово «измена»… Демократическое правительство Грузин приступило к планомерному распространению своей власти на территории, населенные чуждыми в племенном отношении и враждебными грузинам элементами, применяя при этом разнообразные способы — войну, подкуп, террор и политический шантаж.
В первый период — турко-немецкой оккупации, вожделения Грузии направились в сторону Черноморской губернии. Причиной послужила слабость Черноморья, поводом — борьба с большевиками, гарантией — согласие и поддержка немцев, занявших и укрепивших Адлер; система же захвата была до крайности проста и однообразна и сильно напоминала деятельность румын в Бессарабии.
К концу марта 18 года большевики, постепенно распространяясь из Новороссийска к югу, подошли к Сухуму. Абхазский национальный совет обратился за помощью к грузинам. С конца апреля грузинская народная гвардия начала там войну против большевиков с переменным успехом. Прибывшему в июне с подкреплением ген. Мазниеву удалось очистить от красногвардейцев побережье до самого Туапсе. Ценою за избавление был договор, заключенный 11 июля между Абхазским национальным советом и грузинским правительством, в силу которого Сухумский округ временно вошел в состав Грузинской республики. Пункт 3-й договора предусматривал, что «внутреннее управление Абхазией принадлежит Абхазскому совету», а 1-й — что «только национальное собрание Абхазии окончательно определяет политическое устройство и судьбу ее».
Но вслед за сим, грузинское правительство дважды разгоняет национальный совет (август и октябрь) и, заключив часть членов его в Метехский замок, лишив права выборов русское и армянское население, как не приемлющее «грузинского подданства», к осени создает вполне покорное и совершенно безличное учреждение, состоящее на ¼ из абхазцев и на ¾ из грузин[81] и возглавляемое президиумом с преобладающим составом грузинских социал-демократов. Власть в крае перешла всецело в руки грузинского «чрезвычайного комиссара» и революционных учреждений, заполненных местными грузинами — пришлым элементом в крае, издавна устроившимся на Черноморском побережье в качестве рабочих, торговцев, подрядчиков, духанщиков и т. д. С интересами коренного населения и с его правами хотя бы на внутреннее самоуправление грузинская власть перестала считаться вовсе.
Оккупация Сочинского округа (включая и Гагры[82]) произведена была грузинами также на основании просьб о помощи различных местных собраний и съездов, преимущественно социалистического состава, — просьб, частью вызванных подлинным отчаянием, частью — давлением грузинских военных начальников. Хотя грузинская администрация высказывала официально взгляд на русское население побережья, как на «политических эмигрантов», но «исторические права» грузин на этот округ очевидно были еще менее обоснованы, чем на Сухумский[83], так как е первых же дней грузинские власти приступили к разорению его, отправляя все, что было возможно, в Грузию. Так была разграблена Туапсинская жел. дорога, причем увозились рельсы, крестовины, материалы, даже больничный инвентарь; распродано с аукциона многомиллионное оборудование Гагринской климатической станции, разрушено лесопромышленное дело и Гаграх; уведен племенной скот, разорены культурные имения и т. д. Все это делалось нс и порядке «обычаев гражданской войны», а в результате планомерной тифлисской политики.
Из Абхазии и Сочинского округа шли горькие жалобы и постоянные просьбы об избавлении от грузин, обращаемые к Добровольческой армии, когда она приблизилась к Черном) морю….
В период немецкой оккупации, в течение 18 года, только еще налаживалась внутренняя жизнь края и административный аппарат. В трудных условиях зарождения новой государственности, правящая безраздельно партия социал-демократов не решилась приступить сразу к коренной ломке «старого строя». В финансовом отношении мы видим только тяжелый пресс прямых и косвенных налогов, печатный станок и боны с знаменательной надписью — о хождении их наравне с русскими государственными кредитными билетами… В экономическом — широкое использование и распродажу русского миллиардного имущества Кавказского фронта; экспорт, главным образом в Германию, в огромных размерах сырья[84], даже отчасти хлеба, в котором ощущался острый недостаток в крае, и который притекал путем правительственно организованной контрабанды с северного Кавказа; получение взамен — далеко не равноценных, залежалых фабрикатов, не имевших сбыта на европейских рынках; наконец, концессии, предоставленные как местному, так и иностранному капиталу. В аграрном вопросе — национализацию частновладельческих земель, с передачей их в пользование крестьянству; а позднее, когда обнаружилось возбуждение на этой почве крестьян, продажу им в собственность по высоким ценам отобранных в государственный фонд земель. В отношении крайне незначительного класса рабочих — заботы об улучшении их материального положения и улучшении условии жизни, без радикальных реформ. Наконец, в области самоопределения — безудержная «национализация», угнетение и лишение культурно-правовых условий существования «меньшинств» — русского, абхазского, аджарского, осетинского, татарского, армянского и т. д. — «меньшинств», которые, однако, в мозаичном организме Грузии составляли вначале 36, а потом, после ее расширения, более 50 % населения.
Несомненно грузинское правительство достигло внешних условии относительного благополучия и порядка, выгодно отличавших край от областей советской России. Честные восстания, вспыхивавшие на почве национальной распри, аграрных взаимоотношений и большевицких лозунгов, зачастую прикрывавших просто протест угнетаемого русского населения — неизменно подавлялись правительством. Грузинские миссии, направляемые в Западную Европу, снабженные хорошими средствами и обладавшие специфически-восточной хитростью и пафосом, заносили туда, наряду с описанием благоденственного жития внутри страны, представления о «тяжести векового рабства» и обоснованности независимого существования своего народа; искали сочувствия к молодой «угрожаемой и обижаемой извне со всех сторон социалистической республике». Повсюду. Сначала — в «империалистическом» Берлине, потом, в дни колебания военно-политического маятника — у всемирной демократии[85] и наконец — после определившегося исхода борьбы — у буржуазных правительств Лондона и Парижа[86].
Мираж создавался действительно.
Только мираж. Потому что в активе новообразования не было ни «суверенности», ни идеи «самоопределения народов», ни демократии, ни социализма. Их заменяли вассальная зависимость (от Германии, потом Англии), империализм, диктатура социал-демократической партии и чистейший капитализм. Потому еще, что в течение кратковременного бытия Грузинской республики народ ее не создал и не мог создать по времени своих материальных и культурных ценностей, а жил исключительно русским наследием, не разрушенным еще ни войной, ни анархией[87].
В 1918 году жизнь поставила вопрос:
— Как долго при всех указанных выше условиях возможно независимое существование Грузинской республики вне всякой государственной связи с Россией?
И в 1921 году дала исчерпывающий ответ:
— Ровно столько времени, сколько длится в ней иностранная оккупация, прикрывает ее южнорусская армия и желает того Москва.
* * *
Армянская республика переживала дни глубокого отчаяния. Турецкая армия быстро подвигалась вперед, занимая районы этнографического расселения армян и подвергая народ резне и край опустошению. Мольбы армянского правительства и воздействие германских представителей, заинтересованных вообще в ограничении турецкого распространения, остановили, однако, наступление. Демаркационная линия была проведена в шести верстах от Эривани, и «самостоятельная Армения» заключена в голодный гористый район, площадью в 11 тыс. кв. верст[88], с 14-ю верстами железной дороги и с… 600 тысяч беженцев, собравшихся отовсюду и обездоливших окончательно коренное население.
Эту территорию сдавливали со всех сторон: с запада — турецкий фронт; с юга, со стороны Алашкертской долины — курды; с юго-востока «Аракская республика»[89], образованная татарскими ханами, враждебными России, ввиду лишения их некогда феодальных прав, и кровно ненавидевшими армян; е востока — враждебный Азербейджан — сначала татарскими бандами, потом, в сентябре при помощи турецких войск покоряющий Карабах; с севера — ревниво охраняемые грузинами границы Тифлисской губернии, через которые не пропускали ничего, даже продовольственных грузов вымирающему населению Армении.
При таких условиях Армянский национальный совет[90] и правительство не могли задаваться ни сложной политикой, ни внутренним строительством. Все их помыслы были направлены исключительно к сохранению физического существования остатков армянского народа. С большими трудностями были сформированы войска партизанского типа в 10–15 тыс. человек; отряд ген. Назарбекова (потом Силикова) вел непрестанную борьбу с татарами и курдскими ордами; отряд Андроника, не признававшего власти Эривани, вел самостоятельные военные операции в защиту армян Елизаветпольской губернии[91] против татар и турок; севернее наступление их сдерживал отряд Мелик-Шахназарова. Правительство рассылало отчаянные мольбы во все стороны и безнадежно искало спасительной «ориентации».
Нет сомнения, что в среде национального совета, по преимуществу социалистического состава, даже в руководящей партии дашнакцанов (20 из 40 членов), в этот момент более, чем когда либо, жило яркое сознание необходимости государственной связи с Россией. Всякой Россией, независимо от ее политического строя, — хотя бы и советской, — лишь бы она обладала силой и возможностью спасти армянский народ. Но такой России тогда не существовало. Германия не была вовсе заинтересована ни в стране, не имеющей к вывозу сырья, ни в народе, который нужно было кормить. С остальной Европой связи не было никакой. Оставалась только надежда на окрепшую под немецким покровительством Грузию…
В первой половине июня Жордания и Рамишвили пригласили представителей Армянского совета для раздела между Грузией и Арменией по этническим признакам Борчалинского уезда. Но прибывших армянских делегатов встретил И. Церетели и от имени Грузинского совета заявил им, что все спорные территории[92] со смешанным грузино-армянским населением должны перейти к Грузии. Вождь — некогда — русской революционной демократии приводил такие мотивы: «армяне после Сатумского соглашения (проведенного грузинами) не могут составить сколько-нибудь жизнеспособного государства и нм выгодно усилить Грузию, чтобы было на Кавказе сильное христианское государство, которое при поддержке немцев будет защищать и себя, и армян»[93]…
Через несколько дней грузины заняли своими войсками фактически свободные от турок спорные районы и немедленно приступили в них к набору.
Оставшись в трагическом одиночестве, Армянская республика с отчаянием и надеждой ждала поглощения, раздела или избавления. Откуда придет то или другое — можно было только гадать.
* * *
Азербейджанская республика самоопределилась в границах Елизаветпольской, Бакинской губерний и Закатальского округа. Фактически — только в большой части Елизаветпольской губернии, так как в Закаталах[94] шел спор с грузинами, на юге и юго-востоке велись бон с армянами и русскими, а Баку нс признавало власти Азербейджана.
Шовинистическое по отношению к России и соседям, ярко туркофильское правительство хана Хойского, вышедшее из либерально-буржуазной партии «Муссават», с внешне-социалистической окраской, не торопилось с устроением внутренней жизни края, которая шла по инерции, и обратило исключительное внимание на расширение его пределов. К этому побуждала их и панисламистская идея, овладевшая умами особенно сильно после прибытия в Елизаветполь к середине августа Нури-паши.
Вооруженной силы, однако, не было почти никакой. Мусульманский «корпус», который формировался в период власти Закавказского комиссариата и в котором преобладал русский командный состав, был под давлением немцев в начале августа распущен. Формирование нового корпуса с турецким составом сильно задерживалось, благодаря инертности татар и нежеланию и непривычке их нести регулярную службу. «Национальные вопросы» разрешались практически, главным образом, иррегулярными татарскими отрядами. Они при участии турок устраивали взаимную кровавую резню с армянами в Карабахе; они вторглись в плодородную русскую Мугань[95], где разгромили и сожгли до 50 поселений, жители которых, до 30 тыс., бежали на северный Кавказ. Южная часть Мугани, однако, уцелела. Пройдя в течение нескольких месяцев через большевизм и стряхнув его, население Мугани организовало вооруженную силу около 1000 человек с 2 ор. под командой полковника Ильяшевича, отстояло свой край и в свою очередь предало огню и мечу более 20 татарских селений. Затем прожило мирно в течение года, в качестве «Ленкоранской республики», пока не было поглощено Азербейджаном по требованию… англичан.
Войска Азербейджана вели наступление, пока безуспешное, на Баку. Фронт проходил у станции Кюрдамир — в половине расстояния между Елизаветполем и Баку.
Баку — золотоносный источник лучшей нефти, выбрасываемой на мировой рынок ежегодно в количестве около 500 миллионов пудов; прекрасный порт, в котором сосредоточивался почти весь Каспийский торговый и транспортный флот; центральный узел путей, экономическая и стратегическая база Средней Азии.
Вероятно и сами властители Азербейджанской республики не думали серьезно о суверенном обладании Баку, играя роль лишь ширмы для трех борющихся сил. Германия дополнительными статьями к Брест-Литовскому договору обязалась не допускать турецкие войска в Бакинский нефтеносный район и всячески препятствовала турко-татарскому наступлению… до полного сосредоточения своих войск. Турция входила по этому поводу с резкими нотами, намекая даже на возможность разрыва, а тайно вливала в состав азербейджанских отрядов своих офицеров и аскеров. В самом Баку шло состязание турецкого фанатизма, большевицкой пропаганды, английских фунтов и немецких марок…
На «Кюрда мирском фронте» боевые действия между тем замерли.
В Баку, как и везде, издавна существовала глубокая вражда между татарским и армянским населением. После большевицкого переворота и кровавых столкновений Азербейджана с Арменией она усилилась еще более, приняв внешние формы борьбы между советской властью, на сторону которой стали дашнакцаны и русский пролетариат, и турко-татарами, к которым из чувства самосохранения примкнула часть русской интеллигенции. Еще в конце 17 года Москвою был назначен с.-д. Шаумян «верховным комиссаром Закавказья», но до весны проявить своего существования он не имел возможности.
25 марта при помощи армянского полка, возвращавшегося из Персии через Баку, армяно-большевики захватили власть в городе. Переворот сопровождался неслыханными зверствами. В городе вырезан был целый мусульманский квартал; число жертв не было зарегистрировано, но по официальным сведениям азербейджанского правительства, вероятно несколько преувеличенным, армяне вырезали в Баку и Шемахе 10 тыс. татар. У власти стал совет, преимущественно из дашнакцанов, во главе с Шаумяном. Небольшие части армян и русских фронтовиков прикрыли город со стороны Елизаветполя.
Между тем, во второй половине июня в Баку прибыл партизанский отряд полковника Лазаря Бичерахова силою в 1½–2 тысячи человек. Отряд этот состоял на службе англичан, был хорошо вооружен и отлично оплачивался ими[96]. Бакинскому совету Бичерахов заявил, что он — вне политики, ни к какой партии не принадлежит, признает советскую власть и будет поддерживать порядок. Части его выступили на Кюрдамирское направление.
Но в последних числах июня Бичерахов снялся с фронта и отошел в северном направлении. В Баку, под влиянием военных неудач, произошел внутренний переворот, при участии Бичерахова, причем большевицкий совет был сменен полубольшевицким «центрофлотом». Через несколько дней в Баку прибыл и английский генерал Данстервиль с небольшим отрядом и военными инструкторами.
Правление центрофлота продолжалось немногим более месяца: 2-го сентября I-й турецкий корпус с Мурсал-пашой во главе опрокинул слабые части бакинцев и, вопреки требованию немцев, занял Баку. В городе повторились трагические сцены конца марта, но в обратном отражении: в течение трех дней татары производили страшную резню армян, причем правительство Армении определяло число погибших соотечественников в 25–30 тысяч человек.
Данстервиль поспешно, раньше других, уехал в Энзели. Бичерахов со своими партизанами и с армянскими отрядами двинулся на север, захватив свыше 100 миллионов рублей Бакинской казны; при помощи канонерок овладел Дербентом и Петровском; основал в последнем эфемерное «Кавказско-Каспийское» правительство, преимущественно из с.-р., и объявил себя «главнокомандующим войсками и флотом на Кавказе»[97]. Отряд его, сильно растаявший, с тех пор держал фронт на юг — против турко-татар и на север — против большевиков. Отношения у Бичерахова с англичанами совершенно испортились, в дальнейшем снабжении его они отказали, и Бичерахов вновь заявил, что борется только против турок, в гражданской войне участия не принимает и «готов блокироваться с большевиками»[98]…
Между тем Азербейджанское правительство вступило в Баку, и хан Хойский от «имени нации» выражал торжественно благодарность турецкому командованию. «Событие это — говорил правительственный официоз[99] — открывает самые широкие перспективы… для него мусульманского мира. В этой борьбе на весы было брошено самое дорогое — честь и слава тюркского племени».
«Народ ликовал».
Через два месяца быстро меняющаяся кинематографическая лента Закавказья покажет нам другую картину: «ликующий народ» будет встречать английскую флотилию и войска генерала Томсона…
* * *
В то время, как закавказские народы в огне и крови разрешали вопросы своего бытия, в стороне от борьбы, но жестоко страдая от ее последствии, стояло полумиллионное русское население края, а также те, кто, не принадлежа к русской национальности, признавая себя все же российскими подданными.
Попав в положение «иностранцев», лишенные участия в государственной жизни[100], преследуемые подчас подозрительностью молодых, не воспринявших еще ни традиций, ни достоинства — правительств, под угрозой суровых законов о выселении, лишении имущественных прав, о «подданстве» и наборе, допускавшем возможность братоубийства, русские люди теряли окончательно почву под ногами и запутывались в противоречиях, выдвигаемых бурно кипящей жизнью Закавказья.
Я не говорю уже о моральном самочувствии людей, которым закавказская пресса и стенограммы национальных советов[101] подносили ежедневно беззастенчивую хулу на Россию и повествование о «рабстве, насилиях… притеснениях… о море крови, пролитом свергнутой властью»… Их крови, которая ведь перестала напрасно литься только со времени водворения на Кавказе «русского владычества».
Отношение к русским проявлялось не везде в одинаковой форме. В районах турецкой оккупации (Батум, Карс, Ардаган) русского населения осталось мало: из страха перед турецким нашествием крестьяне бросали своп насиженные места и хозяйства, рабочие и городское мещанство — свои пожитки и заработок, и вся эта волна беженства текла на север. Брошенное добро их частью расхищалось мусульманским населением, частью реквизировалось турками. Остались на местах главным образом буржуазия и служилый элемент. К ним турецкие власти отнеслись внешне — предупредительно, по существу — безучастно, но терпимо.
Немцы проявили к русскому населению подозрительное и сдержанное отношение, не оказывая прямого вмешательства в судьбы его и лишь воздействуя в смысле укрепления центробежных стремлений на местные правительства. Это воздействие проявлялось скрытно, осторожно, не возбуждая резко русской общественности. Характерно, что в массе горьких жалоб и обличений, стекавшихся осенью 1918 года к командованию Добровольческой армии, меньше всего было относившихся к германской оккупационной власти…
В Армении к русским относились более доброжелательно, чем в других новообразованиях. Бедный своей интеллигенцией и техническими силами край пользовался охотно русскими работниками и в частности привлекал русское офицерство в ряды своих войск. Правительство, выдерживая официально тон сепаратной фразеологии, вместе с тем устами одного из своих министров конфиденциально передавало: «политика Армении благоприятна России, включительно до положительного разрешения вопроса о воссоединении с Россией; если бы в силу внешних обстоятельств правительство Армении м оказалось вынужденным делать официальные заявления другого характера, министр предлагает рассматривать эти заявления как вынужденные[102]». Жалобы на притеснения армян стали поступать лишь позднее, когда вернувшиеся в районы бывшей турецкой оккупации с севера русские беженцы нашли свои пожитки и земли в армянских руках.
В Азербейджане, не взирая на яркое туркофильство правительства, русский элемент не подвергался гонению. Правительство края так же, как и Армения, бедного культурными силами, не оказывая никакой помощи впадшим в крайнюю нужду русским людям, занесенным обстоятельствами в пределы края, не лишало, однако, должностей и работы тех, кто желал найти здесь применение своим силам. Только вдали от центра, особенно в Шушинском уезде и на Мугани, пронеслась кровавая волна, поднятая мусульманским фанатизмом и, главным образом, наступившим безвластием. Оттуда раздавались стоны и вопли о помощи, оттуда бежали толпы несчастных русских людей на север. Правительство хана Хойского, казалось, не проявляло интереса к этим событиям, а, может быть, Бессильно было устрашить их.
Совершенно иначе обстояло дело в Грузии.
Правительство бывших российских социал-демократов, внесших во внешнюю политику и тактику российского совета солдатских и рабочих депутатов столь яркие идеи интернационализма, теперь задалось целью вытравить всякие признаки русской гражданственности и культуры в крае — прочно, «навсегда» — прежде всего путем устранения из Грузин русского элемента. Целый ряд законодательных актов и административных распоряжений прямо или косвенно, преследовал эту идею: принудительное подданство, правовые ограничения, аресты, выселения, набор, наконец, «национализация» — языка, школы, учреждений. Десятки тысяч русских служилых людей и просто трудовой демократии, работавших в государственных и общественных учреждениях, на железной дороге, почте, телеграфе и т. д., были заменены грузинами и буквально выброшены на улицу. Стекавшиеся со всего Закавказья в Тифлис, как военно-административный центр края и фронта, служилые люди попадали в отчаянное, безвыходное положение, в особенности семейные.
Грузинское правительство, захватив в свое распоряжение почти все миллиардное имущество Кавказского фронта, большие кредиты и денежную наличность центральных краевых учреждений, расформировываемых войск и военных управлений, не сочло себя обязанным произвести справедливую безболезненную ликвидацию русского наследия. Вопрос, о котором подумал — пусть даже в целях агитации — Совет комиссаров, препроводивший в 1918 году в Тифлис 30 миллионов рублей «на ликвидацию личного состава государственно-служащих».
Ликвидация денежной и материальной части шла беспорядочно, часто хищнически. В отношении личного состава служащих правительство ограничилось лишь назначением ничтожного ликвидационного пособия от 250 до 1000 рублей, выдача которого однако всемерно задерживалась и в конце концов свелась, словно в насмешку, к замене денег кредиторскими свидетельствами на получение известной суммы из «кредита Российского государства»… Советского?
Новый поток обездоленных, голодных, нищих людей двинулся к портам Черного моря и по военно-грузинской дороге, унося с собою горячую ненависть к Грузии и грузинам. В сознании этих людей оскорбление и унижение русской государственной идеи несомненно сливалось и переплеталось с личным горем и обидами. Их возмущение было искренне, их психология несложна и понятна; она передавалась всецело русскому обществу по ту сторону кавказского хребта.
Имело ли отношение, проявленное грузинским правительством к России, основание б народных настроениях?
Я не буду останавливаться на обильном материале, поступавшем по этому вопросу к Добровольческому командованию из русских источников, быть может, несколько пристрастных; приведу мнение туземца, не связанного с правительством, но не оторвавшегося от народа:
«Вопрос этот слишком касается всех русских и потому изложить его беспристрастно очень трудно… В создании ненависти грузин к русским играло роль желание народа зажить спокойно и устраниться от русской анархии… Быть может, и то, что некоторые круги грузинского общества с целью разогревали страсти населения против русских, указывая, что Россия — поработительница, Россия угнетательница грузинской культуры и самобытности»… Что психология «юноши, только что вышедшего из детского возраста», свойственна и народу, «который, начиная жить самостоятельно, ревниво оберегает собственное достоинство и боится, чтобы кто либо, как-либо не обидел его страну»… Докладчик уверял, что «массового преследования русских не было» и что «тот узкий шовинизм, который был у большинства грузинского народа вначале, постепенно начал слабеть, и население (стало) лучше относиться к русским, жалея, что связь с Россией как бы временно порвалась»…
Интересы русского населения в Закавказье защищали возникшие повсеместно национальные организации[103]. Избрание их было далеко не правомерно. Взаимная связь относительная — по крайней мере центральный орган («Русский национальный совет» в Тифлисе) не пользовался никаким авторитетом среди прочих. Силы распылялись: в Тифлисе, например, одновременно существовали враждебные друг другу «Русский национальный совет», «Славяно-русское общество на Кавказе», «Закавказская Русь»; «Славяно-русское общество» соперничало в Баку с местным «национальным советом». Политическая окраска организаций была весьма разнообразна — от социалистической («Русский национальный совет» в Тифлисе[104]) до крайней правой («Закавказская Русь»). Также различно было отношение их к основному вопросу русской государственности: Тифлисский совет, например, содействовал широко эвакуации русского элемента из Закавказья, в то время как другие организации удерживали его всемерно на местах, считая государственно вредным такой полный разрыв, хотя бы и временный, с Закавказьем. Тифлисский совет стоял на почве соглашательства с большевиками, имел сношения с советской властью через Владикавказ и даже до сентября признавался Грузией как «представитель Российского советского правительства»; «Славяно-русское общество» относилось примирительно к временной самостоятельности новообразований и послало впоследствии своих членов в состав Азербейджанского министерства; другие организации считали такое направление изменой русским интересам.
Словом, в русской общественности по обыкновению произошел раскол, разделивший силы и средства и ослабивший политическое и моральное влияние ее. Тем не менее, было бы несправедливым отрицать большую и полезную работу этих организаций, направленную к охране личных и имущественных прав «российских подданных», устроению их быта, удовлетворению культурно-просветительных потребностей, наконец, к общественной благотворительности. Среди тяжелой, подчас унизительной обстановки, обладая скудными материальными средствами, они поддерживали и русских людей, и русскую идею.
* * *
Весьма сложный сам по себе вопрос бытия народов закавказской мозаики получил уродливое направление благодаря воздействию трех крупных факторов — русского большевизма, турецкого панисламизма и германского империализма. Воздействию временному и преходящему. Было бы поэтому слишком рискованным на основании событий и фактов этого периода, равно как и последующего[105], делать окончательное заключение об истинном отношении племен Закавказья к русской государственности и русской культуре.
Эти неизмеримые ценности поставлены были судьбою перед страшно тяжелым испытанием. Оно приняло масштаб всероссийский, косвенно — всемирный, в котором судьбы Закавказья — только деталь. Больное время родит больных людей и больные идеи. До сих пор длится еще состояние распада, в котором не могли наметиться будущие формы государственной связи закавказской окраины с Россией.
Верую, что связь эта выдержит испытание и не порвется.
Глава VIII. Дон: внутреннее строительство и вооруженная борьба с большевиками
«Круг спасения Дона» открылся и Новочеркасске 28 апреля 18 г.[106]
К этому времени только небольшая часть Донской области была освобождена от большевиков[107]. Составленный из представителей станиц и казачьих ополчений, главным образом ближайших к Новочеркасску, Круг не мог претендовать на большую авторитетность. Тем более, что состав его был случайный и совершенно неинтеллигентный. Не разбираясь в тех серьезных вопросах, которые предлагались на его усмотрение, находясь все время под впечатлением страха за участь своих станиц, угрожаемых со всех сторон красногвардейцами, работая под гул орудийных выстрелов, доносившийся до Новочеркасска, Круг думал только об одном — спасении от большевиков. И покорно утверждал положения, вносившиеся председателем Круга есаулом Яновым, командующим войсками полковником Денисовым и генералом Красновым.
Тем не менее, то единодушие, которое проявлено было членами Круга в годину бедствия, имело объективно важное и положительное значение: Круг создал сильную власть, дав ей нравственную опору и до некоторой степени легальный титул.
В заседании своем 3 мая «Круг спасения Дона» признал за собою учредительные функции («всю полноту верховной власти») и в тот же день избрал атаманом[108] генерал-лейтенанта Краснова, до тех пор недоверчиво относившегося к казачьему движению и упорно отказывавшегося принять участие в борьбе на Дону.
Круг постановил[109]:
- «Власть управления войском во всем ее объеме принадлежит Войсковому Атаману в пределах всего Всевеликого[110] войска Донского».
- «Впредь до издания и обнародования новых законов Всевеликое войско Донское управляется на твердых основаниях Свода законов Российской империи… Все декреты и иные законы, разновременно издававшиеся как Временным правительством, так и советом народных комиссаров, отменяются».
- «Условия приобретения гражданства Всевеликого войска Донского, равно как и прав казачества, а также утрата их определяются законом»[111].
Установив вместе с тем, что положение это временное, «впредь до созыва Большого войскового круга, каковой должен быть созван… не позже двух месяцев по окончании… сессии Круга спасения Дона», Круг, в семь дней закончив рассмотрение временной донской конституции, 5 мая разъехался.
В управление областью вступил атаман Краснов, единолично и безраздельно осуществлявший власть до середины августа, т. е. до созыва Большого круга. Правил властно, с большой энергией и не разбирая средств, проявляя недюжинные административные способности и твердость воли. Назначенное им правительство («совет управляющих») состояло из лиц случайных, не связанных общей политической программой — по убеждениям правых, по интеллектуальным данным в большей части не возвышавшихся над уровнем губернского чиновничества. Во всяком случае, правительство это заслоняла собою всецело фигура самого атамана.
Местные кадеты и более левые группы в правительство не вошли. Глава донских кадет Н. Парамонов, поддержанный Милюковым, жившим тогда в Ростове, получив соответственное предложение, потребовал в качестве необходимого условия вхождения личного и своих единомышленников в правительство — устранения нескольких наиболее одиозных его членов. На этой почве произошел разрыв, и Парамонов 20 июня в резкой форме заявил окончательно атаману, что ни он, ни его друзья по партии с ним работать не будут.
Донской власти предстояло приступить к государственной работе в условиях необыкновенно тяжелых.
* * *
Главным фактором, определившим направление и развитие донских событий, была немецкая ориентация.
25 апреля войска ген. фон Кнерцера вошли в Ростов; в начале мая после двукратного наступления и серьезного боя с большевиками они овладели Батайском; затем силами в 3 пехотных дивизии и 2 кавал. бригады немцы заняли западную и северную части Донецкого бассейна, в том числе более четверти Донской области, по внешней линии Мариуполь — Бахмут — Миллерово (авангард у Кантемировки) — Белая Калитва. Немецкие гарнизоны стояли в Таганроге, Ростове, Каменской, временно в Лихой, Зверево и др. пунктах.
Первоначальная цель немецкой оккупации в пределах Дона была чисто экономическая: «главнокомандующий Восточным фронтом утверждал, что без донецкого угля станут украинские железные дороги. И ставка волей-неволей согласилась на оккупацию этой части Украйны и на выдвижение к Ростову»[112]… Позднее, однако, помимо новых экономических перспектив, открывшихся в просторах Дона и Кубани, перед немецким командованием встал тревожный вопрос о создаваемом союзниками на Волге «Восточном фронте». Задача фон Кнерцера расширилась поэтому необходимостью создания политически и стратегически выгодных условий для противодействия новому фронту.
Немецкие дивизии, занимая линию более 500верст, надежно прикрывали войско Донское с севера и запада — не своей численностью, конечно, а сохранившимся еще обаянием силы и договорными отношениями с советами. Прикрывали до тех пор, пока это входило в расчеты немецкой политики и допускалось мировым положением Германии.
Сообразно с фактической силой, которою располагали немцы на Дону), и без сомнения большим отпором, встреченным со стороны донского правительства, немецкая оккупация проявлялась здесь в формах значительно более умеренных, нежели на Украйне. Тем не менее германское командование — в частности представитель главной квартиры майор Кофенгаузен оказывал сильное давление на внешние сношения Дона, на избрание атамана (сентябрь) и состав правительства. Немцы выкачивали усиленно донское сырье и хлеб, злоупотребляли реквизициями, наводнили край своей контрразведкой и преследовали неугодную нм печать. На остальных сторонах жизни казачества влияние их не отражалось почти вовсе и, во всяком случае, не препятствовало борьбе Дона с союзниками немцев — большевиками.
Такие отношения вполне удовлетворили атамана, который и ныне еще внушает мысль о высокой доброжелательности немцев к Дону и дни оккупации и о своем личном исключительном влиянии на взаимоотношении Дона с немецким командованием. Взгляд, страдающий большим преувеличением. Быть может, немецкие генералы, осевшие на Дону, проявляли большую дальновидность и солдатскую честность… но и они, и атаман были лишь, незначительными колесиками в механизме бездушной и беспринципной германской политики — Бессильные изменить что-либо и общем ее направлении.
Мы видели и чувствовали это.
Передо мною свидетельство, не преломленное сквозь призму времени, — непосредственные переживания гоп. Богаевского.
Уже самый подход к работе с немцами таил в себе большие трудности морального характера.
«Я завидую Вам, имеющему возможность не входить с ними ни в какие отношения — писал мне Богаевский[113] 10 мая 18 г. — Для вас это невозможно. И вот теперь — с риском проклятия и клички изменника — мы вынуждены иметь с ними дело, чтобы не погубить сразу слабые зачатки порядка на Дону»…
Потом, к осени, по мере установления реальных взаимоотношений, определилась и неприкрашенная сущность их:
«Эфемерные республики (вырастают) как грибы после дождя, на развалинах родины под «высоким покровительством» чужеземцев, дающих подачки одной рукой, а другой готовых каждую минуту всадить нож в спину в виде большевиков… И жестокая судьба заставляет вести политику при таких условиях, когда душа и сердце дрожат от унижения и обиды»[114]…
* * *
Первой заботой новой донской власти было создание армии.
Освобождение Дона являлось в начале результатом войны народной — партизанской, неорганизованной. Восставали против большевиков отдельные станицы, под командой случайных начальников; соединялись иногда в более крупные отряды; выходили поголовно, когда станице угрожала непосредственная опасность, и расходились, когда она отдалялась; некоторые станицы и вовсе не принимали участия в борьбе. К началу мая в распоряжении атамана на маленькой еще освобожденной территории было 14 самостоятельных отрядов общей численность в 17 тысяч бойцов, 21 орудие и 58 пулеметов.
Путем целого ряда мер, энергично проведенных, атаману удалось внести начала организации и некоторого порядка в эти нестройные ополчения. Была объявлена обязательная мобилизация в действующую армию 10 возрастных классов и в так называемую постоянную армию, формировавшуюся в районе Новочеркасска — двух младших возрастов; мелкие отряды сводились в полки и высшие соединения, подчиненные командующему армией — должность, которая совмещалась в лице ген. Денисова с управлением военно-морским отделом (министерством); приняты были радикальные меры по привлечению в армию донских офицеров, из которых многие, «за дни господства большевиков настолько глубоко пережили стадии своего морального унижения, что изверились в искренность казаков и, не веря в успех дела, постарались остаться в стороне»[115]; для подготовки и усовершенствования офицеров восстановлено Новочеркасское военное училище, организована офицерская школа, созданы уставы; в «постоянной армии» кроме обучения введено и воинское воспитание, и т. д., и т. д.
Особенно тяжело стоял вопрос снабжения Донской армии, ввиду разоренности края и разобщенности с соседними районами. По-прежнему главными источниками снабжения служила военная добыча и не оскудевшие личные запасы домовитых зажиточных казаков. В отношении боевых припасов, которых ненасытное чрево войны пожирало в огромном количестве, явился еще другой источник — мена с германцами, овладевшими богатыми русскими военными запасами на Украйне и теперь продававшими их за шерсть, хлеб и скот Дона и Ставропольской губернии. К 1-му августа склады Новочеркасска числили в приходе следующую материальную часть[116]:
| Приход | Орудий | Пулеметов | Ружей в тысячах | Снаряд. в тысячах | Патрон. в тысячах |
| Захвачено казаками к началу мая | 16 | 79 | 14 | 7,6 | 4322 |
| Получено от немецких | 25 | 79 | 11,7 | 119 | 13917 |
В результате к августу, ко времени созыва Большого круга, в действующей армии, разделенной на 6 групп, числилось 39 тыс. бойцов, 93 орудия, 280 пулеметов. В «постоянной армии», не двинутой еще на фронт, 14 тыс. бойцов, составлявших гордость и надежду Дона. Наконец, имелась и небольшая военная флотилия из десяти речных судов.
Какова же была боевая и моральная ценность Донской армии?
Один из москвичей делился впечатлениями, вынесенными им с Донского круга: «ораторы льстили им (депутатам круга), превознося без меры «Всевеликое войско Донское» — казаки падки на шумиху и самопревозношение»… Донской демагог, социалист, ныне большевик П. Агеев, говорил даже о необходимости «духовного оказачения русского народа»…
Эта маленькая казачья слабость, не чуждая, впрочем, до некоторой степени и неказачьей военной среде, зачастую заслоняла истинную сущность событий и приводила людей непосвященных в недоумение при тех разительных колебаниях — от молниеносных успехов до глубокого падения — которые испытывал донской фронт.
Все бывало.
Привязанность к «родным станицам» и восприятие Родины в пределах… станичного юрта, дальше которого не простиралось желание бороться; иногда — более или менее ясное сознание интересов Донской области и казачества; наконец, весьма смутное представление о Родине в широких, всероссийских рамках. Отчасти в силу общего недуга русского народа, отчасти потому, что казачьи верхи опасались внушать чувство «русского патриотизма» не склонной к нему массе.
Была глубокая ненависть к большевикам и братание. Истинное стремление к подвигу и корысть. Высокий подъем и «утомление». Беззаветное мужество и «утечка». Преданность начальникам и дисциплина — не та, конечно, что проводилась новочеркасскими уставами, а значительно модернизованная гражданской войной и революцией, но все же дисциплина — и митингование полками и станицами, грабеж и неповиновение.
Генералы Краснов, Денисов и другие начальники употребляли чрезвычайные усилия, чтобы вовлечь казаков в борьбу и боролись с неустойчивым настроением армии. Иной раз, однако, способами весьма рискованными. К числу их нужно отнести два — чисто морального свойства, имевшие особенно печальные результаты: поддержание казачьего шовинизма и иллюзии. «До России нам дела нет» — эта мысль звучала нередко на фронте и на кругу, не встречая яркого, страстного отпора сверху. Фронт питался все время искусственными иллюзиями — сначала о всемогущей защите императора Вильгельма, потом о смене экзотическими «русскими» армиями[117], наконец, о приходе союзных дивизий. Жить долго в состоянии экзальтированной мечты нельзя. Казаки будут ждать осуществления он сначала спокойно, потом с буйным нетерпением, пока, наконец, не решат:
— Обман!
И тогда бросят фронт.
Все сильные, величественные стороны кровавой борьбы Дона и все слабые, теневые — имели источником своим одно положение: Донской армии по существу не было; был вооруженный народ. Точнее, вооруженный класс, так как казачество составляло лишь около половины населения области.
Эта истина сознавалась и вождями донского казачества, но высказывалась громко только в трагические минуты его существования. Так 1-го февраля 1919 года, когда фронт быстро катился назад, угрожая падением Дона, ген. Краснов взволнованно говорил Большому кругу:
— Ведь у нас нет полков старого времени: у нас вооруженный народ, толпа. Она поддается настроению, идет вперед… И когда повернула назад, то ее трудно остановить… Но у меня нет осуждения казакам — я знаю, что мы дошли до последнего.
Это была правда: донское казачество напрягало большие усилия, разорялось и бескровело и борьбе, которой не видно было конца.
* * *
К лету 18 года стратегическая обстановка Донской армии слагалась весьма благоприятно. Западные рубежи области прикрывали немецкие войска, а с Юга — Добровольческая армия; в самой донской армии царил большой подъем. Наступление в северо-восточном направлении против Южного фронта большевиков[118] шло поэтому с большим успехом.
К началу мая большевицкие силы, занимавшие Донскую область, располагались и четырех крупных группах:
| 1. В центре ж. д. линии Поворино–Царицын | 7 тыс. 18 ор. |
| 2. Вдоль ж. д. Лихая (от Белой Калитвы) Царицын | 18 тыс. 60 ор. |
| 3. Вдоль ж. д. Торговая–Царицын | 15 тыс. 32 ор. |
| 4. Азовская группа против немцев, донцов и Добровольческой армии | 30 тыс. 90 ор. |
| 70 тыс. 200 ор. |
Началось последовательное очищение области от большевиков.
В мае месяце соединенными усилиями отрядов генералов Фицхелаурова (8–10 тыс. при 11–81 ор.[119]) и Мамонтова (8–12 тыс. при 7–32 ор.[120]), общей численность около 17 тыс. и 18 ор., после многодневных боев вторая группа красной гвардии, сдавленная с севера и юга, была разбита и отброшена за реку Лиску. В то же время восставшие казаки северных округов прогнали от себя большевиков, освободив весь район до ж. д. Поворино–Царицын. Таким образом восстановлена была сплошная территория и связь севера с центром.
В июне Добровольческая армия взяла Торговую и Великокняжескую и передала освобожденный район по р. Манычу донцам, продвинувшимся до станции Зимовники. В начале месяца соединенными усилиями отряда полк. Дубовского, речной флотилии и ополчении прибрежных станиц был очищен от большевиков левый берег среднего Дона и восстановлено судоходство и связь между отрядами от Аксая до Чира.
В июле Добровольческая армия, разбив южную группу большевиков и овладев Тихорецкой, вышла в тыл Азовской группе противника, заставив се поспешно бежать к Екатеринодару. Азовское побережье было очищено, весь юг области освобожден и обеспечен, и Новочеркасск избавлен от нервирующей угрозы близости большевиков. А на севере казаки Усть-Медведицкого округа, прельстившись обещаниями своего сородича б. войск. старшины Миронова, состоявшего на службе у большевиков, после бурных митингов частью отошли за Дон, частью передались на его сторону. Генералу Денисову пришлось напрячь чрезвычайные усилия. Сняв с Чирского фронта более прочные войска ген. Фицхелаурова, он перебросил их на север. Пройдя с лишним 100 верст, в пятидневном бою Фицхелауров разбивает Миронова и отбрасывает большевиков за линию Грязе-Царицынской ж. дороги. После этого его отряд и хоперское ополчение, дравшееся севернее, дошли до границ Саратовской губернии. Часть сил Фицхелаурова продвинулась к Царицыну до ст. Качалино, в то время, как ген. Мамонтов после кровопролитных боев, преследуя остатки 1-й и 3-й советских армий, находившиеся под начальством унтер-офицера Тулака (вторая группа), подошел почти вплотную к Царицыну с запада, вызвав в городе неописуемую панику. Тулак, отличавшийся зверским обращением с подчиненными, был убит красноармейцами и похоронен ими с большими почестями.
Таким образом, к началу августа вся Донская область, за исключением пяти восточных станиц, была освобождена от большевиков.
Собравшийся 15 августа Большой круг «прежде всего вспомнил «родных защитников» и выразил надежду на близость того дня, «когда сердца всех детей Дон; вознесутся в горячей благодарной молитве за полное избавление его земли от предателей, и тогда с легким свободным вздохом они скажут вам — спасибо, родные страдальцы»…
А Россия?
О ней говорилось конкретно только в послании… на Кубань, которая «совместно с Доном борется за возрождение нашей великой мученицы — родины». Надо же было сдвинуть кубанцев от «родных хат» хотя бы к северным рубежам Дона…
* * *
Таким же быстрым темпом шла работа атамана и правительства по восстановлению разрушенной большевиками донской жизни.
Со дня опубликования «основных законов» донского новообразования, атаман вполне отчетливо определил свою политическую программу: возвращение к положению, существовавшему до февральской революции. В этом направлении шла работа всех отделов в области устроения края, восстановления учреждений, социальной и экономической политики. Не связанные, однако, единством политических взглядов, министры вносили нередко ноту диссонанса в общую монолитную картину реставрации. Гак, начальник отдела торг. и промышл. Лебедев признавал «право экономической борьбы рабочих с капиталом», поощрял бытие профессиональных союзов и «здоровой рабочей печати», в то время, как нач. отдела внутр. дел Корнеев «душил» и рабочих, и союзы, и всякую печать. Отдел юстиции восстанавливал либеральные законы Временного правительства об «отмене административных гарантий», замене «особых присутствий с участием сословных представителей» судами присяжных и т. д. Отдел народного просвещения «в согласии с постановлением Временного правительства» разрабатывал автономию высшей школы и пошел даже дальше, введя выборное начало для замещения должностей по учебному ведомству.
Молодая «республика» стремилась облечь себя в покровы самостоятельной государственности и по форме, и по содержанию. Так, Лебедев, «с отделением Донской области от России» и «принимая во внимание предстоящую жесточайшую мировую борьбу по завоеванию рынков сбыта», считал необходимым уделить исключительное внимание и средства на создание новых отраслей промышленности, «притом в наиболее совершенном техническом оборудовании»[121]. Карелии (нач. отд. путей сообщения) ставил ближайшей задачей постройку Волго-Донского и соединяющего Северный Донец с Днепром каналов. Это — в крае, взбаламученном до дна, на территории, переходящей из рук в руки, при отсутствии сил и средств и при пустой казне[122].
Первый отчет управления финансами умерил, однако, эти грандиозные масштабы. Он выяснил, что доходы области покрывают лишь 46% расходов, что 57%% расходов должны идти на армию и что единственным постоянным ресурсом казны является печатный станок, выбросивший до 15 июля 101 миллион бумажных знаков.

Как бы то ни было, обывательская жизнь области начинала входить в норму, создавая мало по малу условия внешнего порядка, безопасности и хозяйственного благополучия. А жизнь Ростова и Новочеркасска — типичного тыла трех армий — Донской, немецкой и Добровольческой — била ключом в нездоровой атмосфере чудовищной спекуляции, наживы, политического шантажа и вызывающей роскоши.
Иначе обстоял вопрос с «иногородними» — неказачьим населением области, преимущественно крестьянским. Первое правительство Янова, чувствуя себя еще слабым, обратилось к населению с «призывом», в котором обещан был одновременно с созывом Большого круга и съезд неказачьего элемента области «в целях полного объединения всего населения». Но калединский «паритет» пугал Краснова; в массе иногороднего населения большевизм был далеко еще не изжит и только притаился перед силой; Ростовская и Таганрогская думы стали в отношения, явно отрицательные к казачьей власти. Участие поэтому иногороднего элемента в государственном строительстве атаман признал невозможным. Но этим дело не ограничилось. По всему краю, как отклик перенесенных бедствий, вспыхнуло ярко чувство мести к большевикам, которыми казаки искренне считали всех иногородних — крестьян и рабочих. Оно проявлялось не только в некультурной массе казачества — произволом и дикими самосудами — но и в политике управления внутренних дел, в практике администрации, в работе полиции, знаменитых карательных отрядов Икаева и Судиковского, «наводивших ужас и панику на население»[123], в деятельности «Суда защиты Дона» и полевых судов.
Начальник отдела внутренних дел Корнеев, поддержанный атаманом, пользовавшийся расположением немцев и встречавший острую враждебность со стороны донской общественности и даже самого правительства, в сознании «правоты» своего курса, не оправдывался, когда давал отчет Большому кругу, встретившему его также враждебно. Он говорил:
— Мы — казаки. У нас своя голова на плечах. Не московским воробьям учить донских орлов. Я сам природный казак, во мне говорит алая казачья кровь. Мы с вами рождены из одного теста. Я придерживался и буду придерживаться чисто казачьего курса.
Эта борьба внутренняя изнуряла в свою очередь казачество, создавая в области нездоровую атмосферу озлобления и поддерживая большевицкие настроения.
Наконец, вопрос политической идеологии…
Правительство Дона ее не имело или, по крайней мере, ее официально не высказывало. Термин «демократическая республика» чаще других проскальзывал в речах управляющих. Чувства атамана, впрочем, не были секретом. Баян династии и режима до 17 года[124], он очевидно не изменил своим привязанностям и теперь. Но идея монархизма была тогда крайне не популярной в среде казачества, и атаман говорил о ней туманно, поэтическими образами, в которые можно было вложить какое угодно содержание. А в то же время атаманский официоз «Донской Край», который редактировался И. Родионовым, наряду с казачьим шовинизмом, проводил идеи ультра-монархизма и мрачной реакции, по словам докладчиков Круга производившие на фронте, куда листок посылался в большом числе экземпляров, впечатление, «худшее, нежели всякая большевицкая прокламация».
Словом, на Новочеркасском политическом горизонте было не ясно: не то царь, не то республика. Не то — «царь на Москве, а атаман на Тихом Дону».
Глава IX. Дон: внешняя политика
«Внешние сношения вел сам атаман. Я был простым исполнителем его указаний». Так говорил управляющий отделом иностр. дел ген. Богаевский.
Вряд ли история с точки зрения русской национальной идеи осудить ген. Краснова за то, что он в 1918 году признал Дон «не воюющей» против Германии стороной, воспользовался обеспечением немцами западных рубежей области и приобретал через их посредство военные запасы бывшего русского Юго-западного фронта. В тогдашнем положении Дона другого выхода не было, а силы и военно-политическое положение Германии вынуждали ее удовлетвориться вполне таким односторонним нейтралитетом и экономическими выгодами своеобразного товарообмена — русских патронов на русский хлеб.
Но ген. Краснов пошел гораздо дальше, исходя из двух предпосылок, оказавшихся глубоко ошибочными: предвидения победы немцев в мировой войне и возможности существования самостоятельного «Донского государства» среди бурного русского океана, заливающего со всех сторон красной волной Донскую землю.
На другой же день после своего избрания атаман Краснов обратился с письмом «как равный к равному» — к императору Вильгельму. Текст этого первого письма не был известен командованию Добровольческой армии, но вскоре мы получили копию инструкции, данной атаманом послу своему ген. Черячукину, посланному в начале июня на Украйну, а также второго письма, отправленного 5 июля германскому императору. Сущность последних двух документов, почти тожественных по содержанию и определявших основы всей донской политики, сводилась к следующим положениям:
Вильгельм должен был:
- «Признать право Всевеликого войска Донского на самостоятельное существование, а по мере освобождения… и всей федерации, под именем Доно-Кавказского союза»[125]. На создание его «согласие всех держав имеется(?) и вновь образуемое государство… решило не допускать, чтобы земли его стали ареной кровавых столкновений».
- Включить в границы войска по соображениям «географическим и этнографическим» Таганрогский округ и «по стратегическим» — Лиски, Воронеж, Поворино, Камышин и Царицын.
- «Оказать давление на советские власти Москвы и заставить их своим приказом очистить пределы Всевеликого войска Донского и других держав, имеющих войти в Доно-Кавкзский союз, от разбойничьих отрядов красной гвардии и дать возможность восстановить нормальные, мирные отношения между Москвою и войском Донским.
- Помочь «молодому государству» орудиями, ружьями, боевыми припасами и инженерным имуществом «… устроить в проделах войска Донского заводы для боевого снабжения.
За услуги «Его Императорского Величества» ген. Краснов обязался:
- «Всевеликое войско Донское (будет) соблюдать полный нейтралитет во время мировой борьбы народов и не допускать на свою территорию враждебные германскому народу вооруженные силы, на что дали свое согласие и атаман Астраханского войска, и Кубанское правительство, а по присоединении (?) и остальные части союза».
- Предоставить Германии «право преимущественного вывоза» в обмен на немецкие фабрикаты и «особые льготы на помещение (германских) капиталов» в донские предприятия.
Все письмо было составлено в тоне вернопреданности, глубоко обидном для русского национального самолюбия — в отношении державы, продолжавшей с необыкновенным цинизмом играть судьбами России. А одна его фраза ударила особенно сильно по чувствам офицерства русской армии: «тесный договор сулит взаимные выгоды, и дружба, спаянная кровью на общих полях сражений воинственными народами германцев и казаков, станет могучей силой для борьбы со всеми нашими врагами»…
Прежде всего нас удивило обращение атамана от имени «Доно-Кавказского союза», которого фактически никогда не существовало[126].
Идея этого союза пришла одновременно с двух сторон — из верхов казачества и от немецких властей Киева.
В заключенном еще между 9 и 24 мая «соглашении» между Доном и Кубанью ближайшей задачей обеих сторон признана была борьба с большевиками, имевшая целью «восстановление на территориях Дона и Кубани твердого государственного порядка» и дальнейшей — «обеспечение на будущие времена политической и экономической свободы и независимости народов, населяющих Донскую и Кубанскую области». «Дабы ныне разрозненные части России могли явить более могущественную политическую силу», признано было также необходимым «создание на юге России прочного государственного образования на федеративных началах». Этот договор заключал еще одно удивительное положение, нарушавшее все принципы военного дела, возвращавшее нас к австрийскому «гофкригсрату» и косвенно ставившее Добровольческую армию в невозможное положение. «Правительства (Дона и Кубани) учреждают совместные советы, которым предоставляется право разработки плана борьбы с большевиками и анархией на территории Дона, Кубани и смежных с ними областей и губерний, а также общее руководство военными операциями в смысле определения общих и даже частных заданий для отдельных армий»…
Это был единственный договор Кубани с Доном. Заявления ген. Краснова императору Вильгельму о «согласии всех держав» на бытие «Доно-Кавказского Союза» и о решении «не допускать на свою территорию враждебные германскому народу вооруженные силы, на что дало свое согласие Кубанское правительство», оказались неправдой. После опубликования знаменитого письма к Вильгельму, Кубанское правительство сочло себя вынужденным издать официальное сообщение (2 сентября), которое по первому вопросу устанавливало, что «никаких других договоров (кроме заключенного 9–24 мая) ни письменных, ни словесных заключено не было» и что поэтому «Доно-Кавказский Союз» не может считаться существующим». По второму вопросу — что — «никаких обязательств на себя Кубанское правительство не принимало и никого не уполномочивало от его имени делать какие-нибудь заявления»…
11 июня в Новочеркасск прибыли из Киева с особой миссией герцог Н. Лейхтенбергский — одно время выставлявшийся немцами в качестве кандидата на русский престол; известный по «корниловскому делу» Иван Добрынский, состоявший в особых отношениях с немецкой контрразведкой[127]; некто полковник князь Тундутов — человек крайне ограниченного развития, объявивший себя атаманом Астраханского войска на том основании, что состоял раньше помощником Астраханского атамана.
Тундутов добился какими-то путями приема у императора Вильгельма и, вернувшись в Берлина, (тал распространять слухи о споем большом влиянии, которым он пользуется у немцев. Поделился и беседой своей с императором, который между прочим сказал ему следующее:
— Славянский вопрос нам надоел. Поэтому знайте, что никакой «Единой России» не будет, а будет четыре царства: Украйна, Юго-Восточный союз, Великороссия и Сибирь. Мы отлично знаем, что у нас и Киеве думают, что вы присоедините к Киеву все остальное и, таким образом, объединение Россию. Пожалуйста, передайте там, что мы это знаем, что мы этого не желаем и не допустим.
Эта тирада получила широкое распространение, попала и в печать, но немецкое командование, вообще очень ревниво относившееся ко всем сведениям, касавшимся Германии, не опровергло ни факта приема Тундутова императором, ни заявлении последнего. Это произвело на Юге большое впечатление[128].
Позднее, в августе существование немецкого плана «реконструкции» Российской державы подтвердилось и официально: Лизогуб[129], побывав в Берлине, получил уверения от министра иностр. дел Гинце, что Германия «благожелательно рассматривает перспективы федерации государств, расположенных на Востоке» и что «Украйна, составляя часть русской федерации, будет гарантирована в смысле ненарушимости верховных прав и свободы государства»[130]…
Тундутов и Добрынский предъявили донскому атаману ноту германского командования в Киеве 1) об образовании Юго-Восточного союза, 2) об удалении Добровольческой армии с территории Дона, разоружении ее или удалении германофобского командного состава, 3) о поддержке немцев на «Восточном фронте» против союзников. За выполнение этих требований немцы обещали военно-политическую и экономическую поддержку.
Посетивший в тот же день Краснова ген. Алексеев писал мне, что атаман весьма расстроен этим ультиматумом и заявил, что «на началах, изложенных в ноте, он не может допустить образование Юго-Восточного союза со вхождением в него Донской области».
В отношении Добровольческой армии вопрос остался открытым. Обострение его, по-видимому, для всех заинтересованных лиц представлялось слишком опасным. Другие условия ноты оказались не столь неприемлемыми. По крайней мере Краснов писал тогда же генералу Эйхгорну:
«В настоящее время я занят подготовкой общественного мнения к активной борьбе с чехо-словаками, если бы последние вздумали перейти границы земли войска Донского… Если бы Вы помогли Донскому войску окрепнуть в полной мере, дав при этом определенное заверение, что по достижении сего германские войска будут выведены из пределов Донской области, тогда Вы могли бы быть уверены, что Донское войско, и за ним и весь Доно-Кавказский союз Вам преданы, Вам благодарны, и Вам никогда не изменят. Вы могли бы быть спокойны за Ваш тыл на Украйне (?) и за Ваш правый фланг в том случае, если бы державы Согласия восстановили «Восточный фронт». Мы угрожали бы их левому флангу»[131].
Достойно внимания, что в то же время ген. Краснов всемерно старался повернуть Добровольческую армию на север:
«С 15 мая я тщетно зову Добровольческую армию идти вместе с Донскими казаками на север, к Царицыну, Саратову и Воронежу на соединение с чехо-словаками, если только они не миф, но Добровольческая армия или не хочет, или не может идти к сердцу России»[132]…
Обсуждение организации союза между тем продолжалось — и у атамана с немецкими офицерами, и в заседаниях представителей Дона, Астрахани (?) и Кубани, под председательством ген. Краснова. Был составлен и проект «правительственной декларации Доно-Кавказского союза», в состав которого теоретически включали не только Черноморскую, Ставропольскую губ. и Терек, но и горцев северного Кавказа, Сухумский и Закатальский округа, с которыми не было никакой связи и о судьбе которых на Дону ничего не было известно.
21 июня в сел. Песчанокопском, при подходе Добровольческой армии к пределам Кубани, на панихиду по убитом ген. Маркове собрались следовавшие при армии кубанский атаман и правительство. Атаман сообщил мне, что его и председателя правительства ген. Краснов дважды телеграфно вызывал для подписания договора о Доно-Кавказском союзе. Я ответил:
— Против Доно-Кубанского единения и Доно-Кавказского союза в принципе ничего не имею. Но освобождать Кубань, чтобы она стала в вассальную зависимость от Германии, я не согласен. Если угодно, — поезжайте. Но тогда завтра же я сверну Добровольческую армию с екатеринодарского направления на Царицын.
С тех пор заседания ген. Краснова с двумя «правительствами» без «народов» хотя и продолжались, но не привели ни к каким результатам. По свидетельству кубанского представителя в Новочеркасске П. Макаренко, кубанцы под всякими предлогами уклонялись от окончательного решения вопроса и «вели двойную игру» — в Новочеркасске (П. Макаренко) и в Киеве (Рябовол) о федерации с Украйной и Доно-Кавказским союзом, используя в своих интересах и Украйну, и Дон.
Отношения Дона с Украйной сильно портил вопрос о Таганроге. В округе имелась всего лишь одна донская станица, но он давал угля вчетверо больше, чем вся Донская область (81 %). Поэтому — как докладывал впоследствии Кругу генерал Богаевский — «Дон в этом уступить не мог… Представителям германского командования было твердо заявлено, что дело может дойти до войны (с Украйной)»[133]. Украйна в свою очередь была заинтересована Таганрогом и Ростовом еще и как «мостом» на Кубань, где в кругах черноморских политиканов сильны были украинские течения. Под давлением немцев спор был разрешен в пользу Дона, и после этого между ним и Украйной завязались тесные политические и экономические отношения. Характерно, что и в этих «международных» договорах Дон обязывался не заключать союзов, могущих вредить Украйне и центральным державам, и не оказывать помощи чехо-словакам.
Совершенно безнадежно обстоял вопрос о «примирении» Дона с большевиками. Немцы, к которым обращался атаман по этому вопросу, помочь Дону в этом отношении не могли и, как увидим ниже, не хотели. Два письма, посланные ген. Красновым к одному из большевицких «главковерхов», Иозефовичу, по поводу прекращения «братоубийственной» борьбы, заключения торгового договора и т. д., не попали по назначению[134]. В Киеве «пан гетман обещал оказать всякое содействие к признанию (большевиками) самостоятельности войска Донского»[135], но на украино-большевицкой конференции товарищ Раковский заявил категорически, что советское правительство рассматривает Дон, как «восставшую область, входящую в состав советской республики, и считает ведение прямых переговоров с Доном оскорблением республики».
Наконец, союзники Дона, немцы, также не склонны были в споре между советами и Доном становиться на сторону последнего. Мин. ин. дел Гинце в сентябре заявил в рейхстаге: «мы деловым образом разрешили вопросы (Донецкий уголь)… Но из этого не следует, что мы признали войско Донское, как самостоятельную единицу»…
Эти бесплодные переговоры в русском обществе и в Добровольческой армии были поняты, однако, как уклонение от борьбы за Россию ценою спасения Дона.
* * *
Внутренняя и внешняя политика атамана создали ему сильную оппозицию в самых разнообразных кругах организованной общественности и личных врагов среди неудовлетворенных идейно или обойденных персонально верхов казачества. В рядах оппозиции нашли место социалистические думы Ростова, Нахичевани, Таганрога, профессиональные союзы, рабочая печать, к.-д. партия и вся многочисленная русская интеллигенция, не разделявшая германофильской политики ген. Краснова или оскорбленная ее внешними проявлениями. На заднем плане донской оппозиции стояла вся масса иногородних — рабочих и крестьян, из которых первые только бурлили, вторые поднимали местные восстания, подавляемые казаками.
В среде казачества у атамана были восторженные поклонники и ярые враги. Маятник колеблющегося отношения к нему раскачивался то в одну, то в другую сторону, главным образом, в зависимости от большого или меньшего успеха борьбы на фронте.
Показателем общественных настроений того времени могут служить отклики с разных сторон по поводу того злополучного письма императору Вильгельму, которое определило основные вехи донской политики.
На совещании 26 июня донского атамана с представителями германского командования майор Кофенгаузен заявил, что «после того, что он слышал из уст атамана, германское правительство будет всячески поддерживать атамана, содействовать укреплению его власти в области… как путем морального воздействия на население, так и в смысле поддержки таковой реальной силой — оружием и войсками, во всем идя навстречу личным пожеланиям атамана[136]».
Кадеты на Дону в вопросе о «неизбежности государственной самостоятельности областей и участия немцев» первоначально стали на точку зрения Милюкова… «Я лично употребил все усилия — писал он 25 мая в главный комитет партии — чтобы побудить наших партийных товарищей в Ростове и в Новочеркасске стать на эту точку зрения. Соответственная декларация была сделана партией народной свободы в заседании Ростовской городской думы»… Под влиянием дальнейших событий взгляд кадет круто изменился, найдя некоторое отражение в переписке, веденной в июле между их «политическим другом справа» Родзянко и Красновым. «Родзянко ставил атаману в вину признание им себя и областей «Доно-Кавказского союза» «вассалами германского императора», в «дележе исконных русских областей», в «способствовании дроблению отечества на части», в «предательстве Добровольческой армии», которая «никогда дружественной к немцам не будет и кровь которой проливается для упрочения какого-то нелепого самостоятельного союзного государства»[137].
Ген. Алексеев отнесся к донской политике также с суровым осуждением. По поводу инструкции Черячукину он писал мне 26 июня (№ 59): «в лице ген. Краснова немецкие притязания нашли отзывчивого исполнителя… Побуждения этой инструкции слишком ясны… из рук немцев получить право называть себя «самостоятельным государством» и воспользоваться случаем округлить границы будущего «государства» за счет Великороссии… За эту измену Родине — позволяю себе так назвать эту инструкцию — немцы должны снабжать войско боевыми припасами, принадлежащими всей России»… Ген. Алексеев высказывал опасение, что «в скором будущем Донское и Кубанское войска могут рассматривать Добровольческую армию в виде «вражеской силы», и наше положение может сделаться в стратегическом отношении невыносимым».
Наконец, кн. Г. Трубецкой, делегат «Правого Центра», стоявшего за связь с Германией и проводившего начала «реальной» политики в отношении к немцам, в своем послании в Центр 28 августа писал: «при (создавшихся) условиях политика Краснова в общем своем направлении не нуждается в оправдании… В сущности — чего стоят все эти обязательства? Как только обстоятельства изменятся и появится иная сила, так полетят и обязательства… Но форма, им усвоенная, невозможна. Он перестарался… Самый факт письма его к императору Вильгельму хуже его содержания»[138]…
По существу, вопрос донской политики расчленялся на явления двоякого порядка:
Все эти уверения в преданности германскому императору; все символы суверенной государственности в виде «послов», гимна, флага, герба; все торжественные декларативные заявления от имени «государства», «народов», «демократической республики» о независимости от России не только в годы смуты, но и «на будущие времена»[139] — казались только бутафорией, которая могла раздражать или волновать национально мыслящие элементы Юга. Но за нею скрывались реальные возможности действительно серьезного характера. Тесное сотрудничество с немцами укрепляло положение последних, содействовало политике расчленения России и в случае продолжения войны разделяло противобольшевицкие силы на два враждебных друг другу лагеря. «Независимость» имела естественным следствием переговоры о «мире с Москвой» и возбуждала в казачестве иллюзии о возможности локализации борьбы с большевиками в пределах одного Дона — иллюзии, которые шли снизу, но находили отклик и нравственное обоснование в атаманских приказах, подрывавших импульс к борьбе за Россию и потворствовавших казачьему шовинизму. Так, в приказе от 30 сентября было сказано: «защита границ Всевеликого войска Донского от натиска красногвардейских банд и освобождение Российского государства от кошмарного кровавого большевизма вынуждают меня вынести борьбу за пределы земли войска Донского… Принимая во внимание труды и кровавые жертвы, которые понесло Донское казачество… и обязанность его заняться строительством своей разоренной родины, я не считаю возможным привлекать к этой работе казаков». Задача эта возлагалась на формируемую из «русских» людей «Южную армию».
Я не касаюсь внутренних побуждений, руководивших ген. Красновым в его кипучей работе по управлению краем. Но во всем, что он писал и говорил, была одна чисто индивидуальная особенность характера и стиля, которая тогда, в дни кровавой борьбы, приводила многих к полной невозможности отнестись с доверием к его деятельности…
Немцам он говорил о своей и «Союза» преданности нм и о совместной борьбе против держав Согласия и чехо-словаков[140].
Союзникам — что «Дон никогда не отпадал от них и что германофильство (Дона) — вынужденное для спасения себя и Добровольческой армии, которая ничего не смогла бы получить, если бы не самопожертвование Дона в смысле внешнего германофильства»[141].
Добровольцев звал идти вместе с Донскими казаками на север, на соединение с чехо-словаками[142].
Донским казакам говорил, что за пределы войска они не пойдут[143].
Наконец, большевикам писал о мире[144]…
Такая политика была или слишком хитрой, или слишком беспринципной; во всяком случае для современников событий — не вполне понятной. Нам не пришлось увидеть и конечных достижений ее, ибо в октябре книга бытия внезапно оборвала свое повествование и перешла к новой главе, изменившей карту мира, перевернувшей все внешние декорации южнорусской борьбы, но не принесшей все же России желанного освобождения.
Глава X. Противобольшиевицкие организации внутри России: «Правый Центр», «Национальный Центр», «Союз Возрождения России», «Союз защиты Родины и Свободы» (Савинков)
Со времени октябрьского переворота «русский вопрос» более, чем когда-либо в истории, потерял свое самодовлеющее значение в мировой политике, став производной в борьбе центральных держав с державами Согласия. Способом, средством, источником материальных и военных ресурсов. И только. Везде в доступных нам документах прямо или косвенно доминирует взгляд на Россию — исключительно как на фактор международной борьбы.
Германия стремилась к незамерзающему порту на Ледовитом океане, к невывезенным запасам Мурмана, Архангельска, Владивостока, к эксплуатации Запада и Юга России, к возвращению из Сибири и использованию 300–400 тысяч австро-германских пленных… Державы Согласия противодействовали ей путем оккупации Владивостока и сибирской линии, поддержанием чехословацкого движения, созданием Северного фронта и подготовкой Восточного.
Кроме известного уже нам воззвания союзных дипломатов в Вологде, и другие заявления их носили тот же двойственный характер, в котором доминировали цели международной борьбы. Так, на Дальнем Востоке, осенью 18 года, английская декларация, упоминая об «экономической помощи вашей разоренной и страждущей родине», объясняла цель предполагавшейся и не осуществленной интервенции желанием «помочь вам спастись от раздела и гибели, грозящих от рук Германии, которая старается поработить ваш народ и использовать неисчислимые богатства вашей страны». Французская декларация говорила также о помощи «здоровым элементам русского народа», но «непосредственной причиной выступления называла «необходимость оказать помощь нашим союзникам, чехо-словакам». Резким диссонансом в союзническом аккорде прозвучало тогда только заявление Америки: ..«вмешательство в дела России для нанесения удара Германии может скорее всего явиться способом использования России, нежели оказанием ей помощи». Со свойственной им прямолинейностью американцы заявили: «главная забота Соединенных Штатов состоит в охране военного имущества, проданного Америкой России и находящегося в портах Владивостока, Мурмана и Архангельска».
Германия привлекала в свою орбиту явно Финляндию, Польшу, Украйну, Румынию; тайно — русские противобольшевицкие организации… Державы Согласия соперничали с ней в этом отношении, ни мало не считаясь с интересами России. Был даже такой период с ноября 17 года по 19 февраля 18-го — день заключения Брест-Литовского мира — когда союзники готовы были признать фактически советское правительство, предлагая ему финансовую и техническую помощь — даже офицерским составом — для продолжения войны с немцами[145].
Немцы в этой игре победили. И союзные правительства решительно и тогда только окончательно[146] перестали смотреть на советскую власть, как на возможное «средство» борьбы против центральных держав. Отнюдь не побуждениями альтруизма, а стечением обстоятельств союзники были отброшены в противобольшевицкий стан, тогда как Германия, не взирая на внешние противоречия ее политики, до конца вооруженной борьбы поддерживала большевизм, как благоприятный для себя фактор в политике и стратегии.
Ряд откровений германских и австрийских государственных деятелей в полной мере подтверждает это положение. Между ними идет спор о характере и степени виновности отдельных лиц, о большем или меньшем них даре предвидения, об истинных мотивах тех или иных дипломатических шагов. Но синтез всех этих откровений ясен и Бесспорен:
- В германском народе, правительстве, рейхстаге, прессе, командовании — существовало два взгляда на роль России: одни в распаде великой страны видели неограниченные положительные возможности для германской нации, другие, наоборот, «усиление англо-саксонского мирового владычества» и угрозу бытию Германии.
- С начала войны, в особенности же в 17 году исторические перспективы значительно стушевались под влиянием интересов момента, и германская мысль единодушно работала в пользу всемерного ослабления России, как влиятельного фактора борьбы, результатом чего явилась финансовая поддержка большевизма и Брест-Литовский мир.
- В дальнейший период, когда психология «победителей» все больше и больше стала омрачаться тревожными предчувствиями, общественные и политические круги Германии вновь вернулись к историческому трактованию вопроса. Между правительством, говорившим об умеренности, и главной квартирой, настаивавшей по военным соображениям на политическом и экономическом разгроме России, возникли серьезные разногласия уже при заключении Брестского договора и особенно обострились при выработке «дополнительных (к нему) условий».
- С весны 18 года, когда уже и на верхах германского командования повеяло дыханием катастрофы, когда обнаружилась ясно смертельная опасность большевизма и для Германии, роли переменились: германское командование на Востоке, поддержанное Мирбахом и затем Гельферихом, начало говорить о необходимости «более определенного отношения к советскому правительству», вплоть до его свержения. Хотя такой переворот в 1918 году представлялся немецким военным и государственным деятелям — и был в действительности — необыкновенно легким, он не нашел сочувствия в правительстве и поддержки в ставке. По словам ген. Людендорфа, разделявшего будто бы всецело этот взгляд, «правительство уверило его в том, что русская политика его отвечает настроению Германии»… и он «к несчастью принужден был этому поверить».
Брест-Литовский мир со всеми вытекавшими из него временными последствиями дали немцам большевики. Ни одна политическая группа, никакая иная русская власть не могли предоставить Германии более выгодных для данного момента условий.
Исходя из этого близорукого в историческом смысле положения, от начала и до конца, до своего падения, Германия твердо, определенно и без колебании проводила в жизнь политику расчленения и разрушения России, поддерживая советскую власть во всем, что не противоречило ошибочно понимаемым германским интересам.
В то же время ответственные представители немецкой власти в Москве, Пскове, Киеве, Ростове входили в сношения с противобольшевицкими вождями и организациями и давали им неопределенные надежды… Эта двойственность — я не вхожу в обсуждение искренности отдельных немецких деятелей — приносила и приносит немецкому делу серьёзные выгоды в моральном и практическом отношениях. В моральном — умеряя одиум жестокой немецкой политики и создавая теории о «двух Германиях», подобно тому, как впоследствии южнорусская действительность выдвинула легенду о «двух Англиях» — Ллойд-Джорджа и Черчилля… В практическом — создавая иллюзии в определенных кругах русской общественности и расколов противо-большевицкий фронт на две мешавших друг другу, иногда враждебных, «ориентации».
* * *
Вскоре после большевицкого переворота в Москве образовалась конспиративная организация под названием «девятки». В нее вошли по три члена от к. д. партии, Торгово-промышленного союза и Совета общественных деятелей. Впоследствии организация разрослась, получив характер коалиции консервативных и либеральных общественных груши, с явным преобладанием первых, и приняв наименование Московского или Правого Центра[147].
Целью организации было объединение несоциалистических элементов страны для борьбы с большевизмом. Такая широкая постановка вопроса, некоторое «полевение» и чувство одиночества и оторванности, испытанное правой общественностью в первый период революции с одной стороны, «поправение», вызванное разочарованием и озлоблением либеральных кругов в отношении революционной демократии — с другой; наконец, присущий многим из членов центра страх за судьбы Годины — заставлял идти вместе политически разнородные элементы организации. Но глубокие противоречия в политической и социальной идеологии, темь не менее, сказывались постоянно: и в неожиданно откровенных речах некоторых членов на общих заседаниях, и в работе комиссий, где подготовлялись проекты государственного устройства, социальных реформ и экономического возрождения страны. Эти противоречия, сглаживаемые и смягчаемые при общих заседаниях, вполне ясно и откровенно раскрывались на частных собраниях членов центра совместно с группами, им близкими, хотя и стоявшими официально вне организации.
Фактическим вдохновителем Правого Центра был А. В. Кривошеин, хотя он и не посещал общих заседаний, соблюдая крайнюю конспирацию и «по свойству своего характера избегая всего, что могло бы его связать и чем-либо компрометировать». Позднее такую же закулисную и весьма влиятельную роль он играл, переехав в Киев, в местных правых кругах.
Правый Центр имел в своем составе небольшой военный отдел. возглавлявшийся ген. Д. — человек 700–800, по преимуществу офицеров. За полным отсутствием средств эта организация фактически числилась только на бумаге.
В начале 18 года в Москве делались попытки объединения и левого крыла русской общественности. Но все переговоры между центральными органами к. д., н. с. и с. р. относительно общей платформы и объединенных действий не привели ни к чему. Тогда некоторые лица приступили к созданию путем персонального участия внепартийной, с преобладающим однако социалистическим составом организации, которая и начала функционировать в апреле 18 года под именем «Союза Возрождения России»[148].
Союз ставил себе целью «воссоздание русской государственной власти, воссоединение с Россией насильственно отторгнутых областей и защиту ее от внешних врагов», при помощи союзников. Хотя, таким образом, основные цели Союза и Центра совпадали, но соглашения между ними не произошло. Главные причины расхождения социалисты видели в непримиримом отношении центра к идее Учредительного Собрания[149], к народоправству и к выдвигаемому ими преобладающему значению местных самоуправлений. Что касается организации временной власти, то разница во взглядах была лишь в формах и источнике ее происхождения. Если Правый Центр мыслил ее в виде единоличной военной диктатуры, пм подготовленной, то и Союз Возрождения, по существу не отрицая диктатуры (вместо единоличной — трехчленная директория), «в условиях того момента не видел возможности создания власти сколько-нибудь правильным демократическим путем»[150]. Власть должна была явиться «сама собой, путем образования сильной группы лиц, которая и могла бы выделить из себя такую власть»[151].
Некоторая связь между Союзом и Центром, тем не менее, существовала. В состав обеих организаций с их ведома входили к. д. Астров, Степанов и Н. Щепкин, с целью, кроме взаимного осведомления, «насколько возможно согласовать действия той и другой в наиболее ответственные минуты»[152]; кроме того, существовала соединенная коллегия генералов (от Правого Центра ген. Цихович и адм. Немитц; от Союза — ген. Болдырев) для согласования «военных мероприятий» организаций.
Крупная буржуазия и торговопромышленники, участвуя персонально в составе центров, отказывались, однако, нести какие-либо жертвы ради борьбы с большевизмом, предпочитая сберечь свое достояние для… советской экспроприации. Это обстоятельство сильно отразилось на организациях. Без средств, без взаимного доверия и ясности во взаимоотношениях, а главное; без реальной силы, — работа их протекала вначале вяло, не принося каких-либо результатов.
* * *
В начале июня в московских организациях произошел окончательный раскол на почве внешней «ориентации».
Еще в апреле в среде членов Правого Центра наметилось сильное германофильское течение[153], находившее благодарную почву в полной пассивности союзников; начались частые встречи и деятельные сношения членов Центра, сначала по собственной инициативе, потом по поручению президиума, с второстепенными представителями, германского посольства. Официально эти собеседования имели целью «выяснить, каковы действительные намерения Германии в отношении России; является ли Брестский договор окончательной основой, на которой Германия имела ввиду и в дальнейшем построить своп взаимоотношения с Россией, или же этот договор есть только тактический шаг со стороны Германии, путем которого она обеспечивала себе возможность использовать то положение, которое создалось в результате захвата власти большевиками»[154].
В основу официальных переговоров были положены три условия: «1) восстановление единства России, нарушенное в результате отторжения губерний юго-западного края, 2) создание национальной государственной власти, независимой (?) от Германии и 3) коренной пересмотр Брестского договора»[155]. Взамен этого немцам предлагался нейтралитет и «экономические преимущества».
Большинство Центра стояло на той точке зрения, что «немцы, завладевшие значительной частью России и распространяющие свое влияние на новые области, представляют столь реальную и мощную силу, что не считаться с ними вовсе, значило бы не признавать фактов… Этот фактор будет определять в ближайшее время ход событий в России… между тем, как разобщенность с союзниками делала затруднительной или прямо невозможной их помощь России»[156].
Самый факт переговоров с немцами был облечен большою таинственностью, и результаты их не выносились на общие заседания. Германофобское меньшинство узнавало о них лишь случайно. Но, помимо официальной идеологии, большинство Правого Центра обладало еще другой, не выносившейся на общие заседания и в декларации. «Разница была в том — говорит кн. Г. Трубецкой — что для меня каждое из этих (трех) условий[157] было conditio sine qua non, между тем (как) большинство из тех, кто стоял на желательности переговоров с немцами, заранее уже готово было идти на уступки. Это были люди, которые так мрачно смотрели на положение, так разуверились в возможности для нас предпринять что либо без посторонней помощи, что они готовы были всем пожертвовать, лишь бы немцы освободили нас от большевиков». Еще резче определял настроение Центра командированный ген. Алексеевым в Москву А. Ладыженский (правый): «в победе Германии (они) почти не сомневаются. Считают, что лучше сейчас войти в переговоры, чем после завершения событий на Западе. Полная неосведомленность о том, что там происходить. Предположения построены отчасти на шкурных классовых интересах, жажде власти, монархии во что бы то ни стало, отчасти на неверных сведениях, которыми питается сейчас Москва берлинским агентством»[158]…
Вскоре вопрос о «Восточном фронте» заставил все группировки окончательно выяснить свои «ориентации»….
Вскоре вопрос о «Восточном фронте» заставил все группировки окончательно выяснить свои «ориентации».
Двумя телеграммами из Парижа В. Маклаков сообщал в Москву, что союзники решили восстановить Восточный фронт путем высадки союзных войск, преимущественно японских, во Владивостоке и продвижения их к Уралу и Волге. Маклаков горячо убеждал Центр, что это — «единственный способ спасти Россию от власти, созданной Германией, и от окончательного расчленения»… «Японцы нс потребуют территориальных уступок… союзники никаких новых тягот на Россию не наложат»… Наконец, что цель предстоящей интервенции исключительно «защитить Россию от наложившей на нее руку Германии, дать ей свободно сорганизоваться и оказать ей экономическую поддержку». Из других источников стало известным, что на конференции союзников, при уклончивом отношении Америки, постановлено было послать в Сибирь общесоюзную армию в 100 тысяч человек, из которых 60 тысяч японцев.
Почти в то же время, в конце мая, прибыл в Москву ген. Казанович, сделал Центру доклад о судьбе Добровольческой армии и от имени ген. Алексеева и моего заявил в резкой и категорической форме о неприемлемости для армии какой бы то ни было совместной с немцами работы.
2 июня по этим вопросам состоялось заседание Правого Центра. Представители большинства доказывали возможность воссоздания России немецкими руками, гибельность для интересов страны японской интервенции, практическую неосуществимость создания в серьезном масштабе Восточного фронта; наконец, указывали на новые «тяжелые бедствия, которые выпадут на долю России в результате столкновения двух армий на линии Волги»… Меньшинство, учитывая все трудности, считало, что Восточный фронт облегчит объединение и восстановление русских сил, между тем, как «соглашение с Германией грозит России полным порабощением и угнетением национального духа»… И обе стороны не договаривали о своих затаенных надеждах на победу: одни — германцев, другие — союзников.
Нет сомнения, что на решение вопроса повлияла и та общая концепция, которая связывала с Германией — идею реакции или, во всяком случае, монархической реставрации, с Согласием — торжество либерализма или республиканского строя. Наконец, идейное расхождение двух групп центра, по мере усиления его правого крыла, становилось все более резким и отношения все более неискренними.
8 июня группа кадет и примыкавших к ним[159] вышла из состава Правого Центра. Раскол не вызвал вражды, скорее — сожаление. На последнем совместном заседании представители среднего течения «свободных рук», князья Трубецкие (Г. Н. и Е. Н.), особенно ярко переживавшие события, горячо убеждали кадет, что не настало еще время ставить вопрос на окончательное решение, призывали к терпимости…
— Я еще не хочу выходить ни на тот, ни на другой берег — говорил, волнуясь, Е.Н. Трубецкой. — Для России еще не ясно, где ее спасение»[160]…
* * *
Раскол Правого Центра имел существенные последствия, произведя резкую дифференциацию сил, внеся еще большую ясность и определенность в политический облик организаций.
Правый Центр пополнил свой состав представителями союза земельных собственников, церковно-приходских и крайних правых московских организаций[161]. Его лозунгами стали — монархия (для меньшинства — конституционная), реакция (для меньшинства — «социальные реформы») и союз с немцами. Существовала, между прочим, идея обращения к патриарху, который «при помощи созванного на персональных началах Земского Собора» должен был провозгласить царем вел. кн. Михаила Александровича.
Интересно, что в вопросе о союзе с немцами тактика Центра допускала известную двойственность. Так, в послании своем в Киев и на Юг[162] Центр подчеркивал, что «предположенные разговоры с представителями Германии не должны влиять… на отношения Центра к союзникам, с которыми несомненно должно поддерживать связи»… В ответе на телеграмму Маклакова, предназначенном для союзников[163], говорилось о тяжелой необходимости совместной работы с немцами, но тем не менее… «мы остаемся верными нашим союзникам, каковыми мы всегда и были… Ужели можно допустить, что мы виновны в симпатии к немцам»?.. В этом направлении делались и более реальные шаги: делегация Центра[164] обратилась к французскому генеральному консулу в Москве Гренару, убеждая его в том, что Россия бесповоротно вышла из войны; что без согласия немцев немыслима перемена положения, что национальная власть, которая возникнет, не будет германофильской, и что самим союзникам выгодно вывести Россию из состояния хаоса…
«Этого у нас не поймут — ответил консул. — И всякое правительство, которое образуется при содействии Германии, не будет нами признано»…
Группа, отколовшаяся от Правого Центра, создала новую организацию — Национальный Центр. Это был типичный союз русских либералов, по составу и политической программе почти однородный — кадетский[165], по «ориентации» — ярко германофобский и союзнический.
Национальный Центр порвал сношения с Правым Центром, вступил в тесную связь с Союзом Возрождения и обратился к ген. Алексееву с просьбой принять звание своего председателя. В комиссиях Национального Центра шла большая подготовительная работа по восстановлению государственно-правовой жизни — по схемам, принятым на предыдущих кадетских съездах. В частности, в основание разработки двух важнейших вопросов — аграрного и рабочего, положены были следующие общие начала: первого — частная собственность и «разрыв с народническими реминисценциями»; по второму — «денационализация, десоциализация, но бережное обращение с правами рабочих организаций и союзов». Вообще же все эти вопросы не становились общественным достоянием, не выносились из заседаний комиссий обеих групп и не влияли поэтому на их взаимоотношения. Вопрос же о создании временной национальной власти встретил крупные разногласия и в результате длительных споров привел к компромиссу: Союз согласился на созыв нового Учредительного Собрания, а Центр принял предложенную Союзом форму временной власти в виде трехчленной директории. Уступка эта со стороны Центра имела чисто тактическое значение «чтобы раньше времени не порывать с ними», тем более, что, как откровенно писал на Юг член бюро Центра, Степанов, не было сомнения, что «директория сама собой превратится в единоличную власть». В состав директории по предположению организаций должны были войти один генерал, один социалист и один не-социалист. Союз Возрождения намечал для этой цели из не-социалистов Астрова, Милюкова или Набокова, из социалистов Авксентьева. Национальный Центр воздержался от обсуждения этого вопроса, вызывавшего принципиальное сомнение, «стоить ли давать в эту неустойчивую комбинацию имена сколько-нибудь ценные, а тем более столь ценные, как те, что ими называются»…
Окончательной формы правления в России обе организации не предрешали, но «носили в сердце своем». По этому вопросу Национальный Центр писал В. Шульгину: «Ваши друзья близки Вам в своем отношении к вопросу о монархии… Но… провозглашение монархической идеи при настоящих настроениях было бы преждевременным. Движение на Волге, движение масс в больших центрах не были бы увлечены и подняты теперь провозглашением монархии»…
Уклонявшиеся до тех пор от каких-либо обязательств союзники, настаивавшие на согласовании действии Национального Центра и Союза Возрождения, теперь оказали им крупную денежную помощь, оживившую сильно деятельность организаций; союзнические миллионы пошли на политическую работу центров, открытие провинциальных отделений и отчасти на образование каждым из них вооруженной силы, преимущественно офицерского состава. Распределение сумм делалось по соглашению между президиумами, причем последние относились крайне ревниво к своему приоритету, препятствуя между прочим непосредственному субсидированию союзниками Добровольческой армии. Большие союзнические деньги через центры или, может быть, непосредственно шли на содержание всяких контрразведок, которые, как выяснилось впоследствии, работали одновременно на союзников, на немцев, давали сведения и московским центрам, и армии. В списках агентов я к своему удивлению нашел имена лиц, принимавших сомнительное участие в корниловском выступлении.
В официальном своем сообщении, адресованном объединенным организациям, московские представители союзников торжественно подтверждали принцип неприкосновенности русской территории, укрепляли надежды на скорое создание Восточного фронта, обещали экономическую помощь России, обязывались не вмешиваться во внутреннюю русскую политику и не оказывать давления на осуществление той или другой формы правления.
Восточный фронт, однако, оставался только миражом. Манящим для одних и тревожным для других. Японская армия, «готовая уже в феврале, ожидала окончания переговоров союзников, чтобы выступить»[166], но переговоры сильно затягивались, благодаря подозрительности Америки и колебаниям прочих членов Согласия.
Они выжидали.
«Вторая Марна» (июль 18 года) и затем отступление в августе обескровленных германских армий открыло новые радужные перспективы державам Согласия, отвратив их внимание от бесконечно удаленного Восточного фронта. Но подобно тому, как это делали немцы, представители союзников — одни сознательно, другие по неосведомленности — долго еще гальванизировали в русском обществе идею союзнической интервенции и помощи просто только в противовес германофильским влияниям.
Нужно заметить, что меньше всего иллюзий возбуждало образование Восточного фронта в командовании Добровольческой армии. И генерал Алексеев, и я относились скептически к серьезности и искренности желания союзников помочь нам живой силой. В самый разгар переговоров об интервенции, в конце июня, ген. Алексеев писал мне о своих сомнениях — о том, что у союзников «сознания безусловной необходимости этого фронта не существует… что между (ними) не только нет искреннего доверия друг к другу, но напротив — политическая подозрительность поставлена выше стратегических соображений». «Для нас — продолжал он — более важны пока не будущие войска, а чехо-словаки, ополчения Сибири, Оренбурга, Урала»…
* * *
Отдельно от политических центров стоял Б. Савинков.
Приехав в Москву в качестве члена при «донском триумвирате», снабженный удостоверениями ген. Алексеева, он широко использовал свое новое положение. Вместо «привлечения на Дон некоторых известных демократических деятелей», как формулирует Савинков данное ему поручение, он предпринял самостоятельную организацию в Москве, прикрываясь именами генералов Корнилова и Алексеева и отвлекая тем силы от Добровольческой армии.
Его неукротимая энергия, его кипучая деятельность и безграничное дерзание сопровождались явным успехом. Ему удалось найти доступ к союзникам — до тех пор глухим ко всем призывам Правого Центра и Союза Возрождения — и, что еще важнее, получить первоначально от Массарика, потом и от союзников серьезную денежную поддержку. Офицеры шли в организацию — не к Савинкову, а «на зов» генералов Корнилова и Алексеева. Без большого труда Савинкову удалось вызвать раскол в военной организации Правого Центра ген. Д., смущенной германофильством своих руководителей, и привлечь часть их на свою сторону.
Пополненная, таким образом, почти исключительно офицерством, Савинковская организация приняла название «Союза защиты Родины и Свободы» и к концу мая, по его словам, насчитывала до 5½ тысяч человек[167], разбросанных, однако, в Москве и в 34 провинциальных городах.
Такая численность была очевидно слишком ничтожной; но это была единственная реальная сила в центре страны, и Савинков умел импонировать ею и союзникам, и политическим организациям. До такой степени, что когда в середине апреля прибыл в Москву представитель ген. Алексеева полковник Лебедев и сделал попытку объединить вокруг имени его и Добровольческой армии московское движение, он встретил категорическое требование союзников «равного участия Савинкова не только в политической, но и в чисто военной стороне предприятия». Лебедов вынужден был поэтому устраниться от участия в работе.
Однако, политическое одиночество Савинкова препятствовало широкому развитию дела, тяготило его и смущало союзников. Так как с Правым Центром у Савинкова не могло быть ничего общего, а левый (Союз Возрождения) не говорил о нем иначе, как «со скрежетом зубовным», естественным было его обращение в Национальный Центр, который встретил сочувственно предложение и возглавил Савинковскую организацию.
Савинков, по несчастью, счел возможным взять на себя и роль полководца[168], проявив при этом совершенно неожиданные стратегические соображения. Одновременно с организованным им покушением на Ленина и Троцкого в Москве, предполагалось выступить в Ярославле, Рыбинске, Муроме, Владимире и Калуге, «окружив столицу восставшими городами и пользуясь поддержкой союзников на севере и чехо-словаков, занявших Самару (8 июня), на Волге… Союзники, высадившись в Архангельске, могли без труда занять Вологду и, опираясь на взятый нами Ярославль, угрожать Москве»[169].
Выступление было назначено в ночь с 5 на 6 июля.
Для характеристики этого плана нужно добавить, что Савинков имел тесную связь с союзными посольствами, своих разведчиков в большевицком штабе и германском посольстве, следовательно, был в курсе военной обстановки, «ежедневно получая сведения о передвижениях немецких и большевицких войск»; что высадка англичан в Архангельске произошла только 2 августа и что по железной дороге от Архангельска до Ярославля 787 верст, а от Москвы до Самары 9931..
Национальный Центр усомнился, правда, в целесообразности выступления, явно неподготовленного. Но Савинков ответил, что «конспирация не может оставаться в бездействии долее определенных сроков… Отсрочка поведет к разложению и провалу… Операция, правда, не совсем подготовлена, но французы торопят, а действия, раз начавшись, могут развиться стихийно и восполнить пробелы»[170].
Так как Савинков уверил Национальный Центр, что он действует с полного согласия ген. Алексеева, то Центр предложил ему при занятии той или иной местности распространять воззвания от имени «Северной Добровольческой армии, подчиненной ген.-от инфантерии Алексееву»[171]…
6 июля состоялся ряд выступлений в Ярославле, Рыбинске, Муроме, окончившихся кровавой расправой большевиков с беззащитным населением, гибелью множества офицеров и разрушением всей организации.
Когда в июле в Москву отправлялся полковник Новосильцев[172], ген. Алексеев, в числе других поручении, дал ему указание «предостеречь офицеров в Москве от организации и советовать им из центра уезжать на Дон, на Волгу, в Сибирь, только не сидеть на месте и нс ехать на Украйну, ибо в центре их ожидает гибель или привлечение в красную армию». Обращение в этом духе, от имени ген. Алексеева, подписанное Новосильцевым и А. Ладыженским[173], появилось действительно, вызвав сильный гнев Национального Центра. 22 июля Центр писал ген. Алексееву: «мы считаем это (обращение) вредным и способным породить недоразумения. В нем говорится, что всякая организация офицерства помимо Добровольческой армии является авантюрой. Это не так. Нам на Севере необходимо иметь наши русские отряды (Савинкова?), которые действовали бы в общем согласованном с союзниками плане, были бы опорой для Севера и составляли бы часть армии, находящейся под Вашим общим руководством».
Тем не менее легенда о сотрудничестве Савинкова с ген. Алексеевым пустила глубокие корни, попадая часто в печать и сильно нервируя генерала. Чтобы положить конец этим слухам, ген. Алексеев по поводу одной довольно безобидной газетной заметки составил собственноручное опровержение, носящее следы большого раздражения: «никакого представителя Б. В. Савинкова в Екатеринодаре не было, а потому… никакой беседы быть не могло. Сам Савинков, по многим обстоятельствам, в район Добровольческой армии прибыть не может, и прибытия его никто не ожидает… Помещение подобных заметок может нанести неисправимый вред Добровольческой армии»[174].
Савинков после неудачного выступления побывал в Сибири и, не встретив там признания, уехал в Париж.
Глава XI. Германофильство Правого Центра и Милюкова. Группа Шульгина. Взаимоотношения Добровольческой армии с политическими организациями и союзниками. Роль офицерства
Сношения Правого Центра с немцами после раскола его продолжались, не приводя, однако, ни к каким результатам. Немецкие дипломаты не лишали своих собеседников надежд, но и не давали никаких положительных обещаний. В официальном обзоре от 14 июня своих сношений с немцами, Центр суммировал высказанные ими положения:
«В Германии — в правых и военных кругах — имеется сильное течение в пользу установления в будущем добрососедских отношений к России, в результате — восстановление ее единства и мощи… Возможен поэтому пересмотр Брестского договора… Однако, успех подобной политики зависит от того, насколько широко и авторитетно будет течение в самой России за прекращение недоброжелательного отношения к Германии. Представители посольства явных признаков такого течения не различают. Большинство общественных кругов… продолжает видеть спасение России в победе союзников и отрицает возможность какого-либо соглашения с немца ми».
В сухом и Бесстрастном циркуляре Центра как будто звучал укор столь непрактичному проявлению общественного настроения. Составители циркуляра не подметили того бездонного цинизма, с которым представители страны, ввергнувшей Россию в бездну и не сделавшей еще ни одного шага к облегчению ее трагического положения, смели ожидать доверия и расположения к себе. Уподобляя великий народ побитому псу, лижущему ноги господина, в надежде на милость его и крохи с господского стола.
Кроме тех «неофициальных» разговоров, которые весьма часто вели с немцами члены Правого Центра в порядке дружбы и знакомства, президиум уполномочил вести переговоры бар. Б. Нольде и кн. Г. Трубецкого. Последний должен был посетить Дон и Добровольческую армию, в поисках русской военной силы, а также Киев, где, как предполагалось, достаточно подготовлена почва для соглашения с немцами — правыми кругами и… неожиданным союзником Правого Центра Милюковым.
Милюков во время господства на Дону большевиков скрывался в Ростове. После освобождения города немцами он жил там еще около месяца. Нас — в Мечетинской[175] — глубоко поразила статья, появившаяся в «Приазовском Крае» за подписью Оргина. Если не в авторе, то в главном персонаже ее, от имени которого шла речь — маститом вожде — мы узнали без труда П.Н. Милюкова, проповедующего… соглашение с немцами.
Эту идею Милюков настойчиво и страстно стал проводить и в письмах к ген. Алексееву. Они производили тяжелое впечатление. Мы дважды приглашали его приехать в Мечетинскую, приобщиться хоть немного к нашей жизни и уяснить себе психологию добровольчества и его вождей. Почему то, однако, Милюков к нам не приехал, а в конце мая отправился в Киев.
Интересно, что такой крутой перелом и мировоззрении Милюкова произошел на протяжении всего только двух недель. 3 мая еще он писал ген. Алексееву: «я был страшно огорчен появлением в Ростове добровольцев (отряд полковника Дроздовского) вместе с германцами, развернувших трехцветный национальный флаг рядом с германской каской. На словах можно сколько угодно отрицать связь с германцами; но связь сотрудничества фактического остается и подкрепляет всю ту ложь и клевету, которая распространяется по поводу Добровольческой армии»… Единственный выход из создавшегося положения он видел в том, чтобы ген. Алексеев «как можно скорее и резче отгородил свой и наш почин от их неудачного продолжения», для чего необходимо «формально распустить Добровольческую Армию, объявив для всеобщего сведения, что сражаться рядом с германцами даже против большевиков Вы не пойдете». «Дальнейшее размышление» привело Милюкова к другому заключению: на случай «невмешательства немцев в наши внутренние дела» необходимо, чтобы ген. Алексеев и его сотрудники «не покидали Добровольческой армии и чтобы сама она нс расходилась и продолжала существовать, как часть армии Донской области»… А 19 мая Милюков перешел к третьему варианту и убежденно доказывал: «закон самохранения для нас теперь — высший закон… Никакие договоры не могут сохранять силы при таком изменении обстановки… Союзники несут долю ответственности, вследствие своей переоценки значения и излишней снисходительности к тенденциям наших левых течений… Германцы хозяева положения и заинтересованы в том, чтобы государство было восстановлено… Они дорожат нашим единством и царем»… И как вывод: «нужно вступить в переговоры с немцами, принять их поддержку и спешно освободить Москву»; при этом немцы «должны перевезти армию до крайнего возможного пункта… отказавшись (сами) от вступления в Москву».
История эволюции Милюкова и переговоров с немцами изложена в записке его Правому Центру от 29 июля (11 августа). Политический удельный вес автора и то большое впечатление, которое произвела в свое время его позиция в русско-немецком вопросе, заставляет меня привести этот доклад полностью.
«Из сообщения кн. Гр. Ник. я вижу, что не только в общих чертах, но и почти во всех подробностях наши взгляды на способы вывести Россию из настоящего положения совпадают. Подобно ему я считаю восстановление государственности и объединение России первой и главной задачей, нахожу, что необходимо скорейшее осуществление этой задачи, чтобы не увеличить ее трудности; считаю, что такого скорейшего разрешения нельзя достигнуть без контакта с германцами и что предметом такого контакта должно быть создание в Москве не местного только «северного» правительства, а правительства национального, способного объединить Россию и для этого заручившегося согласием Германии на пересмотр теперь же, а не по окончании войны Брестского договора.
Для выяснения возможности этого я — не по моей, а по германской инициативе — вступил в «необязательные» сношения с представителем Oberkommando и имел (впрочем очень поверхностный) разговор с Муммом. В их лице я встретился с двумя течениями, которые и в Германии борются по вопросу об объединении России. Одно из них, представленное дипломатами и считавшее себя до сих пор в согласии с рейхстагом, стояло за разъединение России, создание Randstaaten и сближение с Англией. Другое, представленное влиятельными военными кругами, но теперь распространяющееся и в либеральных и даже в социалистических кругах, стоит за создание из России сильной союзницы в будущем для борьбы с Англией и с этой целью, а также по принципиальным соображениям (на левом фланге) склоняется к пересмотру Брестского договора. Первое до сих пор считалось официальным, но перестает пм быть после отставки Кюльмана. Второе имеет серьезные шансы сделаться официальным. Его успех сказывается уже теперь в том, что имеется течение компромиссное — самое опасное для нас — соглашающееся на частичный пересмотр Брестского договора и на неполное объединение России.
Германцы, искавшие до сих пор способа создать «северное правительство» без всякого пересмотра Брестского договора, будут, конечно, теперь добиваться соглашения на наиболее выгодных для себя условиях — с наиболее сговорчивыми. Но они понимают, что должны считаться с возможно широким фронтом общественного мнения, включая и неприятных для них к. д. Этим нужно воспользоваться, чтобы наш фронт объединить на одной определенной программе, из которой уж ничего не уступать к моменту, когда переговоры начнутся серьезно.
Я предлагал бы для такой программы следующие положения:
1) Правительство должно быть национальным и объединительным с самого начала, с первых шагов. Для этого необходимо, чтобы оно явилось на свет сразу, как монархическое, и могло бы говорить от имени некоторого ядра объединенной теперь же, а не в будущем России. А для этого нужно:
а) Теперь же остановиться на определенной личности кандидата на престол и вступить с этим кандидатом в непосредственные отношения, получив его санкцию — действовать его именем. Я лично предлагал бы отыскать в. кн. Михаила Александровича, местопребывание которого должно быть известно его близким в Москве.
б) Так как при создавшемся положении вопрос территориального объединения не может быть предметом одностороннего акта нового правительства, а должен быть решен предварительными переговорами с отдельными образовавшимися теперь правительствами. — успех же переговоров может быть обеспечен лишь при определенном отношении к ним Германии, — то я считаю необходимым ввести уже в наши переговоры с германцами условие, что до создания Правительства будут выяснены благоприятные ответы, по крайней мере, главнейших из создавшихся правительств и будет выработан акт объединения, который мог бы быть опубликован новым правительством, как национальным, в первые же дни его существования.
2) Исходной точкой переговоров должна быть неприкосновенность всей прежней территории России, за исключением Финляндии[176] (но со стратегическими гарантиями со стороны последней) и Польши (в границах прежнего Царства Польского, без Холмщины и с этнографическим обменом севера Августовской губ. на части уездов Сокальского и Бельского). В моих («необязательных») переговорах трудность представляла лишь Курляндия, относительно которой я соглашался на «исправление границ». Не знаю, как мы можем уступить Либаву. Вопрос о Крыме и Закавказье не был затронут, и я опасаюсь, что за умолчанием могут скрываться особые виды Германии на эти опорные пункты в будущей борьбе с Англией. Но этих территорий, конечно, мы пожертвовать не можем. При прежнем взгляде трудность представлял также вопрос об особых правах Украйны, которую германцы хотели наделить правами Баварии. Я не отрицал возможности идти относительно Украйны несколько далее простой автономии, с тем, чтобы это не служило образцом для других объединяемых частей, но не соглашался ни на особую армию, ни на остатки дипломатического представительства, ни на расширенные права относительно железных дорог, почт и телеграфа и т. д. Основным требованием объединения я считал суверенитет центральных органов, единство территории и гражданства, а также создание верхней палаты по типу Bundesrat’a.
3) Так как при такой постановке вопроса Германия должна искать своих преимуществ не в территориальных приобретениях, а в экономических выгодах, то необходимо теперь же привлечь наших промышленников к пересмотру этой части договора и просить их указаний, до каких пределов могут простираться здесь наши уступки, — вообще необходимые. Я обращался с этой просьбой к профессору Савину в Киеве и к А. И. Каминке в Петрограде, но надо, чтобы эта работа была предпринята в Москве — и немедленно.
4) Помимо общих уступок по торговому договору, придется сделать (или санкционировать) и временные — для территорий, ныне занятых германцами. Но при этом необходимо, во-первых, ввести в определенные правовые границы непредусмотренную, кажется, в учебниках международного права, власть германцев в области администрации и суда, теперь безграничную даже на Украйне, не говоря о Литве, и, во-вторых, оговорить для ближайшего же времени полную свободу сообщений и товарообмена для объединяемых областей, единство валюты и помощь как вооружением (у нас же отобранным), так и денежным займом, при немедленном восстановлении нашей армии.
5) Признание нейтралитета, по необходимости благожелательного относительно германцев, но с прекращением всяких враждебных действии на территории восстанавливаемой России. Национальное правительство, кроме единства, должно дать России действительный мир и выход из войны, чего не могли бы дать большевики: в этом будет его санкция в глазах населения.
* * *
Быть может, в Москве считают преждевременным говорить о началах будущей внутренней политики, но, мне кажется, необходимо было бы заблаговременно сговориться: без этого трудно было бы приступить к группировке сочувствующих «Правому Центру» элементов на местах. Поэтому предлагаю на обсуждение несколько пунктов, которые кажутся наиболее существенными:
1) Устройство коалиционной власти на основе программы «Правого Центра», но с устранением из ее состава сторонников самодержавия, с одной стороны, и сторонников ориентации «Левого Центра»[177] и прежнего Учредительного Собрания, с другой стороны.
2) В интересах поддержки демократических слоев (крестьянство и кооперация) и восстановления социального мира — немедленный приступ к аграрной реформе, восстановляющей все нарушенные права, но имеющей целью найти решения, возможно близкие к сложившемуся хаотическому положению землевладения. Восстановление свободы земельных сделок до реформы без нарушения ее принципов и с принятием немедленных мер против перехода земли в собственность иностранцев.
3) Пересмотр избирательного закона для городских и земских органов самоуправления: введение возрастного ценза и ценза оседлости, двустепенность выборов в деревне, пересмотр вопроса о волостном земстве, по не возвращение к куриальной системе и не восстановление старых земств.
4) Установление переходного периода до начала функционирования правильного национального представительства. Созыв, в случае надобности, для переходного периода совещательного органа, вроде «Совета республики» из общественных элементов, стоящих на государственной точке зрения, и выработка при его содействии закона о политическом представительстве.
Способов санкции основного закона, октроированного монархом, я не касаюсь здесь, но обращаю Ваше внимание на то, что долженствующий быть опубликованным от имени монарха основной закон должен быть готов ко времени создания нового правительства и было бы очень печалью, если бы он оказался похож на временно основные законы Скоропадского и Краснова. Надо теперь же засадить за эту работу наших юристов (Нольде, Лазаревского, К.И. Соколова, В.М. Гессена)».
К мыслям, изложенным в этой записке, остается добавить более интимные, высказанные в письмах[178] к ген. Алексееву:… что с предложенным планом необходимо спешить, потому что в Киеве в других кругах переговоры идут полным ходом и можно очутиться перед совершившимся фактом… Что необходимо создать хоть фикцию освобождения Москвы руками Добровольческой армии — не немецкими… Наконец, что приятие Милюковым конституционной монархии произошло не без борьбы… «было бы несравненно приятнее, если бы его об этом не спрашивали и неизбежное совершилось само собой»…
Общие положения Милюкова вошли в основание и анонимной записки, составленной послом Правого Центра кн. Г. Трубецким и отправленной немцам с одобрения Милюкова и Кривошеина.
Можно отнестись различно к германофильским течениям в русских интеллигентских кругах в 1917–1918 годах, с точки зрения национальной и этической. Но одно Бесспорно, что они были беспочвенны и в смысле государственном — бесполезны.
* * *
Жизнь шаг за шагом разбивала иллюзии.
Немцы неожиданно и резко порвали сношения с Милюковым, и гетман, очевидно под их давлением, поставил перед своим правительством категорически вопрос о высылке Милюкова из Киева. Совет министров почти единогласно отказался выполнить это требование, но Милюков, не желая быть причиной министерского кризиса, уехал добровольно в деревню, в Черниговскую губернию.
Никакого ответа не последовало и на записку кн. Г. Трубецкого.
Были и другие симптомы, более внушительные.
16 июля произошла Екатеринбургская драма, и глубоко возмущенная общественная совесть винила в этом злодеянии германскую власть, имевшую неограниченное влияние на совет комиссаров и не пожелавшую воспользоваться им для спасения царской семьи…
В Москве и центральной России свирепствовал жестокий террор, обрушившийся с особенной силой на голову несчастного офицерства. В разгроме некоторых московских военных организаций ясно было сотрудничество немцев с большевиками. Конспирирующая Москва волновалась, возмущалась, называла имена[179]… Когда гетманское правительство сочло необходимым заявить в Берлине протест против большевицкого террора, германский министр иностр. дел Гинце ответил: «императорское правительство воздержится от репрессивных мер против советской власти», так как то, что делается в России, «не может быть квалифицировано, как террор»; происходят лишь «случаи уничтожения попыток безответственных элементов… провоцирующих беспорядок и анархию»[180]. Да и как было вступиться немецкому правительству, когда в Москве его представители — старший советник посольства Рицлер и начальник контрразведки Мюллер находились в тесном сотрудничестве с Караханом и Дзержинским и снабжали их «списками адресов, где должны были быть обнаружены преступные воззвания и сами заговорщики… против советской власти»[181]… При свете этих поздних откровений какая жуткая рол приходится на долю руководителей противобольшевицких организаций, работавших в контакте с немцами!..
Убийство Мирбаха и Эйхгорна не вызвало охлаждения в отношениях немцев к большевикам. Наоборот, 16 августа Германия заключила с советской Россией «дополнительное соглашение» к Брест-Литовскому договору. Это соглашение, как известно, окончательно закрепило распад России и экономическую кабалу ее ценою признания Германией советской власти, политического и военного сотрудничества с нею.
Большевизм, переживавший тогда тяжелые дни, был спасен. Государственные деятели Германии не могли отрешиться от своей роковой политики в отношении России даже в ту пору, когда стало очевидным, что над их страной нависает катастрофа, война кончается, и пора подумать о будущих связях соседних народов, так безумно, так нерасчетливо напоенных несмываемой обидой и органической ненависть. Ибо тогда уже вожди германской армии заявили открыто императору и правительству, что войной нет более никаких надежд добиться мира[182].
Как ни предусмотрительна и сурова была немецкая цензура и благоприятствующая ей большевицкая, сведения об истинном положении дел на фронте мировой борьбы проникали в Россию, отражаясь на общественных настроениях и способствуя значительно ослаблению германофильских течений. И кн. Г. Трубецкой, принявший на себя не без внутренней борьбы неблагодарную и лично для него тяжелую роль, побывав на Украйне, на Дону и приехав в Добровольческую армию, доносил Правому Центру[183]: «эта тенденция — невозможность каких-либо соглашений с немцами — настолько бесповоротна, что об этом не стоит начинать разговора ни с одним вождем Добровольческой армии. Но я этого не делал и по другим причинам… Не опасаясь упреков, которые навлекли на себя, мы останавливались и на возможности соглашения с Германией, как на самом безболезненном решении вопроса. Наша совесть чиста, но упорствовать дальше на комбинации неосуществимой невозможно»…
* * *
В Киеве, обособленно от правых организаций, стояла группа В. Шульгина. Не политическая партия, не организация — именно группа единомышленников, имевшая, однако, серьезное влияние в киевских буржуазных и военных кругах[184].
Едва ли не с наибольшей страстностью, с пылом и прямолинейностью, группа Шульгина проповедовала три основных своих лозунга — борьбу с большевизмом, верность союзникам и монархию. Монархию безоговорочную, немедленную, открыто исповедуемую. Для Шульгина и его единомышленников монархизм был не формой государственного строя, а религией. В порыве увлечения идеей они принимали свою веру за знание, своп желания за реальные факты, свои настроения за народные. На Юг шли послания, доклады, сводки, в которых яркими красками изображался рост монархического движения в стране. Шульгин осуждал постоянно политику руководителей Добровольческой армии, убеждал друзей, что «скоро в России не будет никаких республиканцев», и просил «разъяснить руководителям армии, что никакие воззвания п. Учредительным собранием и народоправством не привлекут в армию никого… Вместе с тем Шульгин настаивал на сосредоточении в руках его организации распределения в Киевском центре пополнений для всех противобольшевицких армий.
Эти послания получали распространение на Юге, оказывая известное влияние на офицерство и на самого генерала Алексеева. В письме его к Шульгину я нашел впоследствии следующие фразы: «относительно нашего лозунга — Учредительное собрание — необходимо иметь ввиду, что выставляли мы его лишь в силу необходимости. В первом же объявлении, которое нами будет сделано, о нем уже упоминаться не будет совершенно. Наши симпатии должны быть для Вас ясны, но проявить их здесь открыто было бы ошибкой, т. к. населением это было бы встречено враждебно. От прежнего лозунга мы отказываемся. Для объявления же нового нужны соответствующие обстоятельства и прежде всего подвластная только нам территория. Это будет, как только мы перейдем к нашим активным планам»[185]…
Шульгин видел в соглашении с немцами — новое и окончательное закрепощение России, а в восстановлении монархии немецкими руками — национальное бедствие: «монархия и династия будут тогда окончательно скомпрометированы»… Шульгинская группа твердо настаивала на легитимном принципе[186], но тотчас же под давлением чрезвычайных условий жизни вступала с ним в резкое противоречие: акты 2 и 3 марта[187] непререкаемы — говорили они — отсюда связанность Михаила Александровича словом в отношении Учредительного собрания. Тяжкая болезнь и вообще неопределенность судьбы цесаревича Алексея Николаевича… «Личные качества» других законных преемников… Как выход, Шульгин предлагал весьма сложную систему «добровольных (?) отказов менее подходящих кандидатов, пока престол не перейдет к лицу, более или менее известному населению или, во всяком случае, не возбуждающему нежелательного противодействия»…
В качестве технического аппарата группы Шульгин основал конспиративный орган, под названием «Азбука». В начале этот орган черпал средства для своего существования исключительно из частных источников; в июле 18 года, порвав с Правым Центром, ввиду его немецкой ориентации, Шульгин вошел в тесную связь с Национальным Центром, и «Азбука» получила при посредстве последнего крупное пособие из сумм, отпускаемых союзниками; перенеся впоследствии свое ядро в Екатеринодар, «Азбука» стала одним из осведомительных органов Добровольческой армии, и с февраля 19 года содержание ее было отнесено на кредиты штаба.
В киевский период своей деятельности «Азбука», по словам Шульгина, ставила себе весьма широкие задачи: политическую и военную разведку в отношении большевиков, немцев и Украинской республики; вербовку в противобольшевицкия армии; участие в организации вооруженных восстании и выступлении против большевиков; связь и информирование лиц императорской фамилии, московских Центров и Добровольческой армии.
Действительно, «Азбука» давала армии весьма большой и ценный разведочный материал, преимущественно о политическом и военном положении на Украйне. Но, вместе с тем, страстная проповедь ее «немедленного поднятия монархического флага» нарушала душевное равновесие киевского и добровольческого офицерства и, как увидим ниже, сильно затрудняла позицию командования.
Что касается общей ориентировки, выходившей за пределы Украйны, осведомленность «Азбуки» не шла далее слухов. Это обстоятельство в связи с поисками обстановки, наиболее отвечавшей политическим убеждениям членов шульгинской группы, лишало ясности и определенности ее ближайшие задачи. Так в июне — июле Шульгин задумал перебрасывать офицеров и переезжать со своей организацией в Архангельск к ген. Пулю, который по сведениям «Азбуки» был предназначен главнокомандующим всеми союзными войсками Восточного фронта; потом собирался и за Волгу — причем на главе направляемых туда сил должен был стать «выдающийся киевский генерал», а Шульгин — его «помощником по гражданской части»; писал и в Сибирь адмиралу Колчаку, считая его главою сибирского правительства[188] и предлагая перебросить туда свою организацию и 20–25 тысяч офицеров для борьбы против немцев и большевиков, но непременно «под открытым монархическим знаменем»; наконец, в конце июля в штабе Добровольческой армии получена была телеграмма, что организация Шульгина переезжает на Дон, в распоряжение ген. Алексеева «вследствие невозможности пробиться в другие районы, стеснений, чинимых на Украйне, и требования немцев гетманскому правительству образовать на Украйне концентрационные лагери»…
* * *
Все группы и организации вместо материальной помощи присылали нам горячие приветствия — и письменно, и через делегатов — и все пытались руководить не только политическим направлением, но и стратегическими действиями армии. Планы предлагались самые разнообразные. Так, например, Шульгин писал в конце мая: «мое мнение — нужно узнать, чем дышит армия Дутова и, если там лозунг монархический и союзнический, открыто провозгласить у себя в армии Алексеева лозунг за монархию и союзников и идти на соединение с Дутовым». Потом прислал другое предложение: «Добровольческая армия должна покончить со всякими колебаниями, оставить мысль об Учредительном собрании и народоправстве, которым из мыслящих людей никто уже не верит, и сконцентрировать все свои силы на одной задаче — вырвать русский императорский дом из физического обладания немцев и поставить его в такое положение, чтобы, отираясь на наступающую Японию, от имени вступившего на престол законного государя объявить священную войну против немцев, завладевших родиной».
Национальный Центр звал нас за Волгу. Правый Центр — по пути, который должны были пробить для нас немецкие корпуса, через Воронеж на Москву… Представитель союзников — французский генерал Лаверн — на Царицын.
Было предложение и совсем другого рода, характеризующее среду и деятелей, основанное на полном непонимании характера и взглядов руководителей добровольчества.
Представитель киевских крайних правых, герцог Г. Лейхтенбергский высказывал мысль: «главная опасность Заволжского фронта[189] (в том), что прежние наши союзники придут в Россию, опираясь на демократические, социалистические элементы, и приведут страну к республике». Во избежание этого «было бы хорошо, если бы ген. Алексеев взял на себя командование Заволжским фронтом»… Роль, предназначавшаяся при этом ген. Алексееву, была довольно неприглядная — провести союзников: «чтобы не было неосновательных подозрений — говорил герцог — необходимо хотя бы на словах намекнуть об этом немцам… Я беру на себя намекнуть немцам об этой комбинации и тогда не опасаюсь их противодействия»[190]…
Организации и деятели в переписке между собой скорбели, что Добровольческая армия лишена их политического руководства; мы же всеми мерами старались избегнуть опеки, налагающей партийный штамп и политические путы на деятельность армии. Генерал Алексеев относился к работе всех политических организаций с нескрываемым осуждением. Обобщая свои впечатления от многочисленных личных и письменных докладов, он писал мне 26 июня: «фактического единения в мыслях, целях, задачах… между «центрами» не существует. Не меняются только жажда власти, стремление получить в свои руки денежную помощь от союзников и тяготеть над работой и существованием Добровольческой армии».
Другой вопрос, лично касавшийся ген. Алексеева, также доставлял ему не мало огорчений…
Правый Центр предполагал поставить во главе вооруженных сил одного из следующих генералов: Брусилова, Лукомского, Юденича или Лечицкого. В связи с предположением о создании Восточного фронта, вопрос о верховном возглавлении русской армии поднят был и в других организациях. Киевские монархисты хотели виидеть на этом посту В. К. Николая Николаевича или Михаила Александровича, которого молва настойчиво связывала с чехо-словаками. Союз Возрождения называл имена ген. Алексеева, адмирала Колчака и ген. Болдырева[191]. Первые два — очевидно только в качестве уступки Национальному Центру. Этот последний хотя и высказывал опасение, что «под влиянием» Милюкова «и киевской заразы у ген. Алексеева меняется настроение», однако горячо и настойчиво проводил кандидатуру его как Верховного главнокомандующего и главы «триумвирата». В этом направлении Центр влиял и на союзников. Между прочим ген. Алексеевым получено было предложение и через французского генерала Лаверна прибыть в Самару, когда откроется возможность «для руководства всеми войсками, действующими против большевиков». Ген. Алексеев еще ранее на обращение Национального Центра и некоторых союзных представителей ответил согласием, при условии, однако, что ему будет обеспечена полная свобода распоряжении и не «будет разделения власти»[192]…
Любопытно, что, получив сведение о предположении союзников выдвинуть на руководящие роли Керенского, ген. Алексеева писал в Москву: «передайте представителям союзников, что… (в таком случае) я почту своим прямым долгом совершенно отказаться от всякой военной и политической деятельности и никоим образом не допущу сотрудничества с разрушителем моей Родины»[193]…
Ген. Алексеев обещал выехать за Волгу, как только будет подготовлен технически переезд.
Вообще имя ген. Алексеева, в особенности в военных кругах, продолжало пользоваться высоким авторитетом и популярностью, что давало нам надежды на объединение вокруг него борющихся сил. Свидетельства этого отношения — письменные и устные — получались со всех сторон — от организаций, политических деятелей и военных вождей. Один хотели видеть в нем главу движения, другие — слева, в том числе и будущая директория — «использовать его государственную мудрость и военный опыт», официально — «для блага России», неофициально — для укрепления своего авторитета…
Между прочим, адмирал Колчак, приехав в Омск, писал 1 октября ген. Алексееву о своем предположении ехать в Европейскую Россию, с целью «вступить в Ваше распоряжение в качестве Вашего подчиненного… Вы, Ваше Высокопревосходительство, являлись все это время для меня единственным носителем Верховной власти, власти Высшего военного командования, для меня Бесспорной и авторитетной»[194].
Получалась, впрочем, наши и другая оценка деятельности ген. Алексеева — справа, на почве монархических лозунгов. В письме, адресованном ген. Алексееву и и широко распространенном в копиях[195], граф Келлер говорил: «Ваш начальник политического отдела уверял меня, что Ваше имя везде популярно и что Вам верят все. Если он и Вам докладывал то же, то ввел Вас в заблуждение. Верят Вам кадеты и, может быть, и то отчасти, группа Шульгина. Но большинство монархических партий, которые последнее время все разрастаются, в Вас не уверены, что вызывается тем, что никто от Вас не слышал столь желанного, ясного, определенного объявления, куда и к какой цели Вы идете и куда ведете Добровольческую армию»…
Но время шло, образование Восточного фронта все откладывалось, в политических центрах велась сложная и не вполне понятная для нас работа, в печати появлялись новые имена Верховных и новые комбинации власти. Игра вокруг имени ген. Алексеева сильно огорчала его, иногда больно ударяя по самолюбию. Молодые люди алексеевского политического отдела волновались и убедительно советовали генералу ехать немедля за Волгу в «центр политических событий», чтобы своим личным влиянием и авторитетом предупредить «возможные ошибки»… «Выразив раз свое согласие — отвечал Алексеев одному из них[196] — поставив своп условия, я не втянусь в ход интриги. Я ничего не предприму для достижения цели, ибо я ничего не искал и не ищу лично для себя. Найден другой, достойнейший, ему и книги в руки; а я или ухожу в частную жизнь, или остаюсь при Добровольческой армии… Словом, готовый делать дело, я уклоняюсь от излюбленной интриги, борьбы «центров» и «групп»…
Вопрос о переезде ген. Алексеева за Волгу так и остался открытым.
* * *
История противобольшевицких политических организаций есть история русской общественности. Нет сомнения, что наряду с элементами беспринципными, явно эгоистическими, лично или социально заинтересованными — во всех, решительно во всех организациях было много людей самоотверженных, людей высокого патриотизма, работавших идейно и Бесстрашно в тяжелой обстановке сыска, провокации и большевицкого террора.
Но общее направление деятельности их шло по эксцентрическим линиям, отражая глубокое расхождение не только в политических взглядах, но и социальное, партийное и моральное. Расхождение — не отметенное общим национальным сознанием, не смолкнувшее пред лицом смертельной опасности, нависшей над страной.
Тем не менее противобольшевицкие организации имели и общие, совершенно аналогичные черты.
В них мы видим во-первых, вождей без народа. Они решали важнейшие задачи бытия русской государственности на основании своих верований и умозаключений, учитывая в качестве элементов борьбы политику врагов и союзников, материальную помощь извне, иностранные штыки и т. д. Но сила сопротивляемости или содействия народной массы в их расчеты входила мало. Русский народ, между тем, все еще пребывал в состоянии неустойчивого равновесия, разбивая в прах все прогнозы, все социально-исторические теории.
Во вторых, все организации — правые и левые, не исключая отчасти и советских, — единственную внутреннюю реальную силу, способную на подвиг, жертву и вооруженную борьбу, видели в русском офицерстве и стремились привлечь его всеми мерами к служению своим целям.
Офицерство, между тем, стояло на распутье.
Целый ряд старших генералов, в первые же месяцы поступивших на службу к большевикам, своим примером давал оправдание малодушным или заблудившимся. Эти люди создавали теории о народе, «имеющем такое правительство, какое он желает» и о «моральной допустимости служения народу при всяком правительстве»… Они — слепые или сознательные слуги деспотии — говорили о служении народу…
В Москве, Петрограде и Киеве — Правый Центр звал офицеров для спасения монархии — прежде всего монархии — и Родины в свою организацию, покровительствуемую теми, кого офицерство считало заклятыми врагами России — немцами; Савинковский союз — в свои отряды «для защиты Родины и свободы» — свободы, олицетворяемой идеалами Санникова; Союз Возрождения — в свои московские и местные организации для спасения революции и страны; Заволжские с.-р. — для защиты Учредительного собрания…
В Киеве гетман собирал офицерство под желто-голубым знаменем для защиты Украйны; Шульгин звал за Волгу, в Архангельск, в Сибирь и в Добровольческую армию — для спасения династии и России, судьбы которой всецело и безраздельно отождествлялись с судьбами династии. В то же время старший генералитет, возглавляемый Веселовским и кн. Долгоруковым[197], найдя спокойный приют в оккупационной зоне ген.-фельдмаршала Эйхгорна, взывал к обществу, приглашая его «поддержать, помочь офицерам пережить невзгоды революционного времени и оберечь офицеров, жаждущих подвига на благо Родины, от втягивания их… во всевозможные авантюры под ложными лозунгами спасения отечества». Рекомендовалось, впрочем, «быть в полной готовности», ввиду «скорого воссоздания неделимой России… под скипетром законного монарха… силами самого русского народа»[198]… Формула, принятая впоследствии создателями «новой тактики», имеет, как оказывается, старое и довольно неожиданное происхождение…
Среди всех этих расходящихся путей к спасению страны русское офицерство в конец заблудилось.
Глава XII. Противобольшевицкое движение на Востоке: чехо-словаки, «Комитет Членов Учредительного Собрания» и «Народная армия»
В то время, когда происходили описанные события на территории России, вовлеченной в той или иной форме в сферу германского влияния, за Волгой, на Урале и в Сибири разгоралась в свою очередь борьба против советской власти — широко, в масштабе, соответствовавшем необъятным восточным просторам.
Главный толчок к ней дало выступление чехо-словаков. Роль, которую сыграл первоначально 30–40 тысячный чехо-словацкий корпус в чисто военном стратегическом отношении, служит наглядным показателем полной беспомощности советского правительства весной и летом 18 года и той легкости, с которой возможно было свержение его при условии надлежащего использования противобольшевицких сил.
И если этого не случилось, то историческая ответственность за продолжение кровавого опыта лежит не только на беспринципной и близорукой политике германцев и Согласия, но еще в большей степени на совести русских противобольшевицких деятелей.
Углубленные и обостренные революцией социальные, классовые, племенные, даже областные расхождения набросили вскоре густой туман на пробудившуюся было русскую национальную идею.
Рожденное революцией, питавшееся ее извращения в большей степени, чем тяжестью иноземного нашествия, противобольшевицкое движение дало поэтому Архангельск, Киев, Новочеркасск, Екатеринодар, Самару, Омск; но оно Бессильно было возвыситься до создания своего Пьемонта.
* * *
Чехо-словацкий корпус после Брест-Литовского мира двигался к Владивостоку, откуда Согласие предполагало перебросить его на европейский театр войны. К весне 1918 года чехо-словаки были разбросаны на огромном протяжении — 7½ тысяч верст — от Пензы до Владивостока. В мае, по требованию Мирбаха, Троцкий отдал приказ об их разоружении. По настоянию Массарика, всемерно уклонявшегося от «вмешательства во внутренние русские дела», чехи подчинились этому распоряжению, потребовав лишь оставления на каждый эшелон 150 винтовок и нескольких пулеметов. Но вслед за сим последовало из Москвы новое распоряжение — остановить на местах все чешские эшелоны, разоружить чехов окончательно и водворить их в концентрационные лагери.
Эта мера советского правительства привела к последствиям, для него совершенно неожиданным: чехи восстали.
Без какого-либо плана, без руководящих указаний свыше, спасая свою свободу и существование, чешские войска вступили в борьбу с большевиками, захватывая железнодорожные линии и станции, разгоняя советы и разоружая или уничтожая красную гвардию. Силы большевиков за Волгой были но численности и боевой пригодности ничтожны; действия чехов сопровождались поэтому быстрым, ошеломляющим успехом. Повсюду их выступления вызывали местные восстания и организацию добровольческих отрядов — по преимуществу офицерских, отчасти возникавших стихийно, отчасти созданных местными военными и политическими центрами. Эти отряды добровольно присоединялись к чешским войскам, увеличивая их силу и значение и придавая выступлению чехов, вызванному стремлением открыть себе путь на восток, смысл и характер идейного движения.
Почти одновременно, в конце мая произошел ряд важных событий: полковник Чечек во главе почти безоружных эшелонов взял Пензу, захватил большое количество вооружения и боевых припасов и, пробиваясь далее за Волгу, занял последовательно Сызрань и Самару. В Челябинске полковник Войцеховский[199], после столкновения с местным советом, разгромил его и затем овладел железнодорожным узлом Екатеринбурга. В Западной Сибири первое восстание чехов произошло в Ново-Николаевске (западнее Томска), где капитан Гайда, совместно с одним из главных организаторов вооруженной силы в Западной Сибири, подполковником Гришиным-Алмазовым, свергли советскую власть, после чего Гайда двинулся на восток, освобождая попутные города и направляясь в Забайкалье, где за Иркутском прочно засели большевики, прервав сибирский путь и сообщение с Владивостоком.
К концу июля чехо-словацкий корпус был расположен следующим образом: бригада Чечека в Самаре, прикрывая направления от Саратова и Пензы; бригада Войцеховского в Екатеринбурге — на Казанском и Пермском направлениях; бригада Гайды — по пути в Забайкалье; пробившаяся ранее четвертая бригада располагалась во Владивостоке, находясь в ведении Начальника штаба корпуса, ген. Дитерихса.
«Восточного фронта» в общепринятом смысле этого слова не существовало вовсе. Положение менялось чуть ли не ежедневно, находясь в зависимости от передвижения чешских эшелонов и успеха возникавших постоянно местных восстаний. С грубым приближением линию, разграничишавшую сферы влияния советской власти и противобольшевицких сил можно провести с севера по р. Тагилу на Кунгур и по Каме и Волге на Сызрань — Хвалынск, далее на Николаевск и Уральск. Каждый из командиров бригад действовал в оперативном отношении совершенно самостоятельно, не выполняя какого-либо общего стратегического плана и первоначально не имея никакой политической задачи, кроме негативной, поставленной Национальным советом и уже отброшенной жизнью — «невмешательства во внутренние русские дела». Штаб корпуса, во главе с командиром корпуса генералом Шокоревым, находился в г. Челябинске, управляя войсками лишь номинально и притом только в административном отношении.
Состав корпуса, пополненного военнопленными чехо-словаками, разбросанными по Сибири, доходил до 40–60 тысяч[200], т. е. по 10–15 тысяч в бригаде. Вполне боеспособный и дисциплинированный во время внешней войны, корпус этот к лету 18 года значительно изменил свою физиономию. Под давлением большевиков и под влиянием Национального совета социалистического состава, он воспринял некоторые основы «демократизации» и керенщины, вроде комитетов, выборного начала, «революционной дисциплины» и проч. Русский командный состав был вскоре удален[201], и места его были заняты людьми, нередко энергичными и способными, но обыкновенно имевшими служебный стаж не выше лейтенанта запаса и потому мало грамотными в вопросах тактики и стратегии. Военный авторитет их стоял не высоко, и случаи неповиновения были обычными. На этой почве произошло, между прочим, произведшее большое впечатление самоубийство одного из достойных начальников, капитана Швеца. Только жуткое чувство затерянности среди русского бушующего моря заставляло чехов держаться своих частей и своих начальников, восполняя тем в известной степени упадок воинской дисциплины.
Были и другие темные стороны в деятельности чехо-словаков, о которых в докладе ген. Гришина-Алмазова[202] говорится: «…Начальники — все зеленая молодежь, которую нельзя было убедить, что надо обращаться к городским самоуправлениям и к русским властям за своими нуждами; что неприемлемо, чтобы они на каждый город смотрели, как на военную добычу. Исчезали целые поезда, тысячи сапог, чешская армия одевалась за счет сибирской»… Поезда с «добычей» являлись повсюду неизменными спутниками чешского движения, развращая морально войска, стесняя их оперативную деятельность и вызывая в русском населении горечь и недоумение.
Тем не менее, на всем пространстве от Волги до Владивостока это была вначале единственная прочная сила, импонировавшая и советским войскам, и местному населению, в большинстве смотревшему на чехов, как на избавителей.
Большевики поняли, наконец, свою ошибку и стали вести широкую пропаганду среди чехо-словаков, обещая им свободный пропуск с полным вооружением и снаряжением, при условии отказа от помощи «белогвардейцам». Как это ни странно, подобную же роль взяла на себя американская железнодорожная миссия и генеральный консул Гаррис[203], уговаривавшие чешские эшелоны ехать во Владивосток. Старшие чешские начальники стремились стянуть свои части к железнодорожным центрам… Местные русские организации обращались с мольбой о помощи к Начальникам эшелонов, встречая зачастую полное сочувствие чехов, проявлявших широкую частную инициативу, и ущерб распоряжениям свыше. Положение запутывалось до крайности и только к середине лета разъяснилось: державы Согласия, осуществляя план создания противо-немецкого Восточного фронта, пожелали использовать создавшееся так неожиданно для них благоприятное положение, возложив на чехо-словацкий корпус задачу авангарда, образующего по Каме и Волге заслон, под прикрытием которого должна была начаться перевозка союзнических сил. Эшелоны, пробившиеся на восток, потянулись вновь на запад.
Какими бы мотивами им руководились чехо-словаки, их выступление сыграло чрезвычайно важную роль в истории развития противобольшевицкого движения. В этот первый период их заслуги в деле освобождения России неоценимы, их тогдашние вины поблекнут перед судом истории.
* * *
В начале мая 18 года собрался 8-й совет партии социал-революционеров, на котором постановлено было перейти к открытой борьбе с советской властью и в то же время при помощи союзной интервенции «свергнуть германское насилие». Работа в этом направлении велась с большой энергией, в особенности в Заволжье и в Сибири. Повсеместно образованные комитеты с.-р. брали на себя инициативу подготовки восстания. и так как все другие политические организации оставались бездеятельными или склонялись к соглашательству с большевиками. то вокруг с.-р.-ов начали группироваться противобольшевицкие элементы, зачастую им совершенно чуждые. Тем более, что симпатии чешского Национального совета были явно на стороне с.-р.-ов и в частности Чернова. Это сказалось в особенности, когда в июле совет был переизбран, и во главе его стали социалисты — Павлу, Потейдло, Благош и др. лица, сыгравшие затем весьма прискорбную роль в судьбах Сибири. Чешский совет воспринимал русскую действительность исключительно в освещении черновцев и испытывал болезненный страх, чтобы не прослыть «контр-революционным».
На этой почве возникали бытовые курьезы. Так, наиболее консервативное, монархически настроенное Уральское войско[204], чрезвычайно бедное интеллигенцией, под влиянием с.-р.-ов упразднило вековой институт атаманской власти, вручило ее выбранному правительству во главе с с.-р.-ом Фомичевым и вступило с областным комитетом с.-р.-ов в тесный союз для борьбы против большевиков. Одним из договоров предусматривалось «перенесение наступления на другие территории», причем в этом случае там должен быть создан «руководящий движением орган на паритетных началах со стороны Уральского войскового правительства и организации партии (с.-р.) данной территориальной единицы»… Своеобразная коалиция для управления Россией!.. Ген. Гришин-Алмазов, организовавший офицерство на территории Сибири, встретил огромные затруднения, вследствие невозможности приобщить его к политическим лозунгам господствующей партии: «пришлось поэтому сойтись на поддержании самой идеи власти, хотя бы данное содержание ее и представлялось неприемлемым»[205].
С.-р. воспользовавшись широко восстанием чехо-словаков. И когда бригада Чечека 8 июня овладела Самарой, было объявлено, что власть переходит к «Комитету членов Учредительного собрания» («Комуч»). Демократический покров, популярный еще в русской общественности, прикрывал новую диктатуру — партии с.-р.-ов, безраздельно овладевшей властью и вдохновляемой Черновым, который — потому ли, что имя его было слишком одиозным, потому ли, что не очень верил в успех дела — руководил пм из-за кулис.
Для истории противобольшевицкой борьбы этот единственный опыт чисто социалистического правления[206] представляет большой интерес. Опыт, наиболее краткий — всего 107 дней — и, как кажется, наименее удачный.
«Комуч» объявил себя эмбрионом Всероссийской верховной власти, которая должна была утвердиться при наличии 80 членов бывшего Учредительного собрания. В состав его вошли Вольский (председатель), Климушкин, Брушвит, Нестеров, Филипповский и другие, — имена весьма мало известные русскому обществу. О «правомочности» этого органа говорить не приходится. Точно также не стоит «сводить успех пли неуспех отдельных восстаний, падение или укрепление власти исключительно к личным качествам вождей и лидеров»[207]… Гораздо интереснее то общее направление деятельности с.-р.-ского правительства, которое при успехе движения должно было проявиться во всероссийском масштабе.
Основные декреты советской власти — о национализации земли и предприятий, о рабочем контроле и др. остались в силе; местные советы были сохранены. Часть комитета и Чернов, ставя главной целью своей создание единого социалистического фронта, уже с первых дней борьбы искали путей соглашения с большевиками, и только решительный протест Чешского национального комитета остановил эти попытки. Тем не менее «Комуч» проявлял широкое попустительство в отношении большевиствующего населения и организаций.

Не имея ни правительственного авторитета, ни реальной силы, «Комуч» стремился к подчинению своей власти областных новообразований мерами, подчас весьма решительными, вызывавшими противодействие, рознь и разделение сил. Так, Уральское и Оренбургское казачьи войска стали в зависимость от «Самары» из-за боевого снабжения и материальных средств, попавших в руки комитета. При этом большая часть Оренбургской губернии отделилась (северо-восток), присоединившись к Сибири и поставив тем в весьма щекотливое положение выборного атамана Дутова, поторопившегося признать «Комуч» и даже вступить в его состав. В конце июля, впрочем, Дутов съездил в Омск и завязал сношения с Сибирским правительством, что вызвало некоторые репрессии со стороны «Комуча», как лично против атамана, так и против области: Дутов был исключен из состава комитета, а область весьма ограничена в пополнении снабжением и деньгами. В отношении Сибирской области «Комуч» применял «таможенную войну» и широкую интригу при посредстве печати (черновской), сибирских партийных ячеек и с.-р.-ской областной Думы. В отношении прочих, слабее организованных территорий меры принимались проще. Так, когда г. Златоуст с уездом «отложился» к Сибирской области, «Комуч» повелел уфимскому гарнизону идти войною на непокорный город. Войска, однако, не послушались и не пошли. Когда же назрела возможность вооруженного столкновения «Самары» с «Омском», то офицерство «Народной армии» решило категорически в нем не участвовать, не останавливаясь перед «давлением на правительство» и массовым уходом из армии. В результате территория, подведомственная «Комучу», ограничилась губернией Самарской, частью Уфимской, двумя уездами Оренбургской и — условно — Уральской областью.
К государственному строительству «Комуч» фактически не приступал, ограничившись общими декларациями и посылкой на места своих комиссаров («генерал-губернаторов!»). Но зато внешний антураж власти и ее приемы оставляли далеко позади практику всех «новообразований». Огромные штаты «министерств» были наполнены исключительно партийными людьми, без всякого стажа и элементарного опыта. Широко разросшийся «институт по охране государственного порядка» («охранка»!) и контрразведка, с обычными их приемами, висели над жизнью Буржуазии и офицерства, зачисленных поголовно в стан контрреволюционеров… Десятки миллионов народных денег расходовались щедрой рукой на поддержку с.-р.-овской печати[208], распространявшей широко официальный оптимизм, сеявшей нетерпимость и возбуждавшей социальную ненависть; на пропаганду, направленную против Сибирского правительства, потом против директории, на насаждение партийных ячеек в войсковых частях, на создание опричнины под видом русско-чешских «отрядов для защиты Учредительного собрания» и т. д.[209] В то же время оренбургское и уральское правительства испытывали крайнюю нужду в денежных средствах, необходимых для самых насущных потребностей беспримерно тяжкой народной войны.
Если в активе Самарского правительства окажется мало элементов государственного творчества, то без сомнения оно войдет в историю, как самое расточительное. Уже в Уфе, после образования директории, переименовавшись в «Совет управляющих ведомствами», быв. «Комуч» продолжал распоряжаться миллионами настолько широко, что потребовалась правительственная ревизия. Директория командировала с этой целью члена директории ген. Болдырева и вице-директора мин. финансов Крестовского. Отчет комиссии нарисовал удивительную систему расходования огромных государственных средств, при которой «кредиты отпускались без указания предмета расхода, проводились всегда в спешном порядке и немедленно по получении из банка ассигнованные суммы бесследно исчезали»…
* * *
Таким же пустоцветом оказалась созданные комитетом «Народная армия».
Первые сведения о ней мы получили в начале августа — наиболее полные от командированного за Волгу для связи с чехо-словаками полк. Моллера, побывавшего в Самаре, Челябинске и Екатеринбурге.
Во главе армии поставлен был «военный штаб» — коллегия в составе Начальника штаба — совершенно случайного человека — капитана Галкина[210] и «членов штаба» — штатских людей с.-р.-ов. Привезенные нам приказы, уставы, военные узаконения исходили от трех лиц — Галкина, Боголюбова и Фортунатова; утверждались они в порядке прежних «Высочайших утверждений» столь компетентными лицами, как Климушкин, Брушвит и Нестеров. Из-за недоверия к русскому генералитету командующий армией не был назначен, а войска в оперативном отношении подчинены были чеху — полковнику Чечеку.
Порядки в армии напоминали совершенно времена Керенского: дисциплинарная власть начальникам дана была только на походе и в бою; в остальное время действовал «товарищеский дисциплинарный суд». «Вне службы все равны — гласил устав. Служба начинается с отдачи приказания и команды и кончается с выполнением приказания и команды». Комитеты были сохранены. В частях организовывались с.-р.-ские ячейки, имевшие характер «глаз и ушей» правительства. В области внешних взаимоотношений — отменены погоны, и «гражданин-солдат» обязан был отдавать честь только прямому начальнику, притом один раз в день и т. д.[211].
Вначале вооруженная сила создавалась по частной инициативе, исключительно на основе добровольчества. Это были те малые числом, но сильные духом добровольческие, главным образом офицерские части, которые совместно с казаками и чехо-словаками нанесли первые удары красным войскам и освобождали Симбирск, Самару, Казань… Которые потом, осенью, после отказа чехов от борьбы и развала Народной армии отступали с боем последними, прикрывая уходившие на восток комфортабельные поезда чехов…
По иронии судьбы, под флагом Учредительного собрания, так же как и под трехцветным знаменем Корнилова, создавалась классовая армия. Народ не шел добровольно к поборникам «Земли и Воли». Пошли, главным образом, офицерство — скрепя сердце, в надежде на изменение политической обстановки — и буржуазная молодежь.
Численность этих отрядов была не велика; и «Комуч», не организовав ни приемников, ни местного военного управления, наряду с призывом добровольцев, приступил к принудительной мобилизации возрастов 1917 и 1918 гг., т. е. наиболее развращенных революцией, и всех офицеров — элемента, если не враждебного, то во всяком случае чуждого правительству. Мобилизация производилась, однако, по системе воззваний и уговариваний; при этом только в тех районах, где, по предположениям, «она могла произойти без применения силы»… Из этих контингентов начато было формирование трех дивизий: в Самаре, Сызрани и Уфе, причем три слабых отряда действующих войск работали на фронте; подполковника Капцеля — на Казанском направлении, подполковника Бакича — на Пензенском и полковника Махина — на Николаевском.
Народная армия не внушала доверия ни правительству, ни чешскому командованию.
Предполагая, что во главе чехо-словацкого корпуса стоит ген. Дитерихс, ген. Алексеев послал ему в начале июля письмо, в котором, указывая, между прочим, на необходимость «скорейшего объединения всех здоровых сил страны и дружественных элементов», сообщал: «ближайшей задачей Добровольческой армии ставится выход на Волгу», для чего необходимо «содействие чехо-словацких частей… и казачьих отрядов, действующих на нижней Волге». Запрашивал, в какой мере чехи могут содействовать нашему движению. Моллер, не найдя Дитерихса, ознакомил с этим письмом ген. Шокорева и полк. Чечека[212]. Первый уклонился от прямого ответа. Второй выразил живейшую радость по поводу возможного соединения с Добровольческой армией и желание видеть во главе всех сил — ее командование. Начальник штаба «Волжской армии» Чечека, полк. Щецихин прислал горячий привет ген. Алексееву «и всем (его) сотрудникам, прибытия коих мы ожидаем с самым живым нетерпением, которое вызвано не только военной, но пожалуй в большей степени политической конъюнктурой»[213]. Офицерство Народной армии, тяготившееся своим положением, выражало те же чувства. Иначе отнесся, однако, капитан Галкин. В беседе с Моллером, выразившим отрицательное отношение Добровольческой армии к политике с.-р.-ов, он сказал: «соединяться нам поэтому не следует, так как у нас работа идет очень хорошо и в скором времени народная армия будет насчитывать 80 тысяч штыков. А Добровольческая армия внесет нам раскол».
Иллюзии исчезли очень скоро.
Мобилизация Народной армии потерпела полную неудачу, встретив на местах явно враждебное отношение, местами сопротивление. К 1-му августа номинально было призвано 8485 добровольцев и 21888 мобилизованных. Но мобилизованные оставались в частях только до получения оружия и мундирной одежды, после чего большинство уходило домой. Позднее, когда неудачи на фронте заставили армию отходить, целые полки отказывали в повиновении, оставались на месте или расходились по своим деревням. Уходило понемногу и офицерство, преимущественно в Сибирскую армию.
И уже в половине августа, когда Моллер, возвращаясь из Челябинска, посетил вновь Самару, настроение в штабе Народной армии радикально изменилось. Галкин — тогда уже полковник — просил передать ген. Алексееву, «чтобы он приехал к ним ранее, чем придет Добровольческая армия, дабы вперед уничтожить всю рискую разницу армий». При этом он добавил, что «Комитет Учредительного собрания решил пойти на все уступки, кроме земельного вопроса (?), и что они сами поняли, что нужно нести твердую политику, но что в данное время не имеют силы, которой могли бы се пронести».
* * *
Придя к власти на штыках чехо-словаков, комитет Учредительного собрания — филиал центрального комитета партии с.-р.-ов — явился отображением советского правительства, только более тусклым и мелким, лишенным крупных имен, большевицкого размаха и дерзания.
Кроме чехо-словаков опоры у него не было.
Заволжское крестьянство, не испытавшее в достаточной степени большевицкого гнета, занятое еще ликвидацией помещичьей земли и не видевшее никаких новых «завоеваний» в декретах «Комуча», отнеслось к его призывам по меньшей мере равнодушно. Городской пролетариат оказался враждебным новому правительству, и собравшаяся в Самаре рабочая конференция, признав это правительство «врагом народа», высказалась за подчинение советской власти. Буржуазия и не-социалистическая демократия были отстранены с.-р.-ами от государственного строительства и усилили собою стаи их противников. Что касается Народной армии, то надежность ее, как опоры власти, определилась тем фактом, что в Самаре и потом в Уфе — пунктах квартирования дивизий — «Комуч» счел себя вынужденным формировать особые отряды для своей личной охраны…
«Жестокая действительность разбила самые прекрасные сны… Восстание, поставившее на своих знаменах принципы чистой демократии (?); власть, руководящаяся этими принципами, должны быть разбиты, если нет прочной опоры в самой демократии»…
Такой эпитафией почтило впоследствии московское бюро центрального комитета с.-р.-ов попытку возглавления своей партией русской державы.
Попытку освободить страну чужими руками: отметенной ими и им враждебной буржуазной демократии и офицерства.
Глава XIII. Власть и армия в Сибири и на Урале
В Сибири и на Урале большевизм нашел еще менее благоприятную почву, распространяясь главным образом от центра к периферии чисто механическим путем, вдоль железнодорожных магистралей. Его заносила, главным образом, волна солдат, отчасти казаков, хлынувших с фронта, пронесшаяся в начале бурно и потом стихавшая, по мере рассасывания солдатчины по необъятным сибирским равнинам. Большевизм нашел искренний отклик только в городском пролетариате и в крестьянской бедноте — «новоселах», не успевших прочно осесть и окрепнуть на богатой сибирской почве. Коренное крестьянство Сибири весьма мало интересовалось земельным вопросом.
Не находя сочувствия, но и не встречая сколько-нибудь серьезного сопротивления, большевизм начал утверждаться в Сибири только в январе — феврале 18 года. Организующим его центром стад Иркутск. Собравшийся в нем в ноябре 17 года «Всесибирский съезд советов» избрал «Центральный исполнительный комитет советов Сибири»; последний в середине декабря, после восьмидневных уличных боев между большевицким гарнизоном и отрядом из офицеров, юнкеров и незначительного числа казаков, захватил власть, образовав затем сибирский совет народных комиссаров.
Утверждение большевизма сопровождалось обычными явлениями: сосредоточением власти в местных советах, упразднением земско-городских учреждений, правительственных и судебных установлений, разгромом кооперации и т. д. Но террора, который заливал кровью Европейскую Россию и Кавказ, в Сибири не было. Города, конечно, несколько пострадали; но сибирская деревня, за исключением пригородных сел, не успела испытать ни продразверстки, ни «отнятия излишков», ни карательных отрядов. Поэтому народ в широком смысле этого слова, когда в июне началась борьба против советского правительства, оставался равнодушным к ней. Ясно ощутимого стимула для нее не было. Только известная инерция, законопослушность — быть может более привитая в сибирском быту, чем в центре — побуждали народ исполнять в известной мере требования менявшихся потом, как в калейдоскопе, правительств, давать нм солдат и платить подати.
Сменившая большевиков сибирская власть, как и все рожденные революцией, не могла претендовать на демократичность происхождения. Очевидно, в пожаре революции, в ожесточении борьбы применение истинно-демократических методов построения власти невозможно психологически и не выполнимо технически…
Во второй половине прошлого столетия впервые началось движение, известное под именем сибирского областничества. Движение идейное, вызванное мертвящей централизацией Петербурга и тем невниманием, с которым центр относился к экономическим и культурным нуждам Сибири. Наиболее ярким представителем его был — ко времени революции уже глубокий старец — Потанин. С началом революции движение это ожило, и целый ряд совещаний и съездов Сибири занимался вопросом об ее государственный автономии. Но так как центральная власть была и то время или слишком слабой (Временное Правительство), или слишком одиозной (Совет комиссаров), и с другой стороны и состав этих съездов входила почти исключительно революционная демократия, то идейная сторона вопроса вскоре отошла на задний план, уступив место чисто политической борьбе. Борьбе за власть.
«Чрезвычайный Сибирский областной съезд», состоявшийся и г. Томске в декабре месяце, объявил об автономии Сибири и постановил созвать «общесибирскую социалистическую, от народных социалистов до большевиков включительно, с представительством национальностей, власть в лице Сибирской областной Думы».
Советы отнеслись к факту созыва Думы, как к контр-революционной попытке. И потому, когда и конце января с большим трудом собралось в Томске около полутораста депутатов, большевики арестовали виднейших из них и не допустили открытия Думы. Более смелые депутаты, по инициативе пришлого человека, еврея Дербера, собирались тайно, избрав на одном из таких заседаний «Временное Правительство». Гинс так описывает процедуру избрания[214]: «на частной квартире, собравшаяся иисииодтншиуа небольшая группа членов Думы, человек около двадцати из полутораста, «избрала» шестнадцать министров с портфелями и четырех без портфелей. Шесть человек присутствовавших самоизбрали себя в совет министров». Большинство министров было избрано без их ведома и согласия. Все — социалисты или ошибочно считавшиеся таковыми.
«Председатель правительства» Дербер от имени Думы издал декларацию[215], заключавшую обычные нео-большевицкие положения группы Чернова, впоследствии воспроизведенные самарским «Комучем» — с добавлением милостивого разрешения «всем народам, проживающим на своей территории, в разное время присоединенным к Российскому государству», путем «свободного волеизъявления… отделиться от Российской федеративной республики»….
Десять министров (с.-р.-ов) с Дербером во главе стали затем пробираться тайно иа восток, пытались безрезультатно обосноваться в Чите, долго мутили политическую жизнь Харбина, добиваясь там признания, и, наконец, с падением большевиков во Владивостоке в конце июня, объявили себя там всесибирской верховной властью.
Перед отъездом Дербер наметил для Западной Сибири комиссариат в составе членов Учредительного собрания П. Михайлова и Линдберга.
Когда в июне военные организации совместно с чехо-словаками капитана Гайды свергли большевиков на всем протяжении от Челябинска до Иркутска, Западносибирский комиссариат выступил явно, как власть, установленная «Временным сибирским правительством»; повсеместно появились явочным порядком «уполномоченные правительства», и Сибирь спокойно приняла новую власть.
Но личный состав комиссариата, его политика, черпавшая свои откровения из декларации Думы и постановлений областного комитета с.-р.-ов, уронили совершенно престиж комиссариата. До такой степени, что через несколько недель (1 июля) комиссариат почти без сопротивления сдал власть по требованию группы случайно оказавшихся в Омске пяти министров Дерберовского правительства, во главе с Вологодским[216]. Новое правительство (коалиция с.-р.-ов и либералов) объявило себя, так же как и Дерберовское, носителем верховной власти и в первые же дни обнародовало указ об отмене советских декретов, об упразднении всех местных советов и о восстановлении частной собственности. Этот акт расположил к правительству Вологодского умеренные элементы общественности и армии.
Край отнесся спокойно и к новому перевороту, но сибирская общественность не успокоилась. Борьба за власть продолжалась, находя отражение и в недрах самого правительства. Я не буду останавливаться на всех перипетиях этой борьбы, отмечу лишь характерные стороны ее. Боролись на авансцене политической жизни только социал-революционеры и либералы. С одной стороны комитет Учредительного собрания, Сибирская областная дума, областной центральный комитет партии с.-р. и с.-р.-овская фракция правительства, с другой — правительственная группа Вологодского, так называемый «деловой аппарат[217]» (позднее — «Административный совет»), и командование. Все остальные политические и общественные группы, кроме коммунистов и левых с.-р., поддерживали в топ или другой мере одну из сторон, расширяя внешне масштаб участвующих — до борьбы между социалистической и либеральной демократией. Борьбу запутывали и осложняли чехо-словаки, принимавшие в ней деятельное участие — до арестов членов правительства включительно, и союзные представители. Кроме генеральных консулов Франции и Англии (Гаррис и Буржуа), все это были мелкие консульские агенты или офицеры для связи. Не разбираясь в русской жизни, не имея ни полномочий, ни даже возможности снестись со своими правительствами, они играли, однако, совершенно неподобающую роль, вмешиваясь непрестанно во внутренние русские дела, не раз влияя на важные решения и внося в область политики элемент хлестаковщины и интриги.
Мало-помалу во внутренней борьбе двух центров — Самары и Омска — успех стал клониться на сторону последнего. Умеренная политика Вологодского, все возрастающая сила Сибирской армии и устанавливавшийся в крае внешний порядок привлекали в орбиту сибирской государственности Оренбургское, Уральское казачества и новую Уральскую область[218], которая вопреки давлению Самары вошла в связь с Омском и приняла общее направление его политики и единство командования. Наконец, Омск привлекал к себе симпатии и офицерства Народной армии.
Соперничество двух центров отражалось болезненно во всех областях государственной жизни. Такое положение длиться не могло. В общественном сознании идея необходимости государственного объединения и создания общероссийской власти пустила глубокие корни, не встречая противодействия и среди идейных сибирских областников.
Под давлением общественного мнения, иностранных представителей и чехо-словаков, запутавшихся в противоречиях внутренней русской жизни, и под влиянием умеренных членов Союза Возрождения[219], вопрос об объединении власти был наконец поставлен на очередь.
В Челябинске 15 июля состоялась встреча представителей Самары и Омска, обнаружившая непримиримое противоречие во взглядах на построение власти. «Самара» считала всероссийскою верховной властью Учредительное собрание 1918 года, и себя временным носителем ее; «Омск» отверг категорически это положение, заявив, что общерусская власть может быть создана только путем соглашения новообразований.
— На каких условиях вы нам подчиняетесь?
Это был первый вопрос, с которым делегаты «Комуча» обратились к послам «Омска».
Первое совещание не дало положительных результатов. В августе состоялось второе — там же, в Челябинске, приведшее к Уфимскому государственному совещанию.
Нет сомнения, что на уступчивость самарских правителей повлияло угрожающее положение Волжского фронта, которое ставило их перед перспективой — в ближайшем будущем остаться без «народа» и без армии.
* * *
С начала 18 года, после захвата власти большевиками, по сибирской магистрали от Челябинска до Канска начали формироваться тайно офицерские дружины. Большая часть из них возглавлялась коллективом из местных с.-р.-овских ячеек и находилась в известной зависимости от Дерберовского правительства, получая от него весьма, впрочем, ничтожные пособия. Военным министром считался подпоручик Краковецкий, один из произведенных Керенским, за выслугу лет в ссылке при царском правительстве, в подполковники. Начальником штаба всей организации, распространявшейся от Челябинска до Байкала, состоял артиллерийский подполковник Гришин (псевдоним «Алмазов»). Я познакомился с ним в конце 18 года, когда судьба заставила его покинуть Сибирь и появиться в Екатеринодаре. Молодой, энергичный, самоуверенный, несколько надменный, либерал быть может более политик, чем воин, с большим честолюбием и с некоторым налетом авантюризма он несомненно сыграл бы большую род в сибирском движении, если бы в самом начале своей карьеры не переоценил свой вес и влияние.
Офицерство было в большом смущении. Имена Краковецкого и Гришина-Алмазова не говорили ему ничего. Существовавшее в потенции, в конспирации какое-то Временное Сибирское правительство не могло внушить ему доверия. Но ни признанного вождя, ни другого объединяющего центра не было; не было и материальных средств, которых не хотел давать верный себе, закоснелый в эгоизме торгово-промышленный класс, не доверявший к тому же возглавлению революционной демократии. Средства предоставляла сибирская кооперация, по под условием признания с.-р.-овского «правительства». Эти обстоятельства и обусловили внешние формы взаимоотношений между офицерскими отрядами и с.-р.-овскими ячейками и всю подготовку движения. К тому же руководитель его Гришин-Алмазов «понимал, что власть будет иметь тот, у кого реальная сила»[220], и внушал эту мысль колебавшемуся офицерству.
Были, впрочем, местами и так называемые «беспартийные» организации, возникавшие по инициативе внепартийной интеллигенции и скудно субсидируемые мелкими представителями сибирского торгово-промышленного класса.
Составленные из однородных элементов, преимущественно офицерских, дружины, находясь подчас в одном городе, не были объединены и зачастую не знали о существовании друг друга. Более сильные отряды сформировались в Омске, Томске и Иркутске.
Еще в январе от Добровольческой армии на Волгу и в Сибирь была послана делегация во главе с ген. Флугом — по инициативе Корнилова и при более чем сдержанном отношении к ней Алексеева. Военная задача, возложенная на делегацию, заключалась в том, чтобы сорганизовать на местах элементы, способные к борьбе с большевизмом, обеспечить их местными средствами и связать в той или другой форме с Добровольческой армией[221]; политическая — завязать сношения с местным правительством и войти с ним в соглашение по вопросу формирования добровольческих частей. «При наличии правительства… желающего помочь (нам), все мероприятия проводить через его посредство, всячески поддерживая краевую власть, а при возможности заключить с него договор для совместных действий по воссозданию России»[222]…
Связь с Сибирью не наладилась. Мы получили только одно донесение от ген. Флуга в июне, которое шло из Омска два с половиной месяца и сильно отстало от быстро текущих событий. Он не получил ни одного распоряжения из армии. По этому поводу ген. Алексеев писал мне:
«Расходы льются широкой рекой. Выделить из своих сумм «хотя бы 100 тысяч рублей» (представление Флуга)… это такая разброска средств, которая непосильна для маленькой организации, живущей изо дня в день и тяжкими усилиями добывающей средства… Я считаю необходимым закрыть отдел и держать лицо только для связи и осведомления… Что важнее — содержание армии иди политическая работа за тридевять земель, до которых армия не дойдет и где есть свое правительство, свои задачи, свои цели, своп средства?»[223]
Без всяких денежных средств, с одним только авторитетом имени генералов Алексеева и Корнилова, Флуг проехал через всю Сибирь, посетил важнейшие центры и вошел в связь с местными политическими деятелями и тайными военными организациями. Деятельность его, носившая поневоле совершенно личный, самостоятельный характер, сводилась к ознакомлению с тайными организациями, освобождению их от исключительной опеки с.-р.-овских ячеек и подчинению политическому влиянию местных несоциалистических групп, преимущественно кадетских, путем извлечения средств от буржуазии; к установлению вместо штабных коллективов — единоначалия. Наконец, в объединении «беспартийных» и с.-р.-овских дружин в некоторых центрах под общим командованием. Так, например, по его настоянию был назначен начальником дружин в Омске полковник Иванов (псевдоним «Ринов»), командир одного из сибирских казачьих полков, ставший позднее атаманом Сибирского войска и командующим Сибирской армией.
Участие в деле «делегатов генералов Алексеева и Корнилова» несомненно придавало ему большую серьезность в глазах офицерства.
Офицерские дружины, пополненные добровольцами-интеллигентами, сибирские казаки, местами присоединившееся городское и сельское население, при помощи чехо-словаков повсюду легко разбивали красную гвардию и свергали советы. Ставший командующим Сибирской армией и управляющим военным министерством сначала в комиссариате, потом в правительстве Вологодского Гришин-Алмазов[224] с большой энергией стал приводить в порядок эти разношерстные ополчения, освобождая их от случайного элемента, пополняя добровольцами, вводя организацию и дисциплину. К августу Сибирская армия состояла из трех корпусов: Уральского (ген. Ханжин), Степного (ген. Иванов-Ринов) и Средне-Сибирского (полк. Пепеляев). В состав их входили части офицерско-добровольческие, сибирские и оренбургские казачьи, киргизские и башкирские. Кроме того, на территории Сибири действовало несколько партизанских отрядов, во главе с «атаманами», никому не подчинявшимися и являвшимися бедствием для населения и власти.
Состав Сибирской добровольческой армии весьма показателен для народных настроений: «общая численность ее — говорит отчет — 40 тысяч человек, казаки составляют половину этого числа. Если принять во внимание, что в строй на положение рядовых добровольно стало до 10 тысяч офицерской молодежи, призванной по мобилизации, то оказывается, что добровольцев не военнообязанных всего 10 тыс. человек, причем добрую половину этого числа составляет интеллигенция, главным образом учащаяся молодежь. Таким образом, «народ» дал всего 5 тыс. добровольцев[225].»
В оперативном отношении, так же как и Народная армия, Сибирская была подчинена чешскому командованию: Уральский корпус и часть Степного — Войцеховскому, Средне-Сибирский–Гайде; только дивизия, действовавшая в направлении на Верный, подчинялась командующему Сибирской армией. Русские части были разбросаны между чешскими полками, иногда батальонами, лишая возможности старший командный состав оказывать влияние на свои войска, мешая их внутренней спайке. На этой почве Гришин-Алмазов вел безрезультатную борьбу с чешским командованием. «Поручики в генеральских мундирах» — по его выражению — вошли во вкус неограниченного самовластия — они по существу были господами положения. Гришин-Алмазов рассказывал, как капитан Гайда, например, объявил своею властью Иркутскую и Енисейскую губернии на военном положении и ввел на жел.-дор. станциях военно-полевые суды из чехов, «с необязательным участием одного русского»… Как Гайда награждал русских офицеров георгиевскими крестами и т. д. Позднее самовластие и русских войсковых начальников стало явлением обычным, внося большое расстройство и гражданское управление краем.
В армии введена была старая дисциплина, с некоторыми изменениями устаревших положений, и в угоду революционной демократии отменено ношение погон; последняя мера принята была в армии как унижение офицерского звания и вызывала недовольство.
Говоря о «старой дисциплине», я должен оговориться: ни в одной армии, ни в один период революции восстановить ее в надлежащей мере не удалось. Всеобщий моральный распад отозвался болезненно в жизни армии, поразив верхи еще в большей степени, чем низы. Можно говорить лишь об установлении сверху правильных взглядов на дисциплину и о большем или меньшем приближении к их осуществлению в войсках. К этому вопросу я вернусь, говоря о Добровольческой армии.
В общем, офицерство оставалось вполне лояльным в отношении власти, более интересуясь условиями армейской жизни, чем общей политикой правительства. То обстоятельство, что правительство не вмешивалось в организацию армии, предоставив это дело военачальникам, побуждало армию «терпеть» социалистический комиссариат и относиться спокойно к полусоциалистическому правительству Вологодского. Что касается казачьих войск, то, оставаясь в общем лояльными к выборной казачьей власти и к высшему военному командованию, ведя самоотверженную борьбу с большевиками, они переживали иногда периодически и сами приступы большевицкой болезни…
К августу приток добровольцев в Сибирскую армию прекратился совершенно. Командование решило приступить к мобилизации, призвав два возраста 19 и 20 годов, не бывших еще на фронте. Тщательно подготовленный набор, произведенный в конце августа, дал до 200 тысяч человек: сибирские крестьяне без подъема, но покорно шли в армию, а сопротивление, оказанное в двух-трех уездах, было жестоко подавлено вооруженной силой. Не взирая на большой недостаток командного состава (генералов и штаб-офицеров), крайнюю бедность в обмундировании и снаряжении, молодая армия организовалась, училась, сколачивалась, возбуждая большие и обоснованные надежды в сибирском обществе. Прикрытый чехо-словаками и Народной армией Волжский фронт давал возможность Сибири собраться с силами.
Результатов своих трудов Гришину-Алмазову не пришлось увидеть. С.-р.-ы совместно с левой частью правительства, к которой примкнул и Вологодский, питавший личное нерасположение к надменному и слишком самостоятельному, по мнению правительства, генералу, добились его устранения. Слепой страх перед призраком отечественного Бонапарта побудил революционную демократию устранить человека, сумевшего как бы то ни было примирить армию с фактом существования полусоциалистического правительства, и передать власть другому лицу сугубо правому по политическим убеждениям, одиозному в глазах социалистов по характеру его прежней деятельности (начальник уезда), но не обладавшему, как казалось им, опасными качествами Бонапарта… Во время командования этого другого ген. Иванова-Ринова по иронии судьбы состоялся впоследствии переворот 18 ноября.
Удалив Гришина-Алмазова самым непристойным образом, правительство Вологодского особым «рескриптом» отдало ему «заслуженную щедрую дань глубокого уважения и признательности». .
Генерал Гришин-Алмазов уверял впоследствии, что все «предложения офицерства и войск стать на его сторону он отверг», чтобы не подрывать авторитета власти… Есть другие данные, свидетельствующие, что подобная попытка была, но встретила противодействие со стороны старших Начальников (соревнование Иванова-Ринова) и полное равнодушие со стороны армии.
Армия считала Гришина-Алмазова социалистом, а социалисты — реакционером. Таких недоразумений история русской смуты знает не мало.
Глава XIV. Дальний Восток. Военное положение на Восточном фронте. «Интервенция»
Дальний Восток был долго отрезан от остальной Сибири, не имея с ней никакой связи. Только в начале сентября капитан Гайда, взяв Читу, открыл сквозное движение по сибирскому пути.
В конце ноября 18 года курьер привез на Юг письмо адмирала Колчака и доклад ген. Степанова (лица, близкого к адмиралу)[226], адресованные на имя покойного тогда уже М.В. Алексеева. Доклад Степанова, рисующий положение дел на Дальнем Востоке, представляет большой интерес в том отношении, что он составлен с ведома адмирала[227].
Привожу этот доклад, составленный по данным к половине сентября 18 года, в подробном извлечении, исключив лишь часть чисто личную и переставив некоторые абзацы в интересах последовательности изложения.
«В середине мая положение было таково. В Иркутске и Забайкалье господствовали большевики, захватившие Благовещенск, Хабаровск и затем Владивосток. Часть чехословацких эшелонов (что-то около 15 тысяч человек) в это время успела добраться до Владивостока с ген. Дитерихсом и французским полковником (ныне генералом) Парисом. В Манчжурии, вернее в так называемой полосе отчуждения Китайской Восточной жел. дороги, я застал полный хаос.
Бунтовавшие запасные батальоны товарищей были разогнаны и сменены китайскими войсками (в декабре). Русская милиция заменена также китайской. Администрация жел. дор. сохранилась русской, во главе с Управляющим дорогой ген. Хорватом.
Затем, пользуясь свободой от большевизма, в Харбине и на более крупных ж. д. станциях (Хайлар, Манчжурия), собралось несколько тысяч русских офицеров, большею частью из войск бывшего Заамурского округа пограничной стражи, а также из войск, ранее квартировавших в Приамурском округе.
Масса эта оказалась по достоинствам своим не очень то высокой и мало способной сорганизоваться в регулярные, прочные единицы. Это с одной стороны, а с другой, у высших чинов отсутствовала необходимая воля и организаторские дарования, при наличности мелкой зависти и готовности к интригам. Союзники, т. е. японцы и отчасти французы (знакомые Вам ген. Накасима и лейт. Пелио) сразу же своим участием внесли много зла в попытки создать здесь русские войска. Так как сверху уклонялись от объявления формирования войсковых частей, то таковые стали сперва возникать самостийно. Забайкальского войска есаул Семенов выпорол на ст. Манчжурия нескольких ж. д. агентов за их симпатии к большевизму и объявил сам себя атаманом. Ему дали сейчас же денег японцы и французы. Начался набор добрых малых, готовых на все, кроме установления у себя хотя бы тени необходимого воинского порядка. Небольшие удачи в мелких стычках с отдельными большевистскими бандами создали с одной стороны ложную славу Семенову, а с другой непризнание им самим какой-либо иной, кроме него самого, высшей объединяющей власти, что особенно культивировалось господами японцами.
Нечто подобное создалось, но в значительно более мелком масштабе, и на востоке, на ст. Пограничная с самозванным Уссурийским атаманом есаулом Калмыковым, который, как оказывается, даже и не приписан ни к одному казачьему войску, а просто значится Харьковским мещанином.
«Атаман[228] этот также состоит под покровительством японцев, которые и субсидируют его денежными подачками.
Наконец, и самом Харбине возникла было офицерская организация полк. Орлова на более регулярных началах.
Еще в январе возникла на Д. В. мысль о сформировании в полосе отчуждения Китайской ж. д. правительства из числа русских деятелей, собравшихся в Харбине, Владивостоке, Китае и Японии, причем главою такого правительства большинство избирало Управляющего Китайскою ж. д. ген.-лейт. Хорвата, лица, популярного особенно в Китае. Однако эта мысль встретила среди наших дипломатических представителей в Пекине ряд сомнений в успех ее осуществления и было а priori предложено ген. Хорвату сперва создать некоторую вооруженную силу из числа хотя бы прибывших на Д. В. офицеров и только заручившись этой необходимой данной, реализировать свое выступление. А так как ген. Хорват всю службу провел вне строя и по медлительному, нерешительно-эластичному характеру своему и недоверчивости к сотрудникам мало гарантировал возможность определенной организации воинских частей, то для этой цели и был вызван Путиловым и кн. Кудашевым А. В. Колчак и, так сказать, навязан ими, чего однако тогда же никто А. В. не высказал. Решено было, что ген. Хорват озаботится подбором хороших политических деятелей, а адмирал Колчак сформирует для него войска на основах дисциплины и строгой иерархии, в чем была обещана союзниками широкая помощь деньгами и оружием. Когда же то и другое будет готово, то только тогда ген. Хорват и выступить.
Честный, открытый, с сильной волей, глубоко и искрение любящий родину А. В. Колчак принял это предложение и в конце апреля приехал в Харбин. Но здесь его сразу же враждебно встретили и японцы, определивши в нем крупного, стойкого, чисто русского деятеля, и старшие чины наши, и господа самозваные атаманы. В течение мая и июня разыгралась грустная и гнусная с точки зрения русских интересов драма, авторами которой были конечно японцы, режиссировали же свои. А. В. травили в Харбине все, а атаман Семенов отказался даже его принять, когда адмирал сам к нему приехал на ст. Манчжурия. О каком либо воинском единовластии никто и слышать не хотел: оно казалось опасным японцам, подозрительным для высших властей, стеснительным для младших чинов и контрреволюционным для массы.
В результате так никаких войск и не сформировали. Культивировались, как бы наперекор основной идее, лишь разные небольшие отдельные отряды, никого выше себя не признающие и составленные главным образом из китайцев, монгол и бурят. Затем возникло несколько высоких штабов и много генеральских должностей до главнокомандующего фронтом включительно[229]. Завелась переписка, канцелярии, делопроизводители, а воителей состояло к 1 июля, и то «по спискам»: в отрядах, признающих адмирала, всего 740 человек, у атамана Семенова грубо не подчинявшегося пи адмиралу, ни ген. Хорвату что-то около 1800 человек (китайцы, монголы, буряты, японцы, 100 сербов, 400–500 забайкальских казаков и немного русских офицеров), у атамана Калмыкова 70 человек. Вот и весь боевой состав, друг друга не признающий и даже угрожающий один другому.
Вследствие всего этого 30 июня п. ст. адмирал Колчак выехал в Токио, чтобы лично выяснить там, являются ли поступки ген. Накасима и некоторых офицеров японского ген. штаба, заключающиеся в подговаривании начальников русских отрядов не признавать адмирала и не исполнять его приказаний, их личными выступлениями против него или это делалось с ведома и одобрения начальника японского генерального штаба.
В Токио, в присутствии нашего посланника В.Н. Крупенского и моем, адмирал имел по этому поводу беседу с ген. Танака помощником Начальника ген. штаба, фактически его главой. Ген. Танака против обвинений, высказанных адмиралом, не протестовал, но просил его «временно» оставаться в Японии, обещая призвать к высокой военной деятельности впоследствии, по выяснении условий интервенции союзников. Так А. В. и остался в Японии.
В июне весь Харбин был полон воплями о необходимости для спасения России призвать союзников, а главное японцев. Больше всех в этом отношении агитировал образовавшийся здесь еще ранее Дальневосточный Комитет[230], при участии бывшего члена Государственной Думы Ст. Вас. Востротина (кадет). Господа эти сочинили целое молебное послание от лица «лучших русских людей» и через ген. Хорвата отправили его в Токио и другим союзникам.
Вскоре (9 июля н. ст.) после отъезда адмирала из Харбица, ген. Хорват объявил себя Всероссийским Правителем, принявшим на себя и «всю полноту государственной власти», для чего выехал на ст. Гродеково, находящуюся на русской территории в Уссурийском крае.
Хорват организовал так называемый «Деловой Кабинет», в состав которого вошла часть членов Дальневосточного Комитета; председателем его был избран Востротин. Пост военного министра принял недавно перед этим прибывший от Вашего имени ген. Флуг».
Генерал Флуг по своей инициативе принимал участие и в политической борьбе Сибирских центров. Так, в апреле в Омске он участвовал в подготовке на случай свержения большевиков «диктатуры во главе с П. Ивановым»… В начале июля, как сказано выше, вступил в состав «Всероссийского» правительства ген. Хорвата вместе со своим помощником Глухаревым. При этом — не персонально, а в качестве «делегации генералов Алексеева и Корнилова», что уже совсем не входило в его полномочия. Тотчас по вступлении в должность Флуг обратился по телеграфу к Гришину-Алмазову и Иванову-Ринову, объявляя об образовании генералом Хорватом государственной власти, в состав которой вошла «возглавляемая нм миссия»; сообщал, что новая власть приступила к воссозданию боевых сил, «в состав коих имеют войти и организованные в Сибири боевые отряды». Сибирские военачальники ответили приветствиями и пожеланием соединения армий, но от признания над собою «всероссийской власти» Хорвата уклонились.

Возвращаюсь к письму ген. Степанова.
«Адмирал Колчак в состав кабинета приглашен не был ввиду того, что «в бытность свою в Харбине он всех восстановил против себя.
По-видимому и это выступление было произведено не без настояний японцев, гарантировавших свою всесильную поддержку. Хотя незадолго до этого из японских субсидий было выдано некоему Краковецкому — военному министру еврейско-сибирского-Дерберовского Правительства 50 тысяч рублей и само правительство предупредительно перевезено во Владивосток, где оно и объявило себя истинным правительством Сибири. Таким образом, в Уссурийском крае сразу же появилось два правительства: во Владивостоке — находившемся во власти большевиков — якобы выбранное населением Западной Сибири во главе с Дербером, и на пограничной с Манчжурией ст. Гродеково — всероссийское ген. Хорвата. Кроме того особую чисто большевистскую позицию заняли земства Приморской Области и Владивостокское городское самоуправление во главе тоже с евреем Медведевым. В Хабаровске властвовал большевик, еврей Краснощеков. Но в конце концов эти господа сговорились с Дербером.
Чехо-словаки, находившиеся во Владивостоке, сперва хранили нейтралитет, но затем, под угрозой выступления против них германо-австрийских пленных, обезоружили во Владивостоке и Никольске Уссурийском большевиков. Роль при этом М.К. Дитерихса до сих пор для меня не ясна (лично мне с игам еще не пришлось увидеться). Официально он заявил, как офицеру, командированному к нему адм. Колчаком, так и представителям ген. Хорвата (между прочим ген. Флугу), что он теперь не является русским, а только чехо-словаком. что считает Россию совершенно развалившейся, что никакого русского правительства ранее, чем через два гида создать нельзя и что все русские военные организации подлежат немедленному роспуску. В виду этих суждений он категорически отказал в разрешении ген. Хорвату переехать во Владивосток.
В подобных переговорах прошел июль.
2 августа ген. Хорват, опять-таки по-видимому не без совета японцев, воспользовавшись отсутствием ген. Дитерихса, проехал во Владивосток. Поезд его пропустили, по следовавшие сзади эшелоны с офицерскими ротами чехами не были пропущены. Вследствие этого 5 августа произошла стычка на ст. Голенки. Чехи взорвали путь перед русским бронированным поездом, выстрелами из которого затем были убиты два чеха.
В августе начали прибывать во Владивосток, в Харбин и на ст. Манчжурия войска, присланные союзниками согласно интервенции. Японцы ввезли пока (к 20 сент. н. ст.) в общем около двух дивизий, остальные союзники строго по условиям интервенции. Главное командование и на так называемом Хабаровском фронте, и на Забайкальском, и общее всеми союзными силами взяли в свои руки, конечно, японцы (фельдмаршал Отани).
Американцы привезли свои войска из Филиппин, французы и англичане из ближайших азиатских колоний. Разумеется, по сравнению с японцами войска остальных союзников в боевом смысле представляют во всех отношениях величину незначительную. Русские отряды союзниками совершенно игнорируется, даже в их штабы не приглашены русские офицеры, хотя бы для облегчения сношений с местным населением. Только отряд атамана Семенова, вероятно потому, что еще с самого начала существования этого отряда, с первой пачкой японских денег — фактическим начальником штаба отряда был посажен японский ген. штаба капит. Куроки (сын покойного маршала).
Весь август правительства ген. Хорвата и Дербера провели во Владивостоке, высиживая друг друга на измор, при более чем недвусмысленном отношении дипломатических и военных представителей союзников.
Наши послы в Токио и Пекине заняли в этом вопросе позицию невмешательства, причем однако кн. Кудашев, не делая никому исключения, передает официально все обращения, воззвания и манифесты каждого возникающего правительства, не считаясь с его credo, кроме ярко большевистских. Что касается вопроса об организации русской армии, то ген. Флуга об этом даже и слушать не хотят союзники.
Сперва союзников представляли во Владивостоке их коммерческие консула и старшие войсковые начальники. Но недавно вместо первых образован «Высокий совет комиссаров» из специальных представителей: от Англии сэр Эллиот (бывший советник английского посольства в Петрограде), от Франции г. Реньо (только что покинувший пост посланника в Токио), от Америки назначается также посланник в Японии и от Японии г. Масаджеро. Между высоким советом консулов (?) и старшими военными Начальниками союзных войск по-видимому нет солидарности но взглядах.
Находящиеся во Владивостоке русские офицеры, сперва организованные (т. е. попросту нанявшиеся) революционно-большевистским земством, пытались было признать ген. Хорвата, но за это вследствие навета Дербера были публично разоружены по постановлению совета союзных консулов, приведенного в исполнение приказом ген. Накасима. Акт этот был настолько позорно обставлен, что присутствовавший русский артиллерийский чиновник (завед. оружием) застрелился.
Событие это вызвало много сочувственных и даже патриотических разговоров. Союзники удивлялись, они никак не могли представить себе, чтобы у русских сохранилось еще столь сильно выраженное чувство национальной чести. Но однако все это не помешало в день похорон многим русским дамам и господам принять приглашение и веселиться на благотворительном чае, устроенном как бы нарочно англичанами на палубе крейсера Суффольк…
В первых числах сентября происходить новое важное событие. Чехо-словаки, задержанные и дороге большевиками в Западной Сибири, прорвались под начальством чеха Гайда в Забайкалье, взяли Читу и вошли в соприкосновение с только что начавшим наступление Забайкальским отрядом, состоящим из японцев, чехов и войск Семенова.
Гайда заявил себя во время борьбы с германо-большевиками в Сибири человеком решительным, расстрелявшим массы и перепоровшим еще большее число лиц.
Гайда объявил себя главнокомандующим всеми русскими и чехо-словацкими войсками и, как только добрался до ст. Оловяная Забайкальской ж. д., вызвал к себе ген. Хорвата и Дитерихса.
С прибытием Гайды открылся ж. д. проезд в Иркутск и далее, чуть ли не до Самары, явилась, наконец, давно жданная возможность войти в сношения с Западной Сибирью и ее правительством.
20 сентября п. ст. во Владивостоке собрались играющие доминирующую роль старшие представители союзников, правительства Хорвата и Дербера, Вологодский и «диктатор» Гайда, третирующий пока всех и каждого»…
Усилия Вологодского увенчались успехом. Дерберовское правительство, оказавшееся в критическом финансовом положении, и Хорват отказались от власти в пользу Сибирского правительства. Хорват был назначен «наместником на Дальнем Востоке».
«В общем все более и более выясняется, что союзники вступили в пределы России не ради спасения ее, а вернее ради своих собственных выгод. России никому не нужно. Установление у нас определенной твердой правительственной власти вредно для интересов господ союзников, желающих хозяйничать самостоятельно. Но особенно для них нетерпима организация русской военной силы.
Наглее всех это высказывают японцы, вносящие всюду интриги через своих агентов и закупленных ими русских пособников. Вступление японцев равносильно военной оккупации занятой ими территории. Например, в Хабаровске они присвоили себе амурские канонерки и их дорого стоящую базу, под предлогом военной добычи, отнятой у большевиков.
Для своих расплат с русским населением они ввели особые боны, меняемые только на иены.
Соперниками японцев являются только американцы, сильные с промышленной и финансовой стороны, но слабые в военном отношении. Соперничество это уже обозначается явно: японцы порой как бы издеваются над американцами. Недавно, например, на протест американцев по поводу ввода японцами значительно больших сил, нежели это было оговорено в условиях интервенции, японцы насмешливо ответили, что они ничего не имеют, если и американцы введут сюда большее число своих войск, даже «большее, чем это может сделать Япония»
Тот же ген. Накасима и другие японские офицеры не стеснялись публично бранить американцев… по азиатски стараются натравить на американцев других союзников, и особенно нас русских, всюду и везде подчеркивая, что американцы явные сторонники большевиков.
Что касается американцев, то эти господа в политическом отношении скорее наивны и до сих пор еще продолжают смотреть на Россию и на наш большевизм по внушениям своей еврейской клики, которая и являлась в С. Штатах до последнего времени единственным источником познания России.
Есть сведения, что в настоящее время эта ориентировка уже подверглась критике и американцы хотят сами, помимо евреев, познакомиться с Россией, ее населением, укладом его жизни и экономическими нуждами. Но когда все это случится!
Англичане, как всегда, третируют нас свысока, а французы почему то пока находятся под видимым влиянием Японии.
О китайцах я и не говорю, Китай сам все еще переживает революцию, при дружелюбном содействий Японцев, ссужающих деньги и оружие одновременно и северянам, и южанам, как это уверяют делали они и у нас, субсидируя также одновременно и Семенова (не признающего ген. Хорвата), и самого Хорвата, и Дербера, а весной даже хабаровских большевиков. Нельзя умолчать и о высказываемых союзниками чаяниях в отношении вознаграждения от нас за их «бескорыстную помощь». Еще с адмиралом Колчаком по этому поводу заводил разговор ген. Накасима, но А. В. довольно определенно уклонился от этого вопроса, как стоящего вне его компетенции. Пока выясняется, что Япония, обездоленная железом, возьмет себе: 1) наши побережные районы, богатые железной рудой, 2) нашу часть Китайской В. ж. дор. и видимо еще с придачей, 3) Владивостокского порта и Уссурийского края. Пока же японцы скупают пароходы на Амуре и занимают своими командами наши речные канонерки.
Американцы часто много говорят о необходимости обеспечить за собой право на постройку жел. дор. через Камчатку на Иркутск (кажется) с эксплуатацией прилежащего района. Вопрос этот не новый и возникал уже до войны».
Письмо заканчивалось обращением к генералу Алексееву:
«А как здесь жаждут многие получить от Вас, глубокоуважаемый Михаил Васильевич, хотя бы какие-нибудь указания, что надо делать и как поступать, чтобы спасти родину от грядущего рабства ее под игом не только Германии, но и тех же союзников, вступающих ныне в наши пределы якобы из бескорыстных побуждений».
В письме своем от 1 октября адмирал Колчак высказал также глубоко пессимистический взгляд на общее положение Дальнего Востока: «я считаю (его) потерянным для нас если не навсегда, то на некоторый промежуток времени; и только крайне искусная дипломатическая работа может помочь в том безотрадном положении, в котором находится наш Дальний Восток. Отсутствие реальной силы, полный распад власти, неимение на месте ни одного лица, способного к упомянутой работе, создали бесконтрольное хозяйничанье японцев в этом крае, в высшей степени унизительное и бесправное положение всего русского населения».
Интересно первое впечатление, которое вынес адмирал о директории, приехав в конце сентября в Омск[231]: «я не имею пока собственного суждения об этой власти, но, насколько могу судить, эта власть является первой, имеющей все основания для утверждения и развития».
Адмирал Колчак не питал, как видно, никакого предубеждения к идее «демократического правительства».
* * *
В то время, когда на огромном пространстве от Волги до Великого океана шла непрерывная политическая борьба взаимно ненавидящих, свергающих друг друга советов, комитетов, правительств и правителей, на бесчисленных внутренних фронтах лилась кровь. Политика всецело полонила стратегию, внося своими чрезвычайными противоречиями элемент авантюры в операции, хаос в снабжение и начало деморализации в дух армий.
В начале августа стратегическое положение было следующим: Под номинальным командованием ген. Шокорева находилось около 120 тысяч русско-чешских войск, из которых более половины входило в состав Западного фронта, 15–20 тысяч Южного, 15–20тысяч Забайкальского и 10–15тысяч расположилось во Владивостоке.
Против этих сил действовали войска Красной армии, насчитывавшие на фронте Камы и Волги 80–100 тысяч, и совершенно не поддающиеся учету многочисленные красногвардейские отряды, так называемого «Ташкентского фронта», внутреннего сибирского[232], Забайкалья и Приморской области.
Операции развивались почти исключительно вдоль жел.-дор. линий.
В Прикамском районе, на Пермском направлении в первой половине августа большевики произвели сильный нажим на Екатеринбург, подойдя к городу на пол перехода и вызвав там сильную панику. Полковнику Войцеховскому удалось, однако, отбросить наступавших.
На Волжском фронте, без разрешения командования, по инициативе частных начальников (полковник Каннель, чешский капитан Швец) неожиданным налетом 7 августа была взята Казань. Операция эта, стратегически необоснованная, имела, однако, чрезвычайно важные последствия: в Казани был захвачен и поступил в ведение Самарского правительства золотой запас Российского государства в 651½ миллион рублей золотом[233] и кроме того 110 миллионов кредитными билетами и на большую сумму ценных бумаг. Это обстоятельство давало прочную финансовую базу для развития Восточного фронта и сильно подрывало положение советской власти.
На Саратовском направлении, с марта месяца, проявляя огромное напряжение, мобилизовав все мужское население с 19 до 55 летнего возраста, выставив до 20 полков, вело непрерывную героическую борьбу Уральское войско. В каких условиях об этом один из участников говорит[234]: «пусть будет известно, что в отношении вооружения в начале нашей борьбы дело обстояло так, что многие старики несли с собой в бой пешни, пики, ломы и даже цены; и после боя бывали найдены на поле брани с этим оружием самозащиты в руках». Только в начале июня, когда самарской группой чехов и добровольцев был взять Бузулук, войску открылась возможность получить оружие и боевые припасы. Под давлением превосходных сил большевиков, уральский фронт все время менял свое очертание, дважды (апрель и июнь) подходя почти вплотную к столице войска г. Уральску.
До конца августа на Камском и Волжском фронтах было сравнительно спокойно; уральские казаки, отбросив большевиков на всех направлениях, дрались у Николаевска, Новоузенска и Красного Яра (под Астраханью); капитан Гайда подошел к Байкалу; на прочих направлениях шли небольшие бои с переменным успехом.
В сентябре обстановка круто изменилась под влиянием двух новых факторов: подвинувшейся значительно вперед организации Красной армии и начавшегося брожения в Чехо-словацком корпусе, который продолжал еще перебрасывать свои части с востока на запад.
Предпринятое большевиками в начале сентября наступление главными силами на Уфимском направлении увенчалось успехом: они взяли 9-го Казань, 12-го Симбирск, а 9-го октября овладели и Самарой, продвигаясь затем дальше на восток.
Чехи, избалованные легкими успехами над красной гвардией весной и летом, теперь, когда начались более серьезные бои, драться не хотели. Тем более, что к тому времени путь к Великому океану был уже свободен… Глухо прозвучал выстрел, которым доблестный чех капитан Швец покончил свою жизнь, не будучи в силах перенести те явления, которые он считал предательством… Прозвучал, — не разбудив ничьей совести. Только добровольческие части, отступая последними, оказывали слабое сопротивление преследующему противнику. С фронта на восток потянулись массы беженцев.
В оправдание свое чехи приводили мотивы достаточно веские: неустойчивость русских частей, вызывавшую у них сомнение, «желает ли русский народ действительно у себя порядка, народовластия, свободы… или предпочитает советскую власть»[235]… «Внутреннюю смуту и неурядицу», в силу которой наблюдалось «не взаимодействие отдельных областей, но что-то вроде глухой вражды… Эгоизм и непонимание государственных задач доходили до границ недопустимого»[236]… Приводились и стратегические соображение неправильность первоначальной разброски сил и необходимость сосредоточиться в районе Челябинска, чтобы начать серьезную операцию в одном главном направлении на Вятку Котлас для соединения с англичанами[237]…
Образ действий чехов в этот второй период их участия в русской смуте нс нуждается в оправдании. Они вольны были решить по внутреннему своему убеждению трагическую для нас дилемму: проливать ли кровь за спасение России или уходить. Они стали уходить. Это обстоятельство дает нам, однако, нравственное право отнестись критически к ореолу героизма и самоотверженности, в который облекают движение чехо-словаков, и, во всяком случае, не чувствовать себя в долгу перед ними. С осени 1918 года, в особенности с ноября, когда последние их части вышли из боевой линии, Чехо-словацкий корпус стад чужеродным и больным наростом в организме Сибири, поглощая большие материальные средства ее, столь необходимые для русской армии, загромождая и подчас парализуя подвижность сибирской магистрали.
Бесславное участие в драме адмирала Колчака завершило впоследствии дело, так славно начатое чехо-словаками на Волге…
…
На других фронтах обстоятельства складывались значительно благоприятнее: на южном — наступление большевиков не получило развития; «внутренний фронт» был ликвидирован частями Сибирской армии; пал окончательно и восточный, со взятием Гайдой Читы. Все внимание и силы можно было, следовательно, обратить на Западный фронт.
К концу октября военное положение на территории, подчиненной «всероссийской власти» в лице созданной в Уфе директории, представлялось в следующем виде:
I. Западный фронт шел по линии Верхотурье — Красноуфимск — Богуруслан — станция Неприк. Войсками его командовал чех, ген. Сыровой, сменивший Шокорева, имея штаб-квартиру в Челябинске. В трех группах генералов Гайды (Екатеринбург), Люпова (Бирск) и Войцеховского (Уфа) числилось русских войск 42 тысячи[238], чешских — 20 тысяч при 182 орудиях.
ІІ. Уральский фронт шел в направлении от станций Неприк к берегу Каспийского моря, западнее Гурьева. Силы 5% тысяч уральских казаков при 16 орудиях; во главе их стоял командующий войсками Уральской области, ген. Акутин.
ІІІ. Юго-западный фронт прикрывал направление от Самары и Ташкента на Оренбург — в районах Бузулука и Актюбинска. Фронт занимали оренбургские казаки и остатки Народной армии силою в 15½ тысяч при 54 орудиях, под начальством Оренбургского атамана, ген. Дутова.
IV. Юго-восточный фронт в направлении Семиречья; передовые части занимали Копал и Лепсинск. Силы 6 тысяч, 11 орудий из состава Сибирской армии находились в непосредственном подчинении командующего армией ген. Иванова-Ринова, жившего в Омске.
Резервом могли служить полувооруженные и полуобученные три дивизии ген. Ханжина, расположенные в Екатеринбургском районе, силою около 30 тысяч.
Всего, следовательно, сибирские армии насчитывали около 90–120 тысяч при 263 орудиях. Войска устойчивые на севере и юге, и морально подавленные на важнейшем, Самарском направлении.
Против них наступали шесть красных армий[239] Восточного фронта под начальством полковника Каменева силами до 100 тысяч при 300 орудиях[240]; более двух третей этих сил было сосредоточено против Западного фронта (ген. Сыровой), который медленно катился назад под их давлением.
* * *
С августа месяца начала как будто сбываться мечта многих русских людей, видевших спасение России в союзнической интервенции. Мечта, положенная в основание планов большинства политических партий, поддерживавшая морально впавшую в отчаяние буржуазию и дрогнувший фронт…
В августе и сентябре стали прибывать во Владивосток транспорты с долгожданными союзными войсками. Высадилось… три дивизии японцев, 5 батальонов американцев, по батальону англичан[241], французов и итальянцев. Численность войск явно не соответствовала той огромной задаче, которая ставилась им пышными декларациями правительств и «высоких комиссаров». Еще более странным показалось применение этих войск… Японские дивизии расположились во Владивостоке, Харбине и вдоль линии Забайкальской ж. д. до Читы; при этом японский командующий, маршал Отани заявил, что никакой другой задачи от своего правительства он не имеет. Американцы стали на охрану пути между Иркутском и Верхнеудинском и по Уссурийской ж. дор., английский батальон двинут в Омск — резиденцию «высокого комиссара», очевидно, для представительства.
Этот высокий комиссар, сэр Эллиот, прибыв раньше других полномочных представителей союзников на екатеринбургский фронт, торжественно заявил: «союзники употребляют все усилия, дабы оказать помощь возрождающейся России, как вооружением, снаряжением, так и людьми. Уже находятся в пути к Сибири их части, которые скоро будут сражаться на фронте. Помощь подвигается и с другой стороны от Котласа… Нельзя упрекать нас в медлительности… Связь только что налажена и теперь делается все, чтобы ускорить помощь»…
Официальная ложь союзников будила надежды, сменившиеся скоро глубоким разочарованием. Сибирь не получила от иностранцев ни одного штыка; они ограничились позднее присылкою материальной помощи вооружением и снабжением.
Порт и многомиллионные склады Владивостока были обеспечены, путь для чехо-словаков открыт, австро-германские контингенты военнопленных временно локализованы, а военно-политическая обстановка на европейском театре войны давала надежду на скорое и победное ее окончание.
Какие же еще мотивы могли побудить «реальных» политиков Запада принять более деятельное участие в судьбах опасной своим бурным брожением страны, в несчастье непонятного для них народа?
Глава XIV. Внешние затруднения Добровольческой армии: немецкая оккупация, Астраханская и Южная армии
С приходом германских войск на Дон положение Добровольческой армии стало весьма затруднительным. Декларации наши, свободно обращавшиеся, не могли создать никаких иллюзий в немецком командовании в вопросе об отношении к нему армии. Правда, первоначальная формула этих отношений, исходившая некогда от «совета» при триумвирате[242], теперь была заменена более мягкой: «никаких сношений с немцами»… Но и эта формулировка не могла примирить немецкое командование с фактом существования бок о бок силы, безусловно нм враждебной.
Началось зондирование почвы.
Киевская главная квартира через третьих лиц — немецкой ориентации — предлагала нам войти в «дружеские сношения»; гр. Альвенслебен искал свидания с адъютантом ген. Алексеева, ротмистром Шапроном, бывшим в Киеве по дедам армии; ген. Арним в Ростове на официальных собраниях высказывал свое уважение к Добровольческой армии и сожаление, что «она не идет вместе с нами». На Украйне свободно работали вербовочные бюро, и команды добровольцев — в форме, с отличительными знаками армии — направлялись беспрепятственно на Дон, встречая даже известную предупредительность со стороны немецких комендантов. Это обстоятельство, наряду с появившимися в киевских газетах сведениями о «союзнической ориентации» армии, возбуждало даже в наших киевских друзьях сильнейшее беспокойство — «не готовят ли немцы ловушки…»
Попытки эти остались безрезультатными: командование Добровольческой армии избегая каких бы то ни было активных действий в отношении немцев, категорически отказалось войти с ними в сношения. Создалось весьма оригинальное «международное» положение, которое с некоторым приближением можно назвать «вооруженным нейтралитетом».
Любопытно, как расценивала правая общественность наши побуждения в этом вопросе. Кн. Г. Трубецкой в своем донесении Правому Центру писал[243]: «генералы, стоящие во главе Добровольческой армии, мыслили возрождение России и армии в прямой преемственности от той идеологии, которую они принесли с фронта бывшей русской армии. Немец был враг, и притом нечестный враг, придумавший удушливые газы, а потом и самих большевиков. С этим врагом могла быть только борьба на жизнь и смерть, и невозможны и недостойны никакие разговоры. Изменить союзникам было бы недостойным малодушием и на всех, кто были заподозрены в германской ориентации, ло>шилось пятно». Определение это, верное в отношении офицерской массы, слишком, однако, элементарно в отношении старших начальников они руководствовались кроме этого мотивами государственной целесообразности и некоторым предвидением…
Истинные намерения германцев нам не были известны. Возможность дальнейшего движения их к востоку и югу ставила в крайне тяжелое положение Добровольческую армию и вызывала неоднократные сношения по этому поводу ген. Алексеева и мои с донским правительством. Ген. Богаевский, управляющий отделом иностранных дед, предупреждал, что ручаться ни за что нельзя, но что во всяком случае «с ведома и согласия войскового правительства никакого передвижения немцев быть не может». Одновременно, однако, приходили сведения, что ген. Краснов помимо своего правительства ведет переговоры с немецким командованием о совместном наступлении на Азов и Ейск. 15 июля сведения эти получили существенное подтверждение. Атаман пригласил к себе моего представителя ген. Эльснера и убеждал его в необходимости сдвинуть Добровольческую армию с Кубани на Царицын. В качестве неопровержимого довода Краснов просил передать мне со слов будто бы немецкого майора (Стефани?), что немцы сосредоточили «крупные силы против большевиков» и «предъявили им требование очистить Азов, Ейск, Новороссийск и всю жел.-дор. линию от Ростова до Новороссийска»; ее немцы займут тотчас же, оккупируя таким образом Кубань[244]. С другой стороны, все чаще поступали донесения по поводу возможного движения немцев на Царицын совместно с донскими казаками. Об этом писал и ген. Алексеев. И я, учитывая большое значение для нас Царицына, как единственного выхода на север, просил М. В. «предъявить атаману требование…, чтобы не только с его стороны не последовало приглашения немцев, но наоборот — были бы устранены все предлоги для их движения туда».
Немцы, однако, против красной гвардии и советов больше не помощи. Только однажды, в конце мая, они вынуждены были вступить в бой с большевиками, предпринявшими без ведома Москвы нелепую и безрассудную десантную операцию из Азова к Таганрогу, окончившуюся страшным поражением большевиков, но вместе с тем вызвавшую потери и у немцев до 700 человек.
Берлин все это время вел переговоры о «дополнительных соглашениях» с Москвой, которая настаивала на очищении немцами Ростова и Таганрога иди, по крайней мере, пропуска по Юго-восточным и Владикавказской дорогам большевицких войск для борьбы с Югом.
Позднее, 23 июля Чичерин предъявил преемнику Мирбаха Гельфериху желания более определенные: «активное выступление против Алексеева и никакой дальнейшей поддержки Краснову». Очевидно, как отголосок этих переговоров, в начале июня ген. Кнерцер получил распоряжение из Киева о заключении перемирия с большевиками на всех фронтах, в том числе на Таганрогском и Батайском…
Все немецкие силы, следовательно, можно было направить против Восточного фронта, когда он представит действительную опасность.
* * *
С половины июня отношения немцев к армии резко изменились. 13 июня, как я говорил выше, имело место обращение их через Тундутова к Донскому атаману о репрессиях в отношении Добровольческой армии… Вскоре, через местных воинских властей, последовало требование немцев о сборе всех военнопленных австро-германцев, относившееся и к чехо-словакам, находившимся в рядах армии и сделавшим с ней Первый кубанский поход[245]… На обращенный ко мне тревожный вопрос представителя их Краля я ответил, что избегаю тщательно всяких столкновений с немцами, но защита наших соратников — чехо-словаков — это вопрос нашей чести, и я не остановлюсь в случае нужды даже перед боем… В Киеве немецкая контрразведка, пополненная русскими офицерами, в том числе дезертирами
Добровольческой армии, разгромила местный добровольческий центр и арестовала полковников Кусонского и Ряснянского[246]… Начали поступать сведения о задержке и аресте следовавших в армию офицерских эшелонов из целого ряда городов… Задержание эшелонов и офицеров германские власти объясняли тем, что «Добровольческая армия находится в состоянии войны с Германией, так как содержится на средства французов».
Добровольческие «центры» стали переходить на конспиративное положение, приток пополнений сократился.
В июле стали получаться весьма тревожные сведения со всех сторон от Шульгина, Милюкова, московских организаций, из кругов, стоявших в оппозиции к Донскому атаману об опасности, угрожающей нам со стороны немцев. Непосредственно из «Всероссийского» (советского) генерального штаба пришло тайно донесение, что «решено сильным отрядом не допустить продвижения Добровольческой армии к Царицыну, а разоружить ее и разогнать, как будущее ядро Русской национальной армии».
Обстановка разъяснилась окончательно только к сентябрю, когда от лица, стоявшего во главе одного из центральных советских учреждений, подучено было подробное освещение положения[247]:
«После заключения договора дополнительного к Брестскому, Гинце[248] (середина августа) обратился к советским властям с нотой, которая является… новым дополнением к договору… В конце ее имеется указание о необходимости сохранения ее в тайне. В одном из пунктов немецкое правительство настаивает на принятии советскими властями решительных мер к немедленному прекращению чехословацкого движения, к удалению с удалению союзников с Мурмана и Архангельска… и подавлению мятежа ген. Алексеева. Если советская власть окажется не в состоянии достигнуть указанных выше задач собственными силами, то она не должна противодействовать продвижению для… этих целей немецких сил по территории России… Немцы видят наибольшую для себя опасность именно в Добровольческой армии и в генерале Алексееве… Из сопоставления всех этих данных с передачей советским властям вооружения, снаряжения и боевых запасов, захваченных немцами на наших фронтах, а также формированием на немецкие средства… Астраханской и Южной армий для меня ясно, что немцы принимают все меры к ослаблению численности Добровольческой армии, и к поселению розни между ними (армиями), так и по возможности к полному ее уничтожению… Что касается Дона, то немцы по-видимому предали его большевикам, обязавшись дополнительным к Брестскому договором очистить жел.-дор. линию Воронеж Ростов, а также не признать его самостоятельности… По-видимому, и советские власти пришли к убеждению, что немцы не будут поддерживать Дон в его борьбе с большевиками»…
Что же помешало выполнению этих планов?
Стратегическое положение Добровольческой армии не было таким безотрадным, как представлялось ее друзьям в Москве и Киеве. Это хорошо понимали в штабе ген. Кнерцера и умеряли воинственное настроение своих московских дипломатов. Корпус Кнерцера, состоявший из трех пехотных дивизий и кавалерийской бригады, занимал обширный район Таганрог Ростов Миллерово Бахмут и не мог выделить достаточных сил для скорой ликвидации Добровольческой армии. Вoopyженное выступление против нас несомненно охладило бы симпатии германофильской части русской общественности, всколыхнуло бы национальное чувство, в частности донского офицерства, вызвало бы раскол в Донской армии, падение Краснова и большой хаос в тылу наступающих. Углубление германских войск на Северный Кавказ, в связи с большой подвижностью Добровольческой армии, грозило надолго затянуть операцию, ставя под удары партизанских отрядов все сообщения немцев. До фактического создания союзниками Восточного противонемецкого фронта и до движения армии на север, такой риск не оправдывался бы обстановкой.
В свою очередь я, совершая Второй Кубанский поход, принял некоторые меры обеспечения. На линии Киев Ростов Киевский железнодорожный комитет и некоторые организации подготовляли жел.-дор. забастовки, нападения, порчу и разрушение пути на случай движения на восток немецких подкреплений.
Краснов, по мере движения Добровольческой армии, спешил с открытием жел.дор. линий от Ростова на Торговую и Тихорецкую и просил ген. Алексеева о подчинении ему всех путей сообщения Кубанской области и Ставропольской губернии[249]. Так как это обстоятельство угрожало существованию армии, облегчая удар по ней немцам, я вынужден был препятствовать этим намерениям, мирясь с огромными трудностями подвоза нам снабжения по грунтовым путям. Линия Ростов–Батайск–Торговая была во многих местах основательно разрушена ранее, и инженеры, которым по приказанию Донского атамана надлежало восстановлять путь, в мере возможности саботировали работу. Наконец, 10 июля, после взятия нами станции Кущевки, полковником Кутеповым по моему приказанию взорван был кущевский ж. д. мост, чем прервано было движение от Ростова.
Взрыв у Кущевки вызвал гнев Донского атамана и произвел большое впечатление на немцев, не оставляя уже никаких сомнений в отношении к ним армии. Тем не менее, «вооруженный нейтралитет» не нарушался. Только в конце сентября произошел небольшой эпизод в первый раз ко мне официально обратился от имени своего правительства майор фон-Кофенгаузен, прося ускорить восстановление проходившей по занятой нами территории линии индоевропейского телеграфа и предлагал дать для исправления и обслуживания ее свой персонал. Кофенгаузену было отвечено через ген. Эльснера[250], что вообще все телеграфные линии на территории армии восстанавливаются и чужой помощи не требуется. Через 2-3 недели я получил новую ультимативную уже ноту о предоставлении германскому командованию указанной линии, с требованием определенного ответа в пятидневный срок… Ответил тем же порядком, что телеграфные линии по мере восстановления поступают в общественное пользование… на точном основании российских законов.
Было ли предъявление этого ультиматума желанием создать повод для открытия военных действий, не знаю ближайшие дни совершенно изменили обстановку: над Германией стряслась неслыханная катастрофа, а «высокий представитель» ее фон Кофенгаузен тайно исчез из Ростова, долго еще потом пугая воображение союзных миссий, безуспешно разыскивавших его на территории Юга.
Я должен добавить еще одно: оставаясь неизменно нашим врагом, немецкое командование на Юге России относилось всегда с большим уважением к Добровольческой армии.
* * *
Не выступая против Добровольческой армии с оружием в руках, немцы старались разложить ее другими путями. К числу их относится создание ими так называемой Астраханской армии.[251]
В Киеве, в начале июля, образовалась организация для вербовки в эту армию, формировавшуюся на Дону, в районе ст. Великокняжеской. Во главе ее стад совершенно ничтожный человек, полковник Тундутов, в качестве политического руководителя Иван Добрынский, в окружении чрезвычайно темные элементы (немцы и русские) германской контрразведки.
Астраханская армия, приняв внешние отличия, служебный распорядок и «лозунги» монархические, тем самым должна была отвлечь офицерство от армии Добровольческой армии с неопределенной политической физиономией», «признающей Учредительное собрание», даже «в скрытой форме… республиканской» — как говорили создатели Астраханской армии.
Первое время набор, открыто поощряемый немцами, имел известный успех. Немцы дали Тундутову несколько миллионов рублей и отпустили в небольшом размере русское боевое снабжение. Правые круги Киева, во главе с гр. В. Бобринским, оказывали армии моральное содействие, московский Правый Центр «вступил с ней в контакт». Шли в армию и офицеры: одни из числа обиженных, не нашедших удовлетворения своему честолюбию в рядах Добровольческой армии; другие из-за двойного в сравнении с добровольческим оклада; третьи действительно искренне привлекаемые монархическим лозунгом. Большинство же шло просто «на борьбу с большевиками», не разбираясь ясно в задачах нового формирования и в удельном весе его руководителей.
Организаторы писали долго генерала с популярным именем для возглавления армии. Гр. Келлер отказался, как «открытый противник германской ориентации»… Геи. Н.И. Иванов — также. «Я всегда ставил безусловно необходимым[252] полное согласование всех действий этих войск — писал мне Иванов 10 августа — с Вашей армией и самым настойчивым образом отвергал возможность каких-либо моих сношений с германцами». Характерно для психологии русского генералитета: Н.И., допуская снабжение «Астраханцев» запасами, оставшимися на Украйне, «что требовало согласия немцев», был, однако, глубоко оскорблен тогда «тяжким обвинением, возведенным (на него) агентурой[253], об (его) не имевших места в действительности сношениях с представителями германского командования» и убедительно просил (меня)… расследовать источник этих обвинений»… Остановились «астраханцы» на Павлове — лихом кавалерийском генерале, в политической идеологии которого был только монархизм и никаких осложняющих дело «предрассудков». Павлов побывал у меня в Тихорецкой, осведомился об отрицательном отношении моем к новому формированию, но должность принял.
В результате вся эта попытка немцев потерпела полную неудачу. К августу был сформирован только один батальон в 400 штыков и до конца существования «армии» (начало 19 года) численность ее не превышала 3 тысяч бойцов, из которых в феврале 19 г. только 1753 могло быть на фронте. Втайне от руководителей организации армейский штаб астраханцев[254] считал себя в распоряжении Добровольческой армии, получая временами указания от ген. Эльснера, и заявлял, что «сформированные части готовы перейти в состав Добровольческой армии по первому требованию»… Добровольческий штаб относился, однако, несочувственно к такому распылению сил и к темной политической игре. В результате штаб Астраханской армии рисовал ген. Эльснеру такие сцены: «офицеры по прибытии в Ростов узнают от специально поставленных на вокзале (ваших) агентов об ориентации Астраханского войска, источниках его содержания, и до 60–80 % эшелонов желают с места перейти в Добровольческую армию»… «Затем, когда эшелон идет по линии Батайск — Торговая, рьяную агитацию ведут (ваши) коменданты станций. В результате значительная часть эшелонов переходит в Добровольческую армию. Но мало того, переходящие начинают все время корить и упрекать остающихся, издеваться над ними проявляется взаимная обида и обозление»… Астраханский штаб просил ген. Эльснера самого «по братски распределять пополнения»[255]. Ген. Эльснер от содействия укомплектованию Астраханской армии отказался, но и не препятствовал ему.
В августе немцы, разочаровавшись в своем формировании, прекратили отпуск денег Тундутову. Донской атаман давал скудные пособия. И Тундутов в поисках материальной поддержки обратился в киевскую организацию крайних правых — «Совет монархического блока»[256]. Между ними был заключен 7 сентября договор[257], в силу которого ничего не ведавшее офицерство было поставлено перед фактом неожиданного применения его патриотических побуждении: «Войсковой атаман передает всю политическую работу Совету Монархического Блока» (ст. 7-я)… «Астраханская армия должна быть использована для борьбы со всеми противниками восстановления Законопреемственной монархии и воссоздания России»… (ст. 2-я).
Но казна «блока», чёрпавшая средства также из бердинского источника, скоро иссякла, и Астраханская армия все время не выходила из тяжелого кризиса.
Осенью Тундутов явился на поклон в Екатеринодар. Пороча всячески Донского атамана, он просил разрешения «отложиться» от Донской армии и присоединиться к Добровольческой. Не считая возможным обострять отношения, я категорически отказал. По тем же побуждениям и не желая подрывать принципа дисциплины, я отклонял многократные ходатайства астраханских частей о переходе их в полном составе к нам.
Тундутов и его окружение вели праздный и разгульный образ жизни, а «армия» постепенно таяла; таяла от отсутствия пополнений, от ухода из ее рядов многих неудовлетворенных и от потерь, понесенных в небольших, но непрерывных боях с большевиками — на крайнем правом фланге донцов, в Манычских степях.
* * *
Почти одновременно с этой неудачной попыткой немцы предприняли другую, казавшуюся им более солидной, ввиду общественного положения лица, ставшего во главе деда.
Из всех членов императорской фамилии, оставшихся в живых, только двое — герцоги Н. и Г. Лейхтенбергские — приняли всецело «германскую ориентацию». Герцог Н. Лейхтенбергский взял на себя роль посла атамана Краснова к германскому императору и, не будучи принят Вильгельмом, устранился в дальнейшем от политической деятельности. Герцог Г. Лейхтенбергский стал во главе формирования на немецкие деньги — при фактическом участии в штабе организации немецких офицеров — так называемой Южной армии.
Герцог был «флагом». Душою организации являлся некто Акацатов, член Союза русского народа. Возглавлялась организация созданным Акацатовым союзом «Наша Родина», в состав которого кроме герцога и Акацатова (председатель) входило еще несколько членов (9), имена которых по интимным соображениям опубликованы не были. В качестве народной и общественной базы назывались такие полумифические организации, как «Всероссийский национальный клуб», «Всероссийский национальный союз», «Союз русской молодежи Юга России», «Гимнастическое общество Богатырь», «Крестьянские кооперативы», «некоторая часть Союза русского народа» и т. д.[258]
Организация встретила отрицательное к себе отношение в среде киевского генералитета, но за то с большим увлечением отнеслась к ней группа гр. В. Бобринского.
Монархический лозунг был поставлен ясно и определенно. Политическая же ориентация была известна в точности только верхам.. Рядовому офицерству сообщалось, что Южная армия не имеет никаких обязательств в отношении немцев и «создается на деньги, занятые у русских капиталистов и у монархических организаций».
Территория для формирования была представлена ген. Красновым, неизменно поощрявшим эти предприятия, «русская» (не донская) южная часть Воронежской губернии на которой Акацатов стад водворять администрацию и «ископные начала».
Ни один из крупных генералов, к которым обращался союз «Наша Родина», не пожелал стать во главе армии. Так до конца своего «самостоятельного» существования, армия оставалась без командующего; его заменял временно начальник штаба, ген. Шильдбах, а наличным составом формируемых частей командовал фактически ген. Семенов. Выбор весьма показательный: Семенов был до того удален из отряда Дроздовского, ввиду полной неспособности в боевом отношении, потом из Добровольческой армии — за то, что, будучи начальником нашего вербовочного бюро в Харькове, вступил в связь с немцами и…. отговаривал офицеров ехать в Добровольческую армию.
На небольшом клочке Воронежской губернии Акацатов с Семеновым восстановляли порядки, давно отошедшие в область истории. Оттуда распространялась нездоровая литература, отравлявшая души офицерства реакционным изуверством и человеконенавистничеством. Оттуда же шла лютая травля Добровольческой армии. «В последних номерах газеты «Наша Родина» — сообщала киевская «Азбука» — нет ни слова о большевиках. Вся газета посвящена грубому поношению ген. Алексеева, Шульгина, Родзянко и т. д. О ген. Алексееве газета пишет, что это он предал царя, устроив ему ловушку, и что он разложил армию. О всех вообще, кто, движимый любовью к несчастной Родине, собрались в Екатеринодар, газета говорить, что на лицах их «ясно виднеется улыбающийся Азеф»…
Любопытно, что организатор армии, герцог Лейхтенбергский все же счел нужным обратиться ко мне с письмом, в котором выражал надежду на совместные наши военные действия в будущем.. Я ответил весьма сдержанно, что это будет зависеть от той политики, которую поведут руководители Южной армии.
Как бы то ни было, но расхождение в политических лозунгах армий воспринималось в Киеве по-видимому очень остро. Митрополит Антоний, хорошо осведомленный о настроении правых и принимавший в работе их деятельное участие, с одним офицером общим знакомым, приехавшим в Екатеринодар в начале августа, передавал мне о крайнем своем беспокойстве: «как бы русские армии не вступили в междуусобную брань»…
В приказе Донского атамана от 26 августа указывалось, что Южная армия, равно как Астраханская и «Русская народная армия»[259], «в будущем обеспечат пределы Дона», а «политическими программами их войско не интересуется и их не разделяет, имея одну цель — создание сильного государства — Всевеликого войска Донского». Эта тирада звучала особенно странно, принимая во внимание, что южные части Саратовской и Воронежской губерний были «временно» подчинены Дону и незадолго перед тем военными губернаторами там были назначены атаманскими приказами начальники формировавшихся войск — ген. Семенов.[260] (Воронежской) и подполковник Манакин (Саратовской[261])…
И эта вторая попытка немцев и русских германофилов окончилась неудачей. Тем более, что немцы, достигнув основной своей цели — посеяв рознь, не думали вовсе о создании из Южной армии прочной силы: уже в сентябре финансирование ими герцога Лейхтенбергского почти прекратилось, снабжение ограничено было до ничтожных размеров. К октябрю в «армии» было до 3½ тысяч штыков ни сабель, без обоза, почти без артиллерии, и много небоевого элемента. В войсках создавалось тяжелое настроение. Искусственно вызванное взаимное отчуждение и озлобление между «южанами» и добровольцами сменялось понемногу явным тяготением к Добровольческой армии отдельных лиц и целых частей Южной армии. Оно усилилось еще более после произведшего большое впечатление обращения Шульгина «к руководителям Астраханской и Южной армий»[262]. «Ваша тяжкая жертва была принесена напрасно — писал он. — Теперь, после того, как Германия запросила мира, вы, конечно, сознаете, что она никого спасти не может». Указывал выход — «соединиться с людьми, которые как и вы любят Россию, но которые шли к ее спасению другими путями»… В Екатеринодаре появились вновь делегации от Южной и Астраханской армий с просьбой о присоединении к Добровольческой. «В скором времени — обобщал свои впечатления Шульгин[263] — следует ожидать массового бегства офицеров из Южной армии в Добровольческую, так как офицерство потеряло надежду на то, что верхи Южной армии перестанут его делать пугалом в глазах народа».
Но с 30 сентября Южная армия поступила уже в полное подчинение ген. Краснову и потому, чтобы не создавать затруднений атаману, на основании моих указаний ген. Драгомиров сообщил Шульгину[264]: «нужно успокоить офицеров Южной армии и убедить их не уходить из ее рядов, так как в скором времени все равно они попадут под наше начальство и послужат остовом при формировании общерусской армии»…
Влились они в нашу армию действительно, но… слишком поздно — после окончательного развала.
Глава XVI. Внешние затруднения Добровольческой армии: отношения с Донским атаманом
Наиболее тяжелые отношения установились у нас Донским атаманом.
На небольшом клочке освобожденной от большевиков русской земли двум началам, представленным с одной стороны ген. Красновым, с другой ген. Алексеевым и мною, очевидно оказалось тесно. Совершенно неприемлемая для Добровольческой армии политическая позиция атамана, полное расхождение в стратегических взглядах[265] и его личные свойства ставили трудно преодолимые препятствия к совместной дружной работе. Утверждая «самостоятельность» Дона ныне и «на будущие времена», он не прочь был, однако, взять на себя и приоритет спасения России. Он, Краснов, обладающий территорией, «народом» и войском — в качестве «верховного вождя Южной Российской армии»[266], брал на себя задачу — ее руками — освободить Россию от большевиков и занять Москву[267]… На этом же пути стояла другая сила — пока еще «бездомная», но с непререкаемым общерусским авторитетом бывшего Верховного — ген. Алексеева и с большим моральным весом и боевой репутацией Добровольческой армии.
Обе стороны, понимая непреложные законы борьбы, считали необходимым объединение вооруженных сил и обе не могли принести в жертву свои убеждения иди предубеждения. На этой почве началась длительная внутренняя борьба — методами, соответствовавшими характеру руководителей… В то время, когда командование Добровольческой армии стремилось к объединению вооруженных сил Юга — путями легальными, атаман Краснов желал подчинить или устранить со своего пути Добровольческую армию; какими средствами — безразлично.
* * *
Началось еще в мае, когда неожиданно атаманским приказом все донские казаки были изъяты из рядов Добровольческой армии, что расстроило сильно некоторые наши части, особенно Партизанский и Конный полки. Мне пришлось поблагодарить донцов и отпустить их, чтобы не обострять положения и не создавать картины развала… В краткий период кризиса, пережитого Добровольческой армией[268], отдельные лица, иногда небольшие части, дезертировали из армии на службу на Дон, встречая там радушный прием. Был даже случай, что целый взвод с оружием и пулеметами, под начальством капитана Корнилова[269] бежал в Новочеркасск; с ним ушел также офицер штаба армии лейтенант флота Поздеев и… мой конный вестовой — текинец; характерная мелочь — последний ушел о-двуконь, украв кстати мою лошадь. Штаб вел по этому поводу переписку, но безрезультатно. Все проходило совершенно безнаказанно. Между тем переход в Добровольческую армию, хотя бы и легальный, расценивался совершенно иначе. Помню, какой гнев вызвало впоследствии формирование донским генералом Семилетовым после долгих переговоров партизанского отряда в Черноморской губернии из донских граждан, не обязанных службой на Дону[270]… Отряд не представлял из себя сколько-нибудь серьезной силы и, конечно, не мог иметь никакого политического значения — по крайней мере я не допустил бы этого. Но ген. Краснов считал, что цель Семилетова, «находящегося всецело в руках кадетской партии,… поднять казаков против правительства и свергнуть его — атамана с должности»[271]… В июне ген. Эдьснер просил разрешения ген. Краснова привлечь на службу в армию иногородних Донской области и подучил отказ, мотивированный тем, что «неокрепшие еще местные власти не в состоянии будут заставить иногороднее население выполнить приказ»[272]. Через несколько дней атаман, однако, отдал приказ о наборе иногородних Дона, формируя из них полк, кадром для которого послужили… следовавшие в Добровольческую армию офицеры лейб.гвардии Финляндского полка. Он откровенно высказывал ген. Алексееву[273] надежду, «что получит гвардейских офицеров от всех полков гвардии»[274]. Но Измайловцы не пошли, а инициатор этой затеи, полковник Есимантовский, формировавший полк (потом бригаду), при помощи нескольких офицеров лейб-гвардии Финляндского полка, через два месяца, подчиняясь общему настроению, писал уже покаянное письмо ген. Алексееву[275]: целью его было только «привести в Добровольческую армию готовый полк без расходов от нее». Есимантовский испрашивал указаний, «когда и как сделать переход в армию»…
Наиболее осложнений доставил нам вопрос с отрядом полковника Дроздовского. Прибыв в Новочеркасск 25 апреля, Дроздовский в тот же день донес мне, что «отряд прибыл в мое распоряжение» и «ожидает приказаний». Но время шло, назревал 2-й Кубанский поход, а начало его все приходилось откладывать: более трети всей армии — бригада Дроздовского — оставалась в Новочеркасске. Это обстоятельство препятствовало организационному слиянию ее с армией, нарушало все мои расчеты и не давало возможности подготовить операцию, о которой было условлено с ген. Красновым 15 мая[276]. По просьбе Краснова, отряд Дроздовского разбрасывался частями по области: конница дралась в Сальском округе, пехота употреблялась на «очистку от большевиков» Ростова и Новочеркасска, на карательные экспедиции по крестьянским деревням севера области. Я требовал присоединения бригады; Дроздовский ходатайствовал об отсрочке для отдыха, организации пополнения. Краснов упрашивал Дроздовского не покидать Новочеркасск — публично, на параде перед строем, и более интимно в личных разговорах с Дроздовским. Атаман порочил Добровольческую армию и ее вождей и уговаривал Дроздовского отложиться от армии, остаться на Дону и самому возглавить добровольческое движение под общим руководством Краснова[277]. Слухи об этих переговорах и якобы колебаниях Дроздовского[278] дошли до офицеров его отряда и вызвали среди них беспокойство. По просьбе офицеров, командир сводно-стрелкового полка, полковник Жебрак, обратился по этому поводу к Дроздовскому и получил от него успокоительное заверение. Позднее Дроздовский так писал мне о новочеркасских интригах: «считая преступным разъединять силы, направленные к одной цели, не преследуя никаких личных интересов и чуждый мелочного самолюбия, думая исключительно о пользе России и вполне доверяя Вам, как вождю, я категорически отказался войти в какую бы то ни было комбинацию, во главе которой не стояли бы Вы»…
Я ждал присоединения отряда, без чего нельзя было начинать операцию, атаман всемерно противился этому и в то же время… «настаивал на немедленном наступлении надо использовать настроение казаков, их порыв, надо воспользоваться растерянностью комиссаров»…
После беседы с Жебраком Дроздовский приехал в Мечетинскую, отряд его был зачислен в качестве 3-й бригады в Добровольческую армию и 23 мая выступил на соединение с ней.
Все эти неудачи не останавливали, однако, атамана перед попытками создания подчиненной ему «Российской армии». Свое недоумение он высказал однажды в письме к ген. Алексееву[279]: «на земле войска Донского, а теперь и вне ее я работаю совершенно один. Мне приходится из ничего создавать армию… снабжать, вооружать и обучать ее. В Добровольческой армии много есть и генералов, и офицеров, которые могли бы взять на себя работу по созданию армий в Саратовской и Воронежской губерниях, но почему то они не идут на эту работу»… Краснов не хотел понять, что его попытки обречены на неуспех просто в силу психологии русского генералитета и офицерства, глубоко чуждой основным положениям атаманской политики. Попытки вместе с тем неизбежно, даже независимо от чьей-либо злой води, ослаблявшие и расстраивавшие Добровольческую армию.
Ввиду явной неудачи формирования «Южной армии», руководители ее вынуждены были передать ее в полное подчинение генералу Краснову[280]. 30 сентября состоялся атаманский приказ о создании «Особой Южной армий», в составе которой должны были формироваться три корпуса: «Воронежский» (бывшая «Южная армия»), Астраханский (бывшая «Астраханская армия») и Саратовский (бывшая «Русская Народная армия»). На новую армию возлагалась «защита границ Всевеликого войска Донского от натиска красногвардейских банд и освобождение Российского государства».
Возник вопрос о возглавлении армии генералом с общероссийским именем, чтобы привлечь таким образом офицерство. Но такого найти не удавалось. С ген. Щербачевым, жившим в Яссах, атаман не смог войти в связь. Ген. Драгомиров, проезжая в августе из Киева через Новочеркасск, «умышленно уклонился от встречи с Красновым», ибо как он писал мне впоследствии[281]. «мы стояли на столь различных точках зрения в вопросе о дружбе с немцами, что наш разговор мог бы иметь результатом только крупную ссору, с чего мне вовсе не хотелось начинать свою деятельность на Юге России». Тем не менее 30 сентября Краснов обратился к Драгомирову[282] с предложением принять новую армию. Горячий Драгомиров ответил, что в этом формировании он «видит продолжение той же немецкой политики divide et impera — которая привела нашу Родину к пропасти» и потому «предложение этого поста равносильно (для него) оскорблению»[283]…
Остановился Краснов на Н.И. Иванове. К этому времени дряхлый старик, Н. И., пережив уже свою былую известность, связанную с вторжением в 1914 году армий Юго-западного фронта в Галицию, проживал тихо и незаметно в Новочеркасске. Получив предложение Краснова, он приехал ко мне в Екатеринодар, не желая принимать поет без моего ведома. Я не противился, но не советовал ему на склоне дней давать свое имя столь сомнительному предприятию.
Однако, вернувшись в Новочеркасск, Иванов согласился.
25 октября мы прочли в газетах атаманский приказ о назначении Н. И., заканчивавшийся словами: «Донские армии восторженно приветствуют вождя их новой армии — армии Российской»…
Бедный старик не понимал, что нужен не он, а бледная уже тень его имени. Не знал, что пройдет немного времени и угасшую жизнь его незаинтересованный более Краснов передаст истории с такой эпитафией: «пережитые пм (ген. Ивановым) в Петербурге и Киеве страшные потрясения и оскорбления от солдат, которых он так любил, а вместе с тем и немолодые уже годы его отозвались на нем и несколько расстроили его умственные способности»…
Ген. Иванов умер 27 января, увидев еще раз крушение своей армии, особенно трагическое в войсках Воронежского корпуса[284].
* * *
Я шел с армией походом, вед ежедневно кровавые бои, требовавшие большого нравственного напряжения и известного душевного равновесия… А из нашего тыла, из Новочеркасска все чаще шли вести — возмущающие и волнующие. Это были не просто слухи, а факты, документы, основанные на словесных и письменных излияниях не в меру злобствовавших ненавистников Добровольческой армии.
Атаман в заседаниях правительства, в речах и беседах… командующий Донской армией ген. Денисов публично в офицерских собраниях — поносили и Добровольческую армию, и вождей ее. Поносили все — нашу стратегию, политику, нравственный облик начальников и добровольцев. «Достоверные сведения» о полном развале Добровольческой армии были любимой темой донских руководителей[285].
Даже самый поход наш был заранее опорочен. В заседании 26 июня Краснов заявил[286], что Добровольческая армия «оставила без всякого предупреждения Донского правительства в ночь на 11 июня линию Мечетинская–Кагальницкая, чем Донская армия поставлена в крайне тяжелое положение, ибо получилось обнажение фронта». Этот упрек брошен был армии, двинутой во Второй Кубанский поход, имевший одной из ближайших задач освобождение Задонья и тот общий результат, который в отчете Кругу Денисова выражен был следующими словами: «Быстрое движение войск и начало очищения Сальского округа обозначились после успехов Добровольческой армии, взявшей Торговую… Освободились (также) от противника южные части Ростовского и Черкасского округов, отпада угроза Новочеркасску с юга и вместе с тем мы смогли за счет Азовского и Тихорецкого направлений усилиться на других фронтах, а с прибывшими подкреплениями перейти к более активным действиям»…
Отношения верхов отражались в низах — особенно в буйном, несдержанном новочеркасском тылу. На этой нездоровой почве пьяный скандал разрастался в событие, перебранка подгулявших офицеров — в оскорбление «Донского войска» или «Добровольческой армии». Были, конечно, и чисто бытовые причины недоразумений между «хозяевами» и «пришельцами». «Хозяева» были замкнуты в кастовых перегородках, несколько эгоистичны и не слишком приветливы. Но, если правы были Добровольцы, жалуясь неоднократно на дурное отношение к ним казаков, то и те имели не раз основание для такого отношения в поведении части Добровольческого офицерства: в их нескромной самооценке, в полупрезрительном отношении к донским частям, наконец, в «назойливой браваде монархическими идеями». Правда, эти отношения складывались резко только в тыловых гарнизонах, а если и отражались в армии, то в гораздо более умеренных формах. Вообще же в массе своей добровольчество и донское казачество жили мирно, не следуя примеру своих вождей.
Очевидно, в этой распре были не совсем правы и мы. Ген. Алексеев писал мне 26 июня: «отношения (между атаманом и Добровольческой армией) не хороши и вредят нам сильно… В особенности, принимая во внимание, что и ген. Денисов совсем не принадлежит к числу наших друзей. Примеру главных деятелей следуют исполнители. Полагаю, что в некоторых случаях нужно изменить тон наших сношений, так как в создавшейся атмосфере взаимного раздражения работать трудно. И только когда мы окончим счеты, можно будет высказать все накипевшее на душе за короткое время с 15 мая». М. В. упустил из виду одно что почти вся ориентировка с Дона исходила от него[287]. Только что он умел обыкновенно облекать эти отношения во внешние дипломатические формы, я же не постиг этого искусства. Каждое его письмо дышало недоверием и осуждением общей политики атамана и Денисовна и их отношений к Добровольческой армии. Насколько глубоко было это недоверие, видно из переписки между ними, имевшей место в августе:
10 августа ген. Алексеев, находившийся тогда в Екатеринодаре, под влиянием донесений из Новочеркасска, телеграфировал Краснову[288]: «негласно до меня доходят сведения, что предполагаются обыски и аресты моего политического отдела[289]. Если это правда, то такой акт, ничем не вызванный, будет означать в высокой мере враждебное отношение к Добровольческой армии. Разве кровь армии (пролитая) за Дон позволяет такой унизительный шаг».
Ген. Краснов вероятно искренно ответил: «я удивляюсь, что Ваше Высокопревосходительство допускаете думать, что такой акт к дружеской нам Добровольческой армии возможен. Прошу арестовать как злостных провокаторов лиц, распускающих такие слухи. Враги Дона ни перед чем не стесняются, чтобы вызвать вражду и недовольство в той армии, которой Дон так многим обязан и в которой видит будущее России»[290]…
Как жаль, что в то же время у атамана и Денисова не находилось для этого «будущего России» иного эпитета, чем —
— Странствующие музыканты.
Или:
— Банды!
В случайном признании атаманом значения армии было, вероятно, и некоторое отражение донских настроений… Ведь не только пафос и правила вежливости иди «кадетская интрига» руководили Большим Войсковым Кругом тем самым «мудрым» кругом, который переизбрал атамана Краснова когда Круг, собравшись осенью 18г., обратился к армии с ответным приветствием: «…С чувством глубокой радости (мы) выслушали братский привет и пожелания успеха в нашей работе. Слухи, доносившиеся к нам даже в самые отдаленные хуторские углы о нарушенных сердечных отношениях с вами, тревогой и скорбью отзывались в наших сердцах. Но теперь тревога рассеяна… У Тихого Дона нет достаточно сильных слов для выражения своих чувств преклонения перед вашими подвигами, но есть горячая любовь и искреннее желание не словами, а делом служить вам в вашей тяжелой, святой работе»[291]…
Было два человека Богаевский и Эльснер оба люди спокойные и уравновешенные, которые больше других работали над тем, чтобы сгладить трения между Новочеркасском и ставкой Добровольческой армии, но им это решительно не удавалось. Что касается меня лично, то, чтобы не терять душевного равновесия и не создавать самому каких-либо поводов для осложнений, я с конца июня 1918 г. прекратил совершенно переписку с ген. Красновым; возобновилась она ненадолго, в силу необходимости, только после объединения командования в 1919 году. Но атаман продолжал писать пространно моим помощникам, вызывая в них не раз глубокое недоумение.
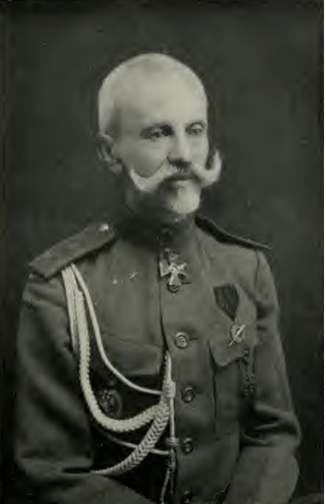
Так, в октябре 1918 года он писал ген. Драгомирову[292]:
«…У Вас, после тяжелых боев прорвался Сорокин с отрядом, и Ваши и мои враги пустили слух, что ген. Деникин нарочно выпустил его, чтобы не дать Краснову взять Царицын. Судите сами, Абрам Михайлович, такими слухами, такими грязными сплетнями на чью мельницу мы льем воду»…
Возмущенный ген. Драгомиров 13 октября отвечал:
— «…Вашим вопросом — «на чью мельницу мы льем воду», Вы как будто возлагаете вину на нас за эти сплетни… Неужели не ясно, что Добровольческая армия из сил выбивается, чтобы сдержать напор большевиков, значительно превышающих (ее) в силах и неизмеримо обильнее снабженных боевыми припасами. Неужели последние кровопролитные и упорнейшие бои, в коих гибли с несравненным геройством офицерские части армии, дают кому-либо право сколько-нибудь серьезно останавливаться на приведенной Вами грязной сплетне о выпуске Сорокина. Неужели по своей доброй воле Добровольческая армия два месяца дерется изо дня в день все на тех же позициях, а города и станицы периодически переходят из рук в руки при всех ужасах, которыми сопровождаются для жителей эти переходы»…
Любопытно, кто же, однако, распространял «такие грязные сплетни?»
В те же дни[293] Краснов писал в Екатеринодар донскому представителю, ген. Смагину:
«…Мы ведем борьбу с восемью советскими армиями, в то время, как против Добровольческой армии только одна армия — Сорокина и та более, чем на половину выпущена против нас… Прибытие отряда Сорокина[294] и дивизии Жлобы, не преследуемых по пятам добровольцами, и удар их в тыл нашим войскам у Царицына произвели на казаков угнетающее впечатление»…
«…Конечно, это письмо только тема для Вас. Оно не для огласки» — заканчивал ген. Краснов.
* * *
Я чувствую, что посвятил слишком много строк и внимания розни «белых генералов». Но это было. Внося элемент пошлости и авантюризма в общий ход кровавой и страшной борьбы за спасение России и отражаясь роковым образом на ее исходе.
Глава ХVII. Конституция Добровольческой власти. Внутренний кризис армии: ориентации и лозунги
В станицах Мечетинской и Егорлыкской жила Добровольческая армия — на «чужой» территории, представляя своеобразный бытовой и военный организм, пользовавшийся полным государственным иммунитетом.
С первого же дня моего командования, без каких-либо переговоров, без приказов, просто по инерции утвердилась та неписанная конституция Добровольческой армии, которой до известной степени разграничивался ранее круг ведения генералов Алексеева и Корнилова. Ген. Алексеев сохранил за собою общее политическое руководство, внешние сношения и финансы, я — верховное управление армией и командование. За все время нашего совместного руководства этот порядок не только не нарушался фактически, но между нами не было ни разу разговора о пределах компетенции нашей власти. Этим обстоятельством определяется всецело характер наших взаимоотношений и мера взаимного доверия, допускавшая такой своеобразный дуализм.
Щепетильность в этом отношении ген. Алексеева была удивительна — даже во внешних проявлениях. Помню, в мае, в Егорлыкской, куда мы приехали оба беседовать с войсками, состоялся смотр гарнизону. Несмотря на все мои просьбы, он не согласился принять парад, предоставив это мне и утверждая, что «власть и авторитет командующего не должны ничем умаляться». Я чувствовал себя не раз очень смущенным перед строем войск, когда старый и всеми уважаемый вождь ехал за мной. Кажется один только раз, после взятия Екатеринодара, я убедил его принять парад дивизии Покровского, сказав, что я уже смотрел ее.
В то же время на всех заседаниях, конференциях, совещаниях по вопросам государственным, на всех общественных торжествах первое место бесспорно и неотъемлемо принадлежало Михаилу Васильевичу.
В начале июня, перед выступлением моим в поход, ген. Алексеев переехал из Мечетинской в Новочеркасск и попал сразу в водоворот политической жизни Юга. Его присутствие там требовалось в интересах армии. Работая с утра до вечера, он вел сношения с союзниками, с политическими партиями и финансовыми кругами, налаживал, насколько мог, отношения с Доном, и своим авторитетом и влиянием стремился привлечь отовсюду внимание и помощь к горячо любимой им маленькой армии.
Но временная наша разлука имела и свои отрицательные стороны. При ген. Алексееве образовался «военно-политический отдел», начальником которого стал полковник ген. штаба Лисовой. Этот «отдел» был пополнен молодыми людьми, обладавшими по-видимому повышенным честолюбием… Вскоре началась нервирующая переписка по мелким недоразумениям между отделом и штабом армии. Даже милейший и добродушнейший Эльснер сталь жаловаться на «двоевластие» в Новочеркасске и на Лисового, который «весьма ревностно следит, не получает ли кто-либо, а главное (он — Эльснер) каких-либо политических сведений помимо него». Бывали случаи и посерьезнее. Так, например, совершенно неожиданно мы прочли в газете[295], случайно попавшей в армию, официальное уведомление от «военно-политического отдела», что уполномоченными представителями армии по формированию пополнений («начальники центров») являются только лица, снабженные собственноручными письменными полномочиями ген. Алексеева… Это сообщение поставило в ложное положение меня и в род самозванцев — начальников разбросанных повсюду по Украйне и Дону «центров» и вербовочных бюро, которые назначались мною и руководились штабом. В архиве я нашел переписку, свидетельствующую, что это сделано было самовольно «молодыми людьми». Положение осталось, конечно, прежним.
По инициативе «отдела» и за подписью Лисового так же неожиданно появилось в газетах сообщение, вносившее серьезное изменение в «конституцию» Добровольческой армии. В этом сообщении «ввиду неправильного осведомления общества» разъяснялась сущность Добровольческой иерархии, причем ген. Алексеев был назван впервые «Верховным руководителем Добровольческой армии».
Так как в моих глазах моральное главенство ген. Алексеева было и без того неоспоримым, то официальное сообщение не могло внести в жизнь армии каких-либо перемен, тем более, что практика «дуализма» осталась без ущерба. Мне казалось лишь несколько странным, что узнал я о новом положении из газет, а не непосредственно.
Об этих эпизодах я никогда не поднимал разговора с ген. Алексеевым.
Все политические сношения, внутренние и внешние, вел ген. Алексеев, пересылая мне из Новочеркасска исчерпывающие сводки личных переговоров и подлинные доклады с мест. С большинством исходивших от него лично письменных сношений я ознакомился только впоследствии. Но то взаимное доверие, которое существовало между нами, вполне гарантировало, что ни одного важного шага, изменяющего позицию Добровольческой армии, не переговорив со мною, ген. Алексеев не предпримет. И я со спокойным сердцем мог вести армию в бой.
С половины июля М. В. был опять при штабе армии — сначала в Тихорецкой, потом в Екатеринодаре, и личное общение наше устраняло возможность каких-либо трений, создаваемых извне.
Добровольческая армия сохраняла полную независимость от политических организаций, союзников и врагов. Непосредственно возле нее не было и видных политических деятелей.
Между прочим, и на Дону были попытки организации государственной власти и возглавления добровольческого движения, встретившие отпор со стороны ген. Алексеева: Родзянко совместно с проживавшими в Ростове и Новочеркасске общественными деятелями усиленно проводил идею созыва верховного совета из членов всех четырех Дум. Присылал гонцов и в мою ставку. Писал мне о необходимости «во что бы то ни стало осуществить (эту) идею», так как «в этом одном спасение России». Но при этом к моему удивлению ставил «непременным условием, чтобы М.В. Алексеев был абсолютно устранен из игры»[296]. Я ответил, что общее политическое руководство армией находится в руках М. В., к которому и следует обратиться по этому вопросу непосредственно… Алексеева я не посвятил в нашу переписку — и без того между ним и Родзянко существовали враждебные отношения.
Не было при нас и никакого кадра гражданского управления, так как армии предстояло выполнение частной временной задачи в Ставропольской губернии и на Кубани, и ген. Алексеев, вовлеченный в переговоры о создании общерусской власти за Волгой, не считал пока нужным создавать какой-либо аппарат при армии.
Мы оба старались всеми силами отгородить себя и армию от мятущихся, борющихся политических страстей и основать ее идеологию на простых, бесспорных национальных символах. Это оказалось необычайно трудным. «Политика» врывалась в нашу работу, врывалась стихийно и в жизнь армии.
* * *
Первый Кубанский поход оставил глубокий след в психике добровольцев, наполнив ее значительным содержанием — отзвуками смертельной опасности, жертвы и подвига. Но вместе с тем вызвал невероятную моральную и физическую усталость. Издерганные нервы, утомленное воображение требовали отдыха и покоя. Хотелось всем пожить немного человеческой жизнью, побыть в обстановке семейного уюта, не слышать ежедневно артиллерийского гуда.
Искушение было велико.
От Ростова до Киева и Пскова были открыты пути в области, где не было ни войны, ни большевиков, где у многих оставались семьи, родные, близкие. Формальное право на уход из армии было неоспоримо: как раз в эти дни (май) для большинства добровольцев кончался обязательный четырехмесячный срок пребывания в армии… Ворвавшаяся в открытое «окно» жизнь поставила к тому же два острых вопроса об «ориентации» и «политических лозунгах». Для многих — это был только повод нравственного обоснования своего ухода, для некоторых — действительно мучительный вопрос совести.
Кризис в армии принял глубокие и опасные формы.
Германофильство смутило сравнительно небольшую часть армии. Активными распространителями его в армейской среде были люди заведомо авантюристического тина: доктор Всеволжский, Ратманов, Сиверс и др., ушедшие из армии и теперь формировавшие на немецкие деньги в Ростове и Таганроге какие то «монархические отряды особого назначения»… Панченко, издававший грубые, демагогические «бюллетени» — чрезмерно угодливые и рассчитанные на слишком невежественную среду; в них, например, создавшиеся между Германией и Россией отношения объяснялись как результат «агитации наших социалистов, ибо главным врагом (своим) они почему-то считали Императора Вильгельма, которого мировая история справедливо назовет Великим»[297]. Немецкие деньги расходовались широко, но непроизводительно. Впрочем, иногда цели достигали: начальником самого ответственного разведочного узла Добровольческой армии в Ростове какими-то непостижимыми путями оказался некто «полковник Орлов»[298], состоявший агентом немецкой контрразведки и членом организации Всеволжского…
Влияние более серьезное оказывали киевские германофильские круги. Но и они не могли побороть прочно установившиеся взгляды военной среды, находя отклик главным образом в той части офицерства, которая либо искала поводов «выйти из бойни», либо использовала немецкие обещания в качестве агитационного материала против командования.
Несравненно труднее обстоял вопрос с лозунгами.
«Великая, единая и неделимая Россия» — говорило уму и сердцу каждого отчетливо и ясно. Но дальше дело осложнялось. Громадное большинство командного состава и офицерства было монархистами. В одном из своих писем[299] ген. Алексеев определял совершенно искренне свое убеждение в этом отношении и довольно верно офицерские настроения:
«…Руководящие деятели армии сознают, что нормальным ходом событий Россия должна подойти к восстановлению монархии, конечно, с теми поправками, кои необходимы для облегчения гигантской работы по управлению для одного лица. Как показал продолжительный опыт пережитых событий, никакая другая форма правления не может обеспечить целость, единство, величие государства, объединить в одно целое разные народы, населяющие его территорию. Так думают почти все офицерские элементы, входящие в состав Добровольческой армии, ревниво следящие за тем, чтобы руководители не уклонились от этого основного принципа»[300].
Но в мае–июне настроение офицерства под влиянием активных правых общественных кругов было значительно сложнее. Очень многие считали необходимым немедленное официальное признание в армии монархического лозунга. Это настроение проявлялось не только внешне в демонстративном ношении романовских медалей, пении гимна и т. п., но и в некотором брожении в частях и… убыли в рядах армии. В частности появились офицеры — агитаторы, склонявшие добровольцев к участию в тайных организациях; в своей работе они злоупотребляли и именем в. кн. Николая Николаевича. Меня неприятно удивила однажды сцена во время военного совета перед походом: Марков резко отозвался о деятельности в армии монархических организаций; Дроздовский вспылил:
— Я сам состою в тайной монархической организации… Вы недооцениваете нашей силы и значения…
* * *
В конце апреля в обращении к русским людям я определил политические цели борьбы Добровольческой армии[301]. В начале мая мною, с ведома ген. Алексеева, был дан наказ представителям армии, разосланным в разные города, для общего руководства:
I. Добровольческая армия борется за спасение России путем 1) создания сильной дисциплинированной и патриотической армии; 2) беспощадной борьбы с большевизмом; 3) установления в стране единства государственного и правового порядка.
II. Стремясь к совместной работе со всеми русскими людьми, государственно мыслящими, Добровольческая армия не может принять партийной окраски.
III. Вопрос о формах государственного строя является последующим этапом и станет отражением воли русского народа, после освобождения его от рабской неволи и стихийного помешательства.
IV. Никаких сношений ни с немцами, ни с большевиками. Единственно приемлемые положения: уход из пределов России первых и разоружение и сдача вторых.
V. Желательно привлечение вооруженных сил славян на основе их исторических чаяний, не нарушающих единства и целостности русского государства, и на началах, указанных в 1914 году русским Верховным главнокомандующим.
Оба эти обращения нашли живой отклик, но… не совсем сочувственный.
Офицерство не удовлетворялось осторожным «умолчанием» Алексеева — формулой, которая гласно не расшифровывалась, разделялась многими старшими начальниками и в цитированном мною выше письме[302] была высказана вполне откровенно: «…Добровольческая армия не считает возможным теперь же принять определенные политические лозунги ближайшего государственного устройства, признавая, что вопрос этот недостаточно еще назрел в умах всего русского народа и что преждевременно объявленный лозунг может лишь затруднить выполнение широких государственных задач».
Еще менее, конечно, могло удовлетворить офицерство мое «непредрешение» и в особенности моя декларация с упоминанием об «Учредительном собрании» и «народоправстве». Начальники бригад доложили мне, что офицерство смущено этими терминами… Такое же впечатление произвели они в другом крупном центре противобольшевицкого движения — Киеве. Ген. Лукомский писал мне в то время[303]: «…Я глубоко убежден, что это воззвание вызовет в самой армии и смущение, и раскол. В стране же многих отшатнет от желания идти в армию пли работать с ней рука об руку. Может быть, до вас еще не дошел пульс биения страны, но должен Вас уверить, что поправение произошло громадное. Что все партии, кроме социалистических, видят единственной приемлемой формой конституционную монархию. Большинство отрицает возможность созыва нового Учредительного собрания, а те, кто допускают, считают, что членами такового могут быть допущены лишь цензовые элементы. Вам необходимо высказаться более определению и ясно»…
Милюков сообщал Ц. К. партии в Москву, что он «вступил уже в сношения с ген. Алексеевым, чтобы убедить его обратить Добровольческую армию на служение этой задаче»[304]… А кн. Г. Трубецкой несколько позже в своем донесении Правому Центру[305] недоумевал: «…как все переменилось! Ведь, как это ни дико, но для штаба Добровольческой армии, например, позиция Милюкова слишком правая, ибо они все еще не отделались от полинявших побрякушек, вроде Учредительного собрания, и не высказались еще за монархию».
Атмосфера в армии сгущалась и необходимо было так иди иначе разредить ее. Дав волю тогдашним офицерским пожеланиям, мы ответили бы и слагавшимся тогда настроениям значительных групп несоциалистической интеллигенции, но рисковали полным разрывом с народом, в частности с казачеством — тогда не только не склонным к приятию монархической идеи, но даже прямо враждебным ей.
Мы решили поговорить непосредственно с офицерами.
В станичном правлении в Егордыкской были собраны все начальники, до взводного командира включительно. Мы не сговаривались с ген. Алексеевым относительно тем беседы, но вышло так, что он говорил о немцах, а я о монархизме.
В пространной речи ген. Алексеев говорил о немцах, как о «враге — жестоком и беспощадном» — таком же враге, как и большевики[306]… Об их нечестной политике, об экономическом порабощении Украйны… О колоссальных потерях немцев, об истощении духовных и материальных сил германской нации, о малых шансах ее на победу… О Восточном фронте… О том будущем, которое судить России связь с Германией: «политически — рабы, экономически — нищие»… Словом, обосновал два наши положения:
1) Союз с немцами морально недопустим, политически нецелесообразен.
2) Пока — ни мира, ни войны.
Я сказал кратко и резко:
— «Была сильная русская армия, которая умела умирать и побеждать. Но когда каждый солдат стал решать вопросы стратегии, войны или мира, монархии или республики, тогда армия развалилась. Теперь повторяется, по-видимому, то же. Наша единственная задача — борьба с большевиками и освобождение от них России. Но этим положением многие не удовлетворены. Требуют немедленного поднятия монархического флага. Для чего? Чтобы тотчас же разделиться на два лагеря и вступить в междоусобную борьбу? Чтобы те круги, которые теперь если и не помогают армии, то ей и не мешают, начали активную борьбу против нас? Чтобы 30-тысячное ставропольское ополчение, с которым теперь идут переговоры и которое вовсе не желает монархии, усилило Красную армию в предстоящем нашем походе? Да, наконец, какое право имеем мы, маленькая кучка людей, решать вопрос о судьбах страны без ее ведома, без ведома русского народа?»
«Хорошо — монархический флаг. Но за этим последует естественно требование имени. И теперь уже политические группы называют десяток имен, в том числе кощунственно в отношении великой страны и великого народа произносится даже имя чужеземца — греческого принца. Что же и этот вопрос будем решать по-ротно, или разделимся на партии и вступим в бой?»
«Армия не должна вмешиваться в политику. Единственный выход — вера в своих руководителей. Кто верит нам — пойдет с нами, кто не верить — оставить армию».
«Что касается лично меня, я бороться за форму правления не буду. Я веду борьбу только за Россию. И будьте покойны: в тот день, когда я почувствую ясно, что биение пульса армии расходится с моим, я немедля оставлю свой пост, чтобы продолжать борьбу другими путями, которые сочту прямыми и честными».
Мои взгляды в отношений «политических лозунгов» несколько расходились с алексеевскими: ген. Алексеев принял формулу умолчания — отнюдь, конечно, не по двоедушию. Он не предусматривал насильственного утверждения в стране монархического строя, веря, что восприятие его совершится естественно и безболезненно. У нас — мои взгляды разделяли всецело Романовский и Марков — не было такой веры. Мы стояли поэтому совершенно искренне на точке зрения более полного непредрешения государственного строя.
Я говорил об этом открыто всегда. В начале — так же, как и в конце своего командования. Через полтора года на «Верховном Круге» в Екатеринодаре мне опять придется коснуться этого вопроса[307]: «…Счастье родины я ставлю на первом плане. Я работаю над освобождением России. Форма правления для меня вопрос второстепенный. И если когда-либо будет борьба за форму правления — я в ней участвовать не буду. Но, нисколько не насилуя совесть, я считаю одинаково возможным честно служить России при монархии и при республике, лишь бы знать уверенно, что народ русский в массе желает той или другой власти. И поверьте, все ваши предрешения праздны. Народ сам скажет, чего он хочет. И скажет с такой силою и с таким единодушием, что всем нам — большим и малым законодателям — придется только преклониться перед его державной волей».
Как бы то ни было, два основных положения — непредрешение формы государственного строя и невозможность сотрудничества с немцами — фактически наши были соблюдены до конца. Помню только два случая некоторого колебания, испытанного ген. Алексеевым… В конце августа или начале сентября, будучи с армией в походе, я получил от него письмо; под влиянием доклада адмирала Ненюкова, ген. Алексеев высказывал взгляд относительно возможности войти в соглашение с германским морским командованием по частному поводу включения наших коммерческих судов Новороссийского порта в общий план черноморских рейсов, организуемых немцами. Предложение исходило от ген. Гофмана и являлось, очевидно, первым шагом к более тесным сношениям с австро-германцами. Ген. Алексеев пожелал знать мое мнение. Я ответил отрицательно, и вопрос заглох. Другой раз в Екатеринодаре я получил очередной доклад «Азбуки» с ярким изображением нарастающего монархического настроения и с указанием на непопулярность Добровольческой армии, не выносящей открыто монархического лозунга… На докладе была резолюция ген. Алексеева в таком смысле: «надо нам, наконец, решить этот вопрос, Антон Иванович, — так дальше нельзя». Я зашел в тот же день с Романовским к ген. Алексееву.
— Чем объяснить изменение Ваших взглядов, Михаил Васильевич? Какие новые обстоятельства вызвали его? Ведь настроение Дона, Кубани, ставропольских крестьян нам хорошо известно и далеко неблагоприятно идее монархии. А про внутреннюю Россию мы ровно ничего не знаем…
Резолюция, по-видимому, была написана под влиянием минуты. Михаил Васильевич переменил разговор и более этой темы до самой его смерти мы не касались.
* * *
Возвращаюсь к Егорлыцкому собранию.
После моей речи ген. Марков попросил слова и от имени своей дивизии заявил, что «все они верят в своих вождей и пойдут за ними». То же сделал Эрдели[308].
Мы ушли с собрания, не вынеся определенного впечатления об его результатах. Но к вечеру Марков, успевший поговорить со многими офицерами, сказал:
— Отлично. Теперь публика поуспокоилась.
Глава XVIII. Внутренняя жизнь Добровольческой армии: традиции, вожди и воины. Генерал Романовский. Кубанские настроения. Материальное положение. Сложение армии
Тяжело было налаживать и внутренний быть войск. Принцип добровольчества, привлекая в армию элементы стойкие и мужественные, вместе с тем создавал несколько своеобразные формы дисциплины, не укладывавшиеся в рамки старых уставов. Положение множества офицеров на должности простых рядовых изменяло характер взаимоотношений начальника и подчиненного; тем более, что сплошь и рядом, благодаря новому притоку укомплектования, рядовым бывал старый капитан, а его ротным командиром подпоручик. Совершенно недопустимо было ежедневно менять начальников, по приходе старших. Доброволец, беспрекословно шедший под огонь и на смерть, в обыкновенных условиях — на походе и отдыхе — не столь беспрекословно совершал не менее трудный подвиг повиновения.
Добровольцы были морально прикреплены к армии, но не юридически. Создался уклад, до некоторой степени напоминавший удельновечевой период, когда «дружинники, как люди вольные, могли переходить от одного князя на службу другому».
Не менее трудно было установить правильные отношения со старшими начальниками. Необычайные условия формирования армии и ее боевая жизнь создавали некоторым начальникам наряду с известностью, вместе с тем, какой то своеобразный служебный иммунитет. Не кубанская рада, а ген. Покровский, благодаря личному своему влиянию, собрал и привел в армию бригаду (потом дивизию) кубанских казаков вооруженную и даже хорошо сколоченную за время краткого похода. И когда кубанское правительство настойчиво просило устранить его с должности, выдвигая не слишком обоснованное обвинение в безотчетном израсходовании войсковых сумм в бытность его командующим войсками, явилось большое сомнение в целесообразности этого шага…
Своим трудом, кипучей энергией и преданностью национальной идее Дроздовский создал прекрасный отряд из трех родов оружия и добровольно присоединил его к армии. Но и оценивал свою заслугу не дешево. Позднее, как то раз обиженный замечанием по поводу неудачно проведенной им операции, он писал мне: «…Не взирая на исключительную роль, которую судьба дала мне сыграть в деле возрождения Добровольческой армии, а может быть и спасении ее от умирания, не взирая на мои заслуги перед ней — (мне) пришедшему к Вам не скромным просителем места или защиты, но приведшему с собой верную мне крупную боевую силу, Вы не остановились перед публичным выговором мне»[309]…
Рапорт Дроздовского — человека крайне нервного и вспыльчивого заключал в себе такие резкие и несправедливые нападки на штаб и вообще был написан в таком тоне, что, в видах поддержания дисциплины, требовал новой репрессии, которая повлекла бы несомненно уход Дроздовского. Но морально его уход был недопустим, являясь несправедливостью в отношении человека с такими действительно большими заслугами. Так же восприняли бы этот факт и в 3-й дивизии… Принцип вступил в жестокую коллизию с жизнью. Я, переживая остро этот эпизод, поделился своими мыслями с Романовским.
— Не беспокойтесь, Ваше превосходительство, вопрос уже исчерпан.
— Как?
— Я написал вчера еще Дроздовскому, что рапорт его составлен в таком резком тоне, что доложить его командующему я не мог.
— Иван Павлович, да вы понимаете, какую тяжесть вы взваливаете на свою голову…
— Это не важно. Дроздовский писал очевидно в запальчивости и раздражении. Теперь, поуспокоившись, сам, наверно, рад такому исходу.
Прогноз Ивана Павловича оказался правильным: вскоре после этого случая я опять был на фронте, видел часто 3-ю дивизию и Дроздовского. Последний был корректен, исполнителен и не говорил ни слова о своем рапорте. Но слухи об этом эпизоде проникли в армию и дали повод клеветникам чернить память Романовского:
— Скрывал правду от командующего!..
Высокую дисциплину в отношении командования проявляли ген. Марков и полковник Кутепов. Но и с ними были осложнения… Кутепов на почве брожения среди гвардейских офицеров, неудовлетворенных «лозунгами» армии, завел речь о своем уходе. Я уговорил его остаться. Марков, после одной небольшой операции в окрестностях Егорлыкской, усмотрев в сводке, составленной штабом, неодобрение его действиям, прислал мне рапорт об увольнении своем от службы. Разве возможен был уход Маркова? Генерала легендарной доблести, который сам в боевом активе армии был равноценен дивизии… Поехал Иван Павлович в Егорлыкскую к своему близкому еще со времен молодости другу извиняться за штаб…
Подчинявшиеся во время боевых операций всецело и безотказно моим распоряжениям, многие начальники с чрезвычайной неохотой подчинялись друг другу, когда обстановка требовала объединения групп. Сколько раз впоследствии приходилось мне командовать самому на частном фронте в ущерб общему ведению операции, придумывать искусственные комбинации или предоставлять самостоятельность двум трем начальникам, связанным общей задачей.
Приказ конечно был бы выполнен, но… неискренне, в несомненный ущерб делу.
Так шли дни за днями, и каждый день приносил с собою какое-нибудь новое осложнение, новую задачу, предъявляемую выбитой из колеи армейской жизнью. Выручало только одно: над всеми побуждениями человеческими у начальников в конце концов все же брало верх чувство долга перед Родиной.
* * *
Особое положение занимал И.П. Романовский.
Я не часто упоминаю его имя в описании деятельности армии. Должность «начальника штаба» до известной степени обеспечивает человека. Трудно разграничить даже и мне степень участия его в нашей идейной работе по направлению жизни и операций армии — при той интимной близости, которая существовала между нами, при том удивительном понимании друг друга и общности взглядов стратегических и политических.
Романовский был деятельным и талантливым помощником командующего армией, прямолинейным исполнителем его предначертаний и преданным другом. Другом, с которым я делил нравственную тяжесть правления и командования и те личные переживания, которые не выносятся из тайников души в толпу и на совещания. Он платил таким же отношением. Иногда — в формах трогательных и далеко не безопасных. «Иван Павлович имел всегда мужество — говорит один из ближайших его сотрудников но штабу — принимать на себя разрешение всех, даже самых неприятных вопросов, чтобы оградить от них своего начальника».
Ген. Романовский быль вообще слишком крупной величиной сам по себе и занимал слишком высокое положение, чтобы не стать объектом общественного внимания.
В чем заключалась тайна установившихся к нему враждебных отношений, которые и теперь еще прорываются дикой, бессмысленной ненавистью и черной клеветой? Я тщательно и настойчиво искал ответа в своих воспоминаниях, в письменных материалах, оставшихся от того времени, в письмах близких ему людей, в разговорах с соратниками, в памфлетах недругов… Ни одного реального повода — только слухи, впечатления, подозрительность.
Служебной деятельностью начальника штаба, ошибками и промахами нельзя объяснить создавшегося к нему отношения. В большом деле ошибки неизбежны. Было, ведь, много учреждений, несравненно более «виновных», много грехов армии и властей, неизмеримо более тяжелых. Они не воспринимались и не осуждались с такой страстностью.
Но стоит обратить внимание, откуда исключительно или и идут все эти обвинения, и станет ясным их чисто политическая подкладка. Самостоятельная позиция командования, не отдававшего армии в руки крайних правых кругов, была причиной их вражды и поводом для борьбы — теми средствами, которые присущи крайним флангам русской общественности. Они ополчились против командования и прежде всего против ген. Алексеева, который представлял политическую идеологию армии. Для начала они слагали только репутации.
Самый благородный из крайних правых граф Кеддер, рыцарь монархии и династии человек прямой и чуждый интриги, но весьма элементарного политического кругозора искрение верил в легенду о «мятежном генерал-адъютанте», когда писал ген. Алексееву: «верю, что Вам, Михаил Васильевич, тяжело признаться в своем заблуждении: но для пользы и спасения родины и для того, чтобы не дать немцам разрознить последнее, что у нас еще осталось, Вы обязаны на это пойти, покаяться откровенно и открыто в своей ошибке (которую я лично все же приписываю любви Вашей к России и отчаянию в возможности победоносно окончить войну) и объявить всенародно, что Вы идете за законного царя»…
Руководители Астраханской армии еще летом 18 года говорили представителям Правого Центра: «В Добровольческой армии должна быть произведена чистка… В составе командования имеются лица, противящиеся по существу провозглашению монархического принципа, например, ген. Романовский»..
«Относительно Добровольческой армии — сообщала нам организация Шульгина — Совет монархического блока решил придерживаться такой тактики: самой армии не трогать, а при случае даже подхваливать, но зато всемерно, всеми способами травить и дискредитировать руководителей армии. На днях правая рука герцога Г. Лейхтенбергского Акацатов в одном доме прямо сказал, что для России и дела ее спасения опасны не большевики, а Добровольческая армия, пока во главе ее стоить Алексеев, а у последнего имеются такие сотрудники, как Шульгин…» Такая политика «правых большевиков», по выражению «Азбуки», приводила даже в смущение просто правых: Алекс. Бобринский на днях говорил: «я боюсь не левых, а крайних правых, которые, еще не победив, проявляют столько изуверской злобы и нетерпимости, что становится жутко и страшно»…
Такое же настроение создавалось в соответственных кругах, группировавшихся в армии и возле армии, и такая же тактика применялась ими.
Как составлялись репутации в армии, или вернее для армии, об этом свидетельствует письмо ко мне ген. Алексеева, относящееся к этому периоду[310]: В заседании донского правительства (24–25 июня) атаман, по словам М. В., заявил: «ему достоверно известно, что в армии существует раскол с одной стороны Дроздовцы, с другой — Алексеевцы и Деникинцы. Дроздовцы будто бы определенно тянут в сторону Юго-Восточного союза… В той группе, которую Краснов называет общим термином «алексеевцы и деникинцы», тоже, по его мнению, идет раскол; я числюсь монархистом и это заставляет, будто бы, некоторую часть офицерства тяготеть ко мне; Вы же, а в особенности Иван Павлович, считаетесь определенными республиканцами и чуть ли не социалистами. Несомненно это отголоски, как я полагаю, наших разговоров об Учредительном собрании»…
Человек серьезный, побывавший в Киеве и имевший там общение со многими военными и общественными кругами, говорит о вынесенных оттуда впечатлениях[311]: «в киевских группах создалось неблагоприятное и притом совершенно превратное мнение о Добровольческой армии. Более всего подчеркивают социалистичность армии… Говорят, что «идеалами армии является Учредительное собрание, притом прежних выборов…, что Авксентьев, Чернов, пожалуй Керенский и прочие господа — вот герои Добровольческой армии, но мы ведь знаем, что можно ждать от них»…
Атака пошла против всего высшего командования. Но силы атакующих были еще слишком ничтожны, а авторитет ген. Алексеева слишком высок, чтобы работа их могла увенчаться серьезным успехом. С другой стороны крепкая связь моя с основными частями армии и неизменные боевые успехи ее делали, вероятно, дискредитирование командующего не целесообразным и, во всяком случае, не легким… Главный удар, поэтому, пришелся по линии наименьшего сопротивления.
От времени до времени в различных секретных донесениях, в которых описывались настроения армии и общества, ставилось рядом с именем начальника штаба сакраментальное слово — «социалист». Нужно знать настроение офицерства, чтобы понять всю ту тяжесть обвинения, которая ложилась на Гомановского. Социалист — олицетворение всех причин, источник всех бед, стрясшихся над страной… В элементарном понимании многих в этом откровении относительно начальника штаба находили не раз объяснения все те затруднения, неудачи, неустройства, которые сопутствовали движению армии и в которых повинны были судьба, я, штаб, начальники пли сама армия. Даже люди серьезные и непредубежденные иногда обращались ко мне с доброжелательным предупреждением:
— У вас Начальник штаба — социалист.
— Послушайте, да откуда вы взяли это, какие у вас данные?
— Все говорят.
Слово было произнесено и внесло отраву в жизнь.
Затем началась безудержная клевета.
Только много времени спустя я мог уяснить себе всю глубину той пропасти, которую рыли черные руки между Романовским и армией.
Обвинения были неожиданны, бездоказательны, нелепы, всегда безличны и поэтому трудно опровержимы. «Мне недавно стало известным — говорит генерал, непосредственно ведавший организационными вопросами — что еще в 1918 году готовилось покушение на Ивана Павловича за то, что он якобы противодействовал формированию одной из Добровольческих дивизий… Ну можно ли это изобрести про начальника штаба, только и думающего о развитии мощи армий и больше всего о «добровольцах»… Один из друзей Романовского, бывший и оставшийся монархистом и правым, описывает ту «атмосферу интриг», которая охватила его осенью 18 года, когда он приехал в Екатеринодар: «Многие учли мой приезд — человека близкого к Ивану Павловичу, как могущего влиять на него, и стали внушать мне, что он злой гений Добровольческой армии, ненавистник гвардии, виновник гибели лучших офицеров под Ставрополем… С мыслью влиять через меня на Ивана Павловича, а следовательно и на командующего армией расстались не сразу. И месяца два моя скромная квартира не раз посещалась людьми, имевшими целью убедить меня, какой талантливый и глубоко государственный человек Кривошеин и т. д…. Посещения эти резко оборвались, как только убедились в несклонности моей к политической интриге»…
Психология общества, толпы, армии требует «героев», которым все прощается, и «виновников», к которым относятся беспощадно и несправедливо. Искусно направленная клевета выдвинули на роль «виновника» генерала Романовского. Этот «Барклай-де-Толли» добровольческого эпоса принял на свою голову всю ту злобу и раздражение, которые накапливались в атмосфере жестокой борьбы.
К несчастью, характер Ивана Павловича способствовал усилению неприязненных к нему отношений. Он высказывал прямолинейно и резко свои взгляды, не облекая их в принятые формы дипломатического лукавства. Вереницы бывших и ненужных людей являлись ко мне со всевозможными проектами и предложениями своих услуг; я не принимал их; мой отказ приходилось передавать Романовскому, который делал это сухо, не раз с мотивировкой, хотя и справедливой, но обидной для просителей. Они уносили свою обиду и увеличивали число его врагов. Я помню, как, однажды, после горячего спора о присоединении к армии одного отряда на полуавтономных началах, Иван Павлович за столом у меня в большом обществе обмолвился фразой:
— К сожалению, к нам приходят люди с таким провинциальным самолюбием…
В начальнике отряда человеке доблестном, но своенравном он нажил врага… до смерти.
Весь ушедший в дело, работавший до изнеможения, он не умел показать достаточно внимания, приласкать тех служилых людей, которые с утра до вечера толпились со своими нуждами в его приемной. Они уносили также в полки, в штабы, в общество представление о «черством, бездушном формалисте»… И только немногие близкие знали, какой бесконечной доброты полон был этот «черствый» человек и скольких людей — даже враждебных ему — он выручал, спасал от беды, иногда от смерти…
Об отношении к себе в армиях и обществе Иван Павлович знал и болел душой.
— Отчего меня так не любят?..
Этот вопрос он задал одному из своих друзей, вращавшихся в армейской гуще, и получил ответ:
— Не умеешь расположить к себе людей.
Однажды со скорбной улыбкой он и ко мне обратился со своим недоумением…
— Иван Павлович, вы близки ко мне. Известные группы стремятся очернить вас в глазах армии и моих. Им нужно устранить вас и поставить возле меня своего человека. Но этого никогда не будет.
* * *
Кубанские казаки, входившие в состав армии, в массе своей мало интересовались пока еще «ориентациями» и «лозунгами» и, стоя на самой границе своей области, томились ожиданием наступления и освобождения своих станиц. Кубанское офицерство разделяло мятущееся настроение всего добровольчества.
Атаман и правительство придерживались союза с Добровольческой армией, не желая рисковать им для новых комбинаций, 2 мая в заседании рады были установлены основные положения кубанской политики: 1) «Необходимость продолжения героической деятельности Добровольческой армии, действующей в полном согласии с кубанским правительством»… 2) «В настоящее время вооруженная борьба с центральными державами является нецелесообразной… но необходимо принять все меры для предотвращения… продвижения германской армии в пределы (края) без согласия на то кубанского правительства»… 3) «Необходимо полное единение с Доном». 4) «Для заключения (союза) с Доном, выяснения целей германского движения и определения отношений с Украйной… отправить в Новочеркасск, Ростов и Киев делегации»[312].
Назначение последних двух делегаций вызывало некоторое опасение и у нас, и у атамана, оказавшееся необоснованным. Делегация на Украйну, добивавшаяся помощи материальной — военным снабжением и дипломатической — «чтобы на мирной конференции между Украйной и Советской республикой Кубанский край не был включен в состав Р. С. Р.» — не достигла цели. Гетманское правительство дало понять делегации, предлагавшей «федерацию», что «без включения Кубанского края в состав Украинской республики на автономных правах (оно) не сможет оказать помощи Кубани»… В среде кубанских правителей возникло опасение, что «при соединении на этих началах с Украйной для немцев возникнет возможность распространить на Кубань силу договора, заключенного Германией с Украйной со всеми последствиями»[313].
Вопрос остался открытым.
Точно также непосредственные сношения с немцами в Ростове ограничились взаимным осведомлением, а переговоры о Доно-Кавказском союзе, как я говорил ранее, усиленно затягивались кубанцами. Кубанский дипломат Петр Макаренко неизменно проводил взгляд, что «кубанцы не являются противниками идеи Юго-Восточного союза, но воплощение его в жизнь в спешном порядке при настоящих условиях не является приемлемым».
Атаман, рада и правительство больше всего опасались, чтобы Добровольческая армия не покинула Кубани, отдав ее на растерзание большевиков, и чтобы на случай нашего ухода на север область была обеспечена теперь же своей армией. Последнее требование, имевшее главным мотивом упрочение политического значения кубанской власти, привело бы к полной дезорганизации армии и встретило поэтому решительный отказ командования.
Между тем, в самой среде кубанцев шла глухая внутренняя борьба. С одной стороны, социалистическое правительство и рада, с другой, кубанское офицерство — возобновили свои старые неоконченные счеты. На этот раз с офицерством шел атаман, полковник Филимонов, поддерживавший периодически то ту, то другую сторону. Назревал переворот, имевший целью установление единоличной атаманской власти.
30 мая состоялось в Мечетинской собрание, на котором атаман перечислял вины правительства и рады, «расхитивших его власть». Офицерство ответило бурным возмущением и недвусмысленным призывом — расправиться со своей революционной демократией. Поздно ночью ко мне пришли совершенно растерянные Быч — председатель правительства и полковник Савицкий — член правительства по военным делам; они заявили, что готовы уйти, если их деятельность признается вредной, но просили оградить их от самосуда, на который толкает офицерство атаман.
Переворот мог вызвать раскол среди рядового казачества, э главное, толкнуть свергнутую кубанскую власть в объятия немцев, которые несомненно прпзналп бы ее, получив легальный титул для военного и политического вторжения на Кубань. Поэтому в ту же ночь я послал письмо полковнику Филимонову, предложив ему не осложнять ц без того серьезный кризис Добровольческой армии.
Впоследствии полковник Филимонов в кругу лиц, враждебных революционной демократии, не раз говорил:
— Я хотел еще в Мечетке покончить с правительством и радой, да генерал Деникин не позволил.
Так же отрицательно отнеслись к этому факту и общественные круги, близкие к армии; в них создалось убеждение, что «тогда, на первых порах была допущена роковая ошибка, которая отразилась в дальнейшем на всем характере отношений Добровольческой армии и Кубани»…
Я убежден, что прийти в Екатеринодар — если бы нас не предупредили там немцы — с одним атаманом было дедом совершенно легким. Но долго ли он успел бы там — не знаю. В то время во всех казачьих войсках было сильное стремление к народоправству не только в силу «завоеваний революции», но и «по праву древней обыкновенности». Во всяком случае, то, что сделал на Дону Краснов, оставив внешний декорум «древней обыкновенности» и сосредоточив в своих руках единоличную власть, было не под силу Филимонову.
Как бы то ни было, в лице кубанского казачества армия имела прочный и надежный элемент. Офицерство почти поголовно исповедовало общерусскую национальную идею: рядовое казачество шло за своими начальниками, хотя многие и руководствовались более житейскими мотивами: «они только и думают говорил на заседании рады один кубанский деятель как бы скорее вернуться к своим хатам, своим женам; они теперь охотно пойдут бить большевиков, но именно, чтобы вернуться домой».
* * *
Финансовое положение армии было поистине угрожающим.
Наличность нашей казны все время балансировала между двухнедельной и месячной потребностью армии. 10 июня, т. е. в день выступления армии в поход, ген. Алексеев на совещании с кубанским правительством в Новочеркасске говорил: «…теперь у меня есть четыре с половиной миллиона рублей. Считая поступающие от донского правительства 4 миллиона, будет 8½ миллионов. Месячный расход выразится в 4 миллиона рублей. Между тем, кроме указанных источников (ожидание 10 милл. от союзников и донская казна) денег получить неоткуда… 8а последнее время получено от частных лиц и организаций всего 55 тысяч рублей. Ростов, когда там был приставлен нож к горлу, … обещал дать 2 миллиона… Но когда… немцы обеспечили жизнь богатых людей, то оказалось, что оттуда ничего не получим… Мы уже решили в Ставропольской губ. не останавливаться перед взиманием контрибуции, но что из этого выйдет, предсказать нельзя»[314].
30 июня ген. Алексеев писал мне, что, если ему не удастся достать 5 милл. рублей на следующий месяц, то через 2–3 недели придется поставить бесповоротно вопрос о ликвидации армии…
Ряду лиц, посланных весною 18 года в Москву и Вологду[315], поручено было войти по этому поводу в сношения с отечественными организациями и с союзниками; у последних, как указывал ген. Алексеев, «не просить, а требовать помощи нам» — помощи, которая являлась их нравственной обязанностью в отношении русской армии… Денежная Москва нс дала ни одной копейки. Союзники колебались: они, в особенности французский посол Нуланс, не уясняли себе значения Северного Кавказа как флангового района в отношении создаваемого Восточного фронта и как богатейшей базы для немцев, в случае занятия ими этого района.
После долгих мытарств для армии через Национальный Центр было получено ген. Алексеевым около 10 миллионов рублей, т. е. полутора-двухмесячное ее содержание. Это была первая и единственная денежная помощь, оказанная союзниками Добровольческой армии.
Некто Л., приехавший из Москвы для реализации 10-миллионного кредита, отпущенного союзниками, обойдя главные ростовские банки, вынес безотрадное впечатление: «…по заверениям (руководителей банков) все капиталисты, а также и частные банки держатся выжидательной политики и очень не уверены в завтрашнем дне».
В таком же положении было и боевое снабжение. Подучили несколько десятков тысяч ружейных патронов и немного артиллерийских от войска Донского; Дроздовский привез с собой свыше миллиона патронов и несколько тысяч снарядов. Это были до смешного малые цифры, но мы давно уже не привыкли к таким масштабам и поэтому положение нашего парка считали почти блестящим. Техническая часть? Кроме полевых пушек — 2 мортиры, 1 гаубица, 1 исправный броневой автомобиль…
Было смешно и трогательно видеть, как весь гарнизон станицы Егорлыкской ликовал при виде отбитого 31 мая у большевиков испорченного броневика «Смерть кадетам и буржуям», и с какою радостью потом мечетинский гарнизон смотрел на этот броневик, преображенный в «Генерала Корнилова» и появившийся на станичных улицах. Несколько дней и ночей, чтобы поспеть к походу, чинили его в станичной кузнице офицеры — уставшие и вымазанные до ушей, но теперь торжественно-серьезные…
Ген. Алексеев выбивался из сил, чтобы обеспечить материально армию, требовал, просил, грозил, изыскивал всевозможные способы, и все же существование ее висело на волоске. По-прежнему главные надежды возлагались на снабжение и вооружение средствами… большевиков. Михаил Васильевич питал еще большую надежду на выход наш на Волгу: «только там могу я рассчитывать на получение средств» — писал он мне. «Обещания Парамонова… в силу своих отношений с царицынскими кругами обеспечить армию необходимыми ей денежными средствами разрешат благополучно нашу тяжкую финансовую проблему».
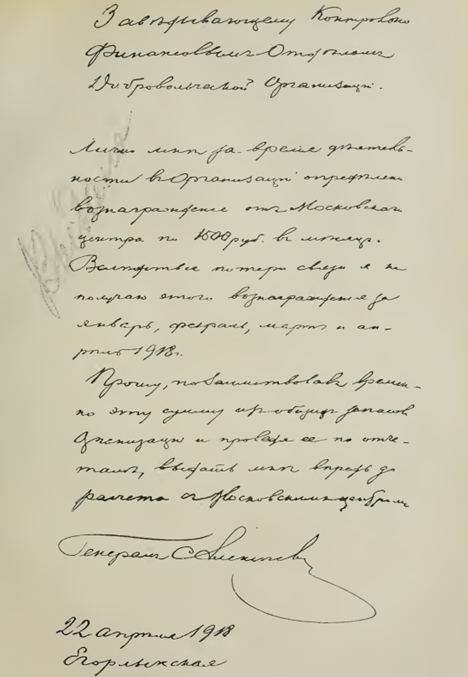
* * *
В таких тяжелых условиях протекала наша борьба за существование армии. Бывали минуты, когда казалось, все рушится, и Михаил Васильевич с горечью говорил мне:
— Ну что же, соберу все свои крохи, разделю их по братски между добровольцами и распущу армию…
Но мало-помалу горизонт стал проясняться.
Еще в мае Покровский привел конную кубанскую бригаду, которая удивила всех своим стройным — как в дореволюционное время — учением; 3 июня к нам пришел из большевицкого района полк мобилизованных там казаков; через два дня гарнизон Егорлыкской с недоумением прислушивался к сильному артиллерийскому гулу, доносившемуся издалека: то веди бой с большевиками отколовшиеся от Красной армии и в тот же день пришедшие к нам в Егордыкскую одиннадцать сотен кубанских казаков.
В конце мая прибыла и долгожданная бригада Дроздовского.
В яркий солнечный день у околицы Мечетинской на фоне зеленой донской степи и пестрой радостной толпы народа произошла встреча тех, кто пришли из далекой Румынии, и тех, кто вернулись с Первого Кубанского похода. Один — отлично одетые, подтянутые, в стройных рядах, почти сплошь офицерского состава… другие — «в пестром обмундировании, в лохматых папахах, с большими недочетами в равнении и выправке — недочетами, искупавшимися боевой славой добровольцев»[316].
Встреча была поистине радостная и искренняя.
С глубоким волнением приветствовали мы новых соратников. Старый вождь, ген. Алексеев, обнажил седую голову и отдал низкий поклон «рыцарям духа, пришедшим издалека и влившим в нас новые силы»…
И в душу закрадывалась грустная мысль: почему их только три тысячи[317]. Почему не 30 тысяч прислали к нам умиравшие фронты великой некогда русской армии…
Впрочем, мало-помалу начали поступать и другие укомплектования. Во многих пунктах были уже образованы «центры» Добровольческой армии и «вербовочные бюро». Они снабжались почти исключительно местными средствами — добровольными пожертвованиями, так как армейская казна была скудна, и ген. Алексеев мог посылать им лишь совершенно ничтожные суммы[318]. В городах, освобожденных от большевиков, сталкивались «вербовщики» нескольких армий, в том числе и самостоятельные вербовщики бригады Дроздовского. Все они применяли нередко неблаговидные приемы конкуренции, запутывая и без того сбитое с толку офицерство. Тем не менее оно текло в армию десятками, сотнями, привозя иногда разобранные ружья и пулеметы; прилетали и «сбежавшие» из-под охраны немцев и большевиков аэропланы…
В самый острый период армейского кризиса, когда начался отлив из армии под формальным предлогом окончания четырехмесячного договорного срока службы, я приказал увольнять всех желающих в трехнедельный отпуск: захотят — вернутся, нет — их добрая водя.
В последние дни перед началом похода мимо дома, в котором я жил, на окраине станицы, но большой манычской дороге днем и ночью тянулись подводы: возвращались отпускные. Приобщившись на время к вольной, мирной жизни, они бросили ее вновь и вернулись в свой полки и батареи для неизвестного будущего, для кровавых боев, несущих с собою новые страдания, быть может, смерть.
Добровольческая армия сохранилась.
Глава XIX. Красная армия
К весне 1918 года обнаружилась окончательно полная несостоятельность Красной гвардии.
5-й съезд советов восстановил всеобщую воинскую повинность: «на каждом честном и здоровом гражданине в возрасте от 18 до 40 лет лежит долг по первому зову Советской Республики встать на ее защиту от внешних и внутренних врагов… Из буржуазии призывного возраста должно быть создано тыловое ополчение для укомплектования нестроевых частей, служительских и рабочих команд».
На этих общих основаниях началась организация «рабоче-крестьянской» Красной армии. Строилась она на принципах старых, отметенных революцией и большевиками в первый период их властвования, в том числе на нормальной организации, единовластии и дисциплине.
Введено было «всеобщее обязательное обучение военному искусству», основаны инструкторские школы для подготовки командного состава, взят на учет старый офицерский состав, привлечены поголовно к службе офицеры генерального штаба и т. д. Советская власть считала себя уже достаточно сильной, чтобы влить без опасения в ряды своей армии десятки тысяч «специалистов», заведомо чуждых или враждебных господствующей партии…
Организация армии шла с великим трудом и большими препятствиями: инерция несения государственной повинности была прервана, прежний двигатель борьбы — иноземное нашествие — сильно поблек и к тому же вытравлялся большевиками из народного сознания, новый — буржуазная контрреволюция — не был воспринят в должной мере; других стимулов не было; в качестве побудительного фактора оставался лишь страх и принуждение.
Русская жизнь этого периода (дето 1918 года) являет разительную аномалию народной психологии, вытекавшую из недостаточно развитого политического и национального самосознания русского народа. На огромном пространстве страны возник десяток правительств и десяток армий, отмеченных всеми цветами политического спектра, начиная с Красной и кончал Южной. Все они производили мобилизации на занятых ими территориях. Во все шел народ — с превеликим нежеланием, оказывая пассивное, очень редко активное сопротивление, но все же шел и воевал, проявляя то высокую доблесть, то постыдное малодушие; бросал «побежденных», переходил к «победителям» и менял красную кокарду на трехцветный угол и наоборот с такою легкостью, как будто это были только украшения форменной одежды… Все усилия красных, белых и черных вождей придать борьбе характер народный не увенчались успехом. За все пять лет русской смуты происходил глубокий внутренний процесс разложения и сложения социальных слоев, были вспышки народного гнева, были миражи народного подъема, но вооруженной народной борьбы еще не было. Когда она начнется на самом деле, то, в какие бы формы ни вылились ее политические лозунги, она будет национальной, весьма скоротечной и положит конец великой смуте.
Первый призыв военнообязанных был объявлен советским декретом во второй половине июля. Пять призывных возрастов (21–25-летний) дали до 800 тысяч солдат. Число это испытывало огромные колебания по пути от уездных приемников до фронта. Тем не менее, к 1 ноября советская власть насчитывала на территории России до полумиллиона штыков и сабель.
С Красной армией в собственном смысле слова мы встретимся только поздней осенью. Летом шла лишь подготовка и некоторые преобразования. Армия оставалась смешанного типа — частью из добровольцев, частью из людей, мобилизованных на местах — насильственно, беспорядочно, властью местных советов или частных войсковых Начальников. Центральное управление употребляло большие усилия, чтобы собрать воедино множество возникших самостоятельно отрядов и придать им организацию полков, дивизий, армий; чтобы взять в свои руки волю «контрреволюционных начальников» путем установления за ними неусыпного наблюдения политических комиссаров и вместе с тем заставить распущенную солдатскую массу повиноваться этим начальникам. Выборное начало было отменено и если на практике еще применялось, то только в отношении должностей не выше ротного командира. Уже в июне к нам попал большевицкий приказ, в силу которого упразднялись войсковые комитеты; взамен их в частях не выше полка допускались «комиссий» с контрольно-хозяйственными функциями. При этом приказ предупреждал, что всякое вмешательство этих комиссий в действия командного состава будет рассматриваться как контрреволюционное выступление, и виновные будут расстреливаться…
В области репрессий были восстановлены все прежние виды наказаний до смертной казни включительно.
* * *
Я не буду останавливаться на других военных мероприятиях советской власти, в силу разнообразных причин никогда не достигших преображения Красной армии в действительно серьезную национальную силу. Интересно отметить лишь тот путь, которым пошли советы — путь решительной и полной реставрации во всем — в строе, в службе и быте войск. Это явление было естественным по той простой причине, что Красная армия строилась исключительно умом и опытом «старых царских генералов». Участие в этой работе комиссаров Троцкого и Подвойского, товарищей Аралова, Антонова, Сталина и многих других было вначале чисто фиктивным. Они играли лишь род надзирателей над работами арестантской артели и вместе с тем учились исподволь у своих «арестантов» их сложному и новому для себя искусству; один оставались неучами, другие преуспевали — по крайней мере в такой степени, чтобы отличить меру явно целесообразную от грубой провокации.
Одни дали разум, другие внесли волю.
Все органы центрального военного управления возглавлялись генералами-специалистами — особенно широко был представлен генеральный штаб — работавшими под неослабным надзором коммунистов. Почти все фронты[319] и большинство красных армий имели во главе старших начальников старой армии. Периодически на большевицком горизонте вспыхивали довольно яркими звездами самородные таланты, рожденные войной и революцией, но это были лишь редкие исключения, и вся сила, вся организация Красной армии покоилась на старом генералитете и офицерстве.

Первое время, кроме десятка авантюристов, еще в начальный период революции оторвавшихся от идеологии офицерства и теперь безоглядно шедших с большевиками, весь прочий генералитет, поступивший на службу, был им враждебен.
Почти все они находились в сношениях с московскими Центрами и Добровольческой армией. Не раз к нам поступали от них запросы о допустимости службы у большевиков… Они оправдывали свой шаг вначале необходимостью препятствовать германскому вторжению, потом «недолговечностью большевизма» и стремлением «кабинетным путем разработать все вопросы по воссозданию русской армии и пристроить так или иначе голодных офицеров». Жизнь ответила им годами террора, «внутренних фронтов» и прямым участием в междуусобной борьбе. Часть их перешла впоследствии в противо-большевицкие армии, другая была последовательно истреблена большевиками, остальных засосало большевицкое болото, в котором нашли успокоение и человеческая низость, и многие подлинные душевные драмы.
Московские Центры поощряли вхождение в советские военные учреждения и на командные должности доверенных лиц, с целью осведомления и нанесения большевизму возможного вреда. Я лично решительно отвергал допустимость службы у большевиков, хотя бы и по патриотическим побуждениям. Не говоря уже о моральной стороне вопроса, этот шаг представлялся мне совершенно нецелесообразным. От своих единомышленников, занимавших видные посты в стане большевиков, мы решительно не видели настолько реальной помощи, чтобы она могла оправдать их жертву и окупить приносимый самым фактом их советской службы вред. За 2½ года борьбы на Юге России я знаю лишь один случаи умышленного срыва крупной операции большевиков, серьезно угрожавшей моим армиям. Это сделал человек с высоким сознанием долга и незаурядным мужеством; поплатился за это жизнью. Я не хочу сейчас называть его имя… Была, конечно, переходы к нам на фронте отдельных лиц и целых «красных» частей, но в общем операции большевиков протекали довольно планомерно, иногда талантливо, поскольку это зависело от высшего командования, а не исполнителей.
Рядовое офицерство уничтожалось или насильственно привлекалось в Красную армию. Жизнь разделила резко старый офицерский состав на три группы. В первой — весьма малочисленной — были «стоящие на советской платформе» — коммунисты искренние или «октябрьские», во всяком случае настолько скомпрометированные своим близким участием в кровавой работе большевиков, что вне советского строя нм выхода не было… Во второй — столь же малочисленной — так называемые «контрреволюционеры», невзирая на необычайный гнет, сыск и террор советской власти, работавшие активно против нее. Работа эта проявлялась в разрозненных вспышках, восстаниях, покушениях, в переходе на сторону «белых армий» и т. д. Свидетельствуя о высоком самоотвержении участников, эти факты имели тем не менее эпизодический характер, мало отражаясь на общем ходе событий. Наконец, третья группа — наиболее многочисленная, брошенная в ряды Красной армии голодом, страхом, принуждением разделила общую судьбу русской интеллигенции, обратившейся в «спецов». Страдающие морально или беспечные, нуждающиеся или берущие от жизни все, что можно, они слились в одну массу лояльных советских работников. Но неприглядность положения и неспокойная совесть заставляли их искать более высоких идеологических обоснований своей жертвы или падения, для немногих представителей революционной демократии это был временный этап — гораздо более близкий и родственный, чем ненавистный пи «белый стан»; этап, приближающий к устроению социалистического отечества, арена идейной пропаганды, имеющей целью «превратить армию из средства порабощения широких народных масс в реальную вооруженную силу демократии». Для многих правых — такой же этап, только на другом пути: «мы убежденные монархисты, но не восстанем и не будем восставать против советской власти потому, что раз она держится, значит, народ еще недостаточно хочет царя. Социалистов, кричащих об Учредительном собрании, мы ненавидим не меньше, чем их ненавидят большевики. Мы не можем бить их самостоятельно, мы будем их уничтожать, помогая большевикам. А там, если судьбе будет угодно, мы и с большевиками рассчитаемся»[320]… Наконец, и тогда уже, детом 18 года послышались те мотивы, которые последствии с большим опозданием восприняли Устрялов и прочие сменовеховцы: белое движение не опирается на народ и раздробляет Россию; большевизм — явление чисто народное, объединяющее страну; большевизм погибнет сам, когда народ изживет его; сопротивление бесполезно и задерживает лишь естественный исторический процесс…
Как бы то ни было, советская власть может гордиться тем искусством, с которым она поработила волю и мысль русского генералитета и офицерства, сделав их невольным, но покорным орудием своего укрепления. Восприняв большевицкую практику, эти люди, конечно, по-прежнему чужды большевицкой идеологии. Настанет день, когда и они вместе с народом приложат руку к спасению страны — совершенно искренно и даже с энтузиазмом. И будут отрицать тогда, что ведь благодаря и их трудам спасение это пришло так поздно…
* * *
Жизнь Красной армии в тот переходный период протекала чрезвычайно разнообразно. Были, однако, общие черты, свойственные частям всех фронтов. Формировались части но распоряжению штабов и совдепов, но чаще по частной инициативе. Принимали название по местности формирования, иногда по фантазии организатора: «Черная Хмара», «Гроза буржуазии», «Пятый неустрашимый» и т. д. Отдельные отряды совершенно произвольной численности жили полу-самостоятельной жизнью, входя в состав «колонн», дивизий, армий. Жили на местные средства — реквизицией и грабежом, редко имея связь с довольствующими учреждениями. Умирали в них люди массами — от постоянных боев и еще более — в результате потрясающего неустройства санитарной части.
Основное ядро полков, отрядов составляли обыкновенно «коммунистическая ячейка», матросы и деклассированные элементы — старые солдаты, по тем или другим причинам не вернувшиеся домой и обратившие военную службу в ремесло. Из последних выбиралось обыкновенно ротное начальство — несведущее в военном деле, но восполнявшее до некоторой степени отсутствие военного образования длительным опытом и зачастую отменным знанием психологии своих подчиненных. Охотно выбирали в командиры и старых офицеров, отношение к которым значительно переменилось в сравнении с первым периодом революции. Иногда назначали их насильно, против воли, так как власть приносила тогда больше терний, чем роз. Должно быть сроднило общее несчастье и одинаковый гнет со стороны коммунистов. Главную массу армии составляло по-прежнему крестьянство — инертное и не воинственное.
Наконец, огромную роль в утверждении коммунистической власти, в особенности вначале, играли отряды наемников — латышей, китайцев, пленных венгров и немцев. Полное непонимание совершающихся событий, презрение к стране и народу, холодная страшная жестокость и садизм и, вместе с тем, тревожное чувство обреченности и грядущего возмездия — делали этот элемент чрезвычайно удобным, слепым и покорным, орудием в руках советской власти. Эти отряды составляли личную охрану советских самодержцев, комплектовали кадры палачей в че-ка и в армии, участвовали во всевозможных карательных экспедициях, усмиряли крестьянские восстания, истребляли интеллигенцию и «белых», подогревали с тыла пулеметами дух красных воинов и расправлялись с непокорными честолюбцами, появлявшимися время от времени среди красного командования.
Эта своеобразная «интервенция», примененная народными комиссарами, своими кровавыми образами запечатлелась надолго в памяти русского народа.


Летом 18 года сводки штаба Добровольческой армии устанавливали «резко бросающуюся в глаза черту Красной армии: борьбу между начальниками, старавшимися установить порядок, и подчиненными — пассивно, иногда активно сопротивлявшимися этому… Приказы и телеграммы полны жалоб, указаний, увещаний, угроз. Наиболее распространены в армии неисполнение приказаний, небрежное несение службы, самовольное оставление фронта, насилия, грабежи, пьянство». Обучение отсутствовало почти вовсе. Жизнь в войсках принимала такой тяжелый и сумбурный характер, что, под влиянием более разумного элемента, некоторые части сами выносили постановления о применении в них суровых мер наказания, включительно до розог и смертной казни.
Красная армия в переходный период жила еще преемственно традициями «революционной армии» 17 года, и потому, боевая годность ее была весьма относительной. Но она шла массами. Стихийная тяга к земле, к дому, просто к мирной жизни вызывала дезертирство в небывалых размерах, особенно летом, обращая красные части в проходные этапы, через которые переливала человеческая волна. Ушедших заменяли новые люди — иногда являвшиеся добровольно, чаще взятые насильно. И они шли опять массами, подгоняемые пулеметами «карательных отрядов», побуждаемые страхом столько же, сколько и злобой, подогреваемые надеждой на скорое окончание безумной кровавой борьбы. А на территориях, пораженных войной, люди подымались с насиженных мест, разоряли свои хозяйства и шли куда глаза глядят, без толку и без смысла. За армией двигался громадный обоз с добром красноармейцев — своим и награбленным, с женщинами, которые их ссорили и развращали, с детьми, которые их связывали.
Казалось тогда, что в толще народной слагается безразличное отношение к вопросу — кто победит: лишь бы скорее конец.
Глава XX. Второй кубанский поход: силы и средства сторон; театр; план операции
К началу 2-го Кубанского похода, т. е. в июне месяце 1918 г., состав Добровольческой армии бил следующий:
Штаб армии:
Начальник штаба генерал Романовский.
Начальник строевого отд.[321] генерал Трухачев.
Начальник снабжения полк. Мальцев.
Инспектор артиллерии генерал Невадовский.
Нач. санитарн. части Н. М. Родзянко.
1 дивизия (генерал Марков):
1-й Офицерский пехотный полк[322].
1-й Кубанский стрелковый полк.
1-й Конный полк[323].
1-я отдельная легкая батарея (3 орудия).
1-я инженерная рота.
2-я дивизия (генерал Боровский):
Корниловский ударный полк.
Партизанский пехотный полк.
Учагаевский пластунский батальон.
4-ии Сводно-кубанский полк (конный).
3-я отдельная легкая батарея (3 орудия).
2-я инженерная рота.
2-я дивизия (полковник Дроздовский).
2-й Офицерский стрелковый полк.
2-й Конный полк[324].
3-я отдельная легкая батарея (6 орудий).
Конно-горная батарея (4 орудия).
Мортирная батарея (2 мортиры).
3-я инженерная рота[325].
1-я конная дивизия[326] (генерал Эрдели).
1-й Кубанский казачий полк.
1-й Черкесский конный полк.
1-й Кавказский казачий полк.
1-й Черноморский казачий полк.
1-я Кубанская казачья бригада (генерал Покровский).
2-й Кубанский казачий полк.
3-й Кубанский казачий полк.
Взвод артиллерии (2 орудия).
Кроме того: Пластунский батальон, одна гаубица и бронеавтомобили «Верный», «Корниловец» и «Доброволец»[327].
Всего в армии состояло 5 полков пехоты, 8 конных полков, 5½ батарей, общей численностью 8½ — 9 тысяч штыков и сабель и 21 орудие.
На первый период операции армии был подчинен отряд донских ополчений полковника Быкадорова силою около 3½ тысяч с 8 орудиями; отряд этот действовал по долине Маныча.
* * *
Против нас на Северном Кавказе располагалась Северокавказская красная армия, плохо подчинявшаяся центру и не прочно связанная внутри, ввиду соревнования самостоятельных республик — Кубанской, Черноморской, Терской и Ставропольской[328].
Главнокомандующим был Автономов, который за все время своего пребывания во главе войск, с 1 апреля по 10 мая, вел ожесточенную борьбу с гражданской властью Кубано-черноморской республики (Ц. И. К.). Его поддерживали войсковые начальники, в том числе Сорокин. В начале апреля Ц. И. К., боявшийся диктаторских стремлений Автономова, отрешил его от командования и должность главнокомандующего заменил «чрезвычайным штабом обороны», в который вошло семь штатских большевиков. Автономов выехал в Тихорецкую и выступил открыто против своего правительства. Началась своеобразная «полемика» путем воззваний и приказов. В них члены Ц. И. К. именовались «немецкими шпионами и провокаторами», а Автономов и Сорокин — «бандитами и врагами народа», на головы которых призывались проклятия и вечный позор». В распре приняла участие и армия, которая на фронтовом съезде в Кущевке постановила «сосредоточить все войска Северного Кавказа под командой Автономова… категорически потребовать (от центра) устранения вмешательства гражданских властей и упразднить «чрезвычайный штаб».
Спор решила Москва, дав 14 мая Автономову почетное, по бездеятельное назначение «инспектора и организатора войсковых частей Кавказского фронта» и назначив военным руководителем генерального штаба генерал-майора Снесарева.
Снесарев осел в Царицыне, откуда и правил фиктивно, так как со взятием нами Торговой (12 июня) почти всякая связь его с северокавказскими войсками была утеряна. Фактически командовал Калинин латыш, кажется подполковник, имевший свой штаб в Тихорецкой.
После разгрома большевиков под Тихорецкой и Кущевкой, Снесарев был обвинен в «контрреволюции» и смещен; 21 июля, за несколько дней до падения Екатеринодара главнокомандующим был назначен «бандит и провокатор» Сорокин, которого официальные «Известия» переименовали в «спасителя республики».
* * *
Силы северокавказских войск не поддавались точному учету. Их не знали точно ни мы, ни «всероссийский генеральный штаб[329]», ни даже штаб Калнина. Постоянно появлялись какие-то новые части, наименования которых через неделю исчезали Бесследно; создавались крупные крестьянские ополчения, которые после неуспеха или занятия добровольцами района их формирования рассасывались незаметно по своим селам.
Главнейшие группы красных сил располагались следующим образом:
- В районе Азов–Кущевка–Сосыка стояла армия Сорокина в 30-40 тысяч при 80–90 орудиях и двух бронепоездах, имея фронт на север против Ростова (немцы) и на северо-восток против донцов и добровольцев. Эта группа состояла главным образом из бывших солдат Кавказского фронта отступивших весною с Украйны отрядов; отличалась более правильной организацией и дисциплиной и имела во главе Начальника наиболее популярного.
Часть войск Сорокина предприняла весною наступление против Добровольческой армии. 19 мая подступила к самой станице Мечетинской, но концентрическим наступлением двух колонн (из Мечетинской и Егорлыкской) я опрокинул большевиков за Гуляй–Борисовку. С тех пор до конца июня на этом фронте было покойно.
- В районе по линии жел. дор. Тиихорецкая–Торговая и к северу от нее располагались многочисленные, не объединенные отряды общей численностью до 30 тысяч со слабой артиллерией. В числе их находились получившие впоследствии боевую известность пехотная бригада, называвшая себя «железной», Жлобы и конная — Думенко. Состояли эти части главным образом из фронтовиков и крестьян Ставропольской губернии, остатков частей б. Кавказского фронта, отчасти из мобилизованных кубанских казаков. Эти войска тревожили постоянно паше расположение у Егорлыкской.
- В углу, образуемом р.р. Манычем и Салом, имея центром Великокняжескую, располагалось 5 отрядов, сплою до 12 тысяч при 17 орудиях, объединенных одно время под командой Васильева. Состав их — однородный с отрядами второй группы, только вместо кубанских казаков в них входили сотни донских — большевиков. На этом фронте происходили постоянные стычки с донскими отрядами Быкадорова.
- Кроме этих трех групп, во многих крупных городах и на жел.-дор. станциях расположены были сильные гарнизоны из трех родов оружия[330].

Снабжались оружием и боевыми припасами красные войска Северного Кавказа из остатков прежних военных складов Кавказского фронта путем отобрания от населения, отчасти организацией производства в Армавире, Пятигорске, Георгиевске и подвозом сначала из Царицына, потом, с потерей железной дороги, кружным и тяжелым грунтовым путем из Астрахани через Святой Крест. Во всяком случае, нас поражало обилие снарядов и патронов у большевиков; ураганному подчас огню их приходилось противоставлять только дисциплину боя и… доблесть войск.
В общей сложности, в предстоящей операции Добровольческую армию ожидала встреча с 80–100 тысячами большевицких войск — частью уже знакомых нам по первому походу, частью еще неизведанной силы и духа. В состав их входило не мало надежных в военном отношении и тяготевших всецело к советской власти кадров тех отрядов, которые под давлением немцев отошли за Дон с Украйны, Крыма и Донской области. Наконец, в то время, как солдаты русских армий европейского фронта распылялись свободно по всему необъятному пространству России, войска Кавказского фронта, не попавшие в Черноморскую эвакуацию, были зажаты в тесном районе между Доном и Кавказским хребтом, став неистощимым и хорошо подготовленным материалом для комплектования Северокавказской красной армии.
* * *
Театр войны во Втором Кубанском походе обнимал Задонье, Ставропольскую губернию, Кубанскую область и Черноморскую губернию[331].
Этот край прорезывали две главных линии Владикавказской жел. дороги: 1) Ростов — Владикавказ и 2) Новороссийск — Царицын. Они связывали политические центры, отдельные армии и фронты большевиков; вторая, кроме того, была единственной железнодорожной артерией, соединяющей Кавказ с центром России. Это обстоятельство, в связи с сосредоточением военных действий почти исключительно вдоль железнодорожных линий, придавало особенное значение Владикавказской дороге и ее узловым станциям: Торговой, Тихорецкой, Кущевке, Кавказской, Екатеринодару. Сила и расположение неприятельских войск и направление железнодорожных магистралей почти исчерпывали стратегические элементы операции; в остальном — преобладающее влияние имело политическое положение, которое являлось мощным орудием стратегии, но, вместе с тем, довлело над ее велениями.
Гражданская война подчиняется иным законам, чем война народов.
Остановимся вкратце на политическом положении края.
* * *
Задонье, занятое большевиками, разделялось резко на две части. Ростовский округ, населенный сплошь иногородними и насыщенный пришлыми войсками Сорокина, остановившими в нем жизнь, давно уже пережил увлечение большевизмом. Отрицательно относившиеся к казачьей власти и до большевиков, и после них, ростовские крестьяне чувствовали еще менее влечения к власти советов. Достойно внимания, что многие крестьянские депутаты округа еще на съезде 5–12 мая в г. Ростове, окруженные штыками и пулеметами красногвардейцев, имели мужество проявить свои истинные чувства: по вопросу о мобилизации для борьбы против «белогвардейцев» 51 голос был подан за мобилизацию, 44 против при 9 воздержавшихся… Иное положение было на Маныче и Сале[332], где многолюдные и богатые крестьянские слободы[333] дали преобладающий контингент красных отрядов, где они сами были хозяевами своей жизни и вершителями судеб старинного спора с казаками. Там иногороднее население было почти сплошь настроено большевицки, казаки пали духом, и продвижение по округу донских ополчений с севера шло поэтому чрезвычайно вяло и нерешительно.
* * *
«Ставропольская республика» самоуправлялась с января 18 года, имея свой собственный «совет народных комиссаров», который просуществовал только до марта, когда был свергнуть красноармейцами. Присланный из Петрограда для организации красной армии бывший жандармский ротмистр Конне совместно с матросом Якшиным и несколькими солдатами поставил свой «совет», отличавшийся исключительным невежеством и жестокостью. Всей своей тяжестью совет обрушился на город Ставрополь, не имея еще достаточной силы распространить свое влияние по губернии; только со второй половины июня в ней начали работать карательные отряды.
«Демократические земства» и «социалистические думы» были разогнаны и заменены советами, попавшими всецело во власть солдатчины. Они — бывшие фронтовики — были хозяевами положения; они законодательствовали, взимали сборы, мобилизовали население, на районных съездах решали вопрос о войне и мире. Губерния — исключительно земледельческие, богатая, в которой средний подворный надел составлял 20,0 десятин, и 70 % всей земли находилось во владении сельских обществ и крестьян. Остальные 30 % только что были поделены, и крестьяне не успели еще воспользоваться плодами своего приобретения. Осязательные выгоды нового строя сталкивались с тяжестью отрицательных сторон безвластья и беспорядка, вторгнувшихся в жизнь. Съезд фронтовиков и представителей северного района губернии колебался. В мае шли переговоры с ним моего штаба при посредстве подполковника Постовского о «сохранении нейтралитета» и беспрепятственном пропуске армии на Кубань для борьбы с Красной армией.
В самом Ставрополе настроение было иное. Бессмысленная и жестокая власть вооружила против себя всех, без различия убеждений, почти уничтожив политические и социальные грани и разделив население на две неравные части: угнетателей и угнетенных. Начавшийся в ночь на 20 июня особенно сильный террор уносил многочисленные жертвы, преимущественно из среды офицеров, зарегистрированных советом в числе около 900 человек. Под влиянием предстоящей неминуемой опасности уничтожения и ввиду слухов о приближении Добровольческой армии, которая к 27 июня подходила к селу Медвежьему[334], в этот день состоялось вооруженное выступление тайной офицерской организации, возглавлявшейся полковником Ртищевым. Малочисленное по числу участников и совершенно не подготовленное выступление это было кроваво подавлено. Почти все участники были перебиты в уличной схватке или казнены после жестоких истязаний. Террор усилился.
Под влиянием этих событий город замер и в мертвой тревоге ждал просвета. Вырвавшиеся из Ставрополя обреченные, в том числе представители социалистических земств и дум, обращались ко мне с мольбой о помощи. Деревня волновалась и многие села склонялись к миру с Добровольческой армией. Но представители съезда северного района в начале июня прервали переговоры со штабом, и армия принуждена была идти по Ставропольской губернии с тяжелыми боями, встретив на линии Торговая — Тихорецкая, наряду с пришлыми отрядами Красной армии, и многотысячное местное ополчение…
Жил еще в губернии народ глубоко мирный, трудолюбивый и темный — калмыки. На них больше, чем на кого-либо обрушились громы революции; они всеми своими помыслами были на стороне Добровольческой армии, но нс могли дать ей ни силы, ни помощи.
* * *
Совершенно иначе слагалась обстановка в «республике Кубанской».
Я не буду останавливаться на деятельности трех последовательно сменявшихся «циков» и «народных комиссаров», в основу которой положено было несложное коммунистическое откровение: «организация крестьянской, казачьей и горской бедноты для борьбы с кулацкими элементами крестьянства и казачества». При этом казаки и горцы поголовно причислялись к разряду кулаков.
Результаты такой политики не замедлили сказаться очень скоро и получили справедливую оценку в устах самих же большевицких деятелей. Так, комиссар земледелия Вильямовский докладывал Ц. И. К.: «идет сплошное уничтожение хозяйств, пропадает и живой, и мертвый инвентарь, приказы мои Бессильны». Чрезвычайный съезд советов в июле в своем постановлении высказал осуждение «по вопросу о грабежах, насилиях и убийствах трудового горского народа (черкесов), творимых отдельными отрядами и жителями некоторых станиц, благодаря чему стерты с лица земли целые аулы и остатки их обречены на гибель и голодную смерть».
Московский центр, приступая к «разказачиванию», делал это все же с некоторой осмотрительностью и постепенностью. Декрет от 30 апреля 18 года предусматривал, например, переход запасных, частновладельческих и других земель первоначально в руки войсковых комитетов, которые должны были, однако, распределить землю между всеми нуждающимися. Московское правительство допускало даже формирование казачьих частей Красной армии, «принимая при этом во внимание все бытовые и военные особенности казаков». Но правительства местных «республик», в том числе Кубанской, шли дальше, стремясь к немедленному и полному уничтожению казачества, как сословия[335]. Земельная практика на Кубани приняла особенно тяжелые формы: «Казаков — говорится в отчете комиссии[336] — своими руками вспахавших и засеявших свои земли, заставляли под пулеметами собрать весь урожай, обмолотить хлеб и тогда зерно и солому разделить между всеми жителями станицы»[337]…
Сопротивление вызывало «отъем», арест, застенок. Большинство иногородних принимало то или иное, хотя бы и косвенное участие в обездолении казачества.
Унижаемые морально, разоряемые материально и истребляемые физически, кубанские казаки скоро стряхнули с себя всякий налет большевизма и начали подниматься.
История казачьих восстаний трагична и однообразна. Возникавшие стихийно, разрозненно, без серьезной подготовки, почти безоружными массами, они сопровождались первоначально некоторым успехом; но через 2–3 дня, после сосредоточения красных войск, казаки платились кроваво, погибая и в бою, и от рук палачей в своих станицах. Так, 27 апреля вспыхнуло восстание в семи станицах Ейского отдела и было задушено в два дня… В начале мая были массовые восстания в Екатеринодарском, Кавказском и других отделах… В июне восстало несколько станиц Лабинского отдела, пострадавших особенно жестоко: кроме павших в бою с большевиками, было казнено 770 казаков. Отчет «Особой комиссии» полон описаниями потрясающих сцен бесчеловечной расправы. Вот, например, станица Чамлыкская: «12 июня партию казаков отвели к кладбищенской ограде… перекололи всех штыками, штыками же, как вилами, перебрасывали тела в могилу через ограду. Были между брошенными и живые казаки, зарыли их в землю заживо. Зарывали казненных казаки же, которых выгоняли на работу оружием. Когда зарывали изрубленного шашками казака Седенко, она застонал и стал просить напиться. Большевики предложили ему попить крови из свежих ран зарубленных с ним станичников… Всего казнено в Чамлыкской 185 казаков… Трупы их по несколько дней оставались незарытыми; свиньи и собаки растаскивали по полям казачье тело»…
С Кубани шел стон, болезненно отзывавшийся в сердцах кубанцев, находившихся в рядах Добровольческой армии. Там ждали нас со страстным нетерпением.
* * *
В «Черноморской республике» не было крупных сил и серьезной военной организации. Когда начались восстания у северных границ губернии, а с юга — наступление грузин, «главнокомандующий черноморскими силами» Калнин[338] доносил Ц. И. К.: «одержать бегство солдат невозможно. Ради Бога, высылайте людей»… Комитет просил помощи у флота и получил отказ: черноморский флот в то время решал на митингах вопрос своего дальнейшего существования. Половина ушла в Севастополь, в подчинение немцам, другая была затоплена на Новороссийском рейде. Это национальное бедствие имело только одно благоприятное для Добровольческой армии последствие: красный Новороссийск и Черноморье остались беззащитными. Они должны были неизбежно разделить участь Кубани.
* * *
В середине мая, когда решался план предстоящей операции, не было еще ни новолжского, ни чехословацкого движения. Внешними факторами, обусловливавшими решение политической стороны вопроса, были только немцы, Краснов и гибнущая Кубань.
От того или иного решения вопроса зависела судьба армии и всего добровольческого движения…
Конечная цель его не возбуждала ни в ком сомнений: выходь на Москву, свержение советской власти и освобождение России. Разномыслие вызывали лишь пути, ведущие к осуществлению этой цели…
Я в полном согласии с генералом Романовским ставил ближайшей частной задачей армии освобождение Задонья и Кубани.
Исходили мы из следующих соображений:
- Немедленное движение на север при условии враждебности немцев, которые могли сбросить нас в Волгу, при необходимости базирования исключительно на Дон и Украйну, т. е. области прямой или косвенной немецкой оккупации и при «нейтралитете» — пусть даже вынужденном — донцов, могли поставить армию в трагическое положение: с севера и юга — большевики, с запада — немцы, с востока — Волга. Что касается перехода армии за Волгу, то оставление в пользу большевиков богатейших средств Юга, отказ от людских контингентов, притекавших с Украйны, Крыма, Северного Кавказа, словом, отказ от поднятия против советской власти Юга России наряду с Востоком — представлялся совершенно недопустимым. Он мог явиться лишь результатом нашего поражения в борьбе с большевиками или… немцами.
- Освобождение Задонья и Кубани обеспечивало весь южный 400-веретный фронт Донской области и давало нам свободную от немецкого влияния обеспеченную и богатую базу для движения на север; давало приток укомплектований надежным и воинственным элементом; открывало пути к Черному морю, обеспечивая близкую и прочную связь с союзниками в случае их победы; наконец, косвенно содействовало освобождению Терека.
- Нас связывало нравственное обязательство перед кубанцами, которые шли под наши знамена не только под лозунгом спасения России, но и освобождения Кубани… Невыполнение данного слова имело бы два серьезных последствия: сильнейшее расстройство армии, в особенности ее конницы, из рядов которой ушло бы много кубанских казаков, и оккупация Кубани немцами. «Все измучились — говорил ген. Алексееву председатель кубанского правительства Быч — Кубань ждать больше не может… Екатеринодарская интеллигенция обращает взоры на немцев. Казаки и интеллигенция обратятся и пригласят немцев»… Таманский отдел в конце мая после неудачного восстания сделал это фактически…
Ген. Алексеев, по окончании Первого похода, испытывал приступы глубокого пессимизма. В его письме от 10 мая Милюкову изложены мотивы такого настроения: «1) армия доживает последние гроши»; 2) «немцы, их скрытые политические цели и намерения»; 3) «личность (Донского) атамана, ген. Краснова, его деятельность в октябре 1917 года, его отношение к Добровольческой армии; 4) беспомощность Кубани, невозможность и бесцельность повторения туда похода при данной обстановке, не рискуя погубить армию»…
Ген. Алексеев мучился гамлетовским вопросом: быть или не быть армии и «куда нам идти».
«На Кубани — гибель» — писал он… «На Кавказе — мало привлекательного и делать нечего. Ген. Краснов, беря начальственный тон по отношению к армии, указывает ей путь — скорее берите Царицын, но Дроздовского я удержу в Новочеркасске до создания регулярной Донской армии. Цель — сунув нас в непосильное предприятие, на пути к выполнению которого мы можем столкнуться с немцами, избавиться от нас на Дону»…
Тем не менее, не видя другого выхода, ген. Алексеев присоединился к нашему плану — движения на Кубань.
15-го мая, по моему приглашению, в станице Манычской состоялось совещание с ген. Красновым, в котором приняли участие ген. Алексеев, Кубанский атаман Филимонов, ген. Богаевский и другие. «Тильзит» — как острили в армии. Совещание, имевшее кроме разрешения насущных вопросов еще и скрытую цель — сближения с донским атаманом, не привело к существенным результатам; от начала до конца оно велось в тоне весьма официальном и неискреннем.
Ген. Краснов настаивал на немедленном движении Добровольческой армии к Царицыну, где «есть пушки, снаряды и деньги, где настроение всей Саратовской губернии враждебно большевикам». Царицын должен был послужить в дальнейшем нашей базой. Я, поддержанный ген. Алексеевым и атаманом Филимоновым, изложил наши мотивы и настоял на своем плане. Второй вопрос о получении с Дона 6 миллионов рублей, следовавших армии по разверстке еще во время Каледина, вызвал неожиданный ответ Краснова:
— Хорошо. Дон даст средства, но тогда Добровольческая армия должна подчиниться мне.
Я ответил:
— Добровольческая армия не нанимается на службу. Она выполняет общегосударственную задачу и не может поэтому подчиниться местной власти, над которой довлеют областные интересы.
Прочие менее важные вопросы прошли удовлетворительно, и мы разъехались, унося с собой чувство полной неудовлетворенности.
С тех пор в письмах, речах, обращениях к ген. Алексееву и Эльснеру ген. Краснов просил, скорбел, негодовал, призывая армию бросить Кубань и идти на Царицын. Он рисовал отчаянное положение нашей армии, когда она, двинувшись на Кубань, неминуемо «попадет в мешок между немцами и большевиками»; обещал деньги, оружие, боевые припасы в случае решения моего идти на Царицын, где «Добровольческая армия приобретет возможность войти в связь с Дутовым или… переправиться на тот берег Волги»… Каким образом немцы могли допустить снабжение Добровольческой армии, присоединившейся к Восточному — противонемецкому фронту, я не мог понять. Из всех своих многочисленных бесед с Красновым Эльснер вынес весьма неопределенное впечатление: «каковы тайные цели, которыми руководится Краснов?.. Может быть он искренне желает оберечь Добровольческую армию от того тяжелого положения, в которое она может стать, столкнувшись с немцами. Может быть… ввиду худшего положения на Царицынском фронте, Краснов, хотя и уверяет, что может взять Царицын собственными силами, хочет все же привлечь помощь армии и этом направлении… Может быть, предлагая Царицын за освобождение области от большевиков, Краснов хочет избавиться одновременно и от Добровольческой армии, которая причиняет ему все же много беспокойства и волнений»[339]…
В начале ген. Алексеев, переехавший и конце мая в Новочеркасск, отстаивал твердо наше решение. По поводу нареканий Краснова он писал мне 5 июня: «мы должны сохранить за собою полною свободу действии, не смущаясь ничьим неудовольствием». Но уже к концу июня, под влиянием новочеркасских настроений и, главным образом, призрака германской опасности, М. В. все чаще стал напоминать мне о Волге. Письмо его от 30 июня дышало вновь глубоким пессимизмом: «углубление наше на Кубань может повести к гибели… Обстановка зовет нас на Волгу… Центр тяжести событий, решающих судьбы России, перемещается на восток. Мы нс должны опоздать в выборе минуты для оставления Кубани и появления на главном театре».
Я к этому времени изъял уже Тихорецкую и не мог, конечно, бросить на полпути операцию, стоившую много крови и развивавшуюся с таким успехом.
Прошел месяц и под влиянием развертывавшихся событий ген. Алексеев вернулся к прежней своей оценке положения: «уничтожение большевиков на Кубани — писал он ген. Щербачеву[340] — обеспечение левого фланга общего стратегического фронта, сохранение за Россией тех богатств, которыми обладают Дон и Кубань, столь необходимых Германии для продолжения войны, являются составной единицей общей стратегической задачи на Восточном фронте, и Добровольческая армия уже в настоящую минуту выполняет существенную часть этой общей задачи».
Пройдет еще два-три месяца и мы уже в некоторой перспективе будем в состоянии оценить пройденный путь… Мы узнаем о том, что готовил нам на Волге «дополнительный договор» немцев с большевиками; услышим, что подъем в населении Поволжья угас так же быстро, как и возник; что там нам предстояли бы еще более сложные отношения с черновским «Комучем». Увидим, что на Юге открывается близкий свободный путь к Черному морю и к победоносным союзникам, а армия растет на Кубани непрерывно в числе и силе.
* * *
Итак — на Кубань!
Стратегически план операции заключался в следующем: овладеть Торговой, прервав тем железнодорожное сообщение Северного Кавказа с центральной Россией; прикрыв затем себя со стороны Царицына, повернуть на Тихорецкую. По овладении этим важным узлом северокавказских дорог, обеспечив операцию с севера и юга захватом Кущевки и Кавказской, продолжать движение на Екатеринодар для овладения этим военным и политическим центром области и всего Северного Кавказа.
Для прикрытия со стороны группы Сорокина я оставил только один полк и два орудия ген. Покровского, который должен был объединить командование и над ополчениями задонских станиц.
Этот план был проведен до конца, не взирая на противодействие вражеской силы и сторонних влияний.
Нас было мало: 8–9 тысяч против 80–100 тысяч большевиков. Но за нами было военное искусство… В армии был порыв, сознание правоты своего дела, уверенность в своей силе и надежда на будущее.
С.-д. Дан рассказывает, как летом 19 года где-то на Урале, живя возле красноармейского лагеря, он слышал с утра до вечера солдатскую песню, распеваемую большевицкими полками, перефразировавшими на советско-патриотический лад ее слова. Как толпа дезертиров, окруженных конвоем, оглушала улицы города все той же песнью:
Смело мы в бой пойдем
За власть советов
И с радостью умрем
Мы за все это.
«Так умела казенщина — заключает Дан — опошлить все, в чем когда то сказывался порыв наивного, но несомненно искреннего энтузиазма(?)».
В Добровольческой армии умирали не… «за все это»… Там пели песню по старому:
Смело мы в бой пойдем
За Русь святую
И с радостью умрем
За дорогую.
И это была не фраза, а искренний обет, запечатленный сознательным подвигом, для многих кровью и смертью.
Было еще одно обстоятельство:
«Наша стратегия вполне согласовалась с качествами молодой армии, более способной на увлечение, чем на требующие терпения и выдержки медленные движения, могущей закалиться только победами, побеждающей только при нападении и одерживающей верх только в силу порыва»…
Эти слова принадлежат историку Сорелю[341] и относятся к французской революционной армии времен Конвента. Но они с величайшей точностью воспроизводят боевой облик и армии Добровольческой.
9–10 июня 1918 г. армия выступила во Второй Кубанский поход.
Глава XXI. Взятие Торговой. Смерть генерала Маркова
На 12 июня назначена была атака станции Торговой.
Еще 9-го началось расхождение дивизий на широком фронте, причем конница Эрдели и дивизия Маркова с донскими частями Быкадорова должны были накануне (11-го) выйти к линий жел. дороги Тихорецкая–Царицын, очищая свои районы от мелких партий большевиков, отвлекая их внимание и 12-го завершая окружение Торговой; две сильных колонны — Дроздовского и Боровского — направлены были с возможною скрытностью вдоль линии жел. дороги Батайск — Торговая и берегом р. Среднего Егорлыка для непосредственного удара на Торговую. Дивизия Боровского составляла вначале мой общий резерв.
В этом походе армия, не взирая на свою малочисленность, двигалась все время широким фронтом для очистки района от мелких банд, для прикрытия жел.-дорожного сообщения и обеспечения главного направления от удара мелких отрядов и ополчений, разбросанных по краю.
10-го июня после упорного боя ген. Эрдели овладел с. Лежанкой; часть красноармейцев была изрублена, другая взята в плен, остальные бежали на юг. 11-го конница с таким же успехом овладела с. Богородицким, выслав в тот же день разъезды для порчи и перерыва жел.-дор. пути от Тихорецкой.
Я со штабом шел при колонне Боровского и заночевать в с. Лопанском. На рассвете 12-го видел бой колонны. Побывал в штабе Боровского, в цепях Кутепова[342], ворвавшихся в с. Крученобалковское, и с большим удовлетворением убедился, что дух, закаленный в первом походе, живет и в Начальниках, и в добровольцах.
Около 7 часов утра, разбив большевиков у Крученой балки, Боровский преследовал их передовыми частями в направлении Торговой, дав отдых главным силам.
Со стороны Торговой, которую должна была атаковать колонна Дроздовского на рассвете, слышен был только редкий артиллерийский огонь. Мы с Романовским, несколькими офицерами и казаками, перейдя речку, поскакали к его колонне.
Дроздовский, сделав ночной переход, с рассветом развернулся с запада против Торговой и вел методическое наступление, применяя тактику большой войны… В тот момент, когда мы въехал в хутор Кузнецова, части Дроздовского подготовлялись там к переправе через р. Егорлык. Большевики от Торговой обстреливали нас редким артиллерийским огнем; с противоположного берега и хутора Шавлиева шел ружейный и пулеметный огонь; туда, стоя открыто в расстоянии 150 шагов, стреляло картечью наше орудие…

Прошло уже более пяти лет с того дня, когда я первый раз увидел дроздовцев в бою, но я помню живо каждую деталь. Их хмурого, нервного, озабоченного начальника дивизии… Суетливо, как наседка, собиравшего своих офицеров и бродившего прихрамывая (старая рана) под огнем по открытому полю Жебрака… Перераненных артиллеристов, продолжавших огонь из орудия, с изрешеченным пулями щитом… И бросившуюся на глазах командующего через речку вброд роту — во главе со своим командиром штабс-капитаном Туркулом — со смехом, шутками и криками «ура»…
Хутор Шавлиев был взят и дивизия стала переходить через Егорлык и развертываться против Торговой, откуда из длинных линий окопов была встречена огнем. Дроздовский долго перестраивал боевой порядок; темп боя сильно замедлялся. Между тем, со стороны Крученой балки по всему полю, насколько видно было глазу, текли в полном беспорядке толпы людей, повозок, артиллерии — спасавшихся от Боровского. Я послал приказание всей колонне последнего продолжать немедля наступление на Торговую.
Около 2 часов дня начал подходить Корниловский полк, и дроздовцы вместе с ним двинулись в атаку, имея в своих цепях Дроздовского и Жебрака.
Торговая была взята; захвачено три орудия, много пулеметов, пленных и большие интендантские запасы. На жел.-дор. станции, где расположился мой штаб, тотчас по ее занятии, дроздовцы установили уже пулемет на дрезину и погнались за уходившими эшелонами большевиков; другие мастерили самодельный «броневой поезд» из платформ с уложенными на них мешками с землей и ставили орудие и пулеметы. Вечером «Первый бронепоезд» (!) Добровольческой армии двинулся к станции Шаблиевской.
В этот же день ген. Эрдели с кубанскими казаками захватил с бою с. Николаевское, станцию Крученскую и, оставив там полк для прикрытия со стороны Тихорецкой, двинулся к Торговой. Казаки и черкесы прошли за три дня 110 верст с несколькими боями; уставшие лошади еле двигались. Тем не менее, Эрдели к вечеру подошел к Торговой, успев перехватить большевикам юго-восточные пути отступления, и в происшедшей там конной атаке казаки многих изрубили, более 600 взяли в плен.
12 июня воссозданная Добровольческая армия одержала свой первый крупный успех. С 12 июня в течение 20 месяцев Северный Кавказ был отрезан от центральной России, а центр страны от всероссийских житниц Кубанской области и Ставропольской губернии и от грозненской нефти[343]. Это обстоятельство несомненно подрывало экономический базис советской власти, но в силу роковых переплетений интересов не могло не отозваться на общем состоянии народного хозяйства. Утешала меня надежда, что такое положение недолговечно, и что штыками своими Добровольческая армия принесет вскоре северу освобождение, а вместе с ним хлеб, уголь и нефть
Мечты!..
* * *
Спускалась уже ночь, замирали последние отзвуки артиллерийской стрельбы где-то на севере, а от колонны Маркова не было никаких известий. Наконец, пришло донесение.
- «Станция Шаблиевская взята»…
«Генерал Марков смертельно ранен»…
…
11 июня Марков очистил от мелких большевицких банд район между Юлой и Манычем и приступил к операции против Шаблиевки. Станция оказалась занятой сильным отрядом с артиллерией и бронепоездами. Взять ее в этот день не удалось. Весь день 12-го продолжался тяжелый и упорный бой, вызвавший серьезные потери, и только к вечеру, очевидно в связи с общей обстановкой, большевики начали отступать. Уходили и бронепоезда, посылая последние, прощальные снаряды по направлению к брошенной станции. Одним из них вблизи от Маркова был тяжело ранен капитан Дурасов… Другой выстрел — предпоследний — был роковым. Марков, обливаясь кровью, упал на землю. Перенесенный в избу, он мучился недолго, приходя иногда в сознание и прощаясь трогательно со своими офицерами-друзьями, онемевшими от горя.
Сказал:
— Вы умирали за меня, теперь я умираю за вас…
На утро 1-й Кубанский стрелковый полк провожал останки своего незабвенного Начальника дивизии. Раздалась команда — «слушай на краул!»… В первый раз полк так небрежно отдавал честь своему генералу: ружья валились из рук, штыки колыхались; офицеры и казаки плакали навзрыд…
К вечеру тело привезли в Торговую. После краткой литии гроб на руках понесли мы в Вознесенскую церковь сквозь строй добровольческих дивизий. В сумраке, среди тишины, спустившейся на село, тихо подвигалась длинная колонна. Над гробом реял черный с крестом флаг, его флаг, мелькавший так часто в самых опасных местах боя…
После отпевания я отошел в угол темного храма, подальше от людей и отдался своему горю.
Уходят, уходят один за другим, а путь еще такой длинный, такой тяжелый…
Вспомнились последние годы — Галиция, Волынь, Ставка, Бердичев, Быхов, Первый Кубанский поход… Столько острых, тяжких и радостных дней, пережитых вместе и сроднивших меня с Марковым… Но не только потерян друг. В армии, в ее духовной жизни, в пафосе героического служения образовалась глубокая брешь. Сколько предположений и надежд связывалось с его именем. Сколько раз потом, в поисках человека на фоне жуткого безлюдья, мы с Иваном Павловичем, точно угадывая мысли друг друга, говорили со скорбью:
— Нет Маркова…


В ту же ночь два грузовика со взводом верных соратников, с пулеметами по бортам везли дорогую кладь по манычской степи, еще кишевшей бродячими партиями большевиков, в Новочеркасск. Там — осиротелая семья покойного — мать, жена и дети, там «его» полк и десятки тысяч народа отдали последний долг праху героя, который когда-то учил своих офицеров:
— Легко быть честным и храбрым, когда сознал, что лучше смерть, чем рабство в униженной и оскорбленной России…
* * *
13-го июня я отдал приказ по армии:
§ 1.
«Русская армия понесла тяжелую утрату: 12 июня при взятии станции Шаблиевки пал смертельно раненый генерал С. Л. Марков.
Рыцарь, герой, патриот, с горячим сердцем и мятежной душой он не жил, а горел любовью к Родине и бранным подвигам.
Железные стрелки чтут подвиги его под Творильней, Журавиным, Борыньей, Перемышлем, Луцком, Чарторийском… Добровольческая армия никогда не забудет горячо любимого генерала, водившего в бой ее части под Екатеринодаром, в Ледяном походе, у Медведовской…
В непрестанных боях, в двух кампаниях, вражеская пуля щадила его. Слепой судьбе угодно было, чтобы великий русский патриот пал от братоубийственной русской руки…
Вечная память со славою павшему…
§ 2.
Для увековечения памяти первого командира 1-го Офицерского полка, части этой впредь именоваться — «1-й Офицерский генерала Маркова полк».
Глава XXII. Поход и бой от Великокняжеской до Белой глины
Для обеспечения дальнейшей операции против Тихорецкой со стороны Царицына и для содействия Дону по освобождению Сальского округа я двинул армию на Великокняжескую.
2-я дивизия Боровского осталась в Торговой, имея два конных полка у Александровского и Николаевского, фронтом в сторону Тихорецкой. Остальные силы в ночь на 15 июня заняли исходное положение на левом берегу Маныча, с тем, чтобы атаковать Великокняжескую на следующее утро.
Правый берег Маныча занимали отряды красных, усилившиеся значительно частями, отступившими в последние дни от Торговой и Шаблиевки — всего до 12 тысяч, причем в районе Великокняжеской из этого числа было около 6 тысяч с двумя бронепоездами и несколькими батареями.
В направлении жел.-дорожного моста двинут был Дроздовский; севернее его, на две переправы сменивший временно покойного Маркова Кутепов[344], которому, вместе с подчиненными ему донцами, надлежало атаковать Великокняжескую с северо-запада; еще левее его должен был наступать донской отряд Кареева. На правом крыле шел Эрдели через переправу у Ново-Манычской для охвата Великокняжеской с востока.
Утром 15-го начался бой. Я шел опять с дивизией Дроздовского, желая на первых порах присмотреться к ней и придать более быстрый темп и более широкий размах развитию боя: методизм европейской войны потерпел значительные изменения в добровольческом опыте войны гражданской.
Часть сил Дроздовского развернулась против жел.-дорожного моста, часть пошла правее, найдя в укрытом месте брод по горло через два рукава речки и маленькую рыбачью лодку; под руководством Жебрака одна рота стала переправляться.
Гремела большевицкая артиллерия, сосредоточив свой огонь преимущественно на полустанке, возле которого дымил наш знаменитый «Первый бронепоезд». Временами он подходил к самому мосту, обстреливая в упор большевицкие цепи.
Переправа длилась очень долго. Я приказал «надавить». Дроздовский поднял боевой порядок и двинул против моста; батарея, обогнав пехотные цепи, подскакала к самому берегу, снялась открыто и стала поливать неприятельские цепи шрапнелью. Огонь с того берега ослабел. Вскоре от Великокняжеской показался паровоз с большим белым флагом, издавая непрерывный свист…
— Очевидно парламентеры, — слышится в рядах.
Но паровоз летел, не сбавляя хода, и наш «бронепоезд» лишь в последнюю минуту догадался дать почти в упор два-три выстрела, разбивших паровоз, успевший, однако, ударить по передней платформе «бронепоезда» и сильно покалечить нескольких человек. Паровоз оказался без людей, облитый нефтью, с бомбами, привязанными на буферах. Этот эпизод на несколько минут овладел вниманием всего поля боя: враги как будто забыли друг про друга…
Опять поднялись цепи 2-го Офицерского полка и пошли вперед безостановочно. Внушительная картина стройного наступления и на нас даже произвела впечатление; большевики заметно зашевелились в длинных побережных окопах, а когда появились на том берегу первые дозоры от переправившейся в брод нашей роты, все хлынуло в беспорядке к Великокняжеской; артиллерия и переправившиеся цепи преследовали противника огнем.
На левом фланге цепи большевиков еще держались, когда роты дроздовцев в колоннах, под огнем бросились к железнодорожному мосту и заняли его. Мы перешли на тот берег с головной ротой; артиллерийский взвод, обгоняя пехоту, ушел далеко вперед; на рысях проходил конный полк…
Картина отступления была полная. Влево, далеко на горизонте показались также бегущие толпы, за ними какие то конные лавы — как оказалось — донские сотни из колонны Кутепова, который, отбросив большевиков от северных переправ, шел на перерез к Великокняжеской.
Дроздовский после переправы стал собирать свои части и развертывать вновь боевой порядок. Но надобности в этом уже не было — большевики уходили безостановочно. Подполковник Ряснянский с командой разведчиков, за ним штаб армии с конвоем и 2-й конный полк поскакали к станице. Через несколько минут мы входили уже в вымершую окраину ее; конники преследовали противника, мы расположились в одном ни станционных зданий.
Потери наши были ничтожны.
К сожалению, окружения не вышло: Эрдели, встретив упорное сопротивление у с. Ново-Манычского со стороны отряда Думенко, без артиллерийской поддержки — горные орудия к несчастью испортились — через Маныч не переправился. Манычская группа противника была опрокинута, но не разбита. И долго еще потом в Ставропольской губернии висела она на фланге армии, отвлекая с главного направления наши силы для противодействия.
* * *
На царицынском направлении наша задача была окончена. В самой Великокняжеской сосредоточилось до 2½ тысяч донцов; донские отряды продолжали сами очищение Сальского округа, продвинувшись затем верст на 80, к станции Зимовники. Только гнездо местных большевиков — слобода Мартыновка — держалось еще целых пять недель, осажденное со всех сторон донским ополчением.
Дав войскам отдых и передав район донскому командованию, 17 июня я повернул армию к Торговой, чтобы приступить к операции по овладению Тихорецкой.
Спешить было тем более необходимо, что с 18-го началось сильнейшее давление со стороны войск Сорокина на слабый наш заслон по линии Кагальницкая–Егорлыкская, угрожая тем нашим сообщениям с Доном.
Очевидно, во исполнение общей директивы начиналось наступление большевиков по всему фронту: на с. Лежанку шел полк конницы от ст. Плоской; вдоль железной дороги из Песчанокопского наступала сборная колонна оправившихся после поражения и усиленных мобилизацией частей силою до 6–8 тысяч; в районе Сандата — Башанта — Ивановское собирались большие отряды, частью вернувшиеся из-за Маныча частью пришедшие из Медвежьего и окрестных сел; они атаковали Эрдели у Ново-Егорлыкского, но были отбиты.
Обеспечив Торговую одним полком конницы, к утру 19-го я приказал армии выйти на линию Богородицкое (Боровский) — Развильное (Дроздовский) — Илановское (Эрдели, с подчинением ему частей Кутепова), с целью на следующий день атаковать Песчанокопское.
Это движение привело к упорному бою колонны Дроздовского за с. Николаевское, которое в ночь на 19-е оказалось в руках большевиков, выбивших оттуда наш конный заслон. Бой этот продолжался весь день и стоил дроздовцам потерь около 120 человек. На моих глазах проходили эпизоды, глубоко волнующие и трогательные: атака пехоты — 2-го Офицерского полка по открытому ровному полю, под ураганным огнем большевиков… Неравное единоборство нашего деревянного «бронепоезда» с двумя настоящими бронепоездами красных… С разбитым бомбой паровозом, убитым машинистом и перераненными офицерами, весь в пламени он возвращался тихо к станции Крученой. За ним шли бронепоезда большевиков. Вдруг из-за насыпи неожиданно раздались по ним залпы роты дроздовцев, нанесшие серьезные потери растерявшейся команде головного бронепоезда… Оба дали задний ход и, преследуемые ротой, быстро уходили из глаз…
К 3–4 часам по полудни после боя на деревенских улицах дивизия овладела Николаевским и Поливянским и вышла на западную окраину; проведшие ночь без сна, истомленные и голодные войска залегли тут же на привал. День клонился к вечеру. Развильное — цель сегодняшнего дня — еще в семи верстах; противник может устроиться и вновь оказать сопротивление… Я со штабом проехал цепи и двинулся в направлении Развильного. Попали под ружейный огонь. Остановились. Но пехота, увидев впереди флаг командующего, поднялась и двинулась вперед. В то же время Дроздовский лично повел пересоставленный «бронепоезд» к станции Развильной…
Село и станцию заняли без сопротивления. Большевики уходили поспешно, и только под утро мы узнали причину:
Боровский занял с утра Богородицкое и выдвинул авангард к Песчанокопскому; авангард к ночи после краткого боя ворвался в Песчанокопское, оказавшись в глубоком тылу у противника.
Колонна Эрдели продвигалась также успешно вперед: полковник Кутепов выбил последовательно большевиков из Сандатовского и Ивановского, а 3-й Кубанский полк, при содействии броневика «Верный», преследуя бегущих, захватил орудие и пулеметы и гнал большевиков до Красной Поляны; при этой лихой атаке понесена была тяжелая потеря: пал, сраженный пулей, командир полка, полковник Шкуратов…
* * *
Утром 20 июня дивизии Дроздовского приказано было продолжать движение на Песчанокопское, Эрдели — занять Рассыпное.
В Песчанокопском обстановка между тем изменилась: слабый авангард Боровского был выбит из села отошедшими туда с северо-востока отрядами и восставшими жителями: Песчанокопское и Белая Глина — многолюдные богатейшие села (местечки) тихорецкой линии, привлекавшие агитаторов, пропаганду и всякие буйные элементы, считались очагами большевизма, наиболее враждебными Добровольческой армии.
К Песчанокопскому подтянулись большевицкие силы со всех сторон, устраивались, приводились и порядок. С утра 20-го Боровский пел на село наступление всей своей колонной от Богородицкого и не имел успеха; расстреляв последние свои патроны и снаряды, колонна его пополудни залегла ввиду Песчанокопского.
Колонна Дроздовского медлила выступлением — от измора людей и отсутствия подвод[345]. Я поднял дивизию по тревоге. Конница и артиллерия двинулись походом, пехота — поездом верст восемь, пока шедший впереди наш «бронепоезд», опять сильно пострадавший в этот день, не вступил в бой с бронепоездами противника.
Уже перед закатом обе дивизии (2-я и 3-я) с севера и востока атаковали село. Конница Дроздовского ворвалась было в село, но была выбита. Шел немолчный гул орудий и ружейная трескотня; слева, словно отдаленное эхо, им вторила канонада: то колонна Эрдели вела бой в 12 верстах от нас у Рассыпного, которое Эрдели, разбив большевиков, занял к ночи.
Около 8 часов вечера дроздовцы ворвались в восточную часть села, части Боровского в северную. Большевики уходили в беспорядке на Белую Глину; отдельные части, отряды их, блуждая в темноте, попадали в руки добровольцев и были уничтожаемы.
Бой в этот день отличался большой ожесточенностью.
Мы въезжали в полной темноте. Село совершенно вымерло: большинство жителей бежало вместе с отступавшими большевиками, их гнали безумный страх перед добровольцами… боязнь мести. Во время Первого Кубанского похода, когда армия возвращалась на Дон, часть тяжело раненых добровольцев подлечилась и каким то чудом попала в Песчанокопское; там они вначале благополучно скрывались, но потом были кем-то выданы; и сельский сход, на разрешение которого поступила судьба добровольцев, постановил их казнить, что и было приведено в исполнение.
На другой динь после занятия нами села произведено было расследование и в результате его дома нескольких отсутствовавших виновников предательства и казни, по выводе из них людей, были сожжены со всем скарбом.
* * *
В Песчанокопском дал армии трехдневный отдых.
До сих пор мы были жестоко Красную армию, но не нанесли действовавшей против нас группе окончательного поражения. И теперь разбитые части тянулись к Белой Глине, составив 10-тысячный гарнизон, основанием которого служили называвшая себя «железной» бригада Жлобы и отряд матросов. Войска эти пополнились вошедшими чуть ли не поголовно в их состав жителями призывного возраста Белой Глины — частью добровольцами, частью мобилизованными Жлобой.
Они поднялись не за советскую власть, а за свое село…
Подступы к селению лихорадочно укреплялись и занимались передовыми частями; большевики проявляли уже некоторую организованность и тактическое понимание.
Операция наша подготовлялась тщательно и должна была привести к полному окружению Белой Глины.
Еще 22-го колонна Эрдели (конная дивизия и 1-я див. Кутепова) была подтянута в район с. Павловского, а полк конницы — в Лежанку для обеспечения с севера. Всем колоннам приказано начать наступление с таким расчетом, чтобы атаковать Белую Глину на рассвете 23-го: Боровскому с севера, Дроздовскому вдоль жел.-дорожной линии и речки Рассыпной, Кутепову — с юга, от Павловского. Эрдели с кубанскими казаками должен был к вечеру 22-го занять станицу Новопокровскую и станцию Ею, разрушить жел. дорогу, прикрыть нас со стороны Тихорецкой и отрезать большевикам западные пути отступления из Белой Глины.
В ночь на 23-ье началось наступление.
Пехота Дроздовского двинулась с севера, под начальством полковника Жебрака и около полуночи остановилась верстах в двух от окопов противника. Храбрейший и достойнейший командир — полковник Жебрак — вел полк неискусно. Темной ночью один батальон пошел в дальний обход, другой с Жебраком во главе в походной колонне, без разведки двинулся в направлении хутора Христенко. Встреченный в упор залпом красноармейской заставы батальон смешался. Жебрак бросился вперед с криком «в атаку», но тотчас же упал, смертельно раненый пулей. Дроздовцы, потеряв несколько десятков человек, добежали до хутора и опять нарвались на жестокий огонь из расположенных за ним окопов противника; понесли тяжелые потери. В ночной тьме все перепуталось. Обходивший батальон дроздовцев, услышав выстрелы, бросился в их направлении, был встречен огнем большевиков, остановился и открыл в свою очередь огонь по хутору, поражая и большевиков, и своих…
Вскоре оба батальона отхлынули и залегли.
Эта ночь стоила дорого 3-й дивизии. Кроме командиров полка и батальона (полковник Чернышев), она похоронила около 100 своих воинов.
Между тем, на остальных направлениях наступление шло весьма успешно. Кутепов к рассвету подошел к южной окраине Белой Глины, атаковал село и вскоре ворвался в него; участвовавший в этой атаке 2-й конный полк колонны Дроздовского, севший вновь на коней, преследовал бегущих большевиков. Боровский взял с бою своим Партизанским полком станцию и входил в село с севера. По всему селу ходил броневик «Верный» и, в суматохе боя обстреливаемый и своими, и чужими, разгонял большевицкие толпы.
Около 9 часов, почувствовав окружение, дрогнули и цепи, лежавшие против батальонов дроздовцев. Нестройными толпами стали они метаться во все стороны, ища свободного выхода… Я стоял у жел.-дор. будки возле дороги в Лежанку. Эта дорога оказалась единственной, по недоразумению не прегражденной колонной Боровского. К ней хлынул человеческий поток — все, что осталось от Белоглинской группы. Артиллерия Дроздовского провожала его сильным огнем; броневик, эскадрон 2-го конного полка, мой конвой и штабные офицеры бросились в атаку…
Остатки красных войск спасались кружным путем через с. Горькобалковское на стан. Калниболотскую.
В тот же день к утру Эрдели занял станицу Новопокровскую и станцию Ею, отбив двукратно контрнаступление со стороны Тихорецкой пехоты противника с бронепоездами.
Разгром большевиков под Белой Глиной, помимо общего стратегического значения, оказал большое моральное действие на Кавказскую красную армию и ставропольское население. Принес и материальные результаты: в наши руки попало около 5 тысяч пленных, много оружия, боевых припасов и другой военной добычи.
Взятие первой кубанской станицы Новопокровской подняло настроение кубанских казаков, приблизив осуществление их заветной цели.
* * *
Когда батальоны дроздовцев входили в село, глазам их представилось тяжелое зрелище: зрелище: перед пустыми окопами лежали раненые, умирающие и обезображенные большевиками трупы их товарищей. На теле Жебрака зияло 17 штыковых ран…
«До поздней ночи но всему полю подбирали раненых и свозили трупы убитых и замученных офицеров и добровольцев» — говор говорится в истории Дроздовской дивизии. «Когда узнали, что все трупы добровольцев обезображены издевавшимися над ними (заживо) большевиками, озлобление оставшихся в живых стало еще больше»…
На другой день я услышал, что Дроздовский расстрелял много пленных красноармейцев. Я вызвал его к себе и указал на недопустимость такой жестокой массовой расправы, наносящей к тому же явный вред армии. Он говорил о Жебраке, о замученных добровольцах, о том, что большевики убивают и мучат всех… Мертвенно бледный, дрожащим голосом он вспоминал о «вчерашнем» — весь во власти чувства гнева и печали. Я потребовал, чтобы подобные факты не повторялись. И знал, что Дроздовский, другой, третий если исполнят приказ, то только формально. Многие из добровольцев жили тогда теми же побуждениями, которые дроздовец-поэт, под свежим впечатлением похорон своих друзей и соратников у Белоглинской церкви, выразил в словах «похоронного марша»:
«…И взором души мы стремилися в даль
На новую славную битву,
Где жертвы погибших в бою роковом
Отмстить мы, сурово решили.
И в тихом молчаньм со скорбным челом.
Мы все от могил уходили».
Нужно было время, нужна была большая внутренняя работа и психологический сдвиг, чтобы побороть звериное начало, овладевшее всеми — и красными, и белыми, и мирными русскими людьми. В Первом походе мы вовсе не брали пленных. Во втором — брали тысячами. Позднее мы станем брать их десятками тысяч. Это явление будет результатом не только изменения масштаба и методов борьбы, но и эволюции духа.
А пленные?
Я видел их тогда в Белой Глине — несколько тысяч. Вмешавшись в толпу их, пытался побеседовать, желая выселить психологию этой оглушенной революцией, то зверской, то добродушной, воюющей и ненавидящей войну массы. Напрасно. Звериный страх сковал их мысли и речь. С недоумением, не веря своему счастью, расходились они, отпущенные по домам. И мне думалось:
Пойдут ли эти люди, и с каким чувством, вновь на войну, когда их призовут по мобилизации мы или большевики?
Глава ХХIII. Тихорецкая операция
В то время, когда армия двигалась с боями в направлении на Тихорецкую, на крайнем правом фланге ее, начиная с 18 июня, шло наступление войск Сорокина против нашего Задонского заслона (Кагальницкая–Егорлыкская), с явной целью — ударом по сообщениям армии и выходом в тыл ее сорвать нашу операцию.
Я получал тревожные донесения от Покровского и сведения о крайнем неудовольствии Новочеркасска. Покровский жаловался, что ему не дают с Дона боевых припасов, у него совершенно иссякших, и настойчиво просил подкреплений. Я еще 18-го послал в ст. Егорлыкскую Корниловский полк с двумя орудиями[346] для обеспечения ближайшего фланга армии и предоставил затем заслону справляться собственными силами: ослабление главного удара было недопустимо; только его успех решал судьбу армии, операции и всех второстепенных направлений.
На 42-верстном фронте от Кагальницкой до Егорлыкской войск было не много: у Покровского (Кагальницкая и Мечетинская) — полк кубанцев, 2 орудия и 6 сотен донских ополчений — в общем не более 1½ тысяч; у подполковника Постовского (Егорлыкская), до прибытия Корниловского полка, ополчение станицы — до тысячи человек с 2–3 орудиями.
18 июня колонна большевиков в 2½ тысячи с артиллерией и даже с 6-дюймовымн орудиями атаковала Егорлыкскую, но была отброшена и преследуема Постовским. С того же дня началось наступление крупных отрядов Сорокина (6–8 тысяч человек) на Покровского, достигшее высшего напряжения 23 июня. Большевики взяли с. Гуляй-Борисовку и подошли вплотную к ст. Кагальницкой. Покровский с трудом сдерживал напор противника; потери, понесенные его казаками, были значительны. Между тем, 22 июня выступили на присоединение к армии отдохнувшие и пополнившиеся в Новочеркасске Марковский и 1-й конный полки: для атаки Тихорецкой я стягивал все силы. Ввиду тяжелого положения Покровского, я направил полки эти через мечетинский фронт, чтобы попутно они могли помочь Покровскому.
Подойдя к Кагальницкой, полки эти в ночь на 25-е вступили в бой с большевиками, окружившими уже полукольцом станицу. Командир Марковского полка, полковник Тимановский атаковал большевиков. После крайне упорного и жестокого боя разбил их, захватив орудие и 11 пулеметов, и отбросил далеко на запад. В этот день получил боевое крещение и вынес доблестно главную тяжесть боя вновь сформированный третий батальон Марковского полка из офицеров, прибывших с Украйны и Новороссии.
Победа стоила, однако, марковцам чрезмерно дорого: 31 убит и 280 ранено.
На другой же день, 26-го, полк продолжал путь и, сделав в двое суток 110 верст, присоединился в Горькой Балке к армии.
Между тем, новочеркасская политика продолжала вносить холодную струю в наши настроения и областной шовинизм в стратегию.
По поводу событий на мечетинском фронте и требований Покровского от Дона боевых припасов и поддержки, ген. Эльснер вошел и сношении с донскими властями. «…Ген. Богаевский мне ответил — писал он начальнику моего штаба — , что для атамана такая слабая численность группы Покровского была полной неожиданностью; что слухи о взятии (большевиками) Кагальницкой и Мечетинской сильно возмущают население Новочеркасска… Краснов прислал мне ответ (собственноручной запиской)… Ответ этот настолько резок по своему тону, так раздраженно критикует действия армии, что я его Вам не пришлю. Общий смысл таков, что армия легкомысленно предприняла настоящую операцию, обнажив свою линию сообщений, которая теперь находится под ударами противника; он предупреждал об опасности операции на Торговую и Великокняжескую без предварительной ликвидации Батайской группы, но его не послушали»…[347]

29-го директивой ген. Денисова мечетинский район демонстративно включен был в состав Донского фронта и туда направлен донской пеший полк с 3 орудиями. Вполне своевременно и безопасно, ибо Сорокин, после поражения, нанесенного ему 25 июня Тимановским, прекратил наступление, и на мечетинском фронте наступило полное затишье; советское командование оттянуло свои отряды с этого фронта на юг, к тихорецкой линии, предчувствуя заносимый там нами удар.
Краснову я не ответил: доклад Эльснера получен был мною уже в Тихорецкой, когда «донское правительство приносило генералу Богаевскому, как бывшему добровольцу, торжественное поздравление по поводу успехов Добровольческой армии»…
Наступление большевиков в эти дни велось на всем нашем фронте.
24-го передовые части большевиков атаковали кубанцев Эрдели у станции ее, но были отброшены; 25-го они возобновили атаку уже силами в 4–5 тысяч при 12 орудиях и двух бронепоездах. Развивали артиллерийский огонь давно уже не слыханного напряжения, израсходовав в этот день до тысячи снарядов… Но дух их был уже подорван, и конница Эрдели, усиленная броневиками, опрокинула противника и преследовала их далее в направлении Тихорецкой.
Таким образом, 23-го Добровольческая армия нанесла поражение большевикам под Белой Глиной, а через три дня северокавказская красная армия, отказавшись от всяких активных планов, перешла уже к обороне на всем своем фронте. Только войска «Ставропольской республики» в районе Медвежье — Успенская проявляли еще некоторую активную деятельность.
* * *
В районе Белая Глина — Новопокровская армия простояла до 30-го июня, подтягивая все свои силы, обеспечивая частными боями предстоящую операцию и свое развертывание.
К этому времени группировка противника армейской разведкой определялась следующим образом:
- Под непосредственным командованием «главковерха» Калнина в районе Калниболотская — Терновская и Тихорецкая располагалось 11–12 тысяч войск — по преимуществу тех, которые уже испытали наши удары — при 16 орудиях и большом количестве пулеметов; 3 бронепоезда.
- На севере в Незамаевской стоял конный отряд, связывавший эту группу с армией Сорокина.
- Штаб «главковерха» находился на станции Тихорецкой, в поездах. Вокруг станции и станицы укреплялась позиция, усиливаемая проволочными заграждениями.
- Южнее нас на линии Успенская — Ильинская находился отряд Думенко (2–2½ тысячи, 4 орудия, 20 пулеметов) и в районе Привольное — Медвежье несколько ставропольских отрядов общей численностью около 4 тысяч при 4 орудиях.
Подготовку операции пришлось начать с ликвидации этих южных групп, угрожавших при дальнейшем движении нашему тылу. Удар по ним, чтобы не задержать общего наступления, требовал от начальника большой решимости и стремительности. Этими качествами обладал в высокой степени начальник 2-й дивизии ген. Боровский. И кроме того еще одним: он никогда не вел речи о малочисленности своих войск, их переутомлении и т. д. Разговор наш 27-го был краток:
— Необходимо в три дня разбить большевиков у Медвежьего, Успенской и Ильинской, с тем, чтобы 30-го сосредоточиться в районе Ильинской, так как 1 июля состоится общее наступление наше на Тихорецкую…
— Слушаю.
— Александр Александрович, вы взвесили, что перед вамп — 115 верст пути и 6 тысяч красноармейцев?
— Исполню.
— Можете выступить завтра с рассветом?
— Выступлю сегодня к вечеру…
Мы простились; вечером я провожал колонну Боровского, вытягивавшуюся из Белой Глины: а 30-го пополудни к штабу, перешедшему и Новопокровскую, подъехал автомобиль: Боровский вдвоем с адъютантом но дороги; но которой бродили еще разъезды большевиков, приехал с докладом из… Ильинской.
«Рейд Боровского», как назвали этот поход, протекал с быстротой, поистине кинематографической.
Утром 28-го у хутора Богомолова, в 45 верстах от Белой Гимны, колонна встретила 4 тысячный отряд большевиков с 4 орудиями. Боровский атаковал противника. Корниловский полк, под сильным ружейным огнем перейдя вброд по горло речку, захватил хутор Богомолов, разбил противника и, преследуя его совместно с кубанским конным полком, овладел Медвежьим. В наши руки попало 2 орудия, 2 пулемета, много ружей и около тысячи пленных. В ту же ночь Боровский продолжал движение и на рассвете 29-го атаковал кубанским пластунским батальоном вторую группу противника под Успенской[348] (1½ тысячи пехоты при 2–3 орудиях); разбил и ее; при этом наш удивительный броневик «Верный» атаковал неприятельскую батарею и, перебив ее лошадей, завладел орудием, из которого тотчас же команда броневика открыла огонь по отступающим. 30-го Боровский, разбив в третий раз большевиков, овладел Ильинской.
Остатки отрядив красной армии частью рассеялись во все стороны, частью отошли на юг и к Тихорецкой. Поднявшиеся кубанские станицы Успенская и Ильинская могли уже своими силами охранить южное направление.
29 и 30-го произошла смена дивизии Эрдели в Новопокровской частями Дроздовского. После небольших стычек Эрдели занял станицу Незамаевскую, а Кутепов сосредоточить всю свою дивизию в станице Калниболотской.
Таким образом, 30-го закончилось развертывание армии на 60-яерстном фронте по линии Незамаевская–Калниболотская–Новопокровская–Ильинская.
В тот же день отдан был мною приказ: «завтра 1-го июля овладеть станцией тихорецкой, разбив противника, группирующегося в районе Терновской — Тихорецкой». Колоннам предстояло сделать от 35 до 60 верст, по крайней мере с двумя боями. Но утомление окупится сохранением многих жизней, а неожиданность парализует волю противника…
Ичан операции предусматривал окружение Тихорецкой.
Эрдели должен был, захватив станцию Леушковскую, прикрыть нас частью сил с севера от Сосыки, а с остальными выйти к жел.-дорожной линии Екатеринодар–Тихорецкая у станицы Новорождественской, чтобы затем ударить с запада в тыл Тихорецкой группе.
Кутепову — содействовать взятию станции Порошинской и атаковать потом Тихорецкую с севера.
Дроздовский был направлен вдоль жел. дороги; ему предстояло овладеть станцией Порошинской и станицей Терновской и атаковать Тихорецкую с востока.
Боровскому — содействовать с юга атаке станицы Терновской, после чего, прикрывшись заслоном со стороны Кавказской, атаковать Тихорецкую с юго-востока.
К Незамаевской был подтянут и Покровский. Бригада кубанских казаков Глазенапа охраняла наш правый фланг и тыл от Торговой до фронта и поддерживала порядок в северной части Ставропольской губернии.
* * *
В ночь на 1-е колонны выступили.
Станица Терновская и станция Порошинская, занятые красноармейской дивизией, отрядом коммунистов и тысячью местных большевиков — иногородних с одним бронепоездом, были взяты почти одним маневром.

Колонна Дроздовского двигалась ночью и после привала с рассветом продолжала наступление, ведя попутно бой с бронепоездом большевиков; около 8 часов утра она появилась ввиду станицы; к этому времени колонна Кутепова прямым движением выходила уступом в охват Порошинской с севера, а Корниловский полк, выделенный Боровским, направлялся в тыл большевикам по западной окраине Терновской, к жел.-дорожной станции. После краткого огневого боя, большевики начали отступать на всем фронте и около 9 часов утра корниловцы[349] и дроздовцы владели уже станицей и станцией.
К полудню положение было таково:
Эрдели подходил к Новолеушковской; Кутепов, потеснив небольшие части противника, стал на привал в Новоромановской; Дроздовский — в Терновской; Боровский был на полпути между Ильинской и Тихорецкой.
Большевики быстро отступали перед нами к Тихорецкой. Бой кончился. Поле опустело и смолкло. Казалось, что сегодняшний страдный день не будет уже свидетелем нового боя… Впоследствии пленные передавали нам, что впечатление «конца» всецело овладело штабом Калинина. Там ждали нашего наступления только на следующий день. Главковерх и штабные чипы — после бессонной ночи и тревожных переживаний сегодняшнего утра успокоились и легли отдохнуть.
Их разбудит под вечер гром артиллерии на тихорецких позициях.
* * *
Пополудни наступление наше продолжалось.
Дивизия Дроздовского[350], с посаженной вновь на повозки пехотой, шла вдоль полотна, отгоняя своей артиллерией бронепоезда большевиков. Около 5 часов пополудни закончилось ее развертывание верстах в шести от Тихорецкой. Цепи двинулись по высокому хлебу, дошли шагов на тысячу до окопов противника, и, встреченные сильным ружейным огнем, залегли. Артиллерия большевиков обстреливала нас временами ураганным огнем. Так прошло около часу. От 5-ой железнодорожной будки, где расположились штабы Дроздовского и мой, мы увидели какое-то подозрительное движение и суету у южного выхода из станции. Там метались люди, повозки, скакали конные… Нельзя было разобрать — свои или чужие, но все это текло с юга на север, что было для нас радостным предзнаменованием…
Я приказал дивизии Дроздовского продолжать наступление. Цепи поднялись и, встреченные ураганным огнем, залегли опять. Но это была уже последняя вспышка. Прошло несколько минут, и цепи большевиков, густо лежавшие в окопах возле полотна, поднялись и побежали — не к станции, а в северо-восточном направлении.
Вероятно, узнали…
Станция Тихорецкая, расположенная в тылу и в центре укрепленной позиции, была уже в наших руках…
Боровский, наступая с юго-востока, вдоль железной дороги Гостов — Владикавказ, прорвал Партизанским полком расположение большевиков; кубанский конный полк его дивизии пошел по тылам, внося повсюду сильнейшую панику; Корниловцы устремились к станции.
Через четверть часа мы с Романовским и несколькими офицерами штаба встретили Боровского на станции. Там было безлюдно. Добровольцы 2-й дивизии продолжали бой в поселке; станционные служащие попрятались. Все пути были загромождены поездными составами, стоял в полной неприкосновенности и штабной поезд главковерха. Сам Калнин, как передавали потом железнодорожники, пешком, без шапки, в одиночестве, пробрался между составами и скрылся в направлении на Екатеринодар. Его начальник штаба, полковник ген. штаба[351], застигнутый на месте, заперся в своем купе. Когда потом чины инженерной роты взломали дверь купе, глазам вошедших представилась такая картина: на полу в луже крови лежал труп полковника и рядом с едва заметными признаками жизни — его жена, в которую он стрелял перед самоубийством… Его помощник и адъютант были расстреляны.
По станции откуда-то вело огонь неприятельское тяжелое орудие; в железнодорожном поселке шла частая трескотня — ружейная и пулеметная, и Боровский озабоченно собирал своих добровольцев, вышедших из рук во время стремительной атаки, чтобы организовать на всякий случай оборону станции.
А на позиции все еще шел горячий бой. В тесном кольце судорожно метались люди, ища спасения и находя повсюду смерть. До поздней ночи гремела немолчно артиллерия и трещали ружья и пулеметы. Спускавшаяся тьма придавала какой то особенно суровый и тревожный колорит картине боя.

Только против левого крыла дивизии Дроздовского противник побежал, не приняв атаки. На правом фланге Солдатский полк бросился на окопы и в ожесточенной штыковой схватке уложил много большевиков. Остатки их бежали на север и северо-восток, преследуемые ротами Солдатского полка и кубанцами Боровского. Там они нашли конец, встретив войска Кутепова…
Дивизия Кутепова, заняв без боя станицу Тихорецкую, к 4 часам частями Марковского полка преградила большевикам северные пути отступления и жел. дор. со стороны Сосыки. Наступая затем на станцию, Кутепов встретил отчаянное сопротивление. Перешедшие в контратаку против Марковцев большевики были опрокинуты ими обратно в окопы; левее — 1-й кубанский полк, атакованный внезапно двумя броневиками, стал отходить, преследуемый красной пехотой. Наша артиллерия поддержала полк огнем, разбила один броневик, а 2-й конный полк, бросившись на выручку, атаковал пехоту противника, налетел на окопы и перерубил много большевиков, понеся при этом сам тяжелые потери.
На поле, покрытом высокой пшеницей, в ночной темноте связь между частями 1-й дивизии была совершенно нарушена. Части перепутались между собой и с большевиками. Происходил ряд недоразумений, иногда комичных, часто фатальных. В такой сложной обстановке Кутепов продолжал наступление, окончившееся полным разгромом и уничтожением противника.
Я видел на другой день это поле. Жуткое зрелище представляли длинные линии окопов — по обе стороны дороги в станицу Тихорецкую сплошь заваленные человеческими трупами… Они — вчера еще вольные или невольные защитники окопов прекратили огонь и подняли на ружьях белые флаги (платки); но когда добровольцы и с ними верхом Кутепов со штабом подъехали к окопам, их встретили залпом. Перебили людей, ранили адъютанта начальника дивизии. Поэтому, когда окопы попали, наконец, в руки добровольцев, пощады не было никому…
На ночлег войска расположились по квартирам в районе Тихорецкой, выдвинув авангард на север, запад и юг.
Под утро получено было донесение от Эрдели, что дивизия его, пройдя в этот день с боем около 60 верст, обойдя Леушковскую с севера, к ночи подошла к Новорождественской и жел. дороге, довершив окружение тихорецкого узла и случайных остатков спасавшегося бегством противника. Семь поездов успело, однако, проскочить в Екатеринодар.
* * *
Значение для нас победы под Тихорецкой было весьма велико.
В стратегическом отношении мы 1) разгромили окончательно 30-тысячную группу Калнина; 2) приобретали обеспеченное сообщение с тылом (Тихорецкая — Торговая), свободу действий и возможность переброски войск по железной дороге в трех важных направлениях; 3) разъединяли отдельные группы красных войск и в частности ставили в весьма затруднительное положение армию Сорокина, которая должна была теперь держать фронт на север (немцы и донцы) и на юг, имея под ударом свою линию сообщений[352].
В материальном отношении Добровольческая армия приобрела огромные по нашим масштабам и неоценимые для нас трофеи: массу подвижного состава, три бронированных поезда, аэроплан, броневые автомобили, около 50 орудий[353], в том числе морские дальнобойные, большое количество ружей, пулеметов и огнестрельных припасов; много различного интендантского имущества.
Наконец, в моральном отношении «Тихорецкая» еще более укрепила уверенность в своих силах в армии и ее престиж в глазах друзей и врагов. «Взятие Тихорецкой — доносили из Новочеркасска — произвело сильное, можно сказать, радостно-ошеломляющее впечатление не только среди всех кругов населения, но и среди всех без исключения членов правительства»… Кубанцы начали поступать эти ряды армии еще более интенсивно… Большевицкая пресса прекратила обычное глумление над «белогвардейскими бандамы», но удвоила злобность. А военный комиссариат «ввиду сурьезности момента и надвигающейся со стороны врагов революции на Северо-Кавказскую республику опасности» объявил вскоре «всеобщую мобилизацию»[354]…
Глава XXIV. Положение к 1 августа армии и освобожденного края. Облик Добровольческой армии
Армия прошла в три недели 262 версты, выдержав ряд серьезных боев и понеся значительные потери. Большевики оказались гораздо более стойкими, чем мы ожидали. К сожалению, у меня нет данных об общем числе убитых и раненых на этот период; полагаю, что их было более четверти состава армии. Даже в тех случаях, когда в полковых реляциях, или в моем очерке встречается фраза «потери наши были ничтожны», надо помнить, что определение это весьма относительно: ведь гибли наши кадры, наши первые, наши лучшие, идейные добровольцы…
Тем не менее состав армии к первым числам июля — по крайней мере удвоился. Шел непрерывный приток с Украйны и Новороссии, отчасти из центральной России добровольцев, главным образом, офицеров; освобождаемые кубанские станицы — по приказу и добровольно — становились в ряды армии[355] или вооруженными отрядами охраняли ее сообщения; поступали на пополнение частей, теперь уже в большом числе, пленные красноармейцы, и во всех районах действия армии привлекалась по мобилизации местная молодежь, первоначально два возрастных класса. Дроздовский сделал даже опыт формирования отдельной части из пленных и мобилизованных. Его «1-й Солдатский полк» принимал доблестное участие под Тихорецкой и в дальнейших боях.
Наконец, были факты и другого порядка: некоторые села Ставропольской губернии, приведенные в отчаяние советским режимом, постановляли сами на сходах мобилизацию известных контингентов населения и присылали их на службу в ряды армии.
Пополнив значительно свои ряды, Добровольческая армия к началу июля усилилась следующими войсковыми частями[356]: одним пехотным полком («Солдатский»), четырьмя пластунскими батальонами, тремя кубанскими конными полками, пятью батареями. Части эти вошли в состав дивизий или пошли на развертывание новых соединений[357]; кроме того, в состав армии входило 4 бронепоезда и автоброневой дивизион из 6 машин.
Ввиду вступления у станицы Новопокровской на территорию Кубани, я обратился к Кубанскому атаману с письмом, в котором указывал на необходимость подготовки им и правительством, помимо схемы гражданского управления области, и плана необходимых военных мероприятий. «Эти вопросы, — писал я — как затрагивающие интересы Добровольческой армии, предварительно проведения их в жизнь, должны быть нами совместно обсуждены» В основание военных мероприятий я ставил: 1) полное напряжение сил Кубани для скорейшего ее освобождения; 2) все первоочередные части должны входить и впредь в состав Добровольческой армии для выполнения общегосударственных задач; 3) и дальнейшем со стороны освобожденного кубанского казачества не должно быть проявлено никакого сепаратизма.
Как бы в ответ на это письмо состоялся приказ по войску, подписанный атаманом, полковником Филимоновым и «военным министром» полковником Савицким. Приказ попал ко мне случайно. В нем самостоятельно, без моего участия, разрешены были все вопросы организации вооруженных сил, причем, вместо призыва к полному напряжению, давались уже опасные психологически обещания об освобождений из рядов армии, и в частности из чисто добровольческих частей, известных контингентов…
На этой почве произошла первая крупная размолвка моя с кубанскими властями. В результате атаман оставил в силе приказ, сохранив «принцип суверенности», я же продолжал организацию кубанских частей в мере действительной потребности, вызываемой общим военным положением.
Наконец, к этому же периоду относится еще один эпизод. Полагая, что после ряда побед достаточно назрела психологически возможность перестроения добровольческих частей на основах общеобязательной службы, я запросил секретно мнение по этому вопросу начальников дивизий…
Ответили, что пока преждевременно.
* * *
Довольствовалась армия, ввиду богатства края, обыкновенно хорошо — за наличный расчет, редко путем платных реквизиций. Иногда население кормило добровольцев по доброй воле бесплатно. Вообще нужно заметить, что имевшие место на этой почве злоупотребления меньше всего озлобляли парод, в глазах которого такого рода незаконная «повинность», если и была неприятной, не раз тяжелой, то, очевидно, слишком привычной.
Снабжение армии несколько улучшилось; источниками его служили по-прежнему военная добыча, грузы, следовавшие в адрес советских учреждений, покупка за наличные, а на территории Кубани м за зачетные квитанции — за счет ее правительства. Реализация не имевшего военного значения советского добра служила, вместе с тем, некоторым источником пополнения скудной казны ген. Алексеева. Я снял с армии эту обузу и попросил Михаила Васильевича принять это дело на себя, поручив общественным деятелям из состава военно-промышленного комитета ликвидацию имущества.
Ген. Алексеев приехал в это время в Тихорецкую, предполагая вскоре вернуться в Новочеркасск. Но сначала его болезнь, потом занятие Екатеринодара задержали его при армии, с которой он более уже не разлучался. Вообще, последнее время здоровье М. В. сильно пошатнулось, и он, не взирая на это, работал из последних сил, отдавая всего себя на служение армии. Все, что касалось ее, он принимал близко к сердцу и, казалось, жил только этим «своим последним делом на земле»…
Ген. Алексеев создал особую комиссию, которую, между прочим, обязал, чтобы «в первую очередь были соблюдены интересы местного населения, избегая перепродавцов и спекулянтов», и чтобы работа шла «в полном контакте с кубанскими кооперативами и потребительскими организациями».
Дело пошло, к сожалению, так же плохо, как и в руках военного ведомства. Первый председатель комиссии Н. Парамонов в самом начале (4 авг.) был арестован и выслан немцами, как состоявший в оппозиции им и донскому атаману. Проходили недели, месяцы, грузы портились, расхищались, а ростовские и новочеркасские общественные деятели организовывали и переорганизовывали комиссии, составляли и пересоставляли учет и перессорились в конец друг с другом. Сохранилась обширная переписка, характерная для безвременья и деятелей его. «Большинство членов комиссии — пишет один из участников, мотивируя свой отказ от участия в ней, — лица совершенно неподготовленные и бесполезные, один заведомо вредный и невежественный… Члены комиссии не давали никакой опоры ни в общественном значении, ни в деловом, в сложных вопросах были опасны, а меня связывали в политическом (?) и деловом отношении»… «Вас испугало — отвечает другой — что разные недостойные люди начинают свивать себе гнездо и паутиной интриг и личной выгоды окутывают то святое дело, которое обагрено кровью тысяч юношей… Но разве Вы вчера родились и не знаете, что, к сожалению, на одного честного человека приходится тысяча негодяев»…
В итоге за ближайшие месяцы — август, сентябрь — комиссия успела реализовать из числа многомиллионного имущества всего на один миллион рублей.
На ту же комиссию возложено было ген. Алексеевым «принятие на учет всех оставленных большевиками железнодорожных грузов, находившихся на станциях (занятых армией), выяснение принадлежности грузов владельцам и возвращение им имущества с удержанием известного % в пользу Добровольческой армии».
Реализация осложнялась вмешательством со всех сторон. Кубанское правительство считало собственностию войска все грузы, материалы и вообще всякое имущество, отбитое у большевиков на территории Кубани, и требовало передачи этого имущества в свое распоряжение. Генерал Алексеев на эти домогательства отвечал указанием, что военная база создавалась большевиками ведь средствами всего Северного Кавказа и России. Я со своей стороны охотно соглашался уступить кубанским правителям всю «добычу», но с тем, чтобы они взяли на себя и содержание армии…
Войсковые начальники, как например Покровский, в поисках популярности, раздавали «добычу» щедрой рукой станицам. Даже Дон через новочеркасское представительство передавал ген. Алексееву, что «хотя войско не претендует на оспаривание всего захваченного, но очень просило бы поделиться необходимыми для него предметами»[358]…
В общем итоге деятельности интендантства и общественных элементов в армии создавалось впечатление, что запасов всякого рода — великое множество, но до войск они не доходят. Войсковые начальники и части вводили свои «коррективы» в систему снабжения, в результате которых мне пришлось 30 июля приказом разъяснять довольно элементарное положение, что «предметы военной добычи составляют собственность армии, а не тех лиц, в чьи руки они попали»… Это разъяснение имело особенное отношение к казачеству, где распространительный взгляд на «добычу» был не благоприобретенным, а составлял вековую традицию.
Другим подсобным средством пополнения казны являлись контрибуции, наложенные на те села Ставропольской губернии, население которых приняло участие в вооруженном противодействии Добровольческой армии. Контрибуции назначались в мере вины и соответствовали количеству населения: minimum — в Шаблиевке и Екатериновской (вместе 50 тысяч рублей), maximum — в Белой Глине (2% милл.). Газверстка была предоставлена сельским самоуправлениям. Это мероприятие, будучи рискованным и непопулярным, создавая неравномерное обложение, против ожидания не потребовало никаких репрессий и дало казне 6% миллионов рублей, из которых к 1-му августа фактически поступило 3 миллиона.
Такими паллиативными мерами поддерживалась казна ген. Алексеева, от которой зависело само существование армии.
Особенно остро стоял вопрос со снабжением боевыми припасами, по-прежнему добываемыми только из двух источников: покупкой в небольших размерах от Дона — по дорогой цене, за ставропольский хлеб и шерсть, и от большевиков — ценою несравненно более дорогой — добровольческой крови.
* * *
Считая движение наше на Кубань временным, предполагая, что организация гражданской власти произойдет за Волгой при его участии в масштабе всероссийском, ген. Алексеев не создавал при армии органов гражданского управления. Этот вопрос поднимался однажды в Мечетинской среди лиц Алексеевского окружения и то не серьезно: со мной беседовал А. Ладыженский относительно организации гражданского и политического отдела при ген. Алексееве в составе его — Ладыженского, Б. Суворина и кадета Богданова[359]. Я отнесся отрицательно к этому предположению.
Когда армия освободила северную часть Ставропольской губернии, организация местной власти стала насущно необходимой. У меня на походе для этой цели не было решительно никого. Вдвоем с Иваном Павловичем мы разрешали необыкновенно трудные вопросы запуганной, сложной местной жизни по всем отраслям управления и законодательства. Эти вопросы выдвигались каждый день, со всех сторон; все кругом искали помощи, защиты, а главное, каких-нибудь правовых норм, на которые можно было бы опереться. Можно было, конечно, воспользоваться готовым правительственным аппаратом Дона или Кубани. Но бесправное положение на Дону, потом и на Кубани иногороднего населения исключало всякую возможность присоединения, хотя бы и временного, Ставропольской губернии к одной из казачьих областей.
Я написал ген. Алексееву. Но и у пего тогда, по-видимому, никого не было. Снесся с ростовским к.-д. Зеелером, ввиду его стажа в качестве популярного либерального деятеля и бывшего ростовского градоначальника, предлагая ему вступить в управление Ставропольской губ. Зеелер приехал, ознакомился с положением, дал понять, что он не прочь был бы занять пост моего помощника по гражданской части, по от губернии отказался.
Вообще в то время, когда по всей «пограничной» в отношении советской России губернии шли непрестанные бои и восстания, и губернский город впоследствии дважды переходил из рук в руки, служба там не привлекала никого; она требовала гражданского подвига. После первого занятия нами Ставрополя, оттуда потянуло такой провинциальной склокой, общественные элементы так прочно и сложно переплелись во взаимном недоверии, озлоблении и вражде, что разобраться в этих взаимоотношениях было невозможно и вручить власть незнакомому местному человеку казалось опасным.
При такой обстановке пришлось начинать дело управления в первой освобожденной русской губернии. Приказами моими по гражданской части были признаны действующими все законы, изданные до 25 октября 17 года, т. е. до большевицкого переворота; восстановлены суд, сельские и волостные власти, уездные, потом губернские учреждения. Во главе губернии поставлен был военный губернатор, полковник Глазенап — командир отдельной бригады, которая осталась в губернии в его распоряжении.
От первых шагов наших в освобожденном крае, хотя и занимавшем пока крошечную территорию, зависело много. И первые шаги оказались неудачными.
Кубанское правительство в пределах своей области восстановляло автоматически станичные и окружные органы; кое-где в станицах перевыбирали правление и атаманов, в большинстве остались прежние, сменив лишь ненавистное казачеству наименование «комиссар». В городах прежние думы распускались, и местное самоуправление передавалось в руки назначаемых правительством голов, которые сами подбирали состав городских управ. В конституцию края и организацию областной власти было внесено еще одно серьезное отступление от практики недавнего прошлого: социалистические правители порвали окончательно с «паритетом», устранив от всякого участия в деле управления областью более половины его иногороднего населения. Правители были казаками, мыслили и чувствовали по казачьи. Но, если бы они и хотели в то время «проявить демократизм», то в силу создавшегося в казачестве настроения сделать это было очень трудно.
* * *
Как бы то ни было, армия подвигалась неизменно вперед, и от ее успехов — главным образом — зависели судьбы населения, значение разнородных политических течений в крае и отношение его к самой армии.
Армия представляла из себя организм чрезвычайно сложный. В ней были и герои, наполнившие эпическим содержанием летопись борьбы; и мученики, оросившие ее страницы своею кровью; и люди, пришедшие без подъема, без увлечения, но считавшие необходимым исполнить свой долг; и загнанные туда нуждой или просто стадным чувством; были профессионалы войны, ищущие применения своему ремеслу; были исковерканные жизнью, которые шли, чтобы мстить, и потерявшие совесть, — чтобы разбойничать и грабить. Наконец, была еще рыхлая, безличная среда вольных и подневольных людей, попавших охотою, по мобилизации, случайно, по своей или чужой ошибке; их психология менялась диаметрально при колебаниях боевого счастья…
Наши походы, в обстановке необычайной, создавали чудесные боевые традиции добровольцев; но из них некоторые выносили также и печальные навыки: легкое отношение к жизни — своей и чужой, к «большевицкому» добру; слишком распространительное толкование понятия «большевик», которое обнимало широко вольных и невольных участников советского уклада.
У многих слагалась особая психология, создававшая двойную мораль — одну в отношении своих, другую — к чужим.
Все те черные стороны жизни, которые были зачаты еще на мировой войне и углублены в революции общим упадком чувства законности и порядка, теперь в обстановке гражданского безначалия, неуловимости преступлений и, может быть, пассивности общего отношения к ним, создали благоприятную почву для преступного элемента, который проникал в армию. Даже в штаб армии проникли такие люди, как некто, именовавший себя князем Химшиевым (начальник команды ординарцев) и подъесаул Чайдоянц (комендантский адъютант), — чины, имевшие по характеру служебных обязанностей постоянное и непосредственное отношение к населению; оба они попали затем под суд — первый за грабежи, второй за грабежи и убийства…
Командующий армией по своему положению не имеет возможности соприкасаться близко с самой гущей армейского быта, с его грехами и пороками. Но то немногое, что доходило до меня, доставляло немало огорчений.
Положение, между тем, становилось крайне трудным. В крае только что начинали восстанавливаться суд и гражданская власть; в армии не было пока военных юристов; суд в ней был поэтому упрощенный, далеко не совершенный: полковой — нормального типа и военно-полевой. В нашей исключительной военно-походной обстановке этот последний в буквальном смысле слова мог только казнить или миловать. Смертная казнь, как высшая мера наказания, была всецело во власти суда. Но, подчиняясь общей психологии, и начальники, и суды были милостивы к своим и суровы к «чужим».
В целях борьбы с самосудами — в большей степени, чем для ограждения армии — была введена статья в Уголовное Уложение[360], предусматривавшая виновность «в способствовании или благоприятствовании войскам или властям советской России в их военных или иных враждебных против Добровольческой армии или союзных с ней войск действиях». И вслед за сим организованы были комиссии для производства расследования по нарушениям этой статьи лицами, не принадлежащими к составу армии. Эти комиссии, которым было предоставлено право налагать и самим в административном порядке взыскания от 1 года 4 месяцев тюремного заключения до небольшого денежного штрафа, спасли многих людей от горькой участи. Впоследствии списки осужденных представлялись мне периодически начальником военного и морского судного отдела, и я уменьшал наказания или слагал их вовсе[361].
В тех же целях — предотвращения массовых самосудов — кубанское правительство на своей территории организовало повсеместно станичные «чрезвычайные» или «полевые суды». Эта мера имела последствия весьма печальные: составленные из казаков данной станицы, лишенные в своих действиях какой бы то ин было объективности, суды эти сводили кроваво личные счеты со своими иногородними, обратившись сами в орудие организованного самосуда.
* * *
В пестром калейдоскопе, который являла собою Добровольческая армия, каждый увидит тот свет или ту тень, которые пожелает найти. Но один эти отдельные явления не дадут еще историку представления об облике армии. Он должен будет поставить их в теснейшую связь и зависимость от исторических условий зарождения армии, от духа парода, передавшего в армию свои добродетели, пороки и заблуждения.
Историк отметит несомненно еще одно важное явление — эпидемическою распространение русского большевизма — в формах, быть может, более слабых, иногда мало заметных, — поражавших, тем не менее, морально широкие круги, ему чуждые и враждебные. В навыки, приемы, методы, в самый склад мышления людей вливалась незаметно, несознательно большевицкая отрава. Эпидемия пронеслась и по белым армиям, и по освобожденным районам, и по мировым путям расселения эмиграции. Она находила там свои жертвы среди философов и богословов, среди Начальников и воинов, правителей и судей, политиков и купцов, в толще домовитого крестьянства, зажиточного мещанства и рабочих, казаков и иногородних; в красном, розовом, белом и черном станах.
Один переносили болезнь легко, другие долго и мучительно, третьи не исцелились до сего дня.
В разные периоды своего существования переболела по разному и Добровольческая армия. Но в своих подвигах, страданиях и грехах была постоянна в одном: она являла образ высокого самопожертвования и пламенного патриотизма.
Глава XXV. Второй кубанский поход. Подготовка Екатеринодарской операции: Кущевка, Кавказская, занятие Ставрополя, Пластуновская
Добровольческая армия, отдохнув в течение двух дней в районе Тихорецкой, приступила к подготовке екатеринодарской операции.
К этому времени северокавказские красные войска располагались в следующих организованных группах:
- Армия Сорокина (около 30 тысяч) по-прежнему — в районе Кущевка — Сосыка.
- Екатеринодарская группа — в составе екатеринодарского гарнизона — 5–8 тысяч и остатков Тихорецкой группы Калнина — 2–3 тысячи — деморализованных, остановленных с большим трудом в районе Кореновки.
- «Кавказская» группа силою 3% — 4 тысячи человек, занимавшая жел.-дор. узел Кавказской и выдвинувшаяся передовыми частями к станице Малороссийской. В том же направлении стояли крупные гарнизоны Армавира и Майкопа.
- Ставропольская группа численностью 6–8тысяч; отряды ее располагались в Ставрополе, в Благодарненском и Медвеженском уездах.
- Наконец, множество более или менее организованных мелких отрядов, разбросанных по всему Северному Кавказу.
Чтобы расширить фронт движения и обеспечить предстоящую операцию, я поставил армии следующие задачи:
- Генералам Эрдели, Покровскому и полковнику Кутепову (около 8–10 тысяч.[362]) — разбить армию Сорокина и овладеть жел.-дор. узлом Кущевкой, что приводило одновременно к освобождению Ростовского округа (Задонья).
- Генералу Боровскому (3–4 тысячи) разбить — «кавказскую» группу и овладеть жел.-дор. узлом Кавказской.
- Полковнику Дроздовскому (2½–3 тысячи) — прикрыть Тихорецкую со стороны Екатеринодара.
Независимо от чисто стратегических условий, всякое расширение фронта и занятие новой территории вызывало подъем там казачества и приток живой силы в ряды армии. А несравненные качества добровольцев позволяли мне с 20-тысячной армией вести одновременно операции от Кущевки до Армавира (220 верст), от Динской до Ставрополя (220 верст)…
3-го июля армия начала наступление. В тот же день части Сорокина, стоявшие против Кагальницкого донского фронта, оставили его, поспешно уходя на Кущевку.
* * *
По разным причинам, вытекавшим из личных свойств начальников, нельзя было объединить командования над тремя дивизиями, направленными на Кущевку; пришлось руководить ими непосредственно мне.
Главная колонна — дивизия Кутепова — направлена была вдоль жел. дороги; конница Покровского правее ее от Незамаевской в охват Кущевки с востока; конница Эрдели левое — на Уманскую — Старо-Минскую — на пути отступления Сорокина.
5-го июля Кутепов у Сосыки, после краткого боя с большевиками, насчитывавшими несколько батальонов, 4 орудия и 3 бронированных поезда, опрокинул их и занял этот жел.-дорожный узел.
6-го колонна его, продолжая наступление, встретила крайне упорное сопротивление на линии станции Крыловской — станицы Екатериновской. После неоднократных атак, 1-й дивизии удалось пополудни овладеть станцией. Но бой у Екатериновской продолжался до поздней ночи, вызвав большие потери и потребовав введения в дело всех резервов. Запоздалый подход шедший с юга конницы Покровского еще более осложнил положение. Атаки Марковцев и конников 1-го полка встречали неожиданно стойкий отпор большевиков, переходивших нс раз в контратаку; бывали тяжелые минуты. Только в сумерках нам удалось оттеснить фронт большевиков. Утомленные войска заночевали в иоле, а к рассвету противника уже нс оказалось: под влиянием общей обстановки, отчасти угрозы со стороны появившихся частей Покровского, оп отошел в направлении Кущевки.
В тот же день Эрдели, наступая вдоль жел. дор. Сосыка — Старо-Минская, вел ряд боев с боковым отрядом армии Сорокина, выдержал сильную контратаку его и к вечеру овладел станицей Уманской. В этом центре конспиративной работы и очаге восстаний казаков Ейского отдела дивизия Эрдели значительно пополнилась.
7-го вечером колонны Кутепова и Покровского продолжали наступление, на этот раз вполне согласованно. Под утро 8-го вновь начался тяжелый бой дивизии Кутепова при подходе к станции Кисляковской. Обе стороны проявляли высокое напряжение и незаурядное мужество; не раз то большевики, то добровольцы местами начинали отступление… Только пополудни, когда Покровский овладел станцией Кисляковскоий, угрожая тылу большевиков, занимавших станцию, в рядах их началось замешательство. Войска Кутепова стремительно двинулись в атаку, опрокинули противника, заняли станцию и преследовали большевиков на расстоянии трех верст.
Но Сорокин, придавая по-видимому исключительное значение Кущевскому узлу, к которому, как оказалось, спешно отходили войска его с Багайского и Кагальишцкого фронтов, поезда и все обозы, направил на юг новые подкрепления и приказал отряду, действовавшему против Кисляковскоий, перейти в контрнаступление. Бой начался вновь — такой же упорный и кровавый, и только к вечеру войска Кутепова разбили, наконец, противника, хлынувшего в беспорядке в сторону Кущевки.
На рассвете 10-го предположена была атака Кущевки…
Но в ночь на 10-с станцию Кущевку покинули последние арьергардные части Сорокина, главные силы которого отступали поспешно вдоль Черноморской жел. дороги в направлении на Тимашевскую.
Утром 10-го колонны Кутепова и Покровского вступили в Кущевку; с севера одновременно с ними подходили донские части и… немецкие разъезды.
Раздавшийся вслед за тем взрыв Кущевского моста был тяжелой данью политике, сковавшей стратегию.
Занятие Кущевки имело для нас весьма важное стратегическое значение: оно вызвало полное очищение от большевиков Задонья и упразднение южного донского фронта, дало нам выход к Азовскому морю и обеспечение екатеринодарской операции с севера.
В этот день (10-го) я посетил Кущевку и дал войскам новые задачи: коннице Покровского преследовать главные силы противника на Старо-Минскую, частью сил очистить Ейский район; коннице Эрдели двигаться на перерез пути Сорокина между Старо-Минской и Тимашевской для удара во фланг ему; начать немедленную переброску дивизии Кутепова по жел. дороге через Тихорецкую и екатеринодарское направление.
Армия Сорокина уходила, бросая свои обозы, склады и груженые поезда, стараясь выйти из стратегического окружения и из-под наших ударов.
Преследование ее, к сожалению, нс отличалось напором и стремительностью. Ейск был занят 12-го. Покровский, не учтя обстановку, подчиняясь своей слабости к толпе и овациям, уделить более, чем нужно, сил и внимания этому второстепенному направлению и сам лично свернул с главного пути, чтобы посетить освобожденный город… Несколько дней было потеряно, связь с дивизией временно нарушена. Эрдели с 6-го числа оставался в районе Уманской и не мог или нс дерзал ударить во фланг Сорокину, ведя мелкие, затяжные бон с его боковым заслоном. Оперативные сводки этих дней характеризуют это направление стереотипной фразой — «положение без перемен».
Ведя затем параллельное преследование. Эрдели 18-го числа занят станицы Переяславскую и Ново-Корсунскую. К этому дню Сорокин успел уже сосредоточиться в районе Тимашевской, прикрывшись с севера трудно проходимым лиманом Лебяжьим и низовьями р. Бейсуга.
* * *
Генерал Боровский со 2-й дивизией начал наступление 3-го июля. Выбив Большевиков последовательно из ряда станций и станиц, пройдя в три дня с боями 60 верст, он атаковал 5-го июля главные силы противника в районе Кавказской. Удар, занесенный одновременно с запада. севера и северо-востока[363], увенчался полнейшим успехом: большевики бежали, главным образом, за Кубань, не успев ни эвакуировать станции, ни повредить жел.-дорожного моста через реку. В наши руки попал огромный подвижной состав.
Обеспечив себя занятием станицы Тифлисской со стороны Екатеринодара и Ново-Александровской со стороны Ставрополя, Боровский прочно утвердился в Кавказском узле. Обладание им разъединяло стратегически Екатеринодар, Ставрополь и Армавир, открыв нам свободу действий по всем этим направлениям и обеспечив главное операционное направление армии с юга.
Но большевики, расположившись на левом берегу Кубани, тревожили добровольцев вылазками в районе жел.-дорожного моста и обстреливали наше расположение и станцию артиллерийским огнем. К.тому же, 8-го пришло известие о падении Ставрополя[364], что развязывало Боровскому руки в этом направлении. Поэтому он решить расширить свою задачу. Оставив полковника Писарева с Партизанским полком в районе Тифлисской — Кавказской, остальными силами дивизии переправился с боем на левый берег Кубани у ст. Темижбекской и 12 июля атаковал с фланга и с тыла группу Большевиков у жел.-дор. моста и станции Гулькевичи. Большевики частью были захвачены в плен, частью рассеяны.
Сравнительная легкость, с которой был достигнут успех, побудила дивизию развивать наступление к Армавиру… Я не толкать, но и не сдерживал. 13-го правая колонна (пластуны) Боровского взяла с бою станцию Кубанскую, а левая — Корниловцы с батареей — овладела Григориполиской и, переправившись там же через Кубань, двинулась на юг правым берегом реки… К ночи Корниловцы овладели Прочнокопской — станицей, висящей на высоком утесе Кубани над самым Армавиром. Утром соединенными силами обеих колонн после двухчасового ожесточенного уличного боя Армавир был взят. Разбитые большевики уходили в беспорядкё на Майкоп и Невинномысскую…
Мы, однако, недооценили силы противника и к тому же в Армавире были, по-видимому, слишком беспечны…
В связи с успешно начавшимся 15 июля наступлением армии Сорокина[365] возобновилась деятельность красных войск на всех направлениях.
15-го большевики ударили на слабый заслон Партизанского полка у Тифлисской и захватили станицу, угрожая тылу Боровского. Но полковник Писарев вернул с бою станицу и стойко сдерживал затем неоднократные попытки большевиков форсировать там Кубань.
17-го большевики, значительно усилившиеся подошедшими из Майкопа подкреплениями, атаковали Армавир с запада. Боровский, обративший больше внимания на юг.[366], не успел перегруппировать войска, вынужден был очистить Армавир и в ближайшие дни отойти к Кавказской. Южный авангард, отрезанный большевиками, с трудом пробился сквозь их расположение на соединение с дивизией.
Одержанный большевиками успех получил официальное признание со стороны «командующего Армавиро-Кавказским фронтом, тов. Тулинова». Приказ его весьма характерен для красноармейских Епиходовых: «Честь и слава геройским полкам, отрядам вверенным мне. Приношу Вам свою великодушную благодарность, за Вашу небывалую храбрость, целыми веками революции других иностранных государств. Вы стали выше исторических бойцов славы освободительной истории, героически заняли Армавир с открытыми глазами и стальной грудью идя прямо по пути рассвета свободы»…
Армавирская неудача, весьма мало отразившаяся на стратегическом положении армии, имела, однако, трагические последствия для злосчастного города…
В дни занятия его Боровским, измученное большевицким режимом население встретило добровольцев восторженно и потом всеми способами проявляло свое расположение к ним. Когда 17-го вернулись красноармейцы, началась расплата большевики убили более полутора тысячи невинных людей. Описание особой комиссии так рисует картину этого страшного дня: «…Беспрерывные ружейные выстрелы, прерывистый треск пулеметов, крики озверевшей толпы, хруст дробящих прикладами черепов, стоны, хрипение умирающих, мольбы еще цеплявшихся за жизнь страдальцев, кровь, кровь кругом, ощущение то прикасающейся, то отдаляющейся руки смерти»…
Из-за отвлеченных положений стратегии, из за строк реляций, то радостно воспевающих победу, то сухо-лаконичных, скрывающих неудачу — глядело окровавленное и смертельно измученное лицо русского обывателя. И этот призрак побуждал не раз класть лишнюю гирю не на ту чашку весов задуманного плана операции, на которой покоились принципы военного искусства…
* * *
8-го июля получено было донесение о падении Ставрополя.
Штабная сводка объявляла об этом событии следующими словами: «советская власть изгнана из Ставрополя и вместе с красной гвардией бежала в Армавир. В Ставрополь прибыл наш военный губернатор и вступили наши войска»…
Вероятно для многих событие это казалось тогда значительным и радостным. Но для армии оно являлось тяжелой обузой. Занятие Ставрополя — не в порядке планомерного развития операции, а в результате партизанского налета — сделало положение города весьма непрочным; вместе с тем оно налагало на нас нравственную обязанность защищать его, отвлекая силы от главного направления.
Случилось все это в обстановке почти феерической.
В Кисловодске в мае объявился партизан, полковник Шкуро. Он был заподозрен большевиками в контрреволюции, арестован и отправлен во Владикавказ. Там, при содействии ген. Мадритова, находившегося в добрых отношениях с терским «советом народных комиссаров», Шкуро не только освобождают, но и отпускают обратно в Кисловодск. Прошло немного времени, и Шкуро во главе отряда, в состав которого входили кубанские казаки Баталпашинского и Лабинского отделов, в середине июня появляется под Кисловодском. Взяв город и продержавшись в нем несколько дней он, выбитый большевиками, уходит на Кубань и ищет соединения с Добровольческой армией.
Выступление Шкуро дало сигнал к преждевременному восстанию терцев и к сильным репрессиям со стороны большевиков в отношении кисловодской буржуазии.
К концу июня отряд Шкуро появился в Ставропольской губернии, ведя по дороге удачные бои с большевицкими частями. Его движение опережала громкая молва о несметной силе отряда, неизменной удаче его «атамана» и жестоких расправах с советскими властями…
Появившись 5-го июля к северу от Ставрополя, Шкуро вошел в связь с Добровольческой армией, а городу предъявил ультиматум о выходе из него в определенный срок красноармейцев, грозя в противном случае начать «обстрел тяжелой артиллерией»…
Как это ни странно, но комиссары Ставрополя и начальник гарнизона Шпак, напуганные тревожными вестями, идущими со всех сторон об успехах добровольцев, 8-го очистили город без боя…
Ликованию измученных жителей не было предела.
В Тихорецкой, куда приехал Шкуро представиться и заявить о своем подчинении, я первый раз увидел этого офицера, которого Кубань долго считала своим национальным героем. Тогда — только начиналась еще восходящая линия его карьеры и слагались первые легенды… Молодой, нервный, веселый, беспечный, подкупающий своей удалью и бесшабашностью — словом, тип настоящего партизана. Отряд его имел состав приблизительно четырех полков, и потому я обещал Шкуро после реорганизации и снабжения его артиллерией и технической частью, развернуть отряд в дивизию, сохранив за ним командование.
Но прошло несколько дней, и из Ставрополя начали поступать тревожные сведения. Отряд Шкуро — отличный для набегов — был мало пригоден для длительного боя на подступах к Ставрополю. Партизаны кутили — больше всех сам Шкуро — не раз обижали население, поделили склады… «Старики»-кубанцы ворчали — «не для того они шли в отряд, чтобы защищать буржуев»… Поддаваясь обаянию своего пылкого начальника, они в то же время скептически относились к его молодости и житейскому опыту. До того, что не ясно было, кто над кем верховодит.
Кубанский атаман отнесся также с сомнением к отряду. В результате в Ставрополь был командирован вернувшийся после излечения ран, полученных в Первом походе, достойнейший полковник Улагай и принял дивизию, получившую потом наименование 2-й Кубанской. Шкуро, хотя и с некоторой обидой, согласился стать в ней бригадным командиром. Через некоторое время, по выделении наиболее беспокойных казаков Баталпашинского отдела в «Кубанскую Партизанскую отдельную бригаду», Шкуро получил с ней самостоятельную задачу — действовать на фланге Добровольческой армии и поднять закубанские отделы…
Ставрополь ликовал недолго. На третий день после освобождения (10 июля) опомнившиеся от испуга большевицкие отряды повели наступление на город с трех сторон, подойдя к его предместью. Казаки Шкуро и вновь сформированный из ставропольских офицеров «3-й офицерский полк»[367] с трудом отбивали наступление. 12-го положение было грозное и потребовало переброски туда с главного — екатеринодарского направления полка с батареей и броневиком… Но Шкуро удалось отбросить большевиков за Кубань.
В районе Ставрополя наступило некоторое затишье, которое было нарушено 18-го, когда с юга и востока на город вновь повели наступление красноармейцы силами до 10 тысяч при 6 орудиях. И на этот раз Партизаны, подкрепленные частями Боровского[368], после десятидневных боев разбили противника, преследуя его в обоих направлениях верст на 40.
В начале августа наступление повторится. И долго еще Ставропольское направление будет отвлекать преждевременно наши силы, средства и внимание, пока не войдет в нормальный район северокавказской операции.
* * *
На Екатеринодарском направлении Дроздовский расширял район прикрытия Тихорецкой, продвигаясь постепенно к Екатеринодару. Действуя быстро и энергично, он опрокидывал слабые части противника, группировавшегося вдоль жел. дороги, и занимал станицы по обе стороны ее, привлекая казаков к участию в борьбе. 9-го он взял после серьезного боя ст. Выселки, 10-го Кореновскую, наконец, 13-го Пластуновскую, находившуюся в 90 верстах от Тихорецкой и в 37 — от Екатеринодара.
К 14-му закончилось сосредоточение в районе Пластуновской 1-й[369] и 3-й дивизий. Конница располагалась севернее, у Челбасской, имея передовые части у Переяславской и Ново-Корсунской в непосредственном соприкосновении с войсками Сорокина. Покровский должен был идти с севера на Тимашевскую.
Предстояло решить вопрос о направлении удара, в зависимости от сосредоточения главных сил Красной армии, в частности группы Сорокина: 1) если они в районе Тимашевской, то Добровольческой армии надлежало, прикрывшись заслоном со стороны Екатеринодара, ударить всеми силами в направлении Тимашевской; 2) если у Тимашевской только сильный арьергард, то, отвлекая его прямым движением конницы Покровского и Эрдели через Тимашевскую, всеми силами обрушиться на Екатеринодар настолько быстро, чтобы не дать противнику возможности уйти за Кубань.
Вся совокупность войсковой и агентурной разведки свидетельствовала о том, что армия Сорокина, ослабленная численно и деморализованная, прикрываясь арьергардами, идет на Екатеринодар. Очевидцы передавали о тысячах повозок с пехотой и громадных обозах, непрерывной лентой идущих днем и ночью вдоль Черноморской жел. дороги к Екатеринодару.
Поэтому принято было второе решение, приведшее к десятидневному сражению, — одному из наиболее тяжелых и кровопролитных за всю операцию.
Глава XXVI. Бои на путях к Екатеринодару. Кореновская
Для овладения Екатеринодаром направлена была бóльшая часть армии. Дивизии Казановича и Дроздовского (1-я и 3-я) — вдоль Тихорецкой линии; Эрдели (1-я конная) — севернее, параллельно им, к черноморской линии для удара по городу с севера; Покровский (1-я Кубанская дивизия) — с севера на Тимашевскую и далее в тыл Екатеринодарской группе большевиков. Боровский (2-я дивизия) должен был частью своих сил наступать вдоль Кавказской жел.-дор. линии для обеспечения главного направления и для демонстрации. Для обеспечения тыла в Кореновской был оставлен пластунский батальон с двумя орудиями.
14-го июля я с Романовским был в центральной группе, в станице Пластуновской, установил окончательно детали наступления и напутствовал каждую дивизию пожеланием, чтобы она «первою вошла в Екатеринодар». Этот прием боевого соревнования как нельзя более соответствовал общему настроению — все рвались к Екатеринодару.
К вечеру того же дня Дроздовский маневром окружения взял станцию Динскую, захватив 3 орудия, 600 пленных и большую добычу; южнее — Казанович занял с боя монастырь (Покровская общ.).
Поздно ночью я вернулся в Тихорецкую. Штаб армии на другой день должен был перейти в Кореновскую.
Но утром 15-го связь с центральными колоннами была порвана. По жел.-дорожному телефону мы получили донесение, что станица Кореновская была атакована крупными силами противника и взята им; гарнизон наш частью уничтожен, частью попал в плен.
Большевицкие войска с занятием Кореновской оказались в тылу центральной нашей группы, разъединили ее от конницы Эрдели и штаба армии и создали непосредственную угрозу Тихорецкому узлу, для обороны которого оставались лишь 1–2 формирующиеся батальона, 1–2 сотни и мой конвой.
Положение создалось грозное.
Я приказал немедленно отозвать из Ставрополя полк с батареей для нанесения совместно с бронепоездами удара по Кореновской с северо-востока, тогда как центральная группа будет наносить его очевидно с юго-запада; послал Покровскому приказание — «минуя всякие препятствия» и чего бы это ни стоило атаковать Тимашевский узел и выйти в тыл Сорокину; Эрдели — ударить на Кореновскую с севера.
В центральную колонну штаб послал на аэроплане сообщение о направленной помощи; летчик должен был спуститься в районе Пластуновской, с риском попасть в руки неприятеля…
Прошли томительные сутки…
* * *
Сведения разведки о движении большевиков из Тимашевекой на Екатеринодар имели некоторые основания: туда текли обозы, беженцы, дезертиры, мелкие отряды, отколовшиеся от Сорокина. Главные силы оставались, однако, в районе Тимашевекой, приводились в порядок, пополнялись по пути мобилизованными. Силы эти насчитывали, как оказалось, не менее 25–30 тысяч. На основании согласных показаний пленных Сорокин принял решение — выставив против Покровского заслон из лучшей своей дивизии, которая должна была впоследствии отступать на Тамань и Новороссийск, самому пробиться через Кореновскую на Усть-Лабу, с целью уйти за Кубань. Вероятно, только впоследствии легкость овладения Кореновской и создавшаяся благоприятная обстановка побудили его использовать свое положение и попытаться разбить Добровольческую армию. Во всяком случае весь план свидетельствует о большой смелости и искусстве. Не знаю чьих — Сорокина или его штаба. Но если вообще идейное руководство в стратегии и тактике за время северокавказской войны принадлежало самому Сорокину, то в лице фельдшера-самородка советская Россия потеряла крупного военачальника[370]…
14-го Сорокин перешел в наступление на широком фронте, направляя главные силы на Кореновскую. В этот день он, отбросив конницу Эрдели, вышел на линию Переяславская–Ново-Корсунская–Сергиевская, а 15-го взял Кореновскую.
* * *
Ввиду неясных слухов о появлении противника у Сергиевской и Дядьковской, полученных к вечеру 14-го, послана была туда новая разведка, а колонны Казановича и Дроздовского были придержаны у Динской.
Когда утром 15-го колонны оказались отрезанными от Тихорецкой, Казанович и Дроздовский, по взаимному соглашению, оставив арьергард с бронепоездом у Динской[371], двинулись на Кореновскую, с целью атаковать ее. Марковцы Казановича — в поезде, дроздовцы на подводах. 2-й конный полк был направлен на ст. Раздольную для атаки Кореновской с юго-востока.
С рассветом Казанович, имея всего два батальона марковцев с артиллерией и бронепоездом, атаковал большевиков в направлении станции (Станичная), не дождавшись подхода Дроздовского, и потерпел неудачу, батальоны его залегли, отбиваясь огнем от наступавшей пехоты противника, от атаковавшей большевицкой конницы. В 8 часов утра войска Дроздовского развернулись севернее жел. дор., направляясь на станицу с запада, и бой под Кореновской, тылом к Екатеринодару, продолжался с новым напряжением в течение всего дня.
Войска Сорокина оказались здесь в значительно превосходных силах и отменного боевого качества. Артиллерия его выпускала огромное количество снарядов.

Напрасны были многократные атаки наших дивизий, выезды «на картечь» батарей, личный пример начальников: Дроздовского, под непрерывным огнем ободрявшего свои войска, Казановича, выезжавшего в цепи противника на броневике в горячие минуты боя, Тимановского, водившего лично в атаку батальон марковцев для спасения положения…
Дивизии наши понесли тяжелые потери, были смяты и к вечеру отошли, преследуемые противником, за руч. Кирпели к станице Платнировской. «Отход пехоты, имевшей на своем пути болотистую речку — говорится в описании действий Дроздовской дивизии — носил очень тяжелый характер… Были случаи самоубийства добровольцев, от изнеможения не имевших возможности (уйти) от противника и боявшихся попасть в его руки. Оставленных на поле боя раненых и выбившихся из сил постигла страшная смерть. Красные проявляли нечеловеческую жестокость, выкалывали глаза, вырезали члены и сжигали (потом) раненых на кострах»…
Дивизии остановились на ночь на позиции за ручьем. Части стали подсчитывать свои поредевшие ряды и почти израсходованные боевые припасы, приводились в порядок. На совещании, состоявшемся в эту ночь в Штабе 3-й дивизии, обстановка рисовалась в крайне мрачном свете. Казанович так описывает это совещание: «Дроздовский объявил, что считает создавшееся положение критическим и единственный путь спасения видит в том, чтобы, пользуясь темнотой, отступить в восточном направлении и искать кружным путем соединения с командующим армией или Боровским… Что надо спасать части от уничтожения»… Казанович протестовал: «такое отступление развяжет большевикам руки, они (возьмут) Тихорецкую, порвут всякую связь между отдельными частями армии… Операция будет сорвана… наше отступление поведет к поражению армии по частям. С другой стороны, нельзя себе представить, чтобы ген. Деникин оставался в бездействии — очевидно, он направляет все, что ему удалось собрать, в тыл стоящим против нас большевикам».
Казанович, наконец, заявил, что ввиду потери связи с командующим армией он, как старший, на основании полевого устава, вступает в командование группой и приказывает с рассветом возобновить наступление на Кореновскѵю…
С утра 17-го были сделаны попытки наступления марковским полком, но безуспешно. Противник в свою очередь перешел в наступление по всему фронту.
С особенной силой большевики обрушились в направлении жел. дороги на правый фланг Дроздовцев (Солдатский полк) и на Марковцев. Во многих местах окопы наши были захвачены и в них шел жестокий штыковой бой. С большим трудом незначительным поддержкам храброго 2-го Офицерского полка и батарее доблестного подполковника Миончинского удалось восстановить положение.
В атаках большевиков, не взирая на их исключительное упорство, добровольцы заметили однако какую-то необычайную нервность.
Большевики не просто атаковали — они пробивались…
В то время, когда силы добровольцев были уже на исходе, возле Платнировской спустился летчик штаба армии. Он сообщил так страстно желанную весть о приближении помощи со стороны Тихорецкой…
Настроение войск сразу поднялось.
По полудни над Кореновской появились высокие разрывы шрапнелей. Это 1-й Кубанский полк с батареей и бронепоездом атаковал Кореновскую группу противника с тыла.
Вскоре на всем поле между Кореновской и Платнировской добровольцы увидели ясную и знакомую им картину «конца», когда поле сразу оживает и по нем мечутся во все стороны повозки, всадники и пешие люди… 1-й Кубанский полк ворвался в Кореновскую; навстречу ему шел стремительно Марковский. Разбитый противник спешно уходил двумя волнами: одна, смяв правый фланг Марковцев, бросилась на юг, на Раздольное, откуда ее встретил атакой 2-й конный полк; другая в сравнительном порядке текла на запад, провожаемая огнем артиллерии Дроздовского, и остановилась тыловыми частями верстах в 2–3 от Кореновской. Дроздовский под впечатлением вчерашнего дня не решился преследовать ее пехотой…
Связь с Тихорецкой была восстановлена. Большевики понесли весьма тяжелые потери — добровольцы пощады не давали. Но и Добровольческая армия была сильно обескровлена. 1-я и 3-я дивизии потеряли 25–30 % своего состава. В числе убитых были храбрейшие первопоходники–Марковцы полк. Хованский, подп. Плохинский, шт.-ротмистр Дударев и много других…
Не один день потом в Тихорецкой провожал я в могилу прах своих старых соратников, со скорбью в душе и с больной неотвязчивой думой:
— Уходят, уходят… один за другим…
Проклятая русская действительность! Что, если бы вместо того, чтобы уничтожать друг друга, все эти отряды Сорокина, Жлобы, Думенко и др., войдя в состав единой Добровольческой армии, повернули на север, обрушились на германские войска генерала фон-Кнерцера, вторгнувшиеся вглубь России и отделенные тысячами верст от своих баз…
* * *
К утру 18-го войска Добровольческой армии на Екатеринодарском направлении располагались следующим образом: на севере ген. Покровский, ведя весьма упорные бои, форсировал низовья Бейсуга и после уличного боя овладел Брюховецкой. Эрдели расположился главными силами в районе Березанской, одним полком занимая Батуринскую. 1-я дивизия Казановича была на походе к ст. Выселки, выделив Марковский полк на станцию Бейсуг. Дроздовский оставался в районе Кореновской, имея авангард в Платнировской.
В то время, когда происходили описанные выше события в южной группе Сорокина, северная продолжала наступление на восток, угрожая Березанской и Выселкам. 18-го большевики выбили Эрдели из Березанской и заняли станицу. В то же время другая их сильная колонна сосредоточилась у хутора Журавского, подойдя к вечеру к ст. Выселки и открыв по ней артиллерийский огонь.
Необходимо было покончить во что бы то ни стало с этой группой, вновь угрожающей жел. дороге и нашим сообщениям. Я приказал Дроздовскому вести активную оборону Кореновской, а Казановичу, с подчинением ему кроме 1-й дивизии и конницы Эрдели, разбить северную группу большевиков.
Казанович 18-го производил перегруппировку сил и отражал наступление большевиков на Выселки всего одним батальоном…
На другой день Кореновская группа большевиков с утра большими силами обрушилась вновь на колонну Дроздовского. Весь день шел бой, в течение которого большевики несколько раз врывались в Кореновскую с юга. Одновременно замечено было движение сильной колонны вдоль р. Малеваны, с запада на восток, в глубокий обход позиций 3-й дивизии. Войска Дроздовского проявляли большое упорство, но противник был также необыкновенно настойчив, шел в превосходных силах, а главное, взял уже в свои руки инициативу, приковав Дроздовского к Кореновской и заставив его перейти к пассивной обороне.
Положение Кореновской стало безнадежным.
Понеся серьезные потери, утомленный физически и морально, Дроздовский отдал приказ об отступлении. Начав с трудом вывод войск из боя еще засветло, он в течение ночи отошел на восток, верст за 30, в станину Бейсугскую, оторвавшись совершенно от противника. На другой день (20-го) он донес мне, что за минувшие бои дивизия сильно пострадала, в настоящее время не боеспособна и требует полного отдыха…
Известие об отступлении 3-й дивизии пришло в штаб армии и к Казановичу только пополудни 20-го. Казанович, между тем, вел упорные атаки Березанской и Журавки. Первая была нами взята; но сопротивление Журавской группы противника разбивало все наши усилия. Войска Казановича, в особенности Марковский полк во главе с Тимановским, ходили многократно в атаку, несли тяжелые потери, но успеха не имели.
21-го июля Сорокин был назначен главнокомандующим красных войск Северного Кавказа, и это назначение, по-видимому, повлияло на упорство его войск.
На Екатеринодарском фронте создалось для нас положение тягостной, томительной неопределенности. Только на севере обстановка несколько улучшилась: 20-го наша флотилия, организованная в Ейске, вошла на рейд Приморско-Ахтарской и высадила там небольшой десант, который занял станцию, а в то же время Покровский после упорного боя взял станицы Ново-Джерлиевскую, Роговскую и Ново-Корсунскую, охватив с севера Тимашевский жел.-дорожный узел.
На 24 июля я вновь назначил общее наступление Екатеринодарской группы, привлекши и 3-ю дивизию: Дроздовскому приказано было, несмотря на переутомление дивизии, наступать на Кореновскую, в тыл северной группе большевиков с целью облегчения задачи Казановича.
Оставив бóльшую половину своих сил для выполнения задачи пассивной — прикрытия Усть-Лабинского направления, Дроздовский с остальными 24-го двинулся левым берегом реки Бейсужка; но атаковать Кореновскую, занятую по его сведениям крупными силами противника, не решился и заночевал на полпути в хуторе Бейсужек. Казанович атаковал опять, опять понес большой урон и безрезультатно. Между 1-й и 3-й дивизиями создавались натянутые отношения, основанные меньше всего на их боевых достоинствах: и начальники, и части могли поспорить в доблести… Но трудно было сочетать два характера — безудержного Казановича и осторожного Дроздовского, две системы в тактике: у Казановича лобовые удары всеми силами, рассчитанные на доблесть добровольцев и впечатлительность большевиков; у Дроздовского — медленное развертывание, введение в бой сил по частям, малыми «пакетами» для уменьшения потерь, которые от этого не раз становились еще тяжелее.
Утром 25-го Дроздовский продолжал движение, изменив его направление: учитывая слабость своих сил, он отказался от глубокого обхода и решил выйти в ближний тыл Журавской группе большевиков. Двинувшись на хутор Малеваный и овладев им в десятом часу утра, Дроздовский направил 1-й Солдатский полк в сторону Выселок, где вел бой ген. Казанович. Появление наших войск вызвало большую панику среди большевицких обозов. В течение 4–5 часов Дроздовский, прикрывшись со стороны Кореновской конницей, вел здесь двусторонний горячий бой: обойдя большевиков, он оказался сам обойденным противником, подошедшим к Малеваному с юго-запада от Кореновской. Сдерживая его с этой стороны артиллерийским огнем, Дроздовский лично с «солдатскими» ротами отражал атаки с северо-востока. Большевики, стоявшие против Выселок, повернули в его сторону. Сначала одна волна, которая была расстреляна и уничтожена в штыковом бою, потом вскоре и остальные силы, преследуемые с севера Марковцами и 1-м конным полком. Последний, в пылу увлечения, гонясь по пятам за большевиками, налетел и на Дроздовцев и, пока недоразумение разъяснилось, понес потери от их огня.
Севернее, между тем, у Журавской 1-й Кубанский полк и конница Эрдели вновь с большим подъемом атаковали позицию противника с севера и северо-востока и, опрокинув большевиков, заняли станицу.
К 4 часам все было кончено.
Армия Сорокина, на этот раз понеся жестокое поражение, отступала на всем фронте, преследуемая и избиваемая конницей, броневиками, бронепоездами. К вечеру занята была с бою и Кореновская.
Только в этот день (25-го) я приобрел вновь полную свободу действий и получил возможность продолжать выполнение своего основного плана.
Глава XXVII. Взятие Екатеринодара
Армия Сорокина уходила с большой поспешностью главной массой в направлении на Екатеринодар, частью на Тимашевскую; там по-прежнему Таманская дивизия оказывала упорное сопротивление коннице Покровского и даже 28-го предприняла серьезное контрнаступление в направлении на Роговскую… На юге отдельная группа большевиков — 4–6 тысяч с артиллерией и бронепоездами располагалась в районе Усть-Лабинской (постоянная переправа через Кубань), занимая станицы Воронежскую и Ладожскую и выдвинувшись передовыми частями к Раздольной и Кирпильской. Под прикрытием екатеринодарской укрепленной позиции и Усть-Лабинской группы, по мостам у Екатеринодара, Пашковской, Усть-Лабинской шло непрерывное движение обозов: советское командование перебрасывало свои тылы и коммуникации за р. Кубань…
Не взирая на крайнее утомление войск непрерывными боями, я двинул армию для неотступного преследования противника: Эрдели и Казановича — в направлении Екатеринодара с севера и северо-востока, Дроздовского — против Усть-Лабы. Покровский по-прежнему имел задачей овладение Тимашевским узлом и Боровский — содействие колонне Дроздовского продвижением части сил вниз по Кубани.
27-го кубанская конница Эрдели вышла к Черноморской жел. дороге у ст. Медведовской, а по Тихорецкой ветви — блестящей конной атакой одного из кубанских полков овладела станицей Пластуновской. Дроздовский в этот день взял с боя Кирпильскую, а Корниловский полк — ст. Ладожскую, причем захватили исправный неприятельский бронепоезд с 6 орудиями и 8 пулеметами[372].
28-го, подвигаясь вдоль обеих жел.-дорожных линий, Эрдели занял Ново-Титоровскую и Динскую, подойдя на 20 верст к Екатеринодару. 29-го в районе Динской сосредоточилась и 1-я дивизия Казановича, причем бронепоезд ее подходил в тот день к разъезду Лорис, на полпути к Екатеринодару.
Штаб армии перешел в Кореновскую, потом в Динскую.
Задержка была за Усть-Лабой.
28-го Дроздовский производил развертывание по линии р. Кирпили и на следующий день атаковал Усть-Лабу, одновременно выслав конный полк с полубатареей против Воронежской. 4-й Кубанский пластунский батальон ворвался на станцию и в станицу, но, не поддержанный главными силами, вскоре был выбит оттуда большевиками, подошедшими из Воронежской, отчасти с востока. В разыгравшемся здесь бою большевики, отрезанные от Екатеринодара, сами многократно атаковали с фланга боковыми отрядами главные силы Дроздовского, перешедшия к пассивной обороне, задержав их к северу от станицы; в то же время параллельно фронту шла непрерывная переброска за Кубань по Усть-Лабинскому мосту большевицких обозов и войск. Только к вечеру по инициативе частных начальников кубанские пластуны ворвались вновь в Усть-Лабу совместно с Корниловскими ротами, наступавшими с востока. Аррьергард противника, метавшийся между Воронежской и мостом, совместными действиями конницы Дроздовского был уничтожен, захвачены многочисленные еще обозы, орудия, пулеметы, боевые припасы; конница заняла Воронежскую.
30-го дивизия Дроздовского отдыхала. Я послал приказание двигаться безотлагательно к Екатеринодару, оставив лишь небольшой отряд для прикрытия Усть-Лабинской переправы. В этот вечер и на следующий день Дроздовский пододвинулся к станице Старо-Корсунской, войдя в связь вправо с Казановичем.
Таким образом, к 1-му августа вся Екатеринодарская группа Добровольческой армии подошла на переход к Екатеринодару, окружив его тесным кольцом с севера и востока.
1-го предстоял штурм Екатеринодарских позиций.
Они тянулись от Кубани, опоясывая Пашковскую, — разъезд Лорис и далее к Екатеринодарским «Садам»[373], пересекая Черноморскую жел.-дор. линию; непосредственно впереди города шла вторая непрерывная линия окопов. Местность кругом была совершенно ровная, покрытая садами и обширными полями кукурузы.
1-го августа после ожесточенного боя Покровский взял, наконец, Тимашевскую и разбитый противник начал отходить в общем направлении на Новороссийск…
В этот же день с раннего утра начались бои на всем Екатеринодарском фронте. Кубанцы Эрдели дошли до «садов», сбивая передовые части противника, поддержанные бронепоездом; Казанович после горячего боя овладел разъездом Лорис и продвинулся вперед версты на две; Дроздовский потеснил противника к станице Пашковской и занял разъезд того же имени. В таком положении наши войска застала ночь, а на утро возобновился опять упорный бой.
Я шел с войсками Казановича. Все поле боя было видно как на ладони; вдали виднелись знакомые очертания города… Четыре месяца тому назад Армия уходила от него в неизвестное, раненая в сердце гибелью любимого вождя. Теперь она опять здесь, готовая к новому штурму…
Шел непрерывный гул стрельбы. Быстро подвигался вперед 1-й Кубанский полк под сильным огнем; левее цепи Дроздовского[374] катились безостановочно к Пашковской, на некоторое время скрылись в станице и потом появились опять, пройдя ее и гоня перед собой нестройные цепи противника… Проходит немного времени и картина боя меняется: начинается движение в обратном направлении. Наши цепи отступают в беспорядке и за ними текут густые волны большевиков, подоспевших из резерва; прошли уже Пашковскую, угрожая и левому флангу Казановича. Дроздовский, вызвав свои многочисленные резервы, останавливает с фронта наступление противника; я направляю батальон Кубанского стрелкового полка в тыл большевикам; скоро треск его пулеметов и ружей вызывает смятение в рядах большевиков. Волна их повернула вновь и откатилась к Екатеринодару.
К вечеру Дроздовский занимал опять Пашковскую, заночевав в этом районе. Казанович продвинулся с боем до предместья.
На фронте Эрдели, у Ново-Величковской бригада кубанцев (Запорожцы и Уманцы) атаковала и уничтожила колонну, пробивавшуюся на соединение с Тимашевской группой большевиков. К концу дня Эрдели атаковал на широком фронте арьергарды противника с севера и запада от Екатеринодара и в девятом часу вечера ворвался в город.
Утром 3-го наши колонны и штаб армии вступали в освобожденный Екатеринодар — ликующий, восторженно встречавший добровольцев. Вступали с волнующим чувством в тот город, который за полгода борьбы в глазах Добровольческой армии перестал уже вызывать представление о политическом и стратегическом центре, приобретя какое-то особое мистическое значение.
Еще на улицах Екатеринодара рвались снаряды, а из-за Кубани трещали пулеметы, но это были уже последние отзвуки отшумевшей над городом грозы. Войска Казановича овладели мостом и отбросили большевиков от берега.
В храмах, на улицах, в домах, в человеческих душах был праздник — светлый и радостный.
* * *
Взятие Екатеринодара было вторым «роковым моментом», когда по мнению многих — не только правых, но и либеральных политических деятелей, добровольческое командование проявило «недопустимый либерализм», вместо того, чтобы «покончить с кубанской самостийностью», посадив на Кубани наказного атамана, и создав себе таким образом спокойный, замиренный тыл.
О последствиях такого образа действий можно судить только гадательно. Ни генерал Алексеев, ни я не могли начинать дела возрождения Кубани — с ее глубоко расположенным к нам казачеством, с ее доблестными воинами, боровшимися в наших рядах — актом насилия. Была большая надежда на мирное сожительство. Но, помимо принципиальной стороны вопроса, я утверждаю убежденно: тот, кто захотел бы устранить тогда насильственно кубанскую власть, вынужден был бы применять в крае систему чисто большевицкого террора против самостийников и попал бы в полнейшую зависимость от кубанских военных начальников.
Когда был взят Екатеринодар, я послал кубанскому атаману, полковнику Филимонову в Тихорецкую телеграфное извещение об этом событии и письмо следующего содержания:
Милостивый Государь Александр Петрович!
Трудами и кровью воинов Добровольческой армии освобождена почти вся Кубань.
Область, с которой нас связывает крепкими узами беспримерный Кубанский поход, смерть вождя и сотни рассеянных по кубанским степям братских могил, где рядом с кубанскими казаками покоятся вечным сном добровольцы, собравшиеся со всех концов России.
Армия всем сердцем разделяет радость Кубани.
Я уверен, что Краевая Рада, которая должна собраться в кратчайший срок, найдет в себе разум, мужество и силы залечить глубокие раны во всех проявлениях народной жизни, нанесенные ей изуверством разнузданной черни. Создаст единоличную твердую власть, состоящую в тесной связи с Добровольческой армией. Не порвет сыновней зависимости от Единой, Великой России. Не станет ломать основное законодательство, подлежащее коренному пересмотру в будущих всероссийских законодательных учреждениях. И не повторит социальные опыты, приведшие народ ко взаимной дикой вражде и обнищанию.
Я не сомневаюсь, что на примере Добровольческой армии, где на ряду с высокой доблестью одержала верх над «революционной свободой» красных банд воинская дисциплина, воспитаются новые полки Кубанского войска, забыв навсегда комитеты, митинги и все те преступные нововведения, которые погубили их и всю армию.
Несомненно, только казачье и горское население области, ополчившееся против врагов и насильников и выдержавшее вместе с Добровольческой армией всю тяжесть борьбы, имеет право устраивать судьбы родного края. Но пусть при этом не будут обездолены иногородние: суровая кара палачам, милость заблудившимся темным людям и высокая справедливость в отношении массы безобидного населения, страдавшего так же, как и казаки, в темные дни бесправья.
Добровольческая армия не кончила свой крестный путь. Отданная на поругание советской власти Россия ждет избавления. Армия не сомневается, что казаки в рядах ее пойдут на новые подвиги в деле освобождения отчизны, краеугольный камень чему положен на Кубани и в Ставропольской губернии.
Дай Бог счастья Кубанскому Краю, дорогому для всех нас по тем душевным переживаниям — и тяжким и радостным — которые связаны с безбрежными его степями, гостеприимными станицами и родными могилами.
Уважающий Вас
А. Деникин»
Кубанское правительство просило меня повременить со въездом в Екатеринодар, чтобы оно могло прибыть туда ранее и подготовить «достойную встречу». Но в Екатеринодар втягивались добровольческие дивизии, на том берегу шел еще бой, и мне поневоле пришлось перевести свой штаб на Екатеринодарский вокзал; только к вечеру не вытерпел — проехал незаметно на автомобиле по знакомому городу — теперь неузнаваемому — загаженному, заплеванному большевиками, еще не вполне верившему счастью освобождения.
Много позднее к величайшему своему изумлению в отчете о секретном заседании законодательной рады (28-го февр. 19 г.) в числе многих тяжких вин, предъявленных Рябоволом командованию, я нашел и следующую: «когда после взятия Екатеринодара атаман и председатель рады были с визитом у Алексеева (в Тихорецкой), тот определенно заявил, что атаман и правительство должны явиться в город первыми, как истинные хозяева; что всякие выработанные без этого условия церемониалы должны быть отметены. Но конечно этого не случилось»…
Тонкие политики! Если бы я знал, что наш совместный въезд в «столицу» (4-го августа) так огорчит ваше чувство суверенности, я отказался бы вовсе от торжеств. И притом никто не препятствовал ведь правительству и раде войти в Екатеринодар хотя бы… с конницей Эрдели, атаковавшей город.
Первые часы омрачились маленьким инцидентом: добровольцы принесли мне глубоко возмутивший их экземпляр воззвания, расклеенного по всем екатеринодарским улицам. Оно было подписано ген. Букретовым — председателем тайной военной организации, проявившей признаки жизни только в момент вступления в город добровольцев. Начиналось оно следующими словами: «Долго жданные хозяева Кубани, казаки и с ними часть иногородцев, неся с собою справедливость и свободу, прибыли в столицу Кубани»… Добровольческая армия — «часть иногородцев»! Так…
Букретов пришел представиться и не был принят. Долго ждал на вокзале и, когда я вышел на перрон, подошел ко мне. Я сказал ему:
— Вы в своем воззвании отнеслись с таким неуважением к Добровольческой армии, что говорить мне с Вами не пристало.
Повернулся от него и ушел.
Этот ничтожный по существу случай имел, однако, весьма важные последствия. Букретов затаил враждебное чувство. Пройдет с небольшим год… Кубанская рада, весьма ревниво относившаяся всегда к чистоте казачьей крови своих атаманов, изменит конституцию края и вручит атаманскую булаву генералу Букретову… Человеку «чужому», не имевшему никаких заслуг в отношении кубанского казачества, состоявшему под следствием по обвинению во взяточничестве, по происхождению еврею, приписанному в полковничьем чине к казачьей станице, но зато… «несомненному врагу главнокомандующего»… Букретов приложит все усилия, чтобы углубить и ускорить разрыв между Кубанью и главным командованием, потом вероломно сдаст остатки Кубанской армии большевикам и исчезнет.
* * *
4-го августа на вокзале торжественно встречали в моем лице Добровольческую армию атаман, правительство, рада и делегации. Потом все вместе поехали верхом на соборную площадь, где собрались духовенство, войска и несметная толпа народа. Под палящими лучами южного солнца шло благодарственное молебствие. И были моления те животворящей росой на испепеленные смутой души; примиряли с перенесенными терзаниями и углубляли веру в будущее — страны многострадальной, измученного народа, самоотверженной армии… Это чувство написано было на лицах, оно поднимало в эти минуты людей над житейскими буднями и объединяло толпу, ряды добровольцев и собравшихся возле аналоя военачальников и правителей.
Когда проходили после молебствия войска — офицерские части, кубанская конница, черкесы — все загорелые, тщательно прикрасившие ради торжественного случая свои изношенные, заплатанные одежды, их встречали отовсюду любовно и трогательно.
В приветственных речах на вокзале, потом в застольных, в войсковом собрании, кубанские правители — Филимонов, Быч, Рябовол и др. превозносили заслуги Добровольческой армии и ее вождей и, главное, свидетельствовали — в особенности устами атамана — о своей преданности национальной идее. «Кубань отлично сознаёт, что она может быть счастливой только при условии единства матери–России — говорил атаман. — Поэтому, закончив борьбу за освобождение Кубани, казаки в рядах Добровольческой армии будут биться и за освобождение и возрождение Великой Единой России»…
Это было самое важное; остальное, казалось, все приложится.
5-го приехал в Екатеринодар ген. Алексеев, встреченный торжественно и задушевно. Вновь состоялось молебствие и парад прибывшей неожиданно в Екатеринодар дивизии Покровского…
Покровский привел несколько полков, хотя город был взят уже два дня тому назад, а Тимашевская группа большевиков уходила на Славянскую… «Полки измотались — говорил он — все равно необходима дневка. Но всеобщее желание кубанцев было пройти еще лишних 15–20 верст, чтобы увидеть свою столицу, своих вождей и себя показать»…
В этот день кубанцы чествовали ген. Алексеева. Опять слышались горячие речи, полные признания заслуг армии, любви к Кубанскому краю и глубокого патриотизма по отношению к России…
Я от души пожелал, «чтобы освобожденная Кубань не стала вновь ареной политической борьбы, а приступила как можно скорее к творческой созидательной работе»…
Глава XXVIII. Политика кубанской власти. Взаимоотношения Кубани и Добровольческой армии осенью 1918 года
Окончились празднества, отзвучали речи и настали суровые, деловые будни. Войска двигались к Лабе, Тамани и Новороссийску, а екатеринодарская жизнь забила ключом, впитав в себя самые разнородные и зачастую резко противоположные интересы создавшегося вновь военного и политического центра Юга России.
Первым важным вопросом явилось разграничение власти военного командования и кубанского правительства.
Кубанские правители во главу угла поставили свою суверенность. Они основывали ее на своем выборном происхождении и на договоре с ген. Корниловым и Добровольческой армией, заключенном в Ново-Дмитриевской 17 марта 1918 года[375]. Всякое действительное или казавшееся только нарушение этого принципа вызывало с их стороны упорное прямое или скрытое противодействие. Ген. Алексеев и я в свою очередь не имели ни малейшего желания вмешиваться в управление краем. Но жизнь была сильнее и кубанской власти, и командования и говорила языком своих суровых требований. Как ни как, на территории «суверенного» края жила и боролась «суверенная» армия. Враг, еще многочисленный и сильный, занимал значительную часть Кубани, и положение требовало полного напряжения сил, полного подчинения всей краевой жизни и деятельности правительства — интересам вооруженной борьбы.
Исходя из этих мотивов, мы основали наши взаимоотношения на «Положении о полевом управлении войск», поставив кубанское правительство в такую же связь с нами, какая существовала до 23 августа 1915 года между ставкой вел. кн. Николая Николаевича и российским правительством. Отсутствие верхнего звена в этой иерархической цепи создавало объективно поводы для крупных и мелких недоразумений и «превышения» то одной, то другой стороной своей компетенции. Тем не менее, такое положение, не закрепленное никаким актом, оспариваемое не раз кубанским правительством, просуществовало фактически целых полтора года — долгий срок, в который мы безнадежно искали и не нашли приемлемых форм государственной связи Кубани с той Россией, которая была представлена командованием.
Совершенно невозможно перечислить все те мелкие поводы, главным образом материального характера, которые возникали ежедневно и портили наши отношения. Я остановлюсь лишь на той группе фактов, которую приводило само кубанское правительство в обращении к ген. Алексееву и ко мне[376]:
- Вмешательство проходящих добровольческих отрядов во внутреннюю жизнь станиц и городов.
- Реквизиции, производимые армией, в особенности большевицких складов, запасов и имущества, которые кубанское правительство считало своим призом.
- Сбор продовольствия и отвод квартир непосредственным распоряжением органов армии, помимо кубанских учреждений.
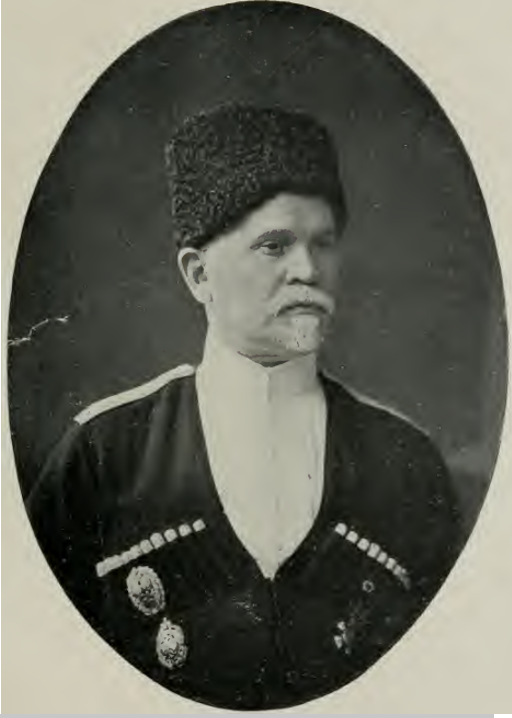
Несомненно, претензии кубанского правительства имели не мало оснований, но далеко не исчерпывали вопроса. За быстрым движением армии не поспевало административное устройство края… Органы снабжения и продовольствия кубанского правительства — малочисленные и немощные — не в состоянии были удовлетворить потребностей разбросанной на огромном протяжении армии… С обеих сторон — армейских и кубанских органов снабжения — проявлялось полное недоверие друг к другу и борьба за свои интересы, не умеряемая общей, единою властью. И если кубанское правительство не без известного основания говорило, что с ним «представители Добровольческой армии в своих распоряжениях, касающихся многих важных сторон местной и краевой жизни, не считаются», то прав был и ген. Алексеев, положивший на одном из представлений резолюцию[377]: «по закону все органы кубанского краевого правительства должны являться исполнительными для Армии, очищающей вооруженною рукой территорию (области) и за нее ведущей борьбу. Практика и деятельность г-на Быча показывает иное. Мы не можем теперь рассчитывать на выполнение краевым правительством своих обязанностей перед армией. Остается заботиться самим, не останавливаясь перед суровыми реквизициями»…
* * *
Помимо этих материального характера столкновений, с первых же шагов обнаружилось идейное расхождение между кубанским правительством и командованием армии.
К кубанским деятелям не применимы общерусские термины партийной принадлежности: в кастовом, сословно-казачьем укладе они теряют совершенно свое обычное содержание. Казак — с.-р. или с.-д., например, — совершенная аномалия. Можно говорить об этом лишь относительно.
Действенная казачья интеллигенция делилась на социалистов и либералов; почти не были представлены консерваторы. Сообразно территориальному и генеологическому происхождению существовало деление на Черноморцев[378] и Линейцев[379], совпадавшее с большим отличием политических стремлений обеих групп. Встречались нередко уклонения отдельных лиц от такого грубого политического размежевания по территориальным признакам, но в широком обобщении оно было верно: слово «черноморец» стало синонимом украйнофила, социалиста, сепаратиста; «линеец» — синонимом либерала, русского централиста или автономиста.
Политическим центром черноморцев был Екатеринодар, линейцев — Армавир. Первые имели довольно сильных в областном масштабе вожаков, во главе с Бычом — председателем правительства и Рябоволом — председателем законодательной рады. «Мозг» и «импульс» кубанского сепаратизма. Их неизменным спутником — тенью, декорацией был товарищ председателя законодательной рады — Шахим-Гирей. Он никогда не говорил других слов, чем его вдохновители, и притом всегда от имени всего черкесского народа. А мирный спокойный народ «его» совершенно не интересовался политической борьбой; почтенные представители черкессов впоследствии в раде единогласно присоединялись к мнению Шахим-Гирея и так же единогласно опровергали его, когда на заседании в среде их присутствовал другой, старший Гирей (Келеч) — командир Черкесского полка — храбрый доброволец и русский централист.
Линейцы были слабее численно и возглавлялись интеллектуально менее сильными лидерами. Это обстоятельство поставило линейцев в хроническое положение «оппозиции», группировавшейся вокруг полковника Филимонова. Центральное положение, им занятое, обусловливалось не политическим влиянием Филимонова, а ролью его, как атамана, борющегося за атаманскую власть, обезличенную конституцией, расхищаемую правительством и законодательной радой — атамана, считавшегося другом Добровольческой армии.
Последнее обстоятельство требует некоторого разъяснения. С самого начала нашей совместной деятельности на Кубани атаман Филимонов играл не вполне определенную роль: в своей борьбе с черноморской группой он искал и находил всегда поддержку в командовании; но в борьбе командования с той же политической группой занимал часто нейтральное положение. Никогда, к сожалению, мы до конца не договаривались, и пути наши поэтому не раз расходились.
В толще кубанского казачества и в кубанских частях оба эти политические течения отражались вначале весьма мало. В особенности в войсках: казаки шли за своими начальниками, а эти последние были совершенно лояльны в отношении командования армии и разделяли всецело национальные стимулы ее.
В правительстве и раде возобладали черноморцы. Этот факт определил направление всей политики Кубани и ее взаимоотношения с Добровольческой армией. Первые месяцы, однако, противодействие армии со стороны кубанского правительства носило более пассивный характер, прорываясь лишь в резких агитационных выпадах против Армии членов господствующей партии в законодательной раде, в печати и на станичных сборах. Агитация почти не находила отклика в станицах, полных доброго чувства к армии — освободительнице. И ген. Алексеев, и я получали множество постановлений и приветствий от станиц — теплых, сердечных, бесхитростных, когда они были лишены… казенного штампа.
Правительственная агитация носила формы чрезвычайно грубые и примитивные. Чтобы дать понятие о характере их, я приведу один эпизод, имевший место через месяц после взятия армией Екатеринодара. 31 августа все екатеринодарския газеты получили циркулярное предложение от кубанского правительства напечатать приговор станицы Старонижестеблиевской… В нем были такие перлы самостийной идеологии, с тонкой игрой на отождествлении советской власти с Россией: «мы козаки… по своему слабоумию или недохвату в науци, нытак давно изминыли булы своий ридний Кубани, дали волю и власть проклятому москалю… Проклятый москаль волю и власть козачу штыком соби в рукы захватыв, задавыв нас як мух»… но «наши батькы паны, як люди ученни, ны допустылы заблудившихся нас до погыбыли, сталы на опалцаткы, перэд тию чернотою сибиряками и каторжанами и вывылы нас з москальской ныволи… И спасыби Вам наши спасытыли Кубанци паны, гиниралы и весь начальствующий состав, в особенности рыдному батьку, полковнику Фылымонову, батьку Бычу и всий Ради… вылыке спасыби… за Вашу щырость, за спасэние нас и нашых имущыств». Ввиду возмущения этим фактом «русской» общественности, кубанский «министр» Калабухов на другой день разъяснил, что «вышеупомянутый приговор с резолюцией Войскового Атамана «отпечатать», по личному недосмотру г. секретаря (правительства) был разослан во все редакции»…
А «москали» — Корнилов, Алексеев, Марков, Дроздовский и много тысяч других — одни уже сложили свои головы, другие продолжали борьбу за спасение Кубани…
Казачество в целом не было пока вовлечено в нашу распрю. Сильный враг был еще у порога Екатеринодара, а какой будет политический облик созываемой Краевой рады — неизвестно. Перетягивать поэтому струны кубанским деятелям не стоило…
Тем не менее, основные линии политики черноморской группы в деятельности правительства Быча начали проявляться с полною определенностью.
Идея «Великой Украйны», в которой Кубань займет положение «равного члена», проводилась пока еще теоретически: немецкая оккупация и гетманский режим служили охлаждающим началом. Черноморцы ждали возвращения к власти центральной рады и Петлюры. Практически принимались однако меры к округлению границ «Великой Кубани», в пределах которой мыслились и юго-западная часть Ставропольской губернии, и вся Черноморская[380]. По мере продвижения наших войск в пределы Черноморской губ., за ними шли агитаторы, снабженные удостоверениями Кубанского правительства, побуждая население требовать «возвращения к родной матери — Кубани»; они, впрочем, быстро вылавливались добровольческими властями. Позднее правительство Быча входило в тайные сношения с грузинами о присоединении к Кубани Черноморской губ., находившейся под управлением Добровольческого командования, и в то же время воздействовало на население бесхлебной губернии голодной блокадой, закрыв границы войска для продовольственных грузов.

Суверенность подчеркивалась и укреплялась всеми способами.
Официальная газета Кубанского правительства[381] заявляла, что Кубань в будущем «не помирится на самоуправлении, ни даже на автономии, а будет отстаивать суверенные права… Казачество хочет быть полноправным хозяином во всех областях гражданской и экономической жизни. Ему нужны свои порты и дороги, независимость при определении своих отношений к другим соседним областям или государствам и полная частная и общественная инициатива и самостоятельность во всех вопросах экономической политики»…
Остатки общегосударственных учреждений закрывались — даже такие, как например, 14 приютов б. ведомства импер. Марии, эвакуированных на Кубань в 17 году и обреченных теперь на голодное существование. С другой стороны, областные учреждения, связанные административными нитями с другими губерниями Северного Кавказа, без всякого предуведомления командования превращались в самостийные краевые[382]. Распоряжением правительства был воспрещен въезд на Кубань «русских беженцев», а в конце августа были закрыты все границы области для вывоза почти всего сырья и предметов продовольствия, чем нарушился установившийся обмен с районами, занятыми Добровольческой армией, отягчая их положение и вызывая неудовольствие против командования. Такие же распоряжения отдавались на Дону. С 13-го сентября кубанское правительство подчинило себе железные дороги, проходящие по краю, и, таким образом, из Новороссийска, например, в Ростов через Торговую движение по одной Владикавказской дороге происходило через три «суверенные государства» с донскими и кубанскими таможнями: район Добровольческой армии (Новороссийск–Тонельная), Кубань (до станции Ея), опять район Добровольческой армии (до Торговой) и Дон (до Ростова)… Конечно, такое положение было нетерпимым, и начальник военных сообщений армии должен был наложить руку на всю сеть ж. д. театра войны.
Неоднократные попытки генерала Алексеева к согласованию деятельности, к объединению снабжения, финансовой системы и т. д. встретили подозрительность и недоверие кубанского правительства. И ген. Алексеев, разочарованный в своих ожиданиях в полной мере, писал атаману, что во всех правительственных мероприятиях Кубани он видит только «стремление всеми силами отмежеваться от вопросов общегосударственного значения, и все управление краем свести к удовлетворению чисто местных интересов»[383].
Казачий шовинизм в отношении иногородних — «русских» проявлялся в формах, совершенно недопустимых. Казаки мстили за свое разорение, за свою кровь. Иногородние считались поголовно большевиками и являлись бесправными на кубанской земле; на них налагались тяжкие материальные кары за действительный и мнимый большевизм включительно до отобрания домов и угодий безвестно отсутствующих глав семей[384]; детей их изгоняли из школ, и само правительство создавало высшее учебное заведение для «коренных жителей края». А сколько людей перевешано и расстреляно было станичными судами, об этом не ведомо было кубанскому правительству, не занимавшемуся подобной статистикой. В самом кубанском «парламенте», собравшемся в октябре, серьезно обсуждался вопрос о поголовном выселении иногородних из Кубанской области, причем более экспансивные ораторы сбивались: вместо «выселения» упоминали иногда об «истреблении».
Могло ли умерить эти настроения правительство Быча? Несомненно. Боролось ли с ними? На этот вопрос ответил в заседании рады товарищ председателя Рябцев: «борьба с… иногородними(!) входила в одну из задач Законодательной Рады»[385]…
Обоснование этой борьбы было чуждо каких-либо идеологических мотивов. Это была только борьба за землю. Компетентное определение существа этой борьбы мы находим у председателя кубанского правительства Луки Быча: «иногородние — говорит он[386] — имели основание быть остро недовольными своим положением… Они здесь не имели земли, столь плодородной богатейшей земли, которая составляла общинную собственность всего войска и не могла поступить в их полное распоряжение, чего они, как истые крестьяне, так жаждали». Быч находил вполне естественным такой порядок: «Конечно, для них звучало бы странной иронией требование земли в том невозможном в действительности случае, если бы такое требование было предъявлено казаками, случайно поселившимися, скажем, в Тверской или Воронежской губерниях, откуда они пришли на Кубань»… «Революция, давшая возможность проявить и углубить притязания на казачьи земли, со стороны иногородних, создала чрезвычайно тучную почву для внедрения большевизма в эту среду. Строго говоря, большевизм играл роль прикрытия к вопросу аграрному»…
Как бы то ни было, игра на казачьем шовинизме составляла одно из главных средств для сохранения за собой влияния черноморской группы. Сойти с этой позиции — значило бы потерять влияние и власть.
Общерусская революционная демократия мирилась с таким положением, оставаясь в постоянном союзе с «демократическим» правительством Быча в противовес «реакционному» командованию. А в народе эти чисто казачьи эксцессы заносились нередко в пассив добровольчеству, отягчая синодик наших собственных не малых прегрешений. Вообще, когда кубанский казак брал станицы, пушки и пленных, правительство ревниво следило, чтобы он был наименован «кубанцем»; когда же казак порол и грабил иногородних, его называли «добровольцем»…
Помимо морального и политического значения своего, эти взаимоотношения, как увидим ниже, имели следствием приток значительных пополнений иногородних в ряды Красной армии и усиление ее упорства и воли к продолжению борьбы.
* * *
В край, и в частности в Екатеринодар, наехало много общественных и политических деятелей из Украйны, Крыма, Москвы. Одни из них присоединились всецело к позиции Добровольческой армии, другие стали в стороне, не решаясь еще открыто высказаться против подозреваемой в реакционности армии и вместе с тем испугавшись чрезмерного самостийничества «демократического» кубанского правительства. В начале сентября выступил Шульгин с «Россией», проводя с большою страстностью идеи монархизма и национализма. Загорелась жестокая полемика с органами левого и самостийного направления — «Вольной Кубанью» (правит. газета), «Сыном Отечества» (газета Шрейдера), «Кубанским Краем» и др., отражая до известной степени течение борьбы между краевым правительством и командованием в области национальных задач. «Россию» считали нашим официозом и потому в ее лице направляли удары по адресу командования. Это было не совсем верное толкование. Газета всемерно поддерживала армию и имела близкую связь с нею, главным образом, благодаря личным дружественным отношениям Шульгина с ген. Драгомировым[387]. Драгомиров и штаб армии давали газете информацию и иногда фактическое освещение мероприятий добровольческого командования и его взаимоотношений с другими новообразованиями. Но в политической идеологии своей Шульгин не был связан никаким обязательством. Он говорил от себя и за себя, иногда отражая мнение командования, иногда идя в разрез с ним. Влияние его органа на офицерство было несомненно очень велико. Пришлая «российская демократия», представителем которой считал себя Г. Шрейдер и члены редакции «Сына Отечества», отнеслись с особенным опасением к этому влиянию. «Сын Отечества», следуя твердо традициям отжившей охранной прессы, писал донос казачьим правительствам: «открыто ведущаяся на Дону (Суворин) и на Кубани (Шульгин) пропаганда монархизма имеет все признаки государственного преступления… Постановлением бывшего Временного правительства, утвержденным волею Всенародного Учредительного Собрания, разогнанного большевиками, в России установлена республиканская форма правления… Покушающийся в данное время на свержение этой единственно законной формы правления является преступником перед народом. Эти покушения предполагают заговор, бунт»…

Подобные откровения из области государственного права поддерживались кубанским правительством в нужных случаях, поддерживались им и Шрейдеровские органы в качестве оппозиции Добровольческой армии. Но только до известного предела: Шрейдер с его Учредительным Собранием[388] 18 года для кубанских самостийников казался таким же централистом, хотя и социалистического образца, как и Шульгин.
Вообще, настроение приезжей российской интеллигенции оказалось огульно не в пользу кубанской власти. И однажды Кубанское ведомство внутренних дел в длинном, полемического характера приказе[389] констатировало наплыв в Екатеринодар «множества членов различных партийных течений и организаций», которые «выявляют бесконечные резолюции, протесты и почти открытое противодействие местной правительственной власти». На основании «военного положения» ведомство нашло необходимым «воспретить все, без исключения, собрания» и «закрывать газеты» за статьи, «вызывающие недоверие к Краевой власти и затрагивающие (высших) представителей соседних дружественных новообразований»…
Только поношение Добровольческой власти и армии не преследовалось законом и исполнителями его, являясь одним из методов политической борьбы.
* * *
Наиболее серьезное столкновение с кубанской властью произошло по вопросу о выделении автономной Кубанской армии с подчинением ее во всех отношениях атаману и лишь в оперативном — добровольческому командованию.
К сентябрю относительный состав Добровольческой армии был следующий:
| Состав
Части |
Пехотных
полков |
Конных
полков |
Батарей |
| Общероссийских: | 10 | 2 | 14 |
| Кубанских: | (пласт. бат.) 8 | 16 | 7 |
Технические войска были укомплектованы по преимуществу общероссийским элементом. Все войсковые части в силу условий комплектования — на походе и в бою — были перемешаны. Казаки входили в большом числе в состав пехотных полков, в особенности 1-го Кубанского Стрелкового и Партизанского; не-казачьи офицеры, ввиду сильного некомплекта у кубанцев, составляли по преимуществу командный элемент в пластунских батальонах[390] и в кубанских батареях. Если подсчитать боевой состав общероссийских и кубанских частей, то кубанцев в армии было 50%; внеся поправку за счет казаков, находившихся в рядах офицерских частей, эту цифру надо поднять до 60–65%.
На общем заседании командования и кубанских властей 12 августа вопрос о выделении всех кубанцев и создании армии поставлен был в форме категорического требования. Особенно настаивал на этом большой недоброжелатель армии, «военный министр», полковн. Савицкий — офицер конвоя Его Величества, перешедший всецело в стан «социалистов» и самостийников. Такие неожиданные превращения весьма характерны: когда вспыхнула революция, одними из первых пришли в Думу дворцовые слуги — наследственно пользовавшиеся царскими милостями — заклеймить старый «ненавистный» режим и порадоваться на новых «господ»…
Официальные мотивы этого требования были знакомы и ранее: пример «старшего брата» — Дона, имеющего свою армию; моральное самочувствие кубанских казаков, которых заслуги якобы «затираются» под общим именем Добровольческой армии… Наконец, необходимость иметь свою армию на случай ухода по стратегическим соображениям добровольцев. Кубанские правители не были здесь так откровенны, как на заседаниях законодательной, потом краевой рады, когда вопрос о борьбе с большевиками отошел окончательно на задний план, и «Кубанская армия» выдвигалась открыто как политическое орудие против Добровольческой. Один из черноморских лидеров, П. Макаренко говорил: «всякий человек, который хочет возвыситься над обыкновенными, старается прибрать к рукам вооруженную силу… Это общее правило — забрать больше власти над войсками, а тогда уже диктовать свои условия. Необходимо кубанские войска подчинить кубанскому атаману (правительству?), а в оперативном отношении он может подчинить их тому, кому найдет нужным»[391].
Создавать Кубанскую армию для политических целей Быча и Рябовола было нецелесообразно. «Их» армия в «Россию» не пошла бы. Но, помимо этого, такая операция над армией, находившейся в постоянном движении и в боях, была технически не выполнима и, во всяком случае, грозила полным подрывом ее боеспособности. Добровольцы остались бы с поределыми пехотными частями и без конницы, а кубанцы — без генерального штаба, без технических частей, с сильно ослабленной артиллерией и пластунскими батальонами, из которых несомненно ушло бы все не-казачье офицерство.
Я соглашался постепенно, по мере притока укомплектований, выделять всех кубанцев из чисто добровольческих в казачьи части, но в формировании отдельной армии, нарушающей систему организации и затрудняющей стратегическое использование сил, категорически отказал.
Спор грозил затянуться до бесконечности. Я встал и заявил:
— В то время, когда половина Кубани под властью большевиков, и на полях ее льется кровь добровольцев, кубанское правительство стремится развалить армию. Я этого не допущу.
Извинившись затем за свой резкий тон и за уход перед ген. Алексеевым, я вместе с Романовским покинул заседание.
Вопрос этот заглох. Через месяц он поднялся опять в бурном заседании законодательной рады. Там, однако, оказался у нас союзник: атаман Филимонов защищал позицию командования и Добровольческую армию, в весьма резких выражениях обвинял правительство, требовал устранения им поводов к разрыву и призывал к полному единению с армией[392]. «Стоя близко к Добровольческой армии, — говорил он — имея частые сношения с командующим… я не замечал никогда желания последнего мешать работе правительства или стремления к захвату власти».
Отстаивая перед командованием иногда неумеренные требования «казачьей вольности», в своем кругу атаман Филимонов вносил умеряющую струю в разгоряченную атмосферу, созданную казачьим шовинизмом и центробежными силами. Свой взгляд на общность интересов армии и края он высказал однажды образной фразой: «мы так срослись с Добровольческой армией, что каждое расхождение кровоточит»…
* * *
В смысле взаимоотношений армии и кубанского правительства первые два месяца были только прелюдией. Они только намечали глубокими бороздами те направления, которыми разойдутся пути Кубани и Армии. Пока шел разговор лишь о размежевании власти на Кубанской территории и не подымался еще вопрос о создании «южной власти».
Тем не менее, создавшееся положение борьбы «на два фронта» было крайне тягостным. Не раз, после очередного столкновения, мне высказывали мысль: что, если предоставить Кубань ее собственной участи и дальнейшую борьбу на ее территории — ее армии, выведя добровольческие части первоначально в Ставропольскую губернию?.. В конце концов это было возможно. Но дальше и мне, и Романовскому рисовались перспективы далеко не радостного свойства… Ослабленная и дезорганизованная Добровольческая армия должна была бы пробивать себе новые пути на север или на юг и начинать всю работу сначала — опять без базы, в политической обстановке, еще более сложной… Кубанская армия, лишенная «спинного хребта» в лице добровольческих частей, была совершенно бессильна справиться с Северо-Кавказской красной армией. Мы увидим в дальнейшем, что после взятия Екатеринодара борьба с большевиками потребует еще 5 месяцев времени, полного напряжения всех сил Добровольческой армии и больших жертв… С нашим уходом большевики хлынули бы вновь в освобожденный край, затопили бы неповинные кубанские станицы и Черноморскую губернию… Все наши труды и жертвы пошли бы прахом.
Цепи, связывавшие нас с Кубанью, были неразрывны еще по одной причине: мне стало известным, что в случае решения об уходе Добровольческой армии кубанские военные начальники произведут в Екатеринодаре переворот, свергнув правительство и законодательную раду и, вероятно, истребят многих черноморских вожаков. Пришлось бы, следовательно, взяв на себя нравственную ответственность за происшедшее, возвращаться к исходному положению в обстановке значительно ухудшившейся в стратегическом и политическом отношении.
В таком напряженном положении обе стороны ждали Краевой Рады, которая должна была внести ясность в наши отношения.
Быч или Филимонов? Самостийность и федерация с Украйной или автономная Кубань в Единой Великой России? Война или мир?
Глава XXIX. Состав и положение Добровольческой армии в августе. Расположение сторон. Дальнейший план операции. Второй Кубанский поход: Освобождение Западной Кубани и Черноморской губернии. Преследование большевиков в Закубаньи. Взятие Майкопа
Постепенно развертываясь и укомплектовываясь, Добровольческая армия к сентябрю имела следующий боевой состав[393]:
| Состав Части | Штыков и шашек | Орудий | Пулеметов |
| 1-я дивизия | 2,678[394], 3,165[395], 1,964[396] | 16 | 75 |
| 2-я дивизия | 4,907 | 11 | 48 |
| 3-я дивизия | 3,442 | 11 | 57 |
| Отдельная стрелк. бригада | 973 | — | — |
| — | |||
| 1-я Конная дивизия | 3,564 | 9 | 21 |
| 1-я Кубанская каз. дивизия | 2,986 | 8 | 12 |
| 2-я Кубанская каз. дивизия | 1,760 | 8 | 5 |
| Кубанская Партизанская бригада | 656 | 2 | 2 |
| Отдельная Кубанская каз. бригада | 1,600 | 4 | 8 |
| — | |||
| Гарнизон Ейска | 1,204 | — | — |
| Польский отряд | ? | ? | ? |
| — | |||
| Армейская группа артиллерии: | |||
| а) 2 тяжелых батареи | — | 5 | 5 |
| б) 5 бронепоездов | число машин | 9 | 9 |
| Авто-броневой дивизион | 8 | 3 | 15 |
| 1 и 2-й авиационные отряды | число машин 7 | ||
| Радио-дивизион | ? | ||
| Железнодорожная рота | ? | ||
| Техническая рота | ? |
| Запасные части | Конных полков | Запасных батальонов | Пластунск. батальонов |
| 1 | 6 | 6 | |
| людей 3–5 тысяч | |||
| Штыков и шашек | Орудий | Пулеметов | |
| Всего[397]: | 35–40 тысяч | 86 | 256 |
Для пополнения армии призваны были в ряды ее по мобилизации еще два призывных возраста — 1916 и 1917 годов, проходившие нормально через органы местного военного управления и запасные части. Кубанцы дали в действующую армию 10 возрастных классов. Штабу приходилось вести при этом длительную борьбу с войсками, которые путали и сбивали все расчеты, мобилизуя сами в свои ряды бессистемно население районов, ими проходимых. Шла большая организационная работа по развертыванию частей, органов снабжения, санитарных, военных сообщений.
Можно отметить и некоторые бытовые вопросы, возникшие в этот период. Приостановка чинопроизводства в течение года произвела большие осложнения в привычных для офицерства взаимоотношениях, тем более, что в армию притекали офицеры с Украйны, Кавказа, где гетман, новые правительства и генералы, ликвидировавшие бывший Кавказский фронт, не только производили офицеров за выслугу лет, но и награждали за отличие чинами и даже георгиевскими крестами. Производство существовало и в соседней Донской армии.
Но восстановление производства выдвигало на сцену другой больной для армии исторический вопрос — о преимуществе в чинах офицеров гвардии. Теперь в рядах Добровольческой армии, в отношении офицеров, служащих в одной и той же части, такое преимущество одних являлось еще большим анахронизмом и слишком бросающейся в глаза несправедливостью. Чтобы не идти путем умаления в ранге гвардейских чинов, я упразднил в армии чин подполковника, сравнив затем в правах прохождения службы офицеров гвардии и армии. Впоследствии, в силу технических затруднений, чин подполковника пришлось восстановить для всей армии, но гвардейские привилегии были окончательно упразднены.
Мера эта прошла вполне безболезненно, если не считать, что против начальника штаба, который сам служил когда-то в гвардии, создала новое обвинение: «ненавистник гвардии».
В центре шла одновременно организационная работа и политическая борьба, а войска подвигались все дальше вперед. Успех воодушевлял армию, примирял с невзгодами и лишениями, с постоянными недочетами снабжения, с тяжелыми условиями санитарно-медицинской помощи, словом, с тем неустройством тыла, которое росло с увеличением армии и территории, ею занимаемой, которое историк отметит во всех армиях эпохи гражданской войны — неустройством, составлявшим настоящее бедствие.
Уже тогда, осенью 18 года, с тылом мы не справились. Менялись по многу раз начальники тыла и его учреждений, сформировывались и переформировывались исполнительные органы. И тогда, и потом были во главе люди со стажем государственной и административной работы, с установившейся репутацией воли, энергии и опыта, а дело оставалось неизменно в безнадежном положении. Потому ли, что не удалось найти «настоящего» организатора тыла, потому ли, что общие условия — потрясающая бедность армейской казны, развал хозяйственной жизни страны, всеобщая моральная распущенность и политические трения — ставили затруднения непреоборимые.
В результате добровольцы оставались без одежды, без сапог и с весьма примитивной медико-санитарной помощью. Переносили свое положение стоически и даже весело в дни успехов, и кляли тыл в дни неудач. И если армия все же жила, двигалась, боролась и побеждала, то в этом… не было заслуги тыла.
Боролись все одни и те же люди, те же части — изо дня в день, без отдыха, без смены, потому что сил всегда было недостаточно, потому что на пути своем они встречали все новые и новые полчища.
Новый стратегический масштаб развернувшейся на широких фронтах армии вызвал известную перемену в системе ее управления: до сих пор в течение пяти месяцев я имел возможность вести армию лично, непосредственно, имея с ней полное и постоянное общение. Теперь открывалась более широкая стратегическая работа начальникам, и вместе с тем суживалась сфера непосредственного моего влияния на войска.
Раньше я вел армию, теперь я командовал ею.
* * *
В начале августа фронт Добровольческой армии простирался от низовьев Кубани до Ставрополя (восточнее), на расстоянии около 400 верст.
На этом протяжении группировка неприятельских сил была следующей:
- Таманская группа Матвеева, насчитывавшая разновременно от 10 до 15 тысяч, располагалась в районе станицы Славянской, прикрывая Новороссийское направление вдоль Черноморской железной дороги. Численность ее и в особенности отменное боевое достоинство наша разведка недооценивала.
- Группа, непосредственно подчиненная Сорокину, около 15 тысяч, перейдя за Кубань, задержалась в низовьях Лабы.
- Армавирская группа, силою в 6–8 тысяч, прикрывала линию Кубани от Усть-Лабинской до Армавира, располагаясь в двух пунктах — против Кавказской и в Армавире.
- Ставропольския группы, организовавшиеся в разных местах, неопределенной численности, подступавшие к Ставрополю с северо-востока, востока и юга силами 8–10 тысяч.
- Невинномысская группа, образовавшаяся вероятно только к концу августа, неопределенной силы. Начальнику ее Гайчинцу подчинялись и ближайшие части Ставропольской группы.
- Майкопская группа — около 5 тысяч, расположенная в районе Майкопа–Белореченской.
- Ближайшим резервом этих групп могла служить Минераловодская группа, не занятая непосредственно борьбою с терскими казаками, около 5 тысяч.
Силы большевиков на северном Кавказе, беспрестанно изменяя свою численность, к сентябрю насчитывали до 70–80 тысяч при 80–100 орудиях.
К октябрю соотношение сил изменилось: при прежнем приблизительно боевом составе Добровольческой армии, силы Северо-Кавказской армии большевиков исчислялись нашей разведкой в 93 тыс. при 124 орудиях. При этом между Лабой и Кубанью числилось 50 тыс. при 65 оруд. и в Ставропольском районе 40 тыс. при 59 оруд.
Таким образом, взятие Екатеринодара Добровольческой армией не разрешало еще окончательно ни в стратегическом, ни в политическом отношении ее задачи на Кубани. Борьба с большевиками оказалась по-прежнему непосильной Кубанскому казачеству. Предстояло, следовательно, дальнейшее движение наше, которое, став в силу сложившейся обстановки неизбежным, развиваясь планомерно и последовательно, приводило к обеспечению освобожденного края и всего Северного Кавказа надежными естественными рубежами — Черным и Каспийским морями и Кавказским хребтом. Каспийское море, кроме того, открывало сообщение с сибирскими образованиями через Гурьев и с англичанами через Энзели, а Черное море соединяло с Закавказскими новообразованиями и полуоткрывало окно в Европу…
Исходя из этой широкой задачи, ближайшей целью армии я поставил освобождение западной Кубани и Черноморской губернии и обеспечение угрожаемого Ставропольского района, становившегося организационной базой большевиков; после чего — всеми силами обрушиться на армию Сорокина, зажав ее между Кавказскими предгорьями и р. Кубанью.
Эта борьба — жестокая, кровавая и упорная спасала не один только Северный Кавказ. Только благодаря ей являлось возможным независимое существование Дона и Грузии. Только она давала необходимую передышку этим новообразованиям, давала время им собраться с силами и спасла в 1918 году их земли от потока наиболее организованных, наиболее стойких большевицких полчищ Северного Кавказа.
Вожди Дона и Грузии не хотели в свое время понять значения этой борьбы.
* * *
Против Таманской группы противника от Екатеринодара направлены были 5 августа 2 колонны: ген. Покровского (1-я Кубанская див.) — правым берегом Кубани и полковника Колосовского (1 конный полк, 1-й Кубанский стрелковый полк, батарея — из состава 1-й дивизии, 2 бронепоезда) — вдоль ж. д. на Новороссийск.
Генерал Покровский 7 августа после жестокого боя овладел станицей Славянской. Противник, оказывая упорнейшее сопротивление, уходил двумя колоннами — на Троицкую и Варениковскую переправы; к утру 8-го числа Покровский вел уже бой за обладание ж.-д. мостом у Троицкой, затянувшийся на трое суток, в то время, как главные силы его двигались к низовьям Кубани. 11-го Покровский разбил арьергард большевиков у Варениковской и к вечеру занял Темрюк, захватив 10 орудий, много снарядов и несколько сот пленных.
Таманская группа, понеся тяжелые потери и жертвуя своими арьергардами, успела перейти за Кубань, спеша к Новороссийску, который в то время находился уже под сильной угрозой с северо-востока…
Полковник Колосовский наступал быстро и решительно вдоль Новороссийской линии, опрокидывая противника, захватывая пленных, орудия, бронепоезда, уничтожая совдепы и поднимая нагорные станицы. 11-го, после полуторадневного тяжелого боя, он овладел узловой станцией Крымской, вызвав тем падение Троицкой переправы; затем, пройдя в два дня с боями 40–50 верст, 13-го отбросил тыльные части большевиков и занял Новороссийск.
Добровольцы были встречены там восторженно.
В эти два-три дня Таманская группа, задержав Покровского на переправах через Кубань, уходила форсированными маршами и, успев проскочить через Новороссийск до 13-го, двинулась далее побережьем на юг, вырвавшись из-под наших ударов. Мы получали сведения о бегстве расстроенных и разлагавшихся толп, но сведения эти оказались неверными: Таманская группа сохранила известную организацию, дисциплину и, главное, ту стойкость, которая неизменно отличала ее в дни Тимашевской операции. По пути к ней присоединялись все беспокойные, отчаянные элементы Тамани, Новороссийска, побережья, все мелкие отряды, спасавшиеся от мщения восставших станиц. По Сухумскому шоссе катилась эта волна людей и лошадей, съедавшая, как саранча, все скудные запасы побережья. Было ясно, что там, в голодном краю Черноморья, такой крупный отряд без подвоза долго жить и действовать не может; на Грузию, конечно, не пойдет. Естественно было ожидать движения его вдоль Туапсинской ж.-д. линии в направлении Армавира на соединение с армией Сорокина. Поэтому, приказав Колосовскому преследовать Таманцев вдоль побережья, я перебросил дивизию Покровского, остановившуюся к северу от Новороссийска, левым берегом Кубани на перерез Туапсинской линии в Майкопский район.
Слабые конные части Колосовского, двигаясь вслед за отступавшим противником, сбивая его арьергарды, к 20 августа заняли Ольгинскую в полупереходе от Туапсе, в котором сосредоточились, отдыхали и устраивались войска Таманской группы.
С этого дня на побережья были лишь мелкие стычки и деятельность разведчиков.
Таким образом, к середине августа западная часть Кубанской области и север Черноморской губернии были освобождены от большевиков, и Добровольческая армия, заняв Новороссийск, утвердилась на Черном море.
Покровский, между тем, пройдя 180–200 верст, 26-го занял станцию Белореченскую и, продолжая преследование отступавшей на восток Майкопской группы противника, к вечеру занял город Майкоп и станцию Гиагинскую. В этом районе к нему присоединились два сборных кубанских отряда — полковника Морозова, ранее действовавшего совместно с грузинами Мазниева, и ген. Геймана, поднявшего восстание в районе Майкопа.
Выход Покровского к Туапсинской линии встревожил Таманских большевиков. В тот же день Таманская группа двинулась из Туапсе через Хадыженский перевал в направлении Армавира и в ночь на 29-е подошла к Белореченской. С этого времени в течение 10 дней длился неравный бой 3 тысяч кубанцев Покровского тылом к Михайловской группе Сорокина Против 10–15 тысяч таманцев, пробивавшихся на восток. Только к 1-му сентября к северу от Белореченской вышли еще 1½ батальона полк. Моллера, двинутые на поддержку Покровского из моего слабого резерва.

Эта операция полна отдельными эпизодами находчивости и удали кубанских частей, работавших и на фронте, и в тылу противника, устраивавших засады и ходивших в отчаянные атаки на неприятельские окопы.
29-го, после горячего боя, большевики овладели Белореченской и стали укрепляться в ее районе; 2-го сентября возобновили атаки крупными силами к югу от станции, через Ханскую в направлении Майкопа; большевикам удалось перейти реку Белую и даже захватить станицу Ханскую, но, встреченные конными атаками Кубанцев с тыла и фланга, они, понеся большие потери, отхлынули за реку. На другой день, распространяясь к северу, большевики смяли заслон Моллера и в ночь на 4-е обрушились всеми силами на части Покровского, преграждавшие им путь на восток, опрокинули их, ушли за Лабу и, соединившись там с Сорокиным, стали в районе Курганной.
Все это время б. группа Сорокина, атакованная 1-й Конной и 3-й дивизиями и развернувшая против них все свои силы, не предпринимала серьезного нажима в тыл Покровскому. Так же пассивна была расстроенная им Майкопская группа. Только в день последнего боя, воспользовавшись отвлечением главных сил Покровского к Белореченской, Майкопская группа перешла в наступление от Кужорской и заняла вновь Майкоп. Покровский, предоставив преследование Таманской группы небольшим конным частям, повернул главные свои силы на Майкоп. 7-го сентября в происшедшем здесь бою разбил большевиков, взял тысячу пленных, большую военную добычу и захватил окончательно город.
1-я Кубанская дивизия повернула затем на восток к Лабе, приступив к выполнению общеармейской задачи по окружению армии Сорокина.
* * *
2-я дивизия Боровского была двинута в Ставропольский район, ввиду серьезной и непосредственной угрозы Ставрополю. Ее сменила дивизия Дроздовского, к 7-му августа закончившая свое развертывание для занятия линии р. Кубани от ст. Пашковской (возле Екатеринодара) до ст. Григоринолисской на протяжении около 180 верст. Заняв гарнизонами пункты с важнейшими переправами (Усть-Лабинская, Тифлисская, Романовская) и имея подвижной резерв в поездных составах, Дроздовский на остальном протяжении ограничился наблюдением и расстановкой отрядов, сформированных из казаков прибрежных станиц; несли они службу весьма охотно и исправно.
Преследование главной колонны Сорокина, отступавшей через Екатеринодар и Усть-Лабу на восток, возложено было на дивизию Эрдели. 8-го августа дивизия сделала попытку переправиться через Кубань у Усть-Лабы, но, ввиду плохой технической подготовки переправы, потерпела неудачу: передовые части ее, успевшие перейти на левый берег Кубани, были сброшены большевиками в реку и понесли большие потери. Эрдели отказался от форсирования реки и, потеряв целую неделю, кружным путем через Екатеринодар к 14-му вышел левым берегом Кубани к реке Белой, где столкнулся с авангардами б. отряда Сорокина и Майкопской группы.
С 14-го Армавирская группа большевиков проявила активную деятельность: во многих местах противник форсировал переправы через Кубань, особенно серьезными силами у Кавказского узла (хут. Романовский). Войска Дроздовского отбили, однако, большевиков повсюду, а у Кавказской, отрезав их от переправ, частью перекололи, частью утопили в реке.
Появление 1-й Конной дивизии у Белой и неудачи на фронте Кубани охладили порыв Армавирской группы: 16-го большевики испортили мосты у Усть-Лабинской и Тифлисской и отошли к югу. Это обстоятельство позволило Дроздовскому значительно сократить фронт обороны и перебросить на левый берег Кубани 2-й конный полк, который вскоре вошел в связь с 1-й Конной дивизией[398], отбросившей б. Сорокинскую группу за Лабу и занявшей 19-го ст. Темиргоевскую.
С этой поры на фронте 1-й Конной, 1-й Кубанской, 3-й дивизий начались упорнейшие, жестокие бои, понемногу рассеивавшие гипноз рассказов о «разложении» большевицкой армии и ставившие нас вновь лицом к лицу с большими и серьезными силами противника.
По ту сторону фронта происходили какие-то непонятные для нас психологические процессы, проявлявшиеся в военных операциях перемежающимися вспышками высокого подъема и беспричинной паники.
Глава XXX. Состояние большевицких войск Северного Кавказа в августе и сентябре. Наступление наше в августе 18 г. Бои под Ставрополем, взятие Армавира и Невинномысской. Стратегическое окружение большевицкой армии
Северо-Кавказская красная армия после понесенных поражений испытывала действительно глубокий кризис. В «Окопной правде»[399] — органе красноармейских депутатов «Доно-Кубанского фронта» — появилось откровенное признание: «в нашей армии нет дисциплины, организованности… ее разъедают примазавшиеся преступные элементы, которым чужды интересы революции… Приходится констатировать недоверие бойцов к командному составу, так и командного состава к Главкому (Сорокину), что ведет в конце к полному развалу всей революционной армии»… Состоявшийся в сентябре в Пятигорске съезд фронтовых делегатов определил конкретнее причины поражений, потребовав устранения их суровыми мерами[400]: 1) неподчинение войсковых частей высшему командному составу «благодаря преступности отдельных лиц командного состава и недисциплинированности бойцов», трусости и паническому настроению «многих»; 2) «грабежи, насилия, реквизиции», словом, «целый ряд насилий над мирным населением»; 3) «обессиление армии беженским движением, вносящим панику при первом же выстреле»…
О деморализации красных свидетельствовал и неизбежный спутник ее — дезертирство: не только казаки, бывшие в составе большевицких войск, но и красноармейцы сотнями стали переходить на нашу сторону.
Особенно большие нарекания были на командный состав. О нем говорили много и съезд, и резолюции частей, и приказы Сорокина. «Товарищи, — говорит одна из резолюций — которые совершенно не компетентны в военных стратегических вопросах, преступно принимают на себя обязанности, которых они выполнить не могут»… «Скверно то — писал Сорокин[401] — что командиры, начиная с взводных, убегают от бойцов в трудные минуты… В бою я с вами — это видели все… «Сорокин продал» говорят… А где в то время командиры?.. Лучшие из них с бойцами… а другие в то время по городу с бабами раскатывают пьяные… Самые лучшие боевые планы рушатся из-за того, что приказания не во время или вовсе не исполняются»…
Авторитет Сорокина был уже подорван, и ему приходилось оправдываться даже по обвинению в измене: «я знаю, что про меня болтают, когда я объезжал фронты Армавирский и Кавказский: уже нашлись друзья, которые говорили, что я перебежал. Мне эти разговоры не обидны, но они мешают исполнять святое и тяжелое дело защиты наших прав трудящихся»… Сорокин сурово расправлялся с порочившими его начальниками и политическими комиссарами; многих расстрелял.
Тем не менее, подозрительность пустила глубокие корни. И съезд делегатов, хотя и выразил «товарищу Сорокину» полное доверие, но «принимая во внимание, что единоличное командование вносит в ряды армии недоверие и особенно в виду назначения его сверху», приставил к Главкому двух «политических комиссаров»[402].
В течение августа состояние многих частей Кавказской красной армии было еще плачевно; но уже к началу сентября процесс распада красных войск приостановился. Хотя красное командование по-прежнему проявляло отступательные тенденции, но они встречали не раз неожиданный отпор в самой солдатской массе, несколько отсеянной, благодаря уходу или бегству многих пришлых частей — на север, к Царицыну. Одна из наших сводок отмечала такой необыкновенный факт: «1-я Лабинская бригада, насильно выбрав командиром всячески от этого уклонявшегося Ярового, принудила его (вопреки директиве высшего командования) под угрозой расстрела вести ее в бой. Наступление бригады кончилось разгромом ее под Упорной»[403].
Эта перемена настроения явилась в большой мере отголоском взаимоотношений кубанских казаков с иногородними. Иногородние, оседло живущие на Кубани, в большом числе вливались в ряды красных войск. В своих постановлениях войсковые части, состоявшия главным образом из этого элемента, начали предъявлять требования к своему командованию «прекратить отступление, реорганизовать фронт и затем наступать только вперед, вперед на врага, вперед к своим женщинам, женам и детям, которые гибнут под гнетом разбоя и взывают к нам о помощи»[404]… «В полку получилось волнение — доносят другие[405] — о том, что получились сведения, что Лабинская горит, семьи насилуются, что разгорается усиленная провокация, как будто командный состав ведет к разрухе»…
Наша разведка уяснила себе положение в стане противника с большим запозданием и в сентябре пришла к пессимистическому выводу: Северо-кавказская красная армия начинает понемногу выходить из кризиса «не ослабленной, а наоборот усилившейся. Она желает решить боевые вопросы, составляющие основу дальнейшего существования Кубанской республики; победу она видит в занятии крупных центров края, в разгроме Добровольческой армии и в порабощении казачества»…
Вопрос стоял на мертвой точке: победа казаков — порабощение иногородних, победа красных — порабощение казаков. Ни та, ни другая сторона не могли возвыситься над первобытными принципами борьбы за существование.
* * *
Не в столь резких формах выражалось настроение крестьянства Ставропольской губернии, но все же там было далеко не спокойно. Советская власть сильнейшей агитацией возбуждала народ против Добровольческой армии и в то же время побуждала к лихорадочному формированию отрядов из местных контингентов. Эти отряды не были ни достаточно организованы, ни особенно искусны. Но их было много, они возникали и появлялись неожиданно, действуя то планомерно, то партизанскими набегами. Гражданская власть наша была слабой и неопытной, чтобы справиться с народными настроениями, воинская сила — слишком малочисленной, чтобы подавить местные формирования. В Ставропольской губернии переплетались резко расходящиеся настроения: одни села встречали добровольцев как избавителей, другие — как врагов. Работа в крае велась поэтому в обстановке напряженной и нервирующей: с первого же дня Ставрополь находился под угрозой подступивших с трех сторон отрядов противника и жил под впечатлением то приближавшейся, то удалявшейся артиллерийской канонады…
К началу августа наши войска Ставропольского района[406] располагались полукругом вокруг города в переходе от него с севера, востока и юга; по линии Кубани слабым кордоном стояли кубанские гарнизоны. 4-го августа началось вновь одновременное наступление большевиков с юга от Невинномысской и с востока от Благодарного. Первое было отбито, второе имело вначале успех: прикрывавшие Ставрополь с востока наши части были опрокинуты и противник (4–5 тысяч) подошел к предместьям города и к станции Пелагиаде, угрожая перерезать сообщения нашей Ставропольской группы с Екатеринодаром…
Дивизии Боровского еще 4-го приказано было, по смене ее 3-й дивизией, перейти к Ставрополю. 8-го части ее высаживались у Ставрополя и Пелагиады как раз в тот момент, когда туда подошли большевики. Полки (Корниловский и Партизанский) прямо из вагонов бросились на противника, опрокинули и преследовали его.
Всю вторую половину августа Боровский, объединивший здесь командование, вел непрерывные бои частями своей дивизии и 2-й Кубанской. На долю последней пришлась особенно тяжелая работа: полковн. Улагай буквально летал по краю, пройдя несколько сот верст, разбивая и преследуя появлявшиеся в разных местах отряды противника. В результате весь обширный район верст на сто по радиусу от Ставрополя был очищен от большевицких отрядов и Боровский, заняв с боя Прочнокопскую и Барсуковскую, имел возможность сосредочить к верхней Кубани свои главные силы.
* * *
В связи с успешным выходом Боровского к Кубани и значительным сокращением фронта 3-й дивизии, я приказал Дроздовскому перейти за Кубань и овладеть Армавиром. Эта рискованная операция с самого начала была не по сердцу осторожному Дроздовскому и потому исполнение ее сопровождалось трениями со штабом армии.
После продолжительных разведок 3-я дивизия 26-го августа под прикрытием 2-го конного полка переправилась частью сил через Кубань у Тифлисской и двинулась отсюда на восток во фланг противо-Кавказской группе противника.
В течение четырех дней Дроздовский вел упорные бои и к 31-му овладел станцией Гулькевичи одновременным ударом с запада и через ж-д. мост. Перебросив всю дивизию на левый берег и свои коммуникации на Кавказскую, он повел наступление на Армавир вдоль жел. дороги, направив колонну ген. Чекотовского (Самурский пех. и 2-й кон. полки с батареей) против Михайловской, для содействия 1-й Конной дивизии. Вначале обе колонны имели успех. Но 1-го сентября к большевикам подошли значительные подкрепления, и они перешли в контрнаступление, угрожая обоим флангам дивизии Дроздовского. После упорного боя он вынужден был отвести левую колонну к станции Гулькевичи, куда 2-го вышли окруженные со всех сторон и пробившиеся штыками Самурцы[407] Шаберта. Западнее вела настойчивые атаки 1-я Конная дивизия ген. Врангеля, приковавшая к себе Михайловскую группу[408] противника, взявшая с бою оплот ее — станицу Петропавловскую, но встретившая в дальнейшем упорное сопротивление.
Еще ранее для содействия Армавирской операции я приказал Боровскому ударить в тыл Армавирской группы большевиков, захватить Невинномысскую, прервав тем единственную железнодорожную линию сообщений армии Сорокина.
Судьба играет иногда событиями чрезвычайно прихотливо… Впоследствии в Невинномысской в наши руки попала директива Сорокина, в которой на командующего Невинномысской группой Гайчинцам[409] возлагалась задача: «…приготовиться к решительному наступлению, цель которого и задача во что бы то ни стало взять город Ставрополь… Наступление начать 2-го сентября в 4 часа утра, отступлений не допускаю. Ставрополь приказываю взять (4) сего сентября… Командвойск. Сев. Кавказа Сорокин. Политический комиссар Торский».
Гайчинец в развитие этой директивы отдал диспозицию, по которой войска его группы, удерживая фронт Кубани от Армавира до Барсуковской, главными силами должны были «нанести грозный удар» в направлении к Ставрополю на фронте Барсуковская–Темнолесская, с охватом с востока конницей.
2-го сентября — в тот же день, когда должен был нам нанести удар Гайчинец, 2-я дивизия Боровского обрушилась на Невинномысскую. «В полдень — говорит сводка — доблестные части ген. Боровского, несмотря на чрезвычайное упорство и стойкость противника, ворвались в станицу; продолжая стремительное наступление, овладели ею и перекинули часть сил на левый берег Кубани. Громадные толпы противника в полном безпорядке бросились бежать к Армавиру… В момент атаки в Невинномысской находилось шесть большевицких штабов, в том числе и штаб Сорокина, который бежал верхом за Кубань в момент нашего вступления в станицу»… В тот же день партизанская бригада Шкуро, выйдя южнее, овладела станцией Барсуки, разрушив там путь.
Этот наш успех отразился резко на положении фронта Дроздовского. 3-го сентября он отбил с успехом атаки противника, а 4-го перешел вновь в наступление, подойдя с рассветом 6-го к Армавиру. Бой длился несколько часов и окончился полным поражением Армавирской группы большевиков. 4-й пластунский батальон овладел Туапсинским вокзалом, 2-й Офицерский полк Владикавказским, а с правого берега, из Прочнокопской ворвались в город роты корниловцев. Несколько эшелонов подкреплений спешили к большевикам с запада по Туапсинской жел. дороге, но заслон Самурского полка захватил один поезд целиком, другие встретил жестоким огнем, и эшелоны, бросив поезда, бежали на юг. Паника распространилась по всему полю. 2-й конный полк до вечера преследовал и рубил бегущих долиной Урупа; два бронепоезда прошли до следующей станции Коноково (22 версты) и там громили огнем орудий и пулеметов собравшиеся толпы отступавших большевиков…
Между тем Боровский, опасаясь за свой правый фланг, оставил в Невинномысской пластунскую бригаду, и главные силы перевел в хутор Темнолесский (см. Ново-Екатериновка). Воспользовавшись этим, Сорокин сосредоточил против Невинномысской значительные силы конницы, которые, переправившись через Кубань севернее Невинномысской, в ночь на 4-е рассеяли пластунов и овладели станицей.
6-го я был в войсках Боровского в Ново-Екатериновской. Учитывая важное значение перерыва Владикавказской жел. дороги, я приказал им вновь атаковать Невинномысскую.
Боровский 7-го овладел атакой Корниловского полка ст. Барсуки, а 8-го атаковал Невинномысскую с трех сторон и занял станицу, отбросив большевиков к западу, за Рождественскую.
* * *
Три месяца уже армия вела непрестанные, кровопролитные бои — без отдыха, без смены. Части по многу раз переменили уже свой боевой состав; вливались новые эшелоны добровольцев с севера и юга России и кубанских казаков; уезжали и возвращались раненые; гибли тысячами воины; ожидали своей неминуемой участи уцелевшие, ибо казалось, что нет возможности выйти из этой кровавой эпопеи живым и не искалеченным. Но когда я бывал у кубанцев Врангеля и Покровского, у добровольцев Казановича, Дроздовского, Боровского не только в дни их побед, но и тяжелых неудач, я видел людей усталых, но бодрых и жизнерадостных. Они не жаловались на свою удручающую материальную обстановку и только просили — «по возможности» патронов и пополнений. Им не нужны были пышные и возбуждающие слова приказов, речей, не нужны были обманчивые обещания социальных благ и несбыточных военно-политических комбинаций. Они знали, что путь их долог, тернист и кровав. Но большинство из них желали спасения Родины, верили крепко в конечную победу и с этой верой шли в бой и на смерть.
Враг был по-прежнему силен, жесток и упорен.
Последнее время, впрочем, обстановка как будто опять явно складывалась в нашу пользу… К 10 сентября главная масса Северо-Кавказской красной армии находилась в положении почти стратегического окружения: на севере у Петропавловской стояла дивизия Врангеля, имевшая задачей опрокинуть Михайловскую группу большевиков и наступать на Урупскую; у Армавира закрывал пути Дроздовский; на западе Покровский теснил Майкопских большевиков к Лабе, направляясь к Невинномысской; на востоке — река Кубань и Боровский у Невинномысской; на юго-востоке — партизанские полки Шкуро у Баталпашинска и Беломечетинской[410]… По всему обширному району, зажатому между горами и Кубанью, по всем путям шли бесконечные большевицкие обозы, направляясь на юго-восток… Из перехваченного приказа Сорокина от 9 сентября явствовало, что армия его потеряла надежду на возвращение Кубани и стремится пробиться к Минеральным Водам…
16 сентября получена была первая весть и от восставших терцев: «казаче-крестьянский съезд» из Моздока радиотелеграммой приветствовал Добровольческую армию «как носительницу идеи Единой, Великой, неделимой и свободной России» и обещал «направить все силы для скорейшего соединения с нею».
Глава XXXI. Переход большевиков в контрнаступление в начале сентября 1918 года на Армавир, Ставрополь и по верхней Кубани. Перемена большевицкого командования и плана операции. Отступление большевиков в конце сентября к Невинномысской. Преследование их нашей конницей к Урупу. «Мятеж» Сорокина и его смерть. Террор в Пятигорске
10-го сентября намерения большевицкого командования обнаружились: для овладения вновь Владикавказской магистралью и обеспечения сообщений с Минераловодским районом в этот день Северо-Кавказская красная армия перешла в наступление на широком фронте: Таманская группа от Курганной на Армавир (с запада) и Невинномысская группа, усиленная уцелевшими частями, отступившими 6-го от Армавира, — на Невинномысскую и Беломечетинскую (на юг и юго-восток).
11-го таманцы развертывались беспрепятственно против Армавира и 12-го атаковали Дроздовского, перешедшего к обороне. Первую половину дня большевики, при поддержке сильного артиллерийского огня, вели упорные атаки, охватывая город с севера. Но огнем и контратаками наших войск были отражены повсюду, понеся тяжелые потери; на севере им удалось, однако, перехватить железную дорогу. К вечеру новая колонна противника стала развертываться против южной части города.
Считая свои силы недостаточными и положение слишком рискованным, Дроздовский в ночь на 13-е оставил город и перешел на правый берег Кубани, в Прочнокопскую, сохранив за собою переправу у форштадта, прикрытую предмостным укреплением.
Еще в ночь на 11-е я приказал отправить из Екатеринодара по жел. дороге на помощь Дроздовскому отряд полковн. Тимановского[411], который подошел к Армавиру рано утром 13-го. Вместе с тем Дроздовскому послано было приказание 13-го перейти в наступление[412].
Тимановский донес Дроздовскому о прибытии и о своем намерении начать атаку. Пополудни он с большой стремительностью атаковал противника с севера и овладел его позицией. Большевики отступили к городу. Но, не видя наступления 3-й дивизии и получив запоздалое приказание Дроздовского не ввязываться в этот день в бой[413], Тимановский заночевал на позиции.
Я повторил приказание атаковать Армавир 14-го. Переведя дивизию у Прочнокопской на левый берег Кубани и соединившись с Тимановским, Дроздовский повел атаку на город с северо-запада, понес серьезные потери, но успеха не имел. К вечеру он прекратил наступление.
1-я Конная дивизия все эти дни вела упорные атаки против Михайловской группы большевиков. Сотни кубанцев непрестанными налетами портили Туапсинскую дорогу, прерывая связь группы с Армавиром; правая колонна дивизии, атакуя с запада, разбила большевиков у Дондуковской и Каше-Хабля, заняв эти пункты. Михайловская группа большевиков была зажата, ослаблена, прикована, но все усилия разбить ее не увенчались успехом. Кубанцы несли большие потери, которые вновь и вновь пополнялись притоком, идущим из освобожденных станиц.
Я был 16-го в отряде Дроздовского. Он считал бесцельным дальнейшее наступление на Армавир, пока не будет разбита Михайловская группа… Согласившись с ним, я оставил на Армавирском направлении слабый заслон полковника Тимановского и в тот же день двинул Дроздовского с главными силами против Михайловской, дав ему задачу — нанести быстрый и внезапный удар с востока во фланг и тыл Михайловской группе и совместно с конницей Врангеля разбить ее. Дроздовский вышел только к вечеру 17-го на фронт Врангеля и принял иное решение: ночью произвести смену 1-й Конной дивизии на ее позиции и с 7 часов утра 18-го атаковать с севера, с фронта. Конница Врангеля после такой рокировки должна была ударить с востока в тыл Михайловской. Атака Дроздовского не имела успеха; части его понесли тяжелые потери и к вечеру отошли к Петропавловской. Полное истощение артиллерийских патронов послужило не малой причиной увеличения числа жертв.
Между тем, Врангель, обойдя Михайловскую, вышел в тыл Михайловской группе и овладел Курганной, перехватив коммуникации противника. Здесь в течение дня он вел успешный бой на три стороны против неприятельских войск и бронепоездов. Но когда, отбив Дроздовского, большевики от Михайловской повернули против 1-й Конной дивизии, и к тому же обозначилось наступление с юго-востока от Константиновской, положение Врангеля между двумя речками стало весьма тяжелым; с наступлением сумерек он с трудом, но благополучно вывел дивизию по единственной переправе — жел.-дор. мосту через Чамлык.
Армавирская группа большевиков в эти дни оставалась пассивной.
* * *
На западе, на верхней Лабе успешно боролась 1-я Кубанская дивизия Покровского. Отбросив противника, занимавшего линию реки Фарс, он широким фронтом (40–50 верст) наступал к Лабе, направляя главные силы против Лабинской и Зассовской. К 14 сентября Покровский, опрокидывая противника, подошел на всем фронте к Лабе, захватив Мостовое и, переправивши часть сил через Лабу, преследовал большевиков, бегущих к Владимирской и Вознесенской. Тысячи повозок обоза, множество пленных попали в наши руки; кроме того, было отбито около 2 тысяч уведенных большевиками кубанских казаков. Этот значительный успех, создававший угрозу северным группам противника, встревожил большевицкое командование. Майкопская группа была усилена и 15-го на всем фронте перешла в наступление, оттеснив Покровского на левый берег Лабы. 10 дней продолжались бои с большевиками, перешедшими вновь в нескольких местах Лабу и наступавшими в общем направлении на Майкоп. В ночь на 28-е большевики, отчаявшись в успехе наступления на этом фронте, ушли за Лабу, теснимые по пятам кубанцами, переправившимися также у Владимирской.
Положение здесь оставалось по-прежнему весьма угрожающим для большевиков.
* * *
Неудачно для нас складывалась обстановка на левом фланге. Сорокин, сосредоточив крупные силы против Невинномысской, с 10 сентября несколько раз настойчиво атаковал Боровского, но понес большие потери и вначале успеха не имел. Наконец, 15-го он принудил Боровского отойти к Ново-Екатериновке и овладел Невинномысской, открыв вновь сообщение своей армии по Владикавказской магистрали.
Еще южнее действовал партизан Шкуро. Широко привлекая в свои ряды кубанское казачество, подымая поголовно станицы Баталпашинского отдела, он развернул уже свой отряд в дивизию и совместно со станичными гарнизонами успешно отражал нападение большевиков, стремившихся перейти верхнюю Кубань в районе Беломечетской. Но в те дни, когда Сорокин атаковал Невинномысскую, Шкуро, тяготевший по мотивам не стратегическим к Кисловодску, повернул на юг и 12-го с боя взял этот город. Через две недели, под давлением большевицких отрядов, наступавших с севера и востока на Бугурустанскую и Кисловодск, Шкуро, с которым очень трудно было поддерживать связь, очистил город и был привлечен в район армии. Большевики жестоко расправились с кисловодской буржуазией. Очередная сводка отметила своим бесстрастным языком «мелкий боевой эпизод»: «чтобы сосредоточить все усилия для активных действий в направлении на станцию Курсавку, полковник Шкуро оставил Кисловодск». А сам партизан 28-го уже опять бил большевиков, брал пленных и пулеметы в районе Владикавказской магистрали…
В то время, как Невинномысская группа большевиков против фронта Боровского невидимому все больше усиливалась, назревала серьезная угроза и его тылу и сообщениям в Ставропольском районе. В результате работы в сентябре месяце, на северо-востоке и востоке Ставропольской губернии сорганизовались две сильные группы: в районе Дивное — 2-я Ставропольская дивизия или группа Ипатова (12 тысяч штыков, 1 тысяча сабель), и в районе Благодарное — 1-я Ставропольская дивизия или группа Рыльского (5 тысяч штыков, 500 сабель); кроме того, к северо-востоку от Петровска стоял отряд Жлобы, силою до 6 тыс., устраивавшийся после поражения, нанесенного ему 14 сентября полк. Улагаем.
Против этих частей мы имели мелкие отряды восточнее Медвежьего, у Донского, гарнизон Ставрополя и 2-ю Кубанскую дивизию у Петровского, общей численностью 4–5 тысяч.
16-го сентября 2-я Ставропольская дивизия большевиков начала наступление одновременно в трех направлениях: на Торговую, Медвежье и Донское. И через три дня, сбив наши охраняющие части, дошла на севере до Немецко-Хангинского, а главными силами до р. Егорлык на фронте Преградное–Безопасное. Для прикрытия Торговой мною был переброшен по жел. дороге небольшой отряд, а к станции Егорлык стянуты с разных сторон 1½–2 тысячи и 2 орудия. В командование этим сборным отрядом[414] вступил ген. Станкевич, который получил задачу обеспечить с севера Ставрополь.
Выдвинувшись к Безопасному, он отбросил противника, и на несколько дней здесь водворилось спокойствие. В свою очередь полковн. Улагай в районе Благодарного 28-го разбил 1-ю Ставропольскую дивизию и на некоторое время вывел ее из строя. Но 2-я Ставропольская дивизия в конце месяца вновь перешла в наступление крупными силами и отбросила отряд ген. Станкевича; в то же время северная колонна ее заняла села по нижнему Егорлыку в одном переходе от Торговой.
Необходимо было как можно скорее ликвидировать эту постоянную угрозу нашей связи с Доном и войсками правого берега Кубани, тем более, что у Невинномысской шло сосредоточение крупных большевицких сил.
Я стянул в Ставрополь-Армавирский район все силы Добровольческой армии[415].
1-ю дивизию Казановича сосредоточил против Армавира, а 3-ю — Дроздовского перевел на правый берег Кубани для смены Боровского. Последнему приказано было, объединив командование над войсками Ставропольского района и присоединив к ним свою 2-ю дивизию, очистить в возможно короткий срок север губернии.
Смена на фронте против Невинномысской закончилась 2-го октября, а 6-го соединенными силами Станкевича, Улагая и 2-й дивизии большевики были разбиты у Терновки. Принявший командование над колонной ген. Станкевич преследовал противника на сев.-восток и в боях 12–14-го в районе Большой Джалги, в которых приняла участие и шедшая от Торговой вдоль Маныча Донская бригада, нанес им вновь сильное поражение. Дальнейшее преследование стало невозможным, так как в эти дни у Невинномысской и Ставрополя разразились события, потребовавшие спешного возвращения туда 2-й дивизии и конницы Улагая.
* * *
Тяжкие сентябрьские бои обескровили и нас, и противника. Они кроме того подорвали дух в большевицких войсках, вселили и в них, и в советах еще большее недоверие к своему командованию.
Усилилось также общее неудовольствие Сорокиным. Во второй половине сентября на собрании большевицких командиров в Армавире командовавший Таманской группой Матвеев при общем одобрении заявил, что выходит из подчинения Сорокину. Матвеев был вызван в Пятигорск и там по приговору военно-революционного суда расстрелян. Эта казнь вызвала сильное возмущение в войсках Таманской группы и страшное озлобление лично против Сорокина.
22-го сентября Ц. и. к. Северо-Кавказской республики, сообразно новой организации центрального Московского управления[416] и полученных свыше указаний, отменил единоличную власть главнокомандующего и во главе Северо-Кавказской армии поставил «Ревоенсовет» под председательством Полуяна[417] и членов: Сорокина, Гайчинца[418], Петренко[419] и Крайнего[420]. Прежний штаб Сорокина был устранен и сформирован новый в составе нескольких большевицких деятелей во главе с казачьим офицером Одарюком.
К концу сентября относится также перемена стратегического плана большевицкого командования: было решено оставить Кубань и, прикрываясь сильными арьергардами на Лабе и у Армавира, отступить на юго-восток, в общем направлении на Невинномысскую.
Признаки отхода колонн и обоза мы замечали еще в 20-х числах сентября. В ночь на 1-е октября арьергард Михайловской группы, взорвав мост у Коше-Хабля, стал отходить в направлении на Урупскую. Это обстоятельство побудило перейти в решительное наступление все три наши левобережные дивизии.
Ген. Казанович 1-го октября атаковал Армавир. Части его ворвались было уже в город, но контратакой противника были отброшены с большими потерями, особенно тяжелыми в Сводно-гвардейском полку[421].
Ген. Врангель, опрокидывая арьергарды противника и догоняя главные силы его, в первый же день прошел до 50 верст, следуя на Урупскую и Безскорбную. В последующие дни на Урупе произошел ряд серьезных боев с переходившим не раз в контрнаступление противником, который был в конце концов смят и отброшен за реку. Дивизия после жестокого уличного боя заняла 6-го Бесскорбную, 7-го Урупскую, но дальнейшее продвижение ее было остановлено большевиками.
Ген. Покровский, отбросив заслоны большевиков, перешел Лабу и атаковал 2-го Вознесенскую и Упорную, но взять их не мог. 3-го большевики сами перешли в наступление — в первом направлении неудачно, во втором — силами до 4-х полков пехоты и многочисленной конницы оттеснили Покровского обратно за Лабу. На следующий день он вновь и вновь атаковал и после многих упорных боев к 7-му вышел к Урупу, овладев Попутной и Отрадной.
Обе дивизии нанесли противнику большой урон, захватили много пленных и оружия, но сопротивление его было по-прежнему упорным.
К 10 октября положение на фронте было следующим:
1-я дивизия стояла под Армавиром, 1-я Конная и 1-я Кубанская по Урупу до Отрадной. Далее шел изменчивый фронт Партизанской бригады (дивизии) и ополчений Баталпашинского отдела, который проходил примерно от Отрадной (связь с Покровским), севернее Беломечетской, подходя и временами захватывая Воровсколесскую (в 14 верстах от ст. Курсавки), далее на Суворовскую. Шкуро, очищая от большевиков Баталпашинский отдел, производил с успехом непрестанные нападения на железные дороги, расстраивая движение по ней и угрожая все время сообщениям противника. От Армавира по правому берегу Кубани и далее от Барсуковской на Ново-Екатериновку стояли местные гарнизоны, пластунские батальоны и 3-я дивизия.
В этом чрезвычайно оригинальном остром углу в качестве арьергардов по Урупу и Кубани располагалось около 20 тысяч большевицких войск; по линии Курсавка — Минеральные Воды для непосредственного охранения жел. дороги от нападений Шкуро 4–5 тысяч; и в районе Невинномысской сосредоточился сильный кулак до 20 тысяч.
Дальнейшее направление его было нам неведомо.
* * *
Я не знаю, чьей инициативе принадлежит последующий план действий Северо-Кавказской армии большевиков. Были ли директивы из Москвы, решил ли вопрос «Ревоенсовет» или оказал давление созванный в то время Сорокиным и заседавший в Невинномысской «Чрезвычайный съезд советов и представителей красной армии».
Перед большевицким командованием стояло три направления отхода: по Владикавказской жел. дороге, упирающейся в Кавказские горы или Каспийское море; на Святой Крест — с отходящим от него Астраханским трактом; наконец, третье, сопряженное с новыми боями — на Ставрополь, с возможностью пользоваться Астраханским трактом и открыть связь и сообщение с Царицыном и прикрывавшей его 10-й советской армией, левый фланг которой подходил к Манычу у Кормового[422].
До нас доходили сведения еще в сентябре, что по этому поводу возникли большие трения в среде командного состава и что Сорокин и Гайчинец — сторонники движения на Святой Крест, Матвеев — на Ставрополь.
В результате длительных споров и колебаний большевицкое командование приняло решение: перебросив свои тылы на Святой Крест, двинуться к Ставрополю, с целью овладения им.
Сорокин не принимал уже активного участия в операции. В то время, когда большевицкие войска под начальством Федько атаковали Ставрополь, он, опальный главнокомандующий, со своим штабом и конвоем находился в Пятигорске. Опасаясь расправы со стороны третируемых им и не доверявших ему большевицких Главарей, Сорокин задумал устроить переворот, с целью захватить в свои руки верховную военную власть. 13-го октября он арестовал председателя Ц. и. к. Кавказской республики Рубина, товарищей председателя Дунаевского и Крайнего, члена Ц. и. к. Власова и начальника «чрезвычайной комиссии» Рожанского. Все эти лица — кроме Власова евреи — были в тот же день расстреляны. По объяснению приближенных Сорокина, пойманных и заключенных в тюрьму, Сорокин — яркий юдофоб — «ненавидел евреев», возглавлявших кавказскую власть, и «решился на кровавую расправу, негодуя на постоянное вмешательство Ц. и. к. в военное дело, что мешало военным операциям»[423].
Но Съезд советов и представителей фронта постановил объявить Сорокина вне закона, «как изменника революции», и доставить его в Невинномысскую «живым или мертвым для всенародного… суда»…

Не найдя поддержки в армии, Сорокин бежал из Пятигорска в направлении Ставрополя; 17 октября был пойман одним из таманских полков возле города, привезен в ставропольскую тюрьму[424] и там убит во время допроса командиром 3-го Таманского полка Висленко.
Выступление Сорокина отозвалось трагически на судьбе Минераловодской интеллигенции. Еще после захвата Кисловодска Шкуро и восстания терских казаков тюрьмы Минеральной группы были заполнены заложниками, которые согласно приказу чрезвычайки подлежали расстрелу «при попытке контрреволюционного восстания или покушения на жизнь вождей пролетариата». Когда умер командовавший северо-западным фронтом, товарищ Ильин от ран, полученных в бою с добровольцами, чрезвычайная комиссия казнила в его память 6 заложников. После расстрела Сорокиным членов Ц. и. к. обещание было исполнено в более широком масштабе: «чрезвычайка» постановила «в ответ на дьявольское убийство лучших товарищей» расстрелять заложников — по двум спискам 106 человек. В их числе были генералы Рузский и Радко-Дмитриев, зверски зарубленные 18-го октября. Обоим им большевицкие Главари неоднократно предлагали стать во главе кавказской красной армии и оба они отказались от предложения, заплатив за это жизнью.
«В одном белье — говорится в описании Особой комиссии — со связанными руками, повели заложников на городское кладбище», где была приготовлена большая яма… «Палачи приказывали своим жертвам становиться на колени и вытягивать шеи. Вслед за этим наносили удары шашками… Каждого заложника ударяли раз по пяти, а то и больше… Некоторые стонали, но большинство умирало молча… Всю эту партию красноармейцы свалили в яму… На утро могильщики засыпали могилы… Вокруг стояли лужи крови… Из свежей, едва присыпанной могилы слышались тихие стоны заживо погребенных людей. Эти стоны донеслись до слуха Обрезова (смотрителя кладбища) и могильщиков. Они подошли и увидели, как «из могильной ямы выглядывал, облокотившись на руки, один недобитый заложник (священник И. Рябухин) и умолял вытащить его из-под груды наваленных на него мертвых тел… По-видимому, у Обрезова и могильщиков страх перед красноармейцами был настолько велик, что в душах их не осталось более места для других чувств — и они просто забросали могилу землей…
Стоны затихли».
Сохранился рассказ о последнем разговоре ген. Рузского со своим палачом[425]:
— Признаёте ли вы теперь великую российскую революцию?
— Я вижу лишь один великий разбой.
Глава XXXII. Оставление нами Ставрополя. Бои под Армавиром, на Урупе и в Баталпашинском отделе. Очищение от большевиков левого берега Кубани. Двадцати-восьмидневное сражение под Ставрополем (10 октября — 7 ноября)
10 октября Невинномысская группа большевиков перешла в наступление на север, на фронт Дроздовского. Это было началом решительного для Добровольческой армии двадцати-восьмидневного сражения под Ставрополем.
Отряду Дроздовского[426] предстояло всемерно задерживать противника до подхода с севера 2-й и 2-й Кубанской дивизий.
10-го Дроздовский отразил наступление большевиков и только на правом фланге его большевики сбили пластунов и овладели Барсуковской. На следующий день он сам перешел в контратаку, понес серьезные потери, но безуспешно. Ввиду того, что на западе была потеряна важная позиция — гора Недреманная, Дроздовский с рассветом 12-го отошел к Татарке, в 11 верстах от города, где в ночь на 14-е был вновь атакован большевиками и отброшен к северу. В течение дня 14-го Дроздовский вел напряженный бой на подступах к Ставрополю, стараясь при помощи подошедшего с севера Корниловского полка вернуть захваченную большевиками гору Базовую. Атаки Корниловцев и Самурцев не имели успеха, и пополудни дивизия очистила Ставрополь, отступив к северу. Толпы мирного населения покидали злополучный многострадальный город, спасаясь от большевицкого нашествия. В Ставрополь вошли красные войска и приступили к расправе…
Одновременно с наступлением главных сил большевиков в направлении Ставрополя колонна их продвигалась вниз по Кубани, захватывая переправы, причем к 14-му весь правый берег до Убеженской оказался в их руках.
В течение ближайших дней противник вел частные атаки в северном направлении для обеспечения Ставрополя, не стремясь или не будучи в силах развивать свой успех над ослабленными и разрозненными частями нашей Ставропольской группы. И к 18-му, когда подтянулись части 2-й и 2-й Кубанской дивизий, Ставропольская группа Боровского располагалась по фронту Ново-Марьевка — село Пелагиада — Дубовка, в 13–20 верстах от города. Фронт большевиков шел кругом Ставрополя через Надеждинское — Михайловское — Сенгилеевское — Ново-Екатериновскую.
* * *
Я с полевым штабом и, как всегда, с начальником штаба, с которым мы были неразлучны, находился в эти дни на Армавирском направлении. Отдав ген. Казановичу последний батальон и не имея более в своем распоряжении резервов, я видел возможность успеха только в настойчивом выполнении основного плана и, в частности, в развитии активности нашего западного фронта. Генералам Казановичу, Врангелю и Покровскому было подтверждено напрячь крайние усилия, чтобы сбросить левобережную группу противника в Кубань и тем развязать нам руки на Ставропольском направлении.
Ген. Казанович 13-го октября внезапной атакой овладел Армавиром, захватив большие трофеи. На другой день его дивизия отбросила противника за Уруп, разбила его вновь у Коноково и, преследуя обоими берегами, к 16-му дошла до Николаевки и Маламино.
Конница ген. Врангеля не могла развивать этот удар: с 10-го числа она была прикована к Урупу настойчивыми атаками противника, причем Безскорбная несколько раз переходила из рук в руки. Только 15-го дивизия вышла частью сил на правый берег Урупа и имела там некоторый успех. Но 17-го большевики перешли в контратаку на всем фронте между Урупом и Кубанью и оттеснили конные части ген. Врангеля за Уруп, а дивизию ген. Казановича — под Армавир к разъезду Вольному…
В эти дни Минераловодская группа несколько раз возобновляла наступление на полк. Шкуро по всему фронту от Невинномысской до Суворовской, но безрезультатно, и партизаны по-прежнему совершали удачные набеги на железную дорогу.
Не было ни сведений, ни донесений от ген. Покровского. Наблюдая 17-го бой у Казановича, я убедился, что здесь разрешения задачи искать трудно. Послал вновь приказание Покровскому о крайней необходимости взятия Невинномысской и выхода в тыл Армавирской группе противника…
Только 21-го мы получили радостное известие, что 18-го Покровский после упорного боя овладел станицей и станцией Невинномысской, захватил там большую военную добычу и преследует большевиков на северо-запад и на юго-восток… От Армавира и Урупа потянулись уже большевицкие резервы в сторону Невинномысской, вступившие в бой с Покровским 19-го, но отброшенные к северу, в то время, как часть нашей конницы, распространяясь вдоль ж.-д. линии, заняла станцию Барсуки.
Этим ослаблением сил Армавирской группы воспользовалась 1-я Конная дивизия. 20-го ген. Врангель произвел перегруппировку, оставив заслон у Урулской и перебросив главные силы к Бесскорбной. 21-го, перейдя реку, он обрушился на большевицкую дивизию, разбил ее на голову и преследовал уцелевшие остатки ее в направлении Успенской; юго-восточнее такая же участь постигла еще два большевицких полка… 22-го доблестная дивизия продолжала преследование, добивая отставшие части противника, и захватила станцию Овечка, куда вскоре подошла пехота Казановича с бронепоездом. За эти два дня кубанцы Врангеля взяли около 2 тысяч пленных, 19 пулеметов, огромные обозы.
Немногие уцелевшие войска Армавирской группы, прижатые к Кубани, текли безостановочно на юго-восток; совместно с отрядами, остававшимися на левом берегу Кубани, они с мужеством отчаяния обрушились на Покровского и 21-го выбили его из Невинномысской. Только 23-го после трехдневных тяжелых боев он вторично и окончательно овладел Невинномысской.
1-я Конная дивизия сосредоточилась в районе Успенской, 1-я — у Овечки.
* * *
18-го октября в одной из хат станицы Рождественской собралось офицерство 3-й, отчасти 2-й дивизий; я ожидал, что после перенесенных безмерно тяжелых боев и ставропольской неудачи увижу хоть тень моральной усталости и разочарования… И был глубоко обрадован их настроением. Они жадно ловили всякий намек на улучшение общего положения и интересовались только тем, что облегчало нам дальнейшее ведение борьбы. Я видел части — сильно поределые, истомленные, полуобмерзшие, в обтрепанной легкой одежде — зимняя стужа наступила в этом году рано — и тем не менее готовые к новым боям.
Я мог порадовать их последними сведениями об европейских событиях, о падении Германии, торжестве союзников и об открывающихся перспективах. Помогут ли нам союзники войсками — не знаю, но материальною частью несомненно и в широком масштабе. Это, впрочем, дело будущего. А теперь я привез с собою немного теплой одежды, несколько сот пополнений, на сей раз много патронов и… глубокую, ничем не сокрушимую уверенность в доблести добровольцев, которая приведет несомненно к нашей победе в предстоящем решительном сражении…
Первые успехи на Урупе и под Невинномысской вызвали большой подъем в нашей Ставропольской группе, несколько отдохнувшей и пополненной.
22-го ген. Боровский перешел в наступление по всему фронту.
2-я и 3-я дивизии направлены были на Ставрополь с севера по обеим сторонам жел. дороги, 2-я Кубанская дивизия — через Надеждинскую с востока. В первый же день Боровский имел некоторый успех: пластуны заняли Сенгилеевекую, Улагай — Надеждинскую, а 2-я и 3-я дивизии, хотя я с тяжелыми потерями, дошли до самой окраины города. 23-го бой продолжался, причем 2-й Офицерский полк дивизии Дроздовского стремительной атакой захватил монастырь Иоанна Предтечи и часть предместья. Мой полевой штаб находился в эти дни под Ставрополем на станции Рыдзвяная, и я с ген. Романовским и несколькими офицерами штаба, следуя с 2-м Офицерским полком, вошли в монастырь несколько преждевременно: попали под контратаку противника, вскоре, впрочем, отраженную.
Далее войскам Боровского продвинуться оказалось не под силу. 24-го противник сам переходил многократно в контратаки, особенно настойчивые на фронте 3-й дивизии и Корниловского полка; обе стороны понесли тяжелые потери и наступление наше захлебнулось.
Так как к тому времени левобережные дивизии закончили свою операцию, я получил возможность все силы Добровольческой армии направить против Ставрополя.
Ген. Боровскому на северном Ставропольском фронте приказано было временно перейти к активной обороне; ген. Врангелю, очищая попутно правый берег Кубани в сторону Убеженской и Николаевской, сосредоточиться в Сенгилеевской для атаки Ставрополя с запада; ген. Казановичу — наступать через гору Недреманную и Татарку с юга; ген. Покровскому, совместно с Партизанской дивизией Шкуро, через Темнолесскую — с юго-востока; для удержания Невинномысской оставался отряд ген. Гартмана — пластунские батальоны 1-й и 1-й Кубанской дивизий, а ополчения Баталпашинского отдела должны были обеспечивать операцию со стороны Минераловодской группы противника.
Я съездил вновь на Армавирское направление, видел войска Казановича и Покровского под Невинномысской, куда приехал и Шкуро. И по вынесенному впечатлению от чудесного настроения войск и начальников не беспокоился более за окончательный исход Ставропольской операции.
Вернувшись к Ставрополю, я застал все то же положение. В течение четырех дней большевики вели упорные атаки на всем фронте Боровского. Мы потеряли Сенгилеевскую, но сохранили свое положение под Ставрополем ценою новых тяжелых потерь. В то же время 2-я советская Ставропольская дивизия, воспользовавшись ослаблением заслона ген. Станкевича, с 17-го перешла в наступление и к 24-му отбросила его от Б. Джалги к Тахтинскому, где он и сдерживал в дальнейшем противника.
Войска с юга, между тем, подвигались. К 29-му октября ген. Врангель, очистив берег Кубани и разбив большевиков у Сенгилеевской, подступил к Ставрополю с запада; ген. Казанович атаковал гору Недреманную[427]; ген. Покровский, сбивая арьергарды противника, к вечеру 28-го дошел до горы Холодной, в 10 верстах к юго-востоку от Ставрополя; обе фланговые дивизии вошли в связь с частями Боровского.
Это тактическое положение внесло крайнюю нервность в настроение обложенного кругом города и в ряды большевицких войск. Город был забит тысячами раненых, больных, тифозных большевиков, и каждый день увеличивал число их. Все пути подвоза были отрезаны. В Ставрополе, как передавали вырвавшиеся оттуда, носились уже зловещие слухи об измене… Некоторые большевицкие части постановляли тайно сдаваться нам, но попытки их в этом направлении ликвидировались поставленными сзади позиций пулеметами. Только Таманская группа, стоявшая против войск Боровского, оставалась вполне надежной и решила «драться до последнего»…
Большевицкое командование решило, очевидно, прорвать блокаду. 29-го советские войска крупными силами обрушились на весь фронт ген. Боровского и отбросили 3-ю дивизию, понесшую вновь громадные потери, версты на две от ее позиций. На прочих участках многократные атаки противника успеха не имели.
Этот день стоил и нам, и в особенности противнику очень дорого. Изнуренные потерями большевики 30-го не возобновляли атак.
Между тем, с юга кольцо сжималось: ген. Казанович, атаковав 29-го гору Недреманую, с крутыми скатами, взял ее, отбил несколько контратак и 30-го подошел к Татарке; рядом и восточнее ген. Покровский атаковал гору Базовую и Холодную. На горе Холодной был захвачен и закрыт Ставропольский водопровод.
К 29-му октября, с занятием Покровским ст. Темнолесской вся Кубанская область была освобождена от большевиков.
Большевицкое командование еще раз напрягло все свои силы, чтобы вырваться из окружения, и на рассвете 31-го вновь атаковало на севере фронт группы Боровского, на юго-востоке конницу Покровского. На этот раз совершенно растаявшие полки 2-й и 3-й дивизий не выдержали и опрокинутые и преследуемые противником поспешно уходили на северо-запад, остановившись только на высоте селения Пелагиады. Конница Улагая отошла к Дубовке. Части Покровского были также несколько потеснены.
Отбиваясь от наступавших большевиков с перемешанными остатками своей дивизии и ведя их лично в контратаку, доблестный полковник Дроздовский был тяжело ранен в ступню ноги… Пал сраженный пулей в висок командир Корниловского полка полк. Индейкин…
В виду пассивности большевиков на западном их фронте, ген. Врангель, оставив против него часть сил, с четырьмя полками кубанцев[428] свернул на Ново-Марьевку, ударил в тыл наступавшей там левой колонне противника и, отбросив его к северо-востоку, занял вновь монастырь и предместье, оставленные дроздовцами.
Наступила ночь. На севере все стихло, но на юге и западе шел еще сильный огонь…
Прорыв удался. Большевики вырвались из кольца. Образовав новый фронт по линии Дубовка (южнее) — Михайловское — Ставрополь — гора Базовая, они поспешно стали перебрасывать свои тылы в направлении Петровского…
* * *
Еще из Невинномысской я и старшие кубанские начальники снеслись телеграфно с кубанским правительством по вопросу об отсрочке открытия краевой Рады, назначенного на 28-е октября, до окончания Ставропольской операции, чтобы дать возможность кубанским начальникам, избранным членами Рады, принять участие по крайней мере в первых ее шагах… Это предложение вызвало возмущение в рядах черноморской группы и обвинение командования в саботировании Рады. Кубанское правительство не сочло возможным отложить открытие Рады. Частное совещание ее 27-го постановило лишь в программу первых дней включить вопросы внутреннего распорядка, а торжественное заседание в моем присутствии назначить на 1-е ноября.
Считая весьма важным в политическом отношении мое обращение к Раде до начала ее работ, я в ночь на 1-е решил поехать на несколько часов в Екатеринодар. Во время произнесения мною в Раде речи[429] пришла телеграмма, что бригада 1-й Конной дивизии ген. Бабиева ворвалась в Ставрополь… Это известие, которым я поделился с Радой, вызвало бурную радость всех собравшихся… Той же ночью я вернулся в Пелагиаду. Оказалось, что ген. Бабиев занимал 1-го вокзал, но противник оставался еще в городе и только пополудни 2-го, при поддержке Самурского и 1-го Кубанского стр. полков и броневиков, 1-й Конной дивизии удалось окончательно овладеть городом.
Ставрополь был взят. Большевики оставили в нем 2½ тыс. непогребенных трупов и до 4 тыс. невывезенных раненых. На дверях лазаретов были надписи: «Доверяются чести Добровольческой армии»… Они могли рассчитывать на безопасность своих раненых. Мы — почти никогда. Во всяком случае, наши офицеры, попадавшие в руки большевиков, были обречены на мучения и верную смерть.
Но большевики, понесшие огромные потери, проявляли все же упорство необыкновенное. 3-го я двинул войска в наступление на восток и в тот же день большевики тоже перешли в наступление, опять оттеснив наши части, действовавшие севернее Ставрополя, и оказывая, вместе с тем, упорное сопротивление Казановичу у Надеждинского. Четыре дня еще шли бои возле Ставрополя, и только 7-го, путем полного напряжения сил, наша атака лучших и наиболее сохранившихся красных войск — Таманской группы, сосредоточенной в районе Тугулук — Дубовка — Пелагиада, увенчалась окончательным успехом: наступлением остатков пехотных дивизий с запада, дивизии полк. Улагая с севера, конницы ген. Врангеля с юга от Ставрополя — войска противника были окружены, разбиты на голову и обратились в паническое бегство. Их преследовали в направлении Петровского 1-я Конная и 2-я Кубанская дивизии, сведенные после своего соединения в конный корпус под начальством ген. Врангеля. Восточную группу красных, отходивших на Старо-Марьевское и Бешпагир, преследовали части Покровского и Шкуро.
А в те же памятные дни случилось и другое знаменательное событие, произведшее на Юге огромное впечатление: союзный флот вошел в Черное море, и 9 ноября первые суда его появились на рейде Новороссийска.
Сражение под Ставрополем имело громадное значение для Добровольческой армии. Пройдет еще 2½ месяца в непрестанных боях, Северокавказская большевицкая армия, развертываясь и пополняясь, вновь будет насчитывать 60–70 тысяч бойцов, но уже никогда не оправится от нанесенного ей поражения.
* * *
Основные части Добровольческой армии во второй раз[430] казалось, гибли. 2-ю, 3-ю дивизию, некоторые пластунские батальоны пришлось вывести на длительный отдых для формирования и пополнения, 1-я оставалась еще на Ставропольском фронте. В добровольческих полках, проведших через свои ряды по многу тысяч людей, оставалось налицо 100–150 штыков. Несколько лучше было положение кубанских конных дивизий, в которые безостановочно с занятием каждой новой станицы приливала живая волна.
Люди гибли, но оставались традиции, оставалась идея борьбы и непреклонная воля к ее продолжению. Старые, обожженные, обрубленные, но не поваленные стволы обрастали новыми ветвями, покрывались молодой листвой и снова стояли крепко в грозу и в бурю.
Глава XXXIII. Соприкосновение Добровольческой армии с немцами и грузинами. Наши взаимоотношения
Утверждение наше на берегах Азовского и Черного морей привело к соприкосновению с германскими войсками и флотом. В предвидении неизбежных встреч с немецкими властями, добровольческим начальникам дана была мною краткая инструкция, заключавшая следующие положения: самим избегать всяких встреч и всякого общения; относительно политической конъюнктуры Добровольческой армии: Брест-Литовского мира не признаём, отношения наши с Германией может установить только всероссийская центральная власть, которой пока не существует; но враждебных действий против немцев мы без вызова с их стороны предпринимать не намерены; относительно торговых сношений — вопрос преждевременный, так как торговый аппарат еще не налажен; но боевые припасы покупать готовы в обмен на произведения страны; при всех сомнительных вопросах ссылаться на неимение от меня инструкций.
На Ейском рейде 2 августа появилась немецкая флотилия из четырех судов[431] под брейд-вымпелом капитана 2-го ранга, именовавшегося «командующим германскими морскими силами в Азовском море». В беседе с начальником гарнизона он объяснил причину появления немецких судов следующим образом[432]: «при последнем походе большевиков на Таганрог ими был пойман и приведен в Ейск пароход, на котором находились австрийские офицеры. Последние были бесчеловечно убиты и выброшены в море… Кроме того, в последнее время замечено много судов, пристающих в разных пунктах Крымского и Азовского побережья и высаживающих там большевиков, спасающихся от Добровольческой армии. Задача флотилии — прекратить зверства на море, не допускать и истреблять высаживающихся негодяев, так как никакому государству не приятно иметь их в своей среде»…
Такое неожиданное отношение свое к союзникам и пособникам Германии командующий флотилией пояснил тем, что «хотя Германия и заключила официальный договор с Советской Россией, неофициально он может выразить живейшее пожелание в скорейшей и окончательной победе над большевиками в целях умиротворения края и введения в нем законного порядка и твердой власти».
Я думаю, что немецкий офицер говорил искренно, и таких было не мало, но голос их не имел никакого решительно значения в русской политике Германии.
На второй день по взятии Новороссийска на рейде его появился немецкий миноносец, который стоял там постоянно и в эти дни случайно отсутствовал. Немецкий офицер тотчас же явился с визитом к военному губернатору полковнику Кутепову, поздравил его с занятием Новороссийска, выразил крайнее изумление быстротой движения Добровольческой армии и спросил, чем могут быть полезны германские суда. Содействие было вежливо отклонено. В дальнейшем несколько раз представители германского и австрийского (из Одессы) командования обращались к полк. Кутепову за разрешением проехать для переговоров в Екатеринодар, но им было в этом отказано.
В то же самое время немцы высаживались у Адлера и начали рыть окопы фронтом на север против нас…
Сложнее был вопрос относительно Тамани. Еще весною восставшие против большевиков таманские станицы обратились к немецкому командованию в Крыму с просьбой о помощи. Быть может это обращение было инсценировано и немцами, для которых, по словам майора фон-Кофенгаузена, в вопросе о занятии полуострова «большую роль играла военная сторона дела, а именно обеспечение Керченского пролива». Немцы ввели на полуостров полк с батареей, потом еще несколько усилили оккупационный отряд и вытеснили большевиков до Темрюка, продвинув свой фронт к лиманам в низовьях Кубани.
С тех пор Тамань жила своей обособленной от остальной Кубани жизнью. Был там свой «атаман» — полковник Перетяткин, свои «вооруженные силы», то собиравшиеся, то расходившиеся и совершенно игнорируемые немцами. Казаки вели распрю, захватывали чужие запашки, разбирали войковые запасные земли, рыболовные воды; начальство вело подкопы друг против друга и против кубанского правительства, не признавая его власти. Словом — суверенная Тамань в суверенной Кубани.
А в станице Таманской — столице нового государственного образования — квартировал командир 10 ландверной бригады[433], правивший всеми, всеми помыкавший и содействовавший, главным образом, беспрепятственному вывозу с полуострова сырья и хлеба. Посредником его в сношениях с таманцами и фактическим распорядителем их судеб был платный немецкий агент инженер Каштанов — авантюрист, весьма сходный по типу с Иваном Добрынским. Каштанов носился с планами движения немцев на Новороссийск и Екатеринодар.
Когда в начале июля кубанское правительство командировало на Тамань кружным путем через Ростов своих представителей и ген. Борисевича, с целью воссоединить Тамань с Кубанским краем, его послы были арестованы и высланы немцами. 13 августа войска Покровского, преследуя большевиков, захватили Темрюк и на левом берегу Кубани у моста столкнулись с немецкой ротой. Река стала демаркационной линией между войсками и районами политического влияния немцев, с одной стороны, и Кубанского правительства и Добровольческой армии, с другой. С некоторыми, однако, отличиями: в приказе Таманского атамана мы прочли распоряжение командира ландверной бригады: «по причине полного нейтралитета (?), приказы Добровольческой армии для казачьих войск Таманского полуострова недействительны. Приказы же Кубанского краевого правительства — только в соглашении с германским генеральным командованием в Симферополе. Таманский полуостров находится под германской защитой»[434].
Но в половине сентября таманские депутаты постановили «выразить благодарность германскому командованию за оказанную помощь и теперь же просить оставить Таманский полуостров»; с аналогичным представлением обратился посол Кубанского правительства к высшему германскому представителю в Ростове майору фон-Кофенгаузену. Последний ответил, что главное командование согласно на введение в пределах Тамани обще-кубанской администрации и «милиции». Что же касается «очищения края навсегда», то «это вопрос довольно отдаленного будущего», и о нем можно будет говорить только тогда, «если дружелюбное отношение (будущей) краевой рады даст нам нужные гарантии»[435]… Ухудшившееся положение на западном фронте делало немцев пассивными и уступчивыми.
Такое положение в этом глухом углу продолжалось до конца октября, когда немецкие войска вынуждены были поспешно покинуть Тамань, а потом и Крым…
* * *
Когда войска Добровольческой армии продвинулись к Новороссийску, получено было известие, что в районе Туапсе с 24 июля находится небольшой грузинский отряд[436] под начальством ген. Мазниева, к которому примкнуло несколько сотен кубанских казаков Майкопского отдела. В начале сентября этот отряд оперировал вдоль армавир–туапсинской жел. дороги между Туапсе и Белореченской, ведя борьбу с большевиками и помогая оружием и боевыми припасами восставшим кубанским станицам.
По установлении связи с Мазниевым, ген. Алексеев послал ему письмо[437], выражая свою радость, что «судьба поставила нас не только в близкое боевое соприкосновение, но сделала нас союзниками, борющимися пока за одно и то же дело и действующими в одном и том же направлении… Думаю — писал он — более того, убежден, — что этот союз примет длительный и более широкий характер»… Распорядившись об отправке продовольственных припасов в отряд, ген. Алексеев сообщал, что он вообще «широко пойдет навстречу грузинскому правительству в удовлетворении его продовольственных нужд, ожидая, что и оно поделится (с ним) своими запасами и прежде всего винтовками и патронами». М. В. просил для обсуждения условий товарообмена и др. вопросов командировать в Екатеринодар доверенных от правительства лиц.
Между тем, таманская группа большевиков, отступая от Новороссийска на юг, опрокинула отряд Мазниева, который отошел к Сочи. Наш конный полк, преследуя большевиков по пятам, 26 августа занял Туапсе, округ которого поступил в управление добровольческих властей.
Дальнейшее продвижение наше по Черноморской губернии было приостановлено грузинами, отношение которых к нам резко изменилось. К югу от Туапсе, вместо большевицкого, образовался грузинский фронт; грузинское правительство отозвало ген. Мазниева, как человека общероссийской ориентации, заменив его Кониевым. В районе Туапсе стали сосредоточиваться передовые грузинские силы, по преимуществу «народной гвардии» (до 3 тысяч при 18 орудиях); на побережье у Сочи, Дагомыса и Адлера грузины стали спешно возводить укрепления фронтом на север, причем в последних двух пунктах высадился небольшой немецкий десант. Создавалась угроза Новороссийску.
В это время наладилось уже сообщение между Новороссийском и южными портами, и из Грузии хлынули к нам вместе с волною беженцев и волнующие вести о проявлениях грузинского шовинизма… Из Сочи и Сухума шли мольбы об избавлении края от грузин.
Между тем, грузинское правительство в ответ на приглашение ген. Алексеева командировало в Екатеринодар в качестве своего представителя — Гегечкори, совместно с ген. Мазниевым.
Обстановка, сопровождавшая начало наших сношений, имевших впоследствии столь важное значение для обеих сторон, не свидетельствовала об искренности грузин и не предвещала ничего доброго. Проездом в Екатеринодар Гегечкори остановился в Сочи, где при его участии состоялся ряд митингов, организованных социалистическим блоком. На них послышались речи «высокого гостя» и других ораторов, дышавшие враждой к Добровольческой армии, и клятвы, что она войдет в Сочинский округ только «через трупы грузинских красногвардейцев»…
12 и 13 сентября состоялось совещание между Добровольческим командованием, кубанским правительством и грузинскими представителями[438].
Ген. Алексеев был тяжело болен и с большим трудом поднимался в эти дни с постели, чтобы вести заседание. Последний раз перед смертью он участвовал в государственной работе.
Открыл он заседание приветствием «дружественной и самостоятельной Грузии» и заверением, что «с нашей стороны никаких поползновений на самостоятельность Грузии не будет. Но, дав такое обеспечение от имени Добровольческой армии и кубанского правительства, мы должны ожидать равноценного отношения со стороны грузинского правительства к нам»…
Затем с большою горечью, словами резкими, не облеченными в дипломатические формы, он нарисовал картину тяжелого и унизительного положения русских людей на территории Грузии, расхищения русского государственного достояния, вторжения и оккупации грузинами, совместно с немцами, Черноморской губернии…
В его речи, дополненной потом в порядке обмена мнений, намечены были следующие главные вопросы:
- Отношение Грузии к большевикам, к Добровольческой армии и к немцам.
- Отношение к русскому населению на территории, занятой грузинами.
- Вопрос о наших правах на часть русского государственного имущества и в частности военных запасов бывшего Кавказского фронта.
- Вопрос о гарантиях, чтобы при товарообмене русский хлеб шел действительно в Грузию, а не в Германию.
- Вопрос о границах и об очищении грузинами Сочинского округа.
«Борьба с большевиками — это вопрос нашей жизни и смерти» — сказал Гегечкори… Категоричность этого заявления была, впрочем, тотчас же ослаблена пояснением, что задача эта ставится лишь «на Черноморском побережье», и окончательно поблекла после повторных заявлений Гегечкори: «они (большевики) говорят, что мы находимся в тесном союзе с Добровольческой армией. В действительности же ни в каком союзе (с ней) мы не состоим, а выполняем одну общую работу — борьбу с большевиками. Представлять же нашу работу, носящую случайный характер, в смысле связанности с Добровольческой армией — нельзя»…
Итак, для выполнения общерусской задачи — в Грузии союзника мы не найдем. Печально, но по крайней мере ясно.
На вопрос, что означает совместное вторжение грузин и немцев в Черноморскую губернию и «не участвует ли Грузия в союзе с немцами и большевиками в комбинации окружения Добровольческой армии»[439], Гегечкори категорически отверг подобное предположение: «…мы оберегаем свою независимую республику и если немцы начнут (!) вмешиваться в наши внутренние дела, то правительство, с которым мы работаем, уйдет»…
Факт притеснения русских в Грузии Гегечкори отвергал. Быч также выражал сомнение по этому поводу, предлагая «с большою осторожностью относиться к этим сведениям», и утверждал, что кубанцы, возвращающиеся из Грузии, «не жаловались на скверные к себе отношения». Совещание приняло предложение обследовать вопрос этот на месте смешанной комиссией. Относительно государственного имущества и запасов бывшего Кавказского фронта, захваченных грузинами, Гегечкори заявил, что «этот вопрос должен быть разрешен на более авторитетном собрании, на котором будут представители всей России, а не отдельных ее частей». Его поддержал всецело Быч, заявивший, что сейчас кубанское правительство претензий не предъявляет, а «переносит это на более компетентные органы; но частные соглашения по этому предмету заключать будет». Эти «частные соглашения», в отношении боевого имущества в особенности, вызывали, однако, у нас серьезные опасения: в борьбе против советской власти восставших терских казаков и осетин, которым удалось на время овладеть Владикавказом[440], грузины приняли более чем странное участие… По крайней мере, заседавший во Владикавказе большевицкий «4-й съезд трудовых народов» так информировал местные совдепы: «слухи о том, что грузины подступили к Владикавказу, неверны. Наоборот, грузинское правительство отпустило нам миллион патронов» [441]…
Гегечкори подтвердил факт закупки и вывоза грузинского хлеба немцами, а гарантию того, что такая же участь не постигнет русский хлеб, он видел в том, что хлеб будет поступать в распоряжение правительства. Это положение резюмировал кратко один из участников совещания: грузинский хлеб — немцам, а русский взамен — грузинам…
Все эти вопросы, однако, могли быть в конце концов разрешены удовлетворительно. Перед совещанием встал основной принципиальный вопрос, который являлся по выражению ген. Алексеева «камнем преткновения, не давал возможности приступить к обсуждению других, с которым мы всегда будем сталкиваться»… Отношение к нему должно было служить показателем искренности и миролюбия грузинского правительства. Мы требовали возвращения к Черноморской губернии Сочинского округа[442], на который ни по историческим, ни по этнографическим мотивам Грузия не имела никаких прав. Округ, в котором из 50 селений — 36 русских, 13 со смешанным пришлым населением и только одно грузинское; в котором грузин всего 10,8%[443]; который миллионами русских народных денег обращен был из дикого пустыря в цветущую, культурную здравницу. Был поднят вопрос и относительно Абхазии, насильственно присоединенной к Грузии, но никаких требований в отношении ее предъявлено не было.
Гегечкори от имени грузинского правительства заявил категорически, что Сочинский округ не может быть оставлен Грузией из-за опасений насилий со стороны большевиков над грузинами, которых там якобы 22%… Мы возражали, что большевиков уже нет на побережье, что силы Добровольческой армии достаточно велики, чтобы охранить округ, что нельзя таким односторонним актом — волею грузинского правительства — отнимать русское достояние только потому, что некому было заступиться за него…
Спор принял страстный характер.
Гегечкори отрицал за Добровольческой армией даже право защиты русских интересов.. «На каком основании Добровольческая армия выступает защитником этого населения?… Ни вы, ни мы (?) не имеем права решать судьбу каких бы то ни было округов, так как вы представляете не Российское государство, каковое только и могло бы претендовать на это… Ведь Добровольческая армия — организация частная… При настоящем положении вещей Сочинский округ должен войти в состав Грузии»… Ему возражали, что раз Грузия считает себя независимой республикой, то пусть же не вмешивается в чужие, русские дела и предоставит нам самим судить о них, о том, «частная» ли организация Добровольческая армия или государственная; пусть предоставит и Абхазии иметь суждение о своей судьбе…
Нас неприятно поразила уклончивая роль кубанского представителя Быча, который, как впоследствии оказалось, вошел тогда же в тайное соглашение с Гегечкори… Позднее, 11 ноября, Быч поведал на заседании рады, что грузины не страшны Кубани, что они заявили о намерении передать ей Сочинский округ по соглашению с кубанским правительством и что между Кубанью и Грузией поэтому никаких недоразумений нет…
«Великая Кубань» и «Великая Грузия» нашли общий язык за счет интересов «Великой России».
Эти пожелания Быча не нашли, однако, поддержки в революционной демократии. «Сочинский объединенный совет социалистических партий» решил, что «хотя округ экономически тяготеет к Кубанской области, но присоединение его к Кубани расширило бы сферу влияния военной диктатуры», и поэтому постановил, чтобы: 1) «грузинское правительство немедленно особым декретом оформило временное присоединение Сочинского округа к республике и 2) одновременно установило правильный товарообмен с Кубанскою областью для обеспечения населения округа хлебом и другими продуктами первой необходимости»[444].
Итак, «свободы» — грузинские, а хлеб — русский.
Гегечкори в последнем слове своем после горячих дебатов повторил:
— Наше заявление остается в силе. Мы настаиваем на временном оставлении Сочинского округа в пределах Грузинской республики.
Он сказал «временном», отказавшись разъяснить существо этого понятия. И было свидетельство его, равно как и тайные обещания Бычу, лживы. Ибо на карте, где грузинская республика обозначила свои «исторические границы», которые ее парижская делегация должна была отстаивать перед мирной конференцией, в составе «Великой Грузии» показан был и Сочинский округ до Туапсе.
Генерал Алексеев высказал сожаление, что нетерпимость грузин не позволяет продолжать переговоры, и закрыл заседание.
— Должно же быть чувство справедливости, чувство меры…
Ввиду несостоявшегося соглашения, я, не предпринимая никаких враждебных в отношении Грузии действий, закрыл однако границу для пропуска через нее грузов. Войска наши остановились южнее Туапсе. Во всей грузинской прессе, особенно официозной, началась безудержная травля Добровольческой армии, «мобилизующей свои силы на Кубани для объединения с силами открытой монархической реставрации, для беспощадной борьбы с демократией»[445]… Травля русского народа, для которого на страницах социалистических газет находились такие эпитеты, как «проклятый судьбою»…
Политика грузинского правительства была настолько непонятна, что вызвала на совещании вопрос:
— Не связаны ли вы в вашем решении кем-либо?.. (Германией).
Гегечкори ответил:
— Мы связаны только своим собственным решением.
Действительно, уйдут немцы, придут англичане, но отношение к России не изменится. Грузия не откажется также от захвата русской земли, не облечет его даже в какие-либо псевдо-юридические формы, а заявит откровенно: Сочинский округ нам нужен как буфер между Россией и Абхазией, «Гагринские ворота» — как обороноспособный рубеж против наступления «какой-либо армии» с севера»[446].
Был еще один мотив, обольщавший не раз всех могильщиков великодержавной России…
Официоз грузинского правительства, с.-д. газета «Борьба» доказывала в то время, что во всех случаях и при всех комбинациях дело восстановления России осуждено на полную неудачу и провал; даже в том случае, если сбудется лучшая перспектива, и «союзная демократия» построит свою попытку «на связь с (русской) демократией, Учредительным собранием, Уфой»…
* * *
Так начались наши отношения с Грузией, чреватые последствиями и вызвавшие легенды о нетерпимости добровольческой политики, оттолкнувшей будто бы от себя Грузию — «естественного союзника» нашего в борьбе с большевиками…
Время срывает покровы с людей и событий, разрушает легенды.
В 21 году, когда окончилось самостоятельное существование Грузии, Церетели, взывая к «пролетариату всего мира», чтобы он «заклеймил подобный акт империализма» советов, оправдывался против обвинения в посягательстве на советскую власть[447]:
«…Грузия всегда была противницей всякого вмешательства во внутренние русские дела. Она никогда не участвовала в политических выступлениях, имевших характер такого вмешательства. Она наотрез отказалась сотрудничать с ген. Деникиным в то время, когда Добровольческая армия была всего более могущественна, и когда она искала союза с Грузией, угрожая ей войной в случае отказа»…
Враги Добровольческой армии — они не сознавали, что, подрывая ее бытие, губят этим и свой народ.
Глава XXXIV. События на Дону осенью 1918 года: положение на фронте; взаимоотношения с Добровольческой армией; проект Доно-Кавказского союза; Донской Круг
Продолжалась борьба с большевиками и на Дону.
В начале августа против 54 тысяч донцов[448] советская власть имела вначале 40, потом 66½ тысяч штыков и сабель. Донская армия достигла почти всех рубежей войска на севере, западе и юге; только на востоке в Сальских степях большевики владели еще небольшой частью донской территории. Но административные рубежи области не имели никакого стратегического значения и не были обороноспособны. Необходимо было поэтому продвинуться к рубежам стратегическим, заняв важнейшие узлы дорог. Между тем, казаки не желали продвигаться дальше границ своей области — «нам чужого не надо» — рассчитывая, что большевики удовлетворятся такой их «лояльностью». Заблуждение — невзирая на неоднократные кровавые уроки, прочно владевшее казачеством и поддерживаемое большевицкой пропагандой: «долой войну, мы вас не тронем»… Пришлось в стратегию вмешаться Кругу[449], который в особом указе от 18 августа повелел донскому войску «для наилучшего обеспечения наших границ… выдвинуться за пределы области, заняв города Царицын, Камышин, Балашов, Новохоперск и Калач в районах Саратовской и Воронежской губерний».
Но под влиянием настроений фронта уже через месяц поколебалась и твердость Круга, найдя отражение в закрытом заседании 18 сентября.
Одно из окружных совещаний внесло заявление: «казаки на фронте ждут мира или поддержки. Всякое замедление поведет к гибели казачества», а потому совещание задает вопрос: 1) на какую и когда поддержку можно рассчитывать и 2) возможно ли добиться путем переговоров прекращения гражданской войны»…
Атаман ответил, что дипломатические переговоры с советской властью ведутся через дружественную Украйну, и обещано содействие германского командования… Что помогут добровольцы после освобождения Кубани… Что «ни о какой гибели речи быть не может, казачество накануне победы»… Но, «считаясь с усталостью казаков на фронте».., на севере приказано прекратить наступление… Войска отойдут за укрепленную линию («с проволочными заграждениями») Богучар–Калач–Кантемировка, которую займет («русская») «Южная армия»… Так же будет устроено на северо-востоке… Словом, «мы переходим к обороне, и она будет вестись главным образом артиллерией, пулеметами и ружейными батареями. Войска перейдут почти к караульной службе»[450]…
Такими иллюзиями, стоявшими в полном противоречии со стратегией, психологией и практикой гражданской войны и передающими всю инициативу в руки противника, приходилось донским генералам успокаивать утомленные нервы представителей на Круге и воинов на фронте. В этом отношении положение мое было неизмеримо легче, чем атамана: Добровольческая армия, по крайней мере основные ее части, шла беспрекословно туда, куда я ее вел.
Всю осень, тем не менее, на Донском фронте продолжались бои, временами с большим напряжением. На севере донцы овладели Городами Калачом и Павловском. В половине сентября большевики крупными силами перешли там в контрнаступление от ст. Таловой, но были разбиты ген. Гусельщиковым. Серьезные недоразумения между «главкомом» Подвойским и одним из видных красных начальников — Сиверсом подорвали положение Подвойского и повели к прекращению задуманной здесь наступательной операции. В начале августа большевики повели наступление и от Царицына и оттеснили ген. Мамонтова за Дон. Но подкрепленный крепкими частями — пластунской бригадой и конной дивизией из состава молодой армии, в сентябре Мамонтов вновь подошел к самому Царицыну; в начале октября царицынская «тройка» (Сталин–Минин–Ворошилов) посылала в центр отчаянные телеграммы, считая положение города безнадежным… Их выручило, однако, прибытие из Ставропольского района «стальной дивизии» Жлобы. Жлоба, много раз терпевший неудачи в боях с добровольцами и не ладивший с Северо-кавказским командованием, бросил тайно фронт и пошел к Царицыну. «Ревоенсовет» «за преступное, самочинное, губительное для дела революции оголение фронта» объявил Жлобу «вне закона», причем «каждый честный гражданин советской республики обязан (был) его расстрелять без промедления»[451]… Но роль, сыгранная Жлобой под Царицыном, очевидно, примирила с ним советскую власть, так как имя его еще не раз потом встречалось в оперативных сводках. Под угрозой охвата своего правого фланга дивизией Жлобы донцы вновь принуждены были отойти к Дону.
В то время, как на фронте Дона шла борьба с перемежающимися приступами то высокого подъема, то ослабления воли к сопротивлению, на Южном фронте Красной армии положение было многим хуже. Целый ряд военных мятежей, отказов от исполнения боевых приказаний, крупных ссор между красными начальниками знаменуют этот период операций советских войск, не блещущий боевым вдохновением. С огромным упорством большевицкое командование стягивало, однако, на Дон новые войска за счет Украинского, «внутреннего» и даже Восточного фронтов. В конце октября, ко времени падения Германии, в районе Поворино–Балашов сосредоточился сильный кулак из войск 9-й армии Егорова, побудивший донское командование ослабить напряжение в Царицынском и Воронежском направлениях и стягивать силы к северо-востоку области.
Поздняя осень и зима 18–19 года принесут с собою новые кровопролитные сражения, потребуют от Донского войска громадного напряжения сил и новых жертв…
* * *
Отношения между добровольческим и донским командованиями оставались по-прежнему весьма тягостными. Они проявлялись в повседневной жизни на каждом шагу и вносили нервирующий элемент в текущую работу. Точек же соприкосновения в этой, по существу общей, работе было слишком много.
Продолжалось и расхождение политическое.
В последних числах июля Кубанский атаман прислал мне поступившую к нему от ген. Краснова для подписания декларацию Доно-Кавказского союза.
Текст ее гласил:
«Под тяжестью ударов судьбы, обрушившихся на нашу Родину, в видах сохранения своей независимости, благополучия и достояния и общности интересов близких по духу народов, населяющих Юго-восток, в октябре 1917 года мы провозгласили себя Юго-восточным Союзом, пребывая в уверенности, что общими усилиями Союз этот сумеет противостоять наступающим темным силам, поправшим все Божеские и человеческие законы.
Начавшаяся борьба с большевиками дала временный успех последним.
Ныне Господь благословляет успехом наше оружие: край наш ожил. Однако, имея в виду, что для похода в наши степи и горы готовятся новые полчища и в видах государственной необходимости, Атаманы: Всевеликого Войска Донского, Войска Кубанского, Войска Астраханского, Войска Терского и Председатель Союза Горцев Северного Кавказа, беря на себя всю полноту Верховной Государственной Власти, настоящим провозглашают суверенным Государством Доно-Кавказский Союз.
Объявляя об этом, просим Вас, Милостивый Государь, передать Вашему Правительству нижеследующее:
- Доно-Кавказский Союз состоит из самостоятельно управляемых государств: Всевеликого Войска Донского, Кубанского Войска, Астраханского Войска и Союза Горцев Северного Кавказа и Дагестана, соединенных в одно государство на началах федерации.
- Каждое из государств, составляющих Доно-Кавказский Союз, управляется во внутренних делах своих согласно с местными законами на началах полной автономии.
- Законы Доно-Кавказского Союза разделяются на общие для всего Союза и местные, каковые каждое государство имеет свои.
- Доно-Кавказский Союз имеет свой флаг, свою печать и свой гимн.
- Во главе Доно-Кавказского Союза стоит Верховный Совет: из Атаманов (или их заместителей) Донского, Кубанского, Терского, Астраханского и главы Союза Горцев Северного Кавказа и Дагестана, избирающих из своей среды Председателя, который и приводит в исполнение постановления Верховного Совета.
- При Верховном Совете периодически собирается не менее раза в год Сейм представителей от населения государств, входящих в Доно-Кавказский Союз.
- Сейм собирается распоряжением Верховного Совета, объявленным через его Председателя, и вырабатывает общегосударственные законы, утверждаемые Верховным Советом.
- Доно-Кавказский Союз имеет общую армию и флот. Командующий всеми вооруженными силами Союза назначается Верховным Советом.
- Доно-Кавказский Союз имеет следующих общих министров, назначаемых Верховным Советом:
Иностранных дел
Военного и Морского Финансов
Торговли и Промышленности
Путей Сообщения
Почт и Телеграфа
Государственного Контролера и
Государственного Секретаря.
- Временной резиденцией Правительства Доно-Кавказского Союза объявляется город Новочеркасск.
- Доно-Кавказский Союз имеет общие: монетную систему, кредитные билеты, почтовые и гербовые марки, общие тарифы: железнодорожные, таможенные и портовые, а также почтовые и телеграфные.
- Доно-Кавказский Союз, провозглашая себя самостоятельной Державой, объявляет вместе с тем, что он находится в состоянии нейтралитета и, не будучи в состоянии войны с какой-либо Державой мира, борется лишь с большевистскими войсками, находящимися на его территории.
- Доно-Кавказский Союз намеревается и впредь поддерживать мирное отношение со всеми Державами и не допускать вторжения на свою территорию никаких войск, хотя бы для этого пришлось отстаивать интересы свои и своих граждан вооруженной силой.
- Доно-Кавказский Союз настоящим изъявляет свое намерение вступить в торговые и иные сношения с Державами, которые признают его державные права.
- Границы Доно-Кавказского Союза очерчиваются на особой карте, причем в состав территории Союза входят Ставропольская и Черноморская губернии, Сухумский и Закатальский округа и, по стратегическим соображениям, южная часть Воронежской губернии со станцией Лиски и городом Воронежом, а также часть Саратовской губернии с городами Камышином и Царицыном и колония Сарепта.
- Доно-Кавказский Союз выражает уверенность, что нарождение его будет благоприятно принято всеми Державами, заинтересованными в его существовании, и что они не замедлят прислать своих представителей, равно как и Союз не замедлит послать свои дипломатические Миссии к признавшим его Державам.
Некоторые положения этого акта являлись совершенно несовместимыми с идеологией Добровольческой армии. Создание «суверенного государства» в корне противоречило идее Единой России… Создание вооруженных сил «Союза», имеющих задачей «борьбу с большевицкими войсками» лишь «на его территории», лишало всякого смысла жертвы добровольцев, приносимые во имя спасения России. Ген. Алексеев, я, тысячи, тысячи офицеров, поступавших сознательно в армию, не могли относиться к подобным актам только как к «политическим трюкам» или «клочкам бумаги»: практика новообразований с явным превалированием чисто областных интересов, до стремления к примирению с большевиками включительно, не вызывала в этом отношении сомнений. Добровольческой армии предстояло или стать орудием сомнительной областной политики, творимой Радой, Кругом и прежде всего изменчивым настроением казачества, или оставить территорию «союза», распростившись с надеждами на прочную политическую и военную базу, создание которой потребовало стольких усилий и жертв. Вернее — второе. Ибо первое было психологически невозможно ни для руководителей, ни для массы «русских» добровольцев.
Исходя из этих положений, я обратился с письмом к председателю донского правительства, ген. Богаевскому. Привожу текст письма со сделанными на нем сбоку пометками атамана Краснова.
Милостивый Государь
Африкан Петрович.
Образование в октябре 1917 года Юго-Восточного Союза в действительности осталось только на бумаге.
Успехи большевиков, развал казачества на Дону и Кубани, а также возникшая борьба на Тереке — не дали возможности провести в жизнь образование Юго-Восточного Союза.
Ныне обстоятельства вновь позволяют вернуться к мысли создать прочный и сильный Союз, могущий предотвратить новые испытания.
Изменению обстановки Дон и Кубань в значительной степени обязаны Добровольческой армии, при помощи которой изгоняются большевики и уничтожается власть черни.
Добровольческая армия, имеющая задачей возрождение единой великой России, кровью своей сроднилась с Доном и Кубанью и далее, перед выполнением своей основной, исторической задачи, она поможет и Тереку освободиться от большевиков. [Пометка атамана Краснова: «Армия вне политики»].
При образовании Юго-Восточного Союза в октябре 1917 года никто не имел никаких сепаратных стремлений, и авторы идеи Союза считали, что образование Союза необходимо лишь временно, до восстановления единой России.
Составленная же ныне правительственная декларация Доно-Кавказского Союза вызывает самые серьезные возражения:
- Прежде всего создается впечатление, что идет речь о создании постоянной федеративной Державы, вполне самостоятельной, на подобие «самостийной» Украйны. [ Пометка атамана Краснова: «Это не верно»].
Авторы этой декларации как бы думали об узаконении расчленения России, а не об ее объединении.
- Совершенно игнорируется Добровольческая армия, которая помогла Дону и Кубани в борьбе с большевиками.
Даже больше: пункт XIII дает право думать, что и Добровольческая армия, находящаяся на территории Союза, может быть признана враждебной. [Пометка атамана Краснова: «Причем тут Добровольческая армия»].
- Включение в состав Доно-Кавказского Союза Ставропольской губернии, в которой уже введено управление распоряжением командующего Добровольческой армией, без особого представителя от губернии является недопустимым.
Эта губерния может быть включена в Союз лишь как полноправный член Союза, так как и по размерам, и по значению она является значительной, и интересы ее и Добровольческой армии должны быть вполне обеспечены особым представителем ее в Верховном Совете.
- Пункт IV устанавливает особый флаг Державы, в то время, когда вряд ли допустимо иметь какой-либо другой флаг помимо родного русского. [Пометка атамана Краснова: «Согласен»].
- Декларация не может включать в себе такие пункты, как XII, XIII и XIV, которые связывают дальнейшую политику Державы, ведение каковой возлагается на Верховный Совет.
- Пункт XV особенно подчеркивает стремление к «самостийности» и к дальнейшему расчленению России. [Пометка атамана Краснова: «Ничего подобного»].
Вследствие всего изложенного, не возражая против пользы образования Доно-Кавказского Союза, считаю необходимым:
- Определенно указать, что Союз образуется временно — впредь до воссоздания России. [Пометка атамана Краснова: «Само собой разумеется»].
- Включить в состав проектируемого Верховного Совета представителя Добровольческой армии и военного генерал-губернатора Ставропольской губернии. [Пометка атамана Краснова: «Можно»].
- Командующим всеми вооруженными силами Союза назначить командующего Добровольческой армией. [Пометка атамана Краснова: «Никогда»].
- Окончательная редакция декларации должна быть выработана после созыва большого крута на Дону и рады на Кубани, при участии представителя Добровольческой армии, игнорировать которую недопустимо. [Пометка атамана Краснова: «Совершенно верно, но причем тут Добровольческая армия»].
Примите уверение в совершенном уважении и преданности
Деникин
Мои положения имели целью: вхождением в «Верховный Совет» представителя Добровольческой армии, которым мыслилось такое авторитетное лицо, как ген. Алексеев, создать гарантии общерусского направления политики «союза»; путем объединения вооруженных сил в лице командующего Добровольческой армией — направить вооруженную борьбу в русло общегосударственных задач. В ответ мы получили игнорирование участия армии, как государственно-правового фактора в создании «конституции» союза и полный отказ от объединения командования. Так как кубанское правительство в свою очередь не сочувствовало проекту по другим мотивам — для него опасным и неприемлемым было принятие на себя «всей полноты верховной власти» атаманами — то и на этот раз «Союз» остался только одним из многих бумажных проектов.
Тем не менее, необходимость объединения сказывалась во всех областях жизни все с большею настойчивостью. Финансовый вопрос, например, запутывался до чрезвычайности. Донская область имела свою экспедицию заготовления денежных знаков, которыми пользовались в незначительной мере Кубань и Добровольческая армия. Необходимо было или объединить эмиссию или выпускать каждому свои знаки, к чему стремилась Кубань и что, обесценив и донские, и наши знаки, создало бы полный хаос в денежном обороте небольшой освобожденной территории.
Ген. Алексеев обратился к Донскому и Кубанскому атаманам с приглашением прислать своих представителей в комиссию ген. Лукомского для разрешения при участии известных русских финансовых деятелей финансовой проблеммы вообще и в частности вопроса об единой монетной системе. К нашему удивлению ген. Краснов ответил не только согласием, но и более широким контрпредложением:
«Я бы пошел дальше — писал он. — Полное объединение Дона и Кубани, связанных общими интересами, послужило бы к началу воссоздания единой, неделимой России… Настало время создавать общих министров финансов, путей сообщения, продовольствия, юстиции; а впоследствии, когда яснее станет общая политика и менее разбросан фронт, — то и министра иностранных дел, военного, морского… (и т. д.) полагал бы иметь общих по соглашению между Вашим Высокопревосходительством, Атаманом Кубанского войска и мною»[452]…
Это письмо произвело на ген. Алексеева впечатление полной перемены курса донской политики; он приказал размножить и спешно разослать его мне, Лукомскому, в комиссию.
Опять — «клочок бумаги», может быть, предвыборный прием… — через неделю предстояли перевыборы донского атамана… Оказалось, что донские представители, собравшиеся через несколько дней в финансовой комиссии, вовсе не желали отказываться от исключительного эмиссионного права Дона и не приняли никакого, даже принципиального решения под предлогом, что этот вопрос подлежит компетенции Круга и Рады…
На собиравшийся Донской Круг вообще возлагалось много надежд и ожиданий не одним только Доном. Круг должен был указать общее направление политики для старшего и наиболее сильного численно казачьего войска, дававшего тон другим.
Не малый интерес представлял поэтому и атаманский вопрос. Оппозиция атаману была сильна интеллектуально и работала нередко приемами, подрывавшими идею донской власти. Тем более, что политическая борьба переносилась на фронт: в силу почти поголовного участия мужского населения в войне, закон предоставлял выборные права частям. Начались митинги, агитация, разгорелись политические страсти, в особенности на окружных совещаниях, отражаясь затем брожением в войсках на фронте. Атаман энергично расправлялся с оппозицией. Более видные представители ее тем или другим путем были обезврежены. Так, бывший походный атаман ген. Попов устранен от деятельности; генералы Семилетов, Сидорин, полк. Гущин обесчещены атаманским приказом и оставили службу; к.-д. H. Е. Парамонов арестован немцами и выслан на Украйну. Выслан был также Красновым с Дона представитель «российской оппозиции» М. В. Родзянко в качестве… «гражданина Демократической советской республики»… Любили на Дону красные словца. Сам кандидат оппозиции на пост донского атамана — пользовавшийся репутацией человека либеральных взглядов, противника немцев и друга Добровольческой армии — ген. А. Богаевский состоял председателем правительства, и его безупречная лояльность гарантировала атаману, что в этой должности он будет безопаснее, чем на стороне.
Круг собрался 15 августа, и уже самым фактом избрания своим председателем В. А. Харламова — лидера оппозиции — показал, что доверие к атаману не безусловно… Борьба продолжалась и на Круге всевозможными приемами, не раз чисто демагогическими. Атаманские выборы затягивались оппозицией; судьба их долго колебалась и в середине сентября была окончательно разрешена при взаимодействии трех разнородных факторов: давления германцев, лояльности Добровольческого командования и отказа от баллотировки ген. Богаевского.
Еще 4 сентября маиор фон-Кофенгаузен писал ген. Краснову о враждебности к немцам ген. Богаевского и об его, якобы, интригах против атамана: «…Высшее германское командование просит Вас потребовать немедленного выбора атамана которым несомненно будете Вы, Ваше Превосходительство (судя по всему тому, что нам известно)… Отсрочка выборов атамана дает возможность агитировать враждебным немцам элементам и я боюсь, что высшее командование сделает свои выводы и прекратит снабжение оружием»… В день избрания атамана на совещание президиума и старейшин явился командующий армией ген. Денисов и принес телеграмму, адресованную на его имя майором фон-Кофенгаузеном:
«По поручению высшего германского командования имею честь сообщить Вам следующее: происшедшее за последние дни показывает, что на Круге имеется стремление ограничить власть Атамана. В виду чего предвидится опасность, что будет образовано правительство со слабою властью, которая не сможет в достаточной мере противостоять многочисленным внутренним и внешним врагам Донского Государства.
Так как с другой стороны высшее командование может находиться в хороших отношениях только с таким Государством, которое по конструкции своего правительства даст уверенность быть сильным и защитить свою свободу, оно (высшее германское командование) видит себя вынужденным, до тех пор, пока это обстоятельство является сомнительным, временно воздержаться от всякой поддержки оружием и снарядами. Применение этого решения продолжится до тех пор, пока не будет выбран Атаман, в котором высшее германское командование будет уверено, что он поведет политику Донского Государства в направлении, дружественном Германии, и который будет облечен Кругом полнотою власти, необходимой для настоящего серьезного момента.
Я прошу Ваше Превосходительство сообщить об этом еще сегодня же Его Высокопревосходительству Донскому Атаману, к которому высшее германское командование питает самое полное доверие, а также сообщить г. Председателю Совета Министров ген.-лейт. Богаевскому.
Подписал:
фон-Кофенгаузен, генерального штаба майор».
Денисов, говорится в отчете, прибавил, что «придется совершенно прервать всякие сношения с Добрармией», но «это предложение не встретило сочувствия»[453]…
Добровольческое командование, которое ген. Краснов считал злейшим своим врагом и опорой оппозиции, активного участия в борьбе донцов за атаманский пернач не принимало. В приветственной речи, произнесенной на Круге ген. Лукомским, не было сказано ни слова о наших трениях с атаманом. Лукомский выразил «глубокую уверенность армии в том, что все слухи о каких-то антирусских и сепаратных стремлениях отдельных лиц и групп на Дону являются злостной клеветой»… Он говорил еще об «объединении в общей работе по воссозданию единой Великой России и единой могучей русской армии»… Секретный наказ, данный мною ген. Лукомскому[454], «в вопросе о конструкции власти на Дону при тех исключительных условиях, в коих находится ныне область», требовал придерживаться следующих положений:
«1. Единая твердая власть, не связанная никакими коллегиями, необходима.
- Круг должен обязать будущего атамана к прямому, честному и вполне доброжелательному отношению к Добровольческой армии.
- Раскол среди политических партий на Дону, новые потрясения, подрыв и умаление атаманской власти совершенно не желательны.
Поэтому, если оппозиция не имеет прочной почвы под ногами и сильных кандидатов и считает нужным поддержать кандидатуру ген. Краснова, возражений со стороны Добровольческой армии не будет, при соблюдении пункта 2-го.
- Так как личная политика генерала Краснова совершенно не соответствует позиции, занятой Добровольческой армией, то активной поддержки (например, публичное выступление с соответствующей речью, официозный разговор и т. под.) оказывать отнюдь не следует.
Изложенное в пункте 3-м надлежит сообщить доверительно отдельным видным представителям оппозиции.
- Выделение отдельных частей Добровольческой армии на Царицынский фронт пользы не принесет, а среди разнородных элементов донских ополчений, астраханских организаций — могло бы вызвать чреватые последствия. На Дону остались неиспользованными части новой донской армии; длительность их подготовки значительно больше, чем мобилизованных Добровольческой армии.
Во всяком случае Добровольческая армия, как только справится со своей задачей на Кубани, будет двинута безотлагательно на Царицын и поможет в полной мере Дону. При этом обязательно подчинение действующих на этом фронте донских частей командованию Добровольческой армии.
Незаконченность работы здесь[455] подорвала бы в корне моральное значение Добровольческой армии и привела бы опять к «исходному положению», т. е. окружению всех границ Дона большевиками».
Генерал Алексеев по поводу производства Кругом атамана Краснова в генералы от кавалерии послал ему телеграмму, поздравив в сердечных выражениях с производством, «являющимся достойной оценкой (его) самоотверженных, неусыпных трудов по созданию молодой Донской армии»…
На Кругу, между тем, все более нарастало напряженное настроение… «Генерал Богаевский — докладывал наш представитель в Новочеркасске, допущенный к присутствию во всех заседаниях Круга, даже закрытых, — несомненно пользовался большими симпатиями Круга и, если бы баллотировался, то прошел бы лучше Краснова. Но было ли бы это лучше для Дона, сказать не могу: он слишком мягкий человек и вряд ли ему удалось бы справиться»… Наконец, на заседании 11 сентября вопрос разрешился: ген. Богаевский потребовал слóва и заявил о своем категорическом отказе баллотироваться в атаманы. Он говорил искренно и задушевно о серьезности момента, о недопустимости ломки в направлении государственных дел, неизбежной при избрании нового лица на пост атамана, о внешней политике, которой «Дон прижат к стене»… «Я не хочу мешать счастью Дона, служить препятствием к скорейшему освобождению его… не хочу быть виновником пролития хотя бы одной лишней капли крови казака»…
Атаманом был переизбран ген. Краснов.
В числе вопросов, разрешенных Кругом, было два особой важности; «в тяжкое время напряженной войны казачества за свое существование, за свои права и вольности» Круг, утвердив основные законы, предоставил Донскому атаману «в полном объеме власть управления военного и гражданского и власть законодательства во время отсутствия Круга»[456]… Это была большая победа ген. Краснова. Круг принял также закон «об отчуждении в войсковой земельный фонд всех частновладельческих земель с их недрами и лесами… для удовлетворения малоземельных казаков и коренных крестьян»[457]. Это была победа оппозиции.
Свое отношение к внешней политике атамана Круг высказал в словах сдержанных и осторожных: «одобрить общее в отношении центральных держав направление политики правительства, основанной на принципе взаимного и равноправного удовлетворения обеих сторон в практических вопросах, выдвигаемых жизнью, без вовлечения Дона в борьбу ни за, ни против Германии»… К вопросу об «Юго-восточном Союзе» Круг отнесся довольно равнодушно, но признал все же принципиально необходимость его восстановления и пересмотр союзного договора. Вместе с тем Круг высказал Добровольческой армии «горячую любовь и искреннее желание не словами, а делом служить (ей) в (ее) тяжелой святой работе»[458]…
Хотя, таким образом, конкретно взаимоотношения между Донским атаманом и Добровольческим командованием установлены не были, но «общее отношение Круга к Добровольческой армии — как доносил наш представитель — было в высшей степени благожелательное. Это много раз высказывалось… А в частных беседах многие и до сего времени продолжают смотреть на армию, как на спасителей Дона, а потом и России… В составе правительства (также) очень много сторонников армии». «Теперь — резюмировал докладчик свои впечатления — с громадными изменениями внешней обстановки, и атаман Краснов должен изменить свой курс в отношении Добровольческой армии».
Глава XXXV. Вопрос о всероссийской власти. Отношение к нему русской общественности и политических групп. Позиция вел. князя Николая Николаевича. Уфимская директория. Взаимоотношения командования Добровольческой армии с директорией
Вопрос о всероссийской власти занимал все политические группировки. Как существо, так и пути пришествия власти представлялись в крайне разнообразных формах.
Правый Центр, как мы знаем, ставил своей задачей восстановление монархии и династии, не останавливаясь, однако, окончательно на личности венценосца. Путь к разрешению этой задачи Центр видел в следующем[459]:
В результате вооруженной борьбы с большевиками и местных восстаний, во главе войск и гражданского управления силою вещей станут военачальники в ранге «главноначальствующих». Эти лица «не должны задаваться целями государственного строительства»… Единственная их задача — «это очищение подчиненной им местности от остатков советской власти, прекращение гражданской войны и классовой борьбы, недопущение к власти или участию в управлении социалистических элементов, хотя бы самого правого толка, водворение порядка и восстановление деятельности железных дорог, телефонов и телеграфов». Вначале «главноначальствующие естественно будут самостоятельными, засим их деятельность должна быть объединена: «в местностях, находящихся на пути следования с юга Добровольческих армий, объединяющим лицом явится Главнокомандующий этими армиями… Северные же области, по мере восстановления связи, должны быть подчинены главноначальствующему г. Москвы и Московской губернии»… После этого появляется «Правитель Государства и Совет Министров», задача которых в первое «переходное время» сводится «главным образом к расчистке пути для проведения в будущем органических реформ»…
Правый Центр понемногу распадался и терял всякое политическое значение. Значительная часть его членов оставила советскую Россию и переехала в Киев, где вошла в состав местных организаций и в большом числе в образовавшееся там «Совещание членов Государственной Думы и Государственного Совета». Эта новая организация явилась, таким образом, духовной преемницей Правого Центра, воспринявшей и его германофильство, и политическую идеологию, умерявшуюся, впрочем, до октября (переизбрание президиума) участием Милюкова и его единомышленников. К осени, сообразно с новыми факторами — надвигавшимся кризисом Германии и создавшейся в процессе борьбы с большевизмом новой «политической картой России», пути к созданию конституционной монархии, которая признавалась Совещанием наилучшей формой правления, наметились уже иные[460]: 1) «объединение под одним знаменем как Добровольческой армии, так и всех отдельных… правительств в целях создания одной общей мощной военной силы, имеющей целью свержение большевиков и образование взамен их русской государственной власти (при условии предоставления отдельным областям широкой автономии); и 2) создание объединенного органа сильных общественных групп, состоящего как из представителей учреждений, отражающих зрелую политическую мысль страны, каковыми являются бывшие законодательные палаты, земские и городские самооуправления дореволюционного избрания, так и представителей важнейших отраслей народного труда, как то землевладения и земледелия, промышленности, торговли, финансов»…
Партия соц.-рев., как мы видели, верховной властью считала Комитет членов Учредительного собрания, самарский эмбрион которого посылал своих «наместников» — комиссаров на места.
Пути «Национального Центра» и «Союза Возрождения» по началу сошлись. Обе организации считали необходимым за пределами Восточного фронта впредь до созыва нового Учредительного собрания организовать всероссийское правительство — по существу диктатуру, по форме трехчленную директорию. В отношении персональных назначений стороны до конца не договорились: Национальный Центр настаивал на «возглавлении» директории верховным руководителем Добровольческой армии ген. Алексеевым; Союз Возрождения обходил этот вопрос уклончиво… Для переговоров с новообразованиями и окончательного решения вопроса обе стороны избрали из своей среды по три члена и командировали их на Север, Юг, за Волгу и в Сибирь.
В переходный период борьбы за воссоздание государства директория по мысли Союза Возрождения «должна была опираться на восстанавливаемые ею в районе ее действий демократические органы местного самоуправления».
* * *
Все правые группировки, выдвигая идею о временном «Правителе Государства», диктаторе, Верховном главнокомандующем, с этими понятиями связывали имя вел. кн. Николая Николаевича.
Вел. кн. жил тогда в имении своего брата вел. кн. Петра Николаевича — «Дюльбере». Жил крайне замкнуто, не принимая многочисленных представителей политических партий, искавших свидания с ним. Вместе с тем он резко отклонил всякое общение с немецкими властями оккупированного Крыма.
В Добровольческой армии идея привлечения вел. кн. к активной деятельности впервые проявилась реально в конце мая 1918 года. В Мечетинскую станицу, где стояла тогда армия, приехали два офицера и от имени якобы некой тайной организации, не имевшей, конечно, никакой связи с великим князем, начали вербовать в нее офицеров. От поступающего требовалось только признание верховного главенства Николая Николаевича и выступление, когда им будет указано. Новому члену организации выдавался картонный знак с номером и инициалами великого князя.
Узнав об этом, я приказал отыскать этих офицеров и представить их мне. Оказалось, что они выехали в Егорлыкскую, в дивизию Дроздовского. Запросил Дроздовского, который ответил, что офицеры уехали в Ростов. Тем дело и кончилось.
Тогда же, в конце июня, на Дону появился кн. П.М. Волконский. После беседы с ним ген. Алексеев писал мне из Новочеркасска[461]:
«На днях я беседовал с кн. Волконским, человеком, видимо, близким и приближенным вел. князю. По его словам Николай Николаевич никакого желания идти на арену политической жизни не имеет, но его угнетает мысль, что он посылкой своей телеграммы о необходимости отречения способствовал гибели монархии, разрушению России и хотел бы, чтобы загладить свой шаг, принять участие в боевой работе. Это может привести к присоединению к нам вел. князя, если не отклонить приезда. Время на все имеется»…
В августе кн. Волконский был в Екатеринодаре и виделся вновь с ген. Алексеевым и со мною. Ген. Алексеев со слов кн. Волконского передавал мне, что вел. князь Николай Николаевич выражает неудовольствие, что до сих пор не получает приглашения от командования Добровольческой армии стать во главе движения, тогда как это является желанием всей армии… М. В. был весьма озабочен такой постановкой вопроса, ввиду тех настроений, которые существовали в занятом крае, в казачестве и в особенности на Кубани. Со мною кн. Волконский беседовал об опасности пребывания вел. князя в Крыму и о возможности для него избавиться от немецкой опеки путем тайного переезда на территорию Добровольческой армии; я ответил, что в случае нужды будет оказано всемерное содействие.
Происходило какое-то большое недоразумение.
Я не знаю, что говорил кн. Волконскому ген. Алексеев, но впоследствии к моему удивлению оказалось, что того, кого мы считали «послом Дюльбера», в Дюльбере сочли послом… ген. Алексеева. Кн. Волконский в качестве такового просил приема, но «вел. кн., решивший лично не принимать никого, кто являлся к нему с каким-либо политическим предложением, не сделал исключения и в этом случае». Осведомление произошло через третьих лиц и заключалось в следующем: кн. Волконский от имени ген. Алексеева довел до сведения вел. князя, что «Добровольческая армия мечтает, чтобы в известную минуту он стал во главе ее и что ген. Алексеев запрашивает его принципиального согласия с тем, чтобы оповестить (вел. князя), когда такая минута настанет». Мы получили из авторитетного источника сообщение[462], не заставшее уже в живых М. В. и устанавливавшее, что инициатива переговоров не исходила вовсе от вел. князя, а являлась лишь ответом на предложение, формулированное кн. Волконским; сообщение — свидетельствовавшее о личной незаинтересованности великого князя и о большом политическом такте его. «Великий князь полагает — писали нам — что ему можно будет принять в свое время приглашение Добровольческой армии при условиях, которые аннулировали бы претенциозные заявления кн. Львова о «воле народа»[463]. Для спокойствия его совести нужно было бы, кроме обращения Добровольческой армии, которую он ценит по заслугам, чтобы оно было подкреплено соответствующим, возможно более веским обращением общественности. Великий князь стоит в стороне (от всех политических групп). Если обстоятельства сложатся так, что его личность может послужить делу объединения, он пойдет на это… Он совершенно одинаково, как и Добровольческая армия, оценивает первоочередную задачу, которая состоит не в решении коренных вопросов государственного устройства, а в объединении России и водворении в ней того элементарного порядка и мира, когда народ в состоянии будет сам решать свое устройство. Он говорил, что если бы ему пришлось активно выступить в той или другой форме, то он именно так и понимал бы свою задачу, выполнив которую, отошел бы»…
Еще до получения этого ответа, в начале сентября, в Екатеринодаре распространились упорные слухи, что, уступив многократным просьбам руководителей правых партий, встречавших до той поры категорический отказ, великий князь согласился стать во главе Южной и Астраханской армий. Это сведение, исходившее главным образом из кругов, возглавлявших Южную армию, встревожило ген. Алексеева и екатеринодарских общественных деятелей. За подписью М. Родзянко, В. Шульгина и Н. Львова было послано великому князю письмо, предостерегающее его от этого шага. Одновременно ген. Алексеев, присоединяясь к их освещению политических сторон вопроса, счел нужным «осветить военно-политическую и военную сторону дела»[464]. Он писал великому князю:
«Десять месяцев существует Добровольческая армия в исключительно тяжелых условиях обстановки. На ее глазах развалились Донское и Кубанское казачьи войска, охваченные большевизмом. Мы видели постепенное оздоровление особенно кубанцев, хотя нельзя сказать, что и в настоящую минуту казачье население стало вполне прочным и надежным орудием борьбы с большевизмом. Мы пережили тяжелую минуту опыта, приобрели его дорогой ценою и не имеем права закрывать глаза на этот опыт и его показания.
Мы пережили несколько минут, когда полное иссякновение средств, казалось, ставило предел нашему дальнейшему существованию и деятельности, но Бог и добрые люди шли к нам на помощь и армия нищая, ничего не имевшая, выросла с 400 человек в несколько десятков тысяч, в прочный корпус. Мы являемся учреждением Русско-Государственным, существующим на русские деньги. Помощь, полученная нами от союзников, настолько пока ничтожна, что не может изменить этого основного положения.
Но поставленные в сильную зависимость от казачьих территорий, на которых мы работаем, мы не можем проявлять торопливости в заявлении политических лозунгов, ибо это послужило бы во вред делу. Местное население далеко не готово к восприятию идеи монархии. Болезненный микроб федерации еще бродит среди населения. Вот почему с бесконечною осторожностью и уменьем нужно подходить к постановке каждого нового вопроса.
Между тем, Добровольческая армия является для немецкого командования совершенно нежелательным явлением. Оно три раза пыталось заставить меня войти с ним в непосредственные переговоры. Ни я, ни генерал Деникин не пошли на это в глубоком убеждении, что это внесло бы известный духовный развал в среду наших войск.
Тогда немцы повели работу по другой системе: с одной стороны, в особенности в Киеве, ведется злостная агитация против Добровольческой армии и ее вождей, преимущественно русскими генеральскими руками, с другой стороны, лихорадочно приступают к формированию особых, так называемых монархических армий на немецкие деньги и по немецкой программе. Так нарождалась Астраханская армия; но перехваченная немцами телеграмма князя Тундутова ко мне указала, по-видимому, немцам, что Астраханская армия особого доверия к себе не заслуживает[465]; интерес к этой армии у немцев сразу охладел и, вероятно, новые ассигновки, денежные и материальные, более не последуют.
Но немцы с увлечением ухватились за создание так называемой Южной Добровольческой армии, руководимой нашими аристократическими головами, и так называемой Народной армии в Воронежской губернии, где во главе формирования поставлен полковник Манакин, социал-революционер[466]. На эти формирования не будут жалеть ни денег, ни материальных средств. Во главе Южной армии, а быть может и всех формирований, предположено поставить графа Келлера. При всех высоких качествах этого генерала за ним не хватает выдержки, спокойствия и правильной оценки общей обстановки. В конце августа он был в Екатеринодаре. Двухдневная беседа со мной и ген. Деникиным привела, по-видимому, графа Келлера к некоторым выводам и заключениям, что вопрос не так прост и не допускает скоропалительных решений.
Меня более всего страшит постановка вопроса о денежных средствах. Полагаю, что деньги эти взяты всецело у немцев, но прикрыты фиговым листом, что деньги эти берутся только заимообразно, составляя долг Государства, как будто от этого изменятся взаимоотношения между заимодавцем и принявшим отпущенную сумму. Будет ли это Государственный долг, будет ли это субсидия со стороны Германии, наши деятели немецкой ориентации окончательно закабалят Россию на несколько поколений немцам.
Но еще более тревожит постановка военных и военно-политических задач новыми формированиями. Да, они должны будут вести якобы борьбу с большевиками, но наносить удары и чехо-словакам, а следовательно, и нашей Добровольческой Армии, когда та выйдет на Волгу.
Какое торжество немецкой политики, когда она незаметно направит друг на друга лучшие и наиболее честные элементы Русского народа, когда мы собственными руками будем истреблять друг друга, тогда как немцы в тиши будут помогать большевикам. Деятели Киева и Южной Армии мечтают просить Ваше Императорское Высочество стать во главе этих новых формирований. Я доложил Вам с полной откровенностью возможную обстановку братоубийственной войны, в которой Вы не можете принять участия.
Мы должны для предстоящей борьбы сплотить все разнородные элементы, а не создавать искусственных преград на пути к возрождению России».
Тревога оказалась напрасной. Николай Николаевич оставался твердым в своей «союзнической ориентации» и в своем решении выступить только во имя общенародных интересов и не принимать участия в политической игре партий, строивших свои планы и осуществление своих целей на авторитете его имени. В Екатеринодар он ответил:
— «Будьте покойны».
* * *
Между тем, Сибирь ранее всех перешла от слов к делу и создала государственную власть, которая наименовала себя Всероссийской.
Государственное совещание, собравшееся в сентябре в Уфе, ни в коем случае не могло претендовать на демократичность способа своего образования. Это было представительство политическое — партий (с.-р., c.-д., н.-с., к.-д., «Единства»), территориальное — новообразований фактических (правительства «Комуча», сибирского, Уральского, шести сибирских казачьих войск) и несуществующих (правительств Астраханского казачьего войска, Башкирии, Алаш-Орды, Туркестана), «национального правительства тюрко-татар внутри России»; организаций: съезда членов Всероссийского Учредительного собрания, представителей съезда городов и земств и Союза Возрождения России…
Число членов Государственного совещания было 129. Из них членов б. Учредительного собрания 77 — почти все с.-р.-ы. Члены этой партии входили в состав совещания еще и как представители центрального комитета ее и в замаскированном виде — в качестве представителей экзотических правительств, «Земгора» и — в лице председателя совещания Авксентьева и Аргунова — в качестве делегатов Союза Возрождения.
Совещание резко разделилось на две неравных численно и непримиримых идейно части. Одна группировалась возле Сибирского правительства (казачьи делегаты, несоциалистические представители других организаций, н.-с.-ы); другая — возле Самарского «Комуча».
Совещанию предстояло решить три основных вопроса: о форме верховной власти, о порядке ее ответственности и о личном составе правительства.
Верховной властью левая часть считала Учредительное собрание 18-го года, а до открытия его — Съезд членов Учредительного собрания, перед которым должно быть ответственно Всероссийское правительство. Последнее мыслилось во образе директории, коалиционной по своему составу. Сибирское правительство снабдило своих послов инструкцией, гласившей: «Всероссийская власть должна быть организована по типу директории, в составе не более 5 лиц; политическая ответственность власти возможна только перед будущим полномочным органом правильного волеизъявления народа, и до создания такого органа Всероссийская власть является несменяемой». Казачество шло дальше, требуя единоличной и безответственной диктаторской власти.
Вокруг этих точек зрения шла сильнейшая борьба, грозившая полным разрывом между борющимися сторонами. А военно-политическая обстановка в эти дни становилась, между тем, все более угрожающей. Советския армии овладели Казанью, Симбирском и приближались к Самаре… Началось новое наступление большевиков на фронте Оренбургского и Уральского казачества… Главнокомандующий Сыровой и председатель Национального комитета Павлу требовали скорейшего создания всероссийской власти, угрожая оставлением фронта чехами… В Омске назревал глубокий кризис на почве столкновения и борьбы за власть между Сибирским правительством и с.-р.-овской Сибирской областной думой…
Эти обстоятельства заставили обе стороны пойти на взаимные уступки, с обеих сторон неискренние. И 23 (н. ст.) сентября 18-го года был обнародован «акт об образовании верховной власти», носящий явные следы сильного давления с.-р.-овской партии.
«Единственным носителем Верховной Власти на всем пространстве Государства Российского» объявлялось «Временное Всероссийское правительство» в составе пяти лиц: Н.Д. Авксентьева, Н.И. Астрова, ген.-лейт. Болдырева, П.В. Вологодского и H.В. Чайковского. Заместителями их были избраны А. А. Аргунов, В.А. Виноградов, ген. от инфантерии Алексеев, В.П. Сапожников и В.М. Зензинов. Из пяти членов директории только двое были на лицо, а трое, согласия которых не спрашивали, отсутствовали. Поэтому директория приступила к деятельности в составе Авксентьева (с.-p.), ген. Болдырева (беспарт., член Союза Возрождения), Виноградова (к.-д.), Сапожникова (беспарт.), Зензинова (с.-р.).
Директория признавалась ответственной перед Учредительным собранием 1918-го года, которое должно было открыться 1-го января 1919 года при наличности не менее 250 человек или 1-го февраля при наличности 170 членов. Директория обязалась «неуклонно руководствоваться в своей деятельности непререкаемыми верховными правами Учредительного собрания». «Съезд членов Учредительного собрания» продолжал существовать параллельно с правительством, как «государственно-правовое учреждение», пользуясь независимостью, неприкосновенностью, средствами из государственного казначейства и охраной «предоставляемой правительством особой воинской команды». Его задача была номинально ограничена «обеспечением деятельности Всероссийского Учредительного собрания».
Не касаясь личности правителей, в самой идее построения власти мы видим крупные дефекты. По происхождению своему она вряд ли могла претендовать на значение всероссийской. Фразы — «вступив по воле народов в управление государством»[467]… «объединение (в лице правительства) всех областей, народностей и партий освобожденной части России»[468]… — звучали бессильно и не убедительно при наличии самостоятельных новообразований Украйны, Дона, Кубани, Грузии… и при неопределенности и остроте взаимоотношений даже с сибирскими областными правительствами, «установление пределов компетенции» которых «предоставлялось мудрости Временного Всероссийского правительства»[469]…
Ответственность коалиционного правительства перед партийным с.-р.-овским собранием являлась актом политически несообразным и психологически чреватым опасностями. Установление ее вызвало глубокое неудовольствие во всех не-социалистических кругах, перенесенное с места на личный состав правительства. Даже умереннейший Союз Возрождения устами Мякотина говорил: «это решение совещания окончательно установило партийный характер созданной им власти и отталкивало от нее всех, кто неспособен был связывать надежды на возрождение России с эс-эровским Учредительным собранием»[470]…
Совещание не учло еще одного важного обстоятельства — психологии единственной к тому времени реальной русской силы на территории, подвластной новому правительству — Сибирской армии. Психологии, глубоко враждебной всему комплексу явлений, связанных с «черновским учредительным собранием».
Члены Союза Возрождения, игравшие на совещании примирительную роль и вошедшие в состав директории, нарушили полномочия, данные им Союзом. Аргунов (заместитель) — по убеждению, считая, что «только… Учредительное собрание данного состава… являлось юридически тем полномочным органом, пред которым могло и должно было предстать временное всероссийское правительство»[471]… Ген. Болдырев (верховный главнокомандующий) — по мотивам практическим: «Союзом Возрождения — писал он ген. Алексееву 30 сентября 18 г. — была предложена компромиссная формула безответственной власти на определенный срок… Мы исходили из того убеждения: если новая власть укрепится за период безответственной работы, едва ли тогда явится у кого-либо желание идти против такой власти. И тогда будущее покажет дальнейший ход государственной жизни России. Если же этой власти не удастся справиться с теми исключительными по трудности условиями работы, тогда становится безразличным — будет ли она безответственной, или нет».
Жизнь дала ответ ранее срока — переворотом 18 ноября.
* * *
Тотчас после своего избрания, директория обратилась с посланием к ген. Алексееву и ко мне[472]. Объявляя о принятии на себя «всей полноты Верховной Государственной власти на всем пространстве Государства Российскаго», директория, «восхищаясь» одиннадцатимесячной борьбой Добровольческой армии, посылала ей свой привет, и выражала надежду «в скором времени принять на территории освобожденной России усталых бойцов, которые найдут здесь и отдых, и справедливую оценку своих трудов»… Высказывала убеждение, что «государственная мудрость и высокия гражданския качества руководителей и горячая любовь офицеров и солдат к Родине укажут Добровольческой армии единый с Правительством путь»… Одновременно официальным письмом на имя ген. Алексеева Авксентьев приносил ему «искреннее поздравление с назначением». М. В. тогда не было уже в живых, и это поздравление с «должностью», которой он никогда бы не принял, казалось нам несколько нескромным и обидным в отношении его памяти.
Ген. Болдырев в свою очередь в официальном письме приглашал ген. Алексеева «принять все меры к развитию и упрочению идеи возрождения России под знаменем Всероссийского правительства» и указывал стратегическую задачу Добровольческой армии: «Было бы крайне желательным и необходимым, чтобы Ваша армия и примыкающие к ней силы овладели бы нижним течением Волги, примерно на плесе Царицын–Астрахань. В дальнейшем имело бы огромное значение овладение Баратовым». В частном письме[473] он говорил еще о недостатке людей в Сибири и желательности приезда туда генералов Драгомирова, Лукомского, Головина… О необходимости, чтобы «здесь новая Россия (была бы) надлежаще представлена», и в связи с этим о желательности «служения вашего (т. е. ген. Алексеева) и ген. Деникина на постах Всероссийского масштаба».
Ни одно из новообразований Юга не признало власти директории. Я также отказался признать Уфимскую директорию Всероссийской властью, как «ответственную и направляемую Учредительным собранием первого созыва, возникшим в дни народного помешательства… и не пользующимся в стране ни малейшим нравственным авторитетом». Вместе с тем я признавал «исключительно важное значение Сибирского объединения и находил необходимым — путем взаимных соглашений направить русские силы Востока и Юга к одной общей цели — возрождению великодержавной России»[474]…
Инструкции в этом духе были посланы в Сибирь курьером, который должен был разыскать там командированных ген. Алексеевым еще в начале 18-го года ген. Флуга и полк. Лебедева. О них в штабе армии не было никаких сведений. Оказалось впоследствии, что ген. Флуг в Харбине стал военным министром «Всероссийского правительства» Хорвата, а Лебедев оказался в Омске, принял видное участие в ноябрьском перевороте и непостижимым образом, не имея никакого командного стажа, стал вскоре начальником штаба Верховного главнокомандующего, адмирала Колчака.
Добровольческая армия в эти дни истекала кровью на полях Ставрополя и не могла принять немедленного участия в выполнении стратегической задачи, данной Уфой.
Глава XXXVI. «Военно-походное» управление. Добровольческая политика. Образование «Особого совещания»
В непосредственном управлении командования Добровольческой армии находилось несколько уездов Ставропольской губернии и Черноморская губерния без Сочинского округа. Это положение определялось словами приказа: «впредь до воссоединения и создания верховной власти Русского Государства… губерния в порядке верховного управления подчиняется командованию Добровольческой армии»[475].
В Ставрополе был поставлен военным губернатором командир бригады полковник Глазенап, помощником его ген. штаба ген. Уваров. В Новороссийске — командир бригады полковник Кутепов, помощником его — Сенько-Поповский. Военные губернаторы подчинялись командующему армией и были ответственны только перед ним. Это упрощенное «военно-походное» управление, основанное на «Положении о полевом управлении войск», до крайности затрудняло меня, отвлекая от ведения операций и вызывая на местах чрезмерную инициативу, не раз граничившую с произволом. Постановка во главе гражданской администрации лиц военных, командовавших одновременно вооруженной силой — в крае, где шла непрестанная война не только на фронте, но и внутри, вызывалась обстановкой и казалась наиболее целесообразной, подчиняя весь ход народной жизни интересам борьбы. К тому же было необыкновенно трудно создать и поддерживать авторитет гражданского начальника в глазах военной массы, наполнившей край — театр войны. Но отсутствие административного опыта и сложившаяся в процессе революции психология военных начальников в значительной мере уничтожала выгоды военного управления.
Представлялось наиболее естественным привлечь к совместной работе местную организованную общественность, но в этом заключался наибольший камень преткновения… Революция изменила облик русской общественности, сметя или преобразив в корне старые ее организации. Когда кровью Добровольческой армии освободились Ставрополь и Черноморье, из-под обломков советского здания быстро встали и возродились только органы революционной (социалистической) демократии в образе земских, городских, кооперативных, профессиональных и других. Той самой революционной демократии, в отношении которой в военной среде сложилось непримиримо враждебное отношение, с именем которой неразрывно были связаны самые тяжелые переживания развала армии, страны, внешнего разгрома ее, воспоминания о советах, комитетах, о корниловской трагедии, о голгоѳе офицерства, об явном противодействии первым шагам нарождающейся армии… Той революционной демократии, которая и теперь отнеслась к армии–освободительнице, если не враждебно, то, во всяком случае, подозрительно и недоброжелательно.
Попытки с той стороны были…
20 июля в Москве члены главных комитетов Всероссийского земского и городского союзов, состав которых за время революции сильно пополнился левыми элементами[476], объединились лично, организовали общий «главный комитет» и постановили «выступить на широкую арену общого государственного строительства». В числе основных своих задач главный комитет поставил «возстановление демократических органов местного самоуправления на территории всей России».
Но так как арены для подобной деятельности в Центральной России и на Украйне не оказалось, то главный комитет перенес свою деятельность в Екатеринодар. Я до сих пор не уверен, действовали ли приехавшие к нам лица — В.Н. Малянтович, Луганский, Кириллов — по поручению З. Г. О. или на свой страх[477]… Они образовали Юго-Восточный комитет З. Г. О., включенный мною по традициям военного времени в состав Добровольческой армии для оказания ей «всемерной помощи по санитарной части и снабжению». Стараниями Е.А. Елачича были привезены на Кубань небольшие суммы и имущество Юго-Западного и Румынского фронтов, и комитет поступил на полное иждивение армии, приобретя вместе с тем все льготы, установленные для военнослужащих.
Через некоторое время в комитете произошел раскол, повлекший временный выход из него всей земской группы во главе с Елачичем. Произведенный разбор дела выяснил интересные детали. Члены Главного комитета поставили в подчиненное к себе отношение Юго-Восточный комитет, который оказался лишь «прикрытием» их политической деятельности. «Главная задача З. Г. О. — говорил Малянтович[478] — это участие в общественно-политической работе, остальное должно быть отодвинуто на задний план. Практическая помощь Добровольческой армии является только подсобной работой, дающей возможность утилизировать персонал и материальные средства союзов. Рассматривать Юго-Восточный комитет как армейский неправильно, ибо в приказ Добровольческой армии мы включились с болью в сердце, тем более, что политическая физиономия Добровольческой армии до сих пор нам не ясна». Малянтович установил «общность кассы» Юго-Восточного комитета с главным, единоличное хранение и распоряжение сумм комитета Кирилловым и, таким образом, за счет бедной армейской казны — потому что иных источников не предвиделось — начиналась политическая работа в духе общесоциалистических тенденций того времени… против Добровольческой армии.
Я был крайне удивлен необыкновенной развязностью членов главного комитета и в особенности Малянтовича, который явился ко мне и, любезно оставляя за мной командование армией, заявил о своем намерении «руководить политической жизнью городов и земств»…
«Сотрудничество» в такой форме было неприемлемым, удельный вес группы Малянтовича слишком незначительным. Мною были приняты поэтому меры, чтобы вернуть Юго-Восточному комитету облик армейского общественно-служебного органа, а Малянтовичу и его сподвижникам предоставлено вести политическую работу за свой счет вне комитета и вне армии в рамках закона и «положения о полевом управлении войск».
Так неудачно окончилось первое общение наше с «демократической общественностью».
Психология военной среды, имевшая много оснований в прошлом, в известной части ее принимала характер нетерпимости не только в отношении социалистических, но и либеральных местных деятелей. Либеральная общественность, к тому же, разгромленная ходом революции, не имела на местах ни организаций, ни силы, ни влияния, ни даже особенного желания работать в обстановке, угрожающей ежечасно самому физическому существованию должностных лиц.
И военные губернаторства обрастали мало-помалу махровым цветом старого чиновничества — не редко добросовестного, но потерявшегося в угаре революции, отставшего от быстро мчавшейся колесницы жизни. Обрастали и элементами авантюристическими, взращенными условиями революции и гражданской войны.
В центре не было пока компетентных направляющих органов. Военные губернаторы терялись в обстановке до крайности запутанной, на почве безвременья и удручающего безлюдья. И я, и они делали не мало ошибок. Бывали и такие эпизоды, которые весьма тягостно отражались на положении Добровольческой армии, возбуждая против нее население. Так, ген. Уваров, заменяя временно Ставропольского губернатора, в его отсутствие успел отдать ряд оглушительных приказов об аннулировании всех законов Временного правительства, о вознаграждении проторей и убытков помещиков, об уничтожении преступников на месте преступления… Приказы были отменены, Уваров «по прошению» уволен от должности, но настроение создалось весьма неблагоприятное для армии…
В уездах было хуже.
Впоследствии, в одну из своих поездок в Ставрополь я очертил откровенно собравшимся общественным деятелям создавшееся положение следующим образом:
— «Нам не удается наладить гражданское управление; в уезды идут люди отпетые; уездные административные должности стали этапом в арестантские роты. Между тем, местная интеллигенция предпочитает заниматься политикой и будированием; не отказывается, впрочем, от «постов» и «портфелей». Добровольцы приносят несчетные жертвы своими жизнями. Принесите жертву и вы: умерьте ваши масштабы, дайте мне несколько честных и умных начальников уездов; я окажу им полную поддержку и обеспечу возможность работать. Создать условия нормальной жизни, внести успокоение, насадить право и законность в одном русском уезде — работа гораздо более значительная, чем все упражнения в партийных программах и резолюциях».
И было слово мое подобно гласу вопиющего в пустыне.
* * *
Программы положительного государственного строительства у нас по началу не было. До некоторой степени общие основания добровольческой политики определялись в сказанной мною при первом посещении Ставрополя речи, имевшей декларативный характер[479]:
«…Добровольческая армия поставила себе задачей воссоздание Единой Великодержавной России. Отсюда — ропот центробежных сил и местных больных честолюбий.
Добровольческая армия не может, хотя бы и временно, идти в кабалу к иноземцам и тем более набрасывать цепи на будущий вольный ход русского государственного корабля. Отсюда — ропот и угрозы извне.
Добровольческая армия, свершая свой крестный путь, желает опираться на все государственно-мыслящие круги населения. Она не может стать орудием какой-либо политической партии или общественной организации. Тогда она не была бы Русской. Государственной Армией. Отсюда — неудовольствие нетерпимых и политическая борьба вокруг имени армии. Но если в рядах армии и живут определенные традиции, она не станет никогда палачом чужой мысли и совести. Она прямо и честно говорит: будьте вы правыми, будьте вы левыми — но любите нашу истерзанную Родину и помогите нам спасти ее.
Точно так же, обрушиваясь всей силой своей против растлителей народной души и расхитителей народного достояния, Добровольческая армия чужда социальной и классовой борьбы. В той тяжкой болезненной обстановке, в которой мы живем, когда от России остались лишь лоскутья, не время решать социальные проблемы. И не могут части русской державы строить русскую жизнь каждая по своему.
Поэтому те чины Добровольческой армии, на которых судьба возложила тяжкое бремя управления, отнюдь не будут ломать основное законодательство. Их роль — создать лишь такую обстановку, в которой можно бы сносно, терпимо жить и дышать до тех пор, пока Всероссийские законодательные учреждения, представляющие разум и совесть народа русского, не направят жизнь его по новому руслу — к свету и правде».
Необходимо остановиться на двух положениях, вытекающих из этой программы.
Первое — отражала ли она действительно идеологию добровольчества? Далеко не всего. Во всяком случае, я убежденно и искренно выразил в ней свои взгляды, стараясь внушить их борющимся и правящим.
Второе — уклонение от радикальной ломки государственного и социального строя, с предоставлением этой работы будущим правомочным органам народной воли…
Историк отметит, что эта идея являлась господствующей в течение 1917–1920 годов среди российских политических группировок, составляя наиболее слабое и уязвимое место всех правительств и правителей, ставя их в неизмеримо более трудное положение, чем то, в котором была советская власть, объявив себя хозяином русской жизни и ломая ее беспощадно и безоглядно. С различными оттенками, но одинаково по существу эта идея нашла отражение в актах Временного правительства[480], в «Корниловской программе», в программах «центров», в «Грамоте ко всем народам России» Уфимской директории, в декларациях адмирала Колчака.
Обоснование этой идеи было до крайности простым и ясным и казалось неопровержимым. Еще до большевицкого переворота, в сентябре 17 года оно нашло, между прочим, такое согласное определение в двух органах — радикальной и либеральной мысли:
Газета «День» писала: «Спор программ сейчас напоминает о метафизической сущности… Перед всей страной ныне стоит одна платформа — национального бедствия… Пусть завтра у власти станет любой герой большевицкого райка, он должен будет, как и его «империалистический» предшественник, озаботиться ликвидацией ташкентского мятежа, выкачиванием хлеба из деревни, изобретением нового способа печатания денег. Прекрасные слова, широковещательные лозунги, святость канона — все это блекнет перед неумолимой прозой — такой простой и такой зловещей. И в этой прозе — ключи, размыкающие конфликт программ, в ней, и только в ней одной — отправной пункт соглашения тех общественных групп, которые должны образовать коалиционную власть». Перепечатывая эти строки, «Речь» говорила[481]: «Поистине, золотые слова… Справиться с национальными бедствиями, сохранить единство России — вот вся программа. Если бы ее удалось осуществить — это была бы величайшая заслуга перед родиной и перед революцией, которая только этим путем и может быть спасена».
Теория разошлась с практикой.
Мы не учли элемента времени и степени напора народной стихии. Правители стремились к «неумолимой прозе», народ хотел еще «поэзии» демагогических лозунгов. Правители желали приостановить временно течение жизни в создавшихся берегах, покуда некая высшая власть не расчистит новое русло, а жизнь бурно рвалась из берегов, разрушая плотины и сметая гребцов и кормчих.
* * *
В августе, т. е. после месячного опыта «военно-походнаго» управления окончательно назрела необходимость создания органа, который мог бы всесторонне заняться устройством освобожденной армией территории. Эта территория была еще очень незначительна, но расширению ее победами Добровольческой армии должно было предшествовать создание правительственного аппарата и установление деловой программы его работ.
Идея эта появилась у многих лиц, прикосновенных к армии. В. Шульгин составил перечень тех отделов, из которых должен был состоять новый орган. Название его («Особое Совещание») принадлежит также ему. Ген. Лукомский, состоявший с 5 августа моим помощником по гражданской части, в развитие идеи Шульгина представил мне доклад о необходимости образования при мне «Особого совещания» по разрешению вопросов, связанных с восстановлением нормальной жизни на территории, освобождаемой от власти большевиков. По его мысли, совещанию предоставлялась роль, исключительно отвечающая его названию, именно — «давать заключения по делам, вносимым на его рассмотрение» главным командованием.
Я считал функции гражданского управления, выходящие за пределы «Положения о полевом управлении войск», принадлежащими ген. Алексееву и поэтому вторично просил его взять на себя это бремя.
Одновременно вопросом этим занимался и ген. Драгомиров, состоявший с 10 августа «помощником Верховного Руководителя». Ему принадлежит окончательная разработка и редакция того «Положения об Особом Совещании», которое было утверждено ген. Алексеевым 18 августа без изменений. Акт этот не опубликовывался, очевидно, что бы не вызвать до времени возбуждения в кубанском правительстве, относившемся крайне подозрительно ко всем государственным начинаниям командования.
«Положение» так определяло цель создания «Особого Совещания».
а) Разработка всех вопросов, связанных с восстановлением органов государственного управления и самоуправления в местностях, на которые распространяется власть и влияние Добровольческой армии, б) Обсуждение и подготовка временных законов по всем отраслям государственного устройства, как местного значения по управлению областями, вошедшими в сферу влияния Добровольческой армии, так и в широком государственном масштабе по воссозданию великодержавной России в прежних ее пределах, в) Организация сношений со всеми областями бывшей Российской Империи для выяснения истинного положения дел в них и для связи с их правительствами и политическими партиями для совместной работы по воссозданию великодержавной России, г) Организация сношений с представителями держав Согласия, бывших в союзе с нами, и выработка планов совместных действий в борьбе против коалиции центральных держав. д) Выяснение местонахождения и установление тесной связи со всеми выдающимися деятелями по всем отраслям государственного управления, а также с наиболее видными представителями общественного и земского самоуправления, торговли, промышленности и финансов для привлечения их в нужную минуту к самому широкому государственному строительству, е) Привлечение лиц, упомянутых в § д., к разрешению текущих вопросов, выдвигаемых жизнью».
Особое Совещание заключало следующие отделы: государственного устройства, внутренних дел, дипломатическо-агитационного, финансового, торговли и промышленности, продовольствия и снабжения, земледелия, путей сообщения, юстиции, народного просвещения и контроля.
Председателем Особого Совещания являлся ген. Алексеев, а заместителями его в порядке последовательности — я, ген. Драгомиров и Лукомский.
В «положении» отразилась в значительной мере существовавшая практика дуализма власти, которую не желал нарушать составитель его, создавая один общий орган для двух соправителей. На «больших заседаниях», под председательством ген. Алексеева, должны были разрешаться «наиболее серьезные вопросы общегосударственного значения и рассмотрение сложных законопроектов, затрагивающих интересы нескольких ведомств». На «малых заседаниях»[482], под моим председательством, предполагалось разрешать «в спешном порядке не терпящие отлагательства вопросы текущей жизни, связанные с установлением гражданского правопорядка в местностях, занятых Добровольческой армией». Отзвуком того же дуализма явилось отсутствие в «Совещании» военно-морского отдела, учрежденного лишь впоследствии и возглавленного ген. Лукомским, к которому перешли обязанности военного и морского министра и кроме того все органы снабжения армии.

Генералы Алексеев и Драгомиров принимали все меры к розыску и привлечению в Екатеринодар известных им государственных и общественных деятелей, что представляло серьезнейшие затруднения, ввиду разобщенности русских областей и того неспокойного и потому мало привлекательного положения, в котором находился Северный Кавказ — театр военных действий. По ходу событий русской революции главное ядро русской общественности переселялось по историческим этапам: весною 18 года — Москва; летом — Киев; осенью — Одесса; весною 19 года — Екатеринодар. Эта концентрация сил в определенных пунктах сопровождалась всегда и необыкновенным сгущением там политической атмосферы на почве обостренной розни и борьбы. Безлюдие было так велико, что отделы по долгу оставались в управлении временных заместителей во время поисков по свету и в ожидании прибытия неизвестно где находившихся кандидатов. Морской отдел, например, ждал намеченного возглавления весь период борьбы Юга — полтора года…
Образование «Особого Совещания» — этого зачаточного органа управления — подвигалось медленно. Первыми участниками его были Г.А. Гейман (финансы), Э.П. Шуберский (пути сообщений), ген. А.С. Макаренко (юстиция), А.А. Нератов (диплом.), В.А. Лебедев (торг. и пром.)… По мере формирования отделов туда переходили и текущие дела по управлению территорией, занятой армией. Общих заседаний — ни больших, ни малых — до смерти ген. Алексеева не состоялось.
Глава XXXVII. Приступ к государственному строительству на Юге. Смерть генерала Алексеева
Ген. Драгомиров был приглашен ген. Алексеевым для совместной работы и «дальнейшего путешествия с ним в Уфу». В начале августа М. В. подтвердил свое намерение «выехать в Уфу, как только явится возможность сколько нибудь верного способа сообщения и когда состояние его здоровья позволит ему совершить путешествие». Он предполагал выждать продвижения армии по Северному Кавказу и пробраться в Сибирь через Петровок и Уральскую область.
М. В. не поделился ни со мною, ни с Драгомировым своими дальнейшими планами, но, по-видимому, к этому времени он сошел уже со своей категорической точки зрения на диктатуру, как на единственно приемлемую форму власти и соглашался возглавить директорию по проекту Национального Центра.
Но состояние здоровья М. В. стало уже совсем плохо; все близкие понимали, что ни о каком переезде не может быть речи… Последние 2–3 недели М. В. почти не вставал с постели, никого не принимал и выслушивал лишь изредка важнейшие доклады ген. Драгомирова, предоставив ему разрешение всех остальных дел.
Между тем, время шло, жизнь кипела и предъявляла свои неумолимые требования… Стратегическая обстановка указывала, что армия надолго еще задержится на Северном Кавказе… Вопрос о Восточном фронте и формировании там Всероссийской власти принимал все менее определенные формы… Совещательный характер «Особого совещания» явно не мог устранить затруднений, вытекавших из отсутствия на территории правительственного аппарата… Наконец, обостренные отношения с Кубанью требовали полного и ясного юридического обоснования. Ген. Драгомиров приводил еще один мотив о необходимости «взять представительство общерусских интересов», — мотив, выдвинутый жизнью даже ранее, чем выступили на сцену все остальные вопросы политические и гражданского управления — экономический хаос: «разделение юга России на самостоятельные области, ведущие сепаратную финансовую и таможенную политику, создали невыносимые условия, затруднившие и ограничившие обмен произведений земли и промышленности, затруднившие даже почтовые и телеграфные сношения между отдельными областями и совершенно убившие общую и всем доступную систему кредита».
Эти обстоятельства оказали решающее влияние на дальнейшую судьбу образования власти.
Ген. Драгомиров поручил в частном порядке проф. K.Н. Соколову и В.А. Степанову составить проект государственного устройства, в результате чего появилось несколько вариантов «конституции». Эти варианты подвергались составителями многократным обсуждениям в среде местных представителей к.-д.-ской партии и после окончательного рассмотрения их в более тесной коллегии под руководством ген. Драгомирова и при участии, кроме составителей, В. Шульгина и ген. Лукомского, в конце концов вылились в два проекта: 1) «Временное положение об управлении областями, занимаемыми Добровольческой армией» и 2) «Положение о Северо-Кавказском Союзе». Первое устанавливало всю полноту власти Верх. Руков. Добровольческой армии в освобождаемых ею областях и особым «разделом» — пределы автономии Кубани. Полный текст его следующий:
«Впредь до воссоединения разрозненных частей Российского Государства и создания законной общерусской власти высшее Управление Областями, занимаемыми Добровольческой Армией, осуществляется на основании нижеследующего временного Положения:
ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБЛАСТЯМИ, ЗАНИМАЕМЫМИ ДОБРОВ. АРМИЕЙ.
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.
- Вся полнота государственной власти в областях, занимаемых Д. А., принадлежит В. Р. Д. А[483] (Главнокомандующему Д. А.).
- В областях, занимаемых Д. А., сохраняют силу законы, действовавшие на территории Российского Государства до 25 октября 1917 года, с изменениями, вытекающими из настоящего Положения, а равно из имеющих быть изданными на основании его законов.
- Все граждане Российского Государства, без различия национальности, сословия и вероисповедания, пользуются в сих областях равными правами гражданства. Особые права и преимущества, издавна принадлежащие казачеству, сохраняются в неприкосновенности.
- Первенствующая Церковь в сих областях есть Церковь Русская, Православная, возглавляемая Святейшим Патриархом Московским и Всея России. Прочие признанные Церкви и религиозные общества пользуются полной свободой и находятся под покровительством закона.
- Государственным языком является язык русский. Употребление местных языков и наречий в государственных и общественных установлениях допускается в пределах, указанных законом.
- Государственным флагом служит национальный русский трехцветный (бело-сине-красный) флаг.
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.
- Российские граждане пользуются в областях, занимаемых Д. А., неприкосновенностью личности, жилища и частной переписки. Никто не может быть подвергнуть ограничению или лишению свободы иначе, как в порядке, законом установленном. Обыски и выемки могут быть производимы лишь в случаях, в законе указанных, и в порядке, законом определенном.
- Печать свободна. Порядок осуществления надзора за печатью и ответственности за преступления и проступки, совершаемые путем печати, определяется законом.
- Российские граждане могут собираться мирно и без оружия, а равно образовывать общества и союзы в целях, не противных закону. Порядок пользования этими правами гражданской свободы определяется законом.
- Собственность неприкосновенна. Принудительное отчуждение недвижимых имуществ, когда таковое необходимо в государственных или общественных интересах, совершается не иначе, как в законодательном порядке и за справедливое вознаграждение.
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.
- В. Р. Д. А. стоит во главе всех сухопутных и морских вооруженных сил в областях, занимаемых Д. А. Он определяет устройство армии и флота и руководит всем делом государственной обороны.
- В. Р. Д. А. представляет области, занимаемые Д. А., в их сношениях с иностранными державами, заключает международные договоры, объявляет войну и заключает мир. В. Р. Д. А. сносится с временными государственными образованиями, возникшими на пространстве Российского Государства.
- В. Р. Д. А. издает законы и указы по всем отраслям государственной жизни в порядке, установленном настоящим Положением.
- В. Р. Д. А. устанавливает для областей, занимаемых Д. А., единую систему денежного обращения и определяет внешний вид денежных знаков.
- В. Р. Д. А. назначает на все высшие должности военной и гражданской службы. Он жалует ордена[484] и другие служебные отличия.
- В. Р. Д. А. осуществляет право помилования и смягчения наказаний по судебным приговорам, а также право общего прощения совершивших преступные деяния с прекращением судебного против них преследования и освобождением их от суда и наказания.
- В. Р. Д. А. объявляет местности, занимаемые Д. А., на военном или исключительном положении.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ.
- Для содействия В. Р. Д. А. в делах законодательства и управления, при нем состоит ОСОБОЕ СОВЕЩАНИЕ, в составе которого образуются отделы:
- Внутренних Делъ;
- Дипломатический;
- Финансовый;
- Военно-Морской;
- Торговли и Промышленности;
- Продовольствия и Снабжения;
- Земледелия;
- Путей Сообщения;
- Юстиции;
- Народного Просвещения;
- Государственного Контроля.
Члены Особого Совещания назначаются В. Р. Д. А., Управляющие Отделами состоят членами О. С. по должности.
Председатель Особого Совещания назначается В. Р. Д. А. В тех случаях, когда В. Р. Д. А. найдет нужным лично председательствовать в Особом Совещании, Председатель О. С. участвует в заседании на правах члена. При Особом Совещании состоит Управляющий делами, коему подчинена Канцелярия Особого Совещания. Управляющий делами входит в состав Особого Совещания на равных с Управляющими Отделами правах.
- На обсуждение Особого Совещания поступают:
- Все законодательные предположения;
- Все правительственные мероприятия общегосударственного значения;
- Все предположения о замещении главных должностей высшего местного управления.
Дела, подлежащие рассмотрению Особого Совещания, вносятся в оное В. Р. Д. А. или Управляющими Отделами. На внесение в Особое Совещание дел законодательного характера Управляющие Отделами испрашивают предварительно разрешения В. Р. Д. А.
- Законы издаются В. Р. Д. А. за скрепою Председателя и всех наличных членов Особого Совещания. Указы общегосударственного значения скрепляются Председателем Особого Совещания и Управляющими теми Отделами, к предметам ведения коих данное дело относится. Указы и распоряжения по отдельным ведомствам скрепляются Управляющими Отделами по принадлежности.
- В области законодательства и верховного управления Особое Совещание в полном его составе, а равно Управляющие Отделами, являются совещательными органами при В. Р. Д. А. В области управления подчиненного Управляющие Отделами пользуются правами министров применительно к учреждению министерств.
- За общий ход государственного управления Управляющие Отделами ответствуют единственно перед В. Р. Д. А.
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.
- Судебные установления действуют в областях, занимаемых Д. А., на основаниях, в законе определенных. Судебные решения и приговоры выносятся «именем закона».
РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ.
- Кубанская Область пользуется правами автономии, во внутренних своих делах управляется особыми установлениями на основании особого законодательства.
- К предметам ведения Кубанской Областной власти, в порядке местного законодательства и управления, принадлежат:
- Местная полиция;
- Надзор за печатью, собраниями, обществами и союзами в пределах общегосударственных законов;
- Санитарное и медицинское дело;
- Дела местного самоуправления;
- Тюремное дело;
- Установление и взимание местных налогов;
- Пути сообщения местного значения;
- Заботы о развитии местной торговли и промышленности;
- Продовольствование населения;
- Земледелие и землеустройство;
- Народное просвещение при соблюдении прав государственного языка;
- Контроль местных правительственных и общественных учреждений.
- Для заведывания указанными делами в порядке управления в составе возглавляемого Атаманом Кубанского Областного Правительства могут быть образованы ведомства:
- Внутренних дел;
- Финансов;
- Путей сообщения;
- Торговли и промышленности;
- Кубанских войсковых дел;
- Продовольствия;
- Земледелия и землеустройства;
- Народного просвещения;
- Контроля.
- К предметам ведения Кубанской областной власти не принадлежат:
- Внешние сношения;
- Командование вооруженными силами;
- Уголовное и гражданское законодательства, судоустройство и судопроизводство;
- Почта и телеграф;
- Пути сообщения государственного и стратегического значения;
- Вопросы денежного обращения, государственного кредита, таможенной политики и товарообмена;
- Прямое и косвенное обложение на общегосударственные нужды, государственные монополии;
- Торговое мореплавание и порты;
- Акционерное законодательство и торговые уставы.
- Основной закон об управлении Кубанскою Областью вырабатывается в пределах настоящего Положения Кубанскою Краевою Радой и утверждается и обнародывается В. Р. Д. А. В этом же порядке производится, в случае нужды, пересмотр означенного основного закона».
По другому варианту приведенное Положение ограничивалось первыми пятью разделами, а вместо шестого (о Кубани) предположено было издать особый акт по договору с суверенной Кубанью, ограничивавший некоторые государственные функции ее. Этот акт, наименованный «Положением о Северо-Кавказском Союзе», гласил:
«В видах наиболее успешного осуществления некоторых важнейших задач государственного управления в пределах Северного Кавказа, В. Р. Д. А., от имени занимаемых Д. А. губерний… и Кубанское Краевое Правительство от имени Кубанского Края, согласились о нижеследующем:
- Губернии… и Кубанский Край образуют государственное объединение под наименованием Северо-Кавказский Союз.
- В пределах С.-К. Союза объединяется заведывание:
А. Международными сношениями Союза;
Б. Делами армии и флота, за исключением… дел Кубанского казачьего войска, остающихся в ведении Кубанской Краевой власти;
В. Почтой и телеграфом;
Г. Путями сообщения общегосударственного и стратегического значения;
Д. Прямым и косвенным обложением на общие нужды С. К. Союза;
Е. Снабжением и продовольствием армии.
- В отношении перечисленных выше дел В. Р. Д. А. присваивается вся полнота власти законодательства и управления в пределах всего С. К. Союза, применительно к Вр. Положению об управлении областями, занимаемыми Д. А.
- Разработка и осуществление общих для С. К. Союза мероприятий возлагается па О. С. при В. Р. Д. А. и его отделы по принадлежности (Вр. Положение Упр. обл., заним. Д. А. — Ст. 17–20). Контроль правительственной деятельности С. К. Союза возлагается на отдел Государственного контроля О. С. при В. Р. Д. А.
- Для суждений общих по делам С. К. Союза при В. Р. Д. А. учреждается Совет С. К. Союза из… членов по… человек от губерний Ставропольской и Черноморской и от Кубанского края. Члены Совета от губерний Ставропольской и Черноморской назначаются из местных людей В. Р. Д. А. Члены Совета от Кубанского края избираются Кубанским Краевым представительным Собранием. В Совете председательствует В. Р. Д. А. или Заместитель по его указанию.
- Совет С. К. Союза созывается на сессии В. Р. Д. А. и рассматривает дела, передаваемые на его заключения В. Р. Д. А., а также вносимые отдельными его членами.
- Совету С. К. Союза представляется высказывать свои заключения и пожелания по всем делам Союза.
- К С. К. Союзу могут присоединяться и другие губернии и области России. Губернии и области, управляемые властью В. Р. Д. А., присоединяются к Союзу распоряжением В. Р. Д. А., издаваемым в законодательном порядке. Самоуправляющиеся области присоединяются к Союзу на основании особых каждый раз соглашений с В. Р. Д. А.
- Настоящее соглашение подлежит утверждению В. Р. Д. А. и Кубанского Краевого представительного Собрания».
Это «Положение» казалось слишком искусственно построенным; оно недостаточно обеспечивало полноту власти, необходимую для борьбы, не устраняло существовавших трений, в особенности материального порядка, и не отвечало тому положению, которое должна будет занять Кубанская область в строе Российской державы.
Во второй половине сентября состояние здоровья М. В. было настолько тяжелым, что принимать участия в работе он уже не мог. Поэтому ген. Драгомиров совместно с лицами, принимавшими участие в последнем редактировании проектов конституции, обратились за санкцией ко мне. В проектах вслед за титулом «Верховный Руководитель» появилось в скобках слово «Главнокомандующий»… «Или, или»… Многозначительное и жуткое напоминание о предстоящем событии — горестном и неизбежном.
Никто не возбуждал вопроса о преемственности, ибо неписанная конституция Добровольческой армии не знала иной власти, кроме командующего.
Я принял первое «положение»[485] с незначительными поправками.
В основу построения власти я считал необходимым положить следующие мысли:
- Временная власть командования Добровольческой армии, преследуя общерусские интересы, не претендует, однако, на значение Всероссийской. Она распространяется лишь на освобождаемые армией территории.
- Временная власть должна быть неограниченной, в виде единоличной диктатуры.
- Кубань надлежит привлечь к объединению с Добровольческой армией на началах автономии не иначе, как путем соглашения.
- Желательно привлечение к единению с Добровольческой армией на началах автономии и других, сложившихся уже новообразований Юга.
- Окончательная победа над большевиками немыслима без объединения всех армий Юга.
Насколько первое положение открывало возможность дальнейшего сложения противобольшевицких образований, настолько второе, составляя бесспорно нашу внутреннюю силу, вместе с тем, до крайности затруднило или сделало невозможным осуществление широкого и прочного внешнего объединения.
Для ген. Алексеева (вначале), для меня и старших военных начальников вопрос о форме власти имел далеко не академическое значение. Мы все считали единоличную власть единственно возможной в условиях борьбы с многоликой по форме, но сконцентрированной диктаторской властью Совета. Но, если бы мы и держались иного взгляда, то провести его в жизнь не смогли бы…
Единоличной диктатуре противополагалась трех или многочленная директория. Конечно, — коалиционная, ибо однородная — тем более военная — была бы нелепейшим разбродом сил. Мы пережили уже в малом масштабе подобие такой директории зимою 1917–18 г.г.[486]
Ко мне неоднократно обращались впоследствии представители левой общественности, с предложениями «укрепить» мою власть пристройкой к ней двух лиц — «кадета и самого мирного социалиста». Это была идея, быть может, не лишенная известного теоретического обоснования, но тем не менее совершенно праздная, не считавшаяся вовсе с тогдашней психологией армии.
Армия, которая тогда беспрекословно исполняла веления главнокомандующего — в кратчайший срок и, во всяком случае, при первой же неудаче вышла бы из подчинения и свергла бы директорию.
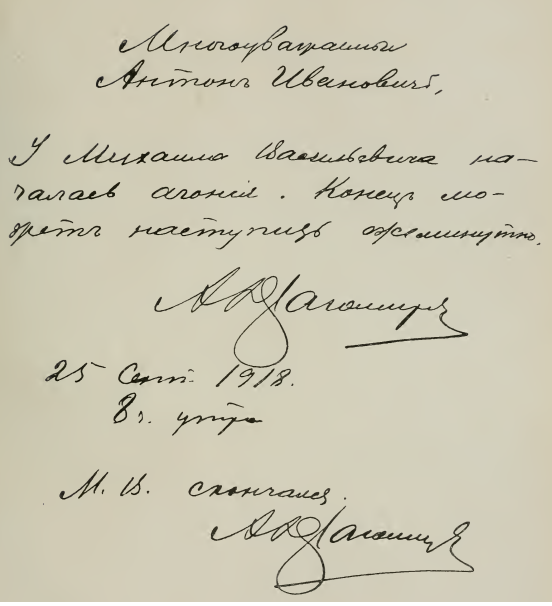

* * *
21 сентября проект конституции был готов окончательно.
А 25-го окончил жизнь Верховный Руководитель Добровольческой армии, генерал Алексеев…
Я принял звание «Главнокомандующего», объединив власть командования и управления.
Передо мной открывался новый путь, на котором судьба приуготовила много радостных событий, возбуждавших надежду на близкое спасение страны, но еще более — тяжких сокрушительных ударов.
* * *
Смерть Михаила Васильевича не была неожиданной. Тяжкая болезнь, тяготы Первого похода и огромная непосильная работа, которую он вел последние годы, день за днем подтачивали его силы. На наших глазах догорал светильник его многотрудной жизни.
Еще в середине сентября он в кругу близких говорил о предстоящем своем переезде за Волгу, а 20-го, почувствовав приближение конца, он призвал ген. Драгомирова и передал ему хранившиеся при нем лично армейские суммы. «Этим актом — говорит Драгомиров — не сопровождавшимся никакими объяснениями, М. В. прощался навсегда не только с мыслью о поездке на Волгу, но и с жизнью… Остальные дни до 25-го были медленной агонией».
Когда умер М. В., несчетные толпы народа пришли поклониться его праху, отдавая должную дань признания человеку, так много потрудившемуся для своей Родины. Глубокою скорбью отозвалась весть о смерти ген. Алексеева и в Добровольческой армии…
В годы великой смуты, когда люди меняли с непостижимою легкостью свой нравственный облик, взгляды, «ориентации», когда заблудившиеся или не в меру «скользкие» люди шли окольными, темными путями, он шагал твердой старческой поступью по прямой кремнистой дороге. Его имя было тем знаменем, которое привлекало людей самых разнообразных политических взглядов обаянием разума, честности и патриотизма.
Добровольческая армия 25-го сентября отдала последний раз честь своему старому знамени[487]:
«Сегодня окончил свою — полную подвига, самоотвержения и страдания жизнь Генерал Михаил Васильевич Алексеев.
Семейные радости, душевный покой, все стороны личной жизни он принес в жертву служения Отчизне.
Тяжелая лямка строевого офицера, тяжелый труд и боевая деятельность офицера генерального штаба, огромная по нравственной ответственности работа фактического руководителя всеми вооруженными силами русского государства в Отечественную войну — вот его крестный путь. Путь, озаренный кристаллической честностью и горячей любовью к Родине — и великой, и растоптанной.
Когда не стало армии и гибла Русь, он первый поднял голос, кликнул клич русскому офицерству и русским людям.
Он отдал последние силы свои созданной его руками Добровольческой армии. Перенося и травлю, и непонимание, и тяжелые невзгоды страшного похода, сломившего его физические силы, он с верою в сердце и с любовью к своему детищу — шел с ним по тернистому пути к заветной цели спасения Родины.
Бог не судил ему увидеть рассвет.
Но он близок.
И решимость Добровольческой армии продолжать его жертвенный подвиг до конца — пусть будет дорогим венком на свежую могилу собирателя Русской Земли».
27-го сентября тело почившего Верховного Руководителя армии было погребено в Екатеринодаре в усыпальнице Екатерининского собора среди могил младших его сподвижников, положивших свою жизнь за освобождение Родины.
Balaton-Lelle
(Венгрия)
1923 г.
[1] «Сокольников».
[2] Дрался только чехословацкий корпус.
[3] С изменениями в пользу Германии.
[4] В счет этой суммы советское правительство успело уплатить Германии 325 миллионов золот. рублей, которые впоследствии по Версальскому договору перешли к Франции.
[5] См. Т. II, гл. ХVII.
[6] Они появились частично на Юге России значительно ранее, еще весною 1918 г.
[7] Надежды на создание Северного и Восточного фронтов и поворот на Волгу чехословаков.
[8] * Декрет был объявлен в конце декабря, задолго до заключения мира, отозвавшись несомненно на тяжести его условий. Приписывался обществом подчиненным отношениям комиссаров к немецкому генеральному штабу.
[9] Донесение организации «Азбуки». «Веди». 28. V. 18.
[10] Покушение на Ленина в августе 18 г.
[11] «Гонения на анархизм в советской России». Офиц. изд. партии.
[12] «Два года скитаний».
[13] Доклад на 8 съезде компартии.
[14] «Союз Возрождения России». Доклад привез к нам в июне Титов.
[15] Из них 5–6 англ., 1 франц., 1 итальян., 1 серб.
[16] Французские.
[17] Последовательно эту должность занимали: капитан I-го ранга Чаплин, полковн. ген. штаба Дуров (18 г.), ген. Марушевский и ген. Миллер (главноком.).
[18] Ген. Добровольский. «Борьба за возрождение России в Сев. области».
[19] На Мурманском — 6-я армия, до 10 тыс., и на Архангельском — 7-я, до 8 тыс., образовавшие «Северный фронт» под командой ген. Парского.
[20] Большевики считали против себя на северном фронте 58 тыс. штыков.
[21] Любопытно, что в Сибирь своим друзьям из состава революционной демократии Н. Чайковский давал несколько иную ориентировку: «с союзниками происходит много конфликтов… Плохо быть русским министром без армии и силы». (Из телеграфного сообщения Лебедева Авксентьеву. А. Ган.)
[22] У Людендорфа.
[23] У Гельфериха.
[24] Кронштадтская крепость находится в 15–20 верстах от финского побережья.
[25] Тихвинской и Мариинской системе со стороны Ладожского озера, западный берег которого с портами Кексгольмом и Сердоболем принадлежит теперь Финляндии.
[26] Ф. Деллингсгаузен. (Эстлянд. дворянство).
[27] Ф. Эттинген. (Лифлянд. дворянство).
[28] Бар. ф. Раден. (Курл. дворянство).
[29] Холмская губерния находилась в 15 г. в военном управлении Австро-Венгрии, а в 16 г. присоединена была центральными державами к царству польскому.
[30] Потом — Вооруженных сил Юга России.
[31] Были ранее в составе русской армии.
[32] Доклад от 30 августа № 92.
[33] Начали формироваться вновь перед уходом немцев.
[34] События в Бессарабии описаны главным образом по материалам «Одесского комитета спасения Бессарабии».
[35] Например, Катареу, русский дезертир, член румынской охранки, назначенный «Сфатул-Церием» (см. ниже) начальником Кишиневского гарнизона.
[36] По статистическим данным молдаване составляют 47,58% населения губернии.
[37] Румынский премьер.
[38] Румынской и русской нового формирования.
[39] Доклад командированного в Яссы полк. Крейтера от 18 сент. и письмо ген. Щербачева от 4 ноября 18 года.
[40] Рапорт королю министра юстиции Митиленеу.
[41] Любопытно, что анкета, произведенная в конце 17 года среди родителей учащихся в Кишиневе, дала 91,9% за русский язык.
[42] Проект Бискупского о массовой закупке американскими банками земель Украйны и Новороссии, затем парцелляция и перепродажа землевладельцам (Одесса).
[43] Аналогичный проект южно-русск. земельных собственников (Екатеринодар).
[44] Разговор был тогда же запротоколен.
[45] «Daily Mail».
[46] «Генеральный комиссар французской республ.», ген. Табуи.
[47] Киев занят немцами 16 февр., Харьков — 23 марта, Ростов — 25 апр., Одесса занята австрийцами 27 февр.
[48] 60 милл. пудов хлеба, 234 милл. пуд. живого веса скота, 37½ милл. пуд. жел. руды, 400 милл. Яиц и т. д.
[49] Донесение украинского посла бар. Штейпгеля от 7 (20) июня из Берлина министру иностр. дел Украйны. См. ниже.
[50] Сообщение от 25 апреля.
[51] Начальник штаба фельдмаршала Эйхгорна.
[52] Союз промышленности, торговли и финансов.
[53] Письмо из Ростова в Москву от 25 мая.
[54] Беседа ген. X. с Шульгиным.
[55] Доклад, Шульгинской организации от 5 июня и свидетельство А. В. Стороженко.
[56] Киевские «Последние Новости» 11 октября.
[57] Договор от 5 апреля?
[58] Доклад киевского представителя 14 окт. № 6.
[59] Телеграмма на мое имя министра иностр. дел Афанасьева 16 ноября.
[60] Из письма Милюкова.
[61] Сношение министра иностранных дел Д. Дорошенко от 2 сентября 18 года № 2184.
[62] Генеральный штаб, например, был представлен столь широко, что часть обер-офицерских должностей занимали подполковники
[63] Один из офицеров украинской службы рассказывал о порядке делопроизводства: начальник пишет бумаги на русском языке и дает ее переводить писарю. Последний берет словарь Толпыго, подсыпает украинские слова и, не зная оборотов речи, склоняет и спрягает их по-русски… Интересно, что сношения с немцами приказано было вести только на русском или немецком языках.
[64] Июльская забастовка украинских дорог, состоявшаяся на экономической почве, показала наглядно, в каком тяжелом положении могут очутиться немцы, разбросанные на огромном протяжении.
[65] Из трудов «Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков».
[66] Из трудов «Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков».
[67] Немичи — семья палачей.
[68] Группа ген. Коша из трех пех. дивизий и бригады конницы.
[69] Съезд представителей земских управ и городских голов Крыма.
[70] Сношение германского министра иностранных дел 26 авг. № 35541/123046.
[71] «Генеральный директор Крымско-татарского национ. совета».
[72] «Президент Крымско-татарского парламента».
[73] Из доклада Таврической земской управы Таврич. земск. собранию от 17 октября.
[74] См. Т. II гл. XV. Председатель комиссариата с.-д. Гегечкори, члены — представители демократических партий всех национальностей Закавказья.
[75] Материалы подготовительной по национальным делам комиссии. Записка Ю. Шриахера.
[76] Idem.
[77] Потребовали половину Эриванской и части Тифлисской и Кутаисской губерний.
[78] Грузин Чхеикели, вообще проявивший чрезвычайную уступчивость туркам в части, касавшейся негрузинской территории, приказал сдать Карс без боя.
[79] На основании закона от 13 августа.
[80] Циркуляр воен. мин. 18 сентября № 415.
[81] Состав населения Сухумского округа в 1916 году в %: абхазцев — 56, грузин — 18, русских 11, армян 10, прочих 5.
[82] Гагринский район был присоединен к Сухумскому округу осенью 17 года Закавказским комитетом «по историческим основаниям», изысканным между прочим г. г. Гегечкори и Чхенкели.
[83] В Сочинском округе в 1913 г. всех грузин числилось 10,8 % а по данным земско-городской статистики среди сельско-хоз. населения их было 5,8 %
[84] Марганец, медь, шерсть, табак и т. д.
[85] Обращение к международному социалистическому бюро.
[86] Миссия Церетели и Чхеидзе.
[87] Дальность театра войны и иностранные оккупации.
[88] Часть Эриванского уезда, часть Эчмиадзинского и весь Ново-Баязетский уезд.
[89] Долина Аракса Нахичеванский и Шаруго-Даралагезский уезды.
[90] Представители от политических партий и племен.
[91] Зангезурский и Шушинский уезды с армянским населением составили временно «самостоятельную республику».
[92] Уезды Ахалкалакский, Казахский, Борчалинский и часть Александропольского.
[93] Доклад № 49 представителя Армении, полковника Власьева: «Армяно-грузинский конфликт»
[94] Лезгины, родственные Дагестану.
[95] Ленкоранский и Джиоватский уезды Бакинской губернии.
[96] После развала российского Кавказского фронта Бичерахов, бывший в корпусе ген Баратова, организовал из охотников партизанский отряд и принял с ним участие в составе английской армии в боях в Месопотамии и северной Персии. Затем был направлен англичанами в Баку.
[97] Позднее титул командующего войсками был утвержден за ним «Верховным главнокомандующим» Уфимского правительства ген. Болдыревым.
[98] Из доклада ген. Гришина-Алмазова, посетившего в Петровске Бичерахова.
[99] «Азербейджан».
[100] В Азербейджане впоследствии, под давлением английских оккупационных властей, русские представители в ограниченном числе входили в состав правительства и парламента.
[101] В Армении — только как редкое исключение.
[102] Управляющий мин. иностр. дел Мелик-Каракозов. Доклад представителя закавказского отд. к.-д. Тер-Карапетова.
[103] Сочи, Гагры, Сухум, Поти, Батум, Тифлис, Эривань, Баку и Карс.
[104] Председатель Ф. Лебедев, большинство членов — с.-р.
[105] Влияние «Вооруженных сил Юга России», Советской России и Англии.
[106] См. Т. II гл. XXXI.
[107] Сев. часть Черкасского и Ростовского округов, Южная часть Донецкого и почти весь Верхне-Донской.
[108] 107 голосов против 13 при 10 воздержавшихся.
[109] Из «основных законов», предложенных Кругу ген. Красновым как обязательное условие принятия пм атаманства.
[110] Историческое происхождение этого титула, восстановленного ген. Красновым, опорочивалось знатоками донской старины, указывавшими, что в до-петровских грамотах это наименование писалось «Всё великое войско Донское».
[111] Дон не пошел на «принудительное подданство», к чему стремились Украйна и Грузия.
[112] Людендорф.
[113] Министр иностр. дел («управл. отделом») в правительстве Краснова.
[114] Из письма ген. Богаевского в Киев.
[115] Из отчета начальника военного и морского управления к 1 авг. 1918 г.
[116] Idem.
[117] Южная, Астраханская, Саратовский корпус…
[118] Главнокомандующий южным фронтом большевиков быв. ген. Павел Сытин.
[119] Отряды постепенно пополнялись и прибавлялась артиллерия, захватываемая в боях.
[120] Отряды постепенно пополнялись и прибавлялась артиллерия, захватываемая в боях.
[121] Из отчетов к 1-му августа.
[122] На первое полугодие расходная смета 400 миллионов, доходная —198.
[123] Из доклада комиссии Круга.
[124] Многолетний сотрудник официального военного органа «Русский Инвалид».
[125] Кубанское, Астраханское, Терское войска, калмыки Ставропольской губ. и народы Северного Кавказа.
[126] Образованный при Каледине «Юго-Восточный союз», как известно, в начале 1918 года распался. См. т. II, гл. 15.
[127] В 1920 году, оставшись на Кавказе после эвакуации белых, продолжал свою карьеру под фамилиями «Пшеславского» и «Святогора» — в качестве платного провокатора Екатеринодарской «чрезвычайки». («Че-ка», издание центрального бюро с.-р.)
[128] В своих воспоминаниях император Вильгельм подтверждает факт аудиенции, данной Тундутову, и придает серьезное значение его нелепым разговорам.
[129] Председатель совета министров Украйны.
[130] Телеграмма Лизогуба гетману от 22 авг. о результатах императорской конференции в ставке.
[131] Письмо было оглашено упр. отд. иностр. дел в закрытом заседании Круга и сообщено одним из официальных лиц командованию Добровольческой армии.
[132] Письмо ген. Алексееву 8 сентября 18 года № 172.
[133] Доклад 17 августа 18 года.
[134] Атаман смешал его с ген. Юзефовичем, который жил на Кавказе и впоследствии поступил в Добровольческую армию.
[135] Доклад ген. Краснова Кругу 17 сентября.
[136] Выдержка из секретного протокола совещания, представленного на Круг управл. иностр. дел.
[137] Письмо атаману Краснову 28 июля и ген. Алексееву 29 июля.
[138] Герцог Лейхтенбергский привез письмо в немецкую главную квартиру, но к императору допущен не был «по политическим соображениям».
[139] Акт «Соглашения Дона с Кубанью».
[140] Письмо Эйхгорну.
[141] Миссия ген. барона Майделя в Яссы, в начале августа 18 года. Доклад его от 4 ноября.
[142] Письмо к ген. Алексееву 8 сент. и друг.
[143] Приказ от 30 сент. и др.
[144] Письмо ген. Иозефовичу.
[145] Обращение франц. посла Нюланса к Бронштейну. См. т. II, гл. ХVIII.
[146] Впрочем, и позднейшие взаимоотношения с советскою властью Локкарта (Англия), Садуля (Франция), Робинса (Америка) вызывали впечатление двойственной игры.
[147] В этом очерке я избегаю, где нет прямой необходимости, называть имена.
[148] Вначале союз этот называли «Левым Центром».
[149] Союз не считал возможным главенство старого Учредительного Собрания.
[150] Мякотин.
[151] Доклад Титова 21 июня 1918 года. И среди кадет были течения в пользу коллективной власти, избранной на собрании представителей партий и общественных организаций.
[152] Записка Астрова.
[153] В том числе Кривошеин.
[154] Доклад Правого Центра от 14 июня 18 года.
[155] Доклад Правого Центра от 14 июня 18 года.
[156] Доклад Правого Центра от 14 июня 18 года.
[157] См. выше. Трубецкой считать необходимым при помощи Германии собрать на Украйне русские силы, «ибо освобождение Москвы и России могло быть сделано только русскими руками».
[158] Доклад без даты от начала июня.
[159] Кадеты Федоров, Астров, Степанов и др.; Струве, Белоруссов и друг.
[160] Записка Астрова.
[161] Ширинский-Шахматов, Рогович, Нейдгарт, Трепов… Крайние правые делали попытки самостоятельных переговоров с немцами, но встретили отрицательное к себе отношение.
[162] От 12 июня.
[163] От 7 июня.
[164] Кн. Г. Трубецкой.
[165] По определению одного из учредителей: «вездесущие кадеты, левые октябристы, правые торговопромышленники и прозревшие социалисты» (Онипко, Алексинский, Савинков).
[166] Из того же официального сообщения.
[167] По сведениям штаба Добровольческой армии фактически было 2–3 тыс.
[168] В брошюре Савинкова «Борьба с большевиками» он подчеркивает свою роль как руководителя операции в рассуждениях, чрезвычайно наивных с военной точки зрения.
[169] «Ярославль держался 17 дней — добавляет Савинков — время, более, чем достаточное для того, чтобы союзники могли подойти из Архангельска».
[170] Записка Астрова. Те же мотивы приведены были ближайшим соучастником Савинкова Дикгоф-Деренталем в «Отечественных Ведомостях».
[171] Доклад Белоруссова.
[172] Б. председатель офицерского союза.
[173] Командирован одновременно с ген. Казановичем.
[174] Отзыв редактору «Кубанского Края» 31 августа 18 года № 312.
[175] Стоянка штаба Добровольческой армии.
[176] Если будут настаивать на выходе ее к Ледовитому океану, я предлагал бы (не трогая, конечно, Мурмана) обмен ближайшей к Норвегии полосы на Выборгскую губернию. [Примечание Милюкова].
[177] «Союз Возрождения России». (Автор).
[178] 19 и 21 мая.
[179] Отголоском разгрома правой организации было дело ген. Дрейера на Юге России, обвиненного офицерством в выдаче организации немцам, преданного полевому суду и оправданного за недостатком улик.
[180] Телеграмма украинского посла барона Штейнгеля из Берлина от 28 сентября.
[181] «Красная книга». Офиц. большев. издание.
[182] Конференция в Спа 2 августа.
[183] Доклад от 29 августа.
[184] На выборах в украинское Учредительное собрание группа Шульгина получила в Киеве 25,428 голосов.
[185] Ответ на письмо от 5 июня.
[186] Крайняя правая и Правый Центр считали необходимым восстановить на престоле императора Николая II, часть Правого Центра, Национальный Центр и Милюков склонялись к кандидатуре в. к. Михаила Александровича.
[187] Отречение императора Николая II и условный отказ в. к. Михаила Александровича.
[188] Письмо от 8 июня 18 г.
[189] Восточный фронт.
[190] Отчет о разговоре герц. Лейхтенбергского и А. Ладыженского 2 авг. 18 года в Киеве.
[191] Командовал 5 армией, был посажен большевиками в Трубецкой бастион, там вошел в близкие сношения с вождями революционной демократии и связал с ними свою судьбу.
[192] Записка Ладыженского и письмо от 27 июня ген. Казановичу. Алексеев ставил категорически вопрос об единоличной диктатуре, не признавая директории.
[193] Письмо Ладыженскому от 13 июня, № 103.
[194] Письмо было получено в ноябре, уже после смерти ген. Алексеева.
[195] Письмо от 20 июля. Копии были разосланы генералом Келлером герцогу Лейхтенбергскому, мне и др.
[196] Письмо от 17 июня.
[197] Так называемая «военная секция съезда консервативных деятелей в г. Киеве».
[198] Резолюция от 7 июля.
[199] Офицер русского генерального штаба.
[200] Точной цифры не знали и в штабе корпуса.
[201] В том числе и ген. Шокорев, которого заменил Сыровой.
[202] Военный министр Сибирского правительства.
[203] Впоследствии Гаррис изменил свою тактику.
[204] Большиство казаков — староверы.
[205] Доклад 30 ноября 18 года.
[206] Грузия находилась в особенных условиях.
[207] Так оправдывало впоследствии в своем обращении московское бюро Центр. ком. парт. с.-р. слабый состав «Комуча».
[208] Газеты «Комуча» — «Народ», «Народное дело».
[209] Из доклада ревизионной комиссии. См. ниже.
[210] Возведен затем «Комучем» в течение двух месяцев в генералы.
[211] Для характеристики революционной демократии небезынтересно, что в «Комуче» возбужден был вопрос об обязательном отдании чести почетным караулом у дома его заседаний всем членам Учред. собрания. Министры-социалисты сибирского правительства назначали себе офицеров адъютантов и т. д.
[212] В середине июля.
[213] Письмо от 3 августа.
[215] Декларация 27 января.
[216] Вологодский, Патушинский. И. Михайлов, Шатилов и Крутовский.
[217] Вследствие полного безлюдья среди революционной демократии, с.-р.-овский комиссариат вынужден был создать аппарат управления из либеральных общественных деятелей и служилого элемента.
[218] Часть Пермской губ. с гор. Екатеринбургом, где образовалось самостоятельное правительство из кадет и умеренных социалистов с П. Ивановым во главе.
[219] Авксентьев, Аргунов и др.
[220] Из доклада гон. Гришина-Алмазова.
[221] Инструкция Корнилова.
[222] Наказ Алексеева.
[223] Письмо от 30 июня 18 года, № 65.
[224] Произведен был в генерал-майоры.
[225] Из доклада полковника Хартулари.
[226] Письмо адмирала от 1 окт. (вероятно нов. стиля) и доклад Степанова от 17 сент. 18 года.
[227] В письме адмирала говорится: «ген. Степанов в своем письме излагает довольно детально положение вещей, создавшееся на Дальнем Востоке».
[228] Ген. Плешков был назначен «главнокомандующим Российских войск». Авт.
[229] Ген. Плешков был назначен «главнокомандующим Российских войск». Авт.
[230] Полное название «Дальневосточный Комитет защиты Родины и Учредительного собрания». Состав — главным образом правый до кадет включительно. Авт.
[231] Из того же письма.
[232] Отступившие летом от ж. д. магистрали крупные банды в Верхнеуральске, на Алтае и в северном Семиречье.
[233] Золотой запас переходил затем преемственно к директории и к правительству адмирала Колчака
[234] «Ураинцы». Е. Коновалов.
[235] Воззвание Чечека.
[236] Председатель Чешского национального комитета Павлу.
[237] Объяснения Войцеховского.
[238] Сибирские корпуса, Оренбургский корпус и остатки Народной армии.
[239] 1, 2, 3, 4, 5 и армия Ч. В. К., действовавшая против восставших рабочих Ижевско-Воткинского района.
[240] По данным штаба Добровольческий армии к 1 ноября; большевицкие силы в Семиречье не вошли в расчет.
[241] По другим данным около бригады.
[242] Триумвират: Алексеев, Корнилов, Каледин; зима 1917–18 г. Первая декларация Добровольческой армии определяла цели ее «борьбой с надвигающейся анархией и немецко-большевицкими нашествием». Т. II, гл. XVII.
[243] От 28 августа 18 года.
[244] Доклад ген. Эльснера от 15 июня, № 223.
[245] Около 300–400 человек в составе инженерного батальона, отчасти Корниловского полка.
[246] Через некоторое время были освобождены.
[247] От 25 сентября 18 года.
[248] Министр иностранных дел Германии.
[249] Сношение от 13 июля, № 262.
[250] Мой представитель на Дону.
[251] Такое странное название формирование получило от теоретического предположения Тундутова комплектовать армию астраханскими казаками и калмыками, по мере освобождения Астраханской губернии.
[252] Курсив в письме.
[253] Сделавшимся ему случайно известным.
[254] Начальник штаба подполк. Рябов-Решетин, ген.-квартирм. подполк. Полеводин.
[255] Доклады ген. Эльснера № 1499 и 1661, от 3 и 10 августа 18 года.
[256] «Блок» возник в результате соглашения между крайними правыми и националистами групп Балашова и В. Бобринского.
[257] Подписали договор:
1) Войсковой атаман Астраханского войска кн. Тундутов.
2) Командир Астраханского корпуса ген.-лейт. Павлов.
3) Управляющий внешним отделом Астрах. каз. войска И. Добрынский.
4) Председатель Совета Монархического Блока Соколов.
5) Член Совета кн. А.Н. Долгоруков.
[258] Доклад офицера штаба южной армии, полковника Хондзынского.
[259] Фактически формировалась самим атаманом Красновым в южной части Саратовской губернии.
[260] Приказ 6 августа, № 669.
[261] Вице-губернатором был назначен известный Аладьин, который и осуществлял «политическое руководство армии» во главе с набранной нм «группой земских деятелей Саратовской губ.». Численность этой «армии» была ничтожна.
[262] Открытое письмо в № 36 «России» в конце сентября.
[263] Записка от 12 октября.
[264] Резолюция от 23 октября.
[265] См. главу XX.
[266] Соединения «Южная», «Астраханская» и «Народная».
[267] Речь в Таганроге. Приазовский Край 18 года, № 178.
[268] Май. См. ниже.
[269] Однофамилец генерала.
[270] Такой набор разрешался всем армиям, кроме Добровольческой. Приказ войску Донскому № 921.
[271] Отчет о разговоре ген. Краснова и Эльснера 18 октября.
[272] Доклад ген. Эльснера 7 июня № 144.
[273] Письмо ген. Алексеева мне от 26 июня № 59.
[274] Гвардейцы собирались тогда при I-м офицерском полку Добров. Армии.
[275] От 31 августа.
[276] Свидание в Манычской. См. ниже.
[277] Доклад полковника Дроздовского.
[278] Долго еще Краснов в заседаниях правительства, немцам и вообще при всяком удобном случае повторял, что «отряд полк. Дроздовского покинет Добровольческую армию и перейдет на службу к Донскому или Астраханскому (?) войску». Протокол заседания 26 июня.
[279] От 8 сентября № 172.
[280] С ноября, после падения немцев средства — 76 миллионов обязался доставить гетман. Но до своего падения отпустил только 4½ миллиона.
[281] Письмо от 3 августа 1922 года в опровержение слов ген. Краснова о личных переговорах с ним. («Архив рус. рев.», статья «Всев. войско Донское».)
[282] Тогда уже помощнику Главнокомандующего Добровольческой армией.
[283] Письмо от 12 октября № 148. Я ознакомился с его содержанием только после отправки.
[284] Б. «Южная армия».
[285] Письма ген. Алексеева и отчеты о заседаниях.
[286] Из протоколов заседаний.
[287] Ген. Алексеев жил тогда в Новочеркасске.
[288] № 187.
[289] Отдел оставался еще в Новочеркасске.
[290] 13 августа № 551.
[291] Телеграмма № 10 от 18 августа 1918 года.
[292] № 02 без даты.
[293] 13 октября № 010.
[294] Сорокин никогда не выходил к Царицыну. Как увидим ниже, в октябре против Добровольческой армии было большевицких войск 93 тыс. при 124 орудиях.
[295] «Вечернее Время» 18 года № 16.
[296] Письмо от 7 июня.
[297] Курсив подлинника.
[298] Как выяснилось впоследствии человек с темным прошлым, по имени И.В. Добровольский.
[299] Письмо к ген. Щербачеву от 31 июля 18 года.
[300] Я предпочитаю изобразить взгляд М. В. его собственными словами и утверждаю, что этот взгляд был присущ ему во всех стадиях нашей совместной деятельности на Юге России.
[301] Декларация от 23 апреля. См. Т. II, гл. XXXI.
[302] Алексеева к Щербачеву.
[303] 14 мая 18 года.
[304] Объединение России путем контакта с немцами и восстановление конституционной монархии. Письмо 7 мая 18 г.
[305] 30 июля 18 г.
[306] Показательно, что их рядов послышалась произнесенная каким-то хмурым полковником фраза; — Да, но это враг — культурный…
[307] Речь 16 января 1920 года.
[308] В Егорлыкской стояли только 1-я (Марков) и Конная (Эрдели) дивизии. 2-я дивизия (Боровский) — в Мечетинской и 3-я (Дроздовский) была еще в Новочеркасске.
[309] 27 сентября, № 027.
[310] От 26 июня, № 59.
[311] Доклад полковника Крейтра от 18 сентября.
[312] Протокол заседания 2 мая.
[313] Объяснения Быча в заседании 10 июня.
[314] Отчет о совещании.
[315] Ген. Казанович, А.А. Ладыженский, полковник Новосильцев, ротмистр Шапрон.
[316] Впечатления дроздовца.
[317] В том числе 1340 штыков, 400 шашек.
[318] Сохранились записи денег, ассигнованных «на образование центров»; Одесского 10 тысяч рублей, Тираспольского — 5 тыс., Таганрогского — 3 тысячи и т. д.
[319] Северный против Архангельска (ген. Парский), Восточный на Волге (полк. Каменев), Южный против Дона (ген. Сытин), Западный на фронте немецкой оккупации, Северо-Кавказский — против Добровольческой армии, частью против Дона (ген. Снесарев).
[320] Доклад каштана гв. Энгельгарта о впечатлениях, вынесенных им с Восточного — противочешского фронта.
[321] В конце месяца строевой отдел был разделен на управление генерал-квартирмейстера и дежурного генерала, во главе которых стали полковник Сальников и генерал Трухачев.
[322] Оставался временно в Новочеркасске.
[323] Оставался временно в Новочеркасске.
[324] Часть его с 2 орудиями оставалась в Донской армии.
[325] Сформирована на походе.
[326] Придана была к ней часть конно-горной батареи дивизии Дроздовского.
[327] Последний в починке.
[328] Внешнее объединение первых двух последовало 14 мая, прочих — в начале июня, когда образовалась «Северо-Кавказская советская республика».
[329] Большевицкие боевые расписания нам сообщали и из Москвы.
[330] Тихорецкая, Екатеринодар, Армавир, Майкоп, Новороссийск, Ставрополь и др.
[331] События на Тереке не отражались непосредственно на этой операции.
[332] Сальский округ с центром Великокняжеской.
[333] Особенно Мартыновка и Орловка.
[334] Дивизия ген. Боровского 28 июня заняла с. Медвежье в 95 верстах от Ставрополя.
[335] Некоторые отделы отвоевали право формирования чисто кубанских частей, которые и перешли к нам.
[336] «Особая комиссия по расследованию злодеяний большевиков».
[337] Иногородними.
[338] Позднее сменил Автономова.
[339] Разговор между Красновым и Эльснером 15 июня. Отчет Л? 228.
[340] От 31 июля.
[341] Сорель. «Европа и Французская революция».
[342] Полковник Кутепов командовал бригадой во 2-й дивизии.
[343] В районе Кизлярского и Петровского участков Владикавказской жел. дороги царила анархия и велась борьба между терцами, горцами и большевиками.
[344] 1-й дивизия предназначалась ген. Казановичу, который должен был вскоре вернуться из Москвы, где он находился в секретной командировке.
[345] В походе пехота передвигалась обыкновенно на подводах, совершая поэтому огромные марши.
[346] Через несколько дней возвращены к своей дивизии.
[347] Доклад от 3 июля, № 9.
[348] В 34 верстах от Медвежьего.
[349] Пошли затем на соединение со своей дивизией.
[350] К этому времени состав ее усилился «Солдатским полком» (из мобилизованных и пленных) и кубанским пластунским батальоном См. ниже.
[351] Фамилии не помню.
[352] Кущевка — Тимашевская — Екатеринодар.
[353] Более половины исправных или требовавших небольшого ремонта.
[354] Из приказа Северо-Кавказского комиссариата
[355] Кроме чисто кубанских конных и пластунских частей, кубанские казаки входили в состав пехотных добровольческих полков.
[356] См. гл. XX.
[357] Бригада Покровского развернута в Кубанскую дивизию и сформирована отдельная бригада (Глазенапа).
[358] Доклад Лисового от 6 июля.
[359] Заведовал у ген. Алексеева финансовой частью. Впоследствии был министром внутренних дел» Крымского правительства.
[360] Статья 1081.
[361] С 24 января по 6 февраля в судебно-следственную комиссию поступило 705 дел, из которых 265 переданы в другие судебные учреждения, 92 не разобраны, 82 окончены в административном порядке и 251 прекращено за отсутствием состава преступления.
[362] Боевой состав дивизий менялся чуть не ежедневно — с одной стороны от убыли, с другой от притока пополнений.
[363] Отряд полковшика Селезнева из мобилизованных кубанских казаков, шедший из станицы Дмитриевской.
[364] См. ниже.
[365] См. следующую главу.
[366] Авангард был выдвинут на станцию Овечки, в 50 с лишним верстах.
[367] Оказался не боеспособен и вскоре был расформирован.
[368] Улагаевский пластунский батальон из состава 2-й дивизии принимал главное участие.
[369] В командование 1-й дивизией вступил вернувшийся из командировки в Москву ген. Казанович. Полковник Кутепов стал бригадным командиром. 1-й Кубанский полк этой дивизии с гаубичной батареей был отправлен в Ставрополь.
[370] Убит в октябре большевиками в Ставрополе. См. ниже.
[371] Из состава 1-й дивизии батальон марковцев и 1-й конный полк.
[372] Дело капитана Морозова.
[373] Предместье города.
[374] 4-й Кубанский пластунский батальон и батальон 2-го Офицерского полка.
[375] См. т. II, гл. XXIV.
[376] Сношение Председателя Быча 18 августа.
[377] 31 августа.
[378] Черноморцы — потомки запорожцев, населяющие сев.-зап., бóльшую часть Кубани.
[379] Линейцы — выселенные некогда с Дона «на линию» казаки и выходцы крестьяне центральных и Ставропольской губерний.
[380] Эти районы входили и в карту «Великой Украйны».
[381] «Вольная Кубань» 22 сентября (передовая).
[382] Судебные учреждения Черноморской губ., например, были ранее подведомственны Екатеринодарскому суду.
[383] Письмо атаману 4 сентября № 586.
[384] Официальный текст закона говорил о «лицах, бежавших с большевиками из сочувствия к ним».
[385] Из стенографического отчета.
[386] Статья Быча в «Донской Волне», 1918 г., № 21.
[387] Помощник Верховного руководителя, ген. Алексеева.
[388] Позже организовал Юго-Восточный комитет членов Учред. Собрания.
[389] Приказ Калабухова 24 октября 18 года.
[390] Так было и во время мировой войны: кубанского офицерства хватало только на пополнение конницы и артиллерии; в пластунах (пехота) они служить не любили.
[391] Отчет о заседании 10 ноября 18 года.
[392] Заседание 19 сентября.
[393] Разновременно в состав дивизий по мере надобности придавались пластунские батальоны и станичные гарнизоны и потому состав указан весьма приблизительно.
[394] В резерве командующего.
[395] На Туапсинском фронте.
[396] На Ставропольском фронте (Два пластунских батальона).
[397] Не вошли в расчет чины технических частей, нестроевые, чины некоторых полков и батарей, не доставивших в свое время сведений.
[398] С конца августа в командование дивизией на место ген. Эрдели вступил генерал барон Врангель, поступивший в это время в армию.
[399] 5-го сентября 18 года.
[400] Из резолюции съезда.
[401] Приказ в августе 18 года № 5.
[402] Даты постановления не знаю, но напечатано было в газетах от 5-го сентября.
[403] Бой у Покровского.
[404] Воззвание «президиума Лабинской бригады».
[405] «Военно-полевой совет 1-го Кубанского в. р. кавалер. полка».
[406] 2-я Кубанская дивизия, Отдельная бригада и мелкие части.
[407] Самурский полк, бывший 1-й Солдатский.
[408] Бывшая группа Сорокина.
[409] Официально — «Командующий войсками северо-восточного фронта».
[410] Занял 4-го сентября.
[411] Марковский полк, 2 орудия, 3 сотни. Около 1½ тысяч штыков и сабель.
[412] Приказание это, по заявлению штаба Дроздовского, не дошло по назначению.
[413] Дроздовский считал необходимым дать двухдневный отдых войскам.
[414] Кубанские пластуны и конница, части польской бригады, добровольческая артиллерия. Для характеристики наших масштабов боевого снабжения: отряду дано было 150 снарядов и по 70 патронов на винтовку!..
[415] Только на грузинском фронте остался конный полк и формировался дивизион.
[416] Во главе всех советских войск стал «Ревоенсовет» во главе с Троцким.
[417] Б. нар. ком. вн. дел.
[418] «Командующий войсками северо-восточного фронта».
[419] Б. начальник штаба Сорокина.
[420] Председ. краевого комитета партии больш. и тов. председ. Ц. и. к.
[421] Развернут незадолго перед тем из 4-го батал. Марковского полка.
[422] В 42 верстах от Дивного — пункта сосредоточения 2-й Ставропольской дивизии (большевицкой).
[423] Из акта расследования Особой комиссии.
[424] После взятия большевиками города.
[425] Председатель «чрезвычайки» Артабеков.
[426] 3-я дивизия и пластунская бригада.
[427] К югу, в переходе от Ставрополя.
[428] Ему придана была ранее бригада конницы из состава 3-й дивизии.
[429] В этом томе обзор политический я заканчиваю сентябрем, а военный для цельности изложения довожу до конца ставропольской операции.
[430] В Первом Кубанском походе.
[431] Приспособленные и вооруженные русские суда — бывшие тральщики и землечерпалки.
[432] Рапорт начальника гарнизона г. Ейска 2 августа № 4.
[433] Из состава оккупационных войск Крыма.
[434] 10 сент. 18 г. № 139.
[435] Телеграмма Макаренко из Новочеркасска 19 сентября № 285.
[436] 2 батальона, 4 батареи, броневой поезд.
[437] 16 августа № 228.
[438] Участники: генералы Алексеев, Деникин, Драгомиров, Лукомский, Романовский; В. В. Шульгин и В. А. Степанов; полк. Филимонов, Быч и Воробьев; Гегечкори и ген. Мазниев.
[439] См. заявление Людендорфа, глава VII.
[440] 5–17 августа 1918 года.
[441] Заседание Кисловодского совдепа. «Известия» от 25 августа.
[442] См. главу VII. Граница округа — река Бзыбь.
[443] Гегечкори исчислял 22%.
[444] Постановление 18 сент. 18 г.
[445] «Борьба».
[446] Протокол переговоров англ. ген. Бригса с членами груз. пр-ства в мае 1919 г.
[447] «Воля России» 21 года № 156. Письмо Церетели «по поручению с.-д. партии и раб. проф. союзов Грузии».
[448] В том числе 15 тысяч «молодой армии».
[449] Собрался в августе См. ниже.
[450] Из отчета о заседании 18 сентября.
[451] Приказ от 19 сентября № 6.
[452] Письмо ген. Краснова ген. Алексееву 3 сент. 18 года № 679.
[453] Отчет от 15 сентября № 16.
[454] От 22 августа.
[455] На Кубани.
[456] Указ 15 сентября 18 года.
[457] Вознаграждение было установлено только за земли.
[458] См. Гл. XVI.
[459] Записка от 1-го июля 18 года.
[460] Наказ «уполномоченным Совещания», отправлявшимся в Добровольческую армию.
[461] 30 июня № 65.
[462] От 27-го сентября.
[463] В письме председателя Временного Правительства кн. Львова вел. кн. Николаю Николаевичу о необходимости оставить пост Верховного главнокомандующего говорилось: «народное мнение решительно и настойчиво высказывается против занятия членами дома Романовых каких-либо государственных должностей».
[464] Письмо ген. Алексеева к в. к. H. Н., отправленное 15 сентября.
[465] Телегр. от 4 августа говорила о стремлении астраханцев к единению с Добровольческой армией, «исторический путь которой является единственным для истинных преданных сынов Единой, Великой России».
[466] Саратовский корпус («Народная армия») формировался ген. Красновым. Это — ошибка. Авт.
[467] Из «Грамоты ко всем народам России».
[468] Из «Грамоты», адресованной генералу Алексееву и мне.
[469] Из «акта об образовании верховной всероссийской власти».
[470] Брошюра «Союз Возрождения России».
[471] «Между двумя большевизмами».
[472] 2-го октября № 69.
[473] От 30 сентября.
[474] Из речи на открытии Кубанской Рады.
[475] Приказ о Черноморской губ. 14-го августа № 7.
[476] В состав «Союза Возрождения» и З. Г. О. входили зачастую одни и те же лица.
[477] Именовались они «зарубежной делегацией главного комитета».
[478] Журнал заседания № 9 от 19 сент. 18 г.
[479] 26-го августа.
[480] Не взирая на объявление России республикой и согласие на автономию Украйны.
[481] Передовая 23 сентября 17 года.
[482] С участием заинтересованных представителей ведомств.
[483] Верховный руководитель Добровольческой Армии (ген. Алексеев).
[484] Пожалование орденов установлено не было. Давались только иностранцам.
[485] «Временное положение об управлении областями, занимаемыми Добровольческой армией». Поправки вошли в приведенный выше текст.
[486] «Триумвират — Алексеев–Корнилов–Каледин». См. Т. II, гл. XVI.
[487] Приказ армии № 1.




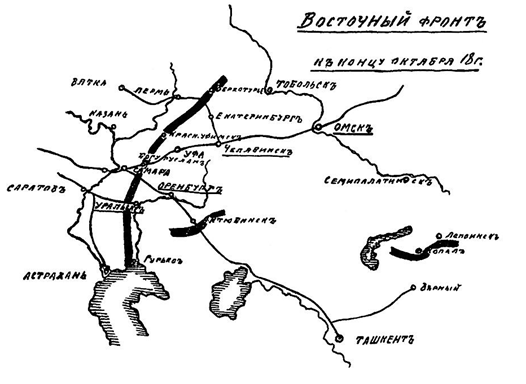








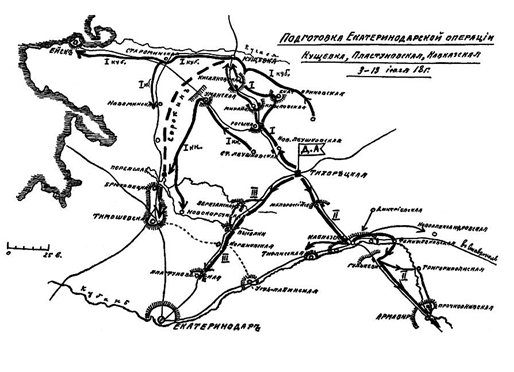
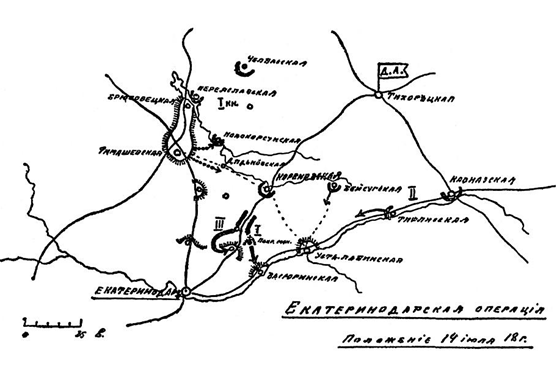

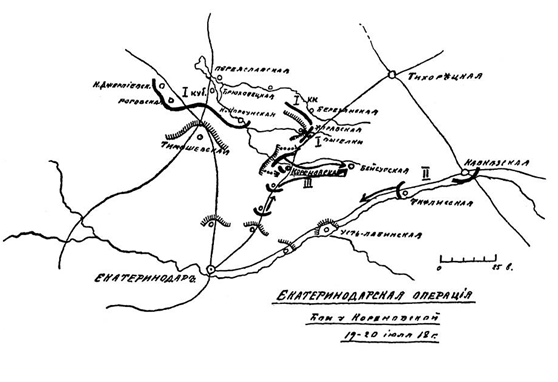

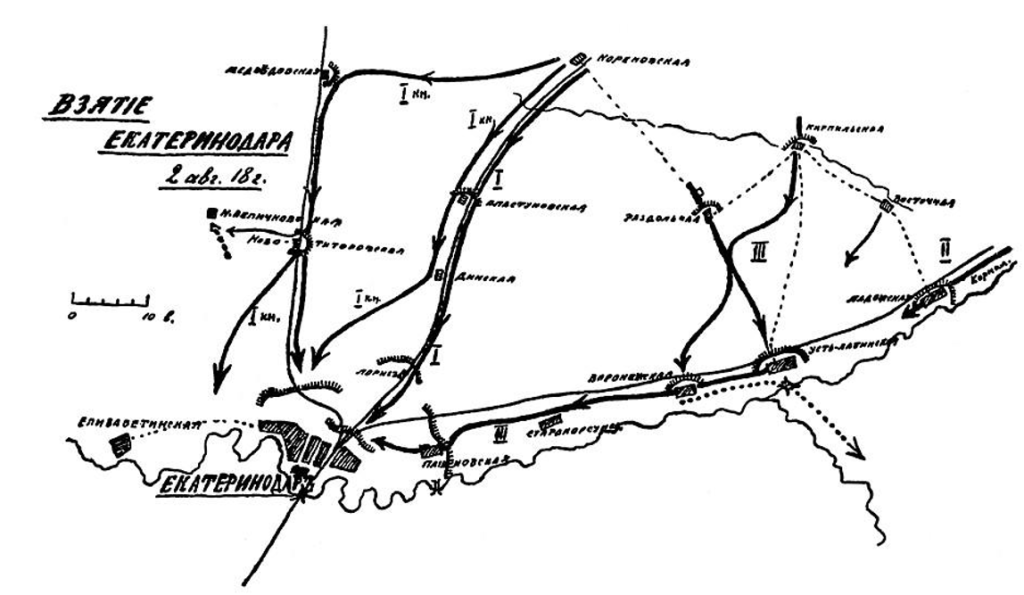


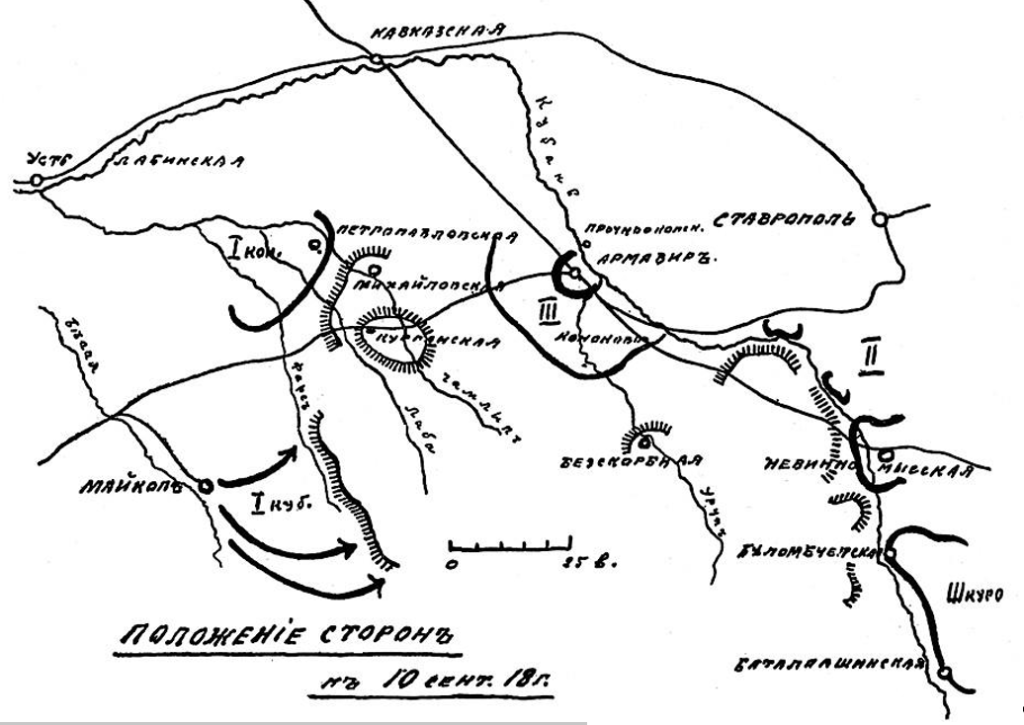
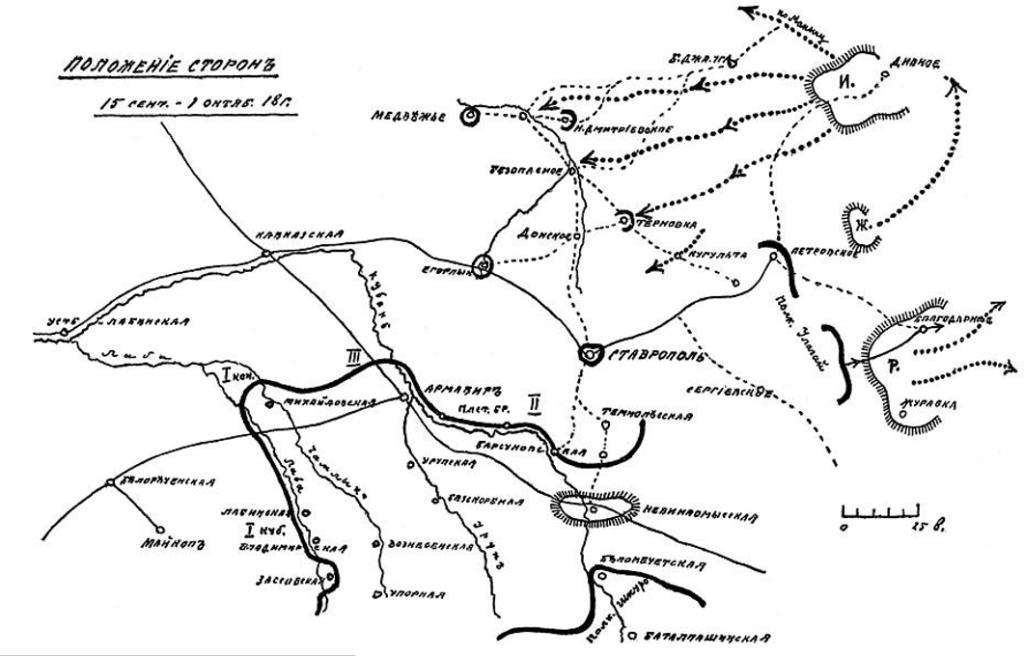
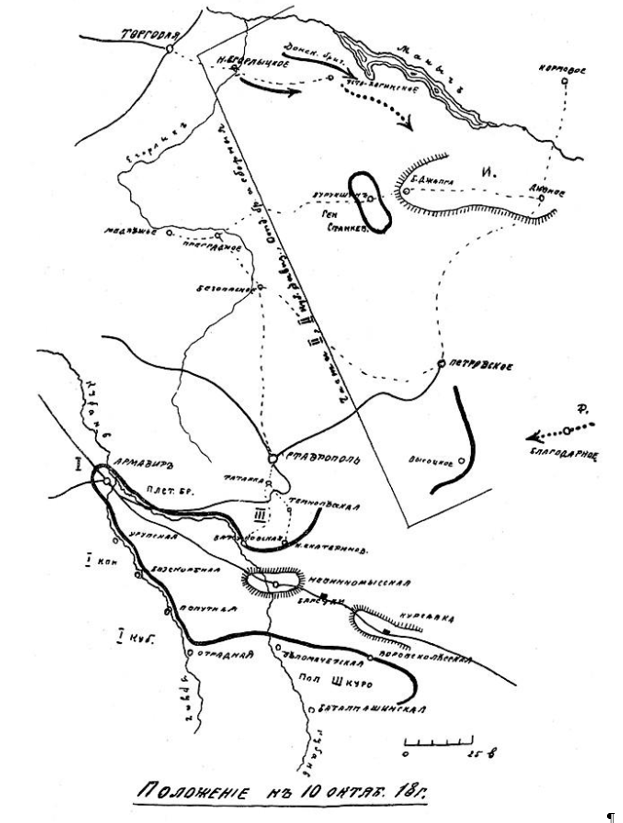

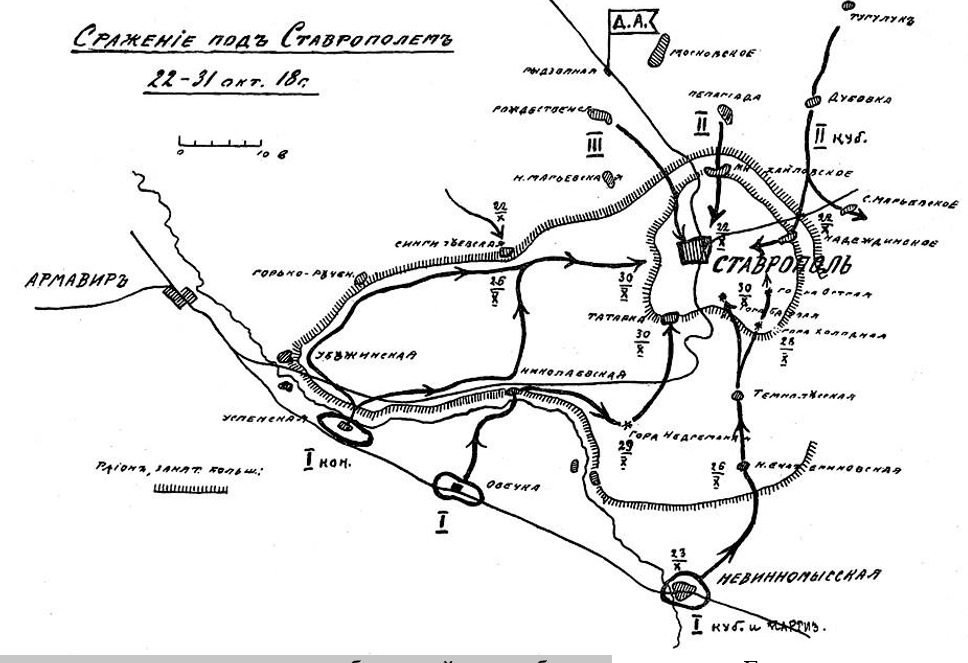


Комментировать