Оглавление
Моим читателям
У меня замедленная реакция на собственные действия. Только закончив свою пятнадцатую книгу, которую вы держите в руках, я задался вопросом: почему и зачем я пишу. Может быть, я просто графоман? К счастью, это предположение быстро отпало. Графоман — это человек, испытывающий удовольствие от процесса писания, независимо от того, что он пишет. У меня всё наоборот: я пишу натужно, с усилием; мне очень редко нравится то, что я написал. В общем, я пишу так, как пьют иные алкоголики: «противно, а надо». Что заставляло меня выполнять эту тяжёлую работу?
Вспоминаю, как создавалась в конце 70‑х книга «Мысли перед рассветом». Мне надо было убедить самого себя в том, что современная наука не отрицает, а подтверждает существование Бога. Соображений и аргументов в пользу этого накопилось у меня довольно много, но они разбегались в разные стороны, и я почувствовал потребность зафиксировать их на бумаге, выстроив в определённом порядке. Так и родилась эта книга. Ценность для меня представляла та рукопись, которую я напечатал на пишущей машинке, а типографское издание было побочным продуктом.
С такой же мотивацией были созданы мною несколько следующих книг. Но однажды всё поменялось: разными путями до меня стала доходить информация, что некоторые люди, задававшие себе те же вопросы, которые задавал себе я, были благодарны мне за подсказки, позволившие им найти на них ответы. С этого момента в моей работе появился аспект общественного служения и мотивация вышла на более высокий уровень. Эта мотивация движет мною и до сих пор. Теперь я пишу не только для себя, но и для группы читателей, которых называю моими. Ответственность перед ними и заставляет меня преодолевать технические трудности моей работы, которые с годами всё возрастают. Глаза мои уже не видят, перо выпадает из рук, приходится диктовать, но я знаю, что есть люди, которые хотят меня услышать, и я должен говорить. Я принял решение, что и эта книга будет не последней. Она — о главном в нашей жизни, но помимо просто главного есть ещё самое главное, и о нём-то я должен сказать в следующей книге. Да продлит мне Господь мой срок хотя бы настолько, чтобы я успел это сделать! Помолитесь и вы об этом, мои драгоценные совопросники и единомышленники.
Разговор первый: Интеллектуальная разминка
В этом месте река делает крутой изгиб, и застойные прибрежные воды, медленно движущиеся к срединному потоку, при соприкосновении с ним образуют полосу мертвой зыби, которую полуденное июльское солнце наполняет мерцающим серебристым свечением. Расположившийся недалеко от воды со своим мольбертом и складным стульчиком Художник очарован этим пятном жидкого серебра и пытается перенести его на холст. Его глаз радуется и всему другому, что его окружает — высокой некошенной траве, крутому противоположному берегу, темной кромке дальнего леса, чистой лазури неба. Он сейчас счастлив, а ощущение счастья усиливается в нём оттого, что вместе с ним эту красоту видит и его верный друг, его Собака, которая мышкует в густой траве и время от времени, отталкиваясь от земли всеми четырьмя лапами, выпрыгивает из зарослей, чтобы определить свое местонахождение.
— Какие мы родные души, — думает Художник, — видя то, что и я, Собака испытывает такое же, как и я, блаженство, и может вместе со мной повторить слова Фауста: остановись, мгновенье, ты прекрасно!
Как глубоко заблуждался Художник, и как сильно он был бы удивлён, разочарован и огорчен, если бы произошло чудо и на секунду окружающее представилось бы ему таким, каким оно представляется Собаке! Он не нашел бы в этом представлении ничего общего со своим, он не узнал бы того места, где находится, ему подумалось бы, что он попал не просто в другую страну, а в совсем другую вселенную, чужую и непонятную. В ней нет того, что более всего дорого ему в его вселенной — красок, многоцветия, всё вокруг черно-белое. Но этого мало: поскольку принципы соединения черных пятен в зрительной зоне мозга в целостные конфигурации стали «собачьими», мир заполнился странными предметами, которые человек не видит, а многие из тех, которые он видит, пропали. Исчез, например, украшавший пейзаж дальний лес — собака так далеко не видит. Однако и не в этом главное изменение: вселенная собаки лишь на 20% визуальна, а в основном это — вселенная запахов. Нос этого существа работает значительно интенсивнее, чем глаза, и это видно даже со стороны. А с каждым тончайше различаемым собакой запахом у нее связан какой-то образ, и эта образы постоянно возникают в ее сознании, ничем по своему значению для нее не отличаясь от тех, которые она воспринимает зрением…
Наши горе-учёные, с бесовским упрямством всё еще пытающиеся, не прибегая к понятию Творца, объяснить поразительные факты, безжалостно доставляемые им наблюдательной астрономией, увидели свое спасение в теории множества параллельных вселенных, которая сегодня горячо ими обсуждается. Эта умозрительная конструкция очень удобна тем, что таким гипотетическим космосам можно приписать именно то воздействие на наш космос, которое, согласно нормальному миропониманию, оказывает на него Творец. В этой уловке слышится что-то знакомое, кажется, подобная ей уже использовалась в прошлом. Да-да, и не далее, как в семнадцатом веке. Когда Галилей с помощью своего телескопа открыл горы на Луне, некий ревностный католик, считавший, что по учению Церкви небесные тела должны иметь совершенную форму, заявил, что видимые неровности Луны заполнены прозрачным стекловидным веществом, так что она всё-таки является идеальной сферой. Галилей согласился с этой остроумной теорией и предложил пойти дальше, предположив, что на Луне существуют горы из этого стекловидного материала, которые в десять раз выше видимых. Так же можно обратить против них же самих фантазирование современных космогонистов о множественных вселенных: смотрите, как всемогущ и велик Господь, создавший не один космос, а много космосов!
Но, болтая всякую чепуху, наши астрофизики произнесли слова, которые, если слегка изменить их толкование, выражают несомненную истину — ведь «сыны века сего догадливее сынов света в своем роде» (Лк. 16:8). Множество параллельных миров действительно существует, только оно находится не за пределами галактик, а здесь, на земле. Поглаживая по головке своего четвероногого питомца, ученый не подозревает, что в этой головке прячется самостоятельный мир, совершенно не похожий на тот, который заключён в его собственной до отказа набитой знаниями голове. И при всей своей догадливости этот сын века сего не догадывается, что параллельная вселенная, о которой он так любит рассуждать, находится в пяти сантиметрах от кончиков его пальцев.
А если ему мало двух вселенных, пусть выйдет после дождя в сад — там на дорожке наверняка обсыхает лягушка, которая при его приближении прыгнет в траву газона. В ее черепушке такой диковинный мир, до которого не додумался даже Станислав Лем: в нём существуют только движущиеся объекты, неподвижные глаз лягушки не воспринимает. Пытаясь представить себе эту вселенную, мы должны вообразить, что в ней на абсолютно чёрном фоне проплывают разные кушанья — конфеты, сдобные булочки, антрекоты, тефтели, а также малосъедобные чёрствые сухари, способные привлечь внимание только тогда, когда ты очень голоден; помимо этой гастрономии могут приближаться разного рода опасные силуэты, от которых надо упрыгивать. А какие миры носят в себе слепые кроты, земляные черви, рыбы, стрекозы, бабочки и ящерицы — этого нам знать не дано и никогда не будет дано. Как мы можем вообразить, скажем, вселенную летучей мыши, формирующуюся в результате приема отраженного ультразвука? Или взглянуть глазами пчелы на «танец» разведчицы в улье?
Даже тот человек, который никогда не задумывался над этим, согласится, что картины окружающего, возникающие в сознании разных животных, различны и не совпадают с картиной, возникающей в сознании человека.
Но большинство уверено, что эта картина, во-первых, у всех людей примерно одинакова, а во-вторых, она самая верная, т.е. более всего соответствует тому, каков мир на самом деле. И в обоих пунктах большинство жестоко ошибётся.
Начнем с первого пункта. Гельмгольц говорил, что если бы в магазине ему предложили оптический прибор такого качества, как человеческий глаз, он никогда его не купил бы. С ним постоянно ошибаешься, путаешь одно с другим, не можешь как следует рассмотреть самого важного. И это говорилось о нормальном, стопроцентном зрении, а оно встречается очень редко. Сколько кругом близоруких, подслеповатых, астигматиков, дальтоников, и каждый из них видит окружающее по-своему. И этот разнобой только из-за оптики, если же учесть, что всякий глаз замечает прежде всего то, что интересует его владельца, то он многократно возрастет. Многие мужчины знают, как трудно, вернувшись с вечеринки, поддержать разговор жены о платье Марии Ивановны, поскольку они не обратили на это платье, так взволновавшее супругу, ни малейшего внимания. У Пушкина сапожник мгновенно углядел ошибку в изображении обуви на картине художника, которую кроме него никто не заметил. Строитель видит готический собор совсем не так, как туристы: для них аркбутаны и контрфорсы — декорация, а для него — несущие элементы, и он будто сам ощущает тяжесть лежащей на них кровли.
Это — благоприобретенные различия в зрительном восприятии, а есть и врожденные. Меня в моей деревне посетила живущая в Австралии русскоязычная поэтесса. Побыла она совсем недолго, а потом выразила свои впечатления в стихотворении. Читая его, я поразился: за пятнадцать минут ее взору открылись такие детали дома и сада, которые от моего взора были скрыты в течение двадцати пяти лет. Я понял, что вложенный в гостью сканирующий механизм действует совсем не так, как мой, и дает на выходе другие результаты. Если бы, как воображал Гельмгольц, эти механизмы продавались в магазине, у покупателя был бы широчайший выбор — не меньший, чем в сырном отделе парижского продовольственного супермаркета. Вспомните только, какие споры разгораются при обсуждении произведений живописи или внешности какой-нибудь киноактрисы. Для одних Кандинский гений, для других его картины — мазня. Из десяти человек пять будут восхищаться красотой Софи Лорен, а пять — говорить, что в ней нет ничего особенного.
Зрительное мировосприятие меняется не только при переходе от одного человека к другому, но и при переходе от одного возраста каждого человека к другому его возрасту, и тут изменения просто разительны. Опять обращусь к своему личному опыту, как самому для меня достоверному. Детство мое протекало в тридцати километрах от Москвы, в Малаховке. Однажды, после долгих обещаний, дедушка отправился со мной в путешествие на речку Пехорку, которая текла за соседней станцией Красково в полутора верстах от неё. Для меня это было то же, что для Ливингстона экспедиция к истокам Замбези. Чувство великой радости не покидало меня в течение всей прогулки, и всё вокруг было волшебным, особенно одна дача, мимо которой мы проходили. Через решетчатую калитку мне предстала сидящая на высоком крыльце юная принцесса. Она казалась совершенно недоступной для меня даже в мечте, и не потому, что была на несколько лет старше, а потому, что ее окружал ореол небожительницы, а ее дом был сказочным теремом. Много лет спустя я снова проходил мимо этой дачи. И что же я увидел? Обшарпанный дощатый забор, низкое крыльцо, убогий домишко…
О том, что детскому глазу окружающее предстаёт совершенно другим, чем взрослому, убедительно свидетельствуют три повести, принадлежащие лучшим произведением мировой литературы — «Комбре» Марселя Пруста, «Детство» Льва Толстого и «Детство Никиты» Алексея Толстого. Читая их, ты обнаруживаешь, что это написано не о ком-то, а о тебе лично, и вспоминая свое младенчество, осознаёшь, что тогдашний твой мир был ни капельки не похож на нынешний.
Пока у нас шла речь о людях, по-разному видящих мир, принадлежащих к нынешнему времени. Если же копнуть глазную оптику предыдущих эпох, из нее полезут такие миры, к которым и не приближались все писатели-фантасты, вместе взятые. Можем ли мы сегодня их реконструировать? Если даже говорить об относительно недавнем прошлом — о времени революции, гражданской войны и первых пятилеток, то лишь весьма отдаленно. К сожалению, нам абсолютно не поможет в этом система хорошо документированных исторических фактов, ибо сами эти факты воспринимались тогда не так, как мы воспринимали их сейчас. Единственный зацепкой может служить художественная литература той эпохи, — например, «Чевенгур» Платонова, революционная поэзия Маяковского и, конечно, дошедшие до нас песни — скажем, «Каховка» или «Смело мы в бой пойдем за власть советов, и как один умрем в борьбе за это».
Искусство тех лет, — а его с полным правом можно назвать великим искусством — одно только дает нам более или менее верную картину того, что тогда происходило в России, т.е. показывает главное из происходившего — как жили люди. Почувствовать же, как они жили, почему действовали так-то и так-то, можно лишь увидев окружавший их мир их глазами, а ничто, кроме искусства, в этом нам не поможет.
Сегодня, когда имеющее государственную важность дело школьного преподавания истории пущено на самотек, когда нет единого официального подхода к освещению и оценке происходившего в нашей стране и во всём мире, когда каждый учитель несет подросткам свою отсебятину, иногда просто чудовищную, всё чаще и громче раздаются призывы создать наконец учебники и учебные пособия, излагающие правдивую историю. Однако такие призывы останутся чистой демагогией, пока нам не разъяснили, что такое «правдивая история», а их авторы не собираются давать таких разъяснений.
Почему? По той, конечно, причине, что они считают это само собой разумеющимся: правдивая история — это такая история, которая повествует нам о том, что было на самом деле. Но именно в том, что современная историческая наука исходит из этого постулата, заключается ее самое слабое место, ее научная и философская безграмотность и, в конечном счете, ее несостоятельность как средства познания истины. Впрочем, это слабое место не только исторической науки, но и всего современного материалистического миропонимания.
За несколько веков господства материализма в нас въелось твердое убеждение, будто «на самом деле» происходит то, о чем докладывают нам наши органы чувств — либо непосредственно данные нам от природы, либо усиленные различными приборами — телескопами, спектрографами, счетчиками Гейгера и т.д. Происходящим «на самом деле» мы признаём только наблюдаемое — пусть и в самом широком смысле. Но наблюдать в любом смысле можно только то, что происходит сейчас, а то, что происходило когда-то, наблюдать невозможно — его нет. Историческая же наука интересуется как раз тем, что происходило когда-то. Как же ей быть? Выход один — сесть в воображаемую машину времени, отправиться на ней в прошлое и увидеть его своими глазами. Такое путешествие обеспечивают историку источники, которые он откапывает в архивах, а также труды предыдущих историков. Но вся беда в том, что посетив с их помощью прошлое, он увидит его именно своими глазами, а следовательно, ничего не поймёт в минувшем, хотя оно стало для него настоящим. Его взору предстанет битва в Тевтобургском лесу девятого года по Рождестве Христовом, но что он при этом увидит? Увидит, как римляне скачут на лошадях, размахивают мечами, убивают врагов и падают сами, как поле покрывается трупами. Ну и что? Он увидит только внешнее событие, а знание внешних событий с их датировкой — лишь первый шаг исторического исследования, вторым его шагом должно быть выявление причин события, а причины эти кроются внутри человека. История, как биография людского рода, становится действительно интересной и поучительной, когда она рассказывает о внутренней жизни всего человечества и отдельных сообществ, о ее эволюции. Нам важно узнать не то, что тогда-то и там-то была битва между римлянами и германцами; нам важно понять, какая причина заставила Августа выдвинуть легионы Вара на территорию, контролируемую германскими племенами. Причиной же принятия решений таким ответственным лицом, как император, может быть только то, что в той обстановке, которая представлялась его сознанию, это решение было закономерным и необходимым. В том мире, какой Август считал объективной реальностью и был убеждён, что в нём живет не только он, но и все другие люди, посылка трех легионов на северо-восток была абсолютно логичной. Но германцы жили в совсем другом мире, и в их мире вторжение туда римских войск было нарушением логики. Поэтому битва в Тевтобургском лесу была ни чем иным, как «войной миров», и ею в той или иной степени является все исторические сражения — неважно, «горячие» или «холодные». Исторический процесс состоит в основном из таких сражений, и чтобы его понять и написать «правдивую историю», надо вникнуть в эти миры, прочувствовать их, а разве это возможно? Если мы не можем понять своего друга, который морщится от услаждающего наш взор Кандинского, то как мы поймём древнего египтянина? Ведь он жил в совершенно другой вселенной, в которой было естественным делом тратить половину государственного бюджета на возведение гигантских усыпальниц еще живым фараонам, а навозного жука считать богом. Переселиться в эту вселенную нам не дано, об этом нечего и мечтать.
Означает ли это, что «правдивую историю» никто никогда не напишет? Конечно, да. Не прожив жизни в мирах предыдущих поколений, нельзя верно ее изобразить. Означает ли это, что не надо работать над созданием наилучшего из всех возможных школьного учебника истории? Конечно, нет. Оптимальный учебник возможен, и понятно, на каких принципах он должен быть основан. Во-первых, он должен давать хотя бы какое-то представление о том другом мире, в котором жили люди прошлого. Каким он был, может подсказать искусство того времени. Историю Древней Греции надо начинять отрывками из Гомера — пусть они займут больше половины текста. Тот же подход необходимо применять и к недавней истории. Рассказывая школьникам о нашей революционной эпохе, прочтите им вслух стихотворение Светлова о том, как русский парнишка «пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать». И не вздумайте при этом выставлять парнишку наивным глупышом — это будет ложью. Там, где жили он и миллионы его сверстников и куда доступ нам закрыт, мировая революция, которая освободила всех угнетенных, находилась на расстоянии протянутой руки, и послужить ей даже ценой своей жизни было счастьем. Такого рода ложь, не берущую во внимание воздух времени, надо решительно искоренять из учебников истории, предоставляя в них главные страницы тем, кто дышал этим воздухом.
Пока этого не сделают, курс истории будет судебным процессом над прошлым, руководствующимся в вынесении приговора сегодняшним уголовным кодексом.
Вопиющую несправедливость нынешнего приговора тридцатым годам прошлого века я могу засвидетельствовать лично, поскольку в то время был уже вполне сознательным существом и хорошо его помню. Россию тех лет изображают в виде огромного концлагеря, а словосочетание «тридцать седьмой год» делают символическим обозначением ужасающего террора. Как уцелевший очевидец происходившего, я громко выражаю протест против такого издевательства над исторической правдой. Это было время огромного душевного подъёма нации, великого энтузиазма. Его верно отражают слова знаменитой песни «и никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить!». Нынешние русские люди по сравнению с теми просто сонные мухи — жизненная сила била тогда из народа ключом. Не верите мне — верьте самим делам тех людей: что, кроме массового энтузиазма, могло обеспечить осуществление такого подвига, каким явилась индустриализация? В пресловутом тридцать седьмом году Чкалов потряс весь мир перелетом через полюс в Америку, а героическая четверка папанинцев высадилась на льдину.
Учитель! Дойдя на уроках до этой темы, поставь вместо реквиема «Марш энтузиастов», и ребята почувствуют, какое это было неповторимое по радости бытия время. Да, продолжались «классовые» репрессии, которые начались еще в восемнадцатом году; да, каждый знает, что есть некоторая вероятность (около одного процента) того, что за ним приедет «чёрный воронок», но это никак не сказывалось на его самочувствии, на его делах и планах. Никто не сидел, дрожа от страха. Общественное сознание, повинуясь инстинкту самозащиты, быстро выработало противоядие на угрозу внезапного ареста — фатализм. Точно такой, какой выработан у японцев, живущих в сейсмоопасных районах; да, может тряхнуть, но чего об этом думать — пока не трясёт, надо жить нормальной жизнью. Так и русские люди периода репрессий — они жили точно так же, как жили бы и без репрессий, да так весело и насыщенно жили, как и не снится сегодняшним расслабленным и брюзжащим гражданам РФ.
А еще вот что надо сказать о школьных программах. Внутренняя жизнь людских сообществ, прошедших через сотни конструируемых ими самими окружающих миров, принципиально непознаваема, поэтому требовать от уроков истории «правды» совершенно бессмысленно. От них надо требовать другого, а именно — пользы. Раз любая наша реконструкция прошлого неизбежно условна, следует создать такую его реконструкцию, особенно когда она касается отечественного прошлого, которая воспитывала бы в молодёжи чувства патриотизма, гражданского долга и гордости за свою Родину. Благо, в России накоплен богатый опыт именно такого преподавания истории, издавна практиковавшийся замечательными нашими учителями, которые интуитивно знали, в чем состоит главная цель их уроков.
Разговор второй: Сверимся с философией
Что такое философия? Фома Аквинский говорил, что философия — служанка своей госпожи Богословия. Поскольку в разговоре о жизни без этой госпожи не обойтись, надо, чтобы сначала служанка достойным образом подготовила ее визит. Итак, займёмся философским ликбезом.
Это тем более необходимо, что слово «философия» сегодня совершенно обесценено. Говорят уже о «философии дорожного движения», о «философии ценообразования» и т.п., и, наверное, скоро начнут говорить о «философии дачи и получения взяток». Лица, получающие доступ к телеэкрану — будь то ведущие или простые участники «ток-шоу» (в переводе на русский — «толковища») — считают своей обязанностью «пофилософствовать», что по их представлениям означает высказать что-то заумное. Но если понятие распространяется на всё, оно становится ничем. Так и случилось с понятием философии…
Отождествление философии с заумным рассуждением, неважно, о чем, началось вместе с деградацией протестантской цивилизации, а позже перекинулось и на Россию, всегда столь чуткую к веяниям западной культуры, В Европе последним настоящим философом был Иоганн Фихте (1762—1814) — Гегеля уже в лучшем случае можно назвать просто мыслителем, — а в России — Владимир Соловьев (1853—1900). Его ученики, всеядные по своим интересам, занимались уже изощренной умственной гимнастикой, и их пухлые сочинения (например, Флоренского, Бердяева, Булгакова или Франка) ничего не дают сердцу читателя. Но окончательно девальвировал философию в нашей стране, конечно, вождь мирового пролетариата. Ленинский опус «Материализм и эмпириокритицизм» — яркий пример полного непонимания автором того предмета, о котором он пишет. Ленин был щедро наделен качествами, необходимыми лидеру: железной волей, непоколебимой уверенностью в своей правоте, тонкой политической интуицией, — но в философском отношении он был абсолютной бездарностью.
Он в упор не видел того, что должен видеть даже самый заурядный философ — проблематики, которой посвящена эта отрасль знания. Он всерьез полагал, будто главным вопросом, стоящим перед философией, является вопрос о том, что первично — духовное или материальное. Это его собственная фантазия, не подтверждаемая историческим материалом. Вплоть до восемнадцатого века публика знала всего двух оригиналов, эпатировавших ее странным утверждением, что в основе бытия лежит нечто мёртвое — атомы. Ими были Демокрит и Эпикур, причем второй из них наделял свои атомы некоторой свободой воли, т.е. закладывал в самый фундамент мироздания элемент духовности. Но эта школа не оказала никакого влияния на дальнейшее развитие философской мысли и до эпохи французского «Просвещения» оставалась музейным экспонатом.
Но пошлятина, которую фонтаном извергали из себя «просветители» — от Вольтера до Гельвеция — не имела ничего общего с философией: это было выполнение «социального заказа», создание идеологической базы надвигающейся атеистической Великой Французской революции, и демонстрируя заказчику свое рвение, исполнители договаривались до того, что человек есть всего лишь механический автомат. Эти авторы, которых Ленин принимал за философов, наряду с Чернышевским, и были его кумирами — понятно, чему он мог от них нахвататься. Его «Материализм и эмпириокритицизм» так же безграмотен по своей логике, как и «О человеке» Гельвеция. Более чем двухтысячелетняя культура мышления, начавшая шлифоваться еще древними греками, была перечёркнута, Парменида, Платона, Беркли, Бэкона и Канта ссадили с корабля Нового Времени, поплывшего к светлому будущему. Но не возникает ли у вас ощущения, что капитаны завели его в зону айсбергов, именуемых «кризисами», и ему грозит судьба «Титаника»?
Будем говорить прямо, без метафор. Похоже, нас давно уже заставляют жить неправильно, и эта неправильная жизнь кончится катастрофой. Она ударит прежде всего не по руководителям — они уже сейчас подготавливают себе спасательные средства, — а по нам с вами, простым людям. Можем ли мы как-то позаботиться о смягчении неизбежного удара? Вот в этом-то, и ни в чем другом, и заключается цель тех «разговоров», которые мы будем вести в этой книжке. Вы скажете: какой в них смысл, ведь от них всё равно ничего не зависит! Это не совсем так. Во-первых, предупрежден — значит вооружен. Во-вторых, и наше начальство, когда жареный петух пребольно его клюнет, может начать прислушиваться к разумным советам снизу. Так что будем вырабатывать для себя и для властей эти советы, а там как Бог даст. И начнем с философии.
Главной проблемой истинной философии является никакая не первичность того-то и того-то, а проблема онтологии. Что это такое?
Все люди на свете, кроме страдающих редким психическим заболеванием под называнием аутизм, убеждены, что их окружает некая внешняя реальность, от них совершенно не зависящая: она существовала до их рождения и будет существовать после их смерти. Как они узнаю́т об этой реальности, которую называют «окружающим миром»? Им сообщают о ней их органы чувств — зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания. Других прямых источников информации об окружающем мире нам не дано. Есть у нас, конечно, научные теории, разъясняющие и уточняющие, как этот мир устроен, но они всё равно в конечном счете основаны на чувственных наблюдениях. А наблюдения дают нам всего лишь образ окружающего мира, и этот образ находится не вне, а внутри нас. Выскочить из себя, прорваться за пределы этого субъективного образа к чему-то абсолютно объективному человек принципиально неспособен.
Один из немногих «настоящих философов» мировой истории Джордж Беркли (1685—1753) сформулировал эту истину примерно так: любой фрагмент того, что мы называем окружающим миром, есть определенный комплекс наших ощущений.
Из этого непреложного факта и вытекает главная, а по сути единственная проблема философии. Стои́т ли что-либо за нашими комплексами ощущений, а если стои́т, то что именно? Иными словами, может ли мир, который мы видим, существовать без того, чтобы мы его видели?
Первый ответ, напрашивающийся сам собой, утвердительный: конечно, может — он в нас не нуждается. Но не будем торопиться. Давайте попробуем представить себе мир, который никто не видит. Пытаясь сделать это, мы мгновенно убедимся, что представить себе такой безлюдный мир невозможно, ибо, представляя его, мы видим его своим внутренним зрением, а значит, присутствуем в нем. Закрыв глаза и воображая мир, в котором якобы нет людей, мы видим не его, а мир, в котором есть по меньшей мере один человек — тот, кто его воображает. Устрани этого тайного наблюдателя, и всё погрузится во тьму и в молчание. Не будет ни красок, ни звуков, ни запахов. Вот что пишет об этом еще один настоящий философ, Владимир Соловьев:
«Обыкновенно думают, что, если бы исчезли из мира все чувствующие существа, мир всё-таки остался бы тем, чем он есть, со всем разнообразием своих форм, со всеми красками и звуками. Но это очевидная ошибка: что значит звук без слуха? — свет и цвета без зрения? Становясь даже на точку зрения господствующего естественнонаучного мировоззрения, мы должны признать, что если бы не было чувствующих существ, то мир радикально изменил бы свой характер. В самом деле, для этого мировоззрения звук, например, сам по себе, т.е. независимо от слуха и слуховых органов, есть только волнообразное колебание воздуха; но очевидно, что колебание воздуха само по себе еще не есть то, что мы называем звуком; для того, чтобы это колебание воздуха сделать звуком, необходимо ухо».
Что ж, уберём из мира все уши и скажем: теперь в нём нет никаких звуков, а есть только волнообразное колебание воздуха — это и будет объективный мир, независимый от нашего чувственного восприятия. Как бы не так! Произнеся фразу «волнообразные колебания воздуха», мы вмещаем в нее целый букет чувственных образов: движение с определенной скоростью сгущения и разряжения частиц воздуха, а главное — сами эти частицы, которые рисуются нашему воображению крошечными предметами. Продолжим цитирование Соловьева.
«Вульгарный материализм разумеет под атомами бесконечно малые частицы вещества, но это есть очевидно грубая ошибка. Под веществом мы разумеем нечто протяженное, твердое или солидное, т.е. непроницаемое, одним словом, нечто телесное, но — как мы видели — всё телесное сводится к нашим ощущениям и есть только наше представление. Протяженность есть соединение зрительных и мускульныx ощущений, твердость есть осязательное ощущение; следовательно, вещество, как нечто протяженное и твердое, непроницаемое, есть только представление, а потому и атомы, как элементарные сущности, как основания реальности, т.е. как то, что не есть представление, не могут быть частицами вещества».
Таким образом, пытаясь растолковать непонятливым философам, что такое внешний мир сам по себе, независимый от наших ощущений, материалист в описании самого фундамента этого мира апеллирует к нашим ощущениям, и без этой апелляции всё, что он объясняет, потеряет смысл. При этом он не понимает, что крутится в порочном круге, как не понимал этого Ленин, злившийся на злонамеренно усложняющих проблему онтологии интеллектуалов и считавший их придуривающимися провокаторами.
Кант, с его абсолютным логическим слухом, разумеется, прекрасно осознавал необходимость как-то выйти из этого порочного круга, и вся его философия есть развернутое указание пути, по которому надо из него выходить. Если мы можем представить себе внешний мир, каков он есть сам по себе, т.е, без нас, только мысленно в нем присутствуя, значит он вообще для нас непредставим, и сказать о нем мы ничего не можем. Давайте же назовем его «вещами в себе» и не будем ничего о нем говорить, кроме того, что он существует, и сосредоточим свое внимание на том, по каким законам в нас формируется образ этого мира — «вещей для нас».
Очень требовательный к строгости рассуждений других, Кант в данном случае проявил к себе снисходительность. Если мы принципиально не можем дать «вещам в себе» никакой характеристики, какое право мы имеем утверждать, что они существуют? Существование есть лишь необходимая предпосылка наличия каких-то свойств, если же нельзя говорить о свойствах, понятие существования становится совершенно пустым и ничего не означающим. Эту фундаментальную истину первым понял родоначальник настоящей философии, предшественник Беркли, Канта, Фихте и Соловьева, Парменид (540—470 до н.э.), сформулирововавший ее так: «Существует только то, что может быть познано; того, что не может быть познано, не существует». Важно заметить, что под познанием Парменид в последнюю очередь понимал рациональное постижение, над которым даже подтрунивал, — для него этот термин включал и умозрение, и интеллектуальную интуицию, и даже мистическое слияние с изучаемым объектом. В этом и лежит ключ к решению проблемы онтологии. Его надо использовать в одном-единственном месте рассуждения об окружающем мире, которое без него неизменно оказывается внутренне противоречивым. Сейчас мы с вами найдем это злополучное место.
Наша логическая цепочка состоит из следующих звеньев: 1) Внешний мир, каков он есть сам в себе, должен быть как-то охарактеризован, иначе это понятие останется пустым звуком. Если мы употребляем какое-то понятие, оно непременно должно быть хоть в какой-то степени раскрыто по своему содержанию. 2) Чтобы раскрыть содержание любого понятия, мы должны выразить его через что-то нам хорошо знакомое и понятное. 3) Единственно знакомыми и понятными для нас являются непосредственно данные нам чувственные ощущения. 4) Но описание мира самого по себе на языке чувственных ощущений недопустимо, ибо при этом в сознании воспроизводится не сам этот мир, а его образ.
Если бы все эти четыре тезиса были верны, то из них неизбежно следовал бы пятый тезис, к которому и пришел Кант: о мире самом в себе сказать ничего нельзя. Но все ли они верны?
Самым слабым звеном является третий тезис. В масштабе всей человеческой истории период господства убеждения, будто всю информацию о мире человек обретает только благодаря показаниям пяти органов чувств и их логической обработки очень невелик — это Новое Время, начавшееся в XVI веке, с его сенсуализмом и рационализмом. Во все предыдущие эпохи у людей не было ни малейшего сомнения в том, что имеются другие способы получения сведений о сущем — например, Откровения, которых удостаивались пророки и прорицатели, и которые не обязательно посещают их в форме чувственных образов — иногда пророки сами не могли объяснить, почему начинали изрекать вещие слова. Вряд ли кудесник, сказавший князю Олегу «примешь ты смерть от коня своего», увидел сцену этой смерти, скорее всего он даже не знал, в каком смысле конь будет причастен к гибели Олега.
Наличие экстрасенсорных каналов познания каких-то истин всегда напоминало о себе с такой регулярностью, что начавшееся сравнительно недавно его отрицание надо считать скорее каким-то помрачением общественного сознания, чем его просветлением, шагом вперед в его развитии. Пророческий дар, не признаваемый материалистами, в действительности распространён гораздо шире, чем принято думать, ибо между ним и интеллектуальной интуицией (которую Парменид называл умозрением) нет четкой границы, а роль интуиции в достижениях науки, т.е. человеческого познания, огромна, с этим не поспоришь. Ньютон, например, доподлинно знал о двойной природе света — волновой и корпускулярной — но откуда и в каком виде пришла к нему эта подсказка за триста лет до де Бройля, научно объяснившего двойственность света, он сказать, конечно, не смог бы.
Здесь надо остановиться на одном всеобщем нашем заблуждении. Все думают, что пророки были когда-то давно, в библейские времена, а потом их не стало. Это не так. Этого не может быть даже теоретически, по самому определению термина «пророк». Пророк — это тот человек, через которого Бог говорит людям то, что хочет им сказать, это Его речевой аппарат. «Восстань пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею Моей» — смотри и слушай, что Я тебе скажу, и выполняй Мою волю. А в чем она состоит? «И обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей» — сообщай им то, что Я тебе прикажу. Что же, с ветхозаветных времен Богу нечего было сообщить людям? Бог — Творец истории, Он один знает, куда направлять ее ход, но люди этого не знают и постоянно сбивают ее с нужного направления. Чтобы пресечь эти сворачивания в сторону, Господь применяет разные средства: ниспосылает через Свою Церковь вразумляющий Святой Дух, попускает для нашего вразумления всякие наказания, например, жестоких правителей, воздвигает пророков, предупреждающих о грозящих наказаниях и указывающих, что надо делать, чтобы их избежать, а также открывающих людям те тайны мироустройства, знание которых поможет им реализовать вышний Замысел о человечестве, называемый Божественным Домостроительством.
Обилие пророков в древнем Израиле было вызвано тем, что население надо было подготовить к приходу Мессии, т.е. Христа. Но и позже, уже в христианскую эпоху пророки Божьи не переводились. Таковыми стали теперь по своей сути вещавшие истину великие Учители Церкви, без которых не сформировалось бы православное богословие. А начиная с семнадцатого века в Европе один за другим стали появляться пророки нового типа — великие ученые, делавшие поразительные открытия в области естественных наук, особенно математики, физики и химии. Для этих открытий требовалась такая гениальная одаренность ума, которой может наградить человека только Бог, но и ее одной было недостаточно для того, чтобы познать то, что они познали — тут требовалась еще подсказка Суфлера. И они прислушались к такой подсказке, называя ее «вдохновением» или «озарением». Если кто-то усомнится, что эти «быстрые разумом Невтоны» посылались свыше, и будет утверждать, будто их способности были чисто природными, то пусть он объяснит, почему в какой-то момент природа перестала производить такого калибра гениев. Этот момент — середина прошлого столетия. Последним великим математиком был Анри Пуанкаре (1854—1912), последними великими физиками — создатели квантовой механики, жившие в начала XX века (к ним относятся Планк, Бор, Шрёдингер, Гейзенберг, Паули и несколько других), последним великим химиком (работавший в новейшей отрасли химии, называемой молекулярной биологией) — Джеймс Уотсон (родился в 1928 г.), открывший в 1953 г. механизм синтеза белков на рибосомах под управлением нуклеиновых кислот.
С тех пор такие гении уже не рождались, и само понятие «великого учёного» сильно девальвировалось. Скажем, великим математиком современности провозглашают Перельмана, который всего-навсего нашел формальное доказательство той истины, которая была известна еще Пуанкаре. А искать среди нынешних учёных великих физиков или химиков никто и не пытается. По сравнению с теми, которые были еще сто лет назад, они просто пигмеи.
Почему же Господь перестал посылать человечеству естественнонаучных пророков? По той, наверное, причине, что они сделали свое дело и больше не нужны. За три века эти харизматики обогатили людской род таким объёмом знаний о свойствах материи, какого мудрецы прежних времён не выведали за несколько тысяч лет. К каким же последствиям привело нас овладение этим знанием?
Во-первых, изменились условия людского быта — была создана искусственная среда обитания (в основном, в городах), несомненно более комфортная, чем прежняя, но и уступающая ей по многим показателям, связанным именно с ее искусственностью: с отрывом человека от природы.
Во-вторых, шагнула вперед медицина, санитария и гигиена, что позволило поднять средний срок жизни человека и совершенно уничтожить многие эпидемические заболевания, например, оспу и чуму. Это, безусловно, положительное последствие.
В‑третьих, на совсем позднем, недавнем этапе своего развития естествознание стало возвращать нас к религиозному мировоззрению, почти совсем оставленному в период громких первых достижений материалистической науки. Это тоже хорошо.
В‑четвёртых, была создана глобальная система коммуникации, которая сделала человечество более способным к контактам, чем когда-либо прежде.
Лучше или хуже стало людям от этих коренных изменений? Это праздный вопрос: раз Бог содействовал им, воздвигнув Ньютонов и Менделеевых, значит, они входили в Его Замысел.
Отдельно стоит поговорить о четвёртом пункте.
Если в трех предыдущих пунктах мы имели дело с чем-то вполне состоявшимся, чему можно давать оценку уже сегодня, то здесь мы находим лишь условия того, чему оно будет содействовать. Сама по себе возможность установления любых межчеловеческих контактов с помощью интернета или авиалиний еще не есть что-то положительное или отрицательное — важно, к чему приведут эту контакты. Не может же быть, чтобы провиденциальный смысл интернета состоял в том, чтобы с его помощью можно было завязывать романтические знакомства и обмениваться порносюжетами.
Об этом мы поговорим позже, а сейчас возвратимся к тому, с чего началось наше обсуждение науки, — к вопросу о том, существуют ли такие каналы поступления к нам информации о мире, которые не связаны ни с нашим чувственным восприятием (с образами), ни с логикой. Закончившаяся на наших глазах трехвековая эпоха науки, вопреки тому, что она горячо исповедовала сенсуализм и рационализм, самим своим появлением в истории убедительно доказывает наличие таких каналов, ибо науку создали именуемые великими учёными пророки, пользовавшиеся именно этими каналами.
Разговор третий: … и с математикой
Вывод, к которому мы пришли в конце предыдущего разговора, многим читателям покажется парадоксальным — он свёлся к утверждению, что основы науки ненаучны, а это значит, что и сама наука ненаучна. Как это может быть?
На самом деле в этом утверждении нет не только ничего парадоксального, но даже и ничего нового. Недоразумение исчезнет, если договориться, в каком смысле мы будем понимать слово «наука» — в узком или широком.
Если говорить о науке как о сформулированном знании, с которым может ознакомиться всякий желающий, т.е. как о теории, то она, конечно, должна подтверждаться наблюдением и строгим рассуждением — никакой мистики, никаких «откровений» здесь не может быть. Но созданию всякой теории предшествует перебор ученым различных гипотез, и тут он, если ему это помогает, волен обращаться к любой мистике и даже к снам — всё равно эти подсказки будут проходить опытную и логическую проверку, прежде чем стать теорией.
Есть наука как продукт готовый к употреблению, а есть наука как кухня, на которой готовится этот продукт, и надо всегда помнить, что это разные вещи.
Кулинар изготавливает свое блюдо из мяса, овощей, крупы и тому подобного, и ему неважно, откуда это всё к нему доставляется. Учёный подготавливает свою теорию из идей, и ему тоже нет дела до того, по каким каналам они приходят ему в голову. Гроссмейстер Котов в партии с Авербахом в середине игры почти при всех фигурах на доске пожертвовал ферзя и через 22 хода одержал победу. В интервью, данном по этому поводу, он сказал: я, конечно, не мог рассчитать двадцать два хода вперед — это не под силу никому; но какой-то внутренний голос говорил мне, что если я отдам ферзя, то у противника возникнет матовая ситуация, которой я, может быть, сумею воспользоваться. Этот «голос» наверняка был беззвучен, и в глазах Котова не прыгали шахматные фигуры, совершая свои ходы — в этом он сам признался. Его, впрочем, и не особенно интересовала природа этого «голоса» — важно, что он помог выиграть партию. Зато нас с вами она должна очень заинтересовать, ибо в этом случае мы сталкиваемся с передачей и получением каким-то обходным путем, не затрагивающим чувственных ощущений, конкретного знания — знания о том, что после жертвы ферзя через какое-то время можно будет поставить мат. Если внечувственным или сверхчувственным способом можно узнать, какoй ход нужно сделать в шахматной игре, то почему нельзя таким же способом узнать, каков окружающий мир без наблюдателей — не как он выглядит, а какой он есть?
Таким образом, решать проблему онтологии нужно начиная с решения проблемы гносеологии (так называется раздел философии, изучающий средства познания). Методологически правильной будет такая предварительная постановка вопроса: существует ли доступный человеку язык, совершенно не содержащий даже самых дальних ассоциаций с чувственными образами, на котором, тем не менее, можно было бы описать вполне определенные свойства принципиально ненаблюдаемого объекта? Ответ: такой язык существует — это язык чистых абстракций. Действительно, абстракции потому и называются абстракциями, что они абстрагированы от всего предметного, чувственно воспринимаемого. Их никак нельзя вообразить. Как вообразить, например, такое понятие, как «непостижимость»? И таких чувственно непредставимых понятий очень много, и мы постоянно употребляем их в нашей речи.
Но чтобы служить средством описания чего-либо, абстрактные понятия должны, во-первых, образовывать некую систему, и, во-вторых, быть фиксируемыми, чтобы это был не только устный, но и письменный язык, на котором можно было бы передавать информацию от одних людей к другим и накапливать ее для будущих поколений. Короче говоря, надо, чтобы эта система могла быть наукой. Возможна ли такая абстрактная наука?
Вы скажете: как же, такая абстрактная наука давно существует — это математика. Ответ правилен только наполовину. Надо уточнить, о какой математике идет речь.
В самом общем определении математика есть не абстрактная, а точная наука — эта характеристика относится ко всем ее разделам. Но те разделы, с которых математика начиналась, далеко не абстрактны.
Еще в XIX веке Энгельс определил математику как «науку о пространственных формах и количественных отношениях действительного мира». Правда, к тому времени это было уже безграмотное и неверное определение, но за тысячу лет до Энгельса (когда индусы и арабы не изобрели еще алгебры, т.е. не начали обозначать цифры буквами) так можно было о ней сказать. Долгое время математика сводилась к геометрии и арифметике, а эти ее разделы и вправду отражают свойства того, что люди считают действительным миром (напомню, что на самом деле это только образ внешнего мира). И геометрия с ее фигурами, и арифметика с ее числами были лишь логической систематизацией и обобщением того, что видит глаз. Даже изобретение нуля и переход к позиционной системе счисления был только техническим приёмом, облегчившим счет, но нисколько не отдалившим нас от предметного восприятия. У эллинов, правда, дважды возникала ситуация, когда они были на грани того, чтобы выйти за пределы эмпиризма, но они так и не решились это сделать.
В первый раз это произошло, когда греки сделали поразившие их открытие: длина диагонали квадрата, сторона которого равна единице, не может быть выражена никаким числом. Числами же они признавали только целые числа и дроби, в которых и числитель, и знаменатель являются целыми числами. Потом, уже в новое время, такие дроби были названы «рациональными», т.е. понятными разуму.
Обнаружили же эллины этот факт благодаря своему пристрастию к логике. Они рассуждали здесь своим излюбленным методом «от противного».
Пусть диагональ единичного квадрата выражается несократимой дробью n/m. Построим треугольник из двух смежных сторон квадрата, которые будут катетами, и его диагонали, которая будет гипотенузой.
Тогда, по теореме Пифагора, мы получим:
(n/m)2 == 12++12
Таким образом,
n2/m2 == 2
n2 == 2m2
Число n2 получается умноженным на два числом m2, значит n2 четно. Но тогда и само n четно, ибо нечетное число, возведенное в квадрат, тоже нечетно. Значит, число n можно записать в виде удвоенного числа k (k — это половина n):
n == 2*k Отсюда
(2*k)2 == 2m2
4k2 == 2m2
2n2 == m2
Из последнего равенства видно, что число m2, а значит и само m четно. Выходит, и числитель, и знаменатель нашей дроби четны, но это значит, что ее можно сократить на два. Однако мы предположили, что она несократима, т.е. все возможные сокращения были предварительно уже проделаны.
Возникшее противоречие доказывает, что числа, выражающего длину диагонали единичного квадрата, не существует.
Установившие этот факт греческие математики так и не узнали, что совершили одно из величайших открытий всех времен. Его громадное познавательное значение проясняется только сегодня. Греки открыли, что в конструировании образа окружающего мира фундаментальную роль играют две имеющиеся в человеческом сознании еще до всякого опыта, т.е. априорные категории — непрерывность и дискретность; — и они несовместимы. Человек может мыслить некий объект либо как единый, слитный, сплошной, не имеющий частей, либо как множественный, составной, расчлененный, состоящий из других объектов; представить его одновременно и таким, и таким он не в состоянии.
Вопрос об априорных категориях нашего сознания, вложенных в него изначально, серьезно исследовал Кант, и одним из главных его достижений в этой области считается учение о том, что образ внешнего мира, при самом своем зарождении внутри нас, опирается на такие врожденные элементы нашего сознания, как пространство и время. Сама постановка Кантом этой проблемы вполне достойна настоящего философа, но пространство и время всё-таки надо признать вторичными категориями, а первичны — непрерывность и дискретность.
Пространство и время не могут быть названы элементами нашего сознания, ибо элемент неизменяем, а пространственную категорию мы можем наполнить и сплошными, и прерывистыми зрительными образами. То же относится и к категории времени — его течение можно мыслить как плавное, и как разорванное на отдельные события. А вот понятия плавности и разорванности разделить на более фундаментальные понятия уже невозможно — они атомарны.
Ошибка, сделанная Кантом при выборе априорных категорий, как раз и привела его к агностицизму — отказу обсуждать свойства внешнего мира («вещей в себе»). Понятие пространства так неразрывно связано со зрительным восприятием, так от него неотделимо, что эта категория, провозглашенная доопытной, сливается с категорией опытной — зрительным ощущением, — и всякая надежда узнать что-то о невидимых свойствах внешнего мира еще до того, как что-то увидишь, исчезает, так что об этих свойствах нечего и рассуждать. Так же, как о внепространственном, бессмысленно в кантианстве говорить о вневременном, ибо говорить можно только о том, что как-то себе представляешь, а лишь начав представлять что-либо, человек погружает его в поток времени. Отсюда и агностицизм.
Древнегреческая теорема о диагонали квадрата наталкивает на мысль взять в качестве априорных категорий сознания непрерывность и дискретность. Но тут возникают два вопроса: удастся ли выразить в этих категориях действительно внеопытные характеристики, и нельзя ли так уточнить эти категории, чтобы их априорность не вызывала никаких сомнений?
Ответить на эти вопросы нам поможет еще одно выдающееся достижение эллинской математики, связанное с именем Архимеда.
Древнегреческий аристократ Архимед (287—212 до н.э.), племянник сиракузского царя Гиерона, по всем рейтингам входит в пятерку величайших учёных, когда-либо живших на земле. В области математики он прославился тем, что придумал необыкновенно изящный способ вычисления объёмов тел вращения — шара, цилиндра и конуса. Воспроизводить его мы здесь не будем — он, хотя и очень красив, но достаточно сложен, — а лишь ознакомимся с его идеей. Архимед рассматривает трехмерную фигуру как совокупность ее плоских двумерных сечений, и — хочется сказать — определяет ее объем как сумму объемов этих сечений. Но как такое произнести? Ведь объем каждого сечения фигуры плоскостью равен нулю, а сколько нулей ни складывай, получишь всё тот же нуль. А у Архимеда получился не нуль, а величина объёма фигуры. Как же ему удалось перехитрить законы логики?
Хитрость им действительно использовалась, точнее, дерзость. Но она была так искусно замаскирована, что ее никто не заметил. В чем она состояла, выяснилось только через девятнадцать столетий, когда Ньютон и Лейбниц распространили метод Архимеда на вычисление объемов любых трехмерных тел — тут камуфляж уже не срабатывал. Дерзость пришлось рассекретить, и с этого момента огромные усилия математиков посвящались тому, чтобы ее узаконить, ибо на ней было основано интегральное исчисление, без которого наука уже не могла обходиться. В чем же заключалась суть столь плодотворного фокуса?
Вообразим объемное тело, которое представляет собой стопку писчей бумаги высотой, скажем, в десять сантиметров. Мысленно сделаем листы бумаги вдвое тоньше, но при этом вдвое увеличим их количество. Стопка будет выглядеть точно так же, как и прежде. Начнем раз за разом повторять эту процедуру. Что станет при этом происходить? Толщина бумаги будет неограниченно уменьшаться, приближаясь к нулю, а количество листов будет неограниченно возрастать. Можем ли мы предположить, что это количество тоже будет приближаться к чему-то столь же конкретному, как нуль? И логика, и здравый смысл говорят нам, что это очень странное предположение — количество листов будет расти и расти, и конца этому росту мы никогда не дождёмся. Но тут появляются чудаки, которые говорят: нет, процесс закончится, и толщина листа станет нулем, а количество листов достигнет какой-то величины и дальше меняться не будет. Конечно, эта величина не будет числом — тут совершится качественный переход от чисел к чему-то иному.
Это иное, стоящее выше всех чисел, но столь же реальное, как и числа, получило название актуальной бесконечности (математики говорят о ней просто как о бесконечности). К ней долго привыкали, но в конце концов привыкли и стали оперировать с ней так же спокойно, как с числами, хотя и по другим правилам.
Фокус, проделанный Архимедом, заключался в том, что он совершил головокружительный прыжок: завершил в своем сознании незавершаемый процесс суммирования всё возрастающего количества всё уменьшающихся слагаемых. Сознательно или интуитивно он это сделал, никто никогда не узнает, но что можно сказать с полной уверенностью — он сделал это первым в истории науки. И этот прыжок дал блестящий результат. Когда же с легкой руки Ньютона и Лейбница этот фокус вошел в научную практику под именем математического анализа, куда более потрясающие результаты посыпались градом. В частности, сам же Ньютон, пользуясь этим фокусом, в одиночку создал научную физику, которой до него не существовало.
В человеческом эмпирическом мире, который всеми, кроме настоящих философов, считается объективной действительностью, мысленное удвоение числа никогда не может закончиться, а сумма нулей никогда не станет положительным числом. Однако, допустив, что такое может происходить, учёные совершили грандиозный прорыв в познании сущего, позволивший человечеству создать космические ракеты, ядерные бомбы и сотовые телефоны. Но познанием какого сущего это было? Ведь в нашем человеческом сущем этого как не могло быть, так и не может. Значит это есть в некоем другом сущем, абсолютно не похожем на наше, но каким-то таинственным образом с ним связанным. Надпись «Кант, ты был неправ», которую сделал на могиле философа кто-то из наших солдат, когда они в сорок пятом вошли в Кёнигсберг, была совершенно справедливой: «вещи в себе» вовсе не являются непознаваемыми, только познаются они не прямым способом. Сегодня, в свете огромного накопившегося опыта их познания, следует выразиться категоричнее: познать их можно только не прямым способом. Любое, даже самое минимальное обращение к чувственным образам сразу испортит здесь всё дело, и мы ничего не добьёмся.
Мир в себе трансцендентен по отношению к миру для нас, и описывать его можно лишь на языке чистых абстракций, не нагруженных никакой эмпирикой.
Парменид был очень близок к пониманию этой истины: видимые свойства вещей он считал иллюзорными, а человеческую логику вместе со своим учеником Зеноном выставлял на посмешище, демонстрируя абсурды, к которым она приводит (так называемые «апории» Зенона). Основоположник европейской философии сразу поставил ее на верный путь. К сожалению, всего через сто с небольшим лет ее совлек с него Платон (428—348 до н.э.), о котором необходимо сказать несколько слов.
Платон несомненно входит в десятку самых знаменитых людей мировой истории, это факт. Но этот факт ровно ничего не говорит об истинном масштабе этой личности. Несостоятельность этого критерия видна хотя бы из того, что в ту же десятку зачисляют Дарвина. Как Дарвин не был настоящим биологом, так и Платон не был настоящим философом. Но именно их сделали символами упомянутых наук, что нанесло развитию культуры колоссальный вред.
Платон по достоинству оценил гениальное прозрение Парменида об иллюзорности видимого мира и о существовании более реального невидимого мира. И с жаром популяризатора науки, желающего разжевать для публики мысль учёного, взялся подробно описывать этот скрытый от наших глаз главный мир. И моментально всё опошлил.
Каким бы красноречивым и литературно одаренным ни был философствующий автор, давая ему историческую оценку, надо исходить не из этого, а из того, что нового он сказал и насколько им сказанное помогло человеческой мысли сделать шаг вперед. Применяя этот критерий к Платону, мы получим удручающий результат.
Новым в наследии Платона его поклонники считают то, что он, якобы впервые, представил сущее состоящим из двух слоев — видимого и невидимого, — и провозгласил невидимый слой первичным и истинно реальным, а видимый — вторичным, производным, элементы которого, называемые «вещами» или «предметами», являются всего лишь тенями, отбрасываемыми реальностями невидимого бытия. Вот так новость! Вот так открытие Америки! Вот так изобретение велосипеда! Историки говорят нам, что до пятнадцатого века на земле не было ни одного народа, не имевшего религии, вмещавшей в себя и миропонимание, и философию, но абсолютно все религии исходили из постулата о существовании невидимого мира, населенного существами, которые управляют видимым миром. Так что здесь ни о каком шаге вперед нет и речи. Может быть, тогда Платон продвинулся вперед в том, что правильно описал устройство невидимого мира и природу тех сущностей, которыми он населен? Нет, в этом вопросе он как раз сделал явный шаг назад.
Свой невидимый слой сущего, названный позже «платоновскими небесами», он сконструировал самым примитивным приемом: взял видимый мир и содрал с него плоть. Так вместо облаченных в материю «вещей» появлялись их голые «идеи». Идея лошади у Платона — та же самая лошадь, только лишенная всех изъянов, которые сообщает земной лошади несовершенная плоть. Дальше нам обсуждать платонизм не имеет смысла — желающий убедиться, что платоновские небеса битком набиты противоречиями, может ознакомиться с их развернутой критикой Аристотелем, сказавшим «Платон мне друг, но истина дороже».
Впрочем, чтобы отвергнуть учение Платона, вовсе не обязательно вдаваться в его детали. Оно неприемлемо по самой своей сути. Первичное сущее, по отношению к которому наш видимый мир является вторично сущим, или производным, не должно быть похоже на наш мир. Эти две составляющие мироздания не дублируют, а дополняют друг друга — то, чего нет в одном, присутствует в другом, иначе в его двуслойности не будет никакого смысла. Это прекрасно понимал Парменид. Его ЕДИНОЕ и МНОГОЕ, вместе образующие ВСЁ, противоположны по своим характеристикам, между ними нет ничего общего. Но европейская мысль не подхватила его начинания, и к предложенной им модели сущего, в которой принцип двуслойности сочетается с принципом дополнительности, наука вернулась только в двадцатом веке, да и то не философия, а физика, да и то не по своей воле, а под давлением фактов.
Как уже было отмечено, решающий прорыв в познании свойств чувственно воспринимаемого мира произошел тогда, когда ученые ввели в свой математический исследовательский аппарат недоступное чувственному восприятию понятие актуальной бесконечности. С этого момента в развитии европейской математики обозначились две противоположных тенденции: стремление узаконить бесконечные множества (в частности, числовой континуум), дать им строго логическое определение, снизить до минимума уровень их абстрактности, и создание всё менее и менее доступных чувственному представлению понятий, т.е. значительное повышение степени отвлеченности теории. И если попытки «арифметизации анализа», отнявшие столько времени и сил у лучших математиков восемнадцатого и девятнадцатого столетий, так и остались бесплодными (и в 1979 году Парис и Харринггон доказали, что арифметизация анализа невозможна), то построения, основанные на крайне отвлеченных идеях, неизменно приносили естествознанию огромную пользу. Так было, например, в механике. Ее второй закон Ньютон сформулировал в терминах массы, силы и ускорения. Эти понятия хотя и не определяются через наши чувственные ощущения, но всё-таки ассоциируются с ними — их можно «прочувствовать», вообразив, как ты толкаешь тележку с тяжелым грузом. Второй Закон Ньютона позволил решить многие задачи механики, но когда через сто лет после Ньютона Мопертюи ввел понятие «действие», круг эффективно решаемых задач сильно расширился — этому способствовал «принцип наименьшего действия». А «действие» является весьма искусственной величиной, имеющей размерность произведения энергии на время и никаких ассоциаций в человеческом сознании не вызывающей.
Второй пример еще разительнее. Геометрия Лобачевского, в которой через данную точку может проходить бесконечное множество прямых, параллельных данной прямой, не только не поддается чувственному осмыслению, но явно противоречит тому, что подсказывает нам наше зрение; тем не менее эта «воображаемая геометрия», как назвал ее сам Лобачевский (а было бы точнее назвать ее «невообразимой»), сыграла огромную роль в развитии аппарата теоретической физики, в частности, подготовила создание общей теории относительности.
История европейского естествознания демонстрирует нам странную закономерность, требующую объяснения: чем более очищена теория от чувственного опыта, чем дальше отходит она от эмпирического мира, тем точнее ее выводы описывают наблюдаемые свойства этого мира. Возникает парадоксальная ситуация: чтобы приблизиться к пониманию того, что дается нам в ощущении, надо уйти от этих ощущений как можно дальше. На загадочность этого факта обратил внимание научной общественности известный американский физик Юджин Вигнер в свой публичной лекции 1959 года «Непостижимая эффективность математики в естественных науках». Вот его слова: «Невероятная эффективность математики в естественных науках есть нечто, граничащее с мистикой, ибо никакого рационального объяснения этому факту нет».
Нам неизвестно, что понимал Вигнер под «рациональным объяснением», но вполне убедительное объяснение этому факту дать не так уж трудно.
Он не будет вызывать никакого удивления, если сделать одно прекрасно вписывающееся в настоящую философию мировоззренческое допущение: чувственный мир не является самостоятельным, а управляется сверхчувственным миром, имеющим совершенно иную природу и принципиально недоступным нашему наблюдению, ибо его свойства невидимы, неосязаемы и вообще неощутимы. Если так, то бесполезно искать законы поведения видимого мира в нём самом — он ведь пассивен. Для того, чтобы объяснить процессы, происходящие в управляемом, нужно понять процессы, происходящие в управляющем. Но поскольку управляющее сверхчувственно, познать его можно только на языке, свободном от всяких чувственных ассоциаций, т.е. на языке голых абстракций. Вот поэтому-то математика как абстрактнейшая из точных наук идеально приспособлена для выявления и описания свойств управляющего видимым миром (или тем, что мы называем внешним миром) невидимого мира. Это то, что останется, если из вселенной убрать всех наблюдателей. И совершенно естественно, что чем абстрактнее математический аппарат, чем дальше уходит он от наших ощущений, тем адекватнее он становится описываемому им предмету — внешнему миру самому по себе, и тем эффективнее делается в качестве средства его познания. Вигнер так удивился этому только из-за того, что в университете, где он учился, ему не преподали курса настоящей философии. Ели бы ему рассказали, что еще за пятьсот лет до Рождества Христова Парменид знал о невозможности признать иллюзорное видимое иначе, чем через познание реального невидимого, и что последнее познаётся лишь чистым умозрением, эффективность того абстрактного инструментария теоретической физики, в которой он сам участвовал, была бы для него не мистикой, а чем-то совершенно естественным.
Этот инструментарий, получивший название квантовой механики, был обретен физиками лишь после того, как они окончательно порвали со всякими подсказками со стороны здравого смысла, чувственных ассоциаций, даже обычной логики и взяли на вооружение абсолютно непредставимые понятия, доступные только «умозрению», — такие как бесконечномерное пространство, операторы, переводящие в этом пространстве одну функцию комплексного переменного в другую функцию, матрицы бесконечного формата и т.п. Использование этих абстракций давало хорошие практические результаты — помогало объяснять и предсказывать поведение наблюдаемых физических объектов, и учёные привыкали к ним как к некоей «второй реальности», не забывая при этом, что она имеет лишь методологическое значение. И однажды в 1926 г. Шрёдингер (1887—1961), читая студентам лекцию, из чисто методологических соображений представил на доске свойства свободного электрона в виде уравнения — так запись получилась более короткой. И тут его осенило: а может быть, уравнение такого типа описывает поведение не только электрона, но и любой физической системы? Это было такое же прозрение, как то, которое посетило Ньютона, когда он увидел падающее на землю яблоко. В тот момент родилась классическая физика, в этот момент — сменившая ее квантовая физика. Продвижение вперед состояло в том, что изменилась формулировка фундаментального понятия естествознания — «законов природы». В классической физике это были законы механики Ньютона плюс его же закон всемирного тяготения, плюс сотни открытых законов, в квантовой же физике их все заменил один-единственный закон — уравнение Шрёдингера. С чем связана такая компактность? Конечно, с тем, что в «классике» законы относятся к наблюдаемым величинам, образующих «Многое» Парменида, а в квантовой теории закон относится к его ненаблюдаемому «Единому», получившему теперь название «пси-функции», поэтому и он тоже только один. Уравнение Шрёдингера описывает эволюцию пси-функции физической системы; решив его и найдя эту функцию, мы по определенным правилам можем определить, какими будут в момент времени t наблюдаемые характеристики этой системы — местоположение, скорость, энергия и т.д.
Пси-функция физиков — это и «Единое» Парменида, и «вещи в себе» Канта, и «объективная действительность» и «мир сам по себе», и «мир, какой он есть на самом деле», и «мир без нас», и «то, что останется, если из вселенной исчезнут все чувствующие субъекты». Квантовая физика, увенчавшая трехсотлетие европейского естествознания, с полной достоверностью смогла сказать об этом таинственным нечто кое-что совершенно конкретное, выражающееся в свойствах пси-функций.
- Закон движения любой данной физической системы целиком определяется законом эволюции ее пси-функции, т.е. ее уравнением Шрёдингера. Эта абсолютная зависимость наблюдаемого от ненаблюдаемого устанавливается теоремой Джона фон-Нёймана о том, что не существует классической модели системы, адекватно описывающей ее наблюдаемые свойства. Это означает, что в физике формулирование законов, относящихся к наблюдению, в терминах самих наблюдаемых, принципиально ошибочно. Чтобы понять видимое, надо углубиться в невидимое.
- Пси-функция всякой отдельно взятой физической системы описывают поведение этой системы не вполне точно, ибо не учитывает воздействие на нее окружающих систем. Чтобы теория лучше совпадала с практикой, надо учесть влияние хотя бы ближайших объектов. Но в силу так называемого «принципа суперпозиции» квантовой механики, нельзя при этом просто добавить к пси-функции каких-то слагаемых — тут приходится искать совершенно новую пси-функцию, относящуюся к расширенной системе, т.е. начинать всё с нуля. Этот принцип можно сформулировать так: пси-функция любой физической системы не состоит из пси-функций входящих в эту систему подсистем, другими словами, она не имеет частей.
Как же нам всё-таки познать истинное поведение физических объектов? Выход один: последовательно расширять систему и при каждом очередном расширении находить для нее новую пси-функцию. Понятно, что истинное познание вещей даст нам только всеохватывающая универсальная пси-функция, относящаяся ко всей вселенной в целом. Все остальные пси-функции в той или иной мере ошибаются.
- Возможности практического использования квантовой физики для познания окружающего мира ограничены, и в настоящее время они, по-видимому, исчерпаны. Ограниченность познавательной силы квантовой физики обусловливается двумя обстоятельствами. Во-первых, чтобы найти описывающую поведение системы пси-функцию, нужно решать дифференциальное уравнение в частных производных, называемое уравнением Шрёдингера, а попробуй-ка его реши! Строгое решение, полученное для атома водорода и потрясшее в свое время учёных, ибо оно описало с точностью до седьмого знака после запятой все линии спектра водорода, так, вроде, и осталось высшим достижением этого рода — «обсчитать» атом гелия удалось уже только с помощью не совсем корректных приёмов. Во-вторых, как мы уже знаем, точную картину поведения наблюдаемых объектов может дать только универсальная пси-функция всей вселенной, а для нее даже просто написать уравнение Шрёдингера нет никакой возможности.
Используя весь потенциал современной математики и исходя из квантовой идеологии, учёным удалось получить всего два существенных практических результата: создать атомную энергетику и атомное оружие и разработать полупроводниковую электронику, т.е. интернет и сотовые телефоны. Принеся человечеству эти дары, квантовая физика, похоже, потеряет всякую прагматическую ценность и сохранит за собой лишь мировоззренческое значение. Но оно очень велико, ибо это мировоззрение оказалось верным. Водородная бомба, исключившая из жизни человечества масштабные войны, и компьютеры, без которых немыслимо функционирование современного общества, доказывают это неопровержимо. Как сказал знаменитый физик Фейнман, «нет двух миров — классического и квантового — есть только один мир, с которым мы имеем дело, и этот мир квантовый». А это значит, что сущее без наблюдателей совсем не похоже на то, что наивное сознание считает объективной действительностью и что возникает только в акте наблюдения. К этой истине вплотную подобралась настоящая философия, теперь всякие сомнения в ней отпали: физика и математика помогли ей восторжествовать. Отталкиваясь от этой непреложной истины, мы и будем вести наш следующий разговор.
Разговор четвертый: Поговорим и о нас самих
Итак, с помощью математики и квантовой теории мы кое-что важное о мире без наблюдателей всё-таки узнали: физическая его составляющая представляет собой универсальную пси-функцию. Конечно, тут сразу встает вопрос, есть ли в нем другие составляющие, и если есть, то что они такое, но к нему мы возвратимся позже. Пока же от мира без наблюдателей перейдем к наблюдателям. Это — вторая сторона сущего, поэтому, не поняв ее, нельзя понять и само сущее.
Если при постижении мира в себе нам пришлось идти окольными путями, по капле выдавливая из своих рассуждений все собственные ощущения и пользуясь только умозрением, высший фазой которого стали высокоабстрактные математические понятия, то при осмыслении природы наблюдателей нам следует обратиться прежде всего как раз к своим ощущениям, ибо наблюдателями являемся мы сами, поэтому здесь надо следовать наказу Сократа «познай самого себя».
И вот я всматриваюсь в самого себя. Что же я там обнаруживаю в первый же момент? С чего я начинаюсь? Декарт считал, что с мысли. Этот вздор не заслуживал бы даже упоминания, если бы не был с восторгом принят и не породил доминирующей мировоззренческой доктрины Нового Времени, именуемой рационализмом. Будучи математиком, Декарт считал, что всякое умозаключение должно выводиться из очевидного постулата, и в качестве такого постулата он взял утверждение «Я мыслю, следовательно я существую». Между тем, совершенно очевидна не его истинность, а его вопиющая нелепость, полная несовместимость со здравым смыслом, на который предлагал опираться Декарт в познании. Неужели можно поверить в то, что родившийся на свет младенец, оповещая мир первым криком о своем существовании, хочет сказать «Я мыслю!»? Мыслить он начнет только тогда, когда чуть-чуть освоит язык, а это будет только через несколько месяцев. А существует он с момента рождения. А животные, не умеющие мыслить, что же, они не существуют? Декарт чувствовал, что наличие бессловесных тварей рушит его концепцию, поэтому объявил животных бесчувственными автоматами, т.е. существующими в низшем смысле — как мертвая материя, тогда как человеческое существование есть внутренняя активность, и начало этой активности есть мысль. У рационализма мысль есть условие существования — сперва мысль, потом существование.
Как мог такой абсурдный тезис утвердиться в европейском сознании? Секрет в том, что этот абсурд сам по себе был никому не нужен и никого серьезно не интересовал; он просто подготавливал почву для того, что действительно интересовало людей Нового Времени — тщательное изучение свойств материи. Формула «cogito ergo sum» не выдерживает философской критики, но она и не подлежит такой критике, ибо это не философия, а гносеология и методология, которая идеально подходит для естествознания, ибо его целью является познание законов, управляющих материей, вечных и неизменных как сама материя, а значит четких и определенных. Познать эти «законы природы» можно только одним способом: выразив их на столь же четком и определенном языке логики и математики, а это есть рациональное познание. Так в истории человечества началась четырехсотлетняя эпоха рационализма и материализма, она же Новое Время, она же Модерн, она же период зарождения, расцвета и заката протестантской цивилизации.
Эту заканчивающуюся на наших глазах эпоху невозможно вычеркнуть из истории хотя бы потому, что мы долго еще будем иметь дело с ее последствиями. Отметим два из них, самые важные.
- За время господства рационализма и материализма произошло колоссальное духовное обеднение человека, его одичание. Мир омертвел для него, превратился, как любили говорить рационалисты, в часовой механизм. Эпоха началась с того, что Декарт провозгласил автоматами животных, а продолжились тем, что французские «просветители» объявили автоматом и человека, а затем энтузиасты кибернетики задумали из железок собрать «искусственный интеллект» лучше естественного. Мерзавец, имя которого так же боязно произносить, как имя Хвостатого, разъяснил нам, что вся несказанная красота и мудрость живой природы только кажется красотой и мудростью, а на самом деле это всего лишь функциональная целесообразность, возникающая сама собой в результате автоматической выбраковки всего нефункционального. Кто, кроме неразумного дикаря, может поверить в такой бред? А европейцы поверили, подтвердив этим, что становятся дикарями. Их мир бесконечно сузился, то восприятие окружающего, которое было свойственно их предкам и которое сохранилось в мифах, волшебных сказках и поэтических легендах, они высокомерно называют «суевериями» и видят вокруг себя только то, что можно ощутить, положить в карман или съесть, и даже не думают возражать, когда их именуют «потребляющими животными» (consuming animal), ибо таковыми и являются.
- Протестантская цивилизация подарила человечеству колоссальное материальное могущество и создала для него совершенно новую среду обитания. Это ей удалось именно благодаря резкому сужению круга интересов: вся наблюдательность, данная человеку от природы, сосредоточилась на таких предметах, как движение материальных тел в тех или иных условиях, их столкновение, их вращение, их сжимаемость, изменения, происходящие в них при изменении температуры, электрическое и магнитное взаимодействия. Познавательный же аппарат признавался только один — логико-математический, ибо он лучше других мог описать «законы природы». Чтобы другие средства познания не путались под ногами и не отвлекали от работы, их объявили ненаучными и ложными. И это дало результаты.
Возмещает ли материальное обогащение человечества, ставшее итогом Нового Времени, его духовное обнищание, произошедшее в этот период? Какое из отмеченных нами последствий рационализма и материализма перевешивает — отрицательное первое или положительное второе? Это — вопрос, требующий отдельного рассмотрения. Ясно одно: если тезис о первичности мысли, несмотря на свою ложность, помог познать мёртвую материю, т.е. мир в себе, то понять живую душу, т.е. наблюдателя, он нисколько не поможет, а только собьёт с толку. Здесь не надо принимать никаких философских тезисов, а надо просто внимательно вглядеться в самих себя.
Вот я пробуждаюсь от глубокого сна, вновь обретаю существование. Что мне является в первый же момент, подтверждая, что я действительно существую? Некая мысль — например «Волга впадает в Каспийское море» или «Париж — столица Франции»? Какой вздор! Никакая мысль еще не успела прийти мне в голову. Какое-то чувство? Скажем, печаль, радость, зависть, или ревность? Ничего подобного, никакое чувство еще не успело мною овладеть. Первое свидетельство моего начавшегося с нуля существования — это ощущение моего «Я», которое я выражаю безмолвным криком «Я есть!».
Что же такое это таинственное «Я», которое не есть ни желание, ни чувство, ни мысль, а есть необходимое условие их появления во мне?
Оно дается не только мне, но и всем людям и всем высокоразвитым живым организмам (о появлении «Я» у бактерий и вирусов сказать мы ничего не можем). Все эти существа имеют массу, но связывать наличие «Я» с массой было бы ошибкой, ибо оно есть и у ангелов и у низших духов (бесов), не обладающих тяжелой телесной оболочкой. Учитывая это обстоятельство, можно предположить, что возникновение «Я» связано не с какими-либо физическими характеристиками, а с характеристиками конструктивными: оно придается объекту, имеющему достаточно высокий уровень сложности, состоящему из огромного количества согласованно действующих частей, правильно организованному парменидовскому «Многому», независимо от того, телесно оно или бестелесно. У нас нет оснований связывать существование «Я» только с компактными многоклеточными биологическими организмами — вполне можно допустить, что оно возникает и у пчелиной семьи, и у муравьиной кучи, и у сильного государства, и у Церкви. В последнем случае мы даже знаем, как оно именуется — Христос. Пчеле кажется, что она выполняет свою работу по собственной воле, а в действительности она исполняет волю «гения улья». Гражданину кажется, что он сам выбирает себе занятие, а в действительности этот выбор диктует ему Государство, обладающее собственным «Я», не совпадающим с «Я» монарха. Последнее предположение кажется мистикой только потому, что мы не можем так же достоверно убедиться в существовании этого «Я», как убеждаемся в его наличии в другом человеке или в собаке. Но и в этих существах, если говорить строго, мы вправе только предполагать существование «Я», ибо наблюдать его непосредственно нам не дано, и мы судим о нем по косвенным признакам — например, по поведению. Но и улей обнаруживает такое поведение, которое нельзя объяснить без принятия гипотезы, что у него есть «Я». С абсолютной достоверностью я могу говорить только о своем собственном «Я», ибо оно дано мне непосредственно, но если бы мы полагались только на абсолютную достоверность, то никакое познание не было бы возможно. Если же говорить не о недостижимой для нас абсолютной истине, а о максимально доступном человеку приближении к ней, то в отношении феномена «Я» вырисовываются следующее. Этот феномен присущ многоклеточным (в сотни миллиардов клеток) биологическим организмам, в том числе, человеческому, — в этом мы не сомневаемся — а также — что мы можем предположить — пчелиной семье, муравейнику, централизованному государству и Церкви. Что между ними общего? Во-первых, — множественность их элементов. Каждый из названных объектов состоит из огромного количества частей, это истинно «Многое» элеатов. Во-вторых, это не простое «Многое», а такое, которое можно рассматривать как единичный объект более высокого порядка, чем составляющие его элементы, т.е. это одновременно и «Многое», и «Единое». То, что биологический организм является отдельным единичным объектом, очевидно. А вот что говорит апостол Павел об организме Церкви: «Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены» (Рим. 12:4).
Мы — члены Церкви, каждый из которых делает свое специфическое дело, вместе образуем «Я», и это «Я» — Христос. А что будет, если из Церкви изъять Христа?
История будто нарочно, чтобы помочь нам ответить на этот вопрос, поставила соответствующий эксперимент. В начале шестнадцатого века Лютер осуществил церковную реформу, главным пунктом которой было исключение из религиозной практики таинств — этим на церковном уровне узаконивался только что заявивший о себе европейский рационализм. Лютеранская церковь не отреклась от Христа и продолжала именовать себя христианской, но порывала мистическую связь с Христом, считая мистику невежеством и суеверием, и оставила с ним связь эмоциональную и интеллектуальную. И что же получилось? Сначала лютеранская церковь обросла множеством других подобных церквей — цвинглианской, кальвинистской, англиканской и т.п., а затем весь этот конгломерат, названный «протестантизмом», начал раскалываться и рассыпаться на всё более мелкие, до нескольких человек, секты, число которых сегодня даже невозможно сосчитать. Короче говоря, стоило прекратить всего лишь одну, казалось бы, самую эфемерную связь со Христом — связь через таинства, — и церковь стала разлагаться… Но ведь ровно то же самое происходит с биологическим организмом, когда из него уходит «Я», в просторечье «душа», и он становится трупом, — разложение и распад.
Материалист скажет: тело умирает не потому, что его покидает «Я», а «Я» перестаёт существовать потому, что тело умирает. Пусть так, это не имеет особого значения, важно, что функционирование и сохранность организма и присутствие в нём «души» неразрывно связаны. Значит ли это, что они не могут существовать друг без друга? Нет, не значит. Тело может обходиться без «Я» какое-то время — в обмороке или в глубоком сне, но при этом бездействует (да и то, есть научное мнение, что это не потеря «Я», а потеря памяти о его наличии). А вот то, что «Я» не может существовать без тела, очень сомнительно. Это означало бы, что с окончанием срока существования организма кончается срок существования и его «Я». Но можно ли ставить их на одну доску, уравнивая в свойствах? Понятие «срок существования» применимо только к объектам, пребывающим во времени и с течением времени меняющимся. Таковы все материальные тела, в том числе биологические живые организмы. Организм есть определенным образом организованная совокупность частиц материи, частицы эти меняют свое местоположение и в конце концов приходят к такой конфигурации, которая неспособна функционировать, и тогда наступает момент ее смерти. Но «Я» не является материальным телом, оно не имеет к материи никакого отношения, а значит, не имеет никакого отношения ко времени, ибо современная физика установила неразрывную взаимосвязь материи, пространства и времени. Общая теория относительности утверждает, что если нет материи, нет ни пространства, ни времени — именно это сказал Эйнштейн репортёру, сходя с парохода в Нью-Йорке, когда тот спросил, в чем состоит суть его открытия. Но «Я», которое пребывает вне материи, а значит вне времени, которое не знает, что такое «время», не может иметь «срока существования». Впрочем, для того, чтобы прийти к выводу о том, что «Я» существует вне времени, не надо обращаться к теории относительности, достаточно проанализировать свой собственный опыт. Всё в моей жизни меняется со временем — внешний облик, здоровье, желания, чувства, мысли, — но мое «Я» каким было в детстве, таким и остаётся. Это та константа моей биографии, которая, как неразрываемая нить, нанизывает на себя все ее эпизоды и дает право назвать ее именно «моей». И знаете, что замечательно? Это — единственная моя константа, всё остальное переменчиво. Особенно переменчив мой внутренний мир: сейчас я хочу одного, а через минуту захочу противоположного, утром радуюсь, вечером грущу, только что думал о Маяковском, и вот уже мысль перескочила на предстоящий обед.
Кто-то скажет: как же так — ведь желания, чувства и мысли нематериальны, а раз они чужды материи, то должны быть чуждыми и времени, т.е. неизменными, а они постоянно меняются. Вот здесь мы должны сделать важное уточнение, следуя примеру настоящих философов: произвести различение близких понятий. Произнося какие-то слова, следует вдумываться в их точный смысл. Что мы имеем в виду, говоря «чувство нематериально»? Что его нельзя пощупать? Но магнитное поле тоже нельзя пощупать, равно как и гравитационное. Однако эти поля приводят в движение — да еще в какое!— то, что очень даже можно пощупать, — например, ротор электромотора и Луну. Есть и другие поля, тесно связанные с осязаемой материей, ею порождаемые и ею управляющие. Можно ли назвать их нематериальными? Оправдать такую характеристику тем, что они не имеют массы, тоже нельзя, ибо они обладают энергией, а энергия эквивалентна массе, она — та же масса, только в другом представлении. А разве не теснейшим образом связаны с нашим поведением наши побуждения, эмоции и слова, которые мы произносим про себя? Чувство страха заставляет человека побледнеть, воспоминание о постыдном поступке — покраснеть. Всё невидимое, что творится внутри нас, тут же находит внешнее водимое проявление в учащенном сердцебиении, в обильном потоотделении, в потоке слёз, в трясущихся губах. Желания, чувства и мысли действуют на наше физическое состояние как магнитное поле и якорь мотора — не следует ли из этого, что они обладают какой-то формой энергии, а значит, их нельзя считать совершенно нематериальными? Это — некая тонкая материя, как аура окружающая грубую («дебелую») материю нашего тела, и потому, вместе с телом, она существует во времени.
Совершенно иное дело — «Я». Это данность принципиально другой природы. Хотя мы говорим об ощущении «Я», но это особое ощущение — не чего-то конкретного, а всего, точнее, ощущение того, что возможны любые ощущения. И это не желание, не эмоция, тем более не мысль, а констатация того факта, что я есть. И я есть не потому, что я мыслю или что-то чувствую или чего-то хочу, — а наоборот, я могу хотеть, чувствовать и мыслить, потому что я есть. «Я» — это фундамент, на котором возводится «мир для меня», как внешний, так и внутренний. Он цельный, не состоящий из частей, и он не опирается ни на какой другой фундамент, т.е. является первофундаментом.
Попробуем сравнить его с первофундаментом «мира в себе» в его научной интерпретации. Как мы знаем, это — универсальная пси-функция. Она не состоит из частных пси-функций и не выводится из чего-либо другого. Она, как говорят нам физики-теоретики, не зависит от времени, и только редуцируя ее первичным, чисто формальным, «наблюдением», мы получаем другую пси-функцию, содержащую время в качестве параметра. В ней нет времени, но без нее не было бы никакого времени и ничего того, что меняется во времени.
Сходство между моим «Я» и вселенской пси-функцией столь разительно, что само собой напрашивается предположение: эта функция, т.е. фундамент мира в себе, есть не что иное, как «Я» всего сущего. То, что Парменид называл «Единым» и что было у него безликим и мёртвым, теперь персонифицируется, а следовательно оживает. Почему элеаты не дошли до этой идеи? Сделай они этот шаг, и им стало бы понятнее, почему «Единое» разворачивается в свое «Другое» — во «Многое»: оно хочет это сделать, ведь «Я» — это прежде всего «Я хочу!» Но видно, они не хотели оставлять без дела следующие поколения мыслителей и любезно предоставили тем возможность завершить начатую ими работу. И лет через пятьсот работа была завершена. Для этого понадобилось то, чего не было и не могло быть у философов-язычников — даваемые в Откровении религиозные понятия. Для того чтобы возвестить истину, был нужен соответствующий язык, и этот язык дало христианство.
Намёки на истину делали еще древнеизральские пророки. Вот одно из самых интересных для нас Откровений, содержащееся в Ветхом Завете: «И сказал Моисей Богу: вот, я прийду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажу мне: как Ему имя? Что сказать мне им? Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий» (Исх. 3:13).
Намёк весьма прозрачный. Сущее отождествляется здесь с «Я» Бога. Подсказку можно истолковать и в том смысле, что Сущее — это и есть Божественное «Я». Но что это «Я» собой представляет? И что понимать под «Сущим»? О Боге Библия сообщает только то, что Он Творец и Вседержитель мира, и что кроме Него нет других богов. Что же касается Сущего, то это — существующее, а что является существующим, не разъясняется. Видимо, это считалось у израильтян очевидным (заметим, что Парменид полагал необходимым дать этому понятию определение: «существует то, что можно познать; то, чего нельзя познать, не существует»). В общих чертах библейское миропонимание было следующим.
Абсолютным и вечным существованием обладает один Бог. Его существование никогда не начиналось (Бог безначален) и никогда не кончается. Бог — это живое существо, т.е. «Я», характеризующееся рядом атрибутов, но главным Его атрибутом является существование (Я есть Сущий). По неизвестной нам причине Бог соизволил поделиться этим атрибутом с внешней для него инстанцией, которую сам же и создал из ничего. Эту инстанцию Библия именует «миром»; о сотворении Богом мира повествует Книга Бытия. Существование тварного мира не абсолютно, оно вторично и производно — оно имело начало и ему придет конец («И небеса свернутся как свиток книжный, все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы» — Ис. 34:4). Сотворенный Им мир Бог увенчал человеком, придав ему свой образ и подобие, в частности, наделив его свободой. Дурно воспользовавшись своей свободой, человек вышел из повиновения своему Творцу и был наказан изгнанием из земного рая.
Что такое библейский «мир» — это мир в себе или мир для нас? Такой вопрос в Ветхом Завете даже не ставится. Более того, в нём такой вопрос и нельзя поставить, ибо библейский «мир» включает в себя человека, так что разделить его на наблюдаемое и наблюдателя невозможно. В этой системе мышления никакой «онтологической проблемы» не возникает — мир в ней есть то, что мы видим, слышим, осязаем, обоняем и вкушаем, а также мы сами со всей своей внутренней жизнью.
Но от ветхозаветного Откровения и нельзя ждать слишком многого в смысле раскрытия тайны мироздания — ведь оно лишь подготавливало человечество к принятию новозаветного Откровения, содержащего полноту истины. Библия нигде не лжёт, но она многое недоговаривает, а на что-то только намекает. Вот типичная недосказанность и в тоже время намёк: «Бог создал человека по своему образу и подобию». Формулировка очень расплывчатая, она нуждается в расшифровке. Эту расшифровку библейский пророк оставил Новозаветному Откровению, которое поставило здесь всё на свои места. И в этой расшифровке мы найдем ключ к окончательному решению онтологической проблемы.
Разговор пятый: А теперь сверимся с богословием
Новозаветное Откровение кардинально отличается от всех других Откровений, как прошлых по отношению к нему, так и будущих. Те посылались людям через людей же, пусть наделенных даром пророчества, а это принёс на землю сам облекшийся в человеческую плоть Бог, земное имя которого было Иисус, Он же по-европейски Мессия (посланник), а по-гречески Христос (помазанник Божий).
Сам Он своею рукой ничего не писал (во всяком случае, мы никаких Его автографов не имеем), но четыре Его ученика, ходившие за ним по всей Палестине в течение трех лет, записали многое из того, что Он говорил и творил, и эти бесценные мемуары как раз и составляют ядро Нового Завета — Евангелие. Его сопровождают двадцать два текста, написанных апостолами уже не о Нем, но наполненных духом Его учения и воспоминаниями о недавних потрясающих событиях, связанных с пребыванием на земле воплощенного Бога. Подлинность этих событий у сегодняшних историков уже не вызывает сомнений.
Евангелие от Иоанна, самое глубокое по своему метафизическому содержанию (за что передатчик этого содержания был удостоен титула «Иоанна Богослова»), заканчивается следующими словами: «Многое и другое совершил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь». (Ин. 21:25).
При чтении этих строк возникает недоумение: а почему бы было апостолу Иоанну не написать о Христе подробно — ведь он видел все Его свершения своими глазами и был Его любимым учеником, не разлучавшимся с Ним со второго дня Его явления народу при Иордане и до Голгофы. Завалить весь мир книгами он не мог бы по чисто техническим причинам, но написать томов двадцать этот доживший до глубокой старости харизматик, наверняка обладавший прекрасной памятью, мог бы с легкостью. Толстой прожил меньше, а насочинял же девяносто томов. А если собрать всё, что писали о нём современники, получится куда больше. Есть осуждение за действие, а есть осуждение за бездействие — не применить ли его к Иоанну Богослову? Вы знаете, какой объём занимает его Евангелие в синодальном издании Библии? Тридцать три страницы! И это показания главного очевидца самых великих событий мировой истории! Такой же упрёк можно отнести и к другим трем евангелистам. В указанном издании все четыре Евангелия вместе занимают 142 страницы. А Ветхий Завет, предваряющий Евангелие, в том же издании занимает 987 страниц. Предисловие в семь раз длиннее основного текста — разве это нормально?
Претензии к евангелистам несостоятельны. Они писали не то, что сами хотели, а то, что им было продиктовано свыше. Они были не столько очевидцами, предоставившими отчет о том, что происходило на их глазах, сколько стенографистами, внимавшими голосу с небес и фиксирующими услышанное. Это ясно из того, что у каждого из них встречаются описания того, чего никто из людей видеть не мог — например, у Иоанна ночной разговор Христа с тайно пришедшим к Нему Никодимом, переданный слово в слово. Нелепо думать, что Иисус отчитывался перед своим учеником о таком сугубо приватном разговоре — это было бы равносильно разглашению тайны исповеди. Поэтому недоумение следует адресовать тому, Кто диктовал, а не тем, кто записывал, — спросить Христа, почему Он не наполнил мир книгами о Себе, а обратился ко грядущим поколениям с предельно кратким посланием?
Есть в Евангелии еще одна особенность, которая может вызвать вопрос. В своих поучениях, заповедях, назиданиях и наставлениях Иисус почти всегда, за редкими исключениями, прибегает к иносказанию. Его излюбленная манера выражения — притча. Но иногда Он говорит не притчами, мысль Его бывает облачена в такую форму, что ее нелегко сразу и понять. Создается впечатление, что Он нарочно задает слушателям загадку: разгадаете — молодцы, не разгадаете — не надо.
Это впечатление абсолютно верно. Христос, как и созданная Им апостольская Церковь, никому не навязывали своего учения. Сегодня эта традиция сохранилась только в Православной Церкви, и это — одно из ее больших достоинств. Католики и протестанты только и делали, что всеми средствами обращали в свою веру каждого встречного, и чего же они добились? Потеряли и ту паству, которую имели вначале. А полку православных прибывает, особенно в России. У католиков храмы закрываются, а у нас новые строятся.
Тащить насильно в свою веру — значит прямо нарушать заповедь Христа «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями» (Мф. 7:6). Это очередное иносказание — речь идет, конечно, не о собачках и хрюшках, эту фразу надо расшифровывать. Что здесь имеется в виду под «святыней»? Абсолютной святостью обладает один Бог, всё остальное может сиять только отраженной Его святостью. Как может человек «дать святыню» кому-то? Поделиться с ним тем ощущением Бога, которое живет в его душе. Это ощущение и есть та «святыня», о которой говорит Иисус. А что понимается под жемчужинами? Те знания о Боге, которые являются драгоценным достоянием нашего ума. А псы и свиньи — это люди, которым чуждо ощущение Бога и которые равнодушны к богословским истинам, ибо их всецело занимают проблемы материального благополучия и карьера. Восторженно объяснять таким людям, как прекрасна жизнь в Боге и с Богом и какая философская глубина содержится в христианском учении, глупо и опасно — они будут про себя тайно хихикать над тобой, а то и сочтут тебя «психом ненормальным». Именно последнее подразумевал Иисус, говоря, что псы и свиньи, обратившись, растерзают тебя. Чтобы понять, почему принесенная Христом Благая Весть столь лаконична и облечена в такую завуалированную форму, нужно задуматься над тем, какая у нее цель. Если выразить ее одним словом, это — спасение душ человеческих, поэтому Христос имеет второе имя Спасителя. Но что значит «спасти душу» — от чего ее надо спасать и ради чего? Спасать ее надо от погибели, которая ожидает всякую душу, непригодную для пребывания в Царстве Небесном близ Бога. Таким душам вход туда закрыт, и после смерти тела они оказываются вне Него, «во тьме внешней, где плач и скрежет зубов». А как сделать душу вхожей в Божие Царство? К этому человек должен готовить ее соответствующим поведением в течение земной жизни, вырабатывая в ней нужные качества. Это поведение называется либо праведным (правильным), либо христианским, ибо ему учит Христос. Правильному поведению учат и все другие религии, в частности Ветхий Завет, который регламентирует его чрезвычайно подробно. Вот пример: «Не делайте нарезов на теле вашем и не выстригайте волос под глазами вашими по умершем» (Втор. 14:1). Таких совершенно конкретных наставлений там тысячи; следующие одно за другим, они занимают в синодальном издании Библии больше ста тридцати страниц, огромное их количество содержится и в других частях Библии, а кроме того в ней масса указаний на то, как не надо поступать, и какие наказания обрушивались на израильтян, поступавших неправильно. Столь же подробные правила поведения содержат древнеиндийские религиозные тексты, объединенные названием «Веды» (знание). Почему в Евангелии нет такой детализации и хорошо ли это?
Думается, настал момент, когда мы должны окончательно определиться в вопросе о том, уместны ли в отношении этого текста оценочные суждения. В библеистике (так называлось научное исследование Священного Писания) был период — вторая половина XIX века, когда и Ветхий, и Новый завет анализировалось по такой же методике, как анализируются светские мемуары или переписка исторических лиц — например, письма Наполеона Жозефине. Естественно, что такой подход позволял придираться к каждому слову Евангелия и открывал безбрежный простор для его критики. Это время так и называется «период гиперкритицизма». Каждый учёный-библеист в первую очередь искал в Евангелии какую-нибудь зацепку, чтобы объявить о найденной им несообразности и показать, какой он умный. Это была уже последняя степень европейского одичания, которая не могла продолжаться вечно. Библеист брал в руки чашу, наполненную эликсиром вечной жизни, и вместо того, чтобы его пить, ставил ее на стол, настраивал микроскоп и всматривался, нет ли в ее содержимом какой-нибудь пылинки, и если находил ее, безумно радовался. К счастью, гиперкритицизм себя изжил — сегодня наука относится к Священному Писанию хотя всё еще настороженно, но уже с определенным почтением. Даже до атеистов наконец дошло, что мелкие расхождения в рассказах евангелистов свидетельствуют не о фальшивости Благой Вести, а об ее подлинности, ибо если бы текст сочинялся позднейшим мистификатором, сочинитель позаботился бы о полной согласованности частей повествования.
Вот пример такого расхождения. В Евангелии от Матфея сказано, что когда Иисус с учениками переправился на другой берег Галилейского озера, Его встретили там двое бесноватых, жившие в пещерах и разрывавшие все цепи, которыми их сковывали. Иисус изгнал из них легион бесов, разрешив им войти в стадо свиней; свиньи бросились в озеро и потонули (Мф. 8:28). Об этом же эпизоде упоминают Марк (Мк. 5:2) и Лука (Лк. 8:27), но у них бесноватый только один. Фальсификатор не мог бы допустить такого разнобоя, а в предположении, что это действительная запись современников, которые что-то видели сами, а о чем-то только слышали, так и должно быть. Присутствовал при этом чуде только Матфей, Марк и Лука вообще не ходили с Иисусом и не вошли в число двенадцати апостолов, и знали о Нём лишь понаслышке. В многократной передаче из уст в уста о втором бесноватом могли забыть, так как обратился к Иисусу только один из них, а самая суть предания состоит в диалоге, показывающем абсолютную власть Бога над сатаной. Этот эпизод попущено Христом вставить в свое повествование сразу трем евангелистам, чтобы, когда возникнет манихейская ересь, против нее у православных имелось соответствующее оружие (эта ересь состоит в провозглашении симметричности добра и зла, вечная борьба между которыми и обеспечивает динамику бытия).
Из приведенного примера видно, что Господь даже евангелистам предоставил определенную долю свободы в описании несущественных деталей Своей земной жизни, и тут они могли ошибаться. Там же, где они излагают учение Христа о Боге, мире и человеке, через них доносятся до нас слова самого Учителя, и тут у них полное согласие.
Еще бóльшая мера свободы дается слушателям и читателям Евангелии в трактовке Его фраз. Правильно поймёт их только тот, кто имеет уши, и не просто как орган слуха, а уши для того, «чтобы слышать». Слышать что? Сокровенный смысл сказанного, замаскированный иносказанием. Эта маскировка — первый этап осуществления Божьего Замысла о человечестве, называемого Божественным Домостроительством и имеющего конечной целью заселение уготованного праведникам до начала мира Царства Небесного душами, заслужившими войти в него и пребывать в нём. Стратегия исполнения замысла, принятая Господом после грехопадения Адама и Евы, — это стратегия отбора. Почему человеколюбец Бог был вынужден прибегнуть к такому «негуманному» методу, Он сам объясняет в Евангелии.
«Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человек сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, — чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою» (Мф. 13:24-30).
Даже если бы до потомков дошел только этот фрагмент Евангелия, для пытливых умов, ищущих истину, он мог бы стать толчком для коренного пересмотра своего мировоззрения и построения совершенно новой космологии и антропологии, ибо в нём, как в капле воды, отражено всё учение Христа.
«Господин» здесь, конечно, Бог; чтобы догадаться об этом, большого ума не надо. Зацепившись за эту исходную расшифровку, можно раскрывать смысл притчи и дальше. Следующий шаг — осмысление того, что надо понимать под словом «поле». Это поле принадлежит Господину («посеял на поле своем»), а что принадлежит Богу? Весь мир, который Он, скорее всего и создал. Дальше расшифровка пойдёт увереннее: Бог сеет доброе семя на поле — утверждает в сотворенном Им мире добро, наполняет природу красотой и гармонией, просвещает ум человека, мудростью умиротворяет его душу.
Кто же такой «враг»? Это — враг господина, т.е. Бога, значит, он представляет то мировое зло, которое противостоит Богу-добру — дьявол, сатана, шайтан, дух ненависти и разрушения, который фигурирует во всех религиях. Его излюбленное занятие — вредить Богу, порушить всё, что Он творит, сеять в мир семена зла. «Плевелы» же — это всё то, что вырастает из таких семян: на земле — землетрясения, засухи, наводнения и другие «стихийные бедствия», в живой природе — вражда и поедание друг друга, в человеческих обществах — войны и революции, в человеческих душах — греховные страсти. В некоторых древних религиозных системах доброе и злое начала равносильны, здесь же утверждается другой взгляд: Господин сожжет плевелы, т.е. очистит мир от плодов вражеских семян, значит он сильнее своего врага.
И еще один вывод вытекает из притчи, — может быть, самый важный. Семена зла дьявол сеет ночью, на всё поле господина, значит, они могут попасть на всё, что есть в мире, в том числе и в человеческие души. Там они могут прорасти и дать зрелый плод, и тогда человек сам превратится в плевел, подлежащий сожжению, как и все другие плевелы.
Рассмотренный нами текст составляет меньше одного процента объема всего Евангелия, а, смотрите, какую заметную долю содержания Благой Вести можно из него выжать! Можно, — конечно, при желании, при наличии в душе потребности познать истину. Эту потребность Творец вложил в саму природу человека, и ее отсутствие показывает Ему, что эта душа повреждена прорастающими в ней семенами зла и стала негодным для житницы плевелом. Иносказательный язык Евангелия первое, предварительное, самое простое испытание, и тот, кто не хочет взять даже такой невысокий барьер, вряд ли преодолеет последующие барьеры — исполнение Заповедей, борьбу со своими страстями и активное участие в церковной жизни. С этого препятствия начинается Божественный Отбор человеческого материала для наполнения Небесного Царствия. Это одновременно и отбор, и набор.
Теперь о «негуманности» метода отбора. Согласно словарному определению «гуманность» есть человеколюбие, уважение к человеку, исключающее применение к нему любой формы насилия. И Бога не напрасно называют «человеколюбцем» — Он никогда не давит на человека, не принуждает его делать что-то против своей воли, бесконечно уважает его внутреннюю свободу. Богословы говорят, что человеческая свобода священна для Бога. Он бесконечно деликатен в своем воздействии на человека, Он избегает даже малейшего насилия над ним. Зато делает абсолютно всё, чтобы каждый человек добровольно встал на путь спасения души. Как говорит Церковь, «Бог хощет всем спастися и в разум истины прийти!» Здесь Он прибегает даже к чудесам. Вот одно из них: в современном безбожном мире, где власть сатаны проявляется всё явственнее, где уже узакониваются Содом и Гоморра и отовсюду вытравляется само имя Христа, где потомки отцов-основателей христианства европейцы стыдятся вспоминать о своем славном религиозном прошлом, где последний оплот правой веры, Россия, вызывает устойчивое недоброжелательство, — почему-то, вопреки всему этому, широчайше доступным остаётся Евангелие, будто оно находится под невидимым Божьим покровом, будто оно окружено какой-то магической чертой, которую сатана не может перешагнуть и, зная об этом, даже не делает никаких попыток дотронуться до святой книги.
Вот величайшее человеколюбие, высшая гуманность — в любой стране мира, в любом городе и поселке можно за какие-то копейки приобрести Новый Завет, а если кто пожалеет даже ту ничтожную сумму, которую берут за эту книгу, он может получить ее бесплатно от благотворителей.
И это в мире, где господствует сатана! Человечество погружается в пучину зла, при этом любому стоит лишь протянуть руку, и он станет обладателем исчерпывающей инструкции по избежанию этого погружения. Куда же смотрит хвостатый, почему он допускает печатание в своем царстве текста, где он прямо назван человекоубийцей, лжецом и отцом лжи, и где разъясняется, что надо делать, чтобы выйти из-под его власти?
Понятно, что он допускает это не по своей воле и не по недосмотру, а подчиняясь кому-то более сильному, который что-то ему попускает, а в чем-то его ограничивает. Кто этот Сильный, и почему Он не свяжет своего врага по рукам и ногам, мы можем догадаться, читая библейскую повесть о многострадальном Иове.
«И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И ответил сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не Ты ли оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его Ты благословил, и стада его распространяются по земле; но простри руку Твою и коснись всего, что у него, — благословит ли он Тебя? И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей; только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня» (Иов. 1:6-12).
Этот ветхозаветный текст вначале производит странное впечатление — к нему надо привыкнуть. Мы сталкиваемся здесь с необычным, в других местах Священного Писания не встречающимся, спокойным отношением Бога к сатане. Как посмел нечистый явиться к Господу вместе с «сынами Божьими», т.е. Его верными помощниками — ангелами? Он ведь не только не помогает Богу, но и всячески Ему вредит и пакостит! Но Бог не возмущается его наглостью и разговаривает с ним так спокойно, будто и он, как добрые ангелы, в чем-то Ему полезен.
Из дальнейшего повествования становится ясно, что сатана, сам того не зная и не желая, действительно служит Богу, только служба его особенная.
Сатана хочет, конечно, нанести Богу ущерб — лишить Его выдающегося праведника, сделать этого праведника богоненавистником и таким образом заполучить его душу. Сатана рассчитывает на то, что, лишившись своего материального благополучия и семейного счастья, Иов возропщет на Бога, и тут можно будет как-то его завербовать. Господь неожиданно легко соглашается отдать всё, что есть у Иова, в руки сатаны, т.е. лишить Иова всего этого. Сатана потирает руки от радости, думает: как хитро я обманул Бога, взяв его «на слабо». Но Бог видит ситуацию иначе: попуская сатане отнять у праведника имущество и детей, Он сознательно испытывает его веру, и, выдержав это испытание, как и предвидел Господь, Иов только укрепляется в вере.
Как мы видим, уже в Ветхом Завете звучит мысль о том, что Бог сильнее дьявола. Свет сильнее тьмы, добро сильнее зла. Сатана может творить свои пакости лишь в той мере, в какой это разрешает ему Бог, и ширину диапазона такого попустительства Бог определяет сам. А раз так, то Он в любой момент может сузить этот диапазон до нуля.
Новый Завет дает нам дополнительную информацию об этом предмете — из него явствует, что момент запрещения Богом всякой бесовской деятельности обязательно настанет, и бесы это знают.
«И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его встретили два бесноватых, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел Ты сюда прежде времени мучить нас» (Мф. 8:28).
Тут взаимоотношения между Богом и сатаной окончательно проясняются, и тем самым раскрывается еще один секрет мироустройства. Во-первых, в человеке, которого благочестивые фарисеи сочли за самозванца, бесы моментально увидели Бога и очень испугались. Их страх показывает, что они прекрасно знают, что Бог сильнее дьявола и потому может сделать с ними всё, что захочет. Они смиренно просят Его разрешить им перейти в стадо свиней, и Он снисходит к их мольбе. Во-вторых, примечательные слова «прежде времени»: они говорят о том, что бесам известно о бесславном финале, который их ожидает в конце времён, — они упрекают Христа лишь за то, что Он не дает им спокойно просуществовать до этого часа. Как мог Блаженный Августин, ставший потом выдающимся богословом, впасть в молодости в манихейскую ересь, провозглашающую симметричность Бога и сатаны, когда приведенный отрывок из Евангелия опровергает ее раз и навсегда? Объяснение только одно: в молодости он читал Евангелие недостаточно внимательно. Евангелие требует исключительного внимания от того, кто его читает или слушает. И это понятно. Старики помнят, как вскоре после начала войны с Гитлером Сталин обратился к народу по радио. У домашних радиоприёмников и около уличных громкоговорителей собралась вся нация. Знакомый голос вождя, на этот раз необычно торжественный и взволнованный, начал свое обращение так: братья и сёстры! Миллионы советских граждан замерли и ловили каждое доносящееся до них слово. Еще бы! Ведь говорил человек, на которого возлагались все надежды, от которого в значительной мере зависела судьба страны и жизнь каждого ее жителя. А что такое Евангелие? Это обращение к людям всей земли Того, от кого всецело зависит не только земная судьба каждого, но и продолжение его судьбы в ином мире. Как вам кажется, не сто́ит ли выслушивать это обращение с несколько бóльшим вниманием, чем выслушивалась речь Сталина? Как мы с вами только что убедились на двух фрагментах из Евангелия, при внимательном чтении из этого волшебного текста можно извлекать огромное содержание. Этим и объясняется невероятный лаконизм Благой Вести: в ее сто с небольшим страниц вместилось всё, что необходимо знать человеку для оптимального прохождения своего земного пути.
Современную Западную цивилизацию, навязывающую свои ценности и свой образ жизни всему человечеству, называют сегодня по-разному — «потребительской» (чаще всего), «гедонистической», «апостасийной», «постмодернистской» и «развитой». В каждом из этих определений есть что-то верное, отражающее одну из ее черт. Но если охарактеризовать ее одним-единственным словом, передающим самую ее суть, то надо сказать, что она — антиевангельская цивилизация. Такое определение будет самым точным, ибо она ориентирует образ жизни на ценности, прямо противоположные евангельским ценностям, а следовательно, делает его противоположным тому, к которому призывает Евангелие. Но Евангелие призывает к наилучшему для человека образу жизни — значит, Запад призывает сегодня весь мир к наихудшему для человека образу жизни. И делает это с такой последовательностью и с таким напором, какие возможны только в том случае, когда за этим стоит кто-то крайне заинтересованный. Но тут и гадать нечего: конечно же, это человекоубийца сатана. Поэтому нынешнему Западу можно дать второе краткое определение — сатанинская цивилизация. Почему же Бог допускает такое торжество своего врага, почему ничего не делает, чтоб ограничить его деятельность по отравлению человечества ядом своих соблазнов?
Как ничего не делает? Как не ограничивает? Не Бог ли сотворил то великое чудо, что противоядие сатанинскому яду — святое Евангелие — доступно каждому в любой точке планеты? Не Он ли ограничил активность сатаны, запретив ему препятствовать распространению Евангелия во всём мире? Сатана бросил Богу вызов, громко рекламируя и всучивая всем смертельную отраву; Бог принял вызов и молча выложил на полки магазинов и столики гостиничных номеров эликсир жизни: кто хочет, пусть пьёт твой напиток, а кто хочет, — Мой, Я ведь изначально даровал человеку свободу выбора и отнимать ее у него не собираюсь. Сегодня, как и во времена Иова, думая, что вредишь, ты оказываешь Мне услугу — содействуешь Моему великому дела Отбора и Набора.
От выбора никуда не уйти и нам, дорогой читатель, двум господам служить невозможно. Так давайте выберем жизнь — мы же не самоубийцы! И пусть нас не испугает предупреждение Жизнедавца о том, что «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11:12), и что «Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7:14). Разве не замечательно быть немногими?
Разговор шестой: Первые выводы
Усилия, которые, по слову Господа, мы должны будем употребить, разнообразны: это и внимательное чтение евангельских текстов, и требующее напряжение ума правильное их истолкование, и, главное — преодоление своего легкомыслия и настраивание воли на то, чтобы воплощать прочитанное в дела. Евангелие — не роман, который можно читать, лёжа в гамаке, это — оперативная инструкция, руководство к действию. Дополнительную трудность создает в наше время оглушительная пропаганда антиевангельского поведения со стороны проявляющей при этом истинно дьявольскую настырность западной цивилизации. Эффективность этой пропаганды усиливается тем, что Запад кажется могущественным и процветающим, и многие пленяются этой иллюзией, думая, что если они примут образ жизни Запада, то автоматически приобщатся к его могуществу и процветанию.
На самом же деле всемирный триумф Запада — чистейший миф, распространяемый им самим. Заражая народы своей потребительской идеологией, Запад не объединяет их, а разъединяет, потому что разные народы реагируют на эту заразу по-разному. Юго-Восточная Азия, здраво рассудив, что прежде, чем потреблять товары, нужно их наделать, начала изготавливать их в таком бешеном темпе, что возникает угроза перепроизводства. Америка подчеркнуто налегает на потребление, высасывая соки из остального мира с помощью хитроумной кредитно-банковской системы, основанной на печатаемых в Нью-Йорке долларах. Ленивые южные европейцы хотят, чтобы их кормила провинившаяся в двадцатом веке Германия. Мусульмане (не считая вестернизированных турок) категорически не принимают западную идеологию, но с удовольствием селятся в хорошо обжитой Европе, принося туда свои порядки. Россия же, как всегда, разрабатывает научно обоснованные программы роста материального благополучия граждан, а пока эти воздушные замки не стали реальностью, ввозит товары потребления из-за рубежа, взамен этого отправляя туда нефть, газ и разные полезные ископаемые. И все косятся друг на друга, и никто никого не понимает. Не уменьшает розни и глобальная система коммуникаций — если через интернет и ищут единомышленников, то в основном для того, чтобы вместе с ними поругаться с теми, кто мыслит иначе.
Где же тут триумф западной цивилизации? Пытаясь подчинить себе мир, она лишь привела его в состояние крайнего возбуждения от несбыточных надежд, вывела из равновесия, расколола на части и наполняет эти части взаимным недоброжелательством, готовым перейти в драку. Тут так и просится на язык жалоба на нынешнюю объективную действительность, но, как мы выяснили в первых наших разговорах, объективная действительность, или внешний мир, есть совсем не это, а то, что мы так называем, есть порождение нашего внутреннего мира. Но к такому выводу привела нас философия, а согласно ли с ним Евангелие? Вот что говорит оно по этому поводу.
«Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то всё тело твое светло, если же око твое будет худо, то всё тело твое будет темно» (Мф. 6:22).
Всего две строчки. А теперь посмотрите, в какую нить богооткровенных истин развернется этот маленький клубочек.
Прежде всего, надо расшифровать иносказание. Понятно, что «око» здесь не то наше оптическое устройство, которое содержит хрусталик и сетчатку — Иисус не окулист, и хотя, будучи Богом-Словом, «через которое всё начало быть, что начало быть», Он знает, как действует это устройство, говорить в Евангелии о таких пустяках, выступая в качестве врача-глазника, Он не считает нужным. Он исцелил тысячи людей от телесных недугов, но во всём Евангелии вы не найдёте никаких анатомических сведений и медицинских советов, его интересует не жизнь тела, а жизнь души, не внешнее, а внутреннее. Поэтому под «оком» надо понимать наше внутреннее зрение, которое называют нашим «видением окружающего». Художник нарисовал портрет, ему говорят: не похож.— А я так его вижу, — отвечает он. «Око», о котором говорит Иисус, создает не мозаику цветных пятен на сетчатке, а образ того, на что человек смотрит.
У каждого из нас свое «око», и каждый воспринимает им видимое по-своему.
Что же такое «тело»? Конечно, это не анатомия. Если «око» — внутреннее восприятие, то «тело» — весь внутренний мир человека, т.е. сам человек, его личность. Если принять такое толкование, становится понятной фраза «если око чисто, то и тело светло». В другом месте Иисус сказал «блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога». Это в точности то, что и у нас. Чистота сердца делает чистым и ви́дение, и тогда «оку» открывается присутствующий в мире Бог, и, благодаря этому, образ мира получается светлым, делая светлым и весь внутренний мир человека. Если же «око» худо, т.е. восприятие мира настроено на всё худшее, что в нём есть, то и вся душа человека становится темной и злобной.
В двух строчках Евангелия содержится всё кантианство, утверждающее, что образ «внешнего мира» конструируется нами изнутри. Но тут и больше кантианства. Кант считал, что образ мира у всех людей конструируется одинаково, а у Иисуса каждый конструирует его по-своему — как справляется с этим его «око».
Но и это еще не всё. Обратившись к другим местам Евангелия, мы найдём полное решение онтологической проблемы, так и не давшееся философии.
На третий день после казни Христа двое израильтян, из которых по имени назван только Клеопа, шла по своим делам в селение Еммаус. По дороге к ним присоединился воскресший Христос, но они Его не узнали. «И приблизились они к тому селению, в которое шли, и Он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали Его, говоря: останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И Он вошел и остался с ними. И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них». (Лк. 24:28-31).
Вот, до чего не додумались величайшие мыслители мировой истории! Глаз, как оптический прибор, лишь поставляет сырой материал для внутреннего «ока», а видит-то оно, а не глаз. И что именно оно увидит, зависит не от природы человека, не от его «априорного восприятия», как думал Кант, а только от Бога. Люди, шедшие в Еммаус, вначале видели Христа, но не узнавали, т.е. видели в Нём какого-то другого человека. Почему? Потому, сказано в Евангелии, что «их глаза были удержаны». Кто же их удерживал? Конечно, Бог, шедший вместе с ними. Потом они узнали Его, ибо «глаза у них открылись». Кто их «открыл»? Разумеется, тот же Бог. И, наконец, они вообще перестали Его видеть. Кто же «закрыл» их внутреннее око? Да кто же мог бы это сделать, кроме того же Бога?
Вот еще один евангельский эпизод. «И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе. И, по прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явились им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом. При сем Петр сказал Иисусу: Равви! Хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии. Ибо не знал, что сказать; потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголящий: Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте. И, внезапно посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса» (Мк. 9:1-8).
Так Христос исполнил свое обещание некоторым из слушавших Его, показать еще при их жизни славу Небесного Царства, раскрыв им свою Божественную природу, блистающую тем же нетварным светом, каким пронизано Царство. Спрашивается: почему же раньше никто из людей не видел этой Его природы — она ведь в Нём была? Конечно же, потому, что их глаза были «удержаны», а трем избранным Бог глаза открыл. Для этого у Него были свои причины, но о них мы сейчас говорить не будем.
Подумаем о другом: почему Сын Божий сразу не явился человечеству в своем истинном, блистающем виде? Ведь тогда куда больше людей уверовали бы в Него. А Он, вместо этого, как выразился апостол Павел, «принял зрак раба».
О, это старый наивный вопрос, давно решенный христианским богословием. Если бы Христос спустился с неба на облаке под раскаты грома и сверкание молний, все, даже фарисеи, признали бы факт Его Божественности, но это бы была не вера, а знание, а Богу нужна от людей именно вера. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним, как определяет веру тот же Павел: это «уверенность в невидимом» (Евр. 11:1). Конечно, тут имеется в виду невидимость для глаза. Почему же верующий уверен в том, что не видит глазом? Потому, что он видит это внутренним оком. Так вот, для Царства Небесного как раз и нужны те люди, которые видят Бога внутренним зрением, потому что глаз там у них не будет. Снова мы сталкиваемся со стратегией Божественного Отбора: Христос ловит человеков сетью, в которой застревают только те, у кого уже на земле имеется зрительный аппарат, пригодный для функционирования на небесах.
Физический же глаз видит только то, что дает ему видеть Господь. Диапазон этого «разрешенного показа» в среднем довольно узок, но для обыденной жизни его хватает. Однако, когда Бог пожелает этого, Он может в самых широких пределах этот стандартный диапазон раздвинуть, и это случается достаточно часто. Многие дети, например видят ангелов; вероятно, их видят все дети, но большинство потом об этом забывают. Святые подвижники видят бесов; в отдельных случаях Господь показывает их и обычным людям, но в основном Он «удерживает» их глаза от созерцания чертовщины, и мы только путем логических рассуждений и по разным косвенным признакам склоняемся к мысли, что ее вокруг нас видимо-невидимо. Если бы мы видели бесов напрямую, это сильно отвлекало бы нас от земных дел, поэтому Творец экранирует их от нас. При патологии, например, в белой горячке, экран разрушается, и бесы становятся видны человеку. Бога же, как говорит Иоанн Богослов, «не видел никто никогда» (Ин. 1:18) Его непосредственное лицезрение лишило бы человека свободы воли, чувств и мыслей. Выгуливая человека в материальном мире, Господь не держит его за ошейник, а отпускает рыскать повсюду на таком длинном поводке, что он теряет из виду своего Хозяина.
Вы спросите: а какое это имеет отношение к онтологической проблеме? Самое что ни на есть прямое. Помните, какой шокирующий вывод делает квантовая теория? Когда нет наблюдателя, нет и наблюдаемых. Это строго научный вывод, в котором не сомневается ни один учёный. Но это значит, что когда, находясь в комнате один, я поворачиваюсь спиной к шкафу, шкаф исчезает, точнее, превращается в не имеющую никакого вида математическую абстракцию, называемую пси-функцией. Вам не жалко шкафа? Мне жалко. И такую же жалость к предметам, исчезающим, когда на них никто не смотрит, испытывал один из «настоящих философов» Джордж Беркли, который утешал себя тем, что всякую вещь всегда видит Бог, поэтому никакая из них не исчезает. Что он это понял, не удивительно — ведь он всё-таки был епископом. Удивительно другое — почему он, наверняка зная Евангелие почти наизусть, не сделал из его текстов того развёрнутого вывода, какой делаем сейчас мы с вами. Может быть потому, что у католиков за отход от изначального учения Христа глаза немного «удержаны»?
А вывод, который получается у нас, не такой, как у Беркли. Да, то, что я называю «окружающим миром», есть, строго говоря, лишь комплекс моих ощущений — здесь Беркли абсолютно прав.
Но когда я умру, «окружающий мир» не умрёт вместе со мной, говорит Беркли — он продолжит свое существование в виде комплекса ощущений Бога. Переходя на язык квантовой физики, можно сказать, что в берклианстве я и Бог — два равноправных, независимых друг от друга и взаимозаменяемых наблюдателя, высекающих из универсальной пси-функции одни и те же наблюдаемые. Вот это уже резко расходится с Евангелием. В нашей его расшифровке ни о какой независимости созерцателей или наблюдателей не может быть и речи — Бог видит всё, а человек видит ничтожную часть всего, да и то только ту, которую Бог позволяет ему увидеть.
Внимательное прочтение Евангелия, а также уникальный опыт людей, побывавших в состоянии клинической смерти и реанимированных, позволяют говорить о еще более сильной зависимости нашего чувственного восприятия окружающего от Бога. Похоже, Бог не просто позволяет нам видеть, а сам видит за нас.
О намёках на это, имеющихся в Евангелии, мы будем беседовать в следующем нашем разговоре, а пока давайте вдумаемся в упомянутый опыт.
Люди, побывавшие «на том свете», как правило, неохотно делятся своими о нём впечатлениями — не то чего-то боятся, не то сами сомневаются в том, что и вправду видели то, что видели «там». Но среди них было немало и таких, которые считали своим долгом рассказать о «загробном опыте» и делились им со всеми, проявлявшими к тому интерес, в частности, с врачами-реаниматорами. Мы не будем здесь вдаваться во все детали этих отчетов, которые у каждого «лазутчика в мир иной» свои, а отметим только одну из них, самую устойчивую, о которой сообщают практически все. Типичный рассказ звучит примерно так: «Когда я вышел из своего тела, я увидел его с высоты двух-трех метров; я хорошо разглядел тронутое тлением свое лицо и суетящихся вокруг трупа врачей, всё это предстало мне совершенно отчетливо».
Никакого коллективного сговора лиц, желающих морочить нам голову, здесь быть не может, ибо показания, подобные этому, давали люди, жившие в разных странах, в разное время и говорящие на разных языках. На основании таких свидетельств любой следователь сделает категорическое заключение: то, что в первые минуты после смерти человек может видеть свое тело с небольшой высоты, является установленным фактом.
Этот факт установлен настолько твердо, что даже материалисты, правящие сегодня бал, не пытаются его отрицать. Да это было бы и смешно, поскольку в своей книге «Жизнь после жизни» (русский перевод 1976 года) американский доктор Раймонд Моуди привёл совпадающие друг с другом отчеты десятков реанимированных им пациентов, и написавшая предисловие к его книге профессор Кублер-Росс сообщила, что и она слышала в своей клинике много подобных свидетельств. Современный материализм отреагировал на это так же, как всегда реагирует на неприятные для него факты: поохал, поразводил руками и постарался побыстрее всё забыть. Но нам с вами, наоборот, необходимо об этом вспомнить, ибо тут мы имеем дело с драгоценной информацией, которую надо как следует осмыслить.
Начнем с такого вопроса: что может означать фраза «я вижу свое тело с высоты двух метров»? Что понимать здесь под подлежащим «я»? Конечно, то неизменное атомарное «Я», о котором мы подробно говорили выше. В том, что раньше оно было в теле, а теперь находится вне тела, нет ничего удивительного — оно нематериально, и его привязка к материи может быть только временной. Удивительно другое: находясь в теле, оно видело благодаря тому, что подключалось к зрительному аппарату человеческого организма, а покинув этот организм, оно лишилось такой возможности. Само же «Я» видеть никак не может уже в силу свой атомарности. Тем не менее, оно видит! Объяснение возможно только одно: оно подключается к какому-то зрительному аппарату, не связанному с человеческим организмом, подсоединяется к некоему наблюдателю и смотрит на покинутое тело его глазами. Ясно, что этим наблюдателем может быть только всевидящий Бог.
А теперь сделаем то, что обязаны делать все настоящие философы, — додумаем мысль до конца. Если, находясь вне тела, мое «Я» смотрит на бывшее свое тело глазами Бога, значит этими же глазами оно смотрит на всё и всегда — в частности, и в период нахождения в теле, ибо оно неизменно, и потому не может сегодня пристраиваться к одному зрительному механизму, а завтра к другому. «Я» существует вне времени, во всяком случае, вне земного времени, а это значит, что от своего появления до страшного суда оно либо связано с Богом, либо не связано, а если связано, то всегда одинаково. Феномен сохранения способности видеть и после смерти тела не оставляет сомнений: эта связь настолько сильна, что «Я» можно считать ничем иным, как частицей Бога, отлетевшей от Него искрой. Говоря об «искре Божьей в человеке», мы, не отдавая себе в этом отчета, говорим как раз о его сокровенном «Я».
Но тут возникает законный вопрос: если я всё всегда вижу глазами Бога, то зачем, когда я нахожусь в теле, мне надобен такой сложный, уязвимый и постоянно грозящий отказом физический зрительный аппарат? Не проще ли мне было прямо прибегать к Божьему зрению, как прибегают к нему умершие?
Ответ очень прост. Посмертное зрение и прижизненное зрение, будучи совершенно одинаковыми по своей природе, отличаются друг от друга тем, что первое пассивно, а второе активно. Во всех отчетах, приведенных в книге доктора Моуди, нет ни одного, где упоминалось бы о какой-либо инициативе умершего — Бог показал ему то, что Сам хотел и с такой позиции, с какой хотел. Вряд ли так будет с отошедшими в иной мир всё время, но в первые минуты, о которых мы только и имеем свидетельства, умерший поступает в полное распоряжение Бога и начисто лишается свободы выбора. Бог никого не спрашивает, с какой точки они хотят увидеть свое тело (и хотят ли вообще), а всех поднимает строго по вертикали на одну и ту же высоту. И всё другое, что они видят, является дли них неожиданностью. Когда же я нахожусь в теле, я должен управлять этим телом, а для этого мне нужно видеть именно то, что в данный момент находится от меня вблизи, а оно всё время меняется, причем часто по моему собственному решению, в которое Бог принципиально не вмешивается («свобода человека священна для Бога»!). Это значит, что я ежесекундно должен просить Бога: покажи мне окружающее с такой-то точки! Этот скользящий запрос поступает к Богу следующим образом. Мой глаз фокусирует лучи света, идущие от близлежащих предметов, направляя их на сетчатку, на ней возникает совокупность цветных пятен, дальше по нервным волокнам информация об этой мозаике передается в затылочный отдел коры головного мозга, и …
И мы видим!— торжественно объявляет профессор студентам-медикам, искренне полагая, что теперь всё понятно. В действительности же всё остаётся абсолютно непонятным. «Видеть» — значить испытывать зрительное ощущение, ощущение относится к миру чувств, чувства нематериальны, они являются элементами нашего внутреннего мира, мира чисто духовного. Профессор должен объяснить, каким образом поступающая на вход цепочки материальная данность — лучи света — дает на выходе данность духовную — зрительное ощущение. Лучи падают на сетчатку, клетки сетчатки возбуждаются — это материя. От сетчатки бегут электрические сигналы в кору мозга — это тоже материя. Пока всё происходит в моей внешней оболочке, в теле. И вдруг внутри меня, в нематериальной моей душе появляется новый нематериальный элемент — зрительный образ. Где же и как совершается этот переход одной составляющей бытия в другую?
Как осуществляется эта трансформация — это великая тайна, которую человеку не дано разгадать. А где она происходит — очевидно. Последним звеном цепи материальных событий, запущенной лучами света, является кора — возбуждение клеток ее девятнадцатой затылочной зоны, никакого продолжения в материальной вселенной оно не имеет. Зато в духовном слое сущего возникает зрительное ощущение, испытываемое тем «Я», которое находится в теле, содержащем возбужденную девятнадцатую зону коры головного мозга. Вывод: возбужденная кора — это запрос, обращенный к Богу: смотри за меня!
Бог, который один только способен видеть, откликается на этот запрос и предоставляет мне свое зрение. В результате мне открывается картинка, соответствующая конфигурации возбужденных клеток зрительной коры — Бог считывает эту конфигурацию и переводит ее из материальной составляющей бытия в духовную.
Конечно, речь идет здесь исключительно о картинке, предстающей физическому глазу. Это еще не ви́дение. Ви́дение начинается потом — когда включается в работу «око», внутренний глаз, который принадлежит уже моему «Я», и Бог в его корректирующую деятельность не вмешивается. Но это не мешает нам прийти к заключению, что наша зависимость от Бога куда более сильна, чем мы думаем.
Разговор седьмой: Без Бога ни до порога
Заключение, сделанное нами в конце предыдущего разговора, мог бы принять и даже сделать самостоятельно и мусульманин — ему надо было бы только всюду заменить слово «Бог» на слово «Аллах». Теперь для нас пришло время двинуться дальше — к тайнам мироустройства, недоступным для строгого единобожца. Ведь Христос не зря даровал нам величайшее из Откровений: учение о Единосущной и нераздельной Троице. Это бесценное знание мы с вами пока, практически, не использовали.
Факт самой плотной и, главное, постоянной зависимости человека от Бога проступает не только во всех содержащихся в Евангелии речениях Христа, о нём можно было бы догадаться, читая Книгу Бытия. Там сказано, что Бог создал человека по Своему образу и подобию. Что можно извлечь из этой краткой информации? Во-первых, то, что Бог, наверное, не просто так придал человеку Свое подобие, а сделал это потому, что по какой-то неисповедимой причине Ему нужно, чтобы в тварном мире присутствовало богоподобное существо, Его миниатюрная копия, Его полномочный представитель. А, во-вторых, здесь возникает то, что входит в противоречие с «во-первых». Богоподобие означает наличие, хотя в уменьшенной степени, основных атрибутов Бога, а одним из главных Его атрибутов является свобода. Бог абсолютно свободен, Он не связан никакой необходимостью. Но это значит, что для придания человеку богоподобия, Творец, по самой сути поставленной задачи, должен наделить его определенной долей свободы. Но тогда, как бы мала ни была эта доля, возникает ненулевая вероятность того, что человек использует свою свободу для того, чтобы не стать богоподобным.— Я не хочу быть похожим на Тебя, — может сказать человек Богу, и Бог не вправе принудить его к этому, ибо Сам же дал ему свободу. Принуждение отняло бы у него свободу, а значит, уничтожило бы и богоподобие.
Отказываясь от богоподобия, человек, сам того не понимая, отказывается от своей свободы, добровольно становится рабом. Так произошло с избранным древнеизраильским народом, когда его представители пришли к пророку Самуилу и стали просить его поставить над ними царя. Самуил не мог понять, почему люди не захотели жить в свободном обществе, и молитвенно обратился к Богу за советом. «И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними; как они поступали с того дня, в который Я вывел их из Египта, и до сего дня, оставляли Меня и служили иным богам, так поступают они с тобою». (1Цар. 8:7).
Это только один пример того, как избранный народ отмахивался от своего избранничества и себе во вред шел кривыми путями, тогда как Господь открывал перед ним прямой путь. Чем это для него кончилось, известно: Бог «из камней сих» создал новых «детей Авраама». Господь, видимо, просто выбился из сил, возвращая израильтян на правильную дорогу, и заменил их другими избранниками. В общем, в ветхозаветные времена вмешательство Бога в людские дела было непрерывным и очень интенсивным, но желаемого результата оно не дало.
Но «Бог поругаем не бывает» (Гал. 6:7). Он нашел-таки способ поднять неподъёмный камень, который Сам же и создал в лице человека. В чем состоит этот способ, нам поможет узнать Евангелие, содержащее Откровение о Троице.
Это Откровение — не просто уточнение того, на что намекал Ветхий Завет, это раскрытие Богом человеку главного секрета о Себе самом. Человек никогда не мог бы дойти до мысли о троичности Единого Бога своим умом, ибо она выражается абсурдной с точки зрения нашего ума формулой 1==3. Но принятие этого Откровения на веру помогло постепенно освоить ее рассудком и изменило всё — богословие, философию и жизнь.
Начнем с того, что это Откровение изменило наше представление о богоподобии человека. Нет, даже не так, менять тут было и нечего, ибо никакого представления о том, в каком смысле человек подобен Богу, из Книги Бытие получить невозможно, там всего одна фраза Бога «создадим человека по образу Нашему и по подобию Нашему», и всё, и эта тема больше нигде не затрагивается. Правда, в этой фразе содержится завуалированное указание на троичность Бога, ибо Бог, говоря о Себе, употребляет множественное число, но как может видимый и осязаемый человек походить
на невидимого и неосязаемого Бога — на это в Ветхом Завете ответа мы не находим.
Найти его стало возможным только тогда, когда мы узнали о том, что в Боге существует структура. Теперь можно было искать структурное сходство между Богом и человеком.
То, что человек есть трехчастное существо, было известно с незапамятных времён — этот факт легко устанавливается прямым самонаблюдением. В просторечье эти части называют дух — душа — тело, а философы говорят иначе: воля — чувство — разум. Философская триада более пригодна для разгадки тайны богоподобия, ибо «тело» ни с чем в Боге сопоставить нельзя.
И так, начнем с воли. Что это такое? Как ни рассуждай, рано или поздно приходишь к выводу, что воля, которая во мне, это и есть мое «Я», ибо «Я» — прежде всего «Я хочу» (а иногда «Я не хочу», но это тоже волеизъявление). Родство между моей волей с моим «Я» состоит уже в том, что воля, как и «Я», атомарна и неделима. Речь идет здесь, конечно, не о «Я хочу того-то» — это «что-то» может быть сложным, а о самой способности хотеть, о возможности пожелать, о воле, как о моем свойстве или атрибуте, а этот атрибут безусловно неделим.
Проснувшись от глубокого сна или приходя в себя после потери сознания, мы прежде всего осознаём, что вернулись в мир в качестве деятельной единицы, способной вмешаться в ход происходящих в нём событий. Но любому такому вмешательству, т.е. действию, предшествует воля к действию; она-то и просыпается вместе с нашим «Я», значит она и есть наше «Я». Даже если мы собираемся понежиться в постели, ничего не делая, мы знаем, что наша воля вернулась в этот мир вместе с нашим «Я» и в любой момент готова толкнуть нас к активности. К чему же она нас толкает, когда ей вздумается сделать это? Она сначала включает в работу наши чувства; приглашенные волей, они гурьбой врываются в наше сознание и, перебивая друг друга, галдят каждое свое: «хорошо бы сделать это…». Третьим в дело вступает разум: он, всё взвесив, санкционирует одно из чувственных требований, и только после этого воля отдает свой приказ действовать.
Такую картину рисует нам интроспекция, или рефлексы. Но ведь она поразительным образом совпадает с той картиной, которую Евангелие открывает нам в Триедином Боге.
Бог Отец олицетворяет в Троице волю. Всё, что появляется в каждой из шести «дней» Творения, появляется по его слову «Да будет». В составленном по Евангелию Символе Веры именно Отец назван «Творцом небу и земли, видимым же всем и невидимым». Но как Отец творит мир, мы узнаём из дальнейшего текста, относящегося к Сыну: «Им же вся быша», т.е. Отец творил мир с помощью Сына, или, как сказано в Евангелие от Иоанна (откуда и взята приведенная фраза Символа Веры), через Сына (Ин. 1:3). Как это «через Сына»? Сын сам разъясняет, как: «Я ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой» (Ин. 8:25). Отец — архитектор, захотевший создать мир и придумавший его идею. Но эта идея в Отце, который, как говорит нам христианское богословие, не имеет частей (абсолютно прост), находится в свёрнутом виде. Ее нужно развернуть в структуру, превратить в мироздание — здание, называемое тварным миром. Бесконечно содержательную идею, сжатую в Отце в атом, нужно превратить в бесконечную по обилию частей материальную вселенную, Единое трансформировать во Многое. Но Многое — это уже компетенция Сына, который Сам есть Многое, ибо Он — Бог Слово, а всякое слово состоит из частей. Что Единое развёртывается во Многое, это знал еще Парменид, и знал, что Многое — это Другое Единого, не знал он только того, что и Единое, и его Другое — не абстрактные понятия, а Лица, что они не только сами преисполнены жизни, но они «жизнь и свет человеков», как сказал евангелист Иоанн о Сыне (Ин. 1:4).
Замечательно, что разворачивание гигантской вселенной из единственного атома недавно вычислено астрофизиками «на кончике пера» — это пресловутый Большой Взрыв. С тех пор, как этот факт стал общепризнанным, теоретики и экспериментаторы хотят понять, каков был этот «первичный атом», какого рода элементарную частицу он собой представлял. Уважаемые профессора, снимите свои очки-велосипеды, не напрягайте понапрасну ваши умные головы — первичный атом был нематериален, это была свёрнутая в точку идея Бога Отца о вселенной, которая уже в этой точке включала в себя и мировые константы, и законы биологии, и вообще всё. Большой Взрыв был моментом передачи этой идеи от Отца к Сыну, и Сын начал структурировать эту идею, воплощая ее в мироздание.
Но как Отец рассказывает о своей идее Сыну — ведь в Отце нет слов, ибо в Нём нет никаких частей, а Сын и Сам есть слово, и понимает лучше всего слова? Для этого Отцу нужен переводчик, который понимает и язык целостных идей, и язык идей структурированных. Такой переводчик — Третье Лицо Пресвятой Троицы — Святой Дух. Отец ничего не говорит Сыну, Он испускает из Себя Святой Дух, несущий в Себе Его свёрнутую идею, и посылает Его Сыну, которому Дух сообщает эту идею уже в членораздельной форме.
Точно то же происходит и в процессе человеческой деятельности: воля дает импульс, чувства его структурируют, разум одобряет его и претворяет в действие. Вот в этом и состоит наше богоподобие: воля наша — подобие Отца, разум — Сына, чувства, интуиция — подобие Святого Духа.
Откровение о троичности Бога было не только прорывом в богопознании, оно также в корне изменило взаимоотношение между Богом и человеком. Ветхозаветный верующий воспринимал своего строго Единого Бога, которого называл «Богом Авраама, Исаака и Иакова», как неусыпного надсмотрщика за своим поведением и грозного Судию, ненавидящего израильтян, нарушающих данный на Синае закон, и всех язычников. За редким исключением (например, Псалмов Давида) в дохристианской части Библии рассказывается, в основном, о карах, посылаемых Господом на избранный народ, когда он сбивался с пути. Евангелие принесло совершенно новый взгляд на то, что такое Бог для человека и что такое человек для Бога. Представив Бога единосущной и нераздельной Троицей, Новый Завет, тем не менее, выделил из Нее то конкретное Лицо, через которое человек только и может входить с Ней в контакт — Второе Лицо Троицы, Бога Сына, или Бога Слова.
«Завет» — это в Библии «договор», по-современному, «контракт». На Синае за полторы тысячи лет до воплощения Бога Сына между Богом и людьми был заключён первый договор, названный «Ветхим Заветом». Он обязывал израильтян, которых Бог избавил от египетского рабства, стать «священством», т.е. проповедовать всем народам единобожье. Сначала евреи выполняли контрактные обязательства, но потом постепенно стали воспринимать свое избранничество не как долг, а как привилегию и стали смотреть на другие народы свысока. И тогда воплотившийся Бог Сын предложил людям Новый договор, уже не какому-то конкретному народу, а всем желающим его заключить. От человека требовалось покаяние, оставление грехов, исполнение евангельских заповедей и, главное, — искренняя вера в то, что Христос есть действительно Сын Божий, пришедший в мир спасти грешников и открыть им после смерти тела доступ в Царство Небесное, где «несть болезни, печали, воздыхания, но жизнь бесконечная».
Это только самая краткая характеристика Нового Завета, подробное же его раскрытие — учение Христа о том, как нам жить и как общаться с Богом — дает нам величайшая из книг, Святое Евангелие.
Обращаться и с просьбами, и с благодарностью, и со славословием можно и нужно ко всем Лицам Троицы — недаром христиане говорят: «Упование мое — Отец, прибежище мое — Сын, покров мой — Дух Святой». Но наша судьба целиком находится в распоряжении только одного Лица — Сына. Вот что Он сам говорит об этом:
«Я есть путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6).
Почему же тогда Сын сам учит нас обращению к Отцу «Отче наш» и подает эту «Господню молитву» как главную? Это хорошо понятно. Сын бесконечно любит Отца, поэтому Ему приятно слышать молитву, к Нему обращенную, а слышит Он каждую нашу молитву, неважно, к кому она обращена. Христиане постоянно молятся и святым, хотя непосредственно от них вообще ничего не зависит. Считается, что мы делаем это для того, чтобы они походатайствовали перед Христом о выполнении нашей просьбы, но, думается, такая молитва может возыметь действие еще до начала такой двухступенчатой процедуры: всё слышащий Христос радуется нашей любви к святому, так как Сам его любит, и исполняет наше прошение, не дожидаясь ходатайства. Короче говоря, любая наша искренняя, произнесенная с верой, молитва либо прямо, либо косвенно обращена к Богу Сыну — Он полномочный распорядитель душ и телес наших. И это не удивительно — ведь именно Сын, а не Отец и не Дух, именуется нашим Спасителем: это Его Отец благословил на жертвенный подвиг, на принятие на себя грешной человеческой плоти, на уничтожение в ней греха Своей божественной святостью, на крестную смерть и на восхождение к Отцу в новой безгрешной человеческой плоти, которой Он постепенно вытесняет нашу всё еще грешную плоть в таинствах покаяния и причащения. Почему же Отец не взял на Себя самого нашу плоть, Сам не спустился с небес на землю и не послал воплотиться в человека Святого Духа? Потому, что Отец и так уже есть в нас в виде нашего неделимого «Я», а Святой Дух принимает участие в нашем спасении в другой функции, осуществляя таинства. Ведь спасение человека означает изменение структуры его души и его поведения, которое тоже структурно, а в Троице структурную составляющую представляет Бог Слово, поэтому Он ближе, чем два другие Лица Троицы, родственен тому в нас, что впадает в грех. Может быть, как раз из-за этого родства Он называет Себя «Сыном Человеческим».
Для тех, кто имеют уши, чтобы слышать, Откровение Христа о Себе как о нашем Спасителе настолько важно, что оно звучит в Евангелии много раз и в разных вариантах. Вот одно из самых замечательных по своей художественной метафоричности выражений этой мысли.
«Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода» (Ин. 13:1).
Еще на ту же тему:
«Принимающий Меня принимает Пославшего Меня» (Мф. 10:40). «Видевший Меня видел Отца» (Ин. 14:9). «Если любите меня, соблюдите Мои заповеди. И я умолю Отца, и даст вам Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет» (Ин. 14:15-16).
Говоря апостолам, что Святой Дух в них «будет», Иисус имел в виду предстоящее уже в ближайшее время грандиозное сошествие на них Духа в день Пятидесятницы.
Создав до начала времён Царство вечного блаженства, дело набора для него насельников Отец всецело отдал в руки Сына. Сын и не скрывает этого и говорит апостолам перед оставлением земного поприща: «Я иду приготовить место вам» (Ин. 14:2).
После всего сказанного вопрос о том, в какой мере мы зависимы от Бога, конкретизируется и ставится так: в какой мере мы зависим от Христа?
В заамвонной молитве священник произносит такие слова: всякое благое деяние и всякий совершенный дар посылается свыше от Отца светов. Свет есть и сам Бог-Отец, но и Бог Сын есть «Свет от Света» (Символ Веры), и именно Сын есть «свет человеков» (Ин. 1:4). Значит, всякое наше благое деяние исходит от Христа. Сам Он говорит об этом еще определеннее: «БЕЗ МЕНЯ НЕ МОЖЕТЕ ДЕЛАТЬ НИЧЕГО» (Ин. 15:5). Конечно, тут имеется в виду делать что-то деятельное, полезное — делать гадости человек умеет и сам.
Принимая во внимание троичность Бога, вопрос о нашей зависимости от Него надо уточнить. Когда мы говорили о нашей способности создавать внутренний чувственный образ того, что мы называем «внешним миром», мы говорили о Боге в целом, не дифференцируя Его на Лица. В результате мы пришли к выводу, что трансформация материальных возбуждений нейронов мозговой коры в нематериальные чувственные образы невозможна без прибегания к услугам Бога: мы представляем Ему мозаику возбужденных нервных клеток, и Он за нас «видит» (или «слышит», или «осязает»). Иными словами, если бы Бог вдруг исчез, мы стали бы слепыми и глухими. Такова наша зависимость от «Бога вообще» — она постоянна, ежесекундна. Какова же наша зависимость конкретно от Второго Лица Троицы, от Христа?
Христос Сам вносит ясность в этот вопрос: самое важное для нас, и даже единственное по-настоящему важное — наша посмертная судьба — зависит только от Него.
«Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну» (Ин. 5:22).
Но если так, то сразу же возникает следующий жизненно важный вопрос: что нам делать и как нам жить, чтобы Христос не осудил нас и не определил «во тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов»? Христос отвечает и на этот вопрос.
«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Ин. 5:24).
Уже из этой фразы понятно, какое большое значение придает Христос нашей вере. И чем внимательней мы вчитываемся в Евангелие, тем твёрже убеждаемся, что Он отводит вере не просто видное, но даже первое место в ряду условий спасения. Несмотря на лаконичность Евангелия, напоминание о ключевой роли веры повторяется в нём много раз.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).
«Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия» (Ин. 3:18).
«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Ин. 3:36).
«Иисус же сказал им: Я еемь хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда» (Ин. 6:35).
«Истинно, истинно говорю всем: верующий в Меня имеет жизнь вечную» (Ин. 6:47).
«И всякий живущий и верующий в Меня, не умрет вовек» (Ин. 12:26).
О решающем значении веры для вхождения в Царство вечной жизни подробно говорит апостол Павел, приводя в пример великую веру праотца Авраама:
«Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: «так многочисленно будет семя твое». И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Саррина в омертвении; не поколебался в обетовании Божием неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность. А впрочем не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам; вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего» (Рим. 4:18-25).
Согласитесь, что Евангелие не оставляет места для сомнения в том, что вера в Христа и пославшего Его к нам в качестве Спасителя Бога Отца является необходимым и достаточным условием нашего спасения. Это и упрощает, и усложняет задачу установления степени нашей зависимости от Господа нашего Иисуса Христа.
Разговор восьмой: Веруем, Господи, помоги нашему неверию!
Евангельский рецепт обретения вечной жизни звучит соблазнительно кратко: надо иметь веру. Правда, хотелось бы, чтобы он звучал кратко и ясно, а, если вдуматься, никакой ясности тут пока нет. Она будет достигнута лишь в том случае, если мы ответим на два непростых вопроса: 1) что такое вера? и 2) как ее обрести?
Апостол Павел дает вам такое определение: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1). К первой его части мы обратимся позже, а сейчас займёмся второй. По-церковнославянски сказано лучше: «обличение вещей невидимых». Прекрасная формулировка: вера — это умение разглядеть лицо у того, кто его прячет, разоблачение скрывающегося. Конечно же, Апостол говорит в первую очередь об умении разглядеть личное присутствие в нашей жизни Бога, который старается не обнаруживать Себя перед нами явно, чтобы этим не повлиять на наше поведение. Для выявления сути человека надо предоставить ему вести себя так, как он сам этого пожелает, т.е. не отнимать у него ощущения своей свободы, а Богу с Его стратегией отбора как раз и нужно выявить суть каждого из нас.
Развивая определение апостола Павла, можно сказать, что вера есть восприятие Бога как живой реальности. Вспомнив, что такое «реальность», — а мы разбирали это понятие достаточно подробно, — мы можем еще уточнить определение: вера есть включение человеком образа Бога в число тех образов, совокупность которых составляет то, что он считает «объективной действительностью» или «окружающим миром». Говоря совсем кратко, верующий человек — это тот, для кого Бог есть, и есть не как «высшее нечто», не как «мировой разум» или какая-то другая абстракция, а точно в том же смысле, в каком «есть» другие люди, например, его начальник. То обстоятельство, что Бог невидим, не является ни малейшим препятствием тому, чтобы отнести Его к реально существующему, — относим же мы к нему такие невидимые данности, как конституция или уголовный кодекс.
Включение Бога в состав объективной реальности на равных правах с другими ее элементами может продлиться ровно одну секунду — после этого Бог отбрасывает всякое равноправие и становится главным элементом. Достаточно признать и ощутить Бога живым существом, чтобы это Существо стало господствующим, ибо верховное господство является одним из атрибутов понятия «Бог», из-за чего его называют «Господь». Осознав, что Бог так же реален, как его начальник, человек осознаёт и то, что Бог тоже начальник, только более высокий по своему рангу, и что если с земным начальником можно и повздорить, так как он очень уж больших неприятностей причинить подчиненному не властен, то с Небесным Начальником входить в конфликт абсолютно недопустимо, поскольку Он властен перечеркнуть всю твою жизнь. Верующий христианин законопослушен и боится своего земного начальника, но если тот прикажет ему сделать нечто, что не понравится Богу, он ни за что, хоть режь его на куски, не сделает этого.
Таким образом, первым следствием веры становится второе после нее звено цепочки, ведущей к спасению, — страх Божий. Если вера тверда, он просто не может не появиться. А появившись, становится причиной появления третьего звена — осознания необходимости вести праведную жизнь. Это такая жизнь, которую предписывает нам Бог, а значит, она нравится Ему, и тот, кто ее ведет, тоже Богу понравится и Он его наградит. Если же человек будет жить неправедно, Богу это не понравится, и Он его накажет.
Это звено самое труднопреодолимое. Главное, человек не может тут схитрить, сказав «а я не знаю, в чем состоит праведная жизнь» — в Евангелии это разъяснено до деталей, а Евангелие Господь сделал самой общедоступной в мире книгой. Истинно верующий знает об этом и хватается за эту книгу как за якорь спасения, а что в ней не поймёт, уточняет у священника в Церкви. Перед ним не стоит вопрос о желании или нежелании жить праведно или о незнании того, что это такое. Он искренне хочет этой жизни и хорошо знает, в чем она заключается, так как его поврежденная первородным грехом природа противится этому, а тут еще и хвостатый, соблазняющий людей прелестями греховной жизни. И вот тут-то верующий делает открытие, которое становится последним звеном цепочки: без помощи Христа здесь никак не обойтись. В четвёртом веке это открытие сделал для себя Августин Блаженный и поделился им с Церковью. Церковь приняла его и ввела в состав своего учения, так что тезис о невозможности спастись, если тому не поможет Христос, включён в догматику Православия.
Возвращаясь к вопросу о нашей зависимости от Христа, мы можем теперь констатировать факт ее избирательности. Человек, который не заботится о своем спасении, совершенно от Христа независим. Это тот самый неверующий, который «уже осужден» (Ин. 3:18). Такие люди пойдут широкими вратами в царство смерти, и их надо было бы пожалеть, если бы они не сами отказались от вечной жизни, а собственный выбор человека нужно уважать. Но об этом легкомысленном большинстве мы больше говорить не будем, и тот, кто к нему принадлежит, может на этом месте захлопнуть книгу. В дальнейшем — до самого конца этого разговора, нас будут интересовать только благоразумные граждане, желающие себе добра. Вот они-то находятся в теснейшей зависимости от Христа, Который именно им сказал «без Меня не можете делать ничего» — к беспечному большинству эта фраза не относится; когда запоздалое прозрение заставить их воскликнуть «Господи! Господи! Отвори нам», Он ответит: «Истинно говорю вам: не знаю вас» (Мф. 25:12).
Тем же, которые имеют веру, а следовательно и страх Господень, а значит и желание жить по заповедям, Христос делает удивительное, казалось бы, несовместимое с человеколюбием предложение: отсечь свою собственную волю и целиком подчиниться Ему как руководителю, беспрекословно выполнять всё, что Он скажет. Но ведь это противоречит Божественному принципу неприкосновенности человеческой свободы! Это же ведет к деперсонализации, к потере личности!
Никакого насилия над личностью Христос производить не собирается. Вся суть в том, что Он и не думает заставлять человека отказаться от собственной воли — Он предлагает ему сделать это совершенно свободно.— Твоя воля для Меня священна, — говорит Христос человеку, — но Я советую тебе по своей воле отдать эту свою волю в Мое распоряжение; впрочем, пусть будет, как ты сам решишь.
Христос действительно сказал это конкретному человеку, и для нас будет очень поучительно послушать их диалог.
«Когда выходил Он в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени и спросил Его: Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. Он же сказал Ему в ответ: Учитель! всё это сохранил я от юности моей. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: одною тебе недостает: пойди, всё, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест» (Мк. 10:17-21).
Как и во всех других евангельских сюжетах, в этом сюжете содержится обширная информация. Мы будем извлекать из него только ту, которая относится к нашей теме, — зависимости человека от Христа.
Взглянув на юношу (в других Евангелиях сказано, что это был юноша), Иисус «полюбил его». За что? Конечно же, за его ревностное отношение к своему спасению. Он исполнял все заповеди Моисея, как тогда говорили, «соблюдал Закон», и по тогдашним меркам мог быть спокойным за свою судьбу и даже довольным собой. Но он, видимо, слышал, что «приблизилось Царство Небесное» и в связи с этим Иисус призывает всех к покаянию, так что прежние мерки уже устарели. Он принадлежал к тому новому, нарождающемуся поколению, о котором говорил Иисус самарянке: «Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе» (Ин. 4:23).
Именно таких поклонников искал Иисус для Отца, поэтому, увидев одного из них в достойном юноше, полюбил его. Для Иисуса это был момент ожидания и надежды, а для юноши — момент проверки. Вера у него была, страх Божий тоже был, о стремлении жить, как повелит Христос, он сам сообщил, спрашивая у Христа, «что мне делать?». Оставалось совершить последний акт — не просто знать, что делать, а делать это. И на такой акт он оказался неспособным. Расстаться со своим богатством ему было не по силам.
Какой глупец! Рядом с ним стоял Творец вселенной, который мог взять его в Царство несказанного блаженства, как взял потом распятого на кресте разбойника; который обещал ему бесценное небесное сокровище! А он отказался от всего этого, предпочитая ему какую-то тысячу динариев! Почему — ведь это было с его стороны чистейшим безумием? Разумеется, потому, что его вера не была достаточно твердой, и Царство Небесное с его сокровищами было для него всё-таки журавлем в небе, а тысяча динариев — синицей в руках. «Неверующий — уже осужден», говорит Спаситель. Кем осужден — не Богом ли? Нет, он сам себя осудил, и Бог отменить этот приговор не может, ибо человек вынес его себе по своей собственной свободной воле. Поэтому, наверное, не только юноша отошел с грустью, но взгрустнулось и Иисусу.
То, что сказал Христос богатому юноше, настолько важно, что Он говорит это всем.
«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11:28-30). Опять нам предстоит работа по расшифровке, но это наиприятнейшая из всех работ, потому что даже небольшой успех здесь оправдывает все усилия.
Удивляет фраза «Я кроток и смирен сердцем». В течение всех трех лет своего земного служения Он ни разу ни перед кем не проявил кротости и смирения — все с удивлением отмечали, что Он говорит «как власть имущий». От него веяло каким-то царственным аристократизмом, ученики трепетали перед ним и боялись задать Ему лишний вопрос. В каком же смысле Он говорит о своей кротости?
Это совершенно очевидно: Христос говорит о Своей кротости и о Своем смирении перед Отцом, и это Свое состояние духа на небе призывает брать за образец для подражания на земле. Это совершенно естественно, поэтому в данной трактовке не может быть никакого сомнения: богоподобным задуман не только индивидуальный, но и коллективный человек, значит, отношения внутри людского сообщества должны быть подобны отношениям внутри небесного «сообщества», т.е. Троицы. Недаром Андрей Рублёв, желая в годы удельных междоусобиц показать Руси умиротворяющий образ согласия и гармонии, написал именно Троицу, воззрением на Которую, как говорит Церковь, «побеждается ненавистная рознь мира сего».
Теперь об «иге» и о «бремени». Здесь — ключ к решению поставленной нами «проблемы зависимости». Христос прямо, не прибегая уже к иносказанию, предлагает нам жить под Его игом и принять на свои плечи бремя, которое Он на них возложит. Понимая, что это может отпугнуть людей — кому охота жить под игом и нести бремя?— Христос тут же добавляет, что это иго обернется благом, а бремя не будет тяжелым. И, по-прежнему, никакого принуждения — решение остаётся за самим человеком.
Здесь мы, похоже, подошли к самой сути Благой Вести. В ней Бог Сын извещает нас о том, что по своему человеколюбию и по милости Отца Он открывает всем желающим обрести вечную жизнь рецепт ее обретения, которое до сих пор было невозможным из-за наследственного повреждения души человека первородным грехом. Какая же другая весть в большей мере заслуживает названия «благой»? Радуйся и ликуй, обреченное до этого на смерть человечество!
Однако человечество почему-то не радуется и не ликует. До неприличия склонное к увеселениям, постоянно устраивающее различные фестивали, олимпиады, универсиады, оно равнодушно взирает на то, что, вроде бы, должно вызвать наибольший всплеск веселья, — на Евангелие. Где же всеобщий энтузиазм, который ему полагалось бы вызывать?
Дело в том, что Благая Весть является благой не для всех, а только для избранных, которых, к сожалению, меньшинство. Ветхий Завет обращен к потомкам Авраама, т.е. в нем избрание осуществляется по этническому критерию; когда же на землю явился Сын Божий, Он из «камней сих» создал новых «детей Авраама», но отбор этих «камней» производился уже по другому критерию — по «сокровенному человеку», по тем особенностям ума и сердца, которые определяют внутренний облик человека, у каждого свой.
Евангелие может служить книгой для чтения для очень широкого круга людей: оно поучительно, оно назидательно, а кроме того, привлекает своими художественными достоинствами. Многие его сюжеты стали «притчей во языцех», его образы известны миллионам, и, несомненно оказывают доброе воспитывающее действие. Но Благой вестью в полном смысле оно является для узкого круга — только для тех, кто имеет веру, неважно, врожденную или приобретенную, а также для тех, кто горячо хотят верить и восклицают «Верую, Господи, помоги моему неверию!»— им Господь непременно поможет.
Зачем же нужно иго и бремя? Затем, чтобы человек смог сделать последний шаг на пути к спасению. Имея веру, он уже имеет страх Божий; имея страх Божий, он уже имеет стремление к жизни по заповедям Христа, но перейти от стремления к исполнению он без помощи Христа не способен. А оказать ему помощь Христос согласен лишь на том условии, что человек полностью отдает себя в Его распоряжение. А как же еще? Даже земной врач, разрабатывая для пациента курс лечения, требует безоговорочного себе подчинения, почему же Небесный Врач не должен требовать того же?
Принять иго Христа — значит во всём Ему подчиняться, жить не так, как ты хочешь, а как хочет Христос. В идеале это то состояние, о котором пишет апостол Павел в одном из своих посланий: «и уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2:20). Как достигнуть такого состояния?
Для этого надо менять структуру своего сознания. Человек не может перекроить его как ему вздумается, но кое-что ему по силам. Например, он может слегка передвигать границу между тем, что в его сознании выступает как внешнее — по Фихте, это «не Я», — и тем, что он относит к внутреннему, к лично своему — это фихтеанское «Я» (не надо путать его с тем атомарным «Я», которое дает жизнь всему содержанию нашего сознания, само к этому содержанию не принадлежа).
Граница эта у разных людей может находиться в самых разных местах. У лиц с ненормальной психикой, страдающих так называемым аутизмом, всё, что они мыслят, чувствуют, видят и слышат, есть их «Я», «не Я» у них практически отсутствует. Это очень тяжелое заболевание, делающее человека непригодным к общественной жизни и глубоко несчастным. Но есть много людей, которых окружающие считают нормальными, а они сами тем более, которые раздвигают пространство своего «Я» очень сильно — им до всего есть дело, они хотят заставить близких выполнять их «руководящие указания», имеют преувеличенные представления в своих возможностях и своих правах. Особенно отчетливо этот смягченный аутизм проявляется в их страсти к разговорам о политике, их излюбленное занятие — критика властей и вообще всех существующих порядков. В своем воображении они видят себя чуть ли не начальством, которое знает, как нужно управлять предприятием, районом, страной; они придумывают спасительные программы, хотя на ход событий повлиять никак не могут, ибо от них ничего не зависит. Такое гипертрофированное расширение своего «я» Христос решительно осуждает и призывает нас к его минимизации. Это — один из главных рецептов спасения, которое содержится в Евангелии, а пожалуй и главный. Из девяти «заповедей блаженства» Нагорной Проповеди (Мф. 5) четыре прямо призывают к такой минимизации (блаженны нищие духом, блаженны кроткие, блаженны гонимые, блаженны поносимые). О необходимости умалять собственное «Я» Иисус постоянно говорит своим ученикам. «Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом» (Мф. 20:25-27).
Христос учил апостолов кротости не только подобными назиданиями, которые мы встречаем во всех четырех Евангелиях, но и примером собственного смирения перед Отцом, о котором тоже говорил неоднократно. Этот пример поучителен и для нас. Другим примером служат нам христианские святые, которые все, без исключения, считали себя последним из людей. Так что, с какой стороны ни подходи, а следующим шагом после обретения веры, страха Божьего и решимости встать на путь жизни по заповедям, получается постоянная работа над собой, направленная ко всемерному сокращению объёма своего «Я». А это — очень трудная работа, и немногие с ней справляются. Зато они оказываются теми «немногими», которые, по слову Христа, входят тесными вратами в вечную жизнь. И именно эта работа есть то «бремя», которое Христос предлагает нам взять на наши плечи. Но если она трудна, то почему Он говорит, что это бремя «легко»?
Дело в том, что трудность здесь в основном психологическая. Она связана не столько с повреждением нашей природы грехом прародителей, сколько с нашим воспитанием. Нам с детства внушают, будто «человек — это звучит гордо», что возможности человека неисчерпаемы, со всех сторон мы слышим о «неотъемлемых правах человека», которые понимаются как права самолюбивого и привередливого индивидуума; тем самым внушается нам высокое мнение о своей персоне. Из этой вырабатываемой в нас годами установки действительно трудно выйти, а ведь она прямо противоположна установке Христа, призывающего к смирению и кротости.
Чтобы облегчить себе кардинальную смену жизненной установки, нужно хорошенько осознать, почему подавлявляющее большинство наших современников идет пространным путем, ведущим в погибель (Мф. 7:13). Это князь мира сего ведёт человеческое стадо к себе на бойню. Если мы поймем это и ужаснемся тому погребальному шествию, в котором участвуем, один уже инстинкт самосохранения заставит нас начать перестраивать свою психику и готовиться к тому, чтобы выйти из стада. И не надо слушать пословицу «на миру и смерть красна», пущенную всё тем же князем мира сего, — погибать во тьме внешней будет каждый по отдельности. А выйдя из стада, мы почувствуем себя совершенно по-другому: исчезнет постоянное внутреннее напряжение, исчезнет скрытое недовольство собой, проявляющееся в вечном недовольстве всем, что мы видим вокруг света, мы увидим мир прекрасным, в нас откроются источники благодатной энергии, и благодаря им бремя, о котором говорит Христос, станет и вправду легким, а потом и приятным. Прибегая к евангельскому иносказанию, мы можем охарактеризовать этот процесс как постепенное очищение того «ока», которое является светильником «тела», т.е. всего нашего внутреннего мира; когда это «око» станет чистым, тогда и «тело» будет светло.
Христос нигде не поднимает вопроса о том, возможна ли в принципе трансформация соотношения между «Я» и окружающим, но весь текст Евангелия свидетельствует о том, что Он считает такую возможность саму собой разумеющеюся. Если бы трансформация была невозможна, все Его проповеди, все поучения и наставления были бы бессмысленными, ибо они только к ней и призывают. Современный психолог, наверное, согласится с тем, что самовнушением или каким-то другим видом аутотренинга, а еще лучше, с его, психолога, помощью можно значительно изменить свое отношение к людям, вещам и событиям, но сделать свое «Я» меньшим, чем оно есть на самом деле, находясь в здравом уме, нельзя, а если насиловать свою природу в этом направлении, то это может привести к психическому заболеванию, называемому деперсонализацией.
Но психология для нас не авторитет. Эта отрасль знания возникла уже в эпоху господства материализма, и поэтому она насквозь пропитана материализмом, т.е. ложью. Гораздо интереснее послушать, что говорит на этот счет философия, и не какая-нибудь дилетантская, сама себя объявившая философией, а настоящая. А говорит она то же самое, что Христос: умаление человеком своего «Я» до минимальных размеров возможно, и оно не является насилием над человеческой природой и искажением объективной реальности. Настоящая философия знает, что деление содержания нашего сознания на «Я» и «Не Я» условно, поскольку, если уж говорить о том, что есть «на самом деле», то на самом деле всё это содержание есть «Я», ибо то, что мы называем «объективной действительностью», конструируется внутри нас нами же самими. Напомним, что это подтверждено квантовой теорией, установившей, что наблюдаемое создается наблюдателем, без которого оно свёртывается в математическую абстракцию. Но ни философия, ни физика ничего не говорят о том, полезна ли для нас минимизация нашего «Я» — они лишь констатируют возможность ее осуществления. Здесь компетенция светского познания кончается, и пойти дальше может только познание религиозное, высшей формой которого является познание христианское. А оно устами Евангелия говорит не просто о полезности, а о благотворности этой минимизации, представляющей собой единственный способ вхождения в вечную жизнь. Правда, для ее обретения одного умаления своего «Я» недостаточно, тут необходимо выполнение еще одного условия.
Призывая своих учеников не противиться гонителям, Иисус говорит им:
«Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах» (Мф. 5:11-12). Обратите внимание на слова «за Меня»: Иисус не говорит, что все, смиренно переносящие гонения, обретут блаженство; оно ожидает только тех, кто терпел притеснения во имя Христа.
Иисус неоднократно подчеркивал это в своих проповедях. Приведем еще некоторые Его речения на этот счет, донесенные до нас Евангелием.
«И будете ненавидимы за имя Мое; претерпевший же до конца спасется» (Мф. 10:20).
«Кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает» (Мф. 18:5). Запомним здесь слова «тот Меня принимает».
«И если чего попросите у Отца во имя Мое, Я то сделаю» (Ин. 14:13).
Эти высказывания Христа позволяют сделать очень важный вывод: желающий обрести жизнь должен не просто терпеливо нести бремя, возложенное Христом на его плечи, но нести его ради Него, с Его именем на устах. Как осуществить это на практике?
Многовековой опыт десятков тысяч христианских святых, вошедших в вечную жизнь, как и заповеди Христа, слава Богу, находится в нашем распоряжении — и через их творения, и через личный пример. Говоря, что бремя исполнения заповедей надо нести с именем Христа на устах, надо понимать это в буквальном смысле. Что же такое имя Христа на устах? Это молитва, обращенная ко Христу. Самый короткий и, как утверждают испытавшее ее на себе святые отцы, самый действенный ее вариант — так называемая «Иисусова молитва»: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Разумеется, это не должны быть заученные и механически звучащие слова, их надо произносить, думая при этом о Христе. Мысль тут даже важнее говорения; если неудобно читать Иисусову молитву вслух, ее можно повторять про себя, действие ее от этого не ослабнет. Важно при всяком акте кротости и смирения вспоминать Христа, воспринимать этот акт как послушание, благодарить Христа, призывать Его не оставлять тебя.
Преподобный Серафим Саровский в знаменитой беседе с Мотовиловым разъяснил один существенный момент: всякое благое дело (сюда, конечно относятся и акт смирения), если оно сделано не ради Христа, не засчитывается человеку как спасительное. Конечно, великий старец не сам пришел к такой мысли, а извлёк ее из Священного Писания. Но его формулировка очень четкая и хорошо проясняет суть дела. Когда умаление нашего «Я» мы сопровождаем мыслью о Христе и произношением (неважно, про себя или вслух) Его имени, мы принимаем Его. Куда принимаем? Как куда?— конечно, на освободившееся в результате умаления нашего «Я» место. Свято место пусто не бывает — эта народная мудрость распространяется и на наш случай. Съёживая свое «Я», мы оставляем какое-то место в своей внутренней жизни пустым, и на него сразу нацеливаются разные персонажи, в том числе и бесы. Призывая в этот момент Христа, мы отпугиваем их, а перед ним открываем туда вход. Продолжающееся день за днем и год за годом такое сокращение «своего» и замещение его «Христовым», а по сути дела самим Христом, как раз и приводит к тому состоянию, о котором говорит апостол Павел — «не я живу, но живет во мне Христос». Это и есть тот царский путь, которым тысячи и тысячи имевших веру вошли в обитель вечного блаженства, называемый по-гречески кенозис («истощание»). Идти этим путем нас приглашает Бог Сын, на Себе показывая, к какому концу он приводит: умалив себя перед Отцом, Сын получил от Него и Высший суд, и дар неслыханных чудотворений, и вообще всё, что есть у Отца. «Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе» (Ин. 5:26). Как мы видим, феномен кенозиса срабатывает не только на земле, но и на небе, и это заставляет предполагать, что в нём приоткрывается какой-то фундаментальный принцип мироустройства, гораздо более глубокий и универсальный, чем гегелевская «диалектика», являющаяся просто одним из его следствий. Уяснить суть этого принципа мы попытаемся в следующем разговоре.
Замещение в себе «своего» «Христовым и есть выполнение рекомендаций Христа взять на себя Его «иго». Действительно, если вместо меня во мне живет Христос, значит, я делаю всё, что Он от меня требует, т.е. я полностью нахожусь под Его игом. Не ведёт ли это к деперсонализации, к потере моего «Я»? Никоим образом. Деперсонализация, как мы можем прочитать об этом в учебнике психиатрии, есть потеря не «Я» как совокупности всего того, что человек считает «своим» (например, черты характера, образ мыслей, внешность, способности и пр.), а того «Я», которое есть чистая воля к жизни, т.е. «Я хочу». А эта воля не оскудевает, когда я сознательно иду под иго Христа, ибо Я хочу под него идти. А оно приносит мне благо, потому что спасает меня.
Разговор девятый. Помимо прочего, и о любви
Когда Русь находилась под татаро-монгольским игом, ее князья выполняли волю ордынских ханов. Соглашаясь жить под игом Христа, верующий соглашается выполнять Его волю. Но между этими двумя ситуациями имеется существенное различие. Ордынское иго над Русью было насильственно установлено самой Ордой, так как она была в этом заинтересована, и поэтому ханы изъявляли свою волю как можно яснее и определеннее, чтобы наши князья хорошо ее понимали и исполняли. В установлении над нами Христова ига заинтересованы мы, а не Христос, поэтому нам самим подобает заботиться о том, чтобы постигнуть Его волю в отношении нас, прилагая для этого необходимые усилия. Эти усилия покажут Христу, что мы действительно хотим быть у Него под игом, и Он удовлетворит наше желание, не нарушая при этом принципа сохранения за нами свободы выбора. Послушайте, как учит подчиняться Христовой воле свою римскую паству апостол Павел.
«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего,
чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:1-2).
Здесь Апостол дает очень важный совет, как надо постигать Божью волю — обновлять свой ум. Что он под этим понимает? Вспомним, когда были сказаны эти слова — в первом веке, в период самого начала перехода от язычества и иудаизма к христианству. Совершить этот переход было нелегко — учение Христа казалось иудеям соблазном, т.е. ересью, а язычникам — безумием. Преодолеть барьер такого первого неприятия христианства и означало «обновить ум», отбросить въевшиеся в сознание нелепости и взглянуть на мир свежим взглядом, способным увидеть истину. Христос возвестил ее людям — современникам в своих проповедях, а всем другим поколениям — в Евангелии. Поэтому желающий исполнять Его волю не может оправдывать ее неисполнение тем, что она ему неизвестна, особенно сегодня. Мы уже отмечали тот парадокс, что именно в наше время, когда мир сползает в пучину греха и разврата, когда люди превращаются в жующих и веселящихся животных, когда бывшие христианские страны одна за другой открыто объявляют себя Содомом и Гоморрой, стало как никогда прежде легко ознакомиться с Христовым учением и войти в лоно Церкви. Скажи только слово, только намекни, и тебя тут же снабдят любой литературой и под ручки поведут в храм, а там уж дело твоего отрезвления будут довершать несравненная красота православных богослужений и окормляющий тебя священник. Понятно, что наличие в современной действительности двух таких явно несовместимых фактов, как господство дьявола и доступность Христа, можно объяснить только тем, что так хочет всемогущий Бог, а раз Он этого хочет, значит это Ему для чего-то нужно. Для чего же?
Задавая себе этот вопрос, мы, кажется, подошли в наших разговорах к самому серьезному. Судя по всему, в двадцать первом веке мы вошли в заключительный период всемирной истории — в период окончательной ПОЛЯРИЗАЦИИ человечества на два «стада»: большое, которое стройными рядами пойдёт широкими вратами в погибель, и малое, которое Господь осторожно проведёт через тесные врата в вечную жизнь. То, что происходит сейчас вокруг нас и с нами, есть СТРАШНЫЙ СУД НА ЗЕМЛЕ, ПРЕДВАРЯЮЩИЙ И ПОДГОТАВЛИВАЮЩИЙ СТРАШНЫЙ СУД НА НЕБЕ. Свою стратегию Отбора Бог завершает естественным отбором — оба стана открыты, выбирай, в какой идти. Правда, и здесь, как и везде, симметрии между сатаной и Христом нет: сатана неистово зазывает в свой стан, рекламируя его прелести, тогда как Христос никого не тянет к себе за верёвочку, — Ему нужны только твердые в вере и в решимости обрести вечную жизнь, не поддавшиеся на агитацию лукавого,
О том, что Им будет осуществляться «естественный отбор» в Царство, Христос предупреждает в притче о плевелах (Мф. 13:24), где так и сказано — пусть вся зелень сама растёт, а когда вырастет, станет ясно, что сжигать и что убирать в житницы. Подумать только — мы с вами и есть та самая зелень, о которой Господь говорил две тысячи лет назад! Что из нас выросло — плевелы или пшеница? Не страшно ли оказаться плевелами?
Тот из нас, кому не страшно стать плевелом, уже стал им, он зря участвовал в наших разговорах, и на этом месте он может захлопнуть книгу и выбросить ее на помойку. Но тот, кому страшно, еще не пшеница, он только способен ею стать, и участие в наших беседах может оказаться для него полезным. С такими мы и будем размышлять дальше.
Если мы действительно хотим спастись от погибели, нам надо употребить для этого все три составляющих нашего сознания — волю, чувства и разум. Поскольку мы хотим спасаться, воля к спасению уже у нас есть, и ее нужно лишь укреплять. Чтобы укрепиться, ей надо находить поддержку в чувствах и в разуме. Главное укрепляющее ее чувство, как мы знаем, — страх Божий, страх перед погибелью. У тех, кто продолжает читать эту книгу, он, хотя бы подсознательно, присутствует, иначе бы они ее не читали. Но это спасительное чувство тоже необходимо укреплять, и укрепить его призван наш разум, драгоценнейший из даров сотворившего нас Господа. Разум, он же дар слова, без которого не может быть рассуждения, отличает нас от бессловесных тварей и роднит с Богом Словом, с Божественным Логосом, со Христом, через Которого только и можем мы делать то доброе, что можем делать. Святые отцы единодушно учат нас не полагаться на чувства, которые они называют «мечтаниями», а пользоваться даром «рассуждения». Последуем же их совету.
Прежде всего нам нужно как следует осознать, что происходящий на наших глазах «естественный отбор» есть не в метафорическом, а в самом реальном смысле начальный этап Страшного Суда, на котором мы сами выносим себе приговор, и этот приговор с большой вероятностью будет утвержден Творцом на окончательном Страшном Суде.
На какие времена похож двадцать первый век? На те, о которых, предупреждая их о Страшном Суде, говорил Иисус своим ученикам: «во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех» (Мф. 24:38-39).
Мы тоже едим, пьем, женимся, выходим замуж, разводимся и думаем, что это и есть жизнь. А иногда включаем радио или телевизор, чтобы узнать новости, и вздыхаем: какие тревожные известия — в Египте гражданская война, а в Приморье наводнение. А самого тревожного известия, которое должно было бы вмиг заставить забыть о таких пустяках, как наводнение, не хотим услышать, игнорируем его и не замечаем — известия о том, что идет первый раунд Страшного Суда, который вершится без грома и молний, тихо, и Грозный Судия не показывается нам, но внимательно наблюдает за тем, кто из нас идет к какой калитке, и записывает это в свою Книгу Жизни — не той призрачной жизни, где едят, пьют и разводятся, а настоящей жизни. Этой настоящей жизнью нам надо начать жить уже на земле; в этом и будет наш выбор и наш приговор себе самим, который в День Господня Страшного Суда, скорее всего, будет утверждён. Эта наша «здешняя» настоящая жизнь в грубом биологическом теле плавно перетечёт после его смерти в еще более настоящую «тамошнюю» жизнь в тонком теле нашей души, а после второго раунда Страшного Суда — в каком-то еще «новом теле», природа которого пока является для нас тайной. Настоящая жизнь «здесь», которая есть не что иное, как жизнь по Христу, — уже счастье, а ее продолжение «там» — блаженство. И обрести и ту, и другую вполне в наших силах, нужно только, как говорил преподобный Серафим Саровский, иметь решимость. Как же ее обрести?
Надо включить в полную силу великий дар Творца — наш разум. Он для того и дан нам, чтобы с него начиналось дело нашего спасения; такие его плоды, как наука и технология — его побочные результаты. Мы уже договорились с вами его использовать, пора переходить от слов к делу.
Пусть для начала наш разум, наша логика, наша способность рассуждать сделает для нас бесспорным тот факт, что сегодня человечество вошло в заключительную фазу своей истории, когда вершится предварительная земная часть Страшного Суда, на которой нам предлагается сделать свободный выбор между сатаной и Богом, т.е. между адом и раем. Вот аргументы, которые не позволяют усомниться в этом факте.
- То, что наступает заключительная фаза всемирной истории, или Божественного Домостроительства, следует из слов Самого Христа:
«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Мф. 24:14). До самого последнего времени не все народы могли ознакомиться с Евангелием, теперь — могут. Такая возможность — результат нынешней глобализации и компьютеризации.
- То, что Бог прежде, чем определить судьбу человека, предоставляет ему возможность самому взвесить свою жизнь, недавно получило неожиданное прямое подтверждение. Реанимированные доктором Моуди пациенты в отчетах, приведенных в его книге «Жизнь после жизни», говорят, что сразу после смерти их душу встречал «Свет» (вспомним, что и Моисей узрел Бога в виде света, исходящего от горящего и не сгорающего куста), который быстро разворачивал перед их глазами всю их жизнь («показывал нам фильм о прожитой нами жизни») и просил дать ей собственную оценку. Это значит, что перед вынесением Своего приговора Он хочет выслушать наш себе приговор, чтобы как-то его учесть. Но идя к равнодоступным сегодня сатане или Богу, разве мы не выносим себе приговор?
- В Апокалипсисе мы читаем:
«И когда Он cнял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число» (Отк. 6:9-11).
Мы не знаем, каково это таинственное число, но как бы велико оно ни было, его наверняка перекрыл тот отряд российских мучеников, который взошел на небо в эпоху большевистских гонений на Церковь. Это значит, что скоро будет суд и мщение.
- Суд и отмщение живущим, о которых святые мученики просили Бога и которые Бог обещал им совершить, наступят в ближайшее время не только потому, что «дополнилось число», но также и потому, что доминирующая на планете западная цивилизация стала настолько богомерзкой и богохульной, что Господь не сможет долго ее терпеть. То, что Его терпение имеет предел, мы знаем из истории. Погрязшие в грехах каиниты были уничтожены потопом, омерзительные содомиты и гоморряне — серным огнем, развратные этруски — ранним, еще целомудренным Римом, поздний морально разложившийся Рим — варварами.
Нынешний запад совмещает в себе пороки всех перечисленных ликвидированных Богом цивилизаций, поэтому и его ликвидация неизбежна — это и будет отмщение живущим.
- Есть еще один факт, на который редко обращают внимание, хотя он весьма красноречив: начиная примерно со второй половины двадцатого века человечество перестало рождать гениев науки и культуры. Казалось бы, интеллектуальные и художественные способности дает сама природа, реализуя их случайным образом, т.е. по «нормальному распределению» Гаусса. Но ничего похожего мы в действительности не видим. Восемнадцатое и девятнадцатое столетия и начало двадцатого дали миру огромное, не поддающееся даже приблизительной оценке количество великих, величайших математиков, физиков, химиков, писателей, поэтов, художников, архитекторов, композиторов. Вся фундаментальная, т.е. «настоящая» наука была создана на отрезке времени от Ньютона до Пуанкаре и создателей квантовой механики; все сокровища музыки и живописи, которыми мы наслаждаемся, подарила нам та же эпоха. Сегодняшний мир — интеллектуальная и культурная пустыня, одичавшие жители которой либо одурманивают себя варварскими песнями и плясками, либо дожёвывают то, что положили им в рот их великие предки. Какое там нормальное распределение! Гениев Нового Времени посылал людям Бог, как в древности посылал Он им пророков: Паскаль, Гете и Чайковский — такие же харизматики, как и Исайя и Иеремия, только вещали они другое. Неужели вы думаете, что это не Господь подсказал Бору его странную модель атома? Никакой человек самостоятельно не мог бы додуматься до неё, а если бы и додумался, то побоялся бы опубликовать, чтобы не засмеяли. И в конце двадцатого века Бог перестал присылать нам Своих пророков. Почему? Ответ по логике может быть только один. Харизматики посылаются человечеству для того, чтобы оно развивалось, а развиваться ему уже не нужно, ибо скоро конец.
- Но самым очевидным признаком начавшегося земного Страшного Суда является всё-таки всё углубляющаяся поляризация, размежевание человечества на два стада. Дальше и дальше расходятся между собой либералы и консерваторы, интернационалисты и патриоты, глобалисты и националисты, поклонники Америки и ее ненавистники, секуляристы и фундаменталисты, антисталинисты и сталинисты, сторонники толерантности и традиционалисты, и может возникнуть впечатление, что наш век — век многочисленных конфликтов, расхождений и расколов. Но если вглядеться внимательнее, становится всё очевиднее, что частные расколы суть поверхностные проявления одного глубинного раскола. Он вызван тем, что для каждого человека пришло время определиться, и одни люди выбирают один стан, а другие — другой. Что это за станы, мы с вами уже знаем.
Виновник этого раскола с самого начала взял на Себя ответственность за него, предупредив всех, что будет проводить стратегию отбора:
«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее» (Мф. 10:34-35). И вот, сейчас, при нашей с вами жизни, это разделение вступило в финальную, уже всемирную фазу. До сих пор оно было локальным, вспыхивая то там, то здесь, сегодня же от него уклониться не может никто. Не уклониться от него и нам. Если мы и вправду разумные существа, то шесть приведенных аргументов должны убедить нас в этом. И, наверное, мы поступим весьма разумно, если выберем не стан погибели, а стан жизни.
Следующим приобретением нашего разума должно стать ясное осознание того, что выбрать жизнь означает добровольно наложить на себя иго — во всём быть покорными Христу, стать рабами Божьими.
Но ведь рабство — это потеря свободы, а разве «свобода» — это не самое сладкое слово для человека?
Надо признаться, что здесь мы со своей логикой оказываемся в глухом тупике. Моя свобода есть сама моя жизнь, значит она безусловное благо. Иго есть потеря свободы, следовательно, потеря блага. Но Христос говорит нам, что Его иго есть благо, и не верить Ему мы не можем. Выходит, что потеря блага есть благо. Как это понимать?
Понимать это надо так, что наша человеческая «аристотелева» логика, проявляющая себя эффективным инструментом познания отдельно взятого материального слоя сущего, становится совершенно непригодной, когда мы переходим к решению вопросов, относящимся к сущему в целом, включающему в себя как материальную, так и духовную составляющую: на это обстоятельство указывали еще две с половиной тысячи лет назад философы элейской школы, придумавшие специально для дискурсионной логики так называемые «апории», оказавшиеся ей не по зубам («Ахиллес и черепаха», «Стрела» и другие). Дело в том, что законы, управляющие духовным слоем бытия, не совпадают с законами, относящимися к материальному слою, и во многом им противоположны, поэтому можно предположить, что, придавая тварному бытию дуалистическую природу («в начале сотворил Бог небо и землю» Быт. 1:1), Творец положил в основу этого дуализма принцип инверсности, который в то же время может рассматриваться как принцип дополнительности — убывание чего-либо в одном слое компенсируется его прибыванием в другом слое, что обеспечивает выполнение интегрального закона сохранения.
Если быть внимательным, проявления этого закона можно заметить на многих примерах. Вот один из них, связанный с такой данностью, как индивидуальная воля человека. В материальном слое бытия это — поступок, в духовном — желание, побуждение к поступку. И вот вам логически необъяснимый парадокс: лучше и точнее всех других авторов описал мир людских желаний Франсуа Марсель Пруст, который не совершал никаких поступков, поскольку болел тяжёлой формой астмы и поэтому жил затворником, обив стены парижского своего особняка пробкой, чтобы жить в тишине. Судьба лишила его возможности жить деятельной жизнью в материальном мире, и он решил жить воображаемой жизнью, совершая виртуальные поступки, которые в силу своей виртуальности оставались там же, где находились побуждения к этим поступкам, т.е. в сознании, где мысли было легко рассмотреть, проанализировать и переложить на бумагу. А если бы он мог действовать, то побуждения превращались бы в поступки и уходили из сознания, так что Прусту пришлось бы рассказывать только о своем поведении, без описания его психологической подоплёки, а это неинтересно. Конечно, этот случай особенно показателен, но и такие совершавшие поступки писатели, как Толстой и Мопассан, рассказывают не о своей реальной жизни, а о жизни воображаемых героев, чей внутренний мир они могли созерцать во всём его объёме, так как ничто не перетекало из него во внешний мир действий.
Когда Христос говорит «возьмите иго Мое на себя», Он рекомендует нам вести себя так, как «ведут себя» персонажи хороших писателей. Те не реализуют своих желаний и эмоций из-за своей виртуальности, не позволяющей им действовать в материальном слое бытия, так что структура их сознания сохраняется для писательского ее исследования; нам Христос советует не растрачивать ее на поступки (хотя мы имеем полную возможность делать это) для того, чтобы самим исследовать ее такой, какая она есть, т.е. познавать самих себя. Но ведь совершать поступки, живя на земле, всё равно приходится, можно возразить Христу.— Да, приходится, — отвечает Он, — но это Я беру на себя, поступайте всегда так, как Я скажу — в этом и будет заключаться Мое иго. Таким образом, Спаситель предлагает нам не простирать волю нашего «Я» к активности на внешнее поведение, где свобода выбора может привести к губительным действиям, а сосредоточить ее на самопознании и самосовершенствовании. Говоря ученикам «будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48), Иисус имеет в виду именно такую «работу над собой». «Внимай себе!»— был глас ангела Антонию Великому; «даруй ми зрети моя прегрешения» — учит нас просить Бога преподобный Ефрем Сирин в великопостной молитве.
По здравом размышлении нельзя не прийти к выводу, что принять предложение Христа об иге и бремени для нас выгодно. Хотя мы теряем свободу выбора в своем внешнем поведении, полностью подчиняясь Заповедям, мы получаем возможность сконцентрировать внимание на наведении порядка в своем внутреннем мире, в собственной душе, которая при бурной плотской жизни своего хозяина становится беспризорной сиротой. А ведь ее мы должны воспитать такой, чтобы она стала пригодной для пребывания в Царстве вечной жизни. Мы не можем разрываться между угождением плоти и заботой о душе — надо решить, что важнее. А здесь и думать нечего: плоть и так умрёт и сгниёт, а душа будет продолжать свое существование.
Теоретически всё ясно. Но как отказаться мне от плотских наслаждений, особенно если мои средства открывают к ним доступ? В вечернем молитвенном правиле есть слова: «Посреди сетей хожду многих, избави мя от них». Их произнёс много веков назад Иоанн Дамаскин, но что такое были тогдашние сети в сравнении с современными! Сегодня турагенства наперебой предлагают нам нежиться на берегу моря, реклама расхваливает предметы роскоши, рестораны зазывают отведать чудеса кулинарии, фестивали приглашают веселиться, стадионы показывают спортивные зрелища. Трудно, очень трудно устоять, а устоять надо — иначе погибель!
Луна как желтая печать
На черном бланке.
Придется, братцы, отвечать
За все гулянки.
Цена прогулянной души —
В небесном прайсе.
А ну, еще раз погреши,
Еще покайся.
Но есть на страшном рубеже
Предел градаций,
Там мы не грешники уже —
Христопродавцы.
И где тот колышек торчит,
Где край обманский?
Об этом знает и молчит
Сад Гефсиманский.
Д.В. Сивиркин
Разговор десятый. Теперь о главном
Разговоры о жизни не могут длиться вечно — иначе не останется времени на саму жизнь. Мы и так уже обсудили многое, пора подводить итоги. Вспомним коротко, о чем мы беседовали и к каким пришли выводам.
Конечной целью наших бесед было убедить себя в том, что, несмотря на все препятствия, обрести вечную жизнь можно, а значит нужно. Для человека это самый важный факт, о котором возвестил Христос и который зафиксирован в книге, так и названной Благой Вестью. Чтобы утвердиться в этом убеждении, мы осмысливали достижения настоящей философии, православного богословия и добросовестной науки.
Философия сделала несостоятельным то возражение против возможности вечной жизни, что объективная действительность ее не предусматривает, — то, что мы называем «объективной действительностью», конструируется нами самими, так что для того, кто включил туда вечную жизнь, она есть. Современная наука в лице квантовой физики подтвердила «антропогенность» внешней действительности, доказав, что говорить о наблюдаемом без наличия наблюдателя бессмысленно. Богословие удостоверило нас, что Христос в любую минуту готов откликнуться на наше желание обрести вечную жизнь и помочь нам в этом. Собственные наблюдения за мировыми событиями, вкупе с Евангельскими пророчествами, привели нас к заключению, что прямо на наших глазах начинается первый этап Страшного Суда — поляризация человечества на два стада, одно из которых пойдет в погибель, а другое — в жизнь, поэтому надо решительно определяться.
Какова надежда на то, что эти наши разговоры принесут плоды? Что касается логических аргументов в пользу того, чтобы сделать правильный выбор, то ими мы запаслись в избытке. Но одной логической убежденности в необходимости менять свою жизнь мало, есть и в нас самих, и вокруг нас много такого, что мешает ее изменить.
Главное препятствие — наша поврежденная первородным грехом натура. О ней подробно говорит апостол Павел. «Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?» (Рим. 7:15-24).
Подумать только! Сам первоверховный апостол, человек великой мудрости и огромной силы воли, да к тому же осиянный благодатью Святого Духа, горько жалуется на свою греховную плоть, постоянно вводящую его в искушения! Что же тогда нам с вами делать? Пусть умом мы поняли, что надо идти узким путем, но выводу ума нашего противоборствует закон, живущий в членах наших. Откуда же взять нам силы, чтобы его победить?
Сил может придать добрый пример. И пример такой у нас есть — христиане первых веков. Они вовсе не были исполинами духа. Это были самые обыкновенные люди из разных слоев римского общества — от рабов до патрициев. И в членах их тела жил тот же греховный закон, что и в плоти апостола Павла и в нашей плоти. И поэтому было бы естественно ожидать, что победят этот закон очень немногие, да и то с огромными трудностями. Но тут явно происходило чудо: живших по закону Божию были десятки тысяч, и ни от одного из них мы не услышали таких сетований на силу плотских соблазнов, подобных сетованиям св. Павла. Этих соблазнов для них будто и не существовало. Очень не похоже, чтобы одной только силой ума они могли пересилить противоборствующую уму греховную плоть — возникает подозрение, что они опирались на какую-то иную силу, могущественную и всепобеждающую, на некий высший закон мироздания. Высшим законом мироздания является, конечно, закон жизни самого Бога, который один только обладает истинным существованием, всё остальное существует лишь постольку, поскольку Он делится с нами этим своим свойством. «Без него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин. 1:3). Но жизнь Бога есть жизнь Пресвятой Троицы. Какой же закон доминирует в этой Божественной жизни?
Евангелие не оставляет никакого сомнения в том, что это закон любви.
«Ибо Отец любит Сына» (Ин. 5:20).
«Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца и, как заповедал Мне Отец, так и творю» (Ин. 14:31).
Любовь составляет самую суть жизни Троицы; наряду с существованием она является главным Ее атрибутом. Впрочем, эти свойства нельзя и разделять. Ясно, что любви не могло бы быть без существования, но верно и обратное: полноценное, вечное и безначальное существование Троицы поддерживается живущей в Ней любовью. Дело в том, что любовь, как род отношений между двумя субъектами, обладает стабилизирующим действием, и вот почему.
Любовь, как точно определил ее Владимир Соловьёв, есть «не просто чувство, а перенесение своего жизненного центра на другого». Любящий живет не ради себя, а ради любимого, его интересы он ставит выше своих собственных. Иными словами, любовь есть самопожертвование, стремление отдавать больше, чем получать. Между двумя любящими происходит постоянное соревнование в отдаче своего, которое и приводит к устойчивости союза. Недаром мудрые старики дают молодожёнам на свадьбе один и тот же совет: уступайте друг другу — в этом залог прочности брака. На уступку одной стороны другая отвечает возвращением уступленного, да еще с прибавкой своего, потому что ей приятнее отдавать, чем получать. Так соревнование в уступчивости приводит к возникновению колебаний вокруг положения равновесия, которые могут продолжаться сколь угодно долго. В теории систем это называется «отрицательной обратной связью», которая, как показывает расчет, обеспечивает устойчивость системы. Если же каждый из супругов любит получать больше, чем отдавать, то тот, кому уступили, использует свое усиление для того, чтобы заставить другого уступать и дальше, и в конце концов станет тираном. В технике это «положительная обратная связь»; она ведёт к лавинному процессу разноса системы. Именно из-за наличия такой связи между политиками все триумвираты кончались диктатурой. Любовь, определяющая жизнь Троицы, есть та самая «отрицательная обратная связь» между ее Лицами, которая обеспечивает их союзу бесконечную устойчивость. Отец всё передает Сыну, Сын считает себя не владельцем и распорядителем полученного, а всего лишь исполнителем воли Отца. Вопрос о том, кто главнее, тут не может даже возникнуть. А в языческом пантеоне античных богов этот вопрос был самым актуальным из всех вопросов и решался всегда одинаково: верховного бога Урана оскопил его сын Кронос, затем ставшего верховным Кроноса низвергнул в Тартар его сын Зевс, захвативший таким способом власть на Олимпе; Прометея, посягнувшего на всесилие Зевса, последний приковал к скале и ежедневно посылал орла клевать его печень. Гера так смертельно возненавидела превосходящую ее красотой Афродиту, что, проектируясь на человеческое общество, эта ненависть привела к Троянской войне. И чем это должно было кончиться? Тем, чем и кончилось: весь этот гадюшник полетел в тартары, и от него осталось только развлекающие детей мифы. Не тот был у древнегреческих богов род отношений, который гарантирует долголетие. Его гарантирует только любовь.
Но этим значение любви не ограничивается. Кроме вечного бытия, она дает абсолютную свободу. Вы скажете: но абсолютной свободой обладает только Бог. Да, это так, но любовь совершает чудо и в этом уподобляет всякого любящего, в том числе и человека, Богу.
«Свобода» и «воля» — очень близкие понятия, часто выступающие как синонимы («крестьянам дали волю» — понимается «дали свободу»). Свобода есть возможность осуществлять свою волю — делать то, что ты сам хочешь делать. Чего же больше всего хочет делать любящий? Разумеется, исполнять желание любимого: что он скажет, то любящий и делает. Внешне это выглядит как подчинение, т.е. как потеря свободы, но это ведь осуществление своей воли, т.е. свобода, настоящая полноценная личная свобода, и совершенно неважно, что извне она кажется рабством. Разве это не чудо — любовь превращает рабство в свободу!
Именно действие этого чуда испытывали на себе христиане первых веков. Они возлюбили Христа, и в этом заключался весь их секрет.
— Мы тоже любим Христа, — скажут многие из читателей. А я, даже не знакомый с их жизнью, отвечу:— Нет, вы не любите Его по-настоящему — никто в мире, кроме, может быть, нескольких десятков человек, сегодня не любит Христа по-настоящему, т.е. как Он сам завещал нам Его любить. Послушайте Его слова, и вы согласитесь со мной.
«Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф. 10:37).
Скажите честно: любите вы Христа больше своих отца с матерью и детей? Задаю этот вопрос прежде всего самому себе и с горечью отвечаю: нет. А каждый мой читатель пусть самому себе скажет правду.
А что будет с тем, кто возлюбит Христа по-настоящему?
«И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестёр, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную» (Мф. 19:29).
Но чудо любви ко Христу не только в том состоит, что она так по-царски вознаграждается. Когда вы любите свое дитя, вы ведь не думаете о том, что когда оно вырастет, будет вас содержать, — сама любовь к нему доставляет вам счастье. Так и с любовью ко Христу. Первые христиане, отведав ее несравненного блаженства, не думали ни о какой будущей награде — они получали ее сейчас, каждую минуту.
Но можно ли так уверенно говорить о чувствах живших более полутора тысячи лет назад? Где объективные доказательства того, что они любили Христа больше своих родных? Такие доказательства есть, и они бесспорны. Во-первых, это документально зарегистрированный факт массового принятия мученичества, которому никаких объяснений, кроме любви ко Христу, не позволяющей отречься от Него даже под страхом смерти, дать невозможно. Во-вторых, это многочисленные жития тех же мучеников, где об этой любви сказано очень много. В‑третьих, от тех времён сохранился уникальный текст — дневник ожидающей вывода на арену амфитеатра к хищникам карфагенской патрицианки Перпетуи.
В Средние века и даже в Новое Время на Западе было немало христианок, писавших о своей великой любви к «Иисусу Сладчайшему» и канонизированных за это католической Церковью: Юлиана, Тереза Большая, Тереза Малая и другие. Экзальтированность этих записок настолько высока, что невольно закрадывается подозрение: а не «накручивали» ли они сами себя, чтоб полюбить Христа? В записках Перпетуи об ее любви ко Христу нет ни единого слова. Она рассказывает, как жалко было ей старенького отца, умолявшего ее не упрямиться, а особенно своего грудного младенца, которого она делала сиротой. Ей стоило только пройти короткий формальный обряд отречения — покаяться Юпитеру или статуе императора, — и ее отпустили бы домой — власти Карфагена любили ее и не потребовали бы подлинного отречения — оставайся христианкой, но только тайной, мы закроем на это глаза. Но читая ее записи, видим, что пойти на компромисс для нее было абсолютно невозможно, и начинаешь догадываться, почему: она познала настоящую любовь, перед которой биологическую и родовую привязанность к родителям и детям не хочется называть этим святым словом «любовь», и отречься от нее даже на словах было бы изменой. Перпетуя в точности выполнила призыв Христа оставить дом, отца, мать и детей ради Его имени, и не потому, что прочитала это в Евангелии, а потому, что не могла поступить иначе. Впрочем, пересказывать ее повествование трудно; для желающих ознакомиться с этим потрясающим документом подробно мы решили дать его в приложении.
Итак, есть способ мгновенно решить все проблемы! «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим» (Лк. 10:27), и будешь и на земле счастливым, и иго Христово будет не просто легким, а даже приятным, и, самое главное, — обретешь жизнь вечную…
Рецепт действительно прост. Но попробуй-ка его выполни!
Как заставить себя возлюбить Бога, и можно ли заставить? Почему любовь ко Христу так легко давалась ранним христианам, а сегодня не дается?
Что касается первых христиан, то с ними всё более или менее ясно: их энтузиазм был так велик, что его можно объяснить только нисхождением на них Святого Духа. Пятидесятница не закончилась после того, как огненные языки сошли на апостолов, в затухающем режиме они продолжались несколько веков. «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и принесли плоды» (Ин. 15:16), сказал Иисус своим ближайшим ученикам, но это же Он мог бы сказать и ученикам учеников, которые всё множились — их Он тоже наполнял Святым Духом для укрепления их веры и любви. Святость первых христиан была не заслугой, а назначением. Осуществляя свой неисповедимый Замысел о человечестве, свое Божественное Домостроительство, Господь начал создавать новую грандиозную цивилизацию, призванную хранить в своем сердце полноту спасительной Христовой истины, и Он стал формировать ее костяк, ее ядро. И в него рекрутировались самые обыкновенные люди. Вы скажете: вот повезло им — ни за что, ни про что стали святыми! Да, повезло, и такое у Бога бывает, а кому-то, случается, и не везет. Ведь сказано «Надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Мф. 18:7). Значит, верно и обратное: надобно было, чтобы утверждалось Христианство, и счастье тем, через кого оно утверждалось. На стадии становления христианской цивилизации нужны были святые: Дух Божий вербовал их в массовом порядке; на ее закате кадры уже не так нужны, и режим тотальной мобилизации отменен — теперь в ряды получающих вечную жизнь зачисляются только добровольцы, которые должны еще доказать, что действительно очень хотят в нее войти.
Но как бы велико ни было наше желание, без помощи Святого Духа нам всё равно не обойтись. Это Иисус объяснил и Никодиму, и всем нам: «истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3:5). Раньше Дух раздавался избранным бесплатно, избрание производилось по известному одному Богу критерию, сегодня мы должны, как это подчеркивал преподобный Серафим Саровский, оплатить Его. Великий старец учил и тому, как это делать: используя все средства — молитву, благотворительность, другие добрые дела, — делай упор на том из них, к которому ты больше расположен, который больше других соответствует твоей натуре. Впрочем, об этом же говорил и апостол Павел:
«И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры; имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли, — в учении; увещеватель ли, увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори с радушием» (Рим. 12:6-8).
В утреннем молитвенном правиле есть слова «сподоби мя, Господи, возлюбити Тя, якоже возлюбих иногда тот самый грех». Это не что иное, как мольба о ниспослании Святого Духа, который есть Дух Любви. Но времена, когда Дух сходил на людей обильно, давно миновали, и теперь, по слову преподобного Серафима, его надо зарабатывать. Любовь ко Христу, которая снимет все проблемы, нам нужно выращивать в себе. Но как?
Начать надо, видимо, с выращивания в себе любви к людям, «ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» (1Ин. 4:20). Вторая наибольшая заповедь — любовь к ближнему — есть необходимое условие первой наибольшей заповеди — любви к Богу. Никто не обретет вечной жизни, влившись «в одну Любовь, широкую как море, что не вместят земные берега» (А.К. Толстой), если не научится любви в узких земных берегах.
Когда-то Хрущев произнес знаменитую фразу: «Цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи!». Под целью он понимал утопический земной рай коммунизма, выдуманный Марксом в его кабинете, а под задачами — налаживание производства всё возрастающего количества материальных благ. Где сегодня еще недавно всесильные и исполненные самоуверенности марксисты? Самоуверенных уже вовсе нет, а светящие запоздалым светом погасшие звезды составляют небольшую фракцию в Думе, и этим вполне удовлетворены, не помышляя уже о власти.
У нас с вами другие цели и другие задачи. Цель наша была ясна с самого начала: обрести бессмертие. Что же до первоочередной задачи, то и она, кажется, определилась: начинать надо с того, чтобы уже в земной жизни дать в себе место любви — например, любви к людям.
Тут надо прямо сказать: с обстановкой, в которой приходится решать эту задачу, нам сильно не повезло. Два фактора современной жизни никак не способствуют появлению и укреплению в наших душах любви к ближнему.
Первый фактор — тотальная атмосфера ненависти, в которой сегодня живет человечество. Оно раздроблено ныне на многочисленные группы, союзы, касты, секты, корпорации, ассоциации, землячества, национальности, верования, мировоззрения и миропонимания, которые ненавидят друг друга, ибо всех, кроме себя, считают Злом. Перед этой глобальной междоусобицей средневековые разборки русских удельных князей кажутся детскими шалостями.
Вы только подумайте, какой получается статистическая картина современного мирового сообщества! Если производить всепланетный опрос «Какой, по вашему мнению, процент живущих на земле людей олицетворяет собой зло?», то все ответят: «девяносто девять процентов», так как каждый голосующий причисляет к партии добра только себя и небольшую кучку своих единомышленников. Но ведь в век демократии мы убеждены, что плебисцит есть самое надежное средство познания истины, следовательно, истина состоит в том, что нынешнее человечество своим подавляющим большинством лежит во зле. Наш мир, прибегнув к критерию, который он считает единственно верным, узнал бы о себе страшную правду: он есть сплошное зло. Это тот редкий случай, когда такое субъективное мероприятие, как голосование, дает результат, отражающий объективную действительность, которая волнует нас и втягивает в водоворот ненависти и вражды, уносящий в преисподнюю. И втянутых в него бедняжек становится всё больше и больше. В Америке давно уже появились клокочущие ненавистники-одиночки, которые ни с того ни с сего расстреливают первых встречных; в последние годы это показательное явление наблюдается и в России. Недавно один клерк расстрелял в Москве шестерых своих сослуживцев, а перед этим разместил на сайте манифест, дышащий сатанинской ненавистью, в котором человечество объявлялось раковой опухолью, обезобразившей лицо земли. Но самое показательное в том, что в первые же два дня этот манифест получил одобрительные отклики от десяти тысяч человек.
Как не поддаться этому массовому умопомешательству? Способ только один. Противоядием ненависти является любовь, ею-то и надо проникаться.
Как это сделать? Есть два верных способа облегчить задачу. Во-первых, при взаимодействии с человеком, в котором вы видите недостатки, вызывающие ваше недоброжелательство, сразу же начинайте вспоминать о своих собственных недостатках. Если вы как следует в себе покопаетесь, вы найдёте там куда более отвратительные пороки, чем у того, кого были готовы осудить — хотя бы потому, что свои пороки вам доподлинно известны, а чужие всегда предположительны, ибо чужая душа — потемки. Проделав такую взыскательную саморевизию, вы смягчитесь по отношению к другому и будете способны отыскать в нём хорошее и полюбить его.
Второй способ не дать овладеть вашей душой чувству ненависти к «плохим» — подумать о том, что, если они действительно плохие, то они пойдут широкими вратами в погибель, и проникнуться к ним жалостью и состраданием. Ведь и они были когда-то безгрешными младенцами, но потом не устояли перед соблазнами князя мира сего и будут за это наказаны Богом. Надо ли нам дополнительно наказывать их своим осуждением? Господь сказал: «У Меня отмщение и воздаяние» (Втор. 32:35), и нам, смертным, не подобает вмешиваться в этот таинственный процесс.
Есть еще один совет, который единодушно дают нам святые отцы. Если кто-то вызывает вашу ненависть тем, что обижает и унижает вас, смените ее на благодарность: этот человек послан вам Богом, чтобы испытать и укрепить вашу кротость и ваше смирение — качества, без которых вы не войдете в Небесное Царство. Таких надо особенно любить, за них надо молиться — они ваши первые помощники в деле спасения.
Но лучший способ полюбить людей, — начать их любить. Сделав первый шаг, вы почувствуете, как серьезно меняется в лучшую сторону весь ваш внутренний мир, как обновляется ваша душа, возвращаясь к казалось бы навеки утраченному счастливому детскому состоянию, как у нее вновь появляется способность плакать сладкими слезами умиления и восторга.
Есть объективная причина, по которой любовь к тому, кого видишь, проще и естественней всего сделать первым шагом к изменению своей жизни: ее не надо как-то специально внушать себе и вымучивать; ее надо только, как спящую царевну, разбудить в своей душе, где запечатал ее печатью боящийся ее как огня, как смертного себе приговора враг человека. Нам надо просто «сокрушить демонов немощные дерзости» (молитва святым мученикам) — заметьте, немощные. Коснитесь этой заколдованной любви, и она проснётся и изменит всю структуру вашего сознания, сделав ее пригодной для второго шага — обретения любви к Богу.
Здесь я поделюсь своим личным опытом. Во время войны мы с мамой жили в эвакуации у хозяина, державшего в доме кроликов. Когда дома никого не было, я, по детской глупости, забавлялся тем, что пугал зверьков, зажигая перед ними спички, — мне было смешно, как они убегают и прячутся. Однажды мама, придя с работы, подошла к клетке и стала гладить кроликов, приговаривая «мои хорошие, мои красивые». И во мне всё перевернулось: я вдруг понял, что любить этих моих меньших братьев гораздо радостнее, чем стращать, и что, стращая их, я был идиотом, обкрадывающим самого себя…
Это озарение вспыхнуло и погасло, никак не повлияв на мой образ жизни, который становился всё более мерзким и грешным. Но я не забыл его, будто специально сохраняя в памяти до того времени, когда уже нельзя будет откладывать окончательный выбор и подтверждать его делами, чтобы помочь мне сделать его правильно. И, как мы с вами удостоверились в ходе наших бесед, это время настало для нас всех. И какой именно выбор надо делать, нам тоже стало понятно. Давайте же начнем подтверждать его взаимной любовью. Давайте жалеть друг друга, прощать друг другу, помогать друг другу, молиться друг за друга. Последуем доброму совету Булата Окуджавы, во святом крещении раба Божия Иоанна, который пропел: «Давайте говорить друг другу комплименты — ведь это всё любви счастливые моменты». Не будем отказывать себе в этих моментах. Глядя с Небес на нашу взаимную любовь, Христос увидит, что мы Его ученики (Ин. 13:35) и откликнется на наше прошение «Сподоби нас, Господи, возлюбити Тя». Тогда исполнится и первая наибольшая заповедь, вводящая в вечную жизнь. Но об этой заповеди нужно беседовать отдельно, и, если даст Бог, мы об этом когда-нибудь с вами побеседуем.
Приложение. Дневник Перпетуи
«… Когда мы еще находились под следствием закона и мой отец старался донимать меня своими словами и постоянно пытался пошатнуть мою веру своей любовью:
— Отец, — сказала я, — ты видишь этот сосуд лежащий, кувшин или что бы это ни было?
И он сказал:
— Вижу.
И я сказала ему:
— Может ли он называться каким-либо другим именем, кроме того, чем он является?
И он ответил:
— Нет.
— Так и я не могу называть себя никем другим, кроме того, что я есть, — христианкой.
Тогда мой отец, разгневанный этим словом, приблизился ко мне, чтобы выцарапать мне глаза, но только огорчил меня и ушел побежденный, он — и доводы диавола. Потом, так как я оставалась без моего отца несколько дней, я благодарила Бога; и я была утешена его отсутствием. В эти же несколько дней мы были крещены, и Дух объявил мне, что я не должна молиться ни о чем другом после этой воды, а лишь о выносливости плоти. Через несколько дней нас взяли в тюрьму, и мне было очень страшно, так как я никогда не знала такой темноты.
О горький день! Там было очень жарко из-за темноты, там было грубое обращение солдат, и, кроме того, я была измучена беспокойством за ребёнка.
Потом Терций и Помпоний, благословенные диаконы, которые заботились о нас, приобрели за деньги такую возможность, чтобы на несколько часов нас отводили в более хорошую часть тюрьмы и давали освежиться. Тогда все, кого выводили из темницы, отдыхали; я кормила грудью ребёнка, который был слаб от голода. И, с заботой о нём, я говорила со своей матерью и укрепляла брата и поручала им своего сына. Я тосковала, потому что видела, что они тоскуют из-за меня. Такие волнения я терпела много дней; и, наконец, я получила разрешение, чтобы мой ребёнок находился со мной в тюрьме, и мне сразу стало хорошо и легко, так как я избавилась от трудов и беспокойства о ребёнке; и тюрьма вдруг стала для меня дворцом, так что я предпочла бы находиться там, чем в любом другом месте.
Потом сказал мне мой брат:
— Госпожа и сестра, ты сейчас в высокой чести, так что можешь даже просить видения, и тебе будет показано, будет ли то страдание, или избавление.
И я, зная, что я разговаривала с Богом, ради Которого я переносила такие вещи, обещала ему безо всякого колебания, и сказала:
— Завтра я скажу тебе.
И я спросила, и вот что мне было показано:
Я увидела лестницу из бронзы, поразительно высокую, доходящую до небес; и она была узкой, так что не более одного могло подниматься по ней за один раз. И по краям лестницы были установлены разнообразные вещи из железа. Там были мечи, копья, крючья и ножи, так что если поднимающийся по ней не был осторожен и не смотрел вверх, он был бы разорван и его плоть цеплялась бы за железо. И прямо у подножия лестницы был лежащий змей, поразительно огромный, который лежал в ожидании поднимающихся вверх, и пугал их, чтобы они не могли бы подняться. И вот Сатурус пошел первым (который потом сдался по собственной воле ради нас, потому что именно он просветил нас, и когда привели нас, его там уже не было). И он поднялся наверх лестницы и оглянулся и сказал:
— Перпетуя, я жду тебя; но смотри, чтобы тебя не укусил змей.
И я сказала:
— Он не повредит мне, во имя Иисуса Христа.
И снизу лестницы, как будто он боялся меня, змей тихонько приподнял голову; и я, словно на первую перекладину, ступила на его главу. И я поднялась вверх, и увидела очень большое пространство сада, и в середине — человека сидящего, седовласого, в одежде пастуха, высокого, доящего овец. И вокруг него стояли в белом многие тысячи. И он поднял голову и увидел меня и сказал мне:
— Добро пожаловать, чадо.
И он позвал меня, и из простокваши, которая была у него, дал мне словно бы кусочек, и я приняла его в сложенные ладони и ела, и все, кто стояли вокруг, сказали:
Аминь.
И при звуке этого слова я проснулась. И всё еще ела не знаю что, но сладкое.
И я сразу сказала брату, и мы знали, что будет страдание; и с этого времени мы оставили все надежды на этот мир.
Через несколько дней пришло известие, что нас будут судить. Также и отец мой вернулся из города, изможденный от усталости; и он пришел ко мне, чтобы сломить мою веру, говоря:
— Пожалей, дочь, мои седины; пожалей отца своего, если я достоин называться отцом твоим; если этими руками я взрастил тебя до цвета твоей юности — а я отдавал тебе предпочтение пред всеми твоими братьями; не предавай меня на посрамление людям. Посмотри на своих братьев; посмотри на свою мать и на сестру своей матери; посмотри на своего сына, который не переживет тебя. Оставь свою твердость; не разрушай нас всех вместе, так как никто из нас не сможет больше говорить открыто против людей, если ты сколько-нибудь пострадаешь.
Так сказал мой отец в своей любви, целуя мне руки и валяясь у меня в ногах; и в слезах он называл меня не дочь — а госпожа. И я скорбела за своего отца, потому что из всех моих родных он один не радовался моему страданию; и я утешала его, говоря:
— То будет сотворено на этом суде, что угодно Богу; ибо знай, что мы находимся не в своей власти, а в Божьей.
И он ушел от меня весьма печальный.
На другой день, когда мы ели, нас вдруг схватили, чтобы вести на суд; и мы пришли на форум. И известие об этом распространилось в местности, близкой к форуму, и собралось великое множество людей. Мы поднялись на трибуну. Другие, будучи спрошены, исповедывали. И так они пришли ко мне. И мой отец также появился там, с моим сыном, и хотел удержать меня от этого шага, говоря:
— Принеси жертву; пощади этого ребёнка.
И Иллариан, прокуратор — тот, кто после смерти Муниция Тиминиана был принят проконсулом в его комнате и получил право и власть меча, — сказал:
— Пожалей седины своего отца, пожалей младенчество мальчика. Принеси жертву за благоденствие императора.
И я ответила: не сделаю.
Иллариан: ты христианка?
Ответила: Я — христианка.
И когда мой отец еще стоял рядом со мной, чтобы отвратить меня от веры, Иллариан приказал, чтобы его бросили наземь и били палкой. И я мучилась от боли моего отца, будто били меня саму; так мучилась я за его несчастную старость. Потом Илларион объявил приговор всем нам и приговорил нас к диким зверям; и радостно мы спустились в темницу. Потом, так как мой ребёнок привык кормиться грудью и быть со мной в тюрьме, я сразу послала диакона Помпония к своему отцу, прося ребёнка. Но мой отец не хотел отдать его. И по воле Божией ему больше не надо было грудного молока, а у меня не возникло молочницы; так что я могла не мучиться беспокойством за ребёнка и болью в груди.
Через несколько дней, когда мы все молились, вдруг в молитве я произнесла слово и назвала Динократа; и я была изумлена, потому что до этого он никогда не приходил мне на ум; и я огорчилась, вспомнив его судьбу. И я начала долго молиться о нём и стенать к Богу. И немедленно в ту же ночь он был показан мне.
Я увидела Динократа приходящим из темного места, где также было много других; он страдал от жары и от жажды, его одеяние было грязным, лицо — бледным, и на лице его рана, которая была, когда он умер. Этот Динократ был моим братом по плоти, семи лет отроду, который заболел язвой на лице, умер ужасной смертью, так что от этой смерти содрогнулись все люди. И с этих пор я стала творить за него молитву; и между ним и мною была огромная бездна, так что мы не могли перейти друг к другу. И кроме того, в том же месте, где был Динократ, находился фонтан, полный воды, но его края были выше роста мальчика, и Динократ старался дотянуться до края, как бы чтобы попить. Мне было жалко, что в фонтане есть вода, а между тем из-за высоты краёв он не может пить.
И я проснулась, и знала, что мой брат в мытарствах. И всё же я была уверена, что могу облегчить его мытарства, и я молилась за него каждый день, пока нас не перевели в лагерную тюрьму (так как нам предстояло бороться в лагерных играх; и было время празднования дня рождения императора Геты). И я молилась за него день и ночь со стонами и слезами, чтобы мне отдали его.
В день, когда мы пребывали в оковах, вот что было показано мне:
Я увидела то же место, что видела раньше, но Динократ был чист телом, красиво одет и утешен; и тот же фонтан, что я видела раньше, — но края его достигали мальчику до пупа; и он брал оттуда воду, которая лилась не переставая. И на краю была золотая чаша, полная воды; и Динократ подошел и стал пить из неё; и чаша не исчезла. И, напившись, он отошел оттуда и стал играть, как все дети, радостно.
И я проснулась. Тогда я поняла, что его перевели из места мучений.
Затем, через несколько дней, адъютант Пуденс, который управлял тюрьмой и который тоже начал возвеличивать нас, так как понял, что в нас обитает благодать, допустил к нам многих, чтобы и мы и они могли в свою очередь получить утешение. Теперь, когда приближался день игр, ко мне пришел отец, изможденный от усталости, и стал рвать на себе бороду и бросать на землю, и падать ниц, и проклинать свои годы, и говорить вещи, которые могли тронуть всё творение. И я скорбела о его несчастной старости.
Накануне дня, когда нам предстояло бороться, я увидела в видении, что диакон Помпоний пришел ко двери тюрьмы и сильно постучал. И я вышла и открыла ему; он был одет в белые неподпоясанные одежды и чудно сработанные башмаки. И он сказал мне:
— Перпетуя, мы ожидаем тебя, иди.
И он взял меня за руку, и мы начали проходить через дикие и крутые места. Наконец, тяжело дыша, мы пришли к амфитеатру, и он вывел меня на середину арены. И он сказал мне:
— Не бойся, я здесь с тобой и тружусь вместе с тобой.
И он ушел. И я увидела множество людей, пристально наблюдавших за мной. И так как я знала, что мы приговорены к диким зверям, то удивлялась, что их не выпускают против меня. И вышел против меня некий отталкивающего вида египтянин, бороться со мною. Также вышли ко мне миловидные юноши, мои помощники и сотрудники.
И меня раздели донага, и я стала мужчиной. И мои помощники стали натирать меня маслом, как делают по обычаю перед соревнованием, и я видела напротив, что тот египтянин валяется в пыли. И вдруг вышел человек огромного роста, так что он возвышался над самым верхом амфитеатра, в неподпоясанной мантии, под которой между двух лент на груди была пурпурная мантия, также и башмаки его были из золота и серебра, чудной работы; и он держал жезл, как начальник гладиаторов, и зелёную ветвь, на которой были золотые яблоки. И он потребовал тишины и сказал:
— Если египтянин победит эту женщину, сразит ее мечом, а если она победит его, то получит эту ветвь.
И он ушел. И мы сошлись и стали наносить друг другу удары. Он старался, чтобы я споткнулась, но я ударила пятой его в лицо. И я поднялась на воздух и начала так разить его, как будто я не ступала по земле. Но когда я увидела, что конец еще медлит, я соединила руки, уперев палец в палец. И я поймала его голову, и он упал на лицо; и я поднялась к начальнику гладиаторов и получила ветвь. И он поцеловал меня и сказал:
— Дочь, мир с тобою.
И я со славою отправилась к воротам, называемым Ворота Жизни.
И я проснулась; и я поняла, что мне должно бороться не с дикими зверями, но против диавола; но я знала, что победа будет за мной.
Я записала всё до этого места, вплоть до дня накануне игр; а подвиг самих игр пусть напишет другой.
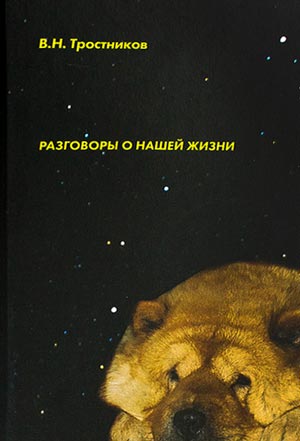
Комментировать