- «Для убеления к последнему времени...» (Дан.11:35)
- Светильник благочестия (из предисловия к первому изданию)
- «В глубине сердца, любящего Христа...»
- От автора
- По материалам следственного дела № 16527
- Часть I. 1937 год — дело церковников
- Часть II. 1954 год — дело следователей
- Детство и юные годы отца Григория
- Спас Нерукотворный
- Он и она
- Он
- Она
- Голгофа. Годы заточения... Драматические истории из жизни отца Григория на Севере
- «Вера твоя спасла тебя...» (Мк.10:52)
- В шахте
- «Живый в помощи Вышнего»... Витек
- «У Меня отмщение, Я воздам...» (Евр.10:30). Гроза в бараке
- В бараке смертников
- Малиновая поляна
- Таежные дары
- Отец Алексий
- Встреча
- Отец Григорий
- «Силою Честнаго и Животворящего Креста Твоего...»
- Два пастыря
- Паломничество
- Хортица
- В Нижнем Новгороде
- В Кургане
- Молитва только на нынешний день
- Молитва, читаемая вечером
- Молитва Святому Духу
- «Слава Тебе, явившему мне красоту вселенной...» (Об отношении отца Григория к природе)
- «Кто Творец мира: Бог или природа?»
- Энциклопедический словарь Флорентия Павленко
- Праздник Николы «зимнего»
- «Коленька нашелся...»
- «Услышал Господь моление мое...» (Пс.6)
- Из воспоминаний духовных чад отца Григория
- «Гонимы, но не оставлены...»
- Матушка Нина
- Немного о семье...
- Первые уроки
- «На Пихтовке»
- Снова в Нижнем Тагиле
- Под покровом святителя Николая
- «Верь, мы обязательно встретимся и будем жить долго-долго…»
- «На руках вóзьмут тя...» (Пс. 90)
- Трудный выбор
- Пятно
- «Жена добродетельная»
- Корни наши — опора наша
- О семье Пономаревых
- О семье Увицких
- Эвакуация в Иркутск. Вилы нечистого...
- Тифозная шуба
- Вишерский ГУЛАГ и Беломорканал
- Царский Крест
- Тени прошлого из дома Ипатьева
- История Царского Креста
- «…Утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам…» (Лк.10:21)
- Молитва Царскому Кресту-мощевику
- Отец Григорий — богослов-апологет, исследователь в области литературы, искусства и науки
- Годы учебы отца Григория в Санкт-Петербургской Духовной Академии
- Работа батюшки в публичной библиотеке Санкт-Петербурга
- «За веру против неверия». Веруют ли ученые?
- Праведный Иоанн Кронштадтский и праведный Григорий Пономарев
- Отец Григорий — о религиозных воззрениях Пушкина
- Критика отцом Григорием учения Дарвина «О происхождении видов»
- Последние годы
- Годы скитаний
- Операция
- Опасный визит
- Нападение цыган
- Наводнение. Островок спасения
- Трагедия на трассе
- И вновь испытание
- Пасхальная ночь
- «Продлить еще на 40 уст...»
- На пороге в жизнь иную...
- Эпилог
- Воспоминания об отце Григории и матушке Нине
Отец Григорий
Способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит.
Жизнь сложилась так, что мое общение с отцом было не постоянным, а, скорее, эпизодическим. Первая наша встреча, как уже было сказано, произошла после его приезда с Севера, когда мне было почти шестнадцать лет.
Несколько недель спустя после возвращения отец Григорий осуществил данный им обет — отдать всего себя на служение Богу и Православной Церкви. Матушка, конечно, его поддерживала. Они жили как брат и сестра во Христе, разделяя пополам все трудности и радости служения Церкви и Богу. Прослужив недолгое время диаконом в Иоанно-Предтеченском храме города Свердловска, батюшка получил постоянное место в небольшом районном городке Кушва, куда они и поехали вдвоем. Я же осталась в Свердловске продолжать учебу, и с этого времени фактически началась моя самостоятельная жизнь.
Конечно, мы виделись. Все каникулы я проводила у родителей. Но велики ли каникулы для познания внутреннего мира человека, прошедшего такой сложный путь? Да и я, в силу молодости, была слишком занята своими проблемами, чтобы глубоко понять, что пережил он и как формировался (лучше сказать, выковывался) его характер. Он попал в сталинскую «мясорубку» всего в двадцать четыре года. Как он не сломался духовно и физически в столь молодом возрасте? Именно там возмужала его воля и укрепилась вера. Каким сильным, но внутренне закрытым человеком приехал папа с Севера!
И в последующие годы жизнь тоже ставила перед ним сложные и трудные задачи, но они отвечали уже новому времени… В те годы я не могла заметить и оценить его постоянный духовный рост. И лишь теперь, стараясь понять и охватить масштаб его личности, сложить воедино его записи, дневники, письма, заполняя пробелы своими воспоминаниями о его беседах с родными, советах многочисленным духовным чадам, несущим ему свою боль и неразрешенные вопросы, — я пытаюсь выявить его самые главные требования прежде всего к себе, а затем к людям. Вера. Чистейшая, беззаветная, безусловная вера и надежда на Господа при любых обстоятельствах… Но как сделать эту веру не застывшей, не мертвой, а живой и трепетной, приносящей спасительные плоды? Это стало его целью и в совершенствовании, и в постоянной духовной помощи всем нуждающимся в нем.
В годы служения в Кушве, а потом в Нижнем Тагиле отец Григорий был переполнен энергией, которая проявлялась в самых различных формах. Он с наслаждением работал в храме, служил,приводил в порядок церковные книги, иконы, киоты. Его часто можно было видеть в церковной ограде с плотниками, столярами — он боялся каждой праздно проведенной минуты.
«Силою Честнаго и Животворящего Креста Твоего…»
Из жизни отца Григория и матушки Нины в Кушве
Из короткого периода жизни и служения отца Григория и матушки Нины в Кушве вспоминается один эпизод, произошедший в 1954-м году.
Отец Григорий, только что вернувшийся с Севера и получивший назначение в сан диакона в храм Михаила Архангела города Кушвы, был полон энергией, духовной и физической. Радость переполняла его. Он был безмерно благодарен Господу за свое чудесное возвращение и стремился по возможности всем вокруг помочь: обогреть, защитить… Узнав о появлении в кушвинском храме нового священнослужителя, местные жители стали часто обращаться к нему за помощью…
О том, что вернулся из заключения отец Григорий, вести распространились очень быстро. Так стали налаживаться старые, почти оборванные нити знакомств, общения. Боюсь быть неточной и могу передать лишь общий смысл разговора, произошедшего однажды вечером между отцом Григорием и матушкой Ниной. Как-то раз их навестила старенькая монахиня из разоренного Верхотурского женского монастыря — матушка Анатолия. Она жила в то время в каком-то селе близ Верхотурья. Вероятно, она знала Гришу Пономарева еще юным, до ссылки. Знала его родителей — протоиерея Александра и матушку Надежду.
Это была очень набожная, мудрая и молитвенно настроенная монахиня. Отец Григорий неоднократно помогал ей и сестрам монастыря, бедствующим по ближайшим деревням. В разговоре матушка Анатолия, очевидно, сказала, что ему и матушке предстоит много переживаний, трудностей, которые могут произойти уже в ближайшее время. Это стало как бы предупреждением о том, чтобы отец Григорий и матушка Нина всегда были готовы к любой самой неожиданной опасности…
Летом, после памятного возвращения папы с Колымы, я приехала к родителям в Кушву на каникулы. Маму я просто не узнала. Она помолодела лет на двадцать. Излучала свет, тепло, необыкновенную энергию, заботу обо всех. Мама была назначена регентом в том же храме, где служил отец Григорий, и жила работой со своим хором. Папа был рядом, и хотя занят он был безмерно, но все равно они служили вместе, о чем мечтали, соединяя свои жизни семнадцать лет назад. Они действительно были счастливы: служение Господу в одном храме, долгожданная жизнь рядом с любимым человеком, взаимная забота, понимание…
В конце июля в храм Михаила Архангела был назначен настоятелем митрофорный протоиерей Александр Введенский — пламенный проповедник и молитвенник. Он был на тридцать лет старше отца Григория; возраст, конечно, почтенный, и поэтому основные хозяйственные и административно-бытовые заботы по храму легли на отца Григория, чему он был безмерно рад.
Жили они с мамой в двухэтажном доме в трех-четырех кварталах от храма — на зеленой, широкой, но малопроезжей улице. Весь облик этого района Кушвы в то время напоминал скорее большое село, чем маленький провинциальный городок. Семья отца Александра и отец Григорий с матушкой Ниной жили в одном доме: отец Александр с матушкой на втором этаже, папа с мамой — на первом. Они очень быстро подружились, чему способствовало их частое общение. Длительные вечерние беседы с отцом Александром были глубокими и содержательными, а по-домашнему теплые общие чаепития восполняли отцу Григорию столь рано утерянное им общение в семье родителей.
Последующие события прозошли со всей нашей семьей в августе, когда я гостила у родителей.
Однажды после Литургии к отцу Александру подошла женщина — цыганка. Она просила деньги. Говорила, что они бедствуют, голодают. Отец Александр, чем мог, оказал помощь. В те годы храмы были особенно бедны и едва справлялись со своей нуждой. Кроме того, основная часть церковных средств перечислялась (под контролем государства) в различные общественные фонды. Однако помощь все-таки была оказана.
На другой день — снова эта же женщина, уже с двумя другими цыганками и с такой же просьбой. Батюшка помог и на этот раз. На третий день прямо под окна церковного дома явилось чуть ли не полтабора. Шумят, галдят, требуют батюшку. Тут же возникает традиционный повод — крещение ребенка. И вновь требование: «Дайте денег».
Отец Александр был взволнован. Он обратился за помощью к отцу Григорию; тут же к ним присоединился кучер (при храме была лошадь Зорька — единственное средство передвижения). Втроем они вышли за ворота дома к цыганам. Стали объяснять, что уже помогли, сколько было возможно, а крестить ребенка надо в храме. «Но для вас, — добавили, — таинство Крещения будет совершено бесплатно».
Защищая престарелого отца Александра от назойливых гостей, всю инициативу взял на себя, конечно, отец Григорий, чем вызвал шквал недовольных криков и оскорблений. Цыгане предприняли попытки забраться во двор. Дело дошло почти до драки. Храмовый кучер начал разгонять озверевших цыганок кнутом, которым погонял Зорьку.
И тут к отцу Григорию подошла старая, скрюченная цыганка и, пристально глядя в глаза батюшке, прошамкала:
— Слушай, милай! Кнутом гонишь? «Сделаем» на тебя и семью твою… От кобылы смерть примете…
Так ничего и не добившись, цыгане, ругаясь и сквернословя, с шумом разошлись.
Отец Александр (а ему тогда было уже 69 лет) испытал сильнейший стресс. Пришлось даже вызывать врача к нему и его матушке, которая с большим волнением и страхом наблюдала этот скандал из окна дома.
Родители были тоже очень взволнованы — встали на молитву. Читали 90-й псалом и молитву Честному Животворящему Кресту Господню, акафисты: Иисусу Христу, Божией Матери, святителю Николаю и Архангелу Михаилу. Постепенно все успокоились, хотя осадок остался тяжелый…
* * *
По вечерам я обычно уходила за огород нашего дома, на холмистые пригорки, поросшие степной травой. Какая красота открывалась мне на этом зеленом островке жизни! Полевые цветы, над которыми кружились лесные насекомые, источали какое-то особенное благоухание. Здесь на небольшом пригорке я устраивалась поудобнее и подолгу слушала стрекот кузнечиков, шелест листьев, вдыхая аромат полыни. Столько полыни, сколько росло за баней и огородами кушвинского дома, я больше нигде не видела. Высоченная, сочная, терпко пахнущая, она поднимала в душе какие-то волны вольности и восторга… Подобное чувство порой вызывает утренняя лесная поляна, покрытая купавками и напитавшаяся за ночь этим дивным ароматом, нежным и изысканным. А полынь? Она, кажется, зовет куда-то…
Однако в этот тягостный вечер мама не отпустила меня даже в огород.
Ночь прошла спокойно (для меня), хотя я, часто просыпаясь, видела зажженную лампаду и усердно молящихся родителей…
Утро нового дня. Ясное августовское утро, обещающее жаркий день.
Не знаю, что переживали папа с мамой, но для меня вчерашнее событие отодвинулось куда-то далеко, и я вновь радовалась теплому летнему дню, своей юной беспечности и каникулам. Все, казалось, шло заведенным порядком. Был субботний день, и к вечеру мы собирались ко всенощной. Обычно папа, столь занятый делами в храме, не приходил домой между Литургией и вечерней службой. В этот день он пришел около трех часов, чтобы вместе с нами пойти в церковь. Тогда я не придала этому значения. «Пришел, и хорошо. Хотя бы спокойно пообедает», — подумали мы с мамой.
Лишь теперь я понимаю, что он чего-то боялся, а может быть, чувствовал дыхание злобных сил, собравшихся над нашими головами.
Мы втроем вышли из дома, направляясь в церковь. Отца Александра кучер увез к вечерней службе раньше. Улица, где мы жили и по которой теперь шли, была широкая, но почти не проезжая. Перед каждым домом — скамейка и палисадник с цветами и рябинами; перед воротами — лужайка, где возилась малышня. Тут же — куры, гуси с выводком подросших гусят, резвящиеся в траве щенки или котята. Идиллия.
Не прошли мы и полдороги, как странный шум сзади привлек наше внимание. В самом начале улицы, еще далеко за нашим домом, показался табун лошадей, который с гиканьем и свистом гнали двое парней.
Впереди табуна неслась огненно-рыжая лошадь, выделывавшая на своем пути что-то невероятное. Металась по дороге, перемахивая через низкие штакетники, сбивая копытами более высокие, цепляя кусты перед домами. Она с жутким ржанием неслась, все сминая под собой. Где она «пролетала» — оставалась недвижимой мелкая живность.
Ребятишки кинулись врассыпную, еле успевая добежать к своим воротам. Кого-то из них она уже ранила, лягнув железными копытами.
В этот час дневного затишья и зноя на улице оставались только мы — отец Григорий, матушка Нина и я…
Огненная лошадь неслась прямо на нас, неслась с какой-то одержимостью. Было ясно, что сейчас она собьет, сомнет и если не убьет насмерть, то изувечит.
Папа, схватив нас за руки, испуганно закричал:
— Бежим!
Но — куда? Прямая улица. Высокие заборы. Закрытые ворота соседских домов. Нет никакого укрытия… И в это мгновение буквально нам под ноги из приоткрывшейся калитки выкатывается крохотный мальчонка, который толком еще даже не может стоять на ножках. Простодушные родители малыша, зная тихую и спокойную свою улицу, видимо, не проследили за ним.
Взбесившееся животное, храпя и издавая леденящее душу ржание (почти хохот), находилось уже в двух десятках метров от нас и ребенка. Неизвестно, что будет с нами, но младенец, можно сказать, был обречен.
И тут отец Григорий подхватывает на одну руку дитя, а другой меня и маму подталкивает к приоткрывшейся калитке. Он вталкивает нас во двор и заскакивает с ребенком на руках сам, успевая захлопнуть чужую калитку. В следующее же мгновение удар лошадиных копыт чудовищной силы проламывает нижнюю доску ворот. Вновь сатанинский «хохот-ржание», и лошадь, а за ней весь табун, проносятся мимо. Но… о ужас! Из конуры незнакомого дома на нас вылетает огромный лохматый пес, который на своей цепи буквально несколько сантиметров не достает до нас. Мы с громкими криками буквально вжимаемся в ворота чужого двора. Ребенок громко плачет, из открытого окна дома грохочет проигрыватель, перекрывая и безумный лай собаки, и вопли младенца, и наши крики.
События развивались стремительно, но нам показалось, что прошла целая вечность, пока в дверях дома появилась благодушно-пьяненькая физиономия молодого хозяина. Понятно, суббота…
Хозяин долго не может сообразить, в чем дело. Видит только чужих людей с его ребенком на руках. Ребенок заходится в плаче… Ничтоже сумняшеся, мужчина хватает первое, что попадает под руку, а это — вилы, стоящие где-то тут, в сенях. Еще одно мгновение — и он готов привести их в действие. Говорить, кричать ему что-то — бесполезно. Он — пьян. Музыка грохочет, собака хрипит от лая. Ребенок захлебывается от истошного крика… И тут отец Григорий рывком выхватывает из-под рубашки свой нательный крестик и, с ребенком на руках, ограждая его и себя маленьким крестом, идет прямо на собаку и на хозяйские вилы, нацеленные на него.
— Господь, Сам Господь защитит нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, силою Честного и Животворящего Креста Твоего огради нас от всякого зла! Да рассеются от него все чары бесовские!
От неожиданности или по другой какой-то причине пьяный хозяин роняет вилы, а пес, отступая перед силою — великой силою православного креста, поджимает хвост и отступает за хозяина, не делая даже попыток броситься на отца Григория. Из дома выбежали люди. Они потрезвее. Мать схватила на руки ревущего ребенка, а выглянувшая из окна бабушка вдруг вскрикнула:
— Это же наш новый дьякон, отец Григорий! Да ты пошто, Митяй! Ведь ты щас его чуть не заколол!
Собаку увели в сарай, младенца успокоили.
Нас пригласили в дом. Но ноги наши подгибались, и, опустившись на завалинку и выпив воды, мы рассказали, как было дело.
Осмотрели ворота. Удар копыт оказался настолько силен, что дюймовая доска была раздроблена в щепы.
К дому с возгласами и плачем стали стекаться жители окрестных домов. Кто-то видел происходящее из окна, у кого-то пострадала домашняя живность, ранены были дети. Все в голос заявляли, что никогда табун по этой улице не гоняют. Отсидевшись в незнакомом доме, мы пошли в храм, куда уже донеслась весть о страшном событии. Далеко на излете дороги мелькнуло и растворилось цветастое пятно цыганских юбок.
Отец Александр, батюшка, весь причт, хор, молящийся народ на коленях возблагодарили Господа за наше чудное спасение. И еще долго отец Григорий и матушка Нина читали благодарственный молебен Господу Иисусу Христу, славя Его за все!
Крестное знамение и имя Господа нашего Иисуса Христа имеют великую охраняющую силу. В искушениях, которые наводит враг на человека, в видениях, которые искушают даже великих подвижников, враг, принимающий на себя разные «благочестивые» образы, не может при этом изобразить Крест Христов.
* * *
С отеческой теплотой и терпением окормлял отец Григорий вверенную ему Господом паству, ведя неутомимую духовно-просветительскую работу. Надо сказать, что к концу 50-х и в 60-е годы духовной литературы в стране почти не осталось, и то малое, что удавалось найти батюшке, он вручную тиражировал для многочисленных духовных чад. Позднее удалось купить пишущую машинку, и отец Григорий специально научился печатать, чтобы более полно удовлетворять духовный голод всех страждущих. Постоянная привычка печатать духовную литературу сохранялась у него до последних дней жизни. Будучи уже смертельно больным, он еще пытался напечатать страничку-другую… Так и остался после его кончины лист бумаги, вставленный в машинку, с недопечатанным словом. Не смог… Но у многих верующих остались как память о батюшке перепечатанные им самим и благословлённые тетрадки с духовными наставлениями.
Читая его дневник, можно проследить, как он пытливо всматривается в себя, совершенствуя и обостряя свой дух. Он постоянно как бы наблюдает себя со стороны. В его записях все чаще появляется мысль о значении времени — конкретного времени, отпущенного каждому. «Бороться за выполнение часового плана. Мой девиз должен быть: “Отчет за час”». В дневнике настойчиво звучит тема часа в течение суток. Контроль: что сделано за час, на что он потрачен? Думаю, что в этом не последнюю роль сыграла жизнь в заключении, в лагере. В шахте или на лесоповале реальность того, что любой час может быть последним, повышалась в сотни раз в сравнении с жизнью на воле. Очень настойчиво проводится мысль, что в любой час надо быть готовым предстать пред Господом с ответом за все.
Только один год служил отец Григорий диаконом в Кушве. 6 ноября 1955 года, в день празднования иконы Пресвятой Богородицы «Всех Скорбящих Радость», Преосвященнейший архиепископ Свердловский Товия совершил рукоположение отца Григория во иереи. Вскоре батюшку перевели в Нижний Тагил.
Два пастыря
«Что имеем — не храним, потерявши — плачем».
Сколько раз за восемь прошедших лет после одновременного ухода из жизни отца Григория и матушки Нины эта народная мудрость приходила мне в голову — по самым различным поводам и обстоятельствам. Вдруг всплывет в памяти что-то связанное с нашей родословной, с дедами и бабушками, и тут же: «Ах! Почему не спросила, не узнала?! Ведь родители-то знали!..». Возникает порой даже досада на себя и сожаление — запоздалое сожаление о том, что не смогла вовремя более подробно узнать о людях, прошедших по жизни (пусть даже малый отрезок времени) рядом с батюшкой и матушкой и оказавших, несомненно, большое влияние на их духовное мировоззрение. Речь идет о тех незаурядных, высокообразованных священниках, с которыми дружил и общался отец Григорий в 50-60-е годы, живя на Урале, черпая от них те глубины духовной мудрости, которые, возможно, он не успел добрать у своего отца — архимандрита Ардалиона.
Общаясь со своими родными — дедом и отцом (православными священниками), — отец Григорий, несомненно, умудрялся и обретал духовную опытность, чтобы передать истину святоотеческого учения следующему поколению верующих. Однако только теперь, знакомясь с его трудами, я осознаю, насколько духовно богатым и образованным человеком он стал, постоянно воспитывая, совершенствуя свой ум, волю и душу, всегда обращенную ко Христу Распятому.
Я заново знакомлюсь со своим отцом! Можно и так сказать. Совершенно с новой стороны, на новом уровне.
Вторая половина ХХ века — время, когда создавались его работы, его труды. Это — время безверия и жесточайшей борьбы государства и власти с верующими за одно только упоминание имени Божия. Атеисты боролись с Церковью, всячески вытравливая из сознания людей память о вере отцов и сея ядовитые плоды безбожия и неверия в их сердцах и умах. Именно это привело отца Григория на передний край борьбы за человеческую душу. «Неверие растет», — писал в своих работах отец Григорий.
Практически всю свою жизнь батюшка трудился над духовными книгами, посвященными одному из разделов богословия — апологетике. Вместе с предполагаемым читателем погружался в размышления о смысле жизни; спорил, рассуждал и убеждал современника в том, что смысл жизни человека заключается в богоискательстве и стяжании плодов Духа. В подтверждение этого он приводил множество доказательств существования Божия, выписанных им из многотомных трудов, архивов и личной переписки самых разных людей: ученых-естествоиспытателей, поэтов, писателей, композиторов и художников. Он разговаривал со своим воображаемым читателем на языке, доступном для понимания любому человеку, приводя яркие примеры веры в Бога из жизни выдающихся личностей — современников века. За эти убеждения отец Григорий пострадал еще в юности, пронеся свою веру через суровые условия северной ссылки. За те же взгляды и исповедничество жизнь его неоднократно подвергалась давлению и репрессиям со стороны государства и во все последующие годы служения. И вот теперь, уже после его ухода, читая труды батюшки, невольно задаешься вопросом: «Откуда? Откуда у него эти знания?!». Где и у кого можно было почерпнуть в то страшное время, воспринять, переосмыслить и переработать ту современную доказательную базу существования Божия на земле, которую отец Григорий воплотил в своих апологетических трудах?
Он работал кропотливо и тщательно. Работал непосредственно с первоисточниками в лучших библиотеках Ленинграда. Обосновывая очередные рассуждения, он обязательно приводил в своих трудах точные постраничные ссылки, называя не только имя автора, но и его работы в отдельных или многотомных изданиях, а также год и место выпуска книги.
Все эти выводы подтвердились сразу после того, как Елена Кибирева, хранительница духовного архива отца Григория, совершила по благословению Преосвященного Михаила, епископа Курганского и Шадринского, творческую поездку в Санкт-Петербург. Так в библиотеках Северной столицы были найдены уникальные первоисточники, с которыми работал в 50-х годах в Ленинграде отец Григорий. Большинство книг — это труды русских и зарубежных авторов дореволюционного издания, ныне забытые и пролежавшие в хранилищах публичной библиотеки более полувека после того как с ними работал отец Григорий. Некоторые из них так и остались никем не востребованными до нынешнего дня, так что вполне вероятно, что отец Григорий был одним из последних читателей, державших в руках эти старинные издания. Эти книги, несомненно, представляют большой интерес для современных мыслителей, исследователей и богословов, а также для всех читателей, интересующихся вопросами православной апологетики.
Однако, несмотря на то, что многое из первоисточников, на которые батюшка ссылается в своих трудах, было найдено в библиотечных хранилищах Санкт-Петербурга, некоторые вопросы о творческих поисках отца Григория так и остаются открытыми. Несомненно, что стиль работы отца Григория носил исследовательский характер. В связи с этим можно предположить, что батюшка, приезжая в Ленинград на короткие сроки с целью сдачи экзаменов в Духовной Семинарии, уже имел список авторов и книг, необходимых ему для дальнейшей работы. Именно по этому списку он запрашивал книги в специальных залах Публички и в библиотеке Ленинградской Духовной Академии.
Ко всему сказанному добавим, что время пребывания отца Григория в Ленинграде в середине 50-х годов было ограничено сроками сессии, а список первоисточников в его трудах достигает более ста названий. Кроме того, в свой архив батюшка перепечатал и переписал огромное количество редкой духовной литературы разных авторов, стилей и направлений — от поэтических произведений и библейских рассказов до творений святых и духоносных отцов, живших в разные века и в разных странах.
Совершенно понятно, что отец Григорий имел еще некий источник знаний — тот кладезь, из которого он дополнительно черпал названия и имена авторов старинных духовных книг дореволюционного издания — сборники уникальных и малоизвестных писем и воспоминаний великих писателей, художников, композиторов, ученых и мыслителей, единичные исследовательские труды русских и зарубежных ученых-естествоиспытателей, а также редкие духовные книги, изданные в начале ХХ-го века в Одессе, Киеве, Хабаровске и в Харбине. Большинство этих книг было выпущено в дореволюционной России ограниченным количеством экземпляров.
Остается предположить, что помимо специальных фондовых хранилищ Ленинграда отец Григорий имел возможность работать в чьих-то частных домашних библиотеках, и, скорее всего, это были духовные библиотеки его сослуживцев — пастырей-единомышленников, вместе с которыми он служил в середине 50-х годов в уральских приходах Екатеринбургской епархии.
И снова я говорю себе: «Ну где же ты была? Ведь и ты общалась с этими людьми и могла расширить свой духовный кругозор. Да, в юности другой круг интересов… Но потом, будучи взрослой? Ведь и у отца Григория можно было еще так много спросить, и он с радостью обсудил бы с тобой волнующие тебя темы». Сам же батюшка никогда ничего не рассказывал о себе и не навязывал никаких нравоучений и тем для разговоров. Ныне же остается напрягая направлять память в прошлое, чтобы «выудить» из ее закромов что-то нужное и интересное…
Хочется остановить внимание читателей на судьбе и жизни двух священников. Это были очень разные люди, но общение отца Григория с каждым из них в разное время несомненно дало ему большой духовный опыт.
Протоиерей Александр Введенский[4]
К моменту знакомства отца Григория и матушки Нины с протоиереем Александром ему шел уже шестьдесят второй год. Протоиерей Александр Введенский был из духовного сословия. Окончив Московскую Духовную Академию со степенью магистра богословия, он был рукоположен в сан священника и назначен законоучителем Одесской мужской гимназии. Позднее он — законоучитель Одесского реального училища и настоятель Вознесенской церкви города Одессы, а затем — настоятель Алексеевской церкви, там же. Не обошли батюшку и сталинские репрессии. С 1933 года он в течение трех лет трудился на Беломорканале как ссыльный. Долгое время был на гражданской работе.
Начиная с 1951 года отец Александр продолжает служение в Православной Церкви. Сначала он служит в городе Троицке Челябинской области. А позднее, в 1953 году, его назначают настоятелем Михаило-Архангельской церкви в городе Кушва Свердловской области. В это же время в кушвинский храм получает назначение и диакон Григорий Пономарев, только что вернувшийся с Севера. Тут и состоялось их знакомство, перешедшее в сердечную дружбу.
Близкому общению способствовало и то, что они жили в одном доме. Отец Александр с матушкой на втором этаже, а отец Григорий с семьей — на первом.
Кипучая энергия, с которой отец Григорий, истосковавшийся по приходской жизни, окунулся в церковные дела, очень радовала отца Александра и поощрялась им. Двух пастырей особенно сближало то обстоятельство, что оба они были из семей потомственных священнослужителей, оба претерпели гонения за исповедничество веры. Связующим звеном в их искренней дружбе явился, очевидно, и постоянный интерес отца Григория к богословским знаниям.
У отца Александра была богатая духовная библиотека. Очевидно, она сохранилась еще с тех пор, когда он преподавал Закон Божий в одесских мужской гимназии и реальном училище. Об этом говорит и тот факт, что в архиве отца Григория находится несколько перепечаток из духовных книг, выпущенных еще до революции в Одессе.
Так, к огромной радости отца Григория, по прибытию из многолетней северной ссылки он получил редкую возможность пользоваться богатым книжным наследием, чудом сохранившимся во времена гонений. Отец Александр, несомненно, оказал большое влияние на формирование богословского стиля отца Григория. Возможно, что именно по его совету отец Григорий в первый же год после освобождения подал прошение на обучение в Ленинградской Духовной Семинарии. Их ежедневные, скорее, ежевечерние беседы затягивались порой заполночь.
Батюшка Александр был очень мягким, приятным в общении человеком. Приезжая в Кушву на каникулы из Свердловска, я всегда чувствовала какое-то особенное внимание и любовь, с которой меня встречали не только родители, но и отец Александр с матушкой.
Отец Александр много лет, еще в годы своей жизни в Одессе, работал и общался с молодежью. В нем ярко ощущалась преподавательская жилка. Мы часто собирались за вечерним чаем в его доме. Сидя за этой неторопливой трапезой, мы подолгу беседовали, обмениваясь мнениями по разным вопросам. Устремив на меня живые, ласковые глаза, отец Александр вдруг неожиданно вопрошал: «А что думает по этому поводу наша молодая барышня?». Я же, действительно еще очень молоденькая, почти подросток, бойко отвечала ему, воспринимая его как своего дедушку.
Примостившись на их старинном широком диване, куда матушка тут же приносила теплый плед, я прислушивалась к неторопливым и, как мне тогда казалось, «взрослым» разговорам. Отец Александр был потрясающий рассказчик. Слушая его, я внимательно разглядывала старинные фарфоровые «безделушки» в серванте, толстые золоченые корешки книг в шкафу и… плавно попадала в объятия сна. Меня так и оставляли спать до утра под мягким, уютным пледом.
Батюшка с матушкой очень любили детей. Не помню, чтобы к ним когда-то приезжали родные. Видимо, время и годы разлучили их с близкими, дорогими людьми, которые остались на черниговской и одесской земле — родине отца Александра.
Отец Александр и его матушка были очень добрыми и гостеприимными людьми, в их доме всегда был уют и порядок. Но особенно они любили, когда в гости к ним приходили молодой диакон Григорий Пономарев и его матушка. Отец Александр, вынужденный оставить работу законоучителя, очень скучал по преподавательской деятельности, и их тесное общение с отцом Григорием, который был внимательным собеседником, в какой-то степени возмещало ему любимое учительство. К тому же, отец Александр был замечательным проповедником, и этому дару учился у него отец Григорий.
Отец Александр служил в Церкви вплоть до 1962 года. Будучи настоятелем нижнетагильского Казанского храма, в 78-летнем возрасте он был почислен заштат. Скончался отец Александр в 1973 году в Екатеринбурге. Похоронен на Широкореченском городском кладбище. Упокой, Господи, душу этого светлого пастыря и его матушки.
Протоиерей Николай Мухин[5]
В 50-х годах в скромном провинциальном Тагиле появилась очень интересная семья. Это была семья священника — протоиерей Николай и матушка Серафима Мухины. Отец Николай, окончивший в начале ХХ века Пермское духовное училище, а затем Пермский миссионерский институт, был рукоположен в 1917 году в священнический сан и прослужил в храмах Пермской области несколько лет. Однако уже в двадцатишестилетнем возрасте вместе с отступающей на Восток Белой Армией он оказался в Китае, в городе Харбине.
В течение почти сорока лет отец Николай служил в православных храмах Харбина, а к 1939 году закончил богословский факультет харбинского института святого Владимира со степенью магистранта богословия. В 1949 году он — настоятель Свято-Софийской церкви города Харбина. А в 1955 году на волне репатриации семья Мухиных возвращается в Советский Союз. И уже в октябре 1955 года отца Николая назначают в город Нижний Тагил Свердловской области настоятелем единственной в Тагиле Казанской церкви.
В это же время был рукоположен в сан священника отец Григорий, и вскоре его из Кушвы переводят служить в Казанский храм Нижнего Тагила. Тут и состоялось знакомство двух пастырей: сначала чисто официальное, затем — через совместное служение в Казанском храме. А немного позднее их общение перешло в тесную и крепкую дружбу семей.
Мне случилось познакомиться с батюшкой Николаем и матушкой Серафимой ближе к 1959 гóду.
Их дом и семейный быт заметно отличались ото всех прочих. Возможно, это было влиянием восточной культуры, все-таки 36 лет жизни прошли вне России. Несмотря на то, что в семье отца Николая неукоснительно соблюдались все правила и порядки православного быта, в разных комнатах дома на полочках и комоде были расставлены прелестные китайские вещицы еще того, старого Китая, которые отличались высочайшим качеством и художественностью исполнения. Китайские сервизы, вышитые покрывала, шторы, веера, удивительные экзотические домашние растения на изящных подставках, невиданные в Тагиле, украшали их дом, а также какие-то этажерочки из бамбука, люстры, настенные бра, эстампы, офорты с национальными китайскими сюжетами и так далее.
Несмотря на весь этот внешний «китайский» антураж, дом Мухиных хранил традиции и манеры убранства православных домов еще той, старой России. Ведь они уехали из России совсем молодыми и бережно хранили «дух» Родины, семейные традиции, русские корни. Вот где в наше время можно было увидеть убранство, жизнь и домашний уклад дореволюционных интеллигентных русских семейств. В доме отца Николая, преподававшего в Харбине Закон Божий, была великолепная старинная библиотека, которой, очевидно, пользовался и отец Григорий. Думаю, что и в этом случае он не упустил прекрасной возможности поработать с редкими книгами, вывезенными отцом Николаем Мухиным из православного Харбина.
«Мудрые сберегают знание» (Прит.10:14), — сказано в Библии. «Человек же рассудительный скрывает знание…» (ср. Прит.12:23). Эти слова со всей справедливостью можно отнести к отцу Григорию. Он был образованный человек, но никогда не выказывал своих знаний, и почти никто из его ближайшего окружения не знал, что батюшка писал духовные труды, размышляя на богословские темы. Это является загадкой для большинства его духовных чад даже сегодня, когда отец Григорий стал известен своей праведной, исповеднической жизнью. Не допуская в своей жизни ни одного праздного часа, отец Григорий скрупулезно и тщательно собирал те знания, на которые указывал ему Господь. «Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее; научи правдивого, и он приумножит знание» (Прит.9:9). Он и так потерял слишком много времени, отбывая полный срок наказания в лагерях Колымы, и теперь торопился стяжать, сберечь те драгоценные дары от Бога, о которых Сам Господь сказал, что «…превосходство знания в том, что мудрость дает жизнь владеющему ею» (Еккл.7:12).
Основу духовных знаний батюшка получил еще в семье, от своего отца архимандрита Ардалиона и от деда — протоиерея Ипполита. А теперь, работая по многу часов в уникальной библиотеке отца Николая, он собирал, уточнял и систематизировал те крупицы истины, которыми был напитан еще в юности. Он жаждал сам и хотел напоить других из благословенного «потока Божия, полного воды» (ср. Пс.64:10)…
Семья Мухиных очень любила музыку. В их доме было антикварное пианино с точеными украшениями: миниатюрными головками «муз», вырезанными из дерева, и медными подсвечниками на вертикальной передней крышке инструмента. Бывая в этом доме в гостях, мне доводилось по просьбе матушки играть на этом уникальном инструменте. Отец Николай и матушка Серафима очень любили музыку Чайковского, Рахманинова, Скрябина, Грига. Помню, как в день моей свадьбы в 1959 году, а венчал нас именно отец Николай Мухин, во время праздничного застолья мы в домашних условиях дали для гостей небольшой импровизированный концерт: произведения русских и зарубежных авторов для скрипки и фортепиано. Эти теплые и трогательные воспоминания я пронесла через всю свою жизнь.
В 1959 году отца Николая назначают благочинным 1-го, а затем 3-го округа. В этом же году его награждают вторым золотым крестом с украшениями.
Однако вскоре жизнь батюшки перевернулась. Неприятности начались где-то между 1960-м и 1965-м годами. Именно в это время отцу Николаю пришлось пережить человеческую злобу, ложь и дерзкую клевету, которыми его кто-то анонимно «поливал». Скорее всего, это был человек из близкого ему окружения. Пакостят зачастую, к сожалению, близкие люди, от которых ничего дурного не ожидаешь, и именно эти скорби бывают самыми тяжелыми. Ведь и на отца Григория, только в более поздние годы, тоже лились злобная клевета и ложь, но так сложилось, что имена этих завистников и даже их «идейный вдохновитель» стали известны. Однако отец Николай получил удар сзади, от неизвестных. Впрочем, быть может, батюшка и знал их имена, но так же, как и отец Григорий, молчал.
Все эти внешние неприятности усугублялись и семейной бедой. Тяжело, безнадежно заболела матушка. После сложной операции, которая не принесла облегчения, в больших страданиях она покинула этот мир. А отца Николая вскоре из Казанского храма Нижнего Тагила неожиданно перевели в Петро-Павловскую церковь поселка Черноисточинск. Черноисточинск — это далекий, заброшенный лесной поселок, раскинувшийся среди болот на севере области. В те годы туда можно было добраться лишь по узкоколейке для лесозаготовителей, проведя в пути около семи часов.
Отцу Николаю, только что схоронившему близкого человека, отвели для жизни маленький домишко рядом со скромной деревенской церковкой, куда, очевидно, всегда ходило мало народа. А может быть, она и вовсе была ранее закрыта. Местное население в поселке в основном составляли лесозаготовители да вахтенные рабочие, сменяющие друг друга через каждые два-три месяца. Бутылка — главный стимул их жизнедеятельности и основная потребность… Самый, конечно, подходящий контингент для блестящих проповедей митрофорного протоиерея столичной, харбинской выучки!
Это ведь тоже надо уметь пережить! Постоянные прихожане — две-три бабушки. Однако отец Николай принял все с истинным христианским смирением. Просто из бодрого пожилого человека, очень энергичного и деятельного, он превратился в совершенно седого, согбенного тяготой креста и отстраненного от мира старца. Он ушел глубоко в себя, замкнулся в уединении, почти ни с кем не общаясь, и очень много молился. Какая-то старушка по-соседски иногда приходила к нему в дом, чтобы приготовить еду и немного прибрать.
Отец Григорий, неоднократно навещавший батюшку в его изгнании, возвращался из Черноисточинска всегда очень задумчивый и печальный. Он был немногословен, лишь отмечал, что отец Николай бывал очень рад его приездам, как-то заметно молодел, оживлялся. Они подолгу беседовали и расставались всякий раз с неохотой и грустью.
В новом своем положении отец Николай держался удивительно стойко, с душевным смирением и кротостью. Воспринимал все как посланное ему Господом испытание. Однако здоровье его сильно пошатнулось. Скончался он в апреле 1979 года. Покоится в одной из скромных, тихих могилок на черноисточинском погосте. Упокой, Господи, души протоиерея Николая и матушки Серафимы. Прости им прегрешения вольные и невольные и возьми их в Свое светлое Небесное Царство!
Из примера гонений на отца Николая и на отца Григория невольно вытекает тревожная мысль: как не страшно было людям, оклеветавшим, оболгавшим своего ближнего? Как могли они участвовать в несправедливой травле священнослужителей, теснить и гнать пастырей Божиих? Ведь они были часто из близкого круга, сидели за одной трапезой и возносили одни молитвы в алтаре… Неужели не боятся они Суда Божиего? Выдавливая неугодных, сами живут годами процветая: продвигаются по служебной лестнице, получают награды и лицемерят, лицемерят, лицемерят…
Но не нам их судить. Господь Сам взыщет со Своих рабов. Ибо духоносные отцы учат нас: «Не суди чужого раба, придет Господин его и взыщет с него…» (извлечено из духовного архива отца Григория — ред.)
Паломничество
После рукоположения отца Григория в сан иерея вместе с матушкой Ниной им удалось осуществить свою давнюю мечту и побывать у истоков Православия на Руси, в Киеве, чтобы молитвенно припасть к киевским святыням. Матушка с большим волнением отнеслась к этой поездке. И вот в один из теплых октябрьских дней перед глазами отца Григория и матушки Нины предстал Киев с его многочисленными храмами, монастырями и Печерской Лаврой, куда маленький Гриша мечтал доскакать на своей деревянной лошадке еще в детстве.
Город поразил их своим великолепием и красотой. В те годы большинство православных храмов было закрыто, и осмотреть их возможно было лишь в составе специально организованных экскурсий. После оккупации Киев лежал в руинах, но храмы восстанавливались одновременно с городом. Это были как будто прежние храмы, они стояли с позолоченными куполами, только теперь в них располагались различные госучреждения и музеи. Древний Софийский собор — колыбель Киевской Руси — был открыт; иногда в нем совершались богослужения. Сила и величие духа чувствовались в этом древнем храме… Свет, заливавший его сверху, высвечивал верхний ярус икон, сияющих позолотой. Причудливо отражаясь в разноцветных лампадах, свет постепенно растворялся внизу, не в силах охватить весь храм. Иконостас, уходящий куда-то ввысь, казался удивительно легким, так что иконы, помещенные в нем, будто парили в воздухе.
Отца Григория и матушку поражало все. Они любовались архитектурой Андреевского храма, росписями Владимирского собора, древними святынями Покровского и Флоро-Лаврского монастырей.
Поразила их и красота самого города. Киевские бульвары со знаменитыми каштанами, выложенные каменными плитками, были усыпаны в эти октябрьские дни ворохами разноцветных опавших листьев. В воздухе то и дело кружила теплая золотая метель — так не похоже на северную невьянскую осень. Шурша легкой листвой, они медленно шли по направлению к Киево-Печерской Лавре, вспоминая такой же осенний день их свадьбы.
Главной целью их приезда было, конечно, посещение лаврских пещер. Уже около Лавры на отца Григория и матушку налетел вольный днепровский ветер, который то сбрасывал батюшкину шляпу, то закручивал на узорных плитах тротуара воронки из сухих листьев. Как расшалившийся ребенок, он неожиданно кидал легкую, сухую листву в лица прохожих, но отец Григорий был глубоко сосредоточен на предстоящем посещении дорогих святынь, он ничего не замечал вокруг и шел к пещерам, призывая в молитвах помощь Божию.
В войну налеты и бомбежки немецких самолетов повредили внешний облик Лавры. После войны многое было восстановлено и какое-то время дальние или, как их еще называли, «нижние» пещеры были открыты для паломников. Верхние же были закрыты для всех.
«Когда во время Великой Отечественной войны немцы заняли Киев, — читаем мы житие святого преподобного Кукши Одесского, — то немецкий комендант города пожелал посетить всемирно известные пещеры Киево-Печерской Лавры, в то время еще закрытые. Для этого нашли монаха — бывшего насельника обители.
Осмотр начался с ближних пещер. В то время мощи почивали в раках открыто, не под стеклами. Около раки преподобного Спиридона-просфорника, почившего 800 лет тому назад, комендант остановился и спросил, из чего сделаны эти мощи. Монах стал объяснять, что это тела людей, своей святой жизнью сподобившихся нетления. Комендант, не веря его словам, взял свой пистолет за ствол и рукояткой ударил с силой по руке преподобного Спиридона: сухая, потемневшая от веков кожа лопнула на запястье, и из раны хлынула настоящая алая кровь (следы трех засохших потоков ее заметны и сейчас на руке преподобного).
Увидев это чудо, комендант в ужасе бежал из пещер, а за ним и вся его свита. На следующий день по городскому радио немецкая комендатура объявила, что Киево-Печерская Лавра открывается, и желающие могут поселиться в ней… Вскоре немцы разрешили открыть и женские монастыри: Покровский, Флоровский, Введенский»[6].
Буквально перед приездом отца Григория и матушки Нины Сергеевны массовые посещения пещер временно ограничили. Объясняли это тем, что в легких песчано-сланцевых породах горы, потревоженной бомбежками, произошла деформация, в результате чего в пещеры якобы стала попадать днепровская вода. Женщина, приютившая у себя моих родителей, работала в музее, находящемся на территории Лавры. Она была глубоко верующим человеком; почти всю жизнь она прожила в Киеве, проводя экскурсии по Лавре. С отцом Григорием и матушкой она познакомилась в Нижнем Тагиле, когда гостила там у своих родственников. Она и выхлопотала для них особые пропуска для посещения нижних пещер. Она же рассказала отцу Григорию и матушке много интересного из истории Лавры.
На вопрос об отношении сотрудников музея к монастырю женщина ответила, что почти все они приходили на эту работу убежденными атеистами, но за время пребывания в стенах Лавры насмотрелись такого, что их прежние убеждения поколебались. Так, например, был известен факт, что в музей поступило распоряжение вынести из пещер все святые мощи и уничтожить их. Ночью приехали грузовики, но, когда на них перенесли мощи святых, ни одна машина не завелась. Отправили за подводами, переложили на них святыни, но лошади встали на дыбы. Святые мощи снова разнесли по пещерам и оставили в монастыре.
В хронике Киево-Печерской Лавры сотрудниками музея зафиксирован случай, который произошел за год до последнего открытия монастыря. В пещеру проник злоумышленник, чтобы, выполняя заказ мафиозной группы, спекулирующей на продаже за границу икон, тайно набрать и вынести из Лавры часть мощей святых угодников. Сотрудники музея заметили, что более двадцати гробниц осквернено, и в этот же день объявили поиск грабителя. В одном из дальних концов пещеры несчастный был обнаружен сидящим в оцепенении и не имеющим сил даже пошевелиться. В таком положении его и вынесли из пещер сотрудники милиции. Позднее он рассказал, что в тот момент, когда он, совершив задуманное преступление, собирался скрыться, какая-то неведомая сила заставила его пойти в самый дальний угол пещеры, где на него навалилась такая тяжесть, что он не мог более сдвинуться с места.
* * *
Помолившись у надвратной церкви, отец Григорий и матушка с благоговением, затаив дыхание, вошли на территорию Киево-Печерской Лавры.
В целом территория всех пещер Лавры так огромна и их сложный лабиринт на разных уровнях так переплетается, что даже в отведенном для посещения паломников условном квадрате без проводника легко заблудиться. На территории Лавры отца Григория и матушку ждала уже их провожатая. Пройдя почти по всей территории монастыря, они подошли к нижним пещерам. Вместе с другими немногочисленными паломниками им отметили в пропусках и разрешили посещение. Они зажгли свечи и стали спускаться по крутому, уходящему куда-то вниз коридору. Некоторое время спуск продолжался, потом коридор резко поворачивал и далее уже проходил на одном уровне, то расширяясь, то сужаясь. Тут же начинались первые захоронения насельников Лавры: ранние и более поздние.
Прямо вдоль коридора, в легких известковых стенах были выдолблены ниши, в которых и погребали подвижников. Перед каждым из них горела неугасимая лампада. Здесь же висела икона святому, под которой был написан тропарь или молитва преподобному.
Волнение, которое испытывали отец Григорий и матушка при спуске к мощам святых Божиих угодников, совершенно улеглось, уступив в душе место тишине, покою и благоговению. Они медленно шли, останавливаясь и читая, кто здесь покоится. Молились… Имена многих святых были им незнакомы.
По мере продвижения вперед мощей становилось все больше. Легкое благоухание, тонкий неземной аромат наполнял ниши. Паломники уже не держались плотной кучкой. Кто-то молился у одной могилки, кто-то — у другой. Говорили, что в пещерах подолгу жила старица, питаясь подаянием и ночуя у святых могил.
Время словно остановилось для отца Григория и матушки. Трудно сказать, сколько минут, а может быть, часов прошло со времени их спуска, но в какой-то момент матушка вдруг потеряла отца Григория. Буквально минуту назад она видела его коленопреклоненную фигуру, характерное очертание плеч, наклон головы, но сейчас его… нет. Это было столь неожиданно, что вначале она даже не испугалась. Решила, что он, наверное, прошел чуть вперед. Она тоже прошла немного вперед, но там его не оказалось. А может, она не слышала, углубившись в молитву, как он вернулся назад? Она поспешила обратно. Тоже нет. Спутница их, хоть и подбадривала матушку, но напугана была не меньше. Кричать, звать? — но святость этого места не позволяла разговаривать громко. В испуге они метались, стараясь не потерять того места, где видели отца Григория последний раз. Кроме того, женщина-экскурсовод предупредила, что в пещерах много боковых ходов и можно заблудиться. Волнение матушки нарастало. Она в изнеможении упала, прижавшись к какой-то могилке, и взмолилась: «Господи! Не дай ему потеряться. Где же он, что с ним случилось?».
Наверное, исчезновение батюшки, беготня испуганных женщин туда-сюда и не были столь долгими, но им показалось, что прошла целая вечность, прежде чем прямо у противоположной стены коридора, где в нише сидела матушка, стал еле заметен слабый свет, и вскоре высветился новый ход — коридор куда-то вглубь пещеры, до этого совершенно невидимый. Еще минута… и две тени промелькнули в этом проеме. Какая-то странная сила не давала женщинам тут же вскочить и побежать навстречу, ноги — как отнялись и приросли к земле. Вглядываясь в темноту, они увидели, как одна фигура, поменьше ростом, сделала земной поклон перед другой. Человек в длинном монашеском одеянии благословил первого и тут же исчез. Исчез и ровный голубоватый свет, в котором показались фигуры, совсем не похожий на слабое мерцание свечей. В эту же минуту у прохода, ставшего опять почти незаметным, показался батюшка. Свеча его не горела…
Матушка бросилась к нему, ее знобило. От отца Григория шло едва уловимое благоухание… Он тоже дрожал, но голос его был тихий и ласковый:
— Что ты, Ниночка! Да разве можно так переживать? Все это время я молился тут, рядом, в нише. Вы просто меня не заметили. Не надо. Успокойтесь. В таком святом месте ничего страшного случиться не может.
У матушки стучало от волнения сердце, дрожали губы и руки. Отец Григорий еще что-то говорил ей, тихо и с убеждением. Постепенно страх стал отступать. Ей вдруг стало стыдно за то, что она думала об опасности в месте, в котором всё хранится его святостью.
Женщина, их сопровождавшая, очевидно, тоже переволновалась. Вскоре они вышли из пещер — совершенно в другом месте — в небольшую рощицу на берегу Днепра. Все молчали, осознавая произошедшее; женщины вспоминали исчезновение батюшки и его столь неожиданное возвращение, странный отсвет, в котором они видели незнакомую тень. Кто это был? Когда при дневном свете матушка взглянула на отца Григория, то увидела, что его синие глаза сияли, он был какой-то отрешенный, взгляд его отражал не земное, но небесное.
Пройдя через рощицу, они оказались на самом берегу реки. Темно-синие воды Днепра, синее небо, синие глаза батюшки, а наверху — возвышающаяся Лавра с горящими в заходящем солнце многочисленными золотыми куполами. Они шли берегом реки к дому, где жила их гостеприимная хозяйка. Величественный Киев панорамой разворачивал перед ними свои богатырские плечи с позолоченными маковками-шлемами больших и малых городских храмов.
Спустя долгое время мама несколько раз пыталась расспрашивать батюшку о его явном отсутствии в пещерах Лавры во время их паломничества и о таинственной тени, оказавшейся рядом с ним, но отец Григорий упорно твердил, что все это ей только показалось, или отмалчивался вовсе. Не знаю, рассказал ли он матушке со временем об этом таинственном событии. Может быть, и рассказал, но матушка Нина умела хранить тайны…
Хортица
Почти перед самым отъездом из Киева друзья предложили отцу Григорию и матушке Нине посетить остров Хортица, расположенный к югу от Киева, вниз по течению Днепра, сразу за днепровскими порогами. Остров является своеобразной гордостью Украины и вплоть до наших дней остается некой загадкой в истории.
Недалеко от острова располагается промышленный центр Запорожье — город, экологическая обстановка которого даже в те времена была очень неблагоприятной. Загазованность и загрязненность воздуха в пределах городской черты и в ближайших окрестностях Запорожья превышала все допустимые нормы, поэтому люди, живущие в этих местах, особенно часто страдали от тяжелых заболеваний легких.
Остров же, находящийся в радиусе промышленных выбросов города, был экологически чистой зоной: он обладал красивым ландшафтом, богатой растительностью и, что непонятно, удивительной атмосферой, — словно над ним был раскинут огромный невидимый купол, не пропускающий ядовитые газы и выхлопы металлургического производства «Запорожстали».
Зная о чудесной особенности этого острова, горожане, страдающие различными болезнями, приезжали сюда просто туристами на месяц-полтора, и многие исцелялись…
Остров, вытянувшийся посередине реки, рассекавший ее как бы на два рукава, был довольно большим. Говорили, что в старые времена на Хортицу сбегали от преследования непокорные казаки со своими жинками. Сохранилось также предание о том, что в древние времена, а именно в момент становления Православия на Руси, остров Хортица посетила сама равноапостольная княгиня Ольга. Это, конечно же, и явилось решающим моментом для отца Григория и матушки Нины, чтобы посетить остров. Туда они и направились на теплоходе вниз по Днепру, планируя вернуться обратно в Киев служебным транспортом. К тому моменту на Хортице начиналось строительство небольшого пульмонологического санатория. Еще ранее на острове разместили питомник редких растений.
До поездки в Киевскую Лавру отцу Григорию (таков был промысел Божий) довелось в основном изучать географию колымских степей и слушать ледяное дыхание Севера. Да и матушка Нина, кроме Урала, нигде не бывала, поэтому эти новые и яркие впечатления одинаково восхищали обоих, рождая чувство благодарности Создателю за несказанную красоту, дарованную людям.
Мечты, конечно, у батюшки с матушкой были большие: так хотелось побывать в Дивеево, в Троице-Сергиевой Лавре, в Почаево… Да мало ли славных, святых мест на земле. Но возможности того времени были весьма ограниченными: надо было скрывать свой молитвенный настрой, и ездить по храмам можно было только в качестве туристов — 58-я статья была и в то время самой популярной у советского «правосудия». К тому же батюшка служил на приходе один и его длительное отсутствие в храме было крайне нежелательным как для него, так и для паствы.
За 84 года своей земной жизни отец Григорий неоднократно, и порой продолжительно, бывал только в Ленинграде, так как учился там в Духовной Семинарии (заочно), а затем, совсем немного, — в Ленинградской Духовной Академии. Кроме этого путешествия в Киев, они с матушкой ранее бывали только в Нижнем Новгороде у родных да несколько раз в Оренбурге у сестры отца Григория, Марии Александровны Плясуновой.
Будучи в Оренбурге, батюшка восклицал: «А ведь тут бывал Пушкин!..». В духовном архиве отца Григория, в его черновиках, осталось много записей о творчестве Александра Сергеевича Пушкина. Отец Григорий считал Пушкина глубоко верующим человеком. В архиве батюшки много лет хранилась перепечатка известного письма В. А. Жуковского отцу поэта, Сергею Львовичу, с подробным описанием православной кончины Александра Сергеевича. Но особенно удивительным является тот факт, что отец Григорий в своей работе «Гуманизм христианской морали» ссылается на письмо Пушкина к своему другу П. Вяземскому, в котором поэт заявляет, что никогда не писал «Гаврилиады» — поэмы, возводящей хулу на Духа Святого. Несомненно, что в те, 50-60-е годы говорить, а тем более писать о религиозности Пушкина было совершенно невозможно из-за жестокой политической цензуры. Но отец Григорий исследовал для себя эту тему глубоко и описал свои впечатления в вышеупомянутой работе о гуманизме христианской морали. Эти апологетические размышления о творчестве Пушкина в то время могли стать причиной новых гонений на батюшку. Может быть, именно поэтому он никогда не подписывал свои труды, боясь обысков и ареста…
Но вернемся к планам батюшки и матушки побывать на острове Хортица.
На закате солнца они ступили на палубу теплохода, следующего вниз по течению Днепра. То, что открылось им с палубы судна, отплывавшего от златоглавого Киева, было не сравнимо ни с чем. Заходящее солнце уже не слепило, но совершенно чудно и необыкновенно высвечивало каждый куполок, каждую маковку большой или малой церквушки, притаившейся в зелени кудрявых украинских садов. Этот каскад красок: золото куполов, зелень садов и белизна храмов — отражался в синеве Днепра. Город сиял, пылая радугой золотистых цветов на фоне густеющего уже, чуть фиолетового неба. Соединенные нитями золотисто-красных лучей, многочисленные луковки куполов создавали удивительные и неповторимые аккорды небесной музыки — глаголов неба, созвучных душе отца Григория и матушки Нины.
Теплоход медленно двигался вниз по течению, но город, казалось, сам медленно плыл мимо них, открывая свои новые красоты и достопримечательности.
Вот они плывут вдоль приречного района Киева «Выдубичи», получившего свое название в древности. Когда князь Владимир утверждал на киевской земле Православие и возводил на ней православные храмы, то приказал сбросить языческих идолов, которым поклонялись славяне, в воды Днепра.
Плачущие толпы язычников — поклонники деревянных божеств — бежали вдоль Днепра вслед за своими идолами. На волнах Днепра, то утопая в воде, то всплывая, медленно двигались покачиваясь поверженные идолы Перуна, влекомые течением вниз, а обезумевшие люди при каждом их движении кричали: «Выдубились! Вздыбились!». На заре ХI-го века Господь освятил русскую землю истинным светом православия, а прибрежный район Киева с тех пор хранит свое древнее название «Выдубичи». Ныне в этом месте — Выдубицкий монастырь.
Стоя на корме теплохода, батюшка думал: «Вот так же надо сокрушать, словом и делом, доводы и аргументы богоборцев и “сбрасывать” этих идолов безбожия с обрыва, как сбрасывал князь Владимир языческих перунов…». И мы знаем, что отец Григорий в своих тихих беседах и проповедях, в поучениях и трудах был и остался для Церкви Христовой истинным исповедником и ревнителем православной веры…
До глубокой ночи простояли батюшка и матушка на корме, вглядываясь в волнистый след от судна, постепенно истаивающий в воде. Волны словно зализывали эти посторонние белеющие линии, превращая все в единое, равномерно текущее, зеркальное движение волн красавицы-реки Днепр. Вот уже от воды, от прибрежных кустов стал подниматься туман, нависая над ней легкими, длинными языками. Тишина. Слышен только едва уловимый звук двигателя и легкий плеск волн за бортом. Какое явное ощущение неземного покоя и присутствия Непостижимой Силы — Творца природы, присутствия Самого Создателя всего! Какие редкие, дорогие для души моменты вдохновения!
Ночь, как и бывает на юге, упала почти внезапно. Звезды — яркие, огромные. Кажется, протяни руку — и дотронешься до этих холодных светил, настолько прозрачен воздух. Вот они, звездочки, засияли, засверкали, хрупко отражаясь в воде.
Перед ранним утром, почти ночью, теплоход подошел к одному из причалов Запорожья. Несмотря на близость к южному краю, ночь была холодной — все же стояла осень. Отец Григорий и матушка Нина сошли на берег. Вместе с ними в Запорожье прибыли и сотрудники ботанического питомника, что на Хортице. На берегу их уже ждал маленький «Рафик». Быстро погрузившись в машину и поеживаясь от ночной прохлады, пассажиры теплохода устремились по петляющей дороге, ведущей вдоль города вверх по течению Днепра. Они как бы возвращались немного назад.
Даже в это, самое спокойное, ночное время суток, на них словно навалилась чугунная плита — так тяжело было дышать! Такой плотной загазованности они, пожалуй, не ощущали даже на родном Урале. Немудрено, что в этом очаге промышленной металлургии столько людей, страдающих болезнями легких.
Было видно, как вдалеке багрово светилось круглосуточное литейное зарево. Справа угадывались пирамиды с усеченной вершиной — домны, надо полагать, вносящие свою «неповторимую лепту» в атмосферу этого города и окрестностей. Где-то там вспыхивали бело-зеленые ядовитые «глаза» ночных электросварок. Какой контраст с тихой гладью реки, золотисто-желтыми садами Киева и украинскими полями! Это — мир машин, станков, заводского шума и грохота.
Проехав некоторое время вверх по течению Днепра, автомобиль круто свернул в сторону реки и, как им показалось, по какой-то насыпной дамбе или по мосту направился прямо к острову, лежащему посередине Днепра. Так они оказались на знаменитом острове Хортица. Еще на теплоходе им сказали, что часа три они могут спокойно походить по острову — посмотреть, подышать! Это было сказано не зря: на острове отец Григорий и матушка словно ощутили, как за ними затворилась какая-то непроницаемая дверь, отделившая их от дымных, ядовитых запахов и от городского шума.
Это было действительно какое-то чудо. Каменный остров, усыпанный серой галькой вперемешку с песком, свободно вытянулся вдоль реки. На отдельных его участках раскинулись по-осеннему разноцветные пурпурно-желто-зеленые оазисы с деревцами и кустарником. На южной оконечности острова расположилась небольшая каменистая возвышенность, рядом с которой растянулись травяные поляны с разбросанными на них круглыми валунами, от мелких до огромных. Казалось, словно какие-то сказочные великаны гоняли когда-то на зеленой лужайке эти «камешки», играя в бильярд.
Они медленно пошли в глубину острова, вдыхая удивительное благоухание трав, цветов и диковинных кустов, отгороженных от тропинки проволочной сеткой, — видимо, это хозяйство питомника. Вот в глубине просматриваются низкорослые деревья, почти кусты. Пригляделись: это — яблони. А яблоки-то! Целые чайные блюдца! Под ветви диковинных яблонь заботливо подставлены деревянные опоры — иначе обломятся.
Вдруг прямо под ногами они увидели нежный жасмин, который «перебегал» дорожку. Какой дивный аромат! И опять — благословенная тишина. Только пробудившиеся птицы сообщают друг другу первые утренние новости и, конечно, что у них на острове гости.
Поднялся легкий ветерок, и только сейчас они обратили внимание, что тут, на острове, — тепло, словно и не было холодной осенней ночи, окутавшей их на причале. Ветерок принес с собой свежие ароматы и даже запах дымка, который скорее дополнял эту идиллию. Наверное, где-то рядом отдыхали туристы…
Вдали шло какое-то строительство. Может быть, строили санаторий для легочных больных. Отец Григорий и матушка Нина, не сговариваясь, сворачивают по боковой тропинке в сторону от строительства. Не хочется никакого лишнего общения, праздных разговоров, они уже привыкли к уединению и внутреннему молитвенному настрою…
Они вышли к небольшой возвышенности, покрытой мелкой травкой, на которой словно разбросаны гладкие валуны, местами поросшие мхом. Некоторые из них просто огромные. А вот какой-то совсем необычный: двойной, со «спинкой»! Как трон! На таком могла сидеть только сама княгиня Ольга! Мысль о том, что когда-то по этой земле, пусть давным-давно, ходила святая равноапостольная княгиня, ступая там, где ступают теперь они, теплой волной настигла обоих паломников, умиляя и восхищая одновременно. Ведь имя Ольга — семейное для родов Пономаревых и Увицких.
Весь остров, его таинственный дух, который они просто не могли не почувствовать, настраивали на молитву. Обратясь на восток, отец Григорий и матушка Нина, преклонив колена, с особым настроем и трепетом пропели несколько благодарственных псалмов и молитв. Они чувствовали непостижимую гармонию с Творцом природы и человека!
И вот на востоке из пламенно розовеющей зари, закрывая, гася ее до вечера, брызнули утренние лучи нового дня. Они растворили, испарили последние, легкие дымки утреннего тумана и затопили все вокруг своим золотым светом…
На берегу зафыркал мотор, призывно засигналил «Рафик», приглашая отца Григория и матушку в обратный путь, в Киев, а потом на Урал.
Бодро поднявшись, они низко поклонились этой благословенной земле, давшей им такое необыкновенное общение с Господом, и отправились в свой дальнейший жизненный путь.
В Нижнем Новгороде
Хочется сказать несколько слов и о поездке отца Григория и матушки к родным в Нижний Новгород.
Любовь и интерес отца Григория к истории Святой Руси всегда были ярко выраженными. Узнав, что Нижегородский кремль является историческим памятником и был построен еще во времена татаро-монгольского ига для защиты от нападений кочующих орд, батюшка загорелся желанием посмотреть все своими глазами… Надо было видеть, с каким живым интересом, с каким азартом он оглядывал все достопримечательности.
Он посетил часовню древнего кремля, построенную в честь победы над Наполеоном и прославляющую победу русских войск. В часовне были собраны старинные иконы и множество красивых, расшитых золотом знамен полков, участвовавших в битвах против французов. Долго рассматривал отец Григорий памятник гражданину Минину и князю Пожарскому, воздвигнутый в честь победы 1812 года на высоком берегу реки.
А с каким трепетным вниманием он прошел по всем доступным тогда кирпичным галереям, переходам, башням и бойницам кремля! Он осторожно и трепетно прикасался руками к древним камням со следами выбоин от оружия, нанесенных еще татарами.
Вот он увидел какую-то башню с незнакомым архитектурным решением… И — искреннее удивление:
— Посмотри, Нинонька, какая древность, какая красота! Да ведь это (про одну из башен) просто… тарелка с горой блинов! Ну надо же, какая выдумка, как талантливо!
А выход из нижних ворот на Маяковку!
Сами ворота: их кованые накладки и толстенные бревна, заостренные внизу, которые специальным механизмом могли подниматься вверх, выпуская всадников, и опускаться до земли, — эти старинные ручной работы врата привели батюшку в полное изумление. Он все время говорил:
— Как жаль, что нет фотоаппарата, ведь это — сама история!
Отец Григорий, конечно, знал, что нижегородская земля — это земля, овеянная подвигами пламенного Серафима Саровского. Совсем недалеко от Горького раскинулся Арзамас, а оттуда уже рукой подать до Дивеевской обители. Как любил отец Григорий этого дивного старца, сколько напечатал он «книжек»-тетрадок с описанием жизни и чудесных подвигов преподобного Серафима, скольким духовным чадам он поведал о святости дивеевского инока! И часто люди находили, что их батюшка очень похож на преподобного Серафима Саровского, — с такой же неизменной теплотой и всегдашней дивной радостью встречал он всех людей, приходивших к нему, как и его любимый святой старец.
Но до Дивеева доехать было в те времена невозможно. Кругом — военные объекты да воинствующие атеисты. И в знак своего глубокого почтения и преклонения перед подвигами преподобного Серафима отец Григорий низко поклонился в сторону пустынных Саровских лесов…
В Кургане
В 1962 году архиепископ Свердловский Флавиан назначил отца Григория настоятелем Свято-Духовской церкви в поселке Рябково города Кургана. Несколько месяцев прослужил батюшка в рябковской церкви, к тому времени уже «приговоренной» городскими властями к уничтожению из-за поспешно выстроенной вблизи коробки кинотеатра «Спутник». А вскоре верующим предложили новое место под строительство молитвенного дома в поселке Смолино, который и был построен с Божией помощью трудами отца Григория и его духовных чад.
Престол нового молитвенного дома освятили в честь Святого Духа. Из рябковского храма перенесли церковную утварь, иконы, богослужебные книги и священнические облачения, и богослужения возобновились. Много лет отец Григорий, окормляя созданный им приход, служил один. Он был строитель, настоятель и требный батюшка одновременно. Жизнь его стала настолько спрессована во времени, что с новой силой зазвучала в его духовном дневнике тема значения и силы часа.
За всю свою жизнь батюшка, можно сказать, не имел полноценного отпуска. Он служил круглый год. Вставая в четыре-пять часов утра, отец Григорий готовил себя к Божественной Литургии. Потом сразу же — крещение, венчание, панихида…
А в городе уже ждут его для треб. Сообщение с Курганом было тогда через поселок Восточный. Через Тобол переправлялись в то время различными способами: и на лодках, и на плотиках, иногда — по мостикам почти без перил. С требным чемоданчиком и дароносицей при температуре двадцать пять — тридцать градусов жары добирался батюшка в любую точку города и близлежащих поселков на общественном транспорте или пешком. Где-то ждали его на исповедь и причастие, где-то — на соборование, но как бы далеко и сложно ни было добираться, он никогда никому не отказывал.
Домой приходил белее мела, чтобы сбросить насквозь промокшую одежду, и… быстрее в храм ко всенощной. Только вечером он давал себе немного отдышаться, обдумать проведенный день и еще успеть подготовиться к следующему, такому же. Конечно, только Господь давал ему силы. Что такое отпуск, он просто не знал.
Лет тринадцать-пятнадцать батюшка жил такой напряженной жизнью. Но ему готовились новые испытания. Свои трудности и переживания он тщательно скрывал, стараясь оградить близких от лишних волнений, но его душевная боль вылилась в стихи, явно не рассчитанные на читателя:
Сердце
Бедное сердце! О, сколько тревоги
Ты испытало со мною в пути!
Сколько раз, чувствуя тяжесть дороги,
Ты учащенно стучало в груди.
Но и теперь ты, почуяв ненастье,
Что собралось над моей головой,
Бьешься, волнуешься, хочешь, чтоб счастье
Снова лилось полноводной рекой.
Полно, утихни же; в мире коварном,
Где суждено нам с тобою шагать,
Больше ты будешь, родное, печально,
Много придется терпеть и страдать.
Долго придется тебе еще биться
И волноваться в стесненной груди,
Пусть тебе сладкое счастье не снится
В жизненном нашем тяжелом пути.
Пусть тебе видятся шумные грозы,
Бури, ненастья и море скорбей,
Ненависть дикая, только не розы
И не хвала от коварных людей.
Так обновимся в служении верном,
Путь христианский со мной продолжай
И своим стуком, тревожным, чрезмерным
Ты уже больше меня не пугай.
Писано 10/II 1975 года
И еще одно стихотворение, найденное в архиве батюшки и, вероятнее всего, написанное им самим:
Не тоскуй ты, душа дорогая…
(подражание Никитину)
Не тоскуй ты, душа дорогая,
Не печалься, но радостной будь,
Жизнь, поверь, нам настанет другая…
Нас жалеет Господь, не забудь.
Уповай ты на Господа Бога,
И молись ты почаще в тиши,
И утихнет на сердце тревога,
Получая покой для души.
Не смущайся в тяжелые годы,
Пусть не ропщут на бремя уста.
В нашей жизни бывают невзгоды,
Но надейся на милость Христа.
В мире волны бушуют, как в море,
Ветер страшно и грозно шумит.
Не забудь, что с любовью во взоре
На тебя Твой Спаситель глядит.
Жизнью Сам Он твоей управляет
И защиту тебе подает,
Знает Он, о чем каждый мечтает,
К светлой радости, счастью ведет.
Проявить нам здесь нужно терпенье,
Мы готовы к последней борьбе.
Бог услышит все наши моленья,
И возьмет нас Спаситель к Себе.
Пристань светлая нас ожидает,
Бури страшной и грозной там нет.
Ярче солнца Христос там сияет.
Жизнью вечной наполнен там свет.
Не тоскуй ты, душа дорогая,
Не печалься, но радостной будь.
В небе родина наша Святая
И блаженный и вечный наш путь.
Отец Григорий был слишком закрытым человеком, чтобы посвящать в свои тяготы близких. Кроме матушки, конечно. Поэтому я не могу объяснить причины его переводов сначала в Шадринск, вскоре в Куртамыш, потом в Усть-Миасс и так далее… Скорее всего, это было связано с отношением к нему уполномоченного по делам религиозных организаций Курганской области. Но факт остается фактом: мои престарелые родители, живя в Кургане, стали «перелетными птицами». Церковный дом, где они жили все годы службы в Свято-Духовском храме, им пришлось освободить, и они купили маленький домик здесь же, в Смолино, где и жили до самой смерти.
Уезжая на воскресные и праздничные дни в другие приходы, они оставались там на неделю, иногда на полторы, и возвращались в Курган, чтобы снова ехать на очередные субботнюю и воскресную службы. Переехать совсем на каждое из мест нового назначения родители не могли, так как понимали, что это носит временный характер и переводы с прихода на приход спонтанны и необъяснимы. За ними, как по команде, следовали многочисленные духовные чада батюшки, верные им и в радостях, и в трудностях. И храмы маленьких городков и поселков епархии наполнялись церковным чтением и пением милых курганцев.
Приезжая в Курган, я совершала вместе с ними эти беспокойные поездки. Как я отметила для себя, чтобы добраться из дома в Смолино до очередного районного храма, они должны были совершить около четырех поездок с тремя пересадками. Первая — из дома через Тобол до городского рынка; вторая — от рынка до автовокзала; третья — на рейсовом автобусе до районного центра, четвертая — на местном автобусе до храма. Иногда бывало, что они шли пешком около одиннадцати километров, например, из районного центра в Усть-Миасс.
Такая жизнь у моих престарелых уже родителей продолжалась не год или два, а лет пять или шесть… и прекратилась лишь тогда, когда у отца Григория резко обострилась давно возникшая желчекаменная болезнь, на болевые приступы которой он не обращал до поры внимания. Произошло это в Куртамыше: острейший приступ желчекаменной болезни, осложненный перитонитом… Почти умирающего, его на машине привезли в Курган. На волоске от смерти он был прооперирован, практически без какой-либо надежды. Уже позднее, когда его перевели из реанимации в отделение, студенты-медики приходили посмотреть на выжившего после почти безнадежной операции пациента. Свершилось чудо, он поправился и еще несколько лет служил Господу и Его Церкви, помогая верующим духовными советами и молитвами.
После перенесенной операции батюшка еще иногда выезжал служить в небольшие приходы. Он уже не был настоятелем в родном Свято-Духовском храме, и служить там ему теперь удавалось все реже: тут и новый приток молодого священства, и, конечно, уходящие силы самого батюшки. Это обстоятельство отец Григорий тяжело переживал.
Надо было видеть лицо отца Григория, когда он приходил из смолинского храма и говорил: «А я завтра служу Литургию!». При этих словах он весь прямо светился. Очень любил батюшка служить в маленьком храме крестильного дома при Свято-Духовской церкви.
Рассказывая, как любил отец Григорий служить Божественную Литургию, невозможно не вспомнить о том, что записал он в своем духовном дневнике «о важности вынимания частиц поименно».
Проскомидия была для отца Григория особым таинством — именно священнодействием. Он вынимал из просфоры отдельную частичку за имя каждого человека, сугубо предстательствуя перед Господом за спасение его души.
Проскомидии, которые совершал отец Григорий во святая святых — у престола Божия, — являют нам чудо Божие и в наши дни! Просфоры с вынутыми из них батюшкой поименными частичками нетленны до сего дня, хотя со времен праведной кончины отца Григория прошло уже более восьми лет. Разве это не чудо? Просфоры — их восемь — хранились более восьми лет в разных условиях: в разных домах, у разных хозяев, в разных шкатулках, при разных температурах и в разное время года, — однако ни тля, ни ржа, ни мучные жучки не подточили эти чудесные просфорки и они доныне сохранили свой первоначальный нетленный вид. Вот настоящее, святое благоговение!
«Праведники отходят, а свет их остается».
И тем не менее при жизни батюшка был гоним.
Еще в 1970 году, когда отец Григорий постоянно служил в церкви Смолино, он, видимо, уже почувствовал грядущие скрытые гонения, выраженные впоследствии в необъяснимых хаотичных переездах с одного прихода на другой. Для себя он написал в это время молитву на каждый день, которая была найдена в личном архиве батюшки уже после их с матушкой преставления. А позднее была обнаружена и молитва, читаемая вечером.
Молитва только на нынешний день
Господи! Я не молюсь о будущем, далеком и о нуждах завтрашнего дня; лишь ныне сохрани меня под покровом Твоим, только нынешний день.
Спаситель! Будь со мной в труде моем и молитвах, помоги мне быть добрым в делах и словах только нынешний день. О, пусть я не буду настойчив в исполнении своей воли.
Не попусти, Господи, чтобы я произнес слова безполезныя, оскорбительныя, преступныя. Внуши устам моим слова ободряющие, утешающие и радующие всех, с кем я встречаюсь в нынешний день.
Благость Пречистой Матери Твоей, Господи, да сопутствует мне и поможет при встречах с людьми.
Пусть я не буду причиной чьих-либо страданий, печали и слез на нынешний день…
Господи! Бедствие приближается ко мне: дай мне силы встретить беду без ропота и уныния как вестницу Твоей правды и любви ко мне на нынешний день.
Не прошу я, Господи, о завтрашнем дне; завтра, быть может, я буду близ Тебя, но пощади меня, научи меня, сопутствуй мне только нынешний день. Аминь.
Молитва, читаемая вечером
Благодарю Тебя, Господи, за все милости и благодеяния Твоя, в прошедший день на нас бывшая.
Молюся Тебе, Господи, прости всех обидевших меня сегодня, успокой их злобные чувства, а в сердце мое пошли благодать полного забвения обид.
Еще молюсь Тебе, Отче Небесный, укрепи меня в благоугодных Тебе добродетелях и избави всех нас от греховных падений, взаимного недружелюбия, ссор и всякого несчастия.
Дай мне, Боже, предстоящую ночь тихую, спокойную и утром восставь меня здравого на славословие Имени Твоего святого.
Господи, силою Честнаго и Животворящего Твоего Креста сохрани меня от всякого зла.
Благослови меня, Господи, и жизнь вечную даруй мне. Аминь.
И еще одна известная молитва, найденная в архиве батюшки. Читая ее на своем домашнем молитвенном правиле и добавляя к ней слова, отец Григорий учит и нас молиться нашему Спасителю за свои страстные и любосластные души.
Молитва Святому Духу
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны и утеши ны от всякия скорби и спаси, Блаже, душу мою, страстную и любосластную.
* * *
Много лет отец Григорий и матушка Нина ездили исповедоваться к протоиерею Павлу Николаевичу Ездакову — скромному, глубоко настроенному священнику, который служил в приходе села Боровлянка Притобольного района. Отец Павел соответственно исповедовался у отца Григория. Их обоих связывала глубокая, сердечная дружба и взаимная привязанность. Встречаясь, они часто и подолгу беседовали на темы духовного и нравственного воспитания паствы. От отца Павла батюшка и матушка всегда возвращались домой духовно обновленные, с особым душевным подъемом. После ухода из жизни отца Павла батюшка Григорий подолгу (с особой глубиной и серьезностью) молился за упокой его души. Чувствовалось, что батюшке очень не хватало бесед с отцом Павлом, возможности поделиться своими мыслями, трудностями, проблемами духовной жизни прихода и просто человеческого общения.
В семейном архиве Пономаревых сохранилась тетрадка со стихотворением «О Рождестве Христовом», переписанным рукой отца Павла.
Под стихом такая подпись:
«Писал прот. П. Е. “Среда” 21/II-79, 15 часов, тепло, ясно, + — 2о».
И ниже:
«На молитвенную память! Дорогому собрату отцу протоиерею Григорию Александровичу Пономареву! В знак глубокого уважения к Вам от протоиерея Павла Николаевича Ездакова. 21/II-79 г. с. Боровлянка».
«Слава Тебе, явившему мне красоту вселенной…» (Об отношении отца Григория к природе)
В памяти моей всплывают моменты общения батюшки с природой. Глядя на поля, деревья, травы, цветы, он не уставал повторять: «Как много дал нам Господь, и как порой мы бываем к этому бесчувственны и неблагодарны». Скромный полевой цветок мог растрогать его и вызвать чувство восхищения своим совершенством.
Особенно любил он смотреть на небо, говоря, что нет ничего прекраснее неба в любое время года.
Летом я приезжала к ним сначала на каникулы, а потом, уже работая, во время отпуска. Родители мои проживали в то время в Смолино: в церковном доме, огород которого подходил прямо к обрыву, к реке. По узкой тропочке можно было спуститься к воде.
С обрыва нам открывались такие бескрайние дали! Под ногами плескался тогда еще довольно чистый Тобол. На другой его стороне — пологой и песчаной — вольно раскинулись огромные поляны, овраги и овражки, заросшие дикой вишней, мелким кустарником, камышом и полевыми травами. А маленькие болотца и ручейки бывшей старицы Тобола были приютом всякой летающей, плавающей и ползающей живности, резвящейся среди водяных лилий, кувшинок и высоких нарядных стеблей иван-чая.
Поля, еще не распаханные и не застроенные коллективными дачами, наполняли все вокруг дивными, целительными ароматами. Река гасила шумы города, и только иногда проходящий по высокому железнодорожному мосту поезд, похожий издали на игрушечный тепловозик с вагончиками, привлекал к себе внимание или гудком, или ненавязчивым перестуком колес.
Батюшка сколотил у нашего забора на краю обрыва скамеечку и теплыми вечерами, уже после службы, любил посидеть, подумать, послушать тишину, любуясь красотой и гармонией наступающего вечера.
С удовольствием принимал он к себе в компанию и нас с мамой. С этого места мы особенно любили смотреть на небо, которое завораживало своим необъятным куполом. А какие волшебные краски доводилось видеть нам чаще всего при закате солнца! Казалось, невозможно так тонко, искусно соединить нежную лазурь, где-то вспыхивающую изумрудной полосой, переходящую вдруг в нестерпимо блестящее золотое облачко с багровыми клубами, похожими на гигантские люстры, которые, медленно выцветая и переливаясь всеми оттенками розового, истаивали вдали.
Наше светило, устав за день, медленно опускалось за городом, но феерия красок и света не заканчивалась. Вот поплыли по необъятному небу, как по морю, белые кудрявые деревья, подсвеченные розовым. Вот они почти незаметно для глаз превратились в длинные, узконосые палевые ладьи, а те, в свою очередь, слились в огромный старинных очертаний парусник. Ну прямо «Летучий голландец» какой-то. Вот из него возник замок с башенками, бойницами, но только где же этот ошеломляющий золотисто-палевый цвет? Его уже и в помине нет. А замок-то — голубой, даже серо-сизый, и в постепенно надвигающихся сумерках можно еще видеть, как из него вытянулось длинное забавное лицо в шляпе… Шляпа-то уж совсем потемнела. Вот и первая звезда…
С реки вдруг потянуло уже ночной сыростью.
Тихо так, что слышно, как плеснула рыба, а с противоположного берега из камышей стали медленно выползать вытягиваясь длинные, полупрозрачные ленты тумана, окутывая кусты и почти ложась на воду, усиливая тишину настолько, что, кажется, звенит в ушах. Или это комары? Ну конечно, да какие еще злющие…
— Пошли скорее домой, — говорит мама. — Чай, наверное, давно остыл.
Папа с просветленным лицом, словно умылся в этой вечерней свежести и красоте, неторопливо встает.
В глазах отца Григория еще отражается небо, лицо светится теплом и благодарностью к Создателю.
Из архива протоиерея Григория Пономарева
«Солнце да не зáйдет во гневе вашем» (Еф.4:26)
Конец каждого дня должен служить нам полезным напоминанием прекращения нашей жизни — того заката, после которого не взойдет больше для нас солнце.
Вечер прекращает на известный срок нашу деятельность. Мы откладываем наши дела, наши занятия, даем отдых и мыслям, и даже чувствам.
Работа дня кончена. Кто знает, может быть, и навсегда. Поэтому, оканчивая день, мы всякий раз должны испытать себя и привеcти все в порядок в нашем внутреннем мире, как бы перед концом своей жизни.
В особенности в час нашей вечерней молитвы мы должны очистить свое сердце от всего того, что накопилось в нем греховного или неправильного в течение дня: от всякого чувства горечи, досады или непокорности, от всякого порыва гнева — от всего того, что удаляет нас от Бога. Жизнь наша мимолетна, мы не знаем при наступлении ночи, увидим ли мы еще утреннюю зарю и дастся ли нам еще случай загладить и исправить |многое перед Богом и нашею совестию. Не позволим таить в своем сердце на сон грядущий никакой злобы, ни одной греховной мысли. «Солнце да не зайдет во гневе вашем», — есть совет высшей премудрости.
(Поучения из настольной книги христианина
«День за днем». Автор поучений неизвестен)
* * *
В свободное время мы с удовольствием посещали лес. Красота лесных трав и цветов, неброская, но утонченная, очевидно, зарождала в душе батюшки образы и мысли, которые переплавлялись в его духовной мастерской в богословские размышления в виде небольших рассказов, притч и новелл. Он тщательно собирал их, перепечатывал и раздавал в назидание своим духовным чадам. Их глубина и проникновенность казались совершенно непостижимыми простому человеческому уму. Отец Григорий никогда не подписывал своим именем то, что, скорее всего, принадлежит его собственным раздумьям. Безымянной оказалась и эта «Маленькая новелла» из его архива.
Из архива протоиерея Григория Пономарева
Маленькая новелла
С тех пор как на земле поселились люди и начались страдания, на полях зацвели цветы: красные, лиловые, голубые; они напоминали человеку о тенистых рощах, из которых он был недавно изгнан.
Они стояли в поле, ясные, кроткие, наивные, и тихо шелестели о недавнем счастье. И человек, уставая в жизненной борьбе, смотрел на эти маленькие грустные цветы. В них он видел иную жизнь, яркую и счастливую, как солнце. Он отдыхал душой. В сознании его ярко вспыхивал образ счастья, глубокого, как мир, и ясного, как цветы.
Какое милое царство — царство цветов.
Порою, когда над ними проливаются тихие дождики, светит солнце и падает роса, они как узоры покрывают землю пышными, красивыми и мягкими одеждами. Особенно хороши они летними утрами и вечерами. Словно малютки, раскрывают они свои лучистые глазки и улыбаются далекому милому солнцу. И, как малые детки, закрывают их вечером, неясные и тихие, как сон, и почивают в своих колыбельках…
Тише! Полевые малютки спят!..
Если бы не было цветов, зима тянулась бы, скучная и серая, и никогда на земле не было бы веселой, душистой весны…
Никогда не было бы букетов, разноцветных и пахучих, с которыми люди приходят в церковь в день Святой Троицы…
Никогда не клали бы на холодный, заснувший лоб печальных, трогательных, угасающих венков из живых цветов, и глубокая любовь была бы бессильна в своем порыве — излиться до конца, до края в сильном и глубоком образе…
Но они недолговечны. «Прекрасное — коротко», — эта печальная истина вышла из цветочного царства. Вы видите в степях одинокие былинки, на которых как бумажный лист качаются и шуршат сморщенные лепестки. То могилки цветов!.. Тихие могилки полевых малюток! — сухие былинки, когда-то одетые яркими, мягкими одеждами, когда-то обвеянные благоуханиями, когда-то шептавшие о таинственных вечерних грезах.
И вот им захотелось не умирать! — вечно благоухать, вечно шелестеть, тихо и грёзно…
В одно майское утро, когда над озером заливались соловьи и солнце целовало землю своими огнистыми поцелуями, они широко раскрыли свои лепестки и тонкое благоухание, как дымок кадильниц, поднялось к небу.
Они молились!.. — о вечной жизни, ясной и прозрачной, как их одежды, — молились цветы ВЕЛИКОМУ БОГУ! И был ответ с далекого синего неба:
— Кто желает быть безсмертным, пусть умрет!
И цветы поникли перед Божественными словами, полными тайны, красоты и вечности! Поникли, и тонкое благоухание, как тихая хвала, поднялось к небу…
— Кто желает быть безсмертным, пусть умрет во имя безсмертия!
Но страшно умереть! Не видеть голубого неба, не золотиться под жгучими солнечными лучами, не обливаться тихой, благодатной росою.
В степи при дороге росли скромные, нежные цветы. Они привыкли кивать своими золотыми головками утомленному пешеходу. Они словно хотели ободрить его, шепнуть ему про далекий дом, про далекие лица, про дальние приветы и пожелания!
Эти маленькие, скромные цветы согласились добровольно умереть во имя безсмертия!
И умерли… Их легкие, как крыло бабочки, одежды вдруг затвердели, сохранив все краски. И благоухание, как невидимый бриллиант, замерло над ними в воздухе. Умершие, они сделались безсмертными!
Приходила осень, за ней падали снеговые хлопья, проносился жестокий ветер и с корнем вырывал маленькие цветы. Жгло июльское солнце — они были всегда одинаковы: яркие, благоухающие, нежные, как грёзы, как далекая тонкая струна звучащие…
И, когда мать опускала в темную могилу маленький гробик, она клала на родную головку венок из безсмертных цветов. Эти цветы — символ ее любви и иной, вечной жизни, где она опять встретится со своим малюткой!
А когда невеста, расставаясь надолго со своим женихом перед отъездом в далекие края, дарит ему скромные безсмертные цветы, пусть их любовь будет так же вечна, как эти цветы!
Между людьми эти цветы зовутся «БЕЗСМЕРТНИКИ»!
(Все выделенные слова и грамматика сохранены как в оригинале — ред.)
* * *
Года за три до ухода из этой жизни моих дорогих родителей я посадила во дворе их дома целую клумбу голубых вьюнков. К осени цветы поднялись к небу и украсили собой стену дома прямо перед окнами маминой комнаты. На ночь похожие на граммофончики цветы закрывали свои тонкие лепестки, а с восходом солнца голубые и сиреневые ясноглазые колокольчики приветствовали маму, спешившую поздороваться с ними…
— Здравствуйте, мои ясноглазые малютки, — говорила она. — Вы снова раскрыли свои милые лучистые глазки…
И это было продолжением той притчи, которую недавно напечатал на машинке отец Григорий…
* * *
Вспоминается еще один случай трогательного отношения к природе отца Григория и матушки Нины.
В одном из весенних номеров журнала «Наука и жизнь», который батюшка с матушкой выписывали более десяти лет, был напечатан новый очерк Владимира Солоухина «Грибы». С увлечением они читали этот очерк вслух. А вскоре была напечатана «Трава», тоже Солоухина. Для отца Григория и матушки это стало действительно «созерцанием чуда». Творчество Владимира Солоухина (члена Попечительского Совета строящегося в то время в Москве Храма Христа Спасителя) очень нравилось батюшке и матушке Нине. И язык, и авторский подход к жизни, и смелость суждений (в те-то времена!), и удивительная поэтичность, казалось бы, совершенно прозаичных вещей и предметов… В очерке «Трава» Владимир Алексеевич Солоухин очень тонко рассуждает о жизни цветов и приводит описание научных опытов о взаимодействии комнатных цветов с человеком. Конечно, это произвело неизгладимое впечатление, особенно на матушку Нину.
Приезжаю к ним летом в отпуск. На окне стоит большой красивый цветок, типа пиперонии.
— Какой у вас цветок красивый.
— А это у нас «Владимир Алексеевич» (Солоухин), — смеется мамочка.
Долго у них жил этот цветок — «Владимир Алексеевич». Наверное, при переезде (после изгнания их из церковного дома) с «Владимиром Алексеевичем» им пришлось расстаться. На новом месте не только цветку, но и людям негде было разместиться.
«Кто Творец мира: Бог или природа?»
Продолжая разговор об отношении отца Григория к природе, раскроем богословскую сторону этого вопроса: то, как отразил батюшка догматическое учение о сотворении мира в своих апологетических трудах.
При обращении к духовному архиву отца Григория среди его многочисленных тетрадок неожиданно был обнаружен машинописный текст на нескольких страницах под названием «Кто Творец мира: Бог или природа?». Работа никем не подписана, то есть автор ее, можно подумать, неизвестен. Однако, анализируя стиль изложения темы о создании мира и зная некоторые эпизоды из жизни батюшки, а также изучив в его архиве многие литературные наброски, можно ясно понять, что этот труд принадлежит именно ему, протоиерею Григорию Александровичу Пономареву, прошедшему суровую школу познания мира наедине с природой северного края. И тогда становится совершенно понятным, почему он написал в этой работе такие строки:
«Макарий Великий говорит (и ученые подтверждают), что природа — это раскрытая книга, ее корки — небо и земля: читай со вниманием, в ней все написано». И далее: «Ученые, с каждым годом вчитываясь в книгу природы, познают бездну премудрости. Законы в природе не устанавливают, а только открывают. Из этой прочитанной книги видно, что человеческий разум не может постигнуть всего того, что сокрыто в ней, но может сделать заключение, что в этой книге природы все написано красиво, целесообразно, премудро-разумно — значит, все создал Разум!
Наш конечный разум не может постигнуть бесконечный Разум, Которым является Бог!
Вот взяли мы две книги: книгу природы и книгу, написанную человеком. Теперь надо сопоставить. Книга, написанная человеком, — это плод его ума, а книга природы является плодом Творческого Разума — Бога! Настольная книга имеет вес, объем; то есть это — материя! Так что первично: эта книга — материя — или заложенная в ней идея? Разумный человек скажет: “Чтобы написать книгу, она должна быть в сознании человека, то есть первична идея, материя — вторична”.
Возьмем книгу природы. Что первично: эта материя или заложенная в нее идея? Конечно, идея. Вот из этих двух книг мы и видим, что первична не материя, а сознание, то есть первичен Бог как Вечность, материя же — вторична. Бог был всегда, а материя — это идея Бога.
Божия книга природы поражает нас своим необъятным величием, абсолютной гармонией и порядком и своей таинственной непостижимостью. Наш ограниченный разум теряется при мысли о беспредельности вселенной и не в состоянии постичь или объять ее.
Откуда произошло такое неисчислимое количество звезд, солнц, комет, аэролитов, галактик, созвездий, звездных туманностей и вечно сияющих светил?
Подлинные ученые должны сознаться, что наука не в силах это объяснить, а только основывается на научных догадках и предположениях.
Для тех людей, которые ссылаются на науку, никаких трудностей в объяснении космоса не существует.
На вопрос, кто создал материю, пространство, планеты, они отвечают одним словом:
— Природа!
А кто создал природу?
— Природа создала сама себя.
Но, если природа создала сама себя, значит, было время, когда ее не было? А если природы не было, то как же она могла создать себя? Если же природа была до своего создания, то зачем тогда надо было ей создаваться?
Библия говорит нам, что невидимый для наших плотских очей Творец Вселенной становится видимым “через рассматривание творений” Его (ср. Рим.1:20), поэтому Он предлагает людям: “Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, Кто сотворил их” (Ис.40:26)».
В этой же работе читаем:
«Бога никто никогда не видел. На Бога даже ангелы не смеют взирать. Это говорит о совершенстве Бога.
Многие атеисты говорят, что если бы они видели Бога, то верили бы в Него, а, так как они Его не видели, значит, Его нет.
Но есть очень многое в природе, чего мы не видим, но верим, что это — есть.
Любовь мы не видели, не знаем, какого она цвета, формы, но верим, что она есть.
Разум, воздух мы не видим, но верим, что они есть, и без них не можем жить.
Бог — есть Дух. Мы Его не видим, но верим, что Он есть. Нельзя понимать Бога как воздух, разлитый в природе. Это особое Существо, Которое не смешивается с природой. Это — Чистейший Дух.
Некоторые неразумные не понимают и говорят: “В космос летали, а Бога не видали”.
Верующий в Бога человек стремится к Своему Творцу через молитву и через добрые дела — с той целью, чтобы вместе с Ним блаженствовать и жить.
Душа человека, не познавшая Бога (но “по природе христианка”), стремится к Своему Творцу, но не через молитву и добрые дела, а через технику, ракеты. Это — стремление не тела, а духа, потому что Бог есть Дух. Это чистейший Дух-Бог — Творец всей Вселенной.
Один доктор астрологических наук читал лекцию в учебном заведении. На лекции присутствовал инспектор высших учебных заведений. Доктор поставил точку на доске и начал речь:
— Дорогие товарищи! Вот это — Земля, — показывая на точку, отмеченную на доске. — Земля появилась много миллионов лет назад, и она тысячелетиями развивалась, — и сделал круг из этой точки.
Сорок пять минут он рассказывал, как эта земля развивалась, росла, какие были землетрясения, вулканы, взрывы и другие явления, и в конце концов сказал:
— А в Библии написано, что якобы Бог создал землю.
Когда лектор окончил свое слово, он спросил:
— Есть ли вопросы?
— Да, есть.
Один студент встал и говорит:
— Скажите, пожалуйста, кто поставил точку Земли на доске?
Доктор ответил:
— Я.
— А кто поставил точку земли во Вселенной?
Лектор задумался и стал на философском языке отговариваться непонятными фразами. Инспектор, видя, что лектор “тонет”, объявил аудитории, что время лекции окончено и пора на обед…».
Энциклопедический словарь Флорентия Павленко
Сколько я помню себя, он всегда лежал на письменном столе под настольной лампой с зеленым абажуром. Он был таким огромным и тяжелым, таким внушительным, что мне было страшно к нему прикасаться, хоть мне это и разрешалось. Букв я тогда еще не знала, но в нем было много «картинок»…
— Только очень, очень осторожно, Леленька! Это ценная и нужная книга…
Книгой часто пользовались, но как-то странно, не так, как другими: просто что-то полистают в ней, как бы что-то ищут, найдут… и уходят, удовлетворенные.
Я постепенно росла, взрослела; я уже знала, что эта замечательная книга называется «Энциклопедический словарь». Автор, составивший его, — Флорентий Павленко. Словарь был в красивом кожаном переплете. На титульном листе — портрет пожилого господина с внимательными глазами и высоким лбом. Это и был Флорентий Павленко.
Словарь состоял из 1552 страниц, каждая из которых была разделена на два пронумерованных столбца. Итого 3104 напечатанных мелким шрифтом столбцов с большим количеством печатных иллюстраций, тоже мелких. Словарь Флорентия Павленко содержал массу самых разнообразных, самых неожиданных знаний.
Матушка всегда говорила:
— Это поразительно! Когда бы и какой бы вопрос ни возникал, порой из самой неожиданной области знаний: науки, истории, искусства, философии, медицины, топографии, техники, — обращаешься к словарю Павленко… и вот он, ответ.
Постепенно и меня научили пользоваться этой умной книгой, и мне нравилось наугад открыть какую-нибудь страницу словаря, как бы отправляясь в «виртуальное» путешествие по знаниям. Ты узнавал что-то о великих людях разных времен и народов, и тут же, рядом, — сведения по географии, геологии, астрономии; вдруг видишь совершенно неинтересные математические формулы, а рядом — что-то из медицины, живописи, литературы; название отдельных «па» в искусстве балета и еще, совсем рядом, рядом — описание быта и ритуальных танцев североамериканских племен…
Иногда я с глупым детским «коварством», услышав незнакомое слово, понятие, думала: «Ну, уж это — вопрос “на засыпку”! Ответа точно не будет». И надо же! Вот оно, — пожалуйста. Флорентий Павленко, как всегда, дает ясный, четкий ответ в предельно сжатой форме. Это же словарь!
Несомненно, Павленко для своего времени был редчайший, выдающийся ум и, кроме того, имел особый дар — дар энциклопедиста. И, пожалуй, лишь к концу ХХ столетия, когда наука сделала необыкновенный прорыв в различных областях знаний и когда в наш язык влились, срослись с ним иностранные слова-гибриды и термины из новых отраслей наук и знаний, а также слова, перешедшие из «сленга» других языковых культур, — только тогда словарь Флорентия Павленко стал уже не так силен, отстав от новых понятий на несколько десятилетий. Когда отец Григорий вернулся из 16-летнего заточения и включился в активную литературно-духовную работу, словарь Павленко оказался особенно востребованным. Батюшка, вероятно, уже тогда что-то задумывал, записывая в отдельные тетрадки тезисы для своих будущих трудов.
Со словарем «доработались» до того, что он стал разваливаться, рассыпаться буквально по листочкам.
Матушка Нина, к тому времени освоившая переплетное дело, аккуратно переплела распадавшийся на части фолиант. Словарем снова стали активно пользоваться. В последующем на протяжении жизни родителей словарь еще дважды подвергался переплету. Вот каким нужным и значимым он был для отца Григория и матушки Нины.
Уже после кончины отца Григория совершенно случайно стало известно, что имя «Флорентий» (довольно редкое в русском языке) было записано в помяннике батюшки наряду с именами усопших родных. Отец Григорий молился за упокой души незаурядного энциклопедиста своего времени, он всегда оставался благодарен этому эрудиту. Интересно, что вместе с именем «Флорентий» соседствовали еще три имени: Александр (Пушкин), Модест (Мусоргский) и Николай (Римский-Корсаков). Александра Сергеевича отец Григорий ценил совершенно особо, а музыку Мусоргского и Римского-Корсакова воспринимал с большим трепетом и очень ценил.
В доме у отца Григория и матушки Нины наряду с граммофонными записями колокольных звонов были собраны все записи оперы «Борис Годунов». В редкие свободные вечерние минуты они любили послушать нашу великую русскую музыку… или, иногда, звоны. И эта общая любовь к музыке была еще одной из многочисленных и неразрывных невидимых нитей, которые просто «переплели» в единое целое эти две жизни, эти две любящие души, прошедшие через столько страданий.
Словарь Флорентия Павленко до сих пор хранится у меня, и не только как память о всех моих родных, но он все еще продолжает «работать», по мере уже своих «стариковских» сил, и, кроме теплых, душевных воспоминаний, до сих пор продолжает разрешать некоторые затруднения в знаниях, отвечая на многие вопросы.
Вот какую силу вне времени имеет труд жизни человека — книга, в которую, очевидно, вкладывалась вся творческая и интеллектуальная энергия, вся душа ее автора, Флорентия Павленко.
Праздник Николы «зимнего»
Дивен Бог во Святых Своих — Бог Израилев!
Это произошло в одну из первых зим, когда отец Григорий с матушкой Ниной, переехав в город Курган, обосновались в поселке Смолино. Усилиями батюшки и многих верующих был уже построен Свято-Духовский храм в его первоначальном виде — сначала это был молитвенный дом. Жизнь отца Григория вошла в определенный, хотя и очень спрессованный во времени, ритм.
Поскольку он был единственным служащим священником на весь приход (а значит, по тем временам, и на весь Курган), то и нагрузка была соответствующей. В новом действующем храме он проводил все службы, исполнял церковные требы, совершая таинства крещения, венчания и соборования. Служил молебны, панихиды, отпевал новопреставленных. Кроме того, ему приходилось много ездить по городу и окрестностям к больным и умирающим людям, соборуя, исповедуя и причащая всех страждущих.
В какой бы степени усталости ни был отец Григорий, ни разу не случилось, чтобы он кому-либо отказал в исполнении требы, хотя добираться до места порой было крайне далеко и сложно, и все — на общественном транспорте, а иногда и просто пешком. Он не считал себя вправе отказать нуждающемуся в помощи из-за того, что трудно добираться до района, в котором жил этот человек. Свое утомление он просто старался не замечать, и Господь давал ему силы. Мерил же он всё, вероятно, своей «северной» меркой, столь отличной от общего представления о человеческих возможностях и обязанностях.
В канун праздника Николы «зимнего», который и в «застойные» времена собирал в церкви много молящихся, стоял лютый мороз, да еще с метелью. Однако на всенощной храм был полон. Людей не останавливало и то, что попасть в пригородный поселок Смолино было очень трудно. Автобусного сообщения тогда не было; не было и нынешней дороги, так что люди шли пешком через Восточный поселок, краем поселка Мало-Чаусово и через большое поле, изумительно красивое весной и летом. Затем поднимались в горку через замерзший Тобол, а там уж и рукой подать…
Праздничные лица, ярко освещенный храм, немногочисленный, но какой-то особенно душевный церковный хор, управляемый матушкой Ниной, приятные, чистые голоса, вдохновенное пение — все грело, ласкало и возвышало душу.
Окончилась всенощная. По зиме где-то около семи вечера — это почти уже ночь. На улицу страшно и выглянуть — так метет. Колючий ветер, нагнавший в притвор храма кучу снега, рвет из рук постоянно открывающиеся и закрывающиеся двери, и струи ледяного воздуха врываются в теплоту храма.
Но вот все постепенно расходятся. Батюшка с матушкой одни из последних выходят из церкви, и вцепившийся в них ветер сразу сбивает с ног. Им-то идти недалеко, минут десять — и дома. А вот как будут добираться все городские? Страшно подумать. Дай им, Господи, сил!
Не успели войти в дом, как сквозь шум и свист метели им послышался робкий стук в ворота. Лай собаки подтвердил, что действительно кто-то пришел. Кто бы это мог быть в такую погоду? И время уже позднее. Только сильная нужда могла выгнать человека из дома… Отец Григорий пошел открывать. У ворот — маленькая, скрюченная фигурка: то ли ребенок, то ли старуха. Вся закутана и заревана. Батюшка просит ее войти в дом. Зайдя в кухню и перекрестившись на образа, она падает в ноги стоящему с ней рядом батюшке.
— Да что вы, что вы? Что случилось-то? Встаньте.
— Не встану, отец, пока не упрошу…
Фигурка продолжает ползать по полу и рыдать. Общими усилиями отцу Григорию и матушке удается поднять ее и усадить на сундучок — «приемное место» посетителей. Она долго распутывает свои шали, платки, все время всхлипывая, и вот-вот готова снова упасть в ноги батюшке. Наконец изо всех шалей появляется седая голова и пылающее лицо. Заплывшие от ветра, мороза и слез глаза умоляюще смотрят на отца Григория.
— Батюшка! Старик у меня помирает! Знаю, что и студено шибко, и далёко очень к нам, да и ночь на дворе, но… — она опять порывается упасть в ноги батюшке, — до утра-то он не дотянет. Может, и сейчас уже помер… — выдохнула она.
— Давеча он уж и воду не пил, и все батюшку просит. А я говорю: «Куда ж теперь? Да разве в такое время я приведу батюшку из такой дали?». А он только вздохнул и… даже воду не пьет, — вновь зарыдала она.
Почему-то слова «воду не пьет» вызывали в ней острую душевную боль. Так часто бывает: в горе или страданиях определенный образ или словосочетания, на внешний взгляд, самые обычные, являются побудительным стимулом к очередному взрыву переживаний и слез. Как будто они нажимают на некую уязвимую «кнопку» в душе, и она вновь и вновь открывает шлюз удерживаемых эмоций. «Даже воду не пьет…» — фраза эта закрепилась в сознании как что-то тяжелое, душераздирающее, так что всякий раз, произнося ее, она начинала рыдать, словно бы снова и снова прикасаясь к открытой ране.
Отец Григорий взглянул на матушку, а она… Она, преисполненная человеческого сочувствия к посетительнице, с ужасом осознает, что надо.., и сейчас он оденется и пойдет с этой несчастной, заплаканной старушкой в ночь, в буран, в неизвестность, чтобы выполнить свой священнический долг. Святой долг пастыря. Иначе он не может. И матушка, понимая это, скорбно вздохнув, идет собирать отцу Григорию теплые вещи.
— Хоть чаю глотни, — шепчет она, понимая, что счет идет уже даже не на часы… И больше не настаивает.
Батюшка, проверив тем временем содержимое требного чемоданчика, одевается со словами:
— Ниночка, ты не волнуйся. Я вернусь, видимо, не скоро. Старики живут на той стороне города, где-то за поселком Рябково. Ехать долго, а там еще и пешком идти надо. Но ничего — Господь поможет. Ведь ты же понимаешь, что надо.
— Надо, — эхом отзывается матушка. — Идите с Богом. Помоги вам Господь и святитель Николай.
Отец Григорий бросает понимающий, благодарный взгляд на самого дорогого, верного ему в жизни человека, всегда понимающего его и готового поддержать в любую минуту.
Они уходят в ночь. Старуха то лепечет слова благодарности, то вновь начинает рыдать… Разговаривать на таком ветру невозможно, и надо экономить силы. Полчаса назад он так горячо сочувствовал тем, кто должен был возвращаться из храма в город. И вот сейчас он сам будет преодолевать этот же путь, и даже, по всей видимости, еще более трудный.
Поистине, неизвестно, какое испытание ожидает нас в очередной момент жизни.
Дороги не видно. Перебравшись через Тобол, они выходят в открытое поле. Тропинку, протоптанную с вечера, уже полностью перемело. Идти приходится по целине, ориентируясь лишь на слабо мерцающие вдали огоньки Восточного поселка. Ветер, ничем не удерживаемый, творит со снегом что-то невообразимое.
В памяти батюшки невольно всплывают воспоминания о том, как на Севере он тоже прокладывал в буран тропку в снежной целине, а за ним, как стая злобных зверей, шли заключенные. Тогда жизнь его висела на волоске. А сейчас? Да беда ли все это?! Ну, мороз.., ну, метет.., и пройдет немало времени, когда он сможет дать отдых своему натруженному за день телу. Но ведь он свободен, он на воле, он — пастырь Христов и спешит сейчас, чтобы исполнить свой долг. Он получил от Господа благословение на самоотверженное служение Ему и делает то, о чем так пламенно просил в дни неволи. Пусть ночью или к утру, но он вернется домой и, даст Бог, будет служить праздничную Божественную Литургию в память святителя Николая. Это ли не счастье?!
Все эти мысли как будто вливают в него новые силы, и он, поддерживая почти падающую спутницу, преодолевает поле, затем Нахаловку, выросшую за поселком, и сам поселок. Они выходят на транспортную магистраль. «Теперь надо дождаться троллейбуса, а там, если даст Господь, и дальше доберемся. Поспеть бы…»
Как всегда, чем хуже погода, тем реже ходит транспорт. Да и вечер уже поздний… Наконец в снежной пурге появляются округлые фары нужного им троллейбуса. «Только бы не перемело дорогу в Рябково», — думает отец Григорий.
Мучительно долго едут. Холод начинает пробираться сквозь валенки и теплые носки. Ничего! Тот огонек, вспыхнувший в душе батюшки, когда они шли полем, продолжает гореть, поддерживая и придавая ему силы. Они доезжают до конечной остановки и устремляются в какие-то глухие и темные переулки.
— Нам, батюшка, идти еще неблизко. От лесочка третий наш домик будет, сам его рубил…
— Ну, веди, — только и сказал отец Григорий.
В поселке дорога то видна, то утопает в снежных сугробах. Старуха совсем выбилась из сил, и батюшка снова идет первым.

— Теперь уже скоро, — слышит он ее голос, который глохнет и относится ветром.
Осеняя себя крестным знамением, отец Григорий оборачивается посмотреть, где же его спутница, и… прямо перед собой видит старца…
Старец негромко произнес:
— Поторопись! Иди и ничего не бойся! Бог поругаем не бывает! Больше тебя никто не тронет.
Вдали возникает темный силуэт, порой то проясняясь, то совершенно заволакиваясь снежными смерчами. Через несколько минут немного ближе видно уже, что не один, а как будто два мужских силуэта двигаются навстречу. Какое-то неприятное чувство вдруг шевельнулось в сердце батюшки. Уж он ли не побывал в переделках?! Сколько раз жизнь его была подобна свече, колеблемой ветром, и, быть может, именно это выработало в нем обостренное чувство опасности. Вот и сейчас он интуитивно ощущает, что тут, как говорят, «горячо». Возникает желание свернуть куда-то, пропустить этих людей. Но сугробы, наметенные ветром выше заборов, с двух сторон сдавливают тропинку. В домах — ни огонька. Почти не освещена и улица, по которой они идут. Только один-единственный столб с горящим фонарем, который борется с ветром, задавшимся целью — сорвать его. Фонарь, раскачиваясь упрямо, натруженно и сердито скрипит под порывами ветра, и слабый свет его хаотически в такт метели выхватывает то крышу дома, то сугроб — и тогда все в глазах начинает рябить и сливаться до тошноты. Свернуть некуда. Отец Григорий идет первым, за ним — вдруг притихшая старуха… И как раз под фонарем они сходятся с двумя молодыми парнями. Узенькая дорожка — не разминуться. Батюшка готов шагнуть в снег, лишь бы побыстрее прошли эти двое, от которых исходит явное чувство опасности.
— Ну куда ж ты, дед? Ишь, через снег захотел! От нас не уходят.
Один из них издает пронзительный свист, и почти тут же откуда-то из тьмы возникают еще двое.
— Ходишь по нашей улице, да еще с дамой, — глумится он, — да еще с чемоданом!
Ох, как это похоже на уже пережитое им, только там — зона, а тут — воля. Но «звери» — те же.
Давно уже творя Иисусову молитву, батюшка видит, как грязная рука бандита тянется к требному чемоданчику со святынями, а остальные, опьяненные чувством собственной безнаказанности и беззащитности жертвы, окружают его в предвкушении добычи. В руках одного из бандитов батюшка замечает топор. Да, самый обыкновенный, жутко блеснувший наточенным смертельным лезвием топор. Видимо, не дрова колоть собрались эти выродки, и чьи-то жизни, возможно, должны были оборваться, не попадись им навстречу отец Григорий.
Как молния в голове отца Григория возникает образ святителя Николая — угодника Божия, перед иконой которого он молился сегодня на праздничной всенощной. Его живое молитвенное обращение прямо летит в открытые небеса:
— Святителю отче Николае! Защити!
И… что это? Где эта наглая рука, готовая уже вырвать у батюшки требный чемоданчик?
Батюшка видит, как топор, описав смертельную кривую в воздухе, улетает далеко в сугроб. Он видит спины толкающих друг друга, удирающих бандитов, какие-то их странные дергания, слышит вопли и визги боли, словно они получают невидимые и сокрушительные удары…
Еще миг — и никого нет. Бешено колотится сердце, не унять. Ноги стали как ватные, и холодный пот струйкой стекает по спине, хотя на улице лютый мороз. Осеняя себя крестным знамением, отец Григорий оборачивается посмотреть, где же его спутница, и… прямо перед собой видит старца. Что-то необычное в нем вновь бросает батюшку в трепет, но трепет благоговейный. Метель совершенно запуржила одежду старца и его головной убор. Но отец Григорий ясно видит светлое, почти светящееся лицо его и глаза, глянувшие на него мудростью веков и глубиной святости. Утихшая было дрожь вновь прошла по всему телу. Старец негромко произнес (или это прозвучало в голове отца Григория?):
— Поторопись! Иди и ничего не бойся! Бог поругаем не бывает! Больше тебя никто не тронет.
В этот момент снежный порыв ветра заставляет остолбеневшего батюшку на мгновение прикрыть глаза, и когда он открывает их, то никого рядом уже нет. Нет и сомнений. И вновь сквозь сердце полились слова молитвы: «Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое» (Пс.90).
Отец Григорий, упав на колени и не замечая ни стужи, ни яростных порывов ветра, возблагодарил Господа, скоро приходящего на помощь и посылающего её в лице Своих святых. Помощь, приходящую по молитве… Нет — по истовой сердечной мольбе, ясной и острой, как крик. И по вере в то, что она придет незамедлительно.
Сердце еще продолжало отбивать сильные удары — сердце, принявшее сначала человеческий страх и смертельный испуг, а затем целую гамму чувств: благоговейное волнение, трепетную любовь и благодарность к Спасителю… И удивление. Почти детское удивление: за что ему, грешному, дается такое крепкое утверждение в вере и непоколебимая решимость нести до конца свой пастырский долг во Имя Твое, Господи!
Спутница батюшки, от страха впавшая почти в кому, лежала в одном из сугробов. Батюшка помог ей подняться, и она, придя в себя и озираясь по сторонам, спросила:
— Ты, что ли, их прогнал? Я думала, они тебя зарубили… Ну, думаю, а потом и меня прикончат.
К умирающему отец Григорий все же успел. Он принял исповедь и причастил отходящего ко Господу. Все это батюшка совершал с обостренным чувством особой близости Господа нашего Иисуса Христа и великого чудотворца, «страшного наказателя обидящих» — святителя Николая.
На улице ревела та же метель. Снег и ветер сбивали с ног, а батюшка шел и «ничего не боялся», как и было ему сказано, тем более что идти ему надо было почти всю ночь — транспорт уже не ходил.
Утром в храме его ждали уже на праздничную Божественную Литургию. Литургию в день Николы «зимнего». Все это придавало ему силы идти как воину Христову и ничего земного не бояться. Идти со своей верной спутницей матушкой Ниной, чтобы до конца жизни бороться вместе с ней за Православную веру и, если Богу угодно, вместе дойти до светлого Царства Христова.
* * *
Псалом 90-й «Живый в помощи вышняго» отец Григорий и матушка Нина почитали особенно и свято верили в его сверхохраняющую силу. В духовном архиве батюшки, во многих его тетрадках и самодельных книжках оказались вложенными отдельные листочки с переписанным на них текстом псалма. Это были своеобразные «Живые помощи…», которые отец Григорий и матушка переписывали неоднократно и раскладывали по разным местам в своем небольшом смолинском доме. Они верили и знали о заступничестве Вышнего в случае любой внезапной опасности. Матушка Нина постоянно носила такой листочек, сложенный в несколько раз, в кармане своей кофточки, и не раз 90-й псалом помогал ей в той или иной неприятной житейской ситуации.
В свой архив батюшка перепечатал несколько примеров чудесной помощи 90-го псалма из книги Евгения Поселянина «Идеалы христианской жизни».
Вот эти примеры.
«Есть молитва, которая имеет особую, сверхъестественную охраняющую силу. Во многих русских семьях, особенно среди военных, распространен обычай носить на шее с образами ладанку, в которой зашита бумажка с написанным на ней псалмом: “Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небесного водворится”.
По многократному опыту многих людей, этот псалом имеет спасающую мистическую силу.
Я знал старика-отца, который и сам носил на шее такую ладанку, и надел ее на своего мальчика-сына. Его сын подвергался великим опасностям. Когда он служил гвардейским офицером и однажды спал на земле, во время маневров ногу ему переехала повозка. Он был посылаем во время голода в тифозную местность, а во время японской войны был уполномоченным от одного из отрядов Красного Креста и вынес сильнейший тиф, но всюду уцелел.
Самыми великими обетованиями спасения и охраны звучит этот псалом: “Падет от страны твоея тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится… Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Яко ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою… Яко на Мя упова, и избавлю и, покрыю и: яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его и прославлю его. Долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое”.
Вот какими обетованиями ободряет дух Божий человека, живущего “в помощи Вышняго”.
Дух Божий обещает этому человеку благоденствие земное, избавление от всех бед, тайных и явных, уцеление на войне, спасение от всех тех неисчислимых опасностей, которые повсюду грозят человеку. Дух Божий обещает, что такой человек в минуту опасности будет взят на руки ангелами: “Да не когда преткнеши о камень ногу свою”.
В Петербурге, в женском Новодевичьем монастыре, есть так называемая Карамзинская церковь, которая воздвигнута над молодым полковником Андреем Николаевичем Карамзиным его богатой вдовой Авророй Карловной, по первому мужу Демидовой, княгиней Сан-Донато. Карамзин был сыном знаменитого российского историографа. Когда он отправился в Севастопольский поход, сестры ему зашили в мундир псалом “Живый в помощи Вышняго”, и во всех сражениях он оставался невредимым. Но перед одним из сражений он поленился переодеть мундир, в котором был зашит псалом, и отправился в том мундире, в каком был. И в начале боя был убит наповал.
Есть другой рассказ о таинственной охраняющей силе этого псалма. Молодой офицер Дегай, умерший в преклонных летах в больших чинах и в должности почетного опекуна, занимал молодым человеком должность полкового казначея. В лагерь он привез из города жалованье, которое должен был на другой день, двадцатого числа, раздать по полку.
В ночь на двадцатое число он, проснувшись среди ночи, увидел стоящего над собой с выражением ужаса в глазах денщика; у постели валялся топор. Схваченный денщик рассказал, что он хотел изрубить барина, похитить его деньги и бежать. Три раза замахивался он на него топором, но всякий раз ему представлялось, что офицер лежит на постели, разрубленный пополам. Жизнь Дегая таким образом была спасена. Он всякий вечер, ложась спать, имел добрый обычай читать псалом “Живый в помощи Вышняго”. В тот же вечер, будучи сильно утомленным, он прочел псалом до половины и уснул…».
«Коленька нашелся…»
На дворе стоял май. Батюшка, который просыпался очень рано и занимался утренними хозяйственными делами, обратил внимание на понуро стоявших у окон его дома еще нестарых мужчину и женщину. Они не стучали, не звонили, а как-то неуверенно перетаптывались у палисадника. Простые, скромно одетые, с какими-то вещами, они привлекли внимание батюшки своим совершенно потерянным видом. Он просто ощутил, что эта пара несет на себе какое-то горе, пригнувшее их к земле.
Они так и не позвонили, и не постучали. Батюшка пошел и открыл им ворота — он чувствовал, что большая беда привела этих людей. При виде отца Григория они, словно не веря глазам своим, бросились к нему. Получив благословение и приглашение войти в дом, женщина начала плакать навзрыд, мужчина тоже едва сдерживал рыдание.
Усаживая своих ранних гостей, отец Григорий поставил чайник, понимая уже, что они, очевидно, с поезда. По их замученным и усталым лицам было видно, что они проделали немалый путь. Первые слова, о том, откуда они приехали, были просто ошеломляющи:
— Мы, батюшка, из Нефтеюганска. Нас Мария прислала. Сказала, что Вы ее хорошо знаете, — говорили они с удивительной простотой и наивностью, даже не представляя, какое количество людей ежедневно проходит у отца Григория на исповеди и что запомнить женщину, которая месяц назад была у него в храме, конечно, трудно.
Но вот эта самая Мария из Нефтеюганска направила своих знакомых к поразившему чем-то ее батюшке Григорию из Кургана. Она так и сказала им:
— Езжайте к отцу Григорию из Кургана. Живет он в Смолино.
Это были все координаты, ориентируясь на которые, несчастные двинулись в такой далекий путь. Но они добрались и поведали батюшке о своей беде.
Оказалось, что у них пропал единственный пятилетний сын — Коленька. Пропал буквально в какие-то минуты, играя около своего дома. Испуганные родители обежали всех знакомых, заявили в милицию — но ребенок как в воду канул. И никто нигде даже похожего на пропавшего ребенка не припоминал. Потянулись дни и ночи — чередование надежды и безысходности. Еще молодые, родители буквально за неделю превратились в согбенных стариков. Как жизнь свела их с Марией, побывавшей у батюшки, трудно сказать, но какой надо было обладать уверенностью в том, что священник из Смолино поможет, чтобы посылать к нему людей из далекого северного города, откуда можно было вылететь только на самолете! Поверив ей, несчастные приехали к отцу Григорию за помощью…
Матушка Нина плакала, принимая ранних гостей, устраивая их отдохнуть и не смея обнадежить даже словом. Пока они отдыхали, батюшка молился. Молился долго, до изнеможения. Он клал земные поклоны, устремляя свои глаза, так много видевшие человеческого горя, на Нерукотворный Образ Иисуса Христа, висевший в переднем углу их смолинского дома. Позднее он сказал своим гостям:
— На все воля Господня. Без Его воли ничего не происходит, а тут такое несчастье! Надо молиться и просить Бога вернуть вам сына, но не забывайте всей душой своей сказать, что вы во всем полагаетесь на Господа. Пусть будет по воле Его. Сегодня отдохните, а завтра пойдите в храм, исповедуйтесь и причаститесь оба. Господь видит ваше горе. Его промыслы неисповедимы. Возможно, Он хочет, чтобы вы осознали свои грехи и что-то исправили в жизни. Подумайте. Может быть, когда-нибудь вам и откроется, почему это произошло, но только не озлобляйтесь. Господь всегда все устраивает к лучшему. Молитесь оба. Я тоже буду молиться.
И батюшка молился. Молился вечером, ночью и на Литургии. После причастия он предложил им отслужить молебен Пресвятой Богородице «Скоропослушница». Днем гости вернулись раньше, позднее пришел батюшка. Он выглядел утомленным, но лицо его было светлым, а голос радостным. Он сказал:
— Мы все просили Господа, взывая к Нему о помощи. Сегодня вы можете ехать домой, но продолжайте молиться. Я думаю, что мальчик ваш жив и найдется.
Какая-то глубокая, сильная вера и убежденность прозвучали в голосе батюшки. И эти сгорбленные, сдавленные тяжестью горя люди вдруг распрямились. Они нерешительно, несмело заулыбались, благодаря батюшку и матушку, и, ободренные, уехали. Через неделю в Курган на имя Пономарева Григория Александровича пришла телеграмма из Нефтеюганска: «Коленька нашелся. Жив, здоров. Просим разрешения приехать, поблагодарить всей семьей».
Семья вместе с найденным Коленькой прилетала на одни сутки к батюшке и матушке. Они рассказали, что ребенка похитил какой-то нищий, чтобы вместе с ним просить подаяние во время скитаний. Никакого физического вреда мальчику не нанесли. Задержали их на тюменском вокзале, а так как мальчик был объявлен в розыск, это ускорило развязку событий.
Ни одна пламенная молитва ко Господу не остается не услышанной Им, а когда к покаянной молитве родителей присоединяется молитва пастыря, Господь не оставит ее без ответа.
«Услышал Господь моление мое…» (Пс.6)
Чем большее время отдаляет меня ото дня ухода моих дорогих родителей, тем глубже, проникновенней становятся образы близких и любимых мною людей. Отлетает бытовая шелуха, а события их жизни обретают свою подлинную ценность. О некоторых из них я узнала уже после кончины отца Григория и матушки Нины из рассказов духовных чад батюшки.
Живая, трепетная нить, связующая нас с Господом, иногда ясно обозначается, показывая, что Он слышит мольбы верующих в Него и мгновенно откликается, подавая им скорую помощь.
Письмо. Письмо, пришедшее ко мне через два с половиной года, как нет с нами отца Григория и матушки Нины. Читая его строки, убеждаешься, что слово, живой пример, рассказанный в нужное время, бывает лучше любого лекарства.
Эпизод из жизни отца Григория. Небольшой, но страшный фрагмент, дающий утвердиться другим людям во всепобеждающей силе молитвы…
Темным ноябрьским вечером 1999-го года прихожане Свято-Духовского храма после вечернего богослужения собрались на автобусной остановке в ожидании рейсового автобуса. Автобус задерживался. Жгучий ветер, набирающий скорость в притобольских степях, налетал и пронизывал до дрожи, холод от стылой земли растекался по всему телу. Люди замерзали, невольно теснясь друг к другу. И вдруг раздался голос: «А вы знаете, как отец Григорий, спасая свою жизнь, шел всю ночь по зимнему лесу, стараясь успеть к праздничной Литургии?..».
Этими словами Анна Михайловна Новикова, прихожанка Свято-Духовского храма в Смолино, начала рассказ об известном ей случае из жизни отца Григория.
«Где-то в 70-х годах, когда батюшка был единственным на весь приход священником, в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы ударили первые морозы. Земля, рано застывшая, покрылась снегом, и погода более напоминала зиму, чем осень.
После всенощной за батюшкой на машине приехали какие-то люди и попросили его поехать с ними, чтобы исповедовать и причастить больного где-то недалеко от Кургана. Отец Григорий собрался и уехал на требу. Напрасно матушка Нина ждала его весь вечер и всю ночь. Не смыкая глаз и не успевая вытирать слезы, она простояла все это время перед образом “Нерукотворного Спаса”, вознося свои молитвы ко Господу о благополучном возвращении батюшки.
Утром, придя в церковь, она увидела общее беспокойство верующих, связанное с отсутствием отца Григория, так как обычно он приходил в храм задолго до начала Литургии. Ничего утешительного сказать прихожанам она не могла. Стараясь не плакать, рассказала, что вечером на машине (что было в то время редкостью) его увезли к больному куда-то под Курган. Всем миром стали читать молитвы “Во время бедствия и при нападении врагов” и акафист святителю Николаю.
Через короткое время в храме появился отец Григорий. Он был совершенно закоченевший, едва шевелил губами и даже не мог расцепить пальцев на ручке требного чемоданчика — они словно примерзли. Одет он был легко, так как его увезли на машине, пообещав привезти обратно. Оказывается, это был ложный вызов. Треба явилась предлогом, чтобы вывезти отца Григория подальше за город. Это были злоумышленники. Вполне возможно, что замышлялось большее, но у батюшки были Святые Дары, поэтому он был под особой защитой… Что и как случилось в подробностях, батюшка никогда не рассказывал. Известно только, что далеко за Курганом он был выброшен из машины в лесу и оставлен на морозе за много километров от жилья.
Весь вечер и ночь старый священник, молясь Господу и благодаря за то, что ему не причинили физического вреда, крепко сжимая требный чемоданчик, шел и шел по безлюдному лесу. Когда он добрался до окраин Кургана, уже начиналось утро. Творя непрерывно Иисусову молитву, он так и дошагал до Смолино.
От сильного переохлаждения, физического переутомления и нервного напряжения служить Литургию он не смог. Но все верующие, сам отец Григорий и матушка Нина соборно возблагодарили Господа за спасение. Молились и о здоровье батюшки».
Анна Михайловна закончила свое повествование. Так стал известен этот случай. Но ни батюшка, ни матушка Нина никогда не рассказывали об этом скорбном происшествии. Всегда верно служа Господу, твердо надеясь на Его неизреченную помощь, они старались и во всех окружающих зародить неугасимую искру веры в Его милость.
Из воспоминаний духовных чад отца Григория
— Отец Григорий! Благословите меня в дорогу. К дочери в Москву собралась.
— А Вы бы подождали несколько дней, не ездили…
— Батюшка, да я уж и билет купила!
— Но билет можно и сдать…
— ???
Скромные вещи уже уложены в дорожную сумку, куплен билет на пассажирский поезд «Хабаровск-Москва», но … нет благословения батюшки. Как же решиться в столь дальний путь без благословения?
Сдала билет, а в день, запланированный для отъезда, узнала, что на железной дороге серьезное крушение, есть погибшие, много раненых. Это оказался тот самый поезд, на который и был куплен билет, но по совету отца Григория сдан в железнодорожную кассу…
* * *
Опухолевидное пигментное образование, что было у меня на левом виске вот уже более пяти лет и на которое я ранее не обращала внимания, в 1992 году стало болеть и периодически кровоточить. Стали беспокоить головные боли. Понимала, что нужна незамедлительная консультация врача-онколога. Перед тем, как обратиться в онкологический диспансер, решила причаститься.
В то памятное для меня утро исповедь принимал протоиерей Григорий Пономарев. Я и раньше исповедовалась и причащалась, но на исповеди у отца Григория была впервые. Некоторые мои грехи он назвал сам — как будто высветил мою душу…
— Кайся в этих грехах!
Дома после причастия у меня появилось сильное жжение в голове и груди. Палило внутри — как огнем. Дня через четыре после причастия, к моему удивлению и большой радости, пигментное пятно на виске присохло и готово было отпасть. А еще через три дня от опухоли не осталось и следа.
Святое Причастие по молитвам отца Григория, исцелило меня. Это было мое первое обращение к батюшке и первая его молитвенная помощь мне. Позднее я узнала, что накануне Литургии, готовясь к службе и таинству исповеди, отец Григорий подолгу молился дома. Вставал на молитвы по ночам.
В храме батюшка часами стоял на своих больных старческих ногах около аналоя со Святым Евангелием и Крестом, выслушивая всех исповедников, неторопливо давал духовные наставления и всякий раз записывал имена страждущих. После таинства шел в алтарь и молился за всех, кого исповедовал, умилостивляя Господа о их прощении. Молитвы его каким-то особенным образом чувствовались, это я поняла при первом же к нему обращении. И снова и снова прибегала к молитвенной помощи отца Григория. И получала ее.
* * *
Это было давно. Много лет прошло с тех пор. Разные события, одно за другим, чередой проходили через мою жизнь. Но то давнее воспоминание до сих пор не стерлось из памяти.
В храме села Житниково для крещения младенцев собрались молодые родители и крестные. Родители раздевали малышей, готовя их для таинства. Всеобщее внимание привлек золотушный ребенок, головка которого вся была покрыта коростами. «Золотуха» не заразна для окружающих, но в толпе поднялся ропот, чтобы этого младенца не крестили в общей купели.
Ждали батюшку. Когда он появился, все обратились к нему с просьбой разрешить конфликт. Отец Григорий посмотрел на заплаканную маму, на младенца и, положив руку на головку ребенка, перекрестил его, а матери сказал: «Не огорчайтесь! Я покрещу вашего малыша отдельно». Окончив таинство крещения основной группы крещаемых, батюшка стал крестить золотушного ребенка. Одного. После крещения вновь погладил его по головке и сказал матери: «Господь милостив. Идите с Богом» Дома мать сняла чепчик, одетый малышу после крещения, и увидела, что на шапочке остались все золотушные коросты, а головка ее ребенка была совершенно чистой и здоровой.
Потрясенная женщина на следующий же день пришла сообщить об этом в храм, заказала Господу нашему Иисусу Христу благодарственный молебен за исцеление, благодарила батюшку.
Случай этот поразил тогда всех окружающих и надолго остался в памяти. Милостивый Господь по вере матери и по горячей молитве отца Григория в таинстве крещения дал чудесное исцеление больному ребенку, укрепляя в людях веру в то, что всякое благое прошение скоро будет Им услышано.
* * *
Это было в марте 1997 года. Шел Великий пост. Срок моей беременности был небольшой, четыре месяца, но уже недели две, как возникла угроза выкидыша. В больницу идти я боялась, так как знала, что меня положат на сохранение, а двоих других детей (Дарью, девяти лет, и Антона, тринадцати лет) я оставить не могла. Но у меня самой — медицинское образование, и я прекрасно знала, чем это могло закончиться, поэтому все же я пошла в больницу, где мне сказали немедленно ложиться, и, возможно, на долгий срок. Это было как приговор! Я стала метаться между нерожденным ребенком и двумя другими.
Моя подруга, Людмила (она тоже духовная дочь отца Григория), видя мои муки, говорила: «Мариша, поезжай к батюшке, расскажи ему все, он тебе что-нибудь посоветует». И я поехала. Было еще холодновато, и я была в шубе, а из-за шубы не видно было моего «положения». Выхожу из автобуса. У батюшки раскрыты ворота, а там дрова. Да, пожалуй, не дрова, а палки всякой длины и ширины, и… батюшка сам их носит и складывает. Я ведь приехала всего лишь рассказать ему о своем горе и попросить благословения лечь в больницу. А тут батюшка в таких трудах! Он молча, сосредоточенно трудился. И как же я смогла бы просить его благословения? А потом что? Уехать? Нет. Я подошла, поклонилась ему, он меня благословил, и я спросила:
— Можно я вам помогу, батюшка?
Отец Григорий спокойно ответил:
— Хорошо, помоги.
И мы, два немощных: батюшка по возрасту и здоровью, а я — по своему положению, носили эти дрова-палки около часа. Но как мне было радостно быть рядом с отцом Григорием! Мне всегда было радостно с ним и с матушкой, и радостно было у них бывать в доме. Растворяешься в этой гармонии двух людей и уже ничего своего — плохого, тяжелого, горького — не помнишь. Просто не хочешь помнить!..
Проехал мимо дома рейсовый автобус.
— Бог в помощь, деда! — кричит кондукторша.
— Спаси, Господи, — кивает ей отец Григорий.
Так вот, перетаскав всю кучу, мы пошли в дом. Там я сняла шубу. Матушка Нина вышла нам навстречу и, как всегда, улыбается. Я попросила попить. Матушка стала меня благодарить за помощь. Я села на стул и стала ждать батюшку, так как он ушел в комнату. Выходит, подает мне две написанные его рукой молитвы: утреннюю и вечернюю. Садится напротив меня за стол, и я рассказываю батюшке, вернее, говорю, что мне надо лечь в больницу, так как положение мое плохое, и что детей с отцом оставить тоже не могу. Он слушал, что-то, помнится, спрашивал, а потом сказал:
— Ну, теперь помолимся, Маринушка.
Батюшка молился, как всегда, Ангелу-хранителю. А немного позднее я стала собираться в обратный путь. Отец Григорий записал имена моих детей, благословил меня, как всегда, четким крестом, а затем проводил меня до ворот. Я уехала уставшая, но необыкновенно радостная и успокоенная.
Выйдя из автобуса, я пошла к Людмиле и все ей рассказала.
— Да ты что, разве можно было тебе в твоем положении носить тяжести! Почему не сказала батюшке?!
А как же я могла его оставить при такой работе, ведь ему одному все это перетаскать было бы не под силу, и он (а может, большей частью даже матушка Нина, так как они всегда друг о друге глубоко переживали), очевидно, молился, чтобы Господь послал ему помощника. Ну что поделаешь, если этот выбор пал на меня? Конечно же, батюшка не разрешил бы мне носить эти палки, если бы узнал, но мне так сильно хотелось ему помочь, что я смолчала.
На следующее утро я поступила в больницу.
Тяжело мне было уходить от детей! В больнице меня отругали, ведь у меня было кровотечение, а это — угроза для плода. Сделали ультразвук и… «обрадовали», что мне, возможно, всю беременность до родов придется лежать. Этого вынести я не могла! Я стала молиться по тем батюшкиным молитвам, которые он дал мне, когда мы сносили все дрова, да еще прибавила молитву о даровании терпения. И врачам было очень удивительно, что через две недели у меня все прошло, а при ультразвуковом обследовании обнаружилось, что причина кровотечения устранилась.
Конечно, был проведен курс лечения и витамины сделали свое дело. Но самым главным было благословение отца Григория!..
У моей соседки по палате была та же самая угроза, что и у меня, но она пролежала в больнице до самых родов. Мы позднее встречались с ней; ребеночек у нее родился с церебральным параличом, и сейчас он в таком же состоянии.
В больнице я пробыла полтора месяца и больше не ложилась до самого срока. На второй день Пасхи я привезла батюшке и матушке Нине крашеные освященные яйца. Мне так хотелось их отблагодарить! Вышла Ольга Григорьевна, его дочка; она извинилась, сказав, что батюшка болеет и выйти не может. Поблагодарила за гостинцы, и я уехала.
Серафима родилась к моим именинам и ко дню своего покровителя, преподобного Серафима Саровского. Ведь, когда я ходила в положении, в нашей церкви, по правую сторону находилась икона Серафима Саровского, и я всегда, тогда и сейчас, просила преподобного о детях. Эта икона мне всегда напоминала отца Григория: такой же маленький, седенький, с внимательным, сосредоточенным взглядом. И имя моей дочурки, Серафима, как раз и было выбрано в связи с этим, а на выбор этого имени я просила благословения у отца Григория. И на каждый день памяти батюшки и матушки я приезжаю, когда с Симой, когда одна, в Смолино, ведь они — наши благодетели и покровители моей семьи! Вечная им память!
Из архива протоиерея Григория Пономарева
Правильник
Это — небесная арфа… Чистые, светлые аккорды в нем заключены.
Утренние, вечерние молитвы. Каноны Иисусу Сладчайшему, Пресвятой Богородице, Ангелу-хранителю, Силам Небесным, Иоанну Крестителю, Честному Кресту, апостолам…
Покаянный канон и акафисты — два византийских акафиста тысячелетней музыки слова.
Молитвы ко причащению и по причащении…
Одна молитва принадлежит Василию Великому, другая — Макарию Египетскому, третья — Симеону огненному — Новому Богослову…
Глубина Премудрости и ведения, звук тихого, сокрушенного и ликующе-победного предстояния.
Полнота славы и исповедания.
Читаешь, перечитываешь, останавливаешься, созерцаешь, пьешь и опять упоеваешься словом и ведением: «Коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим…» (Пс.118).
Поистине, читаешь — и словно струны перебираешь и на струнах играешь скрытую в них мелодию, и ангелы в сердце тебе поют. Умолкнешь — и снова струны трогаешь, и ангелы песнь тебе поют. Закроешься от ангелов и сам запоешь.
ПРАВИЛЬНИК-арфу в руках держишь — даже не трогая струн, говоришь с Богом. И снова слышишь звучание каждой нетронутой струны. Безмолвно, углубленно слушаешь песнь, скрытую в сердце…
Некоторые говорят, что «сухо» им читать правильник — наш церковный правильник со старинными славянскими молитвами…
В нашем сердце сухо бывает, а не в правильнике. Выучиться надо чтению и пению молитвенному, проникнуть в эти «крюки» славянских слов и строк — и оживятся, и запоют, и задышат молитвенные страницы.
Неверно читают те, которые правильник читают словно книгу. Правильник — это не книга, это арфа и в ней живущие аккорды звуков и небесных мелодий. Не всякий прочтет ноты в земной симфонии, не всякий проникнет в глубину правильника.
Эта глубина — бездна многая, неисчерпаемый кладезь вечно новых переживаний.
Так нужно, чтобы человек, отходя от сна к своему дневному труду или возвращаясь к покою от своих дневных забот, брал в руки ПРАВИЛЬНИК и погружался в его мелодию…
Утренние молитвы… Вечерние…
От сладкого утреннего пения может на весь день в сердце остаться свет и направить все слова и поступки человека к свету.
Вечернее пение сердца, представшего после трудов дневных своему ТВОРЦУ, может снять всю пыль греха, осевшую на сердце за день, и уготовить человеку сон мира.
Придет время, когда день этот будет последним… И так нужно для человека, чтобы этот день был свят! А святым он будет лишь в том случае, если начнется с молитвы.
Иногда люди, как дети, трогают одну или другую страницу струн арфы-молитвенника, не производя никакой мелодии…
Труд нужен, терпение и стремление, вера и надежда. Без них не раскрыть мелодии, таящейся в струнах… И не только в минуты предстояний, но и в самой жизни.
«Каждую минуту хождения по земле!.. Непрестанной молитвой в душе подготавливайся к предстоянию твоего моления — и вскоре преуспеешь» (святой преподобный Иоанн Лествичник).
Ищи эту небесную мелодию в своих чувствах, мыслях, устремлениях в течение всего дня и ночью во сне, и преуспеешь: поймешь и прочтешь свои молитвы, когда встанешь пред ЛИЦОМ ВЛАДЫКИ.
Откроются очи твои для зрения сокровенности слов и отверзутся вместилища твои для слышания небесных тайн.
(Все выделенные слова сохранены как в оригинале — ред.).
«Гонимы, но не оставлены…»
Мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем.
Испытания и трудности для отца Григория и матушки Нины все росли, и возникали новые. Неожиданным стал перевод батюшки из Свято-Духовского храма, построенного, как говорится, собственными руками — храма, в котором батюшка со дня его основания был одновременно и настоятелем, и служащим, и требным священником. Он многие годы оставался единственным пастырем на весь Курган и близлежащие районы, и сам факт его перевода был никому не понятен и горек.
Ничего не выясняя, не интересуясь хотя бы аргументацией столь неожиданного указа о переводе, отец Григорий принял его как данность и, подчинившись, стал служить на других приходах Курганской области.
Усть-Миасс, Шадринск, Житниково, Куртамыш…
О тех временах вспоминает раба Божия Ксения — духовная дочь отца Григория:
«Стою я на службе в Смолино, в старой еще церкви, смотрю на иконостас и вдруг вижу (как видение), что на Богородичной иконе (на иконостасе) Матерь Божия как будто поворачивает Свою голову: налево — направо, налево — направо. Я за Ней повернула голову направо и увидела, что над полом храма (в том месте, где клирос) как бы на весу расстелено льняное серое полотно, а на этом полотне — много серых камешков… Это было накануне Прощеного Воскресенья. На следующий день отец Григорий после Литургии вышел на амвон и сказал, что его переводят на другой приход, и, заплакав, ушел в алтарь. Люди в храме заплакали навзрыд…
И еще было одно видение. Вижу во сне, как будто стою я перед отцом Григорием и говорю батюшке: “Вот в той деревне нет священника”. А он отвечает: “Вот я бы туда и пошел”, а через неделю выяснилось, что его переводят в приход села Усть-Миасс Каргапольского района.
Ездила к отцу Григорию на исповедь какая-то Александра из Рябково. Мы знали, что она отвозила в Свердловск кляузы на батюшку. И батюшка знал об этом, но не роптал на нее, а только все время говорил ей: “Тебе много надо молиться за это…”.
Через несколько лет после изгнания батюшки из Свято-Духовского храма я встретила эту женщину на улице: ее раздуло, как мячик, так что она не могла даже сесть в автобус… “За «добро»”, — подумала я тогда».
Гонения начинались мягко, почти незаметно. Это было особенно странно и больно потому, что исходили они от довольно близкого батюшке человека, многим ему обязанного. Если вдуматься, то предателями, как правило, становятся именно свои, а не чужие.
Отец Григорий отнесся ко всему с истинным смирением. Значит, по воле Божией он должен пострадать и в чем-то пересмотреть себя, внутреннего (что, впрочем, он делал постоянно, судя по дневнику). Господу виднее, когда и почему каждый человек должен понести определенные тяготы.
Он старался не вникать в возню за его спиной — продуманную возню человека, поставившего перед собой определенные цели, которые стали давать конкретные результаты. Как выяснилось уже много позднее, к Владыке Свердловскому и Курганскому (Курган относился тогда именно к этой епархии) стали поступать многочисленные анонимные жалобы на отца Григория. Этим во многом и объяснялись странные переводы пожилого уже священника с прихода на приход, а также — неожиданное для многих отстранение матушки Нины от многолетнего регентства в Свято-Духовском храме.
Смирение — главная сила христианина, а смирение священнослужителя, терпеливое снесение им незаслуженных кляузнических обвинений по анонимкам — это, конечно, его особая заслуга перед Господом. Но духовные дети отца Григория не могли с этим смириться.
Уже позднее, когда сменился правящий архиерей, после очередного перевода с прихода на приход духовная дочь отца Григория Александра Александровна Верченко, делегируемая курганцами, поехала на прием к Владыке в Свердловск. Она обратилась к нему с письмом, подписанным многочисленными духовными детьми батюшки — многолетними прихожанами Свято-Духовской церкви. В этом письме они просили разъяснить причины столь странных и беспорядочных переводов больного 70-летнего священника с прихода на приход.
— Где же Вы были раньше?! Почему только теперь решили защитить своего батюшку?!
Так сказал владыка Мелхиседек, архиепископ Свердловский и Курганский, показывая увесистую пачку пасквилей, пришедших в его адрес на отца Григория. Александра Александровна была потрясена. Ни она и никто другой из духовных детей отца Григория даже не могли предположить, что и в наше время могут твориться такие же подлые дела, как в новозаветной Иудее.
Кстати говоря, совсем недавно, а именно летом 2005 года, один из глубоких почитателей отца Григория, церковный человек, обратился в Екатеринбургскую епархию с просьбой ознакомиться со священническим делом протоиерея Григория Пономарева, которое осталось в Екатеринбурге после раздела в 1993 году Курганской и Шадринской епархии с Екатеринбургской. Но, как стало известно от официального лица Екатеринбургской епархии, священническое «Дело» митрофорного протоиерея Григория Александровича Пономарева оказалось сожжено…
ДЕЛО СОЖЖЕНО! Именно «Дело» отца Григория да еще нескольких священников.
Беспрецедентное происшествие!
Почему дело оказалось сожжено? Ведь это не является общепринятой практикой… Кто, интересно, так постарался? Кого так жгли анонимки, вложенные в «Дело» гонимого зауральского праведника? Или это случайность? Но что-то не верится в такие неслучайные «случайности», вопиющие нераскаянным грехом к Небу.
Ну, а в годы гонений «выдавливание» батюшки из Кургана шло планомерно и по всем направлениям. Через два года «по состоянию здоровья» вынуждена была уволиться из Свято-Духовской церкви Нина Сегеевна. Она так и написала Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Платону, архиепископу Свердловскому и Курганскому: «Считаю своим долгом доложить Вам, что я не могу продолжать штатную работу церковного регента». Дата написания — 15 апреля 1982 года.
Не могу продолжать… За этими словами, конечно, скрыта горькая правда…
Дочь репрессированного священника, матушка Нина, певшая в церковном хоре с детских лет, имела не одну благодарность за «молитвенное пение» хора, которым она руководила. Вот и тогда на ее заявлении об увольнении Владыка написал наискосок: «Выражаю благодарность за многолетнее служение церкви на посту регента. Желательно, чтобы послужили до того времени, пока найдут замену, чтобы не пострадало дело храма».
Конечно, замену именно такому пению найти было трудно, но ее нашли. Что ж? Нужно давать дорогу молодым, ведь состарились, небось, батюшка с матушкой и трудно им уже служить в таком возрасте в единственном для Кургана храме! Только в полуразрушенных приходах области им и место. Слава Богу, что верные духовные чада всегда рядом с батюшкой. С ними можно и новые приходы поднимать, и править Божественную Литургию. Кто же еще может так верно и так жертвенно служить Господу, как не отец Григорий с матушкой Ниной — дети из семей двух потомственных родов священнослужителей? Да и когда бы еще поднялись эти храмы, если бы промыслом Божиим не суждено было направить в них истинных служителей Христовых…
Следующий шаг после изгнания отца Григория из храма — распоряжение освободить церковный дом, в котором он и матушка Нина жили с момента их переезда в смолинский храм. Дом продали новому старосте.
Ну вот, казалось бы, все: ни отцу Григорию, ни матушке Нине в Кургане места нет. Жить теперь тоже негде. Выдавили!
И тут отец Григорий совершает неожиданный, не просчитанный «доброжелателями» шаг: он не просто не уезжает из Кургана, а буквально в двух шагах от своего бывшего жилища покупает дом-развалюху, состоящую из комнаты и кухни.
Рядом с избой находилась молодежная танцевальная площадка, их разделял один полусгнивший заборчик. Вечно гремящая по вечерам и ночами музыка из динамиков, хохот, брань, визг — все эти звуки, сопровождающие деревенскую дискотеку, нагло врывались в окна нового жилища священника. Но, по милости Божией и по молитвам отца Григория, года через два-три после переезда в «новый дом» дискотеку убрали и построили на этом месте дом для семьи пенсионеров, что было, конечно, великим благом.
Другого выхода, кроме как принять все перемены со смирением, у батюшки тогда не было. Переезжать на место нового назначения бессмысленно, так как в любой момент его снова могут перевести.
Отец Григорий, конечно, понимал, что Господь испытывает его веру, и воспринимал все происходящее как волю Божию. Да разве он не был уже гоним? Разве его семья — семья «врага народа» — не натерпелась в те годы страха? На все выпады против него лично и трудности он не реагировал. Более того, он жалел своих обидчиков и гонителей.
Переезжать в новое жилище отцу Григорию помогали духовные чада. Их недоумению и возмущению не было предела. Наконец перебрались. Как это тяжело! Книги, ноты, какие-то вещи, пианино, старая, полуразвалившаяся мебель… Но когда переезжаешь в лучшие условия, то переезд придает новые силы, а тут?!
Зима прошла очень трудно. Избу, продуваемую всеми ветрами, натопить было невозможно. Не было даже желания, чтобы устроиться получше после переезда. Не было и времени, ведь каждую неделю — поездки на новое место службы, долгие, утомительные…
Весной бывший староста Свято-Духовского храма Василий Александрович, которого отстранили от работы в одно время с отцом Григорием, насмотревшись на эту маяту и жалея батюшку, пришел к отцу Григорию и сказал:
— Надо, батюшка, как-то благоустраиваться на новом месте. Будем менять нижние бревна дома, все утеплять. Строить сени. Ну нельзя же так жить!
Подключив всех своих знакомых, сам имея золотые руки, он начал преображать избу. Тут и папа, вспомнив богатый северный опыт, подключился к строительным работам. Помогали все, кто мог и чем могли.
В том доме, что подлатали к осени, невозможно было узнать купленную ими лачугу. Поменяли сгнившие бревна, утеплили. Обшили дом снаружи. Большие работы провели внутри дома. Строили всем миром. Но самой большой радостью батюшки был пристрой — маленькая холодная комнатка, сколоченная из древесноволокнистых плит с засыпанной внутрь землей. В «холодной», как ее назвали, было окно, электропроводка, изнутри она была обшитая новенькими листами ДВП и набело покрашена — чистенькая, аккуратная, светлая. Батюшка искренне радовался, ведь теперь он мог устроить себе «рабочий кабинет» — оборудовать святой уголок, поставить в комнатку письменный стол с печатной машинкой, шкаф с книгами и молитвенно трудиться во славу Божию в тишине, о чем он так давно мечтал.
Несмотря на то, что отец Григорий уже не служил в Свято-Духовском храме, народ к нему шел нескончаемым потоком. Батюшка и матушка, если не были в поездке, не успевали принимать, провожать и вновь встречать посетителей, которым отец Григорий никогда не отказывал в общении. Как тут выбрать время для духовных трудов, зовущих к бумаге? Ритм жизни — как всегда: все сжато по минутам. Более того, размечено наперед — по часам, по минутам. Вот почему становятся особенно понятными его записи в дневнике о ценности времени, о значении каждого дня, часа и минуты.
Он трудился постоянно. Трудился дома, в поездках. Трудился в те дни, когда не было служб, и в те дни, когда между службами у него были свободными всего несколько часов. Приезжая на новый приход и понимая, что это временный переезд, тем не менее он не мог не включиться в благоустройство вверенного ему храма. Это дом Божий, и этим все сказано; в нем должны быть чистота, уют и порядок — не важно, кто тут сегодня настоятель и на какое время. И на новом месте к нему тоже идут люди — каждый со своей бедой и заботой. Идут за советом, молитвой. Это овцы вверенного ему словесного стада, и он должен помогать их духовному росту именно сейчас и именно здесь. А на то, чтобы обдумать и реализовать творческие мысли, есть и ночь, и раннее утро…
Иногда он трудился даже в автобусе, кое-как примостив на коленях тетрадку. Переезд на приход занимает два-три часа, зачем же терять так много «золотого» времени? Так, в архиве батюшки, например, сохранились несколько тетрадей с переписанной в них работой архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) «Дух, душа, тело». Отец Григорий несколько раз перепечатывал эту книгу на своей машинке дома, но тем не менее снова переписал ее, теперь вручную, удерживая школьную тетрадку в клеточку на своих коленях по дороге в один из сельских приходов. Даже подписал в тетрадке: «Писано по дороге…».
Ну, а уж дома, в Смолино… трудно сказать, когда он спал. В 12 часов ночи он был еще на молитве, а в 5 утра — уже на молитве в своей любимой холодной комнатке. Батюшка вставал до 5 утра и первым делом растапливал в доме печь, заботясь, чтобы до того, как проснется Нинонька, в комнате было тепло. Постоянное внимание и заботу о матушке отец Григорий пронес через всю жизнь. Он словно стремился компенсировать ей свое шестнадцатилетнее отсутствие и те тяготы, которые упали на ее хрупкие плечи. Более любимого и дорогого, чем матушка Нина, у него не было человека.
Утренние часы, еще ранние для посетителей, были бесценны. Истина — плод тишины. Именно в холодной комнатке, вероятно, были написаны одни из самых глубоких и серьезных работ отца Григория — богословские труды по апологетике.
Надев на ноги валенки и накинув на подрясник зимнее пальто или куртку, он уходил в свой мир, скрытый от человеческого взора, плотно закрыв за собой дверь. Беспокоить его в это время было нежелательно — только по великой необходимости.
Как была построена его творческая работа, трудно сказать. Но по обгоревшим свечам, по раскрытым богослужебным книгам было понятно, что работа и молитва у него чередовались или плавно перетекали одна в другую. Вот откуда такая глубина мыслей в его трудах. Он постоянно пребывал в Боге. Он и в мыслях ни на минуту не разлучался с Ним.
Какая намоленная, бесценная была для него эта маленькая холодная комнатка! Как храм!
Добавим еще несколько штрихов к описанию быта и милых привычек батюшки и матушки.
Отец Григорий очень любил оформлять подарки для родных или друзей — красиво, нарядно завернуть, подписать праздничную открытку. И вообще он любил… канцелярские принадлежности: ручки, блокнотики, фломастеры, разные держатели, скрепки, какие-то папки для бумаг, тетради.
Когда батюшка готовил кому-то подарок, то обычно печатал на отдельных листах выдержки из наставлений святых отцов или духовные рассказы. Он очень любил живые цветы, но при оформлении тетрадок ему почему-то нравилось вырезать из поздравительных открыток картинки с цветами и наклеивать их на обложках сшитых книжек. Ему казалось, что это достойное украшение его трудов. «Лилии полевые» он украшал лилиями бумажными.
Эту часть подарка он называл «духовная крупица» или «духовная пища». Вторая часть подарка была материальной. В нее входили или комплект постельного белья, или ткань, или что-то из одежды (кому что нужнее). Матушка, когда у нее здоровье было получше, всегда ходила и покупала такие подарки по поручению батюшки. Вечерком они собирались и вместе составляли общий подарок, укладывая все так, чтобы было красиво! К этому процессу они подходили творчески.
«Духовные крупицы» — печатные листы — нужно было сначала сшить. Кто-то сделал им маленький переплетный станок — так матушка научилась переплетать. Но иногда батюшка просто сшивал листы руками. Рядом с печатной машинкой у него всегда лежали толстые нитки типа ириса (почему-то желтые), толстая игла и шило. И вот, напечатав новую книжку, он начинал красиво сшивать. Что-то было в этом такое удивительно милое, немножко детское…
Не всегда в Кургане можно было купить новую ленту для пишущей машинки, а у него она быстро расходовалась при такой интенсивной работе. И вот надо печатать, а ленты нет. Старые — совсем бледные, уже не видно ничего, когда печатаешь. Отец Григорий начинает изобретать: берется сажа с внутренней стороны печной дверки, растительное масло. Сажа разводится, растирается на основе масла в специальную пасту. Но самая грязная часть работы впереди. Старую ленту надо пропитать пастой, покрыть ею всю рабочую поверхность, а затем вывесить просыхать. Руки после этого — трудно описать! Батюшка моет, моет их, но под ногтями паста так сильно застряла, что ничем невозможно вычистить.
— Папа, опять у тебя полоска сажи под ногтями, люди подумают, что ты такой неряха.
— Ну что я сделаю, Леленька! Уж я и щеткой, а она все равно…
Как ребенок!
Самое интересное, что если ему удавалось правильно подобрать пропорцию сажи и масла, то потом такими самодельными лентами можно было еще долго работать. Правда, печатные странички немного пачкали друг друга, но самое главное, что можно было работать дальше. Такая неприхотливость, видимо, выработалась у него в условиях северной жизни, где он привык ко многим лишениям — всегда надо было что-то придумывать и изобретать самому.
Описывая быт и трогательное, романтическое отношение отца Григория к матушке Нине, надо отметить, что в жизни отец Григорий был реалистом, прошедшим суровую жизненную школу. Если, к примеру, сегодня привезли дрова, то их надо немедленно напилить и наколоть. Подходит осень или весна — надо вскопать и засадить огород, а потом собрать урожай — в основном картошку. Конечно, духовные чада батюшки и просто православные люди, любившие их с матушкой, стремились облегчить этот труд. Но порой не успевали! Придут, а отец Григорий уже вскопал (весной), окучил (летом) и выкопал (осенью).
Когда он успел?
Вспоминает иеромонах Симон (Глущенко):
«Один раз я и родственник отца Григория Александр Шумаков чистили у батюшки колодец. Вытащили из него большую кучу мокрого песка и глины. Кто чистил колодцы, знает, какая это тяжелая, мокрая масса.
Через два дня я пришел к батюшке и не обнаружил этой большой кучи земли. На мой недоуменный вопрос батюшка ответил, что с Божией помощью он все вывез на тележке. Куда вывез он этот грунт, так и осталось загадкой. Ни в огороде, ни вблизи дома глины не было.
Как-то батюшке привезли машину угля и высыпали около ворот, пообещав на следующий день перетаскать уголь во двор. Когда же вечером я привез батюшке воду, то застал его за работой. Не сразу батюшка согласился на предложение помочь ему, но потом благословил меня. Я взял его тележку, а он стал грузить в нее уголь, и делал это так быстро, что я сильно запыхался, перевозя уголь во двор. Меня поразила его сноровка, а ведь ему было уже за 80 лет. Тут проявилась, видимо, суровая школа северных лагерей».
Он все успевал. Занимался текущим ремонтом дома — то покрасит что-то, то подправит. Конечно, в каком-то большом и серьезном деле ему помогали люди. Сколько сил на новый смолинский дом положил Николай Сергеевич Костин — главный строительный консультант отца Григория и его помощник (после ухода из жизни бывшего старосты храма Василия Александровича)!
При всей невероятной занятости и бесконечных делах батюшка оставался очень жизнерадостным человеком, любил пошутить. Конечно, пошутить он мог, когда дома были только свои. Мария Константиновна и Александра Ивановна (духовные чада батюшки, приезжавшие к нему из Нижнего Тагила) входили в число «своих», и их он иногда даже вовлекал в свои безобидные розыгрыши.
…За чаем идет мирная беседа обо всем. Вдруг глаза у батюшки становятся такие сияющие, веселые. Лицо серьезное, а глаза смеются. В усах тоже где-то прячется улыбка. Ясно. Батюшка что-то затевает. Так, по мелочи.
— Ниночка! Что-то я не пойму, у нас какие-то пятна на шторе…
Или:
— Нинонька! Там кто-то у наших ворот стоит…
Импровизирует, говорит первое, что пришло в голову.
Матушка отрывается от своей чашки чая и поворачивается к окну… Смотрит. Никого нет.
Поворачивается к столу — перед ней лежит первый, может быть, в этом году молоденький помидор, которым его угостили в церкви, или оригинальная вафелька, или конфетка. А то прямо в чашке с чаем оказывается маленький сухарик или кусочек каралечки со стола.
Батюшка сидит с мечтательно-отсутствующим выражением. Глаза смеются.
— Ох, Гришенька, Гришенька! Опять ты меня разыгрываешь!
Милые мои родители! И шутки-то у них какие добрые и безобидные!
Отсутствие воды около дома было большим неудобством. Конечно, и тут люди не оставляли батюшку. Постоянно носили воду. Но что такое два ведра воды в доме, пусть даже у пожилых людей? Это постоянное ограничение в хозяйственных делах, а уж полить что-то в огороде — просто невозможно. И вот через несколько лет после переезда отца Григория и матушки Нины в купленный ими домик батюшка решил, что надо выкопать колодец на огородном участке. Начал обстоятельно, по-шахтерски, но без привлечения какой-либо техники, рыть колодец.
Вот где начались мамины страдания! А вдруг он надсадится, копая и перетаскивая такие объемы земли! Вдруг на него сорвется земляной пласт или прорвется вода, а он не успеет выбраться наверх! И еще тысячи всяких ужасных «вдруг» пугали ее любящее сердце.
Неизвестно, почему они не обратились в соответствующие организации… Наверное, сказалось «северное воспитание» на кирке и лопате… Но факт остается фактом — батюшка, посоветовавшись с кем-то знающим и помолясь, выбрал место под колодец и обстоятельно и планомерно, день за днем стал выкапывать определенное количество грунта, все более углубляясь вниз. Скорее всего, у него был свой внутренний план, а именно график количества вынутых кубов земли за день.
Все, кто ни появлялся у них, стремились вложить хоть какую-то часть своих сил в этот огромный труд. Землю отец Григорий нагребал в какую-то емкость, потом ее на веревке вытягивали наверх и уносили, частично на чердак дома, так как дом со стороны крыши тоже требовал утепления.
Труд был тяжелейший. Отец Григорий вылезал из углубляющейся ямы совершенно взмокший: и тяжело, и тесно, и душно, да и силы теперь не те, что были…
Углубился он уже довольно далеко, но до водоносного слоя никак добраться не мог. Наконец после долгих трудов и на достаточно большой глубине показалась вода и начала заполнять колодец. Но, очевидно, до настоящей водяной жилы он так и не добрался, уступив матушкинам уговорам. Она вся извелась от волнения, пока батюшка рыл колодец, почти перестала спать и есть. И отец Григорий, обеспокоенный ее заботами, отступил, считая, что здоровье Ниноньки важнее задуманной им цели. Тем более что вода в этом колодце оказалась удивительно невкусная, жесткая и для питья непригодная. За сутки ее набиралось не так уж и мало, так что можно было ее использовать по хозяйству и даже что-то поливать. В колодец поставили вытяжной вал, опустили трос с ведром, и какие-то функции колодец все же выполнял, но не в задуманном ранее объеме.
Питьевую воду им до конца их дней приносили из церковного колодца добрые люди.
Колодец же батюшка считал одной из своих строительных неудач и постепенно утратил к нему интерес. Он говорил, что если можно достать несколько ведер хозяйственной воды, то и за это слава Богу! «Меньше утруждать людей своими проблемами», — говорил отец Григорий, и это была их с матушкой жизненная позиция до самого последнего дня.
Продолжая мысль, вынесенную в заглавие этой части книги, вспомним еще раз слова Спасителя:
«Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем» (2 Кор.4:8-9).
Так жили отец Григорий и матушка Нина. Они были гонимы людьми, но не были оставлены Богом.
[4] Протоиерей Введенский Александр Петрович. Родился 8 октября 1884 года в Черниговской губернии в семье священника. В 1905 годе окончил Черниговскую Духовную Семинарию. В 1909 году окончил Московскую Духовную Академию со степенью магистра богословия. 14 сентября того же года рукоположен в сан священника и назначен законоучителем Одесской мужской гимназии. С 1915 года законоучитель Одесского реального училища. С 1919 года настоятель Вознесенской (Мещанской) церкви города Одесса. С 1925 года настоятель Ботанической церкви. С 1929 года настоятель Алексеевской церкви там же. В 1933 году приговорен к трем годам ссылки на Беломорканал. В 1936-1950 годах на гражданской работе. С 1951 года священник города Троицка Челябинской епархии. В 1953 году награжден митрой. С 30 июля 1953 года настоятель Михаило-Архангельской церкви города Кушва Свердловской области. В 1957-1959 годах благочинный 3-го округа. С 1 июля 1960 года настоятель Казанского собора г. Нижний Тагил. С 1962 г. за штатом. Искуснейший проповедник. скончался 4 апреля 1973 года Погребен на Широкореченском кладбище города Екатеринбурга.
[5] Протоиерей Мухин Николай Петрович. Родился 4 июля 1895 года в селе Чистоперевалочное Оханского уезда Пермской губернии в семье священника. В 1912 году окончил Пермское Духовное училище. В 1916 году окончил Пермский миссионерский институт и 4 августа рукоположен в сан диакона с назначением к церкви завода Ползана. 20 июля 1917 года рукоположен в сан священника и назначен к церкви села Чистоперевалочное. В 1919 году отступил с Белой Армией на восток. 20 декабря того же года назначен приписным священником Свято-Софийской церкви города Харбин и законоучителем гимназии. С 20 октября 1923 года приписной священник Пророко-Ильинской церкви города Харбин. С 15 марта 1927 года настоятель церкви станции Шуаченку. С 19 марта 1933 год настоятель Пророко-Ильинской церкви города Харбин. В 1939 году окончил богословский факультет Харбинского института святого Владимира со степенью магистра богословия. С 17 июня 1949 года настоятель Свято-Софийской церкви города Харбин. В 1955 году награжден митрой. В 1955 году вернулся на родину и 5 октября 1955 года назначен настоятелем Казанской церкви города Нижний Тагил. С 1959 года благочинный вначале 1-го, затем 3-го округа. В 1959 году награжден вторым золотым крестом с украшениями. С 1965 года настоятель Петро-Павловской церкви пос. Черноисточинск. Скончался 24 апреля 1979 года. Погребен на поселковом кладбище.
[6] «Житие и чудеса преподобного Кукши Одесского». — Одесса, 2000.
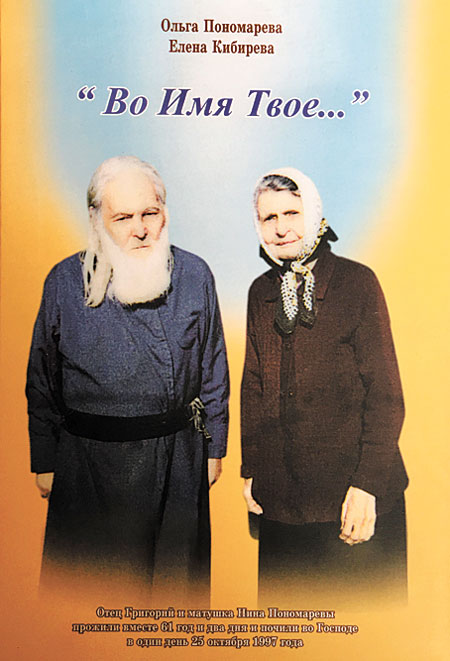

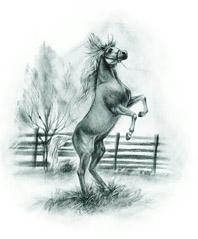









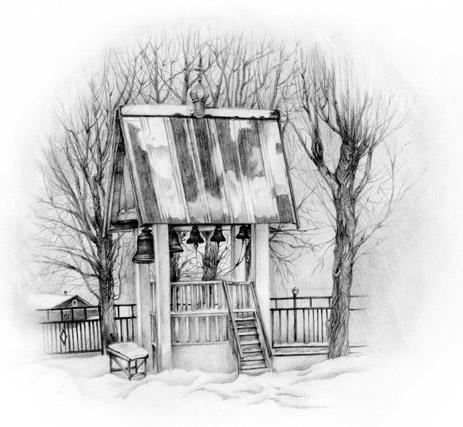






Комментировать