Июль. Книга 1
Особое приложение
Донесение Святейшему Правительствующему Синоду Первенствующего Члена оного Антония, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, от 21 июля 1903 года // Миссионерское обозрение. 1903 г. № 11. С. I–VIII
Благодарение Господу! Великое и всерадостное для нашей православной Церкви торжество открытия святых и многоцелебных мощей преподобного Серафима, Саровского Чудотворца, совершилось 19-го минувшего июля, согласно ранее установленному чину, с подобающим благолепием. Возгорелся новый благодатный светильник в Церкви Российской, богоблаженный Серафим, который, подобно богоносным отцам нашим Антонию и Феодосию Печерским и Сергию Радонежскому будет просвещать светом Христовой истины и утверждать в вере православный русский народ.
Радость, проистекающая для православной Церкви от совершившегося в Саровской обители торжества, была усугублена пребыванием на сем торжестве венценосного Вождя русского народа, Благочестивейшего Государя Императора Николая Александровича, пожелавшего вместе со Своим народом воздать молитвенное поклонение праведному старцу на самом месте его великих подвигов. Его Величество изволил прибыть в Саровскую пустынь в 5½ час. по полудни 17 июля в сопровождении Их Императорских Величеств Государынь Императриц Александры Феодоровны и Марии Феодоровны, а также и Их Императорских Высочеств Великой Княгини Ольги Александровны с Её Августейшим Супругом, Великого Князя Сергия Александровича с Супругою Великой Княгиней Елисаветою Феодоровною, Великих Князей Николая Николаевича и Петра Николаевича с Супругою Великой Княгиней Милицею Николаевною и Великой Княгини Анастасии Николаевны с Её Августейшим Супругом. При встрече Государя Императора во святых вратах обители мною была произнесена краткая приветственная речь. Прослушав в Успенском соборном храме пустыни краткое молебствие, Его Величество пожелал тотчас же поклониться всечестным останкам преподобного Серафима, для чего мною введен был, вместе со всеми прибывшими Высочайшими Особами, в церковь святых Зосимы и Савватия, где находился гроб со всечестными останками.
Для присутствования на торжествах в Саровскую обитель прибыли Министры Внутренних Дел, Императорского Двора и Путей Сообщения, а также многие другие высшие государственные сановники. Из преосвященных, кроме назначенных Святейшим Синодом, никто участия в Саровских торжествах не принимал, в виду полного отсутствия в обители помещения для них. На торжества собралось великое множество богомольцев всякого рода, звания и состояния, из всех местностей нашего обширного отечества, даже самых отдаленных – Сибири и Кавказа. Среди них находилось немалое число больных и убогих, пришедших помолиться преподобному Серафиму о даровании им исцеления, и многие, по вере своей, получали таковое.
За несколько дней до начала торжеств, именно 3 июля, дубовый гроб-колода со всечестными останками преподобного Серафима был вынут из могилы и перенесен, по окончании совершенной мною литургии, с крестным ходом в церковь святых Зосимы и Савватия; здесь, в алтаре храма, под моим личным наблюдением, при деятельном участии преосвященных Назария и Иннокентия, архимандрита Серафима и немногих других приглашенных мною лиц, совершено было, в течение трех дней, 3, 4 и 5 июля, переложение всечестных останков преподобного в новый кипарисовый гроб.
16-е июля было собственно днем начала торжеств. Сего числа в 12 часов дня последовал редкий благовест большого монастырского колокола, созывавший богомольцев на торжественную панихиду в Успенский собор. Панихида совершена была архиерейским служением, причем на ектеньях и возгласах поминались имена Благочестивейших Государей Императоров и Государынь Императриц, начиная с Императрицы Елисаветы Петровны до Императора Александра III включительно, имена почивших преосвященных Тамбовских, строителей и игуменов Саровской пустыни, родителей преподобного Серафима – Исидора и Агафии и самого приснопамятного иеромонаха Серафима. В тот же день вечером в соборных храмах пустыни – Успенском и Божией матери «Живоносный Источник» – совершено было архиерейским служением заупокойное всенощное бдение – парастас о приснопамятном иеромонахе Серафиме.
17-го июля богомольцы с раннего утра во множестве наполнили монастырскую площадь внутри и вне стен обители. В этот день ожидалось прибытие в Саров крестных ходов из двух Серафимовых обителей – Дивеевской и Понетаевской. Для встречи крестных ходов, в 7 часов утра, из врат Саровской обители вышел свой крестный ход, сопровождаемый преосвященным Иннокентием, и, перейдя через мост реку Сатис, остановился недалеко от леса на так называемом Лобном месте. Сюда около 8 часов утра прибыли и те крестные ходы, и все они, соединившись вместе, образовали одно величественное шествие, направляясь к стенам обители. Благолепию шествия много способствовали прибывшие на торжества из разных городов Московской, Ярославской, Владимирской, Тульской, Нижегородской и Рязанской губерний представители хоругвеносных обществ. Все они несли от своих обществ в дар обители по одной или по две хоругви, из коих многие отличаются ценностью и художественностью работы. По прибытии соединенного крестного хода в обитель, начался благовест к поздней литургии. В обоих соборных храмах литургия, а после неё и панихида совершены были архиерейским служением. В Успенском соборе, по окончании литургии, преосвященный Назарий произнес слово, посвященное памяти преподобного Серафима. В тот же день вечером по прибытии Их Императорских Величеств, в соборных и других монастырских храмах совершены были особо назначенными священнослужителями заупокойные всенощные бдения о приснопамятном иеромонахе Серафиме. В 11-м же часу вечера, когда площадь монастырская была свободна от народа, особо назначенные архимандриты, молча, перенесли из Преображенской церкви старый дубовый гроб-колоду преподобного Серафима на прежнее место его пребывания, в могилу, к которой устроен по небольшой каменной лестнице спуск. Могила в настоящее время обложена тонкими мраморными плитами и с одной стороны сделана открытою, так что стоящий в ней за стеклянной перегородкой гроб всегда можно хорошо видеть.
18-го июля Их Императорские Величества изволили присутствовать за раннею литургией в Успенском соборе, в придельном его храме во имя преподобного Антония Печерского и приобщались Святых Таин; исповедь же приняли накануне у иеросхимонаха пустыни Симеона. В этот же день в церквах монастырских было много причастников и из богомольцев. В 9 часов утра в Успенском соборе началась последняя заупокойная литургия, которую совершили особо назначенные священнослужители. По окончании же литургии совершена была архиерейским служением и последняя панихида по приснопамятном иеромонахе Серафиме. К панихиде изволили прибыть в собор Их Императорские Величества с Их Императорскими Высочествами. Пред началом панихиды мною произнесена была речь. Панихида закончилась литией на могиле преподобного Серафима, к которой для сего вышел из собора крестный ход. В нём принимали участие и все присутствовавшие в соборе Высочайшие Особы. По возвращении крестного хода в собор, мною была освящена сооруженная усердием Их Императорских Величеств драгоценная рака для святых мощей преподобного Серафима.
В 4 часа того же дня в Успенском соборе была совершена малая вечерня, а в 6 часов вечера начался благовест большого колокола, созывавший богомольцев ко всенощному бдению. Это была первая церковная служба, на которой преподобный Серафим стал ублажаться и прославляться в лике святых Божиих, и на которой его святые мощи были открыты для поклонения народа. В виду такой важности предстоящего богослужения, ко вратам обители устремились десятки тысяч богомольцев. Но впустить сразу всех в ограду обители не было никакой возможности, а потому допущена была только часть народа в таком количестве, чтобы не было утеснения при перенесении святых мощей. По прибытии в Успенский собор Их Императорских Величеств и Их Императорских Высочеств, началось всенощное бдение. Богослужение отправлялось уже по вновь составленной «Службе преподобному отцу нашему Серафиму, Саровскому чудотворцу». При пении литийных стихир из собора вышел крестный ход и направился к храму святых Зосимы и Савватия, где находился гроб со всечестными останками преподобного Серафима. В храм вошли преосвященные архиереи и священнослужители, назначенные к несению гроба, а также Их Императорские Величества с Их Императорскими Высочествами и несколько еще других лиц, сопровождавших крестный ход. Все вошедшие в храм преклонили колена пред гробом, заключавшим в себе всечестные останки преподобного. За сим гроб изнесен был архиереями и Его Величеством Государем Императором, при участии Великих Князей и назначенных для того архимандритов, из храма и поставлен на носилки, которые подняты были на рамена и несены Государем, архиереями, Великими Князьями и архимандритами. Поднятый высоко, гроб отовсюду был виден народу, живою стеною стоявшему с зажженными свечами по всему пути крестного хода. Началось величественное и глубоко-трогательное шествие. Многие от сердечного волнения плакали, а некоторые женщины даже рыдали: слышались повсюду молитвенные воздыхания, обращенные к преподобному отцу Серафиму; многие крестьянки по пути шествия гроба полагали под него изделия своих рук: куски холста, вышитые полотенца, пряжу и т. п. Религиозное воодушевление народа достигло, вообще, высокой степени. По обнесении гроба со святыми мощами вокруг зимнего и Успенского летнего соборов с остановками для произнесения литийных ектений, гроб был внесен в Успенский собор и поставлен посреди него на особо уготованное место. Между кафизмами преосвященный Иннокентий произнес соответствующее совершающемуся торжеству слово. На полиелее гроб был отперт мною, и святые мощи преподобного Серафима были открыты. Священнослужители запели величание преподобному. Все присутствовавшие в соборе пали на колена, мысленно соединяясь с поющими священнослужителями в ублажении и прославлении преподобного. По прочтении Евангелия, преосвященные архиереи целовали святые мощи, а затем изволили подходить целовать святые мощи все присутствовавшие в соборе Высочайшие Особы. Народ допускался в собор к целованию святых мощей в течение всей ночи в присутствии особо назначенных священнослужителей.
На следующий день, 19 июля, в 8 часов утра начался благовест к поздней литургии в Успенском соборе. Литургию совершали все присутствующие на торжестве преосвященные архиереи. К началу литургии изволили прибыть в собор Их Императорские Величества и Их Императорские Высочества. На малом входе с Евангелием, при пении «приидите, поклонимся», священнослужители подъяли на рамена гроб со святыми мощами и, обнеся его вокруг святого престола, положили в уготованную раку. По заамвонной молитве преосвященный архиепископ Димитрий произнес слово. За сим начался торжественный молебен преподобному отцу Серафиму. После пения тропаря преподобному, гроб со святыми мощами был вынут священнослужителями из раки и с крестным ходом понесен из собора вокруг тех же монастырских церквей. Его Величество Государь Император и Их Императорские Высочества Великие Князья изволили также, как и накануне, принимать участие в несении гроба на носилках. Народ с глубоким благоговением взирал на несомую святыню, и опять так же, как и накануне вечером, из среды его слышались плач, и рыдания, и молитвенные воздыхания. По возвращении крестного хода в собор, молебен преподобному закончился обычным многолетием.
Происходившие в Саровской обители торжества ознаменовались многими дивными проявлениями благодати Божией: молитвенным предстательством преподобного отца Серафима слепые прозревали, глухие слышали, немые говорили, хромые ходили. На источнике отца Серафима ежедневно совершалось по нескольку, иногда более десяти, случаев исцелений. В один такой день было собрано около источника до 15 костылей, оставленных исцелившимися хромыми, и народ эти костыли на берегу речки Саровки сжег, как бы наглядно свидетельствуя тем о силе молитвенного предстательства преподобного отца Серафима. На источнике каждый воочию мог видеть кого-либо из исцелившихся и слышать от него чистосердечный, простой рассказ об исцелении. Между случаями исцелений, записанными и, сколько возможно, проверенными, обращают на себя внимание следующие. 1) Крестьянский мальчик Василий Иовлев, 12 лет, пришедший в Саров из села Илисского, Курчинской волости, Минусинского округа, Енисейской губернии, вместе со своею бабкой, был немой от рождения, в чём имел удостоверение от местного приходского священника. На источнике преподобного отца нашего Серафима он искупался и после того начал говорить. 2) Крестьянка Симбирской губернии, Ардатовского уезда, села Тазнеева, Агриппина Табаева, 18 лет от роду, слепая от рождения, искупалась три раза в источнике преподобного Серафима и, после уже второго раза купанья, начала видеть солнечный свет, деревья и другие предметы. 3) Крестьянин Вятской губернии, Слободского уезда, Сочневской волости, села Никольского, Михаил Тифкин «не владел», но его выражению, «23 года шеей, по обе стороны которой были опухоли, и голова висела на ней, как на мочале». Искупавшись в источнике преподобного Серафима, он увидел, что опухоли на шее опали, и голова на ней утвердилась. 4) Мещанин г. Спасска, Рязанской губернии, Василий Богомолов, 50 лет, лежал в течение 7 лет разбитый параличом, без ног; язык и слух также были парализованы. Его привезли на источник преподобного Серафима и искупали, после чего он стал слышать, говорить и ходить; костыль бросил. 5) Проживающая в 40 верстах от г. Верного, вдова Анна Ивлева, 43 лет, страдала слепотой 19 лет. Не смотря на трудность для неё оставить дом, так как на её попечении было четверо малолетних сирот, она все-таки отправилась в Саров и 900 верст прошла пешком. Искупавшись в источнике преподобного о. Серафима, она стала хорошо видеть. – Все описанные случаи произошли у источника преподобного Серафима, но были уже случаи исцеления и у его святых мощей. Вот один из наиболее замечательных случаев, происшедший за позднею литургией 19 июля в Успенском соборе. В числе молящихся в соборе находилась приехавшая из Москвы г-жа Масленникова; при ней находилась больная 12-летняя дочь, около двух лет ни слова не говорившая. Лечила она её у нескольких врачей специалистов, но они помочь ей не могли. Когда понесли во время малого входа гроб со святыми мощами, г-жа Масленникова коснулась гроба платком и затем отерла им лицо больной дочери, и последняя, к великой радости матери, тотчас же заговорила, а затем была подведена матерью к приобщению Святых Таин. Так дивно и явно проявил Господь милость Свою чрез новопрославленного угодника Своего.
По поводу совершившегося в Саровской пустыни торжества мною была получена от присутствующих в С.-Петербурге преосвященных следующая телеграмма: «С сердечным умилением молитвенно участвуя вместе с Благочестивейшим Государем, сонмом святителей и всею святою Русью в светлом торжестве церковном прославления нового угодника Божия преподобного Серафима Саровского, смиренно просим ваше высокопреосвященство повергнуть к стопам Их Величеств чувства беспредельной преданности и молитвенные пожелания дабы Господь предстательством преподобного Серафима выну охранял Государя, Царствующий Дом и Державу Российскую в непоколебимом мире и непременяемом благополучии. Ваше высокопреосвященство радостно приветствуем с совершением великого и святого дела. Экзарх архиепископ Алексий, архиепископ Гурий, епископ Тихон, епископ Иоанн, епископ Маркелл, епископ Сергий, епископ Константин, епископ Антонин». Телеграмма эта Товарищем Обер-Прокурора Святейшего Синода, 19 сего июля, была повергнута на Всемилостивейшее усмотрение Его Императорского Величества, и Государь Император на всеподданнейшем докладе Товарища Синодального Обер-Прокурора Собственноручно соизволил начертать: «Прошу выразить Мою благодарность и чувства радости и великого утешения по случаю новоявленной милости Божией Русской Земле».
К саровским торжествам
Акт освидетельствования св. останков преподобного Серафима, Саровского Чудотворца // Миссионерское обозрение 1903 г. № 11. С. 3–6
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
В лето тысяча девятьсот третье от Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, января в одиннадцатый день, митрополит Московский и Коломенский Владимир, епископ Тамбовский и Шацкий Димитрий, епископ Нижегородский и Арзамасский Назарий, архимандрит Суздальский Серафим, архимандрит Вышенский Аркадий, игумен Саровский Иерофей, казначей Саровский иеромонах Климент, ключарь Тамбовского кафедрального собора священник Тихон Поспелов и прокурор Московской Святейшего Синода Конторы князь Алексей Ширинский-Шихматов приступили к исполнению поручения Святейшего Правительствующего Синода по делу освидетельствования честных останков приснопамятного Саровского старца иеромонаха отца Серафима. По выслушании поздней литургии, а затем отслуженной епископом Димитрием панихиды по в Бозе почивающем старце, призванные к освидетельствованию лица вступили в часовню, устроенную над могилой иеромонаха Серафима, при юго-восточном выступе летнего собора во имя Успения Пресвятой Богородицы. Находящийся среди сей часовни надгробный чугунный памятник являет собою подобие гробницы, установленной на чугунной же подставке, которая, в свою очередь, основана на тесанном из камня цоколе. Этим надгробием совершенно убедительно определяется место упокоения блаженного старца о. Серафима. На памятнике имеется следующая надпись: «Под сим знаком погребено тело усопшего раба Божия иеромонаха Серафима, скончавшегося 1833 года генваря 2 дня, который поступил в сию Саровскую пустынь из Курских купцов на 17 году возраста своего, скончался 73 лет. Все дни его посвящены были во славу Господа Бога и в душевное назидание православных христиан, в сердцах коих и ныне о. Серафим живет». В возглавии надгробия, с западной стороны, помещено выпуклое бронзовое изображение блаженной кончины о. Серафима с надписью: «Блаженная кончина о. Серафима, Саровской обители иеромонаха и пустынника, 1833 года января 2 дня». С южной стороны памятника внизу, на высоте 2½ вершк. от пола, видно круглое отверстие, чрез которое чтущие память о. Серафима брали песок с его могилы. По распоряжению высокопреосвященного митрополита Владимира, в часовню, в полдень, призваны были для изнесения описанного надгробия несколько человек из проходящих в обители различные послушания. Надгробие и подставка к оному вынесены были во вновь сооруженный храм над кельей о. Серафима. По изнесении памятника, затворена была входная дверь, и несколько умелых работников, под наблюдением сведущего каменщика, разобрали тесанный каменный цоколь, а затем выбрали весь песок, на глубине одного аршина до свода, выложенного над могилой приснопамятного старца Серафима. Свод очищен был к 4 часам пополудни. Посредине, с северной стороны, свод оказался разобранным на пространстве одного квадратного аршина и место это заложенным тремя кусками толстой доски. Отверстие это было проломано в своде по распоряжению преосвященного Димитрия епископа Тамбовского, производившего в августе прошлого 1902 г. предварительное освидетельствование гроба и останков о. Серафима по особо-доверительному поручению Святейшего Синода. Засим разобран был самый свод, сложенный из весьма крупного одномерного кирпича, легко рассыпавшегося на слоевидные куски. Внутри склепа присутствующие увидели гроб-колоду из дубового дерева. В виду невозможности произвести тщательный осмотр честных останков старца Серафима, на глубине 1 аршина 14 вершк., признано было необходимым поднять гроб из склепа, что и было исполнено с особою осторожностью, причем под колоду подведены были холсты, которыми гроб был поднят и установлен с северной стороны могилы на особом приуготовленном столе. После сего присутствующие приступили к тщательному осмотру внешнего вида гроба-колоды, при чем оказалось, что таковой имеет следующие размеры: в обхвате – в головах 2 арш. 12½ вершк. в ногах – 2 арш. 10½ вершк. и длина 3 арш. ½ вершк., цвет гроба почти черный. Дно гроба в ногах, с правой стороны, а также верхняя часть крышки несколько истлели, и во многих частях наружной оболочки, при испытании, дерево оказалось мягким и сырым. Тем не менее, в целом, гроб оказался крепким. По снятии крышки гроба, внутренние его стенки также оказались сырыми, в трех местах покрытыми плесенью, хотя при этом никакого запаха ощущаемо не было. В гробу присутствующие увидели: ясно обозначенный остов почившего, прикрытый остатками истлевшей монашеской одежды. Тело приснопамятного старца о. Серафима предалось тлению. Кости же его, будучи совершенно сохранившимися, оказались вполне правильно размещенными, но легко друг от друга отделяемыми. Волосы главы и брады, седовато-рыжеватого цвета, сохранились, хотя и отделились от своих мест. Подушка под главой приснопамятного о. Серафима оказалась наполненною мочалой, на ногах имеются лычные «ступни». Под руками приснопамятного о. Серафима обнаружен медный литой крест размером приблизительно в три вершка. По освидетельствовании, останки в Бозе почивающего были накрыты глазетом, а гроб-колода обвязана в головах и ногах прочным шелковым шнуром, концы которого, на особой доске, были припечатаны именною печатью высокопреосвященного Владимира, митрополита Московского. Засим гроб опущен был в могилу, покрыт парчовым покровом, а склеп задвинут деревянным шитом, поверх коего положен ковер, и установлен облаченный в белый глазет стол, на коем утверждена икона Пресвятой Богородицы, именуемая «Умиление», и возжена лампада. Производившие освидетельствование покинули часовню в шесть часов пополудни.
Подлинный акт подписали:
Владимир, Митрополит Московский и Коломенский.
Димитрий, Епископ Тамбовский и Шацкий.
Назарий, Епископ Нижегородский и Арзамасский.
Суздальский Архимандрит Серафим (Чичагов).
Настоятель Вышенской пустыни Архимандрит Аркадий.
Настоятель Саровской пустыни Игумен Иерофей.
Казначей Саровской пустыни Иеромонах Климент.
Ключарь Тамбовского кафедрального собора Священник Тихон Поспелов.
Прокурор Московской Святейшего Синода Конторы Князь Алексей Ширинский-Шихматов.
Антоний, митр. Необходимое разъяснение к недоумевающим о св. останках преподобного Серафима // Миссионерское обозрение 1903 г. № 11. С. 6–8
Недели три назад по Петербургу усиленно распространялись гектографированные листки от какого-то «союза борьбы с православием», которое объявлено вредным для блага русского народа. Вместе с сим заявлялось, что союз «принял на себя во исполнение долга своего пред истиной и русским народом расследование дела о мощах Серафима Саровского и не остановится в случае надобности и пред вскрытием содержимого гроба».
Не знаю, существует ли действительно такой союз борьбы с православием или листки эти суть плод досужих занятий какого-либо любителя смуты; во всяком случае, распространенные в громадном количестве, они заставили говорить о себе петербургскую публику, а быть может и провинциальную и самую захолустную, если проникли и туда. Будь в листках только оповещение об образовании союза, о них и говорить бы не стоило Утверждать, как это делает союз, что православие вредно для блага русского народа, значит обнаруживать полное невежество и совершенное непонимание русской истории. Но в листках грубо затронуто дело о мощах святого старца Серафима, с неприличным намеком на содержимое в гробу, да еще «во исполнение долга пред истиною», как будто истина была тут кем-либо попрана. Не осуждаю этой грубости, как и Господь не осудил Фому неверного. Притом и помимо листков о мощах старца Серафима много легкомысленных разговоров даже между людьми образованными, благонамеренными и верующими. Есть сомнение, есть для многих мучительный вопрос: что в гробу. Не осудим и этого легкомысленного сомнения, но дадим прямой ответ на вопрос: «что же в гробу?» В гробу обретен ясно обозначившийся под остатками истлевшей монашеской одежды остов почившего старца. Тело предалось тлению. Кости же и волосы головы и бороды совершенно сохранились. Таково содержимое гроба.
Но тут-то и начинается для многих камень преткновения. «Есть у нас люди, – справедливо говорит профессор Е. Голубинский, – имеющие ревность Божию не по разуму, которые утверждают, будто мощи святых всегда и непременно суть совершенно нетленные, т. е. совершенно целые, нисколько не разрушенные и не поврежденные тела». Между тем, такое утверждение совершенно неправильно и не согласуется с всецерковным сознанием, по которому нетление мощей вовсе не считается общим непременным признаком для прославления святых угодников. Доказательство святости святых составляют чудеса, которые творятся при их гробах или от их мощей, целые ли это тела или только кости одни. Нетление мощей, когда оно есть, есть чудо, но только дополнительное к тем чудесам, которые творятся чрез их посредство (см. об этом подробное расследование в ст. «Нетление мощей» № 12 «Церковн. Ведом.» за текущий год). И святость старца Серафима определялась не свойством его останков, а верою народа и многочисленными чудесами, которые по обследовании их надлежащим образом не представляли никакого сомнения в своей достоверности, по свойству своему относясь к событиям, являющим чудодейственную силу Божию ходатайством и заступлением о. Серафима. И только после такого удостоверения в святости и молитвенном дерзновении о. Серафима перед Богом постановлено, чтобы и всечестные его останки были предметом благоговейного чествования от всех притекающих к его молитвенному предстательству (Деян. Св. Синода 9 янв. 1903 г.). Ибо не ставят светильника под спудом. Больно было бы для верующего сердца сокрыть и останки преподобного под землею.
У святого человека всё свято и чудодейственно, даже тень, даже одежда, а не одно только тело, или кости. Так, тень апостола Петра, головные повязки апостола Павла исцеляли больных от болезней. От прикосновения к костям пророка Елисея воскрес мертвый. Даже прах, по которому ступали ноги святого человека, приобретает целебную силу. Так, после святого старца Серафима земля с его могилы, камень, на котором он молился, вода из источника, который он вырыл, почитаются как святые и по частям разбираются и разносятся верующими по домам, как чудодейственные, подающие целение в разных недугах. Останки же его тела, кости его, для верующего суть драгоценная святыня, истинное сокровище, чрез посредство которого подается почитающим его цельбоносная помощь.
Итак, от старца Серафима остались в гробу только кости, остов тела, но как останки угодника Божия, человека святого, они суть мощи святые и износятся ныне при торжественном его прославлении из недр земли для благоговейного чествования их всеми притекающими к молитвенному предстательству его, преподобного старца Серафима.
Митрополит Антоний
С.-Петербург, июня 20
Гринякин Н. Преподобный Серафим, Саровский Боговидец, – новый небесный защитник истины православной Церкви. (К заблуждающимся и отпадшим) // Миссионерское обозрение 1903 г. № 11. С. 8–24
Господь «хранит все кости» праведного, «ни одна из них не сокрушится» (Пс.33:21).
«И по успении его (Елисея) пророчествовало тело его. И при жизни своей совершал он чудеса, и по смерти дивны были дела его» (Сир.48:14–15).
В смутное время междуцарствия (1610–1613 г.) великое испытание постигло Св. Русь. В Москве хозяйничали поляки. Патриарх Гермоген, доблестный представитель, защитник и исповедник св. веры и народности Русской, томился в темничных подвалах. В окрестностях Москвы и московском царстве разбойничали разные «воры», попирая последние остатки государственного порядка и безопасности. Поистине тяжелая была година для Св. Руси… Но спас Господь отечество наше. Воздвиг Он, Милосердный, ратоборцев за святую веру и родину – Минина и Пожарского. Святым одушевлением зажгли они сердца истинных сынов православной России; ополчились эти сыны на врагов и очистили от них Москву и московское царство. «Станем, братцы, за святую веру и св. Русь»… Это могучий и вещий клич, на который не могло не отозваться русское сердце, который собирал полки ратников, готовых лечь костьми за своё святое святых, и который всегда был предвестником победы над «языками» и прогнания опасности. И спас, и прославил Господь наше дорогое отечество, видя веру православную в сердце его. А 12-й год и «двадесять язык» кому из русских не памятны?
Прошли годы, прошли века… Смутное время междуцарствия уже только траурная страница истории… И 12-ому году миновало уже девяносто лет. Православная Русь, с её благочестивейшим Царем-Батюшкой во главе, теперь – страх врагам и одна из вершительниц судеб мира.
Но попустил Промыслитель врагу спасения нашего деяти ей пакости… И наше великое отечество несет теперь испытание, – оно переживает смутное время междуверия и нашествия целого легиона «языков», «от нас изшедших». На клич Минина «за веру» теперь отозвались бы, пожалуй, еще вопросом – «за какую?».
Миллионы раскольников, сотни тысяч сектантов и неисчислимое множество отвергнувшихся от св. Церкви вольнодумцев – вот российское междуверие, вот «языки» (Мф.18:17), воюющие на св. Русь православную. «Шатаются язы́цы и людие поучаются тщетным».
Но не «убоимся страха, идеже несть страха». На нашем православном небе Господь Бог зажигает одну за другою великие звезды. И светят эти звезды нам в путеводительство, в надежду и радость, а врагам нашей святой православной веры на «посрамление». Они указуют всему миру, за какую «веру ратовати подобает» против языков в наше смутное время. Чрез «отверстые небеса» глаголет Господь, что истина и спасение в нашей православной Церкви. Чудеса от св. мощей святителя Феодосия Углицкого – события наших дней, и мы еще под их святым обаянием. А в сей год возжигается небесной Десницей другой светильник – прославляется св. Церковью прославленный Богом преподобный Серафим Саровский и открываются его чудодейственные мощи. Возрадуемся и возвеселимся: с нами Бог, разумейте, «преслушающие Церковь язы́цы»!
Семьдесят лет тому назад, 1833 г. 2 янв., в Саровской пустыне мирно отошел ко Господу старец иеромонах Серафим. Своею высокою истинно-христианскою подвижническою жизнью он еще у современников своих стяжал общую веру в действенность его молитвы пред Богом. И сколько подвигов совместила сила Божия в Саровском чудотворце: и смиренный послушник, и благоговейный служитель алтаря Господня, и строгий отшельник, и столпник, и молчальник, и затворник, и старец-наставник: всем этим, как драгоценными камнями, сияет духовный облик преподобного Серафима. На службе Божией он зрит воочию ангелов Господних, сослужащих ему. Из затвора, после тридцатилетнего подвижнического уединения, он вызывается на подвиг непрестанного наставничества в вере и благочестии – повелением Пречистой Богоматери. И сколько тысяч людей – и мирян и иноков, и простых и знатных получили от Саровского прозорливца исцелений духовных и телесных?… Всем силою Божией подавал преп. Серафим потребное. Постигнув глубины человеческого духа, прозревая и сокрытое от телесных очей из прошлого, будущего и далекого, великий подвижник знал нужды прибегавших к нему, – жизнерадостный, любвеобильный, нелицеприязненный, смиренный, проникновенный в самые тайны нужды человеческой, он всем износил из своей духовной сокровищницы целебный елей и никто не отходил от него «тощ». Беседа его, проникнутая духом слова Божия и писаний отеческих, согревала сердце, озаряла ум, приводила грешников к раскаянию и исправлению и подавала возмущенной душе мир и тишину. Саровский прозорливец изумлял приходящих к нему тем, что сам, прежде чем скажут ему хоть одно слово, говорил о мучивших их вопросах и нуждах и давал на них ответы и утешения; он отвечал на нераспечатанные письма, подавая отправителям их соответственные наставления. Кроткий – он покорял себе свирепого медведя и тот, как агнец, лежал у его ног и повиновался его мановению. В избранном сосуде Божием почивала всемогущая сила Господня и творила чрез него великие чудеса уже при жизни. «Чистый сердцем», преп. Серафим удостаивается зреть Самого Господа нашего Иисуса Христа и осиявается славою чудотворений. «Прежде преставления его свидетельствован бысть, яко угоди Богу» (Евр.11:5; Кир. кн. л. 233 об. изд. 1876 г.). По блаженной же кончине его, многочисленные знамения милости Божией, по его молитвенному предстательству совершавшиеся, чудеса исцелений при его гробе и от разных вещей, им оставленных и напоминавших о нём, как-то: от воды ископанного им колодца, от камней, на которых он подвизался в молитве и пр., уже не оставляют и сомнения, что Саровский Боговидец – угодник Божий.
Да не смутят сердца православных козни дьявольские, коими «отец лжи» тщится затмить славу и свет нового светильника, осиявающего св. православную Русь, – преподобного отца нашего Серафима! Кто послушает врага всякой истины, кроме чад его, коим он оттачивает разные оружия на брань со святою Церковью? Ведомо нам слово св. Златоуста: «колицы ратоваши Церковь и ратовавшие погибоша и чесо ради попусти (Бог) брань, яко да покажет светлейшую тоя Победу… борима есть и не одолевается»… (Злат. кн. о вере л. 19). Научением дьявола говорили противившиеся Христу, что Он творит чудеса силою Веельзевула, князя бесовского, что пречистое тело Его не воскресло, а украдено и пр… Научением того же клеветника и «человекоубийцы искони» и ныне сеются сомнения в святости преподобного Серафима и в чудодейственности мощей его. Сомнения эти приражаются к тому, что тело Боговидца Саровского не сохранилось нетленным во всей своей целости. Но не свидетельствует ли это, именно, обстоятельство еще более о том, что нетленные останки подвижника Саровского сохранены силою Божией. Тело преподобного Серафима погребено было и почивало в такой сырой почве и в таком гробе (дубовая колода, покрывшаяся внутри плесенью), где по естественным условиям всё оно до последней косточки давно должно бы обратиться в прах и пепел. Воистину, «Идеже хочет Бог, побеждается естества чин»… Сила Божия останавливает начавшееся в останках праведника смертное разрушение и воспрещает тлению простираться и действовать до конца. Жало смерти притупляется и победа ада посрамляется. Остов тела угодника Божия – кости его изъяты из тления силою Божией и источают чудеса исцелений. «Дар чудотворений – вот тот перст, которым с самых первых времен и до наших дней Господь указует нам наших наставников и руководителей ко спасению и вместе наших ходатаев и заступников перед Его престолом, вот то Божественное слово, которым Он нарекает их для нашего молитвенного к ним обращения». И малые останки праведно поживших и веру соблюдших угодников Божьих чудодействуют и прославляются св. Церковью, как св. мощи, как сосуды и источники силы Божией. В целом ли виде сохранилось тело св. пророка Елисея? Нет – оно всё предалось земле; нетленными остались только кости пророка Божия. «И умер Елисей, и похоронили его. И полчища Моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев и он при падении своём, коснулся костей Елисея, и ожил, и встал на ноги» (4Цар.13:20–21). Кто дерзнет усомниться в том, что кости св. пророка были сосудом животворящей силы Божией, хотя тело его и предалось тлению?! И от других угодников Божиих остались нетленными едины токмо кости. И почитаемые св. Церковью за мощи святые кости сии источали чудеса исцелений. «Святое тело (преподобного Нила Столбенского † 1554 г.) земле предадеся, читаем в истории по открытию мощей преподобного, а мощи (т. е. кости) его целы все».1 И, как пишет о мощах препод. Иосиф Волоколамский, «сиа кости – персть видятся и земля, но обаче бесом суть страшна, и слепых просвещают, и прокаженных, и расслабленных, и всякие болезни уврачают» (Просвет. 7 сл.). «Воистину чудо преславно, яко кости нагы источают исцеления» (митр. Даниил); «чудо преславно воистину, кости голы, сухи на всякие недуги и болезни исцеления точат и бесов прогоняют» (Зиновий Отен). Истинно слово Писания и всякого приятия достойно – «хранит Господь кости праведного» (Пс.33:21) и по смерти его они «пророчествуют» (Сир.48:14–15). «Господь наш Иисус Христос, говорится в определении 7 всел. собора, утвердившего догмат о почитании мощей, даровал нам мощи святых, как спасительные источники, многообразно изливающие благодеяния на немощных». И святая Церковь, веруя в молитвенное предстательство пред Богом угодников Божиих, и последуя древнему обычаю, постановила, дабы св. мощи наших небесных предстателей непременно полагаемы были в освящаемых церквах (7 всел. соб. 7 пр.). «Телеса и кости святых угодников Божиих… Церковь Божия того ради в чести имеет, занеже телеса их, по апостолу, дом быша Духу Святому, Иже поживе в них, и по отшествии святых света сего, в костех их, глаголет Златоуст, пребывает Дух Святой» (Кирил. кн. л. 236 об. изд. 1786 г. «Кн. о вере» л. 105 об.). И в святых останках Боговидца Серафима, праведно прошедшего стезею истинно-христианского подвижничества жизненный путь свой и преисполнившегося небесных даров, благодать Господня уготовала себе сосуд для источения исцелений и других чудес верующим и просящим чрез св. угодника милости Божией. «Когда меня не станет, говорил препод. Серафим наставляемым, вы ко мне на гробик ходите. Как вам время, вы и идите: чем чаще, тем и лучше. Всё, что есть у вас на душе, что бы ни случилось с вами, о чём бы ни скорбели, приходите ко мне, да всё своё горе-то и принесите на мой гробик. Припав к земле, как живому, всё и расскажите, услышу я вас, вся скорбь ваша отлетит и пройдет. Как вы с живым всегда говорили, так и тут. Для вас я живой есть, и буду во веки».
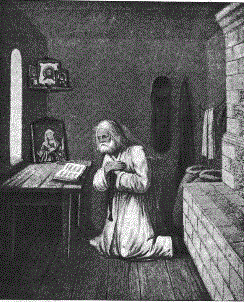
Не ложен был праведный старец-наставник в обещании своём. Не говоря уже об обследованных и удостоверенных со всяким тщанием 94 чудесных исцелениях, сколько тысяч утешений источил «гробик» Саровского подвижника притекавшим к его святой помощи! «Процвели кости» праведника «от места своего» (Сир.46:14).
Возрадуйся о вере своей, православный христианин. Саровский чудотворец был истинным сыном нашей св. православной Церкви. В заветах своих он учил крепко держаться всего, что ею принято и благословлено. «Что приняла и облобызала святая Церковь, всё для сердца христианина должно быть любезно», говорил старец Серафим. Однажды к о. Серафиму подошел военный и попросил благословения; старец не благословил его и сказал: «ты веры неправославной». Знатным своим посетителям преподобный указывал на их ордена и говорил: «знаки эти, как напоминание о Христе Иисусе, распятом за нас на кресте, должны быть всегда живою проповедью вам об обязанности – быть всегда готовыми жертвовать всем, даже, если нужно, самою жизнью для блага родины и Церкви». И вот сего старца – наставника Господь Бог ныне являет небесным свидетелем истинности нашей св. православной Церкви. «Да знаете, скажем словами одной старопечатной книги, яко все веры прочии, иже верами зовутся, не суть веры, но прелести… И почто не суть достойны называться верами; тою ради, яко ни едина от них не вмещает Духа Святого даровании, ни пришествия Его сподобляется, ниже мощи чинят, ниже освящаются. Наша же восточная вера истинная и не прелестная, Духа Святого дарования вмещает, пришествия Его сподобляется; освящаются богоугодницы, и просвещают, и в Боговидение приходят богословствуют от Духа наставляеми, по совлечении ветхого человека и по смерти тело нетленно богоугодников пребывает, вонями благоуханными благоухает, чудотворят кости мертвые с верою приходящим, и во имя святого милости от Бога в своих нуждах ищущим; еже в прочих верах ни в единей ничтоже о сих обрящеши, ниже услышиши, но еще блазнь и ругание со смехом на действа и благодать даров Духа Святого, яко от неверных, узриши» (Кирил. кн. л. 527 и об. 10 посл. Мелет. изд. 1867 г. Ср. кн. о вере л. 103 об.). И как удобоприложимы эти слова к Саровскому торжеству: открываются нетленные мощи праведного старца, сподобившегося еще при жизни быть храмом обильных дарований Духа Божия – исцеления, утешения и просвещения притекавших к нему, удостоившегося по чистоте своей св. жизни воочию зреть небесную силу – св. ангелов, Пречистую Богоматерь и Самого Господа Иисуса Христа: «и чудо творят кости мертвые» праведного Боговидца! В какой вере, «обрящем или услышим о сих?».
С нами Бог, разумейте, язы́цы!
Светлые торжества и духовные ликования Саровского праздника невольно заставляют нас вспомнить прежде всего о «языках», «от нас отшедших» и «сидящих во тьме и сени смертной», – о наших бывших братиях – старообрядцах, сектантах и других вольнодумцах, преслушавших св. Церковь и сделавшихся для нас, по слову Христову, «яко язычники» (Мф.18:17). «Скорбь ми есть велия о братии моей» и нудит она наше братское слово вразумления.
«Жестоковыйнии и необрезаннии сердцы и утесы, вы присно Духу Святому противитеся, якоже отцы ваши, тако и вы» (Деян.7:51).
Братия старообрядцы! Что смутило отцов ваших и вас и удалило от спасительного пристанища – св. Церкви? Сложение перстов для крестного знамения – именно – к каким двум перстам – указательному и великосреднему или же безымянному и мизинцу прикладывать большой перст, – аллилуия, посолонь, число поклонов и пр. несущественные обрядности. Как обличительны для вас слова великих святителей Григория Богослова и Василия Великого. «Дело совершенно смешное и жалкое, – пустой и бесплодный спор о звуке слов представляет повсюду различною и веру», говорил св. Григорий. «Если спрашивают их, писал Василий Вел. о неокесарийцах, хотевших отделиться от кесарийской церкви вследствие введенного св. Василием особого церковного чина, о причинах непримиримой вражды, они отвечают: псалмы и образ пения изменены у вас против давнего обыкновения, и другое подобное выставляют, чего надлежало бы стыдиться… Смотрите, увещевал их св. отец, не оцеживаете-ли вы комара, занимаясь тонкими исследованиями звуков голоса, а между тем нарушая важнейшие заповеди».
А вы, старообрядцы, желая сохранить ненарушимо, как храним и мы, догматическое учение православной веры, и, отделяясь от единой святой соборной и апостольской Церкви из-за обрядностей, не «смешное-ли и жалкое дело делаете?» И какой святыни вы лишаетесь, пребывая вне Церкви! Внемлите заветам и увещаниям преподобного Саровского чудотворца! Что он – угодник Божий говорил вам? Прочтите в его житии. Однажды, рассказывается там, пришли к нему четыре человека из ревнителей старообрядчества, жители села Павлова, Горбатовского уезда, спросить о двуперстном сложении, с удостоверением истинности старческого ответа каким-нибудь чудом или знанием. Только что переступили они порог кельи, не успели еще сказать своих помыслов, как старец подошел к ним, взял первого из них за правую руку, сложил персты в трехперстное сложение по чину православной Церкви и, таким образом крестя его, держал следующую речь: «Вот христианское сложение креста! Так молитесь и прочим скажите. Сие сложение предано от св. апостолов, а сложение двуперстное противно святым уставам. Прошу и молю вас, ходите в церковь греко-российскую, она во всей славе и силе Божией! Как корабль, имеющий многие снасти, паруса и великое кормило, она управляется Св. Духом. Добрые кормчие – её учителя; они преемники апостольские. А ваша часовня подобна маленькой лодке, не имеющей кормила и весел: она причалена вервием к кораблю нашей Церкви, плывет за нею, заливаемая волнами, и непременно потонула бы, если бы не была привязана к кораблю». – В другое время пришел к нему один старообрядец и спросил: «Скажи, старец Божий, какая вера лучше – нынешняя церковная, или – старая?» – «Оставь свои бредни, – отвечал о. Серафим, – жизнь наша есть море; св. православная Церковь – есть корабль, а кормчий – Сам Спаситель. Если с таким кормчим люди, по своей греховной слабости, с трудом переплывают море житейское и не все спасаются от потопления, то куда же стремишься ты со своим ботиком и на чём утверждаешь свою надежду – спастись без кормчего?» Один раз зимою привезли на санях больную женщину к монастырской кельи о. Серафима и о сем доложили ему. Несмотря на множество народа, толпившегося в сенях, о. Серафим просил принести её к себе. Больная вся была скорчена, коленки сведены к груди. Её внесли в жилище старца и положили на пол. О. Серафим запер дверь и спросил её.
– Какая причина твоей болезни?
– Я была прежде, батюшка, православной веры, но меня отдали замуж за старообрядца. Я долго не склонялась к ихней вере и была здорова. Наконец, они меня уговорили: я переменила крест на двуперстие и не стала ходить в церковь. После того пошла я раз вечером по домашним делам во двор. Там одно животное показалось мне огненным и даже опалило меня; я в испуге упала; меня начало ломать и корчить. Прошло немалое время с тех пор, а я всё хвораю.
– Понимаю… – отвечал старец. – А веруешь ли ты опять в св. православную Церковь?
– Верую теперь опять батюшка! – отвечала больная.
Тогда о. Серафим сложил по православному персты, положил на себе крест и сказал:
– Перекрестись вот так во имя св. Троицы.
– Батюшка, рада бы, – отвечала больная, – да руками не владею.
– О. Серафим взял из лампады у Божией Матери Умиления елея и помазал грудь и руки больной. Вдруг её стало расправлять, даже суставы затрещали, и тут же она получила совершенное исцеление. После этого старец много беседовал о силе правильного троеперстного сложения и увещевал присутствующих молить его именем всех своих родных и знакомых, во имя любви к нему, убогому Серафиму, складывать персты по обряду православной Церкви, а над могилами умерших двоеперстников творить молитвы и служить панихиды о разрешении их от уз вечности («Житие старца Серафима» Елагина, 5 изд.)
Так учил, увещевал и молил вас старообрядцы, Саровский праведник, через нетленные останки которого действует «Бог, творяй чудеса»! чрез «чудодействующие кости» его. Сам Господь глаголет об истине св. православной Церкви.
Отжените же от себя ваших губителей – расколоводителей и хулителей св. Церкви словами апостолов: «судите, справедливо-ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» (Деян.4:19). Испытуйте и сами и вникните в приведенные слова уважаемой вами Кирилловой книги о святых чудодейственных мощах, как свидетелях истинной Церкви! Где у вас св. чудодейственные мощи? Где ваши ходатаи, молитвенные заступления которых слушал бы Бог и чрез «кости» которых творила бы сила Божия знамения и чудеса? Их у вас нет и быть не может: не послушает Господь тех, кто не слушает св. Церкви, – даже мученическая кровь не может искупить и загладить греха церковного раздорничества (Златоуст Апост. бесед., стр. 1692).
В ком вы мните найти себе заступление и молитвенное предстательство пред Богом? Расстриги Аввакум и Лазарь еретичествовали о св. Троице, расстрига Никита обезглавлен за оскорбление царского величества. Соловецкие смутьяны бунтовали против православного царя. Не на этих ли церковных раздорников ваше упование? С шумом погибла память их, оставив за собой пагубное наследие раскола. Вывели вас со «двора овчего» эти «воры» церковные и пустили по распутьям: и, как овцы без пастыря, рассеялись вы по гибельным путям. Сотни бестолковых «толков» образовались у вас и проклинаете вы друг друга, не ведая, что творите и куда идете. Какое из многочисленных ваших согласий может явить небесное знамение своей истины, куда бы вы могли приклониться в надежде спасения? Такого нет. А ведь во тьме и сени раскольничьей вы уже два с половиной века! В одном из самых дерзких «толков» – «австрийском» сделаны были попытки выдать за мощи какие-то трупы неизвестных черкесов, но более добросовестными представителями того же самого толка (лже-еп. Анастасий в пис. к Силуану) обличены были, как ложь и кощунство, и ныне только продажные души и наемные языки австрийских начетчиков отстаивают позор своего толка.
Заблудшие братья, «разве не знаете, что святые будут судить мир» (1Кор.6:2) и вот сонм угодников Божиих: свв. Дмитрий Ростовский, Митрофан Воронежский, Тихон Задонский, Феодосий Углицкий и Серафим Саровский, прославленные от Господа в нашей св. Церкви чудотворением и нетлением мощей уже после вашего отпадения в раскол, – совершат суд над вами пред грозным Судией. Прославляя служителей св. православной Церкви, чудодействуя чрез их святые останки многочастно и многообразно, зовет вас Господь, не хотяй смерти грешнику, но еже обратитися ему и живу быти, в спасительное церковное лоно. «Итак покайтеся и обратитеся, чтобы загладились грехи ваши» (Деян.3:19). Вспомните слова Христовы: «Горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись; но Тиру и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам» (Лк.10:13–14). Чудесами и знамениями зовет вас Господь и «колькраты хочет собрать вас в Церковь Свою, яко же кокош собирает птенцы своя»; не послушаете гласа Его, не будете иметь извинения о грехе своём. Уразумейте и нынешний зов Божий, глаголющий к вам чрез кости Саровского Боговидца и чудотворца и да сподобитесь молитвенного заступления и предстательства преподобного Серафима пред Спасителем нашим, Невесту Которого вы так долго и так нечестиво хулили!
Не меньшая скорбь нашей св. Церкви и о чадах, заблудших в погибельных дебрях сектантского вольнодумства и отвергающих вообще святые мощи и не верующих в их чудодейственную силу.
Что скажем вам, молокане, штундисты, пашковцы, толстовцы, духоборы со всеми вашими сродниками по заблуждению? Чему научат вас нетленные останки преподобного Серафима? Мы бессильны убедить вас, если вы не верите своим глазам, не верите и слову Божию. Нетленные останки преподобного, как и других святых, вы можете видеть своими очами и осязать своими руками. «Вложите перста в ребра» нетленных останков и «не оставайтесь неверующими». Нетление останков – самое по себе – чудо. Не верите ему, не поверите и тому, «если бы кто и из мертвых воскрес». И говорим это потому, что то и другое чудо слишком родственны и близки друг другу. «Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия Своего, но завистью дьявола вошла в мир смерть» (Прем.2:23–24), и всесокрушающее тление поразило человеческое естество. Но «святому Своему Господь не даст увидеть тления» (Пс.15:10). И вот в нетленных останках святых угодников Господь являет нам признак возвращения тленного в нетление. Силою благодати Животворящего Духа, дарованною нам Искупившим род человеческий от греха, проклятия и смерти, «тленное облекается в нетление…» (1Кор.:15:50–54), «да сбудется слово написанное: поглощена смерть победою» (– 54; Ис.25:8). «Жало смерти – грех» (– 56). Но в подвижнике Христове жало это притупляется и животворящая благодать настолько проницает тело его, как храм свой (1Кор.6:11), что оно, и по успении праведника, пребывает нетленным и, чудодейственно исцеляя многоразличные немощи и болезни, является таким образом живоносным источником.
Проверьте достоверность чудесных исцелений, полученных у мощей праведников. Не поверите очевидцам и самим исцеленным, обратитесь к слову Божию. Вспомните о костях пр. Елисея, воскресивших мертвого (4Цар.13:21), о милости пр. Илии, разделившей воды Иордана (4Цар.2:13–14), о платках и опоясаниях ап. Павла, которые будучи возлагаемы на больных, прекращали болезни и изгоняли злых духов (Деян.19:12); вспомните о тени от тела ап. Петра, которая, осенив больных, исцеляла их (Деян.5:15–16), – вспомните об этом и уразумейте силу Божию, действующую в избранных своих сосудах и творящую чудеса не только чрез останки св. угодников – их тела и кости, но даже и чрез их одеяние.
Если же вы не веруете в нетление и чудодейственную силу останков праведников Божиих, ныне прославляемых сплою Господней, то тем самым богохульно полагаете, что Бог пророков Илии и Елисея и апостолов Петра и Павла теперь уже не тот, – теперь у Него якобы уже нет силы или хотения «не дать видеть тление святому Своему», «сохранить кости» праведного и совершать чрез них «пророчествования» и чудеса. А если страх Божий и удерживает вас от такого богохульства и вы не хотите только воздавать чести святым и чудодейственным останкам праведника, то тем самым не хотите прославить того, кого, как достойного «славы и чести» (Рим.2:10), Сам Бог прославил, и не желаете поклониться силе Божией, действующей в прославленном и «совершающейся в немощи». Испытуйте, заблудшие бр., упование своё и уразумейте, чья гордость действует в вас, если не хотите вы преклониться пред силой и волей Божией? Упование ваше основано как будто и «от писания», но вспомните, бр., не «от писания»-ли искушал Христа и дьявол? не на тексты-ли слова Божия ссылался и он? Не «от писания»-ли проповедовались и разные заблуждения гордецами, не хотевшими знать руководства и воли Духа Святого, в Церкви Божией действующего (Деян.15:28)? Не это-ли обстоятельство побудило и ап. Павла молить фессалоникийскую братию «не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы им посланного», но «стоять и держать предания, которым они научены или словом, или посланием» апостольским (2Фес.2:1–2, 15)? Да и какое «Писание» научило вас, отрицать нетление св. мощей и чудодействующую чрез них силу Духа Божия? Какое «Писание» положило вам запрещение почитать и прославлять прославленных Самим Богом и исполненных Его благодатию? Нет такого «Писания». Что вы возражаете нам, главным образом, при наших братских собеседованиях о святых мощах? «Где в Слове Божием писано почитать мощи и поклоняться им?» Бедные вы богословы, «всегда учащие и никогда не могущие дойти до познания истины» (2Тим.3:7), буквы Писания вы читаете, «а силы его» вы отверглись! Не почитал-ли Сам Христос храма Иерусалимского, не ревновал-ли Он об его святости, не почитали-ли этого храма св. апостолы? не от Бога-ли просвещенный написал псалмопевец: «войду в дом Твой, поклонюсь храму святому Твоему в страхе Твоём» (Пс.5:8)?
Почему Христос, св. пророки и апостолы почитали храм и поклонялись ему? Да потому, что этот храм был храм Господень, дом Отца небесного. Но что другое – тела и останки святых, источающие чудеса, как не храм живущего в них Святого Духа (1Кор.6:19), не Бог-ли прославляется в них (– 20)? Где писано прославлять чудодействующее?… Святые останки явно источают чудеса исцелений, а нас спрашивают, где писано их прославлять? Убогие буквоеды, насытитесь-ли когда-либо от истины? Ужели бы вы не почли с благоговением кости пр. Елисея, «сохраненные» Господом, воскресившим чрез них мертвеца? «Руками апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса» (Деян.5:12). Но справлялся-ли этот народ, писано-ли где в Слове Божием прославлять чудотворцев? Нет, – от избытка сердца уста глаголали – и «народ прославлял их» (– 13 ст.). Есть-ли повеление от Писания возлагать на болящего «платки и опоясание» праведников; нет; но «Бог творил не мало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них» (Деян.19:11–12). Ужели бы вы дерзнули не почтить эти «платки и опоясания» апостола или святые руки его, чрез которые действовала сила Божия, только потому, что о почитании «платков, опоясаний» «и рук» «нигде не писано»?! Какое бы писание убедило вас благоговейно почитать тень святого? А между тем, тень ап. Петра исцеляла больных. Имелось-ли повеление «от Писания» почитать останки святых у первенствующей, до-соборной Церкви, которая и для вас – авторитет? А вспомните, каким благоговейным прославлением почтены были ею кости священномучеников Игнатия Богоносца, Поликарпа Смирнского и др.! Вы ищете «писаных» свидетельств почитания мощей? «Дела, яже творит чрез них Господь, та суть свидетельствующая о них». «Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками», поскольку нетление св. останков угодников Божиих и их чудотворения – это дело не от человеков, но от Бога (Деян.5:39).
Возлюбленная и в заблуждении своём, братия наша, старообрядцы и сектанты, помним мы завет св. апостола: «если кто не послушает слова нашего… того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его; но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата. Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всём» (2Фес.3:14–16). Святая православная Церковь наша, молясь «о мире всего мира», наипаче молится и заботится о приведении в спасительный двор свой тех, которые заблудились и сделались для неё из чад «язычниками» (Мф.18:17). Гордыня и недоразумения человеческие удалили вас от её материнского лона. Но она зовет вас к себе, зовет – долго и настойчиво. Призывающего гласа её вы или не слышите. или не хотите слышать, или не разумеете. Ныне её чадолюбивое призывание к вам усиливается прославлением угодника Божия преподобного Сарафима-Боговидца и открытием чудотворящих его мощей. Услышите же глас её, он есть глас небесный! «Разумейте и покоряйтеся, яко с нами Бог». И Господь мира – молитвенным предстательством преподобного отца нашего Серафима, и святителей в нашей Церкви просиявших, да даст нам всем мир в единстве веры и упования, да будет нам «всем сердце и душа едина» (Деян.4:32) и «едиными усты и единым сердцем» прославим Господа, «дивного во святых Своих».
Н. Гринякин
Бронзов А., проф. Можно-ли и нужно-ли «адогматизировать» христианскую этику?2 // Миссионерское обозрение 1903 г. № 11. С. 25–44
На первый вопрос уже дан нами мотивированный отрицательный ответ. Выслушав его, некоторые лица, однако, могут нам сказать и говорят: допустим, что действительно нельзя отнимать у христианской этики религиозных, догматических её основ, – допустим, что без них она будет растением, вырванным из почвы, дававшей ему соки, жизнь…, зданием без фундамента, но есть-де такие причины, которые заставляют нас делать это во избежание большего зла. Что-же это за причины?
Догматические основы христианской морали, намеченные выше, – рассуждают защитники адогматизированных христианских принципов нравственности, 1) служат причиною возникновения у некоторых (а быть может – и у большинства) желания быть нравственно хорошими не столько из уважения к нравственным началам самим по себе, сколько из боязни вечных мучений по смерти и из корыстного стремления к получению в загробной жизни вечных, непреходящих благ; 2) лишают нравственное поступание человеческое внутренней его ценности и потому, что, согласию им, доброе поведение человека в значительной степени приходится относить к Богу, как виновнику его, а дурное – к дьяволу по той же причине; 3) принижают нравственную сторону жизни человека сравнительно с религиозною и даже внешнеобрядовою; 4) дают место возможности произвола в деле толкования нравственных принципов со стороны представителей христианской религии; 5) обусловливают возникновение у людей с различными религиозными убеждениями недоброжелательных чувств вместо противоположных этим: 6) вообще являются излишним балластом, так как-де и безбожники иногда отличаются высоконравственным образом жизни и наоборот, и проч. Ясно, – заключают данные мыслители, – что необходимо сбросить эту или прямо вредную, или в лучшем случае – излишнюю обузу. Однако, действительно-ли нужно?
1) Действительно-ли указываемые христианством побуждения к исполнению требований нравственного закона столь низменны, столь мутны?… Нет.
Наше внимание в данном случае, прежде всего, приковывается словами Господними о том, что христианин, даже и исполнивший всё повеленное ему, должен считать себя ничего не стоящим рабом, как сделавший только то, что должен был сделать (Лк.17:10). Здесь, как видим, пресекаются всякие корыстные расчеты и соображения в самом корне, так как выполнение человеком решительно всего, что он обязан, как христианин, совершить, не дает ему права рассчитывать ни на какую награду. Он и в этом случае – лишь «неключимый», «ничего не стоящий раб»! Награда-же ему за гробом может быть рассматриваема только как дело одного снисхождения всемилостивого Бога – не больше. Но, быть может, корыстные расчеты, не простираясь на область жизни будущего века, уместны в отношении к здешней жизни, быть может, христианин, совершающий добрые дела, имеет право рассчитывать, по крайней мере, на похвалу и иные подобного рода отношения со стороны своих ближних, что некоторым образом способно побуждать его к дальнейшим добродетельным подвигам? Ничуть! Нравственно-доброе поведение христианина должно идти путем, незаметным для окружающих: не только не должно трубить пред собою кому бы-то ни было, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди, но следует поступать так, чтоб левая рука не знала о милостыне, раздаваемой правою (Мф.6:2–3)… Праведность книжников и фарисеев не имеет, по слову Господню, никакой цены (Мф.5:20)… Господь призывает нас прежде всего искать царства Божия и правды Его (Мф.6:33)…
Однако, и новозаветным христианским учением людям, проводившим жизнь благочестиво, старавшимся по мере возможности исполнять нравственный закон, все-таки обещаются блага царства, уготованного от создания мира (Мф.25:34), тогда как нечестивых ожидают проклятие и вечный огонь, уготованный дьяволу и его ангелам (– 41), одним, короче сказать, обещается жизнь вечная, а другим – мука вечная (– 46). Как смотреть на это? Дело осложняется, – по крайней мере, по-видимому, – тем еще обстоятельством, что как будто здесь имеет место некоторое несоответствие. Именно: дела здешней жизни – очень непродолжительной, а в сравнении с вечною – мгновенной, однако, оцениваются вечною мукою или вечными благами.
В разъяснение всего этого могут идти такого рода соображения. Убеждая взрослых совершить какое-либо дело, мы обычно указываем на внутреннюю «ценность» данного действия, на ту пользу, какую оно может принести другим. Если речь идет о человеке, развитом в нравственном смысле, то о наградах, могущих быть за такое деяние, обыкновенно не говорят, не желая оскорбить нравственного чувства подобного лица, в своих поступках не руководящегося такого рода побуждениями. Если-же уговаривают совершить известный поступок или детей, или и взрослых, но не достигших достаточной высоты нравственного развития, то обыкновенно не ограничиваются вышеуказанными побуждениями, как недостаточно понятными (или и совершенно непонятными) для них и потому недостаточно убедительными (или совсем неубедительными), а приводят еще другое – более сильное для них, именно называют ту награду, какая ожидает их в случае осуществления ими того, к чему их в том или другом случае склоняют. С каждым нужно действовать, применяясь к уровню его духовного развития (конечно, без ущерба для истины). Христианские обещания мук и блаженства в будущей жизни должны быть рассматриваемы именно в этом смысле, как имеющие в виду у себя, с одной стороны, людей нравственно юных еще, а с другой, стоящих на распутии и не знающих – куда склониться: в сторону-ли добра, от которого их отвращает, однако, тернистость предстоящего им пути, или в сторону зла, очень соблазнительного по своей внешности. В отношении к таким людям подобные христианские обещания не заключают в себе ничего нечистого, мутного, сколько-нибудь предосудительного. Отсюда речь о корыстном характере, будто бы отмечающем собою христианское учение о нравственности, не имеет под собою прочных, устойчивых оснований и объясняется неправильным пониманием дела или заведомо пристрастною точкою зрения на него. Затем, каждый человек такою или иною деятельностью своею в этой жизни успевает создать себе известную нравственную физиогномию, отмеченную определенными чертами. Если он ведет жизнь согласную с требованиями нравственного закона, то он блажен уже в своём действовании (Иак.1:25), он уже владеет царствием Божиим, состоящим в праведности и мире и радости во Святом Духе (Рим.14:17), следовательно, не приходящим отъинуду внешним образом, но созидаемым самим-же человеком и находящимся внутри его (Лк.17:20–21). В будущей жизни имеет быть только дальнейшее развитие и проявление этого внутреннего богатства человека. Раз воля человеческая, сложившись в здешней жизни в нравственно-добром направлении, овладеет царствием Божиим, насколько это ныне возможно, то вполне естественно, даже вполне необходимо предположить, что в загробной жизни она будет продолжать развиваться в том же направлении до бесконечности и потому именно, что там не окажется никаких причин, которые-бы отклонили её в сторону от взятого ею направления. Следовательно, на наш взгляд, дело обстоит таким образом. Тот рай, который так смущает иных, отчасти составляет достояние нравственно-прекрасного человека уже здесь – на земле, – по крайней мере, в начальной стадии его, – и было-бы крайне неразумно и непоследовательно предполагать, что рай будущей жизни не есть вполне и даже единственно естественное продолжение земного, понимаемого в указанном смысле. Что сказано о рае, то же должно сказать и об аде. Человек, в здешней жизни постоянно проявляющий себя в направлении нравственно-дурном, создает внутри себя прочное злое настроение, прочно-злую волю или, что собственно тоже в некотором смысле, ад, сопряженный с мучениями и терзаниями совести. Естественным продолжением земного ада является ад будущей жизни, как имеющий состоять прежде всего в дальнейшем развитии того нравственно-порочного настроения человеческой воли, какое приобретено ею здесь. Если на земле поворот окрепшего нравственно-порочного направления в противоположную сторону, без вмешательства в дело чего-либо очень необыкновенного, психологически невозможен, то эта невозможность естественно останется таковою-же и в жизни загробной… Словом, рай и ад, прежде всего, не есть что-либо извне привходящее в человека, не есть что-либо даруемое ему только и только со стороны, но преимущественно и главным образом создаются самим-же человеком. Сам-же последний прежде всего обусловливает и продолжаемость того и другого до бесконечности, помимо вмешательства в это дело какой-либо чуждой, посторонней силы. Что-же касается так называемых внешних благ и внешних наказаний, т. е., телесных, имеющих стать уделом праведного и нечестивого в будущей жизни, то они послужат только приложением к внутренним, поскольку мы воскреснем и своими телами. И, если-б кто-либо здесь – на земле – стал поступать добродетельно из побуждения, навеянного страхом получить себе в будущей жизни в удел внешние муки, – из побуждения, какого столь боятся некоторые лица, – то такой человек не был-бы нравственно-хорошим с христианской точки зрения, которая ценит главнейшим образом чистоту внутреннего настроения, с каким поступки совершаются человеком (ср. Мф.23:25, 26…). Поступки-же, совершаемые с корыстною целью (напр., с желанием получить в удел от Бога блаженство за гробом), а равно и по принуждению (напр., со стороны страха пред будущими мучениями), в нравственном отношении никакой цены не имеют. Всему учению христианства безусловно чуждо то, что сколько-нибудь отмечено духом корыстности. Кто в своей деятельности руководствовался одною только любовью к добру, возвещаемому Евангелием Христовым, тот только и получит от Бога высшую похвалу. Низших-же удостоятся, конечно, те, кто, в силу немощи своего естества, позволил себе некоторое, хотя-бы и мало существенное, отклонение от всецелой чистоты этой любви. С данной именно точки зрения, по святоотеческому толкованию, и следует рассматривать евангельское учение о различных степенях блаженства… (Ин.14:2; Мф.16:27, 10:41–42…).
Но – довольно! Ясно для непредубежденных, что говорить о каком-то корыстном элементе христианских нравственных принципов нельзя. Там, где налицо безукоризненная чистота, напрасно искать чего-либо ей чуждого и с нею несовместимого.
2) Правда-ли, что Божия помощь человеку, с одной стороны, и дьявольские против него козни, с другой, лишают нравственное поступание человеческое внутренней его ценности?… Нет, неправда. Из того обстоятельства, что, по христианскому учению, Бог содействует человеку в его благих стремлениях и начинаниях, а дьявол всячески ему противодействует, совращая его на путь зла и порока…, не следует, что человек как-бы связан в своей нравственной деятельности по рукам и ногам.
Соображения иначе рассуждающих лиц, их опасения… тогда могли-бы еще иметь некоторый смысл, когда-бы человек в своей жизни и деятельности не испытывал на себе никаких других, кроме названных, воздействий. Между тем, в действительности видим далеко не то: на человека постоянно и всюду идут всякого рода воздействия, начиная с самой ранней поры его жизни и до самой смерти, – воздействия и влияния как со стороны его родителей, воспитателей, учителей, товарищей, так и вообще со стороны той среды, в которой ему всегда приходится вращаться и с интересами которой – так или иначе сталкиваться и считаться. Эти влияния – сильны и сомнению не подлежат. Почему-же, в виду всех таких воздействий, защитники адогматизирования христианской этики не считают человека стесненным в своей нравственной деятельности, а лишь только в виду воздействий, направляющихся со стороны Бога и дьявола? На это они не могут дать разъяснений, достаточно обоснованных. Кроме того, рассматриваемое нами положение их следовало-бы признать состоятельным в том лишь случае, если бы, с точки зрения христианства, указанные воздействия и влияния были настолько сильны, что человеку оставалось-бы только подчиняться им – не больше, – что говорить о каком-либо самостоятельном его к ним отношении было-бы невозможно. Но такого взгляда христианство, само собою понятно, не высказывает и не думает высказывать. Ведь проповедуемые христианской религией рай и ад, служащие в данном случае каким-то особенным пугалом для данных адогматистов, не могли-бы быть сколько-нибудь понятны, если-б человек действительно был не в силах направлять свои действия по личному усмотрению. Но они всецело понятны нам, потому что, по учению христианства, всякий человек нравственно-свободен и каждый, следовательно, может в тех или других случаях поступать и так, и иначе, – свободно «определять себя» (по выражению о. И.Л. Янышева) в «нравственно-добром» или «нравственно-дурном» смыслах. Отсюда двери рая представляются отверстыми не для всякого потому только, что он числится христианином, а лишь для того, кто живет добродетельно, высоконравственно… кто не злоупотребляет своею нравственною свободою, а направляет её по здравому пути. Сверх этого, воздействия со стороны Бога и дьявола, прямо противоположные одни другим, даже полезны для человеческой свободы, всячески упражняя её и испытывая: поставленный среди таких воздействий – человек, поступая, однако, по своему усмотрению, т. е., отдавая предпочтение то одним из них, то другим, в конце концов развивает целое направление своей воли, отмеченное тем или иным характером, при чем насколько больше препятствий он встречал себе на пути, настолько больше чести заслуживает его свобода, не поддавшаяся их влиянию… Ведь для подобной-же цели Бог дал нашим прародителям и заповедь в раю, чтоб, исполняя её, они укрепляли свою нравственную свободу, развивали её… Не было-бы заповедей и проч., не было-бы для человека и почвы, на которой могла-бы расти его нравственная жизнь надлежащим образом… По отношению-же к рассматриваемому нами ныне случаю надлежит сказать, что, если-б человеческая свобода стояла вне условий борьбы с воздействиями, идущими со стороны Бога или дьявола, или его собственной природы, или внешней…, тогда и действия, отпечатленные ею, не имели-бы особенной цены и значения. Это – бесспорно… И так, нет оснований бояться того, чем пугают других и чего боятся сами, рассматриваемые нами, адогматисты.
3) Принижают-ли догматические основы этики нравственную сторону жизни человека сравнительно с «религиозною» и даже внешне-«обрядовою?» Действительное положение вещей дает отрицательный ответ на этот вопрос.
Религиозным основаниям, догматам, конечно, в христианстве придается большое значение, что и естественно. Напр., без веры в Бога, в Иисуса Христа и Его искупительное дело и проч. христианин, как такой, не может быть мыслим нисколько. Всё это – так. Но эта вера, рассматриваемая сама только по себе, – с точки зрения христианства, особенного значения не имеет. Ты веруешь, говорит св. ап. Иаков, что Бог один: хороню делаешь; и бесы веруют и трепещут. Но хочешь-ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва… (Иак.2:19–20)? Вера вне её отношений к делам, вне её связи с нравственным поступанием человека называется в христианстве безжизненною, которая одухотворяется только нравственным поведением христианина. Добрые дела, свидетельствуя о нравственно-добром настроении человека, служат прославлению Бога больше, чем какая-бы то ни было вера, но замкнутая в себе. Господь говорит в «нагорной беседе»: да светит свет ваш пред людьми, чтоб они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного (Мф.5:16). Отсюда и царство небесное обещается лишь тем, кто проводит евангельский нравственный закон в самой своей жизни, а не тем, кто считается последователем Господа только на словах: не всякий, говорящий Мне: Господи, Господи! войдет в царство небесное, – таковы слова Господни, – но исполняющий волю Отца Моего небесного. Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего-ли имени мы пророчествовали? и не Твоим-ли именем бесов изгоняли? и не Твоим-ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас: отойдите от Меня, делающие беззаконие (Мф.7:21–23). Если-же св. ап. Павел в некоторых местах своих посланий и говорит об оправдании верою, независимо от дел закона (Рим.3:28; Еф.2:8–9), то он утверждает, вопреки мнению рассматриваемых нами адогматистов, не то, что в христианстве вера стоит неизмеримо выше нравственного поступания человека, а то, что дела закона, на которые обыкновенно ссылались некоторые из иудеев и по переходе их в христианство, в последнем уже не имеют значения, какое им принадлежало во времена ветхозаветные – до явления в мир Спасителя. Ап. Павел, как то неоспоримо показывается самым контекстом его речи, из которой адогматистами вырываются различные его выражения, в этих случаях говорит не о том, следовательно, что думают здесь найти данные мыслители, а о совершению другом… Итак, вера христианская должна проявляться в добрых делах, оживотворяющих её и возвышающих. Это – истина, которой в христианстве не знает разве лишь младенец. Но и эти самые добрые дела, в свою очередь, должны одухотворяться любовью (к Богу и ближним, что составляет сущность всех христианских заповедей: см. Мф.22:37–40: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая-же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки). Без любви, как такой, поэтому, и самые добрые дела наши не имеют никакого нравственного значения: напр., раздача всего имения, даже отдание тела своего кем-либо на сожжение без любви – в нравственном отношении – ничто, а тем более – ничто без неё обладание даром говорить языками человеческими и ангельскими, даром пророчества, знанием всех тайн, всяким познанием и всею верою, при которой можно и горы переставлять. Такова любовь и её сила (1Кор.13:3, 1, 2). Взаимная любовь христиан друг к другу, проявляющаяся в соответствующих делах, считается Спасителем за главнейший и даже единственнейший в некотором роде признак, по которому можно отличить Его учеников от других людей (Ин.13:34–35: заповедь новую даю вам, да любите друг друга, говорит Спаситель; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою). Наконец, в день великого страшного суда удостоятся похвалы и награды только те, кто самыми делами своими проявляли любовь к ближним (Мф.25:31–46): кто, в частности, кормил алчущих, поил жаждущих, принимал странников, одевал нагих, посещал больных, навещал заключенных, – те услышат голос Судии-Царя: приидите, благословенные Отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Поступавшие-же иначе услышат грозный приговор: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его… (loc. cit.). Долго было-бы в настоящем случае перечислять все те места из священных новозаветных книг, где ясно показывается, что в христианстве нравственность ни мало не унижается по сравнению с верою и вообще религиозными, догматическими её основаниями, но что, напротив, сама вера вне её отношений к нравственному поступанию человека не имеет никакого значения. Что-же касается так называемой внешне «обрядовой» стороны, имеющей место в христианской жизни, то даже и речи о заслонении ею нравственно-добродетельного поступания человека быть не может. На внешне-«обрядовую» сторону в христианстве обыкновенно смотрят лишь как на нечто, служащее к обнаружению во вне полноты внутренних религиозных чувств человека-христианина, – обнаружению, столь-же необходимому, сколь необходимо бывает человеку в обыкновенном его житейском быту под влиянием, напр., горя, так сказать, «отвести душу» беседою со своими друзьями, знакомыми, а под влиянием чувств радости – выразить их полноту в такого же рода беседах со своими близкими… Человек, духовная жизнь которого полна богатством, не может не поделиться им с окружающими его людьми, не может не сделать и этих участниками своих внутренних избытков. И это бывает необходимо и будет необходимо, пока человек не перестанет состоять не только из души, но и из тела, которое, в свою очередь, также известным образом должно заявлять об отношениях человека к Богу. Кроме того, общественное богослужение, общественная молитва и проч. в этом-же роде служат великим внешним средством к тому, чтоб выражать и закреплять единение христиан друг с другом, чтоб наглядно показывать, что лица, собирающиеся для такого рода действий воедино, – братья во Христе, что они, не смотря на очень значительное часто различие в их общественном положении, с христианской точки зрения – равны между собою, как все одинаково искупленные Спасителем и проч. Даже сам Л. Толстой когда-то писал: «мне радостно было сливаться мыслями со смирением отцов, писавших молитвы. Радостно было единение со всеми веровавшими и верующими» и т. д. (чит. у проф. А. Ф. Гусева в его брошюре: «Необходимость внешнего богопочтения»…, по изд. 1902 г., стр. 35). Но быть какою-либо помехой в отношении к нравственности внешне-«обрядовая» жизнь не намерена, не может и не бывает, где она поставлена нормально. Конечно, и здесь, как и везде, могут быть и действительно случаются и отклонения от правого пути: напр., некоторые, неправильно понимая внешнюю обрядность, иногда её рассматривают, как своего рода самоцель, имеющую полный смысл и значение саму по себе, и, забывая о необходимости заботиться главнейшим и исключительным в некотором роде образом только о своём внутреннем святилище, об его украшении и просветлении, все свои попечения ограничивают, к сожалению, одним внешним только исполнением тех или других религиозных обрядов, напр., молятся без соответствующего внутреннего настроения…, – словом – превращаются в то, что у нас обозначается словами: ханжа, фарисей…, но такого рода отклонения, как своего рода уродство, в этом смысле и должны быть рассматриваемы, но не должны быть возводимы близоруко в принцип. Не по уклонениям от нормы надлежит судить о самой норме. Противники-же догматических основ христианской нравственности почему-то не желают принимать данного обстоятельства во внимание. Inde errores, blasphemiae…
4) Действительно-ли догматические основы нравственности христианской служат причиною произвола в деле толкования нравственных принципов со стороны представителей христианской религии?
Нет, не служат…, поскольку, по крайней мере, иметь в виду православно христианскую Церковь. Дело в том, что всё христианское вероучение и учение о нравственности содержатся в священных книгах Нового Завета и преимущественно в Евангелии Христовом. Это всякому известно. Затем, все эти книги доступны каждому, кто хотел-бы с ними ознакомиться. Православная Церковь никому не воспрещает читать слово Божи; напротив, она всячески поощряет это чтение. Отсюда, если-б кто-либо из православно христианских пастырей вздумал заведомо ложно или вообще ложно толковать содержащиеся в указанных первоисточниках христианства истины или придумывать такие, указания на которые не находилось-бы там, то всякий без особенного труда мог-бы изобличить его в том. Но, по крайней мере, православная христианская Церковь не проповедует ни одного догмата, который не мог-бы быть оправдан с точки зрения священных книг Нового Завета. Все догматы нашей Церкви опираются бесспорно на слово Божие. Следовательно, зависимое отношение к таким догматам христианских нравственных принципов не может отозваться на последних сколько-нибудь неблаготворно. Напротив, всё, созидаемое на столь крепком и столь незыблемом основании, в свою очередь, также должно быть твердо и несокрушимо. Речь о лжетолкованиях, конечно, была, как знаем, всецело уместна в отношении к древне-языческим религиям и их жрецам, которые, в своекорыстных расчетах, измышляли постоянно всякого рода небылицы. Затем в новейшее время она приложима и к инославным христианским вероисповеданиям: 1) к католическому, где главенство папы соединено со многими произвольными измышлениями не оправдываемых евангельским духом догматов, – где, прикрываясь своею мнимою непогрешимостью, папа может освятить какую угодно фальшь и ложь: ведь признал-же покойный Пий IX Альфонса Лигуори – этого безнравственного антиномиста, проповедника самого лживого толкования принципов христианской этики – за «учителя церкви» (doctor ecclesiae), на которого всякий католик может ссылаться, как на выразителя чистой истины! Альфонс для того, чтобы отстоять какую-либо ложь, не гнушался подделывать в своих сочинениях даже цитаты…, – и такой-то человек ставится в пример… (чит. о нём в нашей брошюре: «Мораль старого и нового иезуитизма»; Спб. 1902). Но – довольно! Дело ясно. 2) Речь о рассматриваемых лжетолкователях приложима и к вероисповеданию протестантскому с его делениями на всевозможные секты и пр. в роде реформатства…, где предоставленное каждому в отдельности человеку право толковать св. Писание по своему личному усмотрению, конечно, не в меньшей (если не в большей еще) мере связано со множеством всякого рода заблуждений, какими протестантство себя действительно и заявляет… Но, повторяем, эта речь ни мало не приложима к православному вероисповеданию, которое избегает всех ошибок, строго полагаясь в деле понимания евангельского учения не на слабый человеческий ум отдельных лиц нашего времени. а на руководство со стороны св. Предания и других авторитетнейших данных. Здесь всё ясно, всё определенно, всё может быть проверено… А если так, то и данное возражение адогматистов падает уже само собою, когда идет речь о православно-христианской этике.
5) Догматические основы обусловливают-ли возникновение у людей с различными религиозными убеждениями недоброжелательных чувств вместо любви? Адогматисты, отвечая на вопрос утвердительно, стоят на ложной дороге.
Что «de facto» враждебные отношения между людьми обусловливались и обусловливаются иногда различием религиозных убеждений, напр., в католической церкви и пр., у еретиков, сектантов… – это – бесспорная правда. Но из этого нельзя делать каких-либо выводов по существу. Должно обращать внимание не на то, что бывает, а на то, что должно быть и от чего действительность иногда произвольно уклоняется в сторону. А что должно быть, об этом находим ясные указания в священных новозаветных библейских книгах. Господь наш Иисус Христос заповедал нам любить не только любящих нас, что делают и мытари, и не только братьев наших, что делают и язычники, но всех людей без изъятия (Мф.5:46–47). Различие религиозных убеждений не должно побуждать нас к недоброжелательному, враждебному отношению к нашим ближним. Напротив, мы должны с полною любовью заботиться об их обращении на правый путь и их спасении. Только в этом случае мы выполним данный нам завет Христов. А что Спаситель наш так именно смотрел на дело, это, помимо многого другого, свидетельствуется следующим, напр., обстоятельством из Его земной жизни. Не принятый в одном самарянском селении – Иисус Христос на предложение Иакова и Иоанна поразить жителей этой деревни небесным огнем ответил; не знаете, какого вы духа; ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать (Лк.9:52–56). Различие религиозных убеждений не должно также уполномочивать нас горделиво думать о себе, что только мы одни поступаем надлежащим образом, а что у разногласящих с нами лиц жизнь и деятельность будто бы не представляют собою ничего хорошего, ничего согласного с божественною волею. И по смыслу Писания принадлежат как слава, так и честь, равно и мир всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Эллину (Рим.2:10). Короче сказать: вместо того, чтоб презрительно и пренебрежительно относиться к лицам, религиозные убеждения которых не согласны с нашими, – по смыслу Христова учения – мы должны больше следить за собою, за своими промахами и недостатками и за исправлением одних и искоренением других, – мы должны, в виду множества своих личных нежелательных качеств, проникаться не чувством горделивости, а чувством самого глубокого и искреннего смирения, – мы должны в деле заботы о спасении других даже жертвовать собою: и своим здоровьем, и даже самою жизнью и т. д., безусловно удалив чувство самолюбия, поскольку в последнем коренится несогласный с евангельским духом элемент. Словом, с истинно-христианской точки зрения, в наших отношениях к кому-бы то ни было может быть речь только о любви, проявляемой, конечно, разнообразно, применительно к тем или иным обстоятельствам, применительно к тем или иным лицам – к их неодинаковым условиям и проч. Следовательно, правильно понимаемые христианские религиозные основания нравственности ведут не к тому, на что указывают разумеемые нами адогматисты, а как раз к противоположным явлениям.
6) Правда-ли, что догматические основы нравственности являются излишним балластом, потому что-де и безбожники иногда отличаются высоконравственным образом жизни и наоборот? Нет, неправда.
Конечно, в христианском обществе, особенно в наши дни, не редкое явление составляют люди, по-видимому, весьма религиозные, но в действительности отличающиеся очень сильною безнравственностью, разнузданностью, которым незнакомо ни милосердие, ни сострадание к своим ближним и проч. Этот факт отмечается адогматистами совершенно правильно. Подобных людей и сами мы, конечно, постоянно наблюдаем. Всё это, словом, верно. Но совсем неправилен делаемый отсюда рассматриваемыми мыслителями вывод. Дело в том, что существование подобных людей в среде христиан должно быть рассматриваемо – как уклонение от желательного идеала, от нормы, – строго порицаемое духом св. Евангелия. Это – уродливое явление в христианском обществе, но потому именно, что оно уродливое, и нельзя на основании его строить каких-либо заключений, а особенно важных и существенных. Последние должны быть построяемы на основании явлений нормальных, здоровых… и только этих одних. Против такой точки зрения на дело нельзя ничего возразить. Таким образом, ссылка адогматистов на существование в христианской среде людей, по-видимому, религиозных, но в то же время действительно безнравственных, поистине изумительна по странности делаемых ими из неё выводов, – говорим: изумительна, – так как подобные люди – религиозны именно только по наружности, по внешности лишь, а не в действительности, не по существу и, следовательно, судить о взаимоотношении между догматами, религией, с одной стороны, и нравственностью, с другой, на основании поведения таких лиц безусловно невозможно. Людей, на устах имеющих имя Господа, но не исполняющих воли Отца Небесного, – от имени Господа пророчествующих, именем Его изгоняющих бесов и творящих многие чудеса, но делающих беззаконие, Господь считает недостойными войти в царство небесное и отгоняет от Себя прочь: не всякий, говорящий Мне: Господи! Господи! войдет в царство небесное, но исполняющий волю Отца Моего небесного, говорит Господь. Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего-ли имени мы пророчествовали и не Твоим-ли именем бесов изгоняли и не Твоим-ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас: отойдите от Меня, делающие беззаконие (Мф.7:21–23: стр. 24–27 и друг.).
По словам адогматистов (каких имеем у себя в виду), лицам, отстаивающим причинную связь между религией и нравственностью, должно считаться с фактом существования высоконравственных людей и, однако, в то же время безбожников. Не можем отрицать, что среди последних действительно встречаются лица, по-видимому, высоконравственные, по-видимому, исполненные духа милосердия и любви к своим ближним, иногда готовые для спасения последних даже и на высокие подвиги в роде жертвования своею жизнью и т. под.: коротко сказать: высоконравственные, насколько о внутреннем настроении людей можно судить по их делам, по их поведению. Однако, такого рода факт должно рассматривать не с одной только лицевой, показной его стороны, а главным образом со стороны внутренней, со стороны его существа. И прежде всего: где должно искать источник, обусловливающий собою такое, по-видимому, высоконравственное поведение безбожников? Подобные лица, как показывает действительность, обыкновенно встречаются не везде. Это – большею частью люди, или родившиеся христианами и воспитанные в христианском духе, в христианской семье, но затем по каким-либо условиям и обстоятельствам их жизни ставшие безбожниками, – или родившиеся от родителей-безбожников, но, тем не менее, выросшие и жившие или даже и живущие среди христианского общества, – так сказать, дышащие ею духом, его воздухом и проч. Отсюда возникает весьма правдоподобное предположение о совершенно возможном воздействии на них, на их образ мыслей – той христиански-настроенной среды, в которой им приходится вращаться в течение всей своей жизни. Эта среда в существе и обусловливает собою их религиозно-нравственное мировоззрение. Такое воздействие, в виду постоянного сношения безбожника с христианским обществом, среди которого он проводит всю свою жизнь, стоит вне всяких сомнений. Его не следовало-бы в данном случае принимать в расчет только тогда, когда рассматриваемым адогматистам, выставляющим подобные примеры, удалось-бы с точностью выделить в такого рода лицах то, что возникло в них под воздействием христианской среды или вообще христианским, от всего остального, и затем доказать, что они сделались нравственными, прониклись милосердием, сострадательностью самостоятельно, независимо в отношении к христианским началам – как религиозным, так и иным. Однако, такое выделение невозможно: до такой степени существенно воплотилось в их природу христианское мировоззрение! Не будь влияния со стороны этого последнего, самое существование истинно-высоконравственных лиц было-бы немыслимо. Поясним дело примером. Искони привыкли хвалить Сократа и некоторых других древних мудрецов и ставить их в пример прочим. Между тем в настоящее время нельзя было-бы их признать высоконравственными, если, напр., припомним известную любовь к мальчикам одних из них, презрительное отношение к окружающей среде других и т. д. Всё это и естественно в виду того, что под их нравственным мировоззрением не было прочного, именно христианского – религиозного основания. Но, помимо того источника, благодаря которому безбожники являются людьми относительно нравственными, обращает на себя внимание самое содержание их нравственных поступков. Разумеемые нами адогматисты в этом случае заявляют, что таким людям присуще-де чувство уважения к «истине», к «правдивости», к чужой «собственности», чувство «признательности» к другим за те или иные, получаемые от этих, благодеяния… и вообще фактическое признание за прочими людьми известных прав и т. д. Пусть будет так! Но не следует опускать из вида того, что всё это – такие качества, которые, не смотря на их прекрасные, конечно, стороны, тем не менее далеко еще не наполняют собою всего объема понятия христианской нравственности, – и даже более: не наполняют собою и наиболее существенной его части. В самом деле, можно обладать всеми названными свойствами, но в то же время не быть еще нравственно-добрым в лучшем смысле этого слова, в христианском. Христианство учит о происхождении всего человеческого рода от одной четы и «eo ipso» ясно говорит о характере нормальных человеческих взаимоотношений, указывая один из весьма существенных поводов, побуждающих людей к взаимной любви. Безбожнику же чужд такой взгляд на дело. Не имея подобного библейскому взгляда на происхождение человеческого рода, он не знает и названного побуждения, делающего любовь между людьми более внутреннею, более естественною и понятною. Кроме того, в силу своей гордости (столь естественной у необлагодатствованного человека) он может возомнить о себе больше, чем следует, и прийти к заключению о сравнительно низшем происхождении других людей и отсюда о необязательности братского к ним отношения и т. под. Ведь пришли же к таким заключениям даже величайшие языческие умы, каковы были, напр., Платон, Аристотель, с презрением относившиеся ко всем не-грекам, да и из греков не ко всем равномерно… (ср. обо всём этом в начале нашей статьи). Не говорим уже, далее, о том, что такие, прославляемые некоторыми адогматистами, безбожники вместо внутренней любви между людьми нередко призывают низшие – бедные классы к вражде с богатыми, что уже ни мало не вяжется с нравственностью, понимаемою в истинном (христианском) смысле этого слова… Впрочем, адогматисты продолжают утверждать, что среди безбожников встречаются даже такие люди, которые, помимо перечисленных выше и подобных им добрых качеств, не наполняющих еще собою всего объема или даже существенной части объема понятия нравственности, обладают более высшими, в силу каковых они способны-де ради блага ближнего жертвовать даже своею жизнью. Подвиг поистине великий! Но опять следует оценивать его не по одной только показной стороне, а преимущественно по внутренней, по существу. В самом деле, что побуждает таких людей к подобным подвигам самопожертвования? Любовь к ближним? Внимательное наблюдение над действительною жизнью весьма часто дает ответ совсем много рода. Под маской расположения к ближним нередко скрывается крайнее самолюбие. Из-за стремления безбожника к облагодетельствованию ближних часто проглядывает страстное желание снискать себе почет со стороны других людей, желание, чтоб о нём все говорили, хвалили его, превозносили и проч. По-видимому, для пользы окружающих его людей такой человек готов на какие угодно подвиги, но в действительности его в данном случае привлекает совсем другое: слыть в глазах остальных передовым, авторитетным… человеком, к мнению и голосу которого все прислушиваются. У иного из такого рода благодетелей руководящею причиною в данном случае является, впрочем, даже и другое: напр.. он готов жертвовать своею жизнью просто по той причине, что ему и без того надоела жизнь, или – движимый чувством слепого фанатизма и т. п. Словом, выставляя подобных безбожников в настоящем случае в пример, разумеемые нами адогматисты обыкновенно увлекаются одною только наружною стороною дела, на основании которой делать выводы можно лишь с крайнею опасностью впасть в грубую ложь.
Других возражений, предлагаемых адогматистами, как еще более шатких, не касаемся, так как они не заслуживают разбора. Например, эти лица говорят: вопрос о зависимости нравственности от религии тогда еще мог-бы получить смысл, если-б человек был в состоянии иметь истинную в безусловном смысле религию, т. е., если-б он был в состоянии познать Бога со стороны Его «сущности» и т. д. А это-де не лежит в человеческой власти; иначе не было-бы налицо множества различных религий. При таких-же условиях, т. е., при невозможности иметь надлежащее представление о Боге, потому что Он недоступен нашему ведению, – прямо-де следует заключить о полной несостоятельности и опирающейся на подобном основании нравственности. Что-либо говорить по поводу этого возражения излишне, так как христианская, в частности, религия истинна, и таковы-же, следовательно, опирающиеся на её догматах нравственные принципы, незыблемость которых именно и обусловливается незыблемостью самого их фундамента религиозного. Напрасно адогматисты, нами разумеемые, утверждают, что наука будто бы блистательно опровергнула все догматы христианской религии. Это утверждение – голословное. Враждебные христианству направления – одно за другим – исчезли и исчезают, а христианство стоит, подобно несокрушимой скале, незыблемо. Так будет и впредь всегда…
Коротко сказать: с какой-бы стороны и какие-бы возражения адогматистов3 мы ни рассматривали, всюду они, прилагаемые к христианской (православной) этике, опирающейся на христианских (православных) догматах, являются шаткими, несостоятельными, по крайней мере, на взгляд непредубежденный, беспристрастный, – так что и на второй вопрос, поставленный в заглавии нашей статьи, – именно на вопрос: нужно-ли адогматизировать христианскую этику? – считаем возможным ответить только отрицательно.
Итак, во-первых, нельзя, а во-вторых, нет надобности лишать христианские нравственные принципы лежащих под ними догматических основ, сообщающих первым смысл, устойчивость, жизненность, привлекательность…, бесследно исчезающие при иных условиях.
Проф. А. Бронзов
Церковь Христова и временно без епископа быти не может.4 (Замечания на книгу Ивана Усова «Церковь Христова временно без епископа» миссионеров: священника Сергия Шалкинского и Кал. Картушина) // Миссионерское обозрение 1903 г. № 11. С. 45–66
Из книги Усова. Старообрядец. Но ведь и проповедуемая вами вселенская-то Церковь есть тоже частная Церковь.
Новообрядец. Как же это так?
Старообрядец. А так. Объясните мне, что именно вы разумеете под словами частная Церковь, вселенская Церковь?
Новообрядец. Об этом моё понятие такое: вселенская Церковь есть все верующие люди, или всё общество людей, которые сейчас живут на земле. А частная Церковь есть часть этого общества, находящаяся в какой-либо местности, отчего она иначе называется еще поместною Церковью.
Старообрядец. Вы сказали правильно, но не совсем. Общество людей, живущих в настоящее время на земле, отнюдь не составляет всей Христовой Церкви, а только часть её. Вся Церковь Христова состоит из всех небесных сил бесплотных; из всех святых людей, живших от Адама и до сего времени; к Церкви принадлежат и все люди, живущие в настоящее время на земле, содержащие истинно православную веру, и каждый христианин, исполняющий все евангельские заповеди. Что к Церкви Божией принадлежат и силы небесные, об этом свидетельствует и священное Писание, и святоотеческое учение. Так святой апостол Павел пишет в послании к ефесеям, что Бог положил «в смотрение исполнения времен, возглавити всяческая о Христе, яже на небесех и яже на земли в нём (зач. 217), воскресив его от мертвых и посадив одесную себе на небесных, превыше всякого начальства и власти, и силы и господства, и всякого имени, именуемого не точию в веце сем, но и в грядущем» (зач. 218). В другом месте он же пишет: «И той (Христос) есть глава телу церкви, иже есть начаток, перворожден из мертвых, яко да будет во всех той первенствуя, яко в нём благоизволи всему исполнению вселитися и тем примирити всяческая к себе умиротворив кровию креста его, через него, аще земная, аще ли небесная (колос. зач. 251). И еще: «Не приступисте бо к горе осязаемей…, но приступите к сионстей горе и ко граду Бога живаго, Иерусалиму небесному и тмам ангелов, торжеству и церкви первородных на небесех написанных, и судии всех Богу, и духом праведник совершенных и к ходатаю завета нового Исусу» (евр. зач. 332). Блаженный Августин учит: «Итак прямой исповедания (веры) порядок требовал того, дабы святей и единосущней Троице созиждена была Церковь, как бы жителю дом, Богу храм, и градодержателю град его. Оная Церковь должна здесь состоять не только из части, которая странствует на земле от восток солнца до запад, хваля имя Господне, и после плена древнего поя песнь нову, но и из небесной, прилепившейся навсегда к своему Создателю, никогда же ни единого зла от своего падения не испытавшей. Оная Церковь во святых пребывала ангелах не порочна, которая ныне своей странствующей части, якоже подобает, спомощствует. Оная Церковь ангелов и человеков будет участна вечности, которая вся учреждена для почитания единого Бога, едина в союзе любви и между собою всегда пребывает» (кн. его «Ручник: о вере, надежде и любви», гл. 54). В книге «О вере» также написано: «Скиния Моисеова, и церковь Соломонова образи бяху двоих церквей Христовых; сиречь, иже есть на земли и иже есть на небесех: церкви иже есть на земли образования бяше скиния Моисеова, церкви же паки небесной образ бяша церковь Соломонова, созданная на горе. Две суть церкви числом, но едина верою. О сей, иже на земли, рекл Господь: на сем камени созижду Церковь мою, а о небесной апостол рече: приступисте к сионове горе, и ко граду Бога жива Иерусалиму небесному, и к позору тем ангел, и собору первородных написанных на небесех» (кн. о вере, гл. 2, л. 17 и обор.). Из сих непререкаемых свидетельств ясно открывается, что Церковь Христова состоит не из одних только людей, верующих в Бога и исполняющих его святые и спасительные заповеди, но и из святых бесплотных сил Божиих, так что Церковь состоит как бы из двух частей: небесной и земной, которые по числу – две; но по вере в Бога – одна, состоящая под единою главою Господом нашим Иисусом Христом (кн. о вере, гл. 7, л. 57), главою всех «яже на небеси и яже на земли» (колос. зач. 250). Таким образом открывается, что и все истинно верующие люди, не только в настоящее время живущие на земле, но и все, которые были от Адама и до пришествия Христова, только часть всей святой Церкви Христовой, состоящей из ангелов и всех святых небесных сил бесплотных.
А что к земной части Церкви Христовой принадлежат все святые, в какое бы время они ни жили, начиная от Адама и до страшного суда Христова, на это есть очень много свидетельств в учении святых отец. Представлю здесь некоторые. Святой Иоанн Златоуст в толковании на слова апостола Павла: «Едино тело, и един дух, Якоже и звани бысте во едином уповании звания вашего; един Господь, едина вера, едино крещение» – говорит следующее: «Что же есть едино тело? – Иже везде сущии по вселенней вернии, и сущии, и бывшии, и быти хотящии; паки и иже прежде Христова пришествия благоугодившии, едино тело суть. Како? – Зане и они Христа ведяху. Откуду явлено? – Авраам отец ваш, рече, возрадовася, да видит день мой и виде возрадовася» (бес. апостольск., стр. 1676–7, 10-я бесед. на посл. к ефес.). Подобно сему и в большом «Катехизисе» изложено: «Еще же и вси вернии во всем мире, иже ныне суть, бяху, и будут сии суть единою святою соборною церковью, домом же Божиим, иже есть столп и утверждение истины: 1 тим., зач. 284. (ниже В конец же вси святии в раи и на небеси суть, право истинно церковью Божиею нарицается» (катехиз. больш. гл. 25, л. 120 об.). Сице учит и книга «О вере»: Вы есте тело Христово, и уди от части, яко Церковь есть тело Христово, яже от собрания верных нас глаголю человеком всякого возраста и сана, святых Божиих и праведных мучеников и преподобных и всех благочестивых от веков составная, и Церковью наречеся» (гл. 2, л. 22).
Таким образом, земная церковь, представляющая собою только часть всей Церкви Божией, состоящей и из ангелов, в свою очередь состоит из нескольких частей: из святых, пребывающих в раю, и из верующих, живущих в настоящее время на земле, и, значит, эти верующие люди, или Церковь вселенская, есть только часть всей соборной Церкви Божией. А представляя собою только некоторую часть всей Церкви Божией, вселенская Церковь, или люди верующие, живущие сейчас на земле, есть частная Церковь. А вы сами настойчиво утверждаете, что частная Церковь может быть и без епископа и не перестанет быть православною Христовою Церковью. Так и наша старообрядческая церковь Христова, как частная церковь по отношению ко всей Церкви Божией, в продолжении ста восьмидесяти лет не имея православного епископа, была истинно православною Христовою Церковью. хотя и вдовствующею.
К полнейшему уяснению истины относительно вселенской Церкви считаю нужным сказать следующее. Если, по вашему понятию, вселенская Церковь есть общество, распространенное по вселенной, соединенное единою верою, то спрашивается: католическая церковь вселенская ли Церковь? Она более всех распространена по вселенной.
Новообрядец. Вселенская.
Старообрядец. А ваша?
Новообрядец. Без сомнения, вселенская.
Старообрядец. А армянская?
Новообрядец. И армянская церковь есть вселенская церковь.
Старообрядец. Ого, сколько у вас вселенских-то церквей, и не пересчитаешь! А ведь мы, по символу веры, должны исповедовать только одну церковь, а не многие. Прямо сказано: «во едину святую соборную и апостольскую церковь». Если, как вы сами свидетельствуете, вселенских церквей много, то скажите: какая из них есть истинная Христова Церковь?
Новообрядец. Та, у которой есть свои епископы.
Старообрядец. А у католической церкви есть свои епископы?
Новообрядец. Да есть.
Старообрядец. Значить она и есть истинно православная Церковь? Так ли?
Новообрядец. Нет: она еретическая, потому что содержит ереси.
Старообрядец. Вот вы и сами пришли к тому заключению, что истинная Церковь узнается не по епископам, а по тому, какую веру содержит: православную или еретическую. Поэтому-то и святые апостолы, и святые собор, и святые отцы и учителя Церкви не ставили епископов главным признаком православности Церкви, потому что епископов имеют и еретики, и не определяли её словом «вселенская церковь», ибо так могут называться и еретические церкви, как вы сами подтверждаете. Главным же признаком православности Церкви они ставили православную веру. Если какая Церковь содержит православную веру, то значить она и есть православная Церковь, хотя бы была и вдовствующею, без епископа, и как бы ни называлась: вселенскою или частною. Святые апостолы и святые отцы в определении православности церкви не называли её ни вселенской, ни частной, ни поместной, церковью, а называли её единою, святою, соборною и апостольскою Церковью или просто Христовою Церковью, Божией Церковью и т. п. Это потому, что названия вселенская, поместная и частная, – не означают ни православия, ни кривославия церкви, а показывают только её пространство: в одной ли местности она находится, или по всей вселенной и больше ничего. Всё равно как названия: русская, болгарская, греческая, цареградская, московская церковь означают только местность, где находится церковь, а не указывают ни на её православие, ни на её кривославие. Так и название вселенская Церковь указывает только то, что она находится во вселенной, – и больше ничего. Но во вселенной находятся все еретические церкви: значит и они могут назваться вселенскими церквами, как вы сами сказали. Посему должно употреблять такие названия церкви, которые бы её отличали от еретических церквей и не ставили бы на ряду с ними. Таковы названия, как я уже сказал, Христова Церковь, едина, святая, соборная и апостольская Церковь. Эти названия, данные Церкви святыми апостолами, святыми соборами и отцами, приличествуют и вполне приложимы только к той Церкви, которая содержит во всём православную веру и предания Церкви неизменно, по реченному в большом «Катехизисе»: «Вопрос: Что есть церковь соборная? Ответ: Церковь соборная есть, понеже от всех святых седьми вселенских соборов преданные догматы в ней соблюдаеми суть; священнословными же песньми и пении славима есть, и святыми и божественными иконами украшаема есть; основана же бе и утверждена святых мученик мощми; в ней же совершается и тайна святыя и божественныя службы, в ней же вси вернии приемлем пречистого тела и честныя крови Христа Бога нашего, и тем причастницы бываем царствия небесного. Сице бо от святых апостол предано есть нам, и святых и богоносных отец; и того ради нарицается святая соборная и апостольская Церковь. Се есть Церковь соборная, яже всему евангелию и всему учению вселенских соборов верует, а не части. Се есть церковь соборная, яже не верует веру умышленную, ниже держит тайны от единого человека уставленные, но се верует и на се уповает, еже Господь Бог предаде и весь мир соборне похвали и прият» (Катех. больш. гл. 25, л. 121 и оборот.).
Замечание. Раньше Усов восставал против слова «вселенская» Церковь, называя такую церковь «какой-то», «выдуманной», «измышленной» миссионерами. Теперь же, как бы отказавшись от своих слов, уже заявляет, что «вселенская Церковь есть только часть всей соборной Церкви Божией, и эта вселенская Церковь состоит из истинно-верующих, живущих в настоящее время на земле»… Такими противоречиями Усов едва ли окажет большую услугу тем из своих собратий, которые могут сознательно отнестись к его словам и только «малосведующие в Писании» – не поймут не искренности его проповеди.
Но это не главное. Возмутительна главным образом та бессовестная ложь, которая проникает в данном случае всё Усовское рассуждение. Желая доказать, что земная, вселенская Церковь может быть без епископа, он подводит её под понятие частной Церкви (могущей быть без епископа), поскольку де она часть всей Церкви Божией, состоящей из верующих живых, умерших и бесплотных небесных сил. Изумительное лукавство.
Да разве мы в данном случае рассуждаем об этой всей Церкви Божией – земной и небесной? Речь у нас о Церкви, которой, по обетованию Спасителя, «врата адовы не одолеют». Рассуждая же об этой Церкви, разумно ли и добросовестно ли вводить в понятие о ней «Церковь первородных, на небесех написанных» (Евр.12:23). Небесная Церковь вне стрел вражиих. Врата адовы: гонения, ереси и грехи уже не борют её. В Откровении Иоанна Богослова о небесной Церкви сказано: «И слышах глас велий на небеси, глаголющ: ныне бысть спасение и сила и царство Бога нашего и область Христа Его, яко низложен бысть клеветник братии нашея… и тии победиша его кровию агнчею» (Откр.12:10, 11). О земной же – иначе: «И егда виде змий, яко низложен бысть на землю, гоняше жену, яже роди мужеска, и даны быша жене два крила орла великого, да парит в пустыню в место своё» (Откр.12:13, 14). И в книге О вере читаем: «две суть церкви числом, но едина верою. О сей, яже на земли, рекл Господь: созижду Церковь мою… а о небесной апостол рече: «приступисте к сионове горе и ко граду Бога живаго Иерусалиму небесному и к позору тем ангелов, и собору первородных, написанных на небесех» (лист 17). Из приведенного ясно, как день, что неодоленность обещана той Церкви, которая воинствует, а не той, которая торжествует победу. Всякое обещание требует веры и вселяет надежду, но от победивших ни того ни другого не требуется: «упование же видимое несть упование, еже бо видит кто, что и уповает» (Рим.8:24). Таким образом, Церковь Христова, которой обещана неодоленность, есть земная вселенская Церковь. Утверждение же Усова, что земная Церковь, поскольку не включает в себя ангелов и святых, отшедших к Богу, есть частная церковь, есть – сущая нелепость. На соборе против Ария не было Авеля, не восседали ангелы, не подписывались апостолы, а собор этот, как и прочие вселенские, ото всех именуется вселенским. Трудно допустить, чтобы Усов не знал знаменитого изречения св. Кирилла Иерусалимского: «не спрашивай просто: где Церковь? но где вселенская Церковь? ибо сие собственно имя сей святой и всеобщей нашей матери Церкви, которая есть невеста Господа нашего Иисуса Христа» (оглаш. 18). Легко понять, что под словом: «вселенская» – св. отец разумел символьную Церковь земную; на небесах не имеет места вопрос: где Церковь? Усов введением в понятие Церкви вселенской воинствующей и Церкви торжествующей – ангелов и усопших святых старался не уяснить, а затмить истину.
Лживое рассуждение Усова вызывается вопросом о небытии в раскольническом обществе единомысленного епископа. Без сомнения, Усову известно, что епископы – суть наместники апостолов, поставленные Духом Святым пасти стадо Христовых овец, а не ангелов. Поэтому Усову и следовало бы только доказать, что Церковь Христова, сущая на земле, состоящая из живых людей, может лишиться всех епископов. Для того, чтобы доказать истину, не требуется многословия: укажи два-три изречения из Писания и довольно. Но, видно, трудно приходится раскольникам считаться с этим вопросом, нет у них оправданий положительных и вот они прибегают к такой софистике: частная Церковь (напр. Карфагенская) на время могла оставаться без епископа и была святою, а так как и вселенская Церковь есть частная, то и она может быть без епископов, не переставая быть святою. Но помогут-ли и такие рассуждения? Ведь сам же Усов заявляет, что «все истинно-верующие, в какое бы время они ни жили: до пришествия Христова, во время Его земной жизни, при апостолах, в настоящее время и до второго пришествия Христова, – суть Церковь частная, а следовательно, по мысли Усова, эта земная, или частная Церковь всегда могла быть без епископов. Зачем же тогда поповцы столько времени и с такими трудами разыскивали себе епископа, да и почему белокриницкие не считают теперь беглопоповщину Церковью Христовой? Рассуждения Усова ведут к отрицанию Божественных установлений о Церкви.
Далее. Ошибочно думает Усов, предполагая, что «земнороднии» члены Церкви не именуются Церковью соборной. Приведенные Усовым слова Великого Катехизиса (л. 121 об.) обличают его же, т. к. из этих слов ясно усматривается, что соборною Церковью называется именно Церковь новозаветная, «в ней же совершаются тайна святыя божественныя службы (литургия), в ней же вси вернии приемлем пречистого Тела и Крови Христа Бога нашего». И св. Кирилл Иерусалимский, объясняя 9 член символа веры: во едину святую соборную и апостольскую Церковь, говорит: «Церковь называется соборною, потому что она в целой вселенной, от пределов земли до пределов её, и потому что во всеобщности и без всякого опущения преподает все, долженствующие входить в состав человеческого ведения, догматы о видимом и невидимом, о небесном и земном; еще потому, что подчиняет благочестию весь человеческий род, и начальников и подначальных, ученых и неученых, наконец, потому что как повсеместно врачует и исцеляет она всякого рода грехи, совершенные душою и телом, так и в ней же приобретается всё именуемое добродетелью, какого бы то ни было рода, – и в делах и в словах, и во всяком духовном даровании». И далее, отличая Церковь ветхозаветную, которой не принадлежит наименование соборной, от новозаветной, носящей имя соборной, святой отец поучает: «По отвержении Церкви первой, в другой Церкви соборной, как говорит Павел: «Бог положи первее Апостолов, второе пророков, третье учителей, потом же силы, таже дарования исцелений, заступления, правления, роди языков» (1Кор.12:28) и всякую добродетель всякого рода, разумею же мудрость и разумение, целомудрие и правду, милостыню и человеколюбие, и непреоборимое терпение в гонениях. Она – оружия правды десными и шуими, славою и бесчестием (2Кор.6:7), прежде во время гонений и скорбей святых мучеников украшала преиспещренными многоцветными венцами терпения, а ныне, во времена мира, по благодати Божией, приемлет должную честь от царей, от начальствующих и от людей всякого чина и рода. И цари отдельных народов имеют пределы власти, одна святая соборная Церковь имеет неограничиваемую пределами силу в целой вселенной; потому что, по написанному, Бог положил пределы её мир (Пс.147:3)» (стр. 343 и об.). За сию то Церковь соборную Христос себе предаде (там же). Итак, Церковь вселенская, которую Усов, называет частною, по учению св. отец, есть Церковь св. соборная и апостольская, в которой Бог поставил апостолов, и преемников их служения епископов, не на короткое время, но Дóндеже вси придем в соединение веры, и познания сына Божия, в мужа совершена… (Еф.4:11–13), т. е. до второго Христова пришествия. Усов с этим не соглашается и уверяет голословно, что такая Церковь есть частная и может быть без епископов. Но кто же поверит его голословию?!
Остается сказать еще несколько слов относительно еретических церквей: католической, армянской и др. – вселенские-ли они? Нет, не вселенские. Вселенская, или, как доказано уже, соборная (что одно и то же) есть только едина и именно та, которая «от всех св. седми вселенских соборов преданные догматы соблюдает», а так как поименованные церкви не могут быть признаны таковыми, то они и не вселенские, т. е. не соборные.
Если в каком-либо христианском обществе есть и епископы, но нет правой веры, там нет Церкви, равно как и общество, не имеющее нигде по всей поднебесной – «трехчинной иерархии и седьми таинств, есть общество злых и нечестивых людей», как говорит и Перетрухин, собрат Усова по занятию. А таковое общество и есть защищаемое Усовым.
Кн. Усова. 3. О веровании в Церковь и её сущности.
Новообрядец. Вы всё толкуете о единой, святой, соборной и апостольской Церкви, то есть о той Церкви, в которую мы по символу веры должны веровать. Но вы, старообрядцы, не веруете в эту Церковь, хотя и толкуете о ней. Символьную Церковь должно составлять общество верующих людей, имеющих трехчинную иерархию и седьмь таинств. А вы этой Церкви не составляли, потому что у вас не было сто восемьдесят лет епископа. А мы, православные, всегда составляли и составляем собою исповедуемую в символе веры Церковь, во всем её составе, так как у нас всегда были и есть епископы.
Старообрядец. А веруете ли вы в эту, составляемую вами, Церковь?
Новообрядец. Как же не веруем? В символе веры мы всегда читаем: Верую во единого Бога Отца… и во единого Господа Иисуса Христа… и в Духа Святого… во едину святую соборную и апостольскую Церковь. Вот как, мы веруем в Церковь, как в Самого Бога.
Старообрядец. Вот как! Вы и составляете собою Церковь и веруете в. неё, да еще, как в Бога; значит, вы веруете в себя, как в Бога. Вот в какое нечестие заводит вас ваше превратное понятие и учение о символьной Церкви. Вы становитесь как бы какими-то идолопоклонниками, верующими в тварь, как в Творца. Даже хуже: вы делаетесь прямо самообожателями, верующими в себя, как в Бога. Что может быть хуже и нечестивее этого? Если позорно и нечестиво сделать идола и веровать в него, как в Бога, то еще нечестивее веровать так в самих себя.
Новообрядец. Но ведь люди верующие называются же Церковью, как говорится в Катехизисе и во многих других книгах; а в Церковь мы обязаны веровать: следовательно, должно веровать в людей верующих.
Старообрядец. Если так рассуждать, то можно пойти еще дальше. В Писании человек называется не только Церковью, но даже богом: «Аз рех бози будете (Пс.81). И: «творяй милость Христу своему Давиду» (Пс.17). Отсюда, по вашему, можно вывести такое заключение, что должны веровать в людей, вместо Бога и Христа. Так действительно и поступают хлысты, или шелапуты, злоупотребляя словом «Бог» и не разумея того, что иное дело бог по естеству и иное по уподоблению. И вы, злоупотребляя словом «Церковь» заставляете веровать в людей, как в Бога, и таким образом исповедуете и проповедуете своего рода хлыстовство. Церковью называется не только целое общество верующих, но и каждый член этого общества, каждый человек верующий, и даже храм-здание, где собираются верующие на молитву и много других предметов, или «вещей», что указано в том же большом «Катехизисе» (гл. 25, л. 120 и об.). По вашему, должно веровать, как в Бога, и в каждого верующего человека и даже в молитвенные здания: ведь и они называются Церковью.
В предотвращение подобных толкований и злоупотреблений митрополит вашей же Церкви Григорий, после перечисления различных понятий, выражаемых словом «Церковь», дает такое наставление: «Весьма нужно заметить это различие значений слова Церковь: потому что не различая этих значений, и употребляя места писания, в которых находится слово Церковь, без надлежащего рассмотрения, как нередко поступают отступники от православия, неизбежно впадешь в разные заблуждения. Ибо что говорится в писании о Церкви в одном значении, того нельзя сказать о Церкви в другом значении. Например, того, что можно сказать о Церкви, как о храме Божием (о здании), нельзя сказать о Церкви, как о правоверующих людях. Посему св. Златоуст; в беседах на слова: «Предста царица», сказав о Церкви, как о верующих людях: «Церкви ничтоже есть равно», тотчас остерегал слушателей, чтобы они не приняли этих его слов о Церкви, как о храме (о здании), именно: не глаголи ми стены… Стены летами обетшавают, Церкви же никогда же стареет (Маргарит, л. 519). Или еще: «вельми Церковь Богу возлюблена есть. Не сия, яже стенами ограждена, но сия, яже верою ограждена» (кн. о Вере, л. 19 на обор.) (Истинно древн. и истинно правосл. Церковь, Григория м. Петерб. ч. I, гл. 1, стр. 18). Митрополит Григорий направил это замечание о Церкви, конечно, против старообрядцев, но оно всецело поражает вас, проповедников новообрядческой Церкви, так как вы действительно вводите простодушных в страшное заблуждение словом «Церковь», заставляя под именем её веровать в людей, как в Бога».
Замечание. Вопрос православного следовало бы правильнее формулировать так: «Общество христиан, не имеющее трехчинной иерархии и седми таинств, может ли именоваться св. соборной и апостольской Церковью?» Но такой вопрос для Усова неудобен, поэтому он и влагает в уста своего собеседника рассуждение о том, что раскольническое общество не составляет, православные же составляют Церковь Христову. Но если бы иногда православные и употребляли это выражение, то отнюдь не в том значении, какое хочет придать ему Усов. Мы веруем, что св. Церковь создана Христом Спасителем, и эта Церковь состоит из лиц иерархических: епископов, священников и диаконов, а также и мирян. В ней «ни епископ не превозносится пред диаконами или пресвитерами, ни пресвитеры – пред народом: потому что из тех и других состоит тело Церкви» (св. Ипполита о дарованиях ч. 1). Но не всякое общество христиан называется Церковью Христовой, хотя бы в нём и была трехчинная иерархия: где нет полной веры в евангелие, в догматы, определенные на св. соборах, и совершения седьми таинств, там нет Церкви. Австрийский лжепоп Василий Механиков должен пользоваться и пользуется особым авторитетом в австрийском расколе, посему мы позволяем себе сделать ссылку на его слова: «Краткое понятие о созданной Господом Церкви, долженствующей существовать, в указанном виде, постоянно, как вечноживой и спасительный организм, как бы корабль, плавающий по волнам мира сего (блаж. Иероним, твор. его, ч. 4, стр. 78–84; Петр Христолог, кн. его, ч. I, сл. 19 о укрощ. морские бури), может быть выражено так: Церковь есть Богом установленное общество верующих в Исуса Христа Бога Нашего, соединенное единою верою, законом Божиим, священноначалием и таинствами. Это, между прочим, и есть её существенные признаки православия». (Историко-Каноническое обозрение старообрядческого общества, л. 141). Итак, существенные признаки созданной Господом Церкви суть: истинная вера, священноначалие и таинства. А так как раскольники в продолжение 180 лет не имели трехчинной иерархии и седьми таинств, то ясно, что раскольники не составляли (как и теперь не составляют) Церкви Христовой, т. е. не входили (и не входят) в её состав, т. к., по словам того же Механикова, без священноначалия, подразделяемого на три степени – или чина – епископа, пресвитера и диакона – не может быть ни Церкви, ни освящения (там же л. 146 об.). В св. Церкви установлено и содержится седмь церковных таинств и «эти седмь таинств – один из существенных признаков её православия. Кто приемлет и верует, что во св. Церкви должны быть седмь таинств, тот есть истинно-православный христианин, а кто отрицает хотя одно из них есть еретик» (200). Эти слова Механикова вполне справедливы. К ним только следует добавить еще, что мало веровать в необходимость таинств: их следует совершать и принимать, чрез них освящаться. Ведь известно, что и беси веруют и трепещут, но такая вера не спасет их. Не такова-ли и вера раскольников? Если они веруют, что в Церкви Христовой должны быть всегда все седмь таинств церковных и тем не менее пребывают в таком обществе, которое на 180 лет лишалось полноты сих таинств, то сознательно пребывают в погибели.
Напрасно Усов, не выяснив, что собственно он понимает под словами «Церковь Христова», постоянно уклоняется к вопросу: что значит веровать в Церковь. Пусть веровать в Церковь – значит «уповать на учение и догматы св. апостол и св. седми вселенских соборов», но ведь сам же Усов далее говорит, что «Церковь состоит не только из веры, но и из верующих, так что вера и верующие составляют части Церкви» (стр. 22). Но какие верующие составляют часть Церкви, или тело Церкви? «Иже непоколебимую держат едину православную веру, облобызают евангельское учение, иже достойни суть приимати святые божественные тайны, иже суть… под правлением совершенных святых, от Христа поставленных» (Вел. Катех.). Подходит-ли под это определение великого Катехизиса общество русских раскольников? Конечно, нет. По отделении свём от св. православной Церкви, раскольники лишились и трехчинной иерархии и седмеричного числа церковных таинств. А св. Игнатий Богоносец поучает: «все последуйте епископу, как Иисус Христос – Отцу, а пресвитерству, как апостолам. Диаконов же почитайте, как заповедь Божию. Без епископа никто не делай ничего, относящегося до Церкви… Не позволительно без епископа ни крестить, ни совершать вечерю любви; напротив, что одобрит он, то и Богу приятно, чтобы всякое дело было твердо и несомненно… Прекрасное дело знать Бога и епископа. Почитающий епископа, почтен Богом; делающий что-нибудь без ведома епископа, служит дьяволу» (посл. к Смирнянам, гл. 8 и 9). «Надобно не только называться, но и быть христианами, тогда как некоторые на словах признают епископа, а делают всё без него. Такие, мне кажется, не добросовестны, потому что не вполне по заповеди делают собрания» (Магнез. гл. 4). Неужели, спросим мы Усова, их общество, как творившее всё без епископа и по словам св. отца недобросовестное, потому и служащее дьяволу, составляло тело Церкви Христовой? Нет, отвечает за Усова Механиков, – без епископов, пресвитеров и диаконов не может быть ни Церкви, ни освящения.
Итак, православная Церковь учит согласно со св. отцами, что Церковь без епископа быть не может, так мы и веруем. Усов же верует в своё учение, противное святоотеческому, а посему (скажем его словами): «делается прямо самообожателем, верующим в себя, как в Бога. Что может быть хуже и нечестивее этого?!» Не оправдают его ни великий Катехизис, ни митр. Григорий, так как они никогда не учили, что Церковь Христова может быть без епископа, и словом «Церковь» «не злоупотребляли», как это делает Усов. Вел. Катехизис, перечислив «кие вещи» нарицаются именем Церкви Божьей, в устранение лжетолкований и злоупотреблений, подобных усовским, тотчас же ставит вопрос: «что есть Церковь Божия?» Смысл данного места Вел. Катехизиса таков. Некоторым предметам, или вещам присвоено название Церкви Божией, но они на самом деле, «по существу» – не Церкви: Церковь Божия едина, а вещей, коим присвоено наименование Церкви, много. Например, храм, в котором собираются верующие на молитву, наз. церковью потому именно, что в него собираются или созываются верующие, так как «грецы нарицают ю (церковь) еклисия – сиречь собрание или созвание» (л. 119 об.). В этом смысле и в Евангелии сказано об апостолах: «бяху выну в церкви» (Лк.24:53), т. е. в храме. Церковью, в смысле храма, в котором обитает Господь (приидем и обитель сотворим), наз. и христианин. Как собрание верующих, церковью называется семейство (дом) христианина, каждый приход, «особно же наставницы перковнии и строители» и т. д. Но всем этим «вещем» присвоено название церкви не в собственном смысле.
Поясним это примером:
Бог есть Судия всеправедный, но так как и из среды людей есть судьи, то и они у пророка названы богами (Пс.81); но ведь отсюда нельзя выводить такого умозаключения, что каждый судья есть бог в собственном смысле этого слова. Сын Божий – Христос, но и цари, как помазанники, называются христами (Пс.17). Что же? Будем ли мы считать каждого царя Единородным Сыном Божиим? Так же должно понимать и о Церкви. Если и многие люди наз. судьями, но истинный Судья Един, многие цари наз. христами, но Истинный Христос Един; многие вещи наз. церковью, но истинная Церковь едина, хотя, как и Бог, имеет «многи имены».
Что же есть Церковь Божия? спрашивает Вел. Катехизис, и отвечает, что Церковь Божия в собственном смысле есть не один христианин, не дом христианина, не приход, не храм, не учение, не вера, а собрание всех верных Божиих, содержащих православную веру, приемлющих святые и божественные тайны, находящиеся под управлением Богопоставленных пастырей (л. 120 об.). Церковь Христова называется единою, поучает Вел. Катехизис, потому, что она пребывает в едином Дусе Иисусе Христове, во единой вере, и во единех догматех, о той вере и св. тайных учащих; и во Единой Главе Господе нашем Иисусе Христе, и под единем чином Его и рядом, правил апостольских, вселенских соборов, св. отец, пастырей и учителей, т. е. св. пап, патриархов, митрополитов и проч. Церковь Христова святая потому, что верою и тайнами соединившись со Христом – Главою своей – от Него освящается, и потому еще, что Дух Святой, «пребываяй в ней выну, соблюдает ю и во святыни сохраняет». Церковь Христова называется соборною, или вселенскою потому, что она всех верных везде во всем мире и в коемждо веце сущих объемлет и в себе содержит. Она наз. апостольскою потому, что «уповает» на учения и догматы св. апостол, и св. вселенских соборов, а не в люди верит, еже есть «не верует веру умышленную, ниже держит тайны от единого коего человека уставленные, но се верует и на се уповает еже Господь Бог предаде, и в весь мир соборне похвали и прият (Вел. Кат. гл. 25). Таково учение великого Катехизиса и св. Церкви Христовой. Усов же взяв из всего этого только маленький отрывок и превратно поняв, извратив смысл оного, говорит, что будто бы под словом Церковь Христова великий Катехизис разумеет учение, а не собрание верующих.
Выпиской из Катехизиса и своим рассуждением Усов старается выделить из состава символьной Церкви всё лживое, как недостойное веры, и оставляет одни отвлеченные понятия: учение, догматы, проповедание и предания. Суждения Усова односторонни и, следовательно, не истинны. Христос повелевает «поведать Церкви» и «слушать Церковь» (Мф.18:17); в Катехизисе малом это «послушание» относится к Церкви символьной; и ей приписывается право суда и мудрость к истолкованию св. Писания. «Имать же и писание святое толковати и учителей похваляти и прославляти» (Лист 54 обор.), Но разве учение толкует писание или догматы похваляют учителей? Церковь искуплена кровию Христовою (Деян.20:28) омыта банею крещения (Еф.5:25–27), обручена Христу (2Кор.11:2). Но догматы не нуждаются в искуплении, учение не омывается банею крещения и проповедь не обручается Христу. Очевидно, что полное определение символьной Церкви не должно основывать на отрывочных словах, вот пример: апостол сказал: «внимайте себе и всему стаду, в нём же вас Дух Св. постави епископы пасти Церковь». Кривотолк может сказать: значит пастыри Церкви не Церковь. Христос сказал: «аще же и Церковь прослушает, буди тебе яко язычник и мытарь». Кривотолк опять может рассуждать: значит те, кои обязаны послушанием Церкви, не церковь. Оправдывая безъиерархическое состояние своей лжецеркви, Усов изощряется создать такое определение Церкви, какое меньше обличало бы духовное убожество раскольничьего общества. Теперь понятно против кого направлено приведенное Усовым замечание митр. Григория: «оно всецело поражает» Усова, «так как он, действительно, вводит простодушных в страшное заблуждение словом «Церковь», проповедуя возможность существования оной и без людей. Что касается нелепого рассуждения Усова, что якобы верующие в Церковь, как известное собрание верных, веруют в людей, в себя, идолопоклонствуют и себя обожают: то оно может обличать только суесловие раскольничьего писаки.
Во второй главе Усов писал: «наша старообрядческая Церковь Христова, как частная Церковь, по отношению ко всей Церкви Божией… была истинно православною Христовою Церковью, хотя и вдовствующею» (стр. 16). Надо думать, что Усов считает себя членом этой частной старообрядческой Церкви, а чрез неё входит в состав уже и всей Церкви. Любопытно знать, как он избегает «идолопоклонства», состоя членом Церкви, в которую сам он по символу, как ему кажется, верует? Или, по необходимости, и он верует и в себя? Вот ведь до какого пустословия доводит защитников раскола упорство в борьбе с истиною.
Кн. Усова. Заповеди же Божия, учение апостольское не есть что-нибудь пустое, отвлеченное, несуществующее, но «дух суть и живот суть» (Ин. зач. 24), и настолько сильны и крепки, что «удобее есть небу и земли прейти, неже от закона единей черте погибнути» (Лк. зач. 82). И паки: «Небо и земля прейдут, словеса же Моя не прейдут» (Мк. зач. 62). Эти словеса Божия и всё евангельское учение, твердейшее самой земли и неба – это евангельское учение, а также апостольские и святособорные предания и законоположения, в которые мы обязаны, по символу веры, веровать, святые отцы и учителя церковные нередко прямо называют Церковью. Так преп. Максим исповедник глаголет: «Христос Господь правое и спасенное исповедование веры нарече кафолическою Церковью быти; того ради и Петра, добре исповедавшего, нарече блаженна, на его же исповедании таковую создати всех Господь обеща» (Четия-мин. генв. 21). Св. Иоанн Златоуст еще вещает: Церковь глаголю не место точию, но и нрав; не стены церковные, но законы церковные. Церковь бо не стены и покров, но вера и житие» (Маргар. сл. 10, гл. 519). «И не возможет николи же злоба на непорочную и чистую нашу веру, и на правая веления Христовы» (Еванг. толк. нед. 13, л. 244). Подобно сему и Никон черногорский пишет: «Соборная бо Церкви не стены суть, но правая учения и предания божественных правил и святых апостол» (Такт. сл. 22).
Замечание. Что «словеса Божии и всё евангельское учение твердейше самой земли и неба», в этом никто из истинно-православных христиан не сомневается. Но «это евангельское учение, а также апостольские и святособорные предания и законоположения» св. отцы называют церковью не в собственном смысле, а как лишь одно из существенных свойств или признаков Церкви. «Церковь есть собрание всех верных Божиих, иже непоколебимую держат едину православную веру, облобызают же учение евангельское непоколебимое» (В. Кат. л. 120 об.). В этих словах уважаемой и раскольниками книги ясно отличается понятие «Церковь» и «евангельское учение»: Церковь – есть собрание верных, а учение евангельское, содержимое или приемлемое и исполняемое ими, есть только отличительный признак сих верных, или Церкви Божией – от иных собраний – нечестивых, также именующих себя Церковью Божией, но извращающих сие учение (В. Кат. л. 122 об.). Усов или не понял этого, или намеренно не хотел понять. Приведенные же им изречения святых отцов не оправдывают его учения. Слова пр. Максима исповедника: «Христос Господь правое и спасенное исповедание веры нарече кафолическою Церковью быти; того ради и Петра, добре исповедавшего, нарече блаженна, на егоже исповедании таковую создати Церковь всех Господь обеща», – напротив, уверяют нас, что пр. Максим Церковью называл не учение, а верующих. Из евангельского повествования мы знаем, что апостол Петр на вопрос Спасителя: «вы же кого мя глаголете быти»? – отвечал: «ты еси Христос, Сын Бога живаго» (Мф. зач. 67). Учение Спасителя уже в то время было известно людям, исповедание ап. Петра произнесено – что же? значит – была и Церковь Христова? По учению Усова была, по словам же Спасителя – нет. Выслушав исповедание апостола, Господь изрек: «ты еси Петр (камень, скала), и на семь камени созижду Церковь Мою, и врата адова не одолеют ей» (тоже зачало), – т. е. Господь говорит о Церкви, как о будущем только, хотя исповедание уже было. На этом исповедании, говорит пр. Максим, Господь обещает создати Церковь, а блаженный Феофилакт, в объяснении тех же слов Спасителя, пишет: «исповедание, еже исповеда Петр, основание хощет быти верующим». Эти-то верующие и есть Церковь. Слова св. Иоанна Златоуста: «Церковь глаголю не место точию, но и нрав, не стены церковные, но законы церковные, вера и житие», а также и слова: «не превозможет николиже злоба на непорочную и чистую нашу веру, и на правая веления Христовы», приведены Усовым в доказательство той мысли, что обетование Божие о неодоленности Церкви – не относится не к верующим в Него, а собственно к самой вере и законам церковным, которые названы Златоустом Церковью, равно как и в тактиконе. Но, опять повторяем, все эти выражения не есть полное определение Богосозданной Церкви, а только указание на один из существенных признаков Церкви, или, здесь обозначается содержимое вместо содержащего, так как в Церкви Божией заключается и вера правая, и исполнение законов, и житие спасительное. Тот же св. Иоанн Златоуст Церковью называет общество христиан: «Церковь глаголю верных весь народ» (Марг. житие Злат. л. 116) и эта «Церковь без епископа быти не может» (там же 154). Таким образом, ясно, что и св. Златоуст называет Церковью собрание верных Божиих (весь народ), содержащих правую веру («верою ограждена», Кн. о вер. л. 19), подчиняющихся епископам («не может бо Церкви без епископа быти»), и приемлющих св. таинства (Злат. л. 81 и др.). Против такой-то Церкви и не превозможет злоба еретическая и дьявольская николиже (Кн. о вер. л. 19).
Кн. Усова. «Вот в эту Церковь, состоящую из евангельских и божественных заповедей, из апостольских и святоотеческих догматов, преданий и проповеданий, мы, по символу веры, исповедуемся веровать и пребывать в ней».
Замечание. Такой безнародной Церкви, которая состояла бы из заповедей, догматов, преданий и проповеданий, – нет. Исповедания без исповедующих быть не может: «устами исповедуют ко спасению» (Рим.10:10). Слова Вел. Катехизиса: «веруем во едину св. соборную и апостольскую Церковь, сиречь, уповаем на учения и догматы св. апостолов, и св. вселенских соборов, а не в люди верим» – мы знаем и приемлем, только понимаем их не так, как желательно было бы Усову. В них не говорится, что должно понимать под словом Церковь, а что значит веровать; веровать в Церковь – значит всем сердцем, без всяких сомнений и колебаний принимать учение её представителей, в лице апостолов, вселенских соборов, патриархов, митрополитов и пр. Понятно само собою, что, веруя в учения апостолов и вселенских соборов, мы «не в человеки веруем», так как их учение произошло не от человеческого разума, но «от Св. Духа». Мы веруем так же, как веровали св. апостолы, св. отцы вселенских соборов, а это и служит доказательством нашего пребывания в единении и единомыслии со св. соборною и апостольскою Церковью. «Единомыслие Церкви соборныя состоит и содержится в сих вещех», говорит Вел. Катехизис: «в согласии православныя веры и во учении правом» – след., вера и учение правое (апостольское и святособорное) есть только признак соборной Церкви, «в достоинстве употребления святых тайн», – конечно, всех седми, а так как раскольники не имели седми таинств, то они и не единомысленны со св. соборною Церковью, так как «в Церкви Божией не две точию тайне, но все совершенно седмь… их же св. соборная и апостольская Церковь всегда употребляет» (В. Катех. л. 360 об., 356). Последний признак единомыслия со св. соборною и апостольскою Церковью – «почитание святителей и пресвитеров» (л. 121 об.) также утрачен раскольниками, так как они, при своём отделении от св. Церкви, «весь архиерейский чин уничижиша» (Деян. соб.), да и теперь Усов старается доказать, что Церковь Христова может быть без святителей-епископов. Уж не это ли своё учение Усов и считает догматами и преданиями св. апостолов и св. седми соборов, т. е. Христовою Церковью и не в него ли, по символу веры, «исповедуется веровать»? Слепые вожди слепых!
Кн. Усова. «Отсюда ясно, что те люди истинно веруют в Церковь, которые строго и точно содержат все евангельские и апостольские заповеди и предания и по сим свою жизнь устрояют. Старообрядческая Христова Церковь верует во едину св. соборную и апостольскую Церковь, сиречь верует во евангелие, в заповеди божественные, в догматы и предания св. апостол и св. отец, и всегда содержала и содержит их непременно и ненарушимо, постоянно стремясь исполнять их во всей точности, во всей строгости и полноте. А прочие еретические церкви не веруют в исповедуемую в символе веры Церковь, ибо разоряют многие евангельские заповеди и апостольские догматы и предания, не содержат их и не следуют им, а следуют своим вымыслам, своим ересям погибельным, в которые и веруют, как в Богооткровенные истины, или просто веруют в самих себя и в людей, содержащих ереси».
Замечание. При всём своём желании изобрести новую безнародную Церковь, Усов должен был все-таки сказать, что Церковь – есть народ или люди. Но сказав это, Усов в то же время не отрицает существования и изобретенной его фантазией Церкви безлюдной, говоря: старообрядческая Христова Церковь верует во едину св. соборную и апостольскую Церковь. Таким образом, Усов проповедует две церкви: одну св. соборную и апостольскую, а другую старообрядческую Христову. «Ого, скажем его словами, сколько у Усова Церквей!… А ведь мы, по символу веры, должны исповедовать только одну Церковь, а не многие». Хвалится Усов, что их старообрядческая Церковь «всегда содержала и содержит неизменно и ненарушимо» заповеди божественные, догматы и предания св. апостол и св. отец. Но правда-ли это? Св. соборная и апостольская Церковь учит веровать во Единого Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, а старообрядческая (Белокриницкий устав, Швецов и его единомышленники) учит, что Сын Божий рожден от Отца вместе с веками; св. апостолы законоположили, чтобы епископа поставляли два или три епископа (1 прав.), а их иерархия произошла от поставления единого епископа и то беглого; св. отцы заповедали, что «срамно есть из-за обрядов ратоватися» (Василий Великий), а раскольники и отделись от православной Церкви из-за исправления обрядов и выражений богослужебных книг; св. отцы поучали, что «Церковь Христова без епископа быти не может» (св. И. Злат.), а раскольники 180 лет не имели епископов и теперь Усов, ведя брань со св. отцами, утверждает, что св. Иоанн Златоуст сказал не верно. Следовательно, раскольники «разоряют многие евангельские заповеди и апостольские догматы и предания, не содержат их и не следуют им, а следуют своим вымыслам, своим ересям погибельным, в которые и веруют, как в богооткровенные истины, или просто «веруют в самих себя и в людей, содержащих ереси». За нашей же православной Церковью раскольники, при всей своей злобе, не могли и не могут указать ни одной ереси.
Кн. Усова. «Таким образом из представленных доводов и свидетельств видно, что предмет веры в исповедуемую в символе Церковь составляют: св. евангелие, божественные заповеди и догматы, апостольские проповедания и предания. Как существенная часть Церкви, эти предметы нередко даже прямо называются Церковью. Но известно, что Церковь состоит не только из веры, но и из верующих, так что вера и верующие составляют части Церкви. Однако эти части никогда не следует смешивать между собою, и свойства одной не следует приписывать другой. Человек состоит из души и тела. Но было бы большой ошибкой свойства тела приписывать душе и наоборот. Так и относительно Церкви: в ней вера есть душа, а верующие тело. Это сравнение прекрасно развивает и излагает митр. Макарий (Далее делается выписка из «Введения в прав. догмат. Бог.» митр. Макария §16, гл. 1).
Замечание. Потратив так много усилий, чтобы доказать, что евангельское учение, апостольские, соборные и св. отеческие постановления и предания – есть св. соборная и апостольская Церковь, Усов теперь открыто отказывается от этого своего учения, называя «эти предметы» только лишь «частью Церкви». «Эти предметы, говорит он, нередко даже прямо называются Церковью». Но это, конечно, не точно, следовало бы добавить Усову; но добавить это значило бы высечь самого себя. Поэтому Усов и прибегает к недомолвкам, очень ясно подразумеваемым. Он заявляет лишь, что ему «известно», что «эти предметы» не св. соборная и апостольская Церковь, а только часть Церкви. «Известно, говорит Усов, что Церковь состоит не только из веры, но и из верующих, так что вера и верующие составляют части Церкви». Если же Усову «известно», что Церковь не может быть без людей, то зачем он и трудился, доказывая противное? «Вера, говорит он, душа в Церкви, а верующий тело». Но как вера не может быть без верующих, так и верующие без веры, поэтому, говорит митр. Макарий, «вера и Церковь составляют одно нераздельное целое», а Усов во всей этой главе доказывал, что вера может быть и без верующих.
Кн. Усова. «К этому необходимо только добавить, что уподобление Церкви телу человеческому делает и св. ап. Павел, говоря: «яко же бо тело едино есть, и уды имать мнози, вси же уды единого тела мнози суще, едино суть тело, тако и Христос» (1Кор. зач. 152). В числе удов или членов Церкви, без сомнения, состоят и епископы. Но как человек, если лишится какого-либо телесного члена, не перестает быть человеком, не умирает, не теряет благородства; даже может иногда гордиться телесными повреждениями, если они получены в геройском бою за веру, царя и отечество; а если кто лишится некоторых телесных членов от мучителей за Христа, то это еще большая честь и слава. Но если человек, с совершенно целым и здоровым телом, имеет поврежденную душу, то он не есть достойный человек, а приближается скорее к скотам несмысленным и уподобляется им, почему и заслуживает полного презрения и отвращения. Так и Церковь: если лишится какого-нибудь своего члена, например, епископа, но душа её – вера, учение и святоотеческие предания ни в чём не нарушены, не искажены, то таковая Церковь, без сомнения, есть истинная Христова Церковь, пребывая в которой, можно получить царство небесное и достигнуть вечного блаженства. Если же в какой-нибудь Церкви и все члены её целы и по-видимому здоровы, но дух её – вера, учение, догматы и предания повреждены и искажены, то таковая Церковь не есть истинная Христова Церковь, а еретическая, пребывая в которой, нельзя достигнуть вечного блаженства».
Замечание. Св. ап. Павел, уподобляя Церковь Христову телу человека, говорит: «яко же бо тело едино есть, и уды имать многи, вси же уди единого тела, мнози суще, едино суть тело: тако и Христос» («сие есть, поясняет св. Иоанн Златоуст, тако и Христово тело, еже есть Церковь». Бесед. на 14 посл.). «И овых убо положи Бог в Церкви первее апостолов, второе пророков, третие учителей… Еда вси апостоли; еда вси пророки, еда вси учители» (Зач. 152, 153). Тело человека имать уды многи: главу, руки, ноги и пр., так и Церковь Христова, или общество верующих, состоит из многих членов. Первый, главнейший член Церкви – суть апостолы и преемники их служения епископы, которые и нарицаются «главою церковного телеси» (Толков. на 55 апост. прав.), священники и диаконы руками, «яко теми церковное правление содевает епископ» (там же), а миряне ногами (Толк. на 64 пр. 6 вс. соб. и Беседы на 14 посл. стр. 1677). «Если человек лишится какого-либо телесного члена, не перестает быть человеком, не умирает», умствует Усов. Но это не вполне справедливо. «Ногам отсеченом бывшим, мнози много время пожиша», говорит Златоуст, но «главы кроме жити не может», так как «глава всего телесе господственнейшая есть, чувствия же вся в себе имущи, и души владычнее» (Бесед на 14 посл. стр. 1677). Если, по словам Усова, верующие есть тело Церкви, и вера – душа её, то, по учению Златоуста, не может быть веры (души) в таком обществе (теле), которое не имеет главы (епископов). Усов возразит, что глава Церкви Христос. Но ведь св. Иоанн Златоуст в данном месте говорит не о Христе, а людях, верующих в Него, или о Церкви. «Глава, говорит он, лучшая онех (ног), не точию положением, но и самым действом и чином. Почто же сие глаголю: Суть в Церкви мнози (а Христос Един), суть на высоту исправлени, яко же глава, небесная сматряюще… инии же ног чин содержат» (там же). И так, то общество, которое лишилось епископов, не имеет спасительной веры, как тело, лишившееся головы, не имеет в себе души. Это ясно для всякого. По учению же Усова выходит, что человек, и лишившийся головы, имеет жизнь и даже может «гордиться» отсутствием этого члена. И «старообрядческая» (только не Христова) Церковь также «гордится» (забывая, что гордость от дьявола) тем, что не имела епископов: «то обстоятельство, говорит Усов, что в старообрядческой Церкви (не Христовой) не было столько лет епископа, еще более убеждает меня в правоте и силе этой Церкви» (гл. I, стр. 6). Боже милосердный! До каких нелепых суждений доходят не призванные учители, восстающие против Твоей св. Невесты. Желание защитить заблуждение доводит и до помрачения здравого рассудка; «и уподобляет скотом несмысленным»; но они всё же заслуживают не «полного презрения и отвращения» (как бы хотелось Усову), а искреннего сожаления. Они «гордятся» тем, что их мнимая церковь была «повреждена» или искажена и всё же, несмотря на это искажение, считают её св. Церковью. Да, эта гордость, которую они считают признаком своей Церкви, и научила их глаголати неподобная, противно учению св. отец. Их Церковь искажена, а «невеста Христова, поучает св. Киприан, искажена быть не может: она чиста и нерастленна… Всяк, отделяющийся от Церкви (не искаженной), прилепляется к жене прелюбодейце (Церкви искаженной, какова и старообрядческая) и делается чуждым обетований Церкви; оставляющий Церковь Христову лишает себя наград, предопределенных Христом: он чужд для неё, непотребен, враг её. «Тот не может уже иметь Отцом Бога, кто не имеет материю Церковь» (Св. свящ. муч. Киприана, книга о единстве Церкви. Твор. ч. 2, стр. 180, и т. д. Киев 1891).
Наконец, вымысел Усова о теле и душе Церкви страдает явным несмыслием: человек имеет тело и Церковь имеет его; тело человека оживляется верою; высший подвиг человека, положить душу свою за кого-либо, – царя ли, друга ли, веру ли; высший подвиг Церкви – положить душу – веру за что? за веру?! У раскольников, впрочем, так случилось и на деле; они потеряли веру в борьбе, как им кажется, за веру…
Но послушаем, как далее будет защищать Усов свою «искаженную Церковь».
Из записок и дневников
Глебов С. Из воспоминаний паломника о преподобном Серафиме Саровском. (К торжеству 19 Июля) // Миссионерское обозрение 1903 г. № 11. С. 67–71
Личное моё посещение Саровской пустыни относится еще к началу 60-х годов XIX столетия, когда крепостная Россия только что была освобождена от векового рабства и когда простой народ, постоянно пребывавший в вере и любви к Богу, всегда усердно посещал Божии храмы и неуклонно стремился к паломничеству в святые обители, тогда Саровская пустынь постоянно наполнялась по весне каждого года ближайшими к ней богомольцами из крестьян и помещиков Тамбовской, Симбирской и Нижегородской губерний.
Первые шли сюда пешком по обещанию, данному ими Богу, отслужить в святой обители молебен о даровании им урожая хлеба, а вторые, желая служить крестьянам личным своим примером в добрых делах и усердии к Богу, ехали в Саров в своих дормезах с целью принести свой дар монастырю.
В числе последних паломников Сарова был и я со своей матерью, старушкой, еще в 20-х годах XIX столетия, – будучи молодой девушкой, – посещавшей эту святую обитель со своими родителями, симбирскими помещиками, и на этот раз еще пожелавшей посетить её на склоне лет своих, как святое место, где так много в молодости своей ею было пролито перед Богом чистых слез и упований на Всемогущего Творца, Которого она просила о ниспослании ей лучшей доли в этом, нашем греховном мире…
Ближайшим притяжением в то время к Саровской пустыня, как рассказывала мне мать моя, – было пребывание там местного пустынника, о. Серафима. К нему то и стремились все на поклон и главным образом на совет, как жить и поступать людям в миру своём при сношении с себя окружающим обществом. О. Серафим на все такие вопросы своим паломникам давал категорические ответы: «жить в мире и согласии со всеми людьми и пребывать в вере и уповании к Богу, Творцу нашему»…
За этими советами к пустыннику шли тогда все: и простолюдин и вельможа, и военный и статский и все находили здесь удовлетворение своих вожделений… О. Серафим принимал всех без исключения. Для него не было разницы в людях. Он говорил, что «мы все равны перед Богом; одни люди стремятся к возвышению себя над другим, точно в этом и есть всё благо нашей жизни, чтобы быть на высоте своего положения на земле, забывая притом высоту будущей жизни, которую нужно заслужить перед Богом добрыми делами на земле»…
Выслушивая эти святые речи пустынника, крепостники становились иногда гуманнее к своим рабам, а крепостные более терпеливы к их притеснениям… И так смягчалось зло и приобретало больше прав добро.
Так удовлетворял всех и во всем посредник людей перед Богом, так он смягчал грубые сердца в пользу добра и справедливости, и успокаивал страждущие души в их притеснениях…
Приемы о. Серафим своим паломникам совершал у себя в келье, в лесу, где он постоянно жил в одиночестве, и куда к нему направлялись за благословением и советом все богомольцы Саровской пустыни.
Для успокоения наиболее страждущих душ, бывавших у него на совете, о. Серафим нередко вместе с ними, как у себя в келье, так и вне её, перед образом Богоматери, как заступницы всех скорбящих и угнетенных, коленопреклоненно совершал теплые и слезные молитвы.
И так проводились все дни пустынника со своими паломниками. Так успокаивал он всех болящих и скорбящих душой и сердцем. И не было примера, чтобы он отказал кому-нибудь в своём совете. Взирая на пример Христа, благословившего блудницу на добрые дела, о. Серафим даже и в тех случаях, когда он замечал перед собой недостойных его благословения людей, всегда был на высоте своего доброго призвания и напутствовал этих порочных на добрые дела в их жизни.
– Если они пришли ко мне, то стало быть нуждаются в моей молитве перед Господом, говорил о. Серафим, – и потому я не могу отказать им в том, на что имеет право всякий человек, даже будь он закоренелый злодей. Господь простил и разбойника при его раскаянии о своих делах…
Такое беспримерное пустынническое житие о. Серафима влекло к себе всех его знавших по этим святым подвигам. Это был единственный в своём роде старец, который не умел различать среди людей добрых злаков и плевел и всем им отводил в своём сердце одинаковый теплый уголок, как общему творению Божию, долженствующему пользоваться одинаковыми благами на земле. По его мнению всякий частный порок был общим злом. – «А если так, говорил он, – то никто поэтому не должен был рассчитывать на благодать Божию. Но этого нельзя было допустить потому, что всё свершающееся в мире находится в руцех Божиих»…
Потому то он всех и благословлял на добрые дела и никому не отказывал в своей теплой молитве перед Господом.
Нужно было удивляться только всей выносливости и терпению о. Серафима по выслушиванию всех скорбей и нужд его паломников, тысячами приходивших к нему во время каждого лета. Как только один человек мог переносить на себе все излияния скорбей и болезней душевных целой округи в несколько губерний?
Присматриваясь к этому мысленно, действительно, приходится думать так, как говорили все паломники: «ему Бог помогал в этом»…
В 60-х годах, когда я впервые был в Сарове, глубокая вера народа в святость о. Серафима, по моему личному наблюдению за этим, превосходила всякое представление. Так, например, могила св. пустынника, находившаяся тогда на общем братском кладбище, в ограде монастыря, перед алтарем самой церкви, с внешней стороны её, конечно, положительно была осаждаема всеми паломниками пустыни. Не огороженная ничем, с простым деревянным крестом и песчаною насыпью на ней, на которой была положена тонкая, обыкновенная каменная плита, с простой надписью на ней о том, кто покоится под сим камнем, могила эта, можно сказать, прямо-таки расхищалась или разорялась всеми пришедшими к ней поклониться праху в Бозе жившего пустынника, так, например песок из под плиты выбирался паломниками себе на память или на исцеление от их болезней и пр. прямо-таки горстями и плита от этого часто опускалась в могилу и постоянно оттуда выдворялась братией монастыря на своё место при новом насыпании песчаного холма над могилой. Даже и самый то крест над могилой о. Серафима пострадал от рук паломников, отдиравших от него все щепочки себе на намять о посещении вечного приюта пустынника.
То же самое замечалось и в пустыни, в лесу, где еще оставалось в то время в целости, но без должного призора келья о. Серафима и та вековая сосна с образом Богоматери на ней, перед которой он молился стоя коленопреклоненно 1000 ночей кряду.
Посетив это место в 1863 году, я заметил здесь, что келья о. Серафима с внешней стороны вся была изрезана ножами и бревна её облуплены паломниками наполовину.
И всё это делалось для того, чтобы что-нибудь святое взять себе на память об этом пустыннике и, если можно, исцелять этим болящих в своём месте людей.
Подобные доводы паломников к своему варварскому расхищению всякой священной памяти об о. Серафиме, хотя и отзывались чем-то диким по своим действиям, но они уже оправдывались тем, что всё совершалось во имя веры и любви к памяти «угодника Божия», как тогда пустынника Саровского называл весь православный люд, не исключая и интеллигентов, у него бывавших на поклоне.
Вера-же в о. Серафима, как угодника Божия и заступника перед Господом за всех скорбящих и болящих, установилась тогда в народе в силу наглядных фактов по исцелению им многих от разных недугов.
Одним из таких исцелений, как рассказывала мне мать моя, – было излечение о. Серафимом болящих глазами, приходивших к нему. Он давал им святой воды и велел промывать глаза ею в смеси с горячей водою, прибавляя в неё по нескольку капель св. воды. И исцеление болящих глазами шло массами. Но настоящий факт, относящийся к 20-м годам XIX столетия, почему-то не занесен в жизнеописание о. Серафима. Да и вообще там много кое-чего нет, что мне известно по рассказам очевидцев Саровского пустынника. Помимо всего того, что мною приведено здесь, как неизвестное об о. Серафиме, в его житии не говорится также и о том, что этот пустынник, живя постоянно в лесу и 1000 ночей молясь коленопреклоненно на камне перед образом Богоматери во время каждого лета, когда к нему наибольшее число паломников являлось в пустыню, следовательно лично видели его нечеловеческие физические страдания, был положительно иссасываем весь комарами и кровь по его опухшему от того лицу прямо-таки струилась ручьями. Но он ничем не защищал себя от этих страшных мучений. Постоянно изнемогая в них, он как бы прояснялся в очах своих живою радостью к тому, что ему Богом предопределено было поить своею греховной кровию всякую тварь Господню.
Видя в этих постоянных мучениях о. Серафима, все паломники, бывшие у него, не могли никогда забыть этих не человеческих страданий старца и всегда, вспоминая о них, орошали себя слезами умиления и благоговения перед памятью великого страдальца за грехи людские…
Таким образом, как видно из всего, нами приведенного здесь, старец Серафим еще при земной его жизни, всеми звавшими его по личным свиданиям с ним, почитался как праведник Божий, вполне достойным имени святого угодника…
С. Глебов
Миссионерские очерки
Боголюбов Д. XIII. В церковной школе на уроке Закона Божия // Миссионерское обозрение 1903 г. № 11. С. 72–75
По делам миссионерским мне случилось быть в старинном молоканском селе Тамбовской епархии. Много мы разговаривали с батюшкой о церковных вопросах. Собеседник мой, о. Михаил, был человек вдумчивый и сообразительный. Он долго и пристально боролся с приходским сектантством. Особых успехов однако от трудов своих не видел. В народе, напротив, наблюдал уныние, упадок духа. Православные не хотели и не могли постоять за родную веру. – Часто о. Михаилу приходилось слышать рассказы: едут его прихожане одной дорогой. Попадается крест в стороне. Православный снимает шапку и крестится.
Молоканин спрашивает:
– Чего ты перед деревом крестишься? Ай про Бога вспомнил у дерева-то? Ты знай, бедняга, что Бог – везде. Помни о Нём на всех путях своих, а не у деревянного креста только…
Слушали мужики такие молоканские речи, но ответить на них не умели. И разливался яд сектантских сомнений по селу.
О. Михаил тогда «надумался», что нужно делать. Он понял, что никакие ученые миссионеры не угоняются за толпой молоканской. Этой толпе, – рассуждал он, – нужно противопоставить такую-же православную толпу. Но её пока в жизни нет. Её еще нужно создать…
И вот о. Михаил принялся миссионерски воспитывать свой приход. Каждый праздник он собирал людей в школу и проходил с ними обличение молоканства. Успехи кое какие были. Но взрослые слушатели, по разным причинам, неисправно посещали праздничные беседы о. Михаила. Многие из посетителей читать не умели. Большинство из них было страшно неразвито…
Тогда о. Михаил своё миссионерское сеяние перенес на детскую почву. Детство – это такой возраст, когда всё воспринимается легко, быстро и прочно. Дети, по свойству своей природы, воспринятое не могут молчаливо держать в себе. Своими впечатлениями они непременно поделятся с родителями, знакомыми, товарищами…
Так семена миссионерские легко могут разнестись по народу.
Сообразив всё это, о. Михаил решил, что важнейшие миссионерские понятия легче всего прививать к детям школьного возраста на уроках Закона Божия. Для этого необходимо преподавание Закона Божия вести живо, впечатлительно, осмысленно. Дети угнетаются отвлеченным способом изложения священной истории. Библейские события в книжной передаче кажутся им сухими, далекими, неинтересными…
– Чтобы поправить дело, – думал о. Михаил, – нужно тусклые рассказы по учебникам оживлять яркими библейскими подробностями и картинами. Тогда дети лучше и тверже запомнят уроки по священной истории. А это отзовется на всём религиозном настроении не только лично их, но и их родных, друзей…
Кроме того, в видах миссионерских, о. Михаил решил особенно оттенять некоторые библейские места. Для того эти места внимательно прочитывались в школе по Библии. Здесь же, под руководством батюшки, общими силами находили простейшее их толкование, откуда само собой следовало обличение сектантских заблуждений.
Понятно, как дорожил о. Михаил церковной школой. Эту школу он показал мне при первой же возможности. Она была по внешности новая, просторная, светлая. Детишек в ней обучалось множество.
Обозревать школу мы начали с младшего отделения. Был как раз урок Закона Божия. Дети учили о жертвоприношении Исаака Авраамом. На видном месте стояла соответствующая библейская картина.
Рассказывал о патриархе Аврааме беленький и чистенький мальчик. Говорил он по своему художественно. Видно было, что образ Авраама живым стоял в его голове, – был ему близок и понятен. Он повествовал о нём, как будто всё дело происходило в родном селе, среди дорогих ему людей «выйди, сказал Бог Аврааму, из земли Халдейской. Я заведу тебе большое племя»…
Самый Бог, по рассказу мальчугана, был не далеким и грозным Владыкой, каким Он часто изображается в наших «руководствах». Бог, в устах рассказчика, был добрым, ласковым старцем, беседующим с Авраамом, как с родным и милым сыном, – просто, без книжных оборотов речи. Это трогательно было слушать…
Спрашиваем другого мальца из «средних»:
– Когда Христос совершил пасху?
На минуту он растерялся. Потом, оправившись, твердо сказал:
– Христос справил пасху в четверг… на страстной неделе…
Итак, все дети излагали священно-исторические события, как будто они происходили у них перед глазами.
Рассказывает еще один мальчик про Лазаря.
– Лазарь жил, захворал да помер. Сестры его закричали Христу: «кабы ты был тут, не помер бы брат наш!…». Христос пожалел их. Он спросил сестер: «где вы его похоронили?» Они показали. Христос сказал: «отворотите камень». А камнем могилу закрывали. В могилы мертвецов клали. Обвязывали лица им полотенцами…
Так развивалась повесть о Лазаре, попутно сопровождаемая своеобразными археологическими и географическими вставками. В общем образы Христа, Лазаря, сестер его очерчены были мальчиком правдоподобно и наивно-художественно…
Зашла речь о рождении Девы Марии. Один малец повествовал: «у Акима и Анны не было детей. Они стали Бога просить: хоть мальчик родится, ай девочка, – отдадим дитя Богу…
У них родилась девочка. Они назвали её Марьей… Стало ей три года. Повели её в храм Божий. Собрали подруг, родных»…
Ответы младших и средних мальчиков произвели на меня отрадное впечатление. Рассказывали дети просто, осмысленно, с художественными подробностями.
Переходим в старшее отделение. О. Михаил спрашивает:
– Ну ка, Данила, укажи, где изложена заповедь Спасителя о крещении?
Данила без слов идет к шкафу, достает русскую Библию и громко читает Мф.28:19, 20 и Мк.16:15, 16.
Пояснения к прочитанному Данила дает толковые и осмысленные.
– А, может быть, крещение есть учение Христово? – искушает его о. Михаил.
Данила решительно отверг это предположение и опять в руках его забегали листы Библии. Ему помогал подыскивать нужные свидетельства из Библии сосед – молоканский мальчик. Отрадно было слышать, как этот мальчик звонким альтом обличал заблуждение своих отцов. Он же толково изложил пред нами смысл православного учения о святых иконах…
Судя по тому, как оживлялись при наших вопросах лица старших школьников, можно было предполагать, что способ библейского преподавания Закона Божия о. Михаилом привит всем детям…
Я остался в восторге от всего слышанного. Пропели молитву. Мы ушли с о. Михаилом из школы.
По дороге он заверял меня, что сообщить детям необходимые библейские тексты просто. Не нужно только этих текстов заучивать – как в наших духовных училищах и семинариях, – без Библии, часто механически. Непременно детей надо заставлять самих подыскивать в Библии нужные свидетельства: тогда они их не забудут. У крестьянских учеников намять в большинстве превосходная…
Так. обр. своей школой о. Михаил наметил мне решение вопроса: как воспитать миссионерски народную массу? О, если бы достойнейшему о. Михаилу нашлось как можно больше подражателей среди пастырей на святой Руси! Тогда бы безусловный успех нашей миссии в народе был обеспечен…
Д. Боголюбов
Чередников И. свящ. «Завещание чадам и домочадцам и детям духовным» Австрийского лжепопа Мирона // Миссионерское обозрение 1903 г. № 11. С. 76–79
В одной из слобод раскольничьего «Стародубья», пос. Климове, проживал окружнический лжепоп Мирон Моргунов. Рьяный защитник своего толка, он вел непрерывную борьбу со своими духовными детьми, увлекающимися беглопоповщиной и противоокружничеством. Но не больно-то слушались его эти дети… Особенно восстал на лжепопа его же прихожанин некто Ершов за нововведение. Нововведение это заключалось в том, что Мирон, питая склонность к велеречию и проповедничеству, «презрел отеческие книги и поучения», и стал читать свои сочинения. Стал Ершов замечать, что у Мирона и «рыльцо часто в пушку» – по части выручки и сбора на моленную, а тут еще и домашние неурядицы, и беда от «дражайшего подружия». А уж «подружие» попа Мирона достойно того, чтобы о нём сказать несколько слов.
Сварливая баба, любящая сладко попить да поесть, да по гостям ходить, всегда вела борьбу с Мироном – врагом самовара и плотоугодия. Неоднократно дело доходило у них до того, что лжеиерей, получив чувствительное внушение от своего «подружия», укрывался в стоявшей во дворе моленной. Но рьяная «Мать Пелагея», не успев ворваться за ним в моленную, колотила стекла в «алтаре», к явному соблазну всей Австрийщины в Климове. Немалый соблазн для Австрийцев-окружников представляло и то еще обстоятельство, что за попадьей водились грешки и по части супружеской верности…
Всё это вместе взятое – и домашние и приходские беды – заставили «попа» Мирона уйти из мира.
Уезжая в неведомый никому путь, лжепоп Мирон оставил следующее завещание (воспроизводим его дословно; исправляем лишь орфографию):
«Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Оставляю мир и Божие благословение и прощение возлюбленной и богодарованной моей супруге Пелагее Аникитишне, дочери Бондаревой и госпоже Моргуновой, все мои тридцатилетние к тебе согрешения раболепно прошу тебя меня, грешника, простить навсегда и во веки. В свою очередь и аз, многогрешный, недостойный нарещися Иереом Мироном, прощаю тебе, подружие мое Пелагея, яже ты ко мне согрешила многажды словом и дерзновением, даже и до биения. А яже ты согрешила к Богу своим характером и дерзновением и биением окон и стекол во святой Божией церкви (!?), то тех я простить тебе не могу, кроме Бога. А ты сама постарайся чистым и нелицемерным сердцем покаятися отцу духовному, никак ни свертуючи своего дерзновения на другого, хотя бы и на меня, как – ты до сего творила. Таковое бо твоё покаяние не вменяется в покаяние, но паче в горшее осуждение. И ты, моё некогда любимое подружие, постарайся и потрудися на сем свете не самоваром и сладкоядением (?) и прочими твоими телоугождениями, яже ми все известися от моих же чад на покаянии предомною, а постом и молитвою и глубоким смирением – умолить Милостивого Бога, дабы Он даровал тебе прошение и Свою милость, да и сподобил тебе со мною видеться в будущем веце. А ныне же не можете вы лица моего узрети даже до второго пришествия. Рассудил бо я ныне отъити в восточное место, где меня никто не знает, и плакатися грехов своих. Пусть возвеселится и возрадуется о сем господин Ершов со своею бесовскою дружиною, не они бо на меня и ты ратовали, но действующие в них бесове. Я же их прощаю, а яже к Богу согрешили, то за сия пусть сами знают. Я хотя и читал в церкви писанную мною книгу, но не как на погибель христианских душ, а на спасение их и всё от Божественного Писания. Прошу вас всех изберите себе пастыря вместо меня, грешного, только не из числа проклятого раздорнического мудрования (!?), которые пишут и глаголют и в тайне и словесно и говорят, яко великороссийская Церковь верует не в Того Бога, в Которого веруем мы и глаголемые неокружники, но в другого, по старых безпоповцев мудрованию, что якобы в противника Христова – антихриста; то прошу вас, чада, такого богомерзкого пастыря не выбирайте. Таковых богохульников и крестохульников еще не было во всех временах от Рождества Христова (!?). Яко и четвероконечный крест Христов нарицали печатью антихристовою, яко же окружники нарицают. И имя Христа Спасителя со двема итами, тако «Иисус», нарицают прямо антихристом, что страшно не токмо рещи, но и помыслити. А они не страшатся хулить бесстрашно и безрассудно. От такового хуления да избавит вас Христос, бывшие дети мои духовные. И я, грешный, прошу и не благословляю вас тако хулить, да не с проклятыми безпоповцами и таковыми хульниками осудитеся за таковое ругательство. Да и по правде сказать, чем виноват-то Иисус Христос, что его «бесстуднии Никониане»5 дерзновенно пишут со двема итами (!?) тако «Иисус», мы же тако противно не пишем, но пишем «Исус»… А что Никониане пишут «Иисус», того мы окружники не хулим, а считаем за Богочеловека.
Еще прошу тебя, бывшее моё подружие Пелагея, подайся немного назад, да и с походцем подайся, против своих детей постыдися, да благо ти будет. А то ты очень из себя строишь великое я, а великое я только много место занимает, а пользы-то мало приносит. Возлюби блаженное смирение и покорение, да и плоти своей утоление, да еще бойся свертать свои грехи на чужую голову, потому что тако невозможно и спастися, брось ты работать проклятой мамоне, возлюби ты пост и воздержание, уж самовар тебя больно сокрушил да сладкие конфекты!
Посем прошу вас всех вообще, дети мои и духовные и по плоти, Бога бойтеся и страх в себе имейте, а что я с вами разлучаюсь, то вы сему не удивляйтесь, ибо пришло уже сему время, что мне более быть никак уж нельзя, а сему есть много и много причин и от непокорливых прихожан с Ершовым и от своих другов. Того ради гряду плакатися грехов своих и исполнить обещание, яже дал Богу во время пожара принять иноческий образ. И затем прошу вас всех, более в молитвах не поминать меня Иереом, того ради, яко я утаю свой сан и буду постригаться, как простой человек, если только Бог восхощет и буду жив.
А ты, подружие Пелагея, Соню выдай замуж, только за своего прихожанина, а не за раздорника, а сама иди в «Черкасы»6 и плачися грехов своих.
Еще прошу вас, дети, после меня какого-бы ни поставили священника, только бы он был нашего согласия окружнического, то вы ходите на исповедь. А только прошу вас – берегитесь проклятого раздору неокружников; эти люди не по неведению погибают, а прямо за гордость, и вы их берегитесь; лучше гладом и жаждой гибнуть, нежели к ним идти. Таких богохульников и крестохульников еще не было от самого Христа, чтобы Христа Спасителя нарицать антихристом, а четверочастный крест называть печатью антихристовою. Берегитесь и отметников церкви нашей, которые перешли в «Козловскую церковь»7 и всячески поносят нас и упрекают раздорниками неокружннками. Спаситеся, спаситеся все вы и о мне грешном помолитеся, а я о вас, и тако Бог мира да будет со всеми вами. Аминь!
Посем еще прошу вас, сие моё написание берегите и имейте себе на память и чаще прочитывайте и меня поминайте. Да спишите с этой книжицы несколько копий и дайте их тем, кто будет мною интересоваться.
1901 года, февраля 4 дня.
Многогрешный во Иереях Мирон Петров Моргунов
Стихира на глас шестый.
Спаситеся, друзи мои и чада и сродницы мои и чин дому моего с подружием; или зол или благ аз вам бых. Спаситеся служители Церкви моея, диацы и клирицы и чтецы и весь священнический чин. Спаситеся носящии церковное приношение и творящии добрая детели. Спасися, престоле Божий, иже иногда возлюбленный ми, спасися св. трапеза,8 на ней же аз, окаянный, многи литоргии соверших. Спасися, жертвенниче святый. Спаситеся сопрестольницы иерейства моего и молитеся за мя, окаянного, яко меня уже третицею зовет Господь и повеление ми положи, да не мимо идет мене. Спасайся и ты, подружие моё Пелагея, и покайся, и тако да совершим благодарение наше Господеви».
Сообщил священник И. Чередников
Из миссионерской полемики
Спасский А., свящ. Собеседование с штундистом о почитании святых // Миссионерское обозрение 1903 г. № 11. С. 77–93
В моём приходе проживал крестьянин Казновский. Это был наиболее грамотный человек из моих прихожан. Он читал и пел на клиросе, а в отсутствие псаломщика отправлял его дело при богослужении и для села – очень прилично. В сельском управлении он разъяснял крестьянам всё, чего они не понимали, а на сходах первый подавал голос. Но в жизни этого крестьянина меня удивляло одно обстоятельство, – крестьяне никогда не выбирали его ни на какую должность: ни старосты, ни судьи, ни попечителя, ни сборщика податей, ни магазинщика, ни даже доверенного по какой-бы то ни было статье. Это меня заинтересовало. Я решился открыть причину явления и скоро успел. От более откровенных своих прихожан я узнал неутешительную весть: Казновский, по их словам, говорит разные несообразности, «мутит народ».
Под разными предлогами я побывал несколько раз у Казновского. В его доме я заводил речь о вере и убедился в том, что Казновский не может не «мутить» народа, ибо, при всём своём старании показать себя истым христианином, он невольно высказывает мнения штундистские. Я заметил ему, что в его убеждениях есть много неправильного, предложил ему говорить со мною откровенно, так как это никому не повредит, а поможет нам скорее отыскать истину; пригласил его побывать и у меня когда-нибудь. Отсюда начался ряд наших бесед о разных истинах православной веры. Беседы эти сначала мало клеились – как по причине моей малоопытности в этом деле, так и потому, что Казновский в беседах постоянно переходил от одного предмета веры к другому, и никак не мог согласиться с тем, что для уразумения истины необходимо всесторонне обсудить один предмет веры и тогда уже переходить к другому. Но с течением времени он все-таки освоился с моим требованием и беседы наши начали получать более утешительные результаты.
Вот одна из таких бесед.
Казновский пришел ко мне вечером, в начале мая, накануне того дня, в который прихожане готовились в поле служить молебен о бездождии.9
– Здравствуйте!
+ Здравствуй. Казновский! Садись! Ну, что, ты всё еще не убедился в истинности православной веры? Опять в чём-нибудь сомневаешься?
– Да! сказал он садясь. Я считаю вас многобожниками, ибо вы покланяетесь многим богам.
+ Ты говоришь безумные речи.
– Как так? Какие безумные?
+ Сам посуди, – как иначе назвать твои речи, если ты называешь нас многобожниками, когда мы покланяемся Единому истинному Богу, а не многим богам.
– Но я своими глазами и ушами видел и слышал, как вы молитесь и Николаю, и Пантелеймону, и многим-многим, просите их спасти вас?!
+ Это потому тебе так кажется, что ты идешь в храм Божий с тем только, чтобы найти какой ни есть недочет у православных. Бог видит твоё злое намерение и отнимает у тебя зрение и разумение, и ты уподобляешься тем людям, о которых сказано: очи имут и не видят, уши имут и не слышат, разум имут и не разумеют (Иер.5:21; ср. Ис.6:9, и д.). А если бы ты пред тем, как входить в храм Божий, смиренно осенил себя крестным знамением, да молил бы Бога вразумить тебя, – тогда Бог, быть может, возвратил бы тебе разумение и зрение, и ты увидел бы, что мы поклоняемся Единому истинному Богу, а святых почитаем только как слуг и друзей Божиих, а наших помощников и молитвенников; просим их, чтобы они молились Богу за нас грешных, слабых, недостойных. Поэтому-то Господу мы молимся: «Иисусе сладчайший, спаси нас!» а святым: «Святителю о. Николае, моли Бога о нас», а не «спаси нас», как ты говоришь! Видишь какая разница? Святые спасти нас не могут. Сами по себе, без соизволения Господа, они тоже люди, только угодившие Богу своим житием и за сие удостоенные пребывать близ престола Божия и молиться за нас. Спасти же нас может один только Бог. Ты Императора почитаешь?
– Как же, почитаю и молюсь за него!
+ А поставленных им начальников почитаешь, слушаешься?
– И начальников уважаю.
+ И не можешь не слушать и не уважать, ибо сам Государь повелел оказывать поставленным от него начальникам послушание и уважение. Ну, а сколько Государей у нас?
– Вестимо, Государь Император у нас один.
+ Вот тебе и наглядный пример. Почитаем Государя и многих начальников, а все-таки Государя признаем одного. Точно также можно молиться Богу и Его угодникам, и все-таки признавать одного Бога. А посему ты совершенно напрасно называешь нас многобожниками.
– Если многобожниками вас назвать нельзя, то во всяком случае вы идете против библии и поступаете не по закону Господню, ибо Господь в Своём слове не заповедал молиться святым.
+ Как не заповедал? Это ты совершенно напрасно говоришь. Сам Бог повелевает друзьям Иова: идите к рабу моему Иову; Иов же раб мой помолится о вас, понеже точию лице его прииму; аще бо не его ради погубил бых убо вас (Иов.42:8). Друзья Иова исполнили повеление Божие. Иов помолился за них и Бог отпустил им грех их, Иова ради (Иов.42:9–10). Подобным образом Бог приказал Авимелеху, царю Герарскому, просить молитв у Авраама и по молитвам Авраама помиловал его (Быт.10:17).
– Я этого не отвергаю. Иова и Авраама просили в то время, когда они жили еще на земле. Молиться друг за друга должно и слово Божие сие творить повелевает. И наша братия молится друг за друга. А вы молитесь таким, которые давно уже умерли и молитвы ваши мы считаем бесполезными.
+ Только бесполезными?! Хорошо уже и то, что ты перестал их считать за признак многобожия! Но рассмотрим и это! – Если Бог повелевает просить молитв у живых; угодивших Ему, то кольми паче нужно молиться отшедшим в горний мир?! Ведь, живые, хотя и благочестивые, могут подвергаться грехопадениям. Их еще могут обуревать плоть, мир: может соблазнять дьявол. «Несть человек, иже жив будет и не согрешит, аще и один день жития его на земли» (Иов.14:4). Отшедшие же в иной мир угодники Божии, совлекшись бренного тела, не подвергаются этим искушениям. Немощи плоти им чужды. Видишь, сколь совершеннее становятся они, отшедши в горний мир? А потому, тем более мы должны молиться им и тем паче они окажут нам помощь.
– Всё это ваше рассуждение, а вы вот в слове Божием укажите, где-бы повелевалось молиться отшедшим святым, Я несколько раз читал Библию и такого повеления не встречал, а потому и считаю неприличным молиться умершим.
+ Да что ты всё повторяешь: умерший, умерший?!… Это ты только различаешь живого и мертвого, а у Бога нет мертвых. Для Бога все живы. Несте-ли чли, говорит Спаситель: аз есмь Бог Авраамов, и Бог Исааков, и Бог Иаковль, несть Бог – Бог мертвых, но Бог живых (Мф.22:32). И если Он повелел молиться живым праведникам, то это повеление равно относится и к отшедшим в загробную жизнь. Значит, прямые повеления Бога молиться всем вообще святым есть. Это – во-первых. А во-вторых, если бы такого повеления и не было, то это еще не делало-бы излишними наши молитвы. В слове Божием святые обещают молиться, по отшествии своём, за живущих на земле и молятся за них. А отсюда само собой понятно, что и мы должны молиться святым, просить их, дабы, так сказать, подвигнуть их молиться за нас пред Богом.
– А в самом-ли деле были такие святые, которые-бы обещали молиться по своём отшествии за живых?
+ Я тебе говорить напрасно не буду. Ап. Петр дает верующим такое обещание: потшуся-же и всегда имети вас по моём исходе память о сих творити (2Пет.1:15). Здесь апостол дает обещание заботиться о христианах после своей смерти и утверждать их в христианской жизни.
– Но он сие говорил при жизни и притом только обещал молиться, а молился или нет на самом деле, этого неизвестно.
+ Да, ведь, он обещает молиться после смерти, а не при жизни! Петр – ближайший ученик Спасителя, исполнен был Духа Святого. Он-ли не знал, – могут или не могут отшедшие святые молиться за живущих на земле и что отсюда бывает велия польза для последних?
– Нет, это для нас неубедительно! О молитвах его мы ничего не знаем.
+ Если о молитвах ап. Петра ничего не говорит слово Божие, то оно говорит о молитвах других святых. Вот тебе свидетельство св. Тайновидца Иоанна Богослова: Двадесять и четыри старцы падоша пред агнцем, имуще кийждо гусли и фиалы златы полны фимиама, иже суть молитвы святых (Откр.5:8). Даны быша ангелу фимиами мнози, да даст молитвам святых всех на алтарь златый, сущий пред престолом и изыде дым кадильный молитвами святых от руки ангела пред Бога (Откр.8:3).
– Это откуда приведено?
+ В Апокалипсисе так сказано.
– Апокалипсиса мы не признаем, а потому и свидетельства его не принимаем. Там много всяких диковин. Их понять и принять нельзя.
+ Иуда Маккавей в сновидении видел первосвященника Онию, руце воздеюща и моляшася за вся люди иудейские (2Мак.15:12–14). Кроме того, сей Ония о пророке Иеремии свидетельствовал: сей есть братолюбец, иже много молится о людях и о святом граде, Иеремия Божий пророк (14).
– Маккавейские книги – не канонические, а мы вымыслов человеческих не признаем.
+ Все-таки эти книги уважались ветхозаветными людьми и в указанных местах ясно выразилась вера их в то, что святые молятся за живущих на земле. Но ты слушай по порядку. Я приведу тебе свидетельства и из канонических книг. Св. пр. Моисей, молясь за народ еврейский, говорил к Богу: вспомни Авраама, Исаака, Иакова, рабов твоих (Исх.32:13). Подобным образом молится и пророк Даниил: не отними милости твоей от нас, Авраама ради возлюбленного от тебе, и за Исаака раба твоего, и Израиля святого твоего (Дан.3:35).
– Но почему-же ты не привел ни одного случая или указания из слова Божия на то, чтобы живые действительно молились отшедшим святым?
+ Если желаешь, я тебе не одно такое место приведу, а несколько. Один из друзей Иова, укоряя его в мнимой греховности, говорит: к кому из святых обратишься ты? (Иов.5:1). Сие место свидетельствует, что еще у ветхозаветных людей в обычае было обращаться с молитвою к святым, как живущим на земле, так и отшедшим в загробный мир, ибо в сем месте не указываются лишь живущие на земле. Св. ап. Иаков свидетельствует, что христиане ублажали тех, кои приняли мученическую смерть: Се блажим терпящия (Иак.5:11). Мы тоже ублажаем святых, т. е. молимся им, прославляем их, просим их ходатайствовать о нас пред Богом. Псалмопевец Давид пишет: в память вечную будет праведник (Пс.3:6). Следовательно, праведника вечно будут ублажать, вечно будут обращаться к нему за молитвами – и при жизни его на земле, и по отшествии его в лучший мир, что и совершается у нас. Известен, дальше, и пример поклонения святому, отшедшему в горний мир. И уразуме Саул, яко сей Самуил (есть) и преклони лице свое на землю и поклонися ему (1Цар.28:14).
– Этот случай для меня подозрителен. Здесь Самуил был вызван каким-то волхвованием.
+ Во всяком случае этот пример наглядно свидетельствует о том, что у древних людей было в обычае поклоняться, молиться умершим святым, ибо, если бы тем-же волхованием был вызван не св. Самуил, а какой-либо нечестивый человек или дьявол, то Саул, конечно, никогда не поклонился бы им, а, вероятно, был бы только устрашен сим явлением.
– Всё это для меня имело бы значение, если бы я видел результат сих молитв; но из приведенных мест св. Писания никакого результата молитв святых не видно.
+ Ты не сомневаешься в том, что святые живые могут совершать великие чудеса и помогать людям своими молитвами, как помогали пр. Моисей, Иов и др.?
– Не сомневаюсь.
+ Тем паче умершие святые могут помогать нам своими молитвами. О значении молитв святых за нас грешных имеется в слове Божием достаточно свидетельств. В послании ап. Иакова сказано: много может молитва праведного поспешествуема (Иак.5:13). Не сказано «много может молитва живого праведного», а просто «праведного». Следовательно, нужно разуметь и живущего на сей земле, и отшедшего в загробный мир. Св. ап. Петр говорит: Очи Господни на праведныя и уши Его в молитву их (1Пет.3:12). Смотри: не сказал Апостол: «очи Господни на праведных живых», но просто «на праведныя»; следовательно, разумей и живущих здесь и отшедших в загробный мир. Не хочу умолчать еще о важном свидетельстве Апокалипсиса. Найди XX главу 4-й стих. Прочитай.
И видех престолы, и сидящие на них, и суд дан бысть им.
+ Ты теперь Апокалипсиса не признаешь, но, быть может, милосердный Бог откроет тебе глаза и ты познаешь правоту православной Церкви, тогда обрати внимание на сие место. Оно свидетельствует о весьма важном значении для нас святых. Они не только молятся за нас, но им будет дано право судить нас. Но это не всё. В слове Божием есть яснее примеры помощи святых людям. Главотяжи и убрусцы ан. Павла, скажи, почему исцеляли больных (Деян.19:12)?
– Это – по молитвам живого Апостола.
+ Всё же он здесь не присутствовал. Но оставим этот и возьмем другой пример. Пророк Елисей ударил милотью пророка Илии по реке Иордану, вода расступилась и пр. Елисей перешел реку. Скажи, по молитвам кого сие чудо совершилось?
– Пророка Илии.
+ А пророк в это время был вознесен на небо. Достаточно-ли тебе этого примера для доказательства силы молитвы святых (4Цар.2:13–14).
– Мне этого мало. Илия бросил пророку Елисею милоть еще в то время, когда находился на границе двух миров – земного и небесного и еще не оставил земного совершенно.
+ Но сам-то пр. Илия во время разделения Иордана находился не в горнем-ли мире?
– Положим, – отошел уже в вечность!
+ Но это не единственный пример. Укажу тебе пример помощи пророка, уже давно отшедшего в загробный мир.
– А какой это пример?
+ Несли некоего умершего погребать и увидели полчища Моавитян. Погребавшие испугались и бросили мертвеца в ту пещеру, где находились кости пр. Елисея. Мертвец прикоснулся к костям пророка и воскрес (4Цар.14:21). Теперь тебе должно быть ясно, что отшедшие в горний мир святые молятся за нас, помогают нам совершат великие знамения для нас. Из слова Божия мы видим также, что древние молились отшедшим святым, просили их ходатайства. Почему же и нам не молиться святым, не просить ходатайства за нас грешных, слабых? Скажи мне, почему Бог, давая те или другие заповеди, удерживая людей от множества пороков и преступлений, во всей Библии ни разу не запретил людям покланяться святым?
– А потому мы не молимся святым, что считаем их молитвы совершенно излишними и в их помощи не нуждаемся.
+ Позволь! Ты как же, – от разума сие говоришь или имеешь на то основание в слове Божием?
– Имею. Един есть ходатай Бога и человеков человек Христос Иисус (1Тим.2:5). Зачем нам ходатайство других, когда имеем Единого Ходатая Иисуса Христа?
+ Есть большая разница между ходатайством Иисуса Христа и святых. Иисус Христос есть и Ходатай и вместе Спаситель наш. Он ходатайствует Своею силою по праву, как Проливший за нас Свою бесценную кровь, которой не был достоин весь мир, и в этом смысле Он Единый Ходатай, так как нет и не может быть иной такой жертвы за грех (Евр.10:26). Святые же собственно не ходатайствуют, а молятся, просят Бога за нас, всё упование возлагая на благость и милосердие Божие, заслуженное нам Единым Ходатаем – Христом. Посему, приводимое тобою место прямо к делу не относится и твою мысль подтвердить не может. Ты укажи, если знаешь, прямое свидетельство того, что молитвы святых для нас излишни.
– Такого свидетельства я не знаю.
+ Его и нет. А я приведу свидетельство того, что ходатайство святых для нас не только не излишне, а необходимо. В грехах мы рождаемся и в жизни постоянно грешим. Несть человек, иже жив будет и не согрешит, аще и един день жития его. Св. ап. Павел, муж совершенный, однако неоднократно просил христиан молиться за него (Рим.15:30). Сам Иисус Христос, Господь наш, просил учеников побдеть с Ним (Мф.26:38, 40), а явившийся ангел с неба укреплял Его (Лк.22:43). Как же после сего можно считать излишними молитвы святых, когда в трудные минуты Сам Иисус Христос призывает учеников сободрствовать Ему, когда Самого Иисуса Христа укреплял ангел, когда чувствовал свою немощь такой совершенный муж, как ап. Павел? Как можно говорить сие, когда Сам Бог повелевает просить ходатайства Авимелеху Герарскому у Авраама, друзьям у Иова? Зачем же тогда святые молились бы в загробной жизни за живущих на земле, как ап. Петр и пр., если бы их молитвы были излишними, ненужными? Так может говорить только тот, кого обуяла гордость, самомнение.
– Гордости во мне нет никакой! Но я желаю жить по закону Господню.
+ Всякий благомыслящий человек стремится жить по закону Божию. Но человек не Бог. Человек часто заблуждается и принимает ложь за истину. Вот и ты заблуждаешься, когда отвергаешь необходимость молиться святым.
– Я живу так, как говорит Библия.
+ В таком случае укажи, где Библия запрещает молиться или покланяться святым?
– А вот у пророка сказано: Славы моей иному не дам (Ис.42:8). Зачем кланяться святым и тем уничижать Господа?
+ Место это к делу не относится. Чтобы знать, куда оно относится, читай и дальше: славы моея иному не дам, ниже добродетелей моих истуканным. Видишь, здесь разумеются бездушные истуканы, покланяться которым Бог строго запрещал и грозно карал идолопоклонников. Прославлением же святых Бог не только не уничижается, а напротив – прославляется. Посему и сказано: хвалите Бога во святых Его, хвалите Его в вышних, хвала Ему в собрании святых (148, 149 псалмы). Посему-то и Спаситель называет святых друзьями (Ин.15:14) и славу Свою дал святым Своим (Ин.17:22). Кто принимает вас, принимает Меня (Мф.10:40), говорит Он апостолам. Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается; а отвергающийся Меня отвергается Пославшего Меня (Лк.10:16).
– Я говорю то, на что имею основание. Если то место сюда не относится, в слове Божием есть другие места, которые прямо указывают на бесполезность молитв святых.
+ Интересно знать, какие это места?
– А вот прочитайте Иер.15:1.
+ А ну прочитай, я послушаю!
– И сказал Господь ко мне: хотя-бы предстали пред лице Моё Моисей и Самуил, душа Моя не преклонится к народу сему; отгони их от лица Моею, – пусть они отойдут. Видите, бесполезны молитвы Самуила и Моисея
+ Ты прочитал сам против себя и привел лишнее доказательство в мою пользу. Почему Бог грозит не принимать молитв Моисея и Самуила? Потому, что беззакония народа еврейского перешли всякую меру, так что даже молитвы таких великих святых, как Моисей и Самуил, не могли помочь им. Но отсюда также само собою понятно, что если бы беззакония евреев не были так велики, если бы евреи не закоснели в грехах, Бог принял бы молитвы Моисея и Самуила, помиловал бы народ еврейский. Обрати и на то внимание, что за тех-же евреев Бог запрещает молиться и св. пр. Иеремии, говоря, что Он не услышит молитв пророка (Иер.11:14). Следует-ли отсюда, что даже молитва живых праведников бесполезна, вопреки ясным свидетельствам об её пользе?!
– Но в слове Божием есть пример того, как сам святой отказался помочь людям. Это – праведный Авраам. Он отказался помочь богачу и его братьям. Следовательно, умершие святые не могут нам помогать и наши молитвы святым – бесполезны.
+ Опять ты привел доказательство в мою пользу. Я не говорю тебе, что святые непременно помогают всякому человеку, но лишь тому, который этого заслуживает. Как сам богач, так и его братья слишком погрязли в беззакониях и вовсе не заслуживали никакой помощи и снисхождения, а потому и не получили их. Да если бы братья богача и получили вразумление от святых, то не употребили бы его с пользой. Слишком уже они погрязли в беззаботной чувственной жизни. Это ясно выразил Авраам, когда сказал о них: аще Моисея и пророков не послушают, и аще кто от мертвых воскреснет, не имут веры (Лк.16:31). Но своей просьбой к Аврааму и Лазарю богач лишь подтвердил то, что святым должно молиться, что сие было в обычае у древних и что святые могут помочь нам, если мы того сколько-нибудь заслуживаем.
– Я приведу положительные места, в которых прямо запрещается молиться святым.
+ Я достоверно знаю, что таких мест нет в слове Божием.
– А почему же в таком случае Ангел Божий запрещает Иоанну Богослову покланяться ему?
+ Это ты на основания чего говоришь?
– Слушайте, прочитаю из Апокалипсиса: и пад пред ногами его, поклонися ему и глагола ми; виждь, на: клеврет ти есмь и братий твоих имущих свидетельство Иисусово (Откр.19:10).
+ Вот какой ты! Когда Апокалипсис свидетельствует против тебя, то ты сей книги не признаешь, а когда, по твоему мнению, Апокалипсис тебя оправдывает, ты готов опереться и на него. Но ты заблуждаешься. Это место вовсе ничего не говорит против почитания и поклонения святым. Ангел не принял поклонения от ап. Иоанна по чувству смирения, как от равного, ибо святые равны ангелам (Лк.20:36; Мф.22:30); да и сам ангел называет себя равным апостолам: я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово. А что в этом поклонении, действительно, не было ничего непозволительного, об этом свидетельствует то обстоятельство, что, несмотря на запрещение ангела, Апостол снова кланяется ему. Читай Откр.22:8.
– И егда слышах и видех, падох поклонитися на ногу ангела показующаго ми сие…
+ Понял? А за сим напомню тебе, что у нас речь идет о почитании св. угодников Божиих; ты же приводишь свидетельства из мира ангельского. О почитании св. ангелов, если пожелаешь, мы побеседуем в другое время и я надеюсь доказать тебе важность и необходимость этого почитания. Теперь же ты скажи мне еще раз: просить ходатайства у живущих святых законно?
– Да, мы молимся друг за друга.
+ Так. А ну найди Деян.14:8!
– И некто муж в Листрех немощен ногами седяще, хром от чрева матере своея сый, иже николиже бе ходил. Сей слышаше Павла глаголюща: иже воззрев нань и видев, яко веру имать здрав быти, рече велиим гласом: тебе глаголю, во имя Господа Иисуса Христа, встани на ногу твоею прав. И абие возскочи, и хождаше. Народи же видевше, еже сотвори Павел, воздвигоша глас свой. Ликаонски глаголюще: бози, уподобльшеся человеком, снидоша к нам. Нарицаху же убо Варнаву – Диа, Павла же – Ермиа, понеже той бяше начальник слова. Жрец же Диев, сущаго пред градом их, приведе юнцы и (принесе) венцы пред врата, с народы хотяше жрети. Слышавша апостола Варнава и Павел, растерзаша ризы своя, вскочиста в народ, зовуща и глаголюща: мужие, что сия творите; и мы подобострастни есмы вам человеци, благовествующе вам от сих суетных обращатися к Богу живу, иже сотвори небо и землю и море и вся, яже в них: иже в мимошедшия роды оставил бе вся языки ходити в путех их: и убо не несвидетельствована себе остави, благотворя, с небесе нам дожди дая и времена плодоносна, исполняя пищею и веселием сердца наша (8–18). И сия глаголюща, едва устависта народы не жрети има, но отити коемуждо во своя си (Деян.14:8–18).
+ Вот ты считаешь законным обращаться с молитвами к живым. Скажи, почему апостол Павел и Варнава убеждали не приносить им жертв?
– Я этого не знаю.
+ Очевидно, по чувству смирения, – а главное потому, – что народ хотел принести им жертвы и молиться им не как святым слугам Божиим, а как самим богам (12). Очевидно, народ хотел поступить незаконно и нечестиво. Теперь прочитай другой случай из Деян.10:25–26.
– Якоже бысть внити Петру, срете его Корнилий, и пад на ногу его поклонися. Петр же воздвиже его, глаголя: возстани: и аз сам человек есмь.
+ Почему здесь ап. Петр отклоняет поклонение Корнилия? Опять по чувству смирения, – притом можно думать, что Корнилий те милости, которые надеялся получить, приписывал ап. Петру, а не Богу, думал благодарить за них ап. Петра, а не Бога. Теперь и соображай! По вашему мнению обращаться к живущим святым с молитвами можно и отклонение апостолами Петром и Павлом человеческого поклонения не доказывает противного. Подобным образом и отклонение ангелом поклонения ап. Иоанна не есть доказательство того, что вообще не должно молиться отшедшим святым.
– Но я не понимаю, каким образом умершие святые могут помочь нам, если они не знают наших нужд, не слышат наших молитв? Разве они всеведущи? Они тоже люди – ограниченные.
+ Правда, они не всеведущи, но о наших нуждах они знают и наши молитвы слышат. Об этом есть достаточно свидетельств в слове Божием. Святые Божии еще здесь на земле были одарены высшим сравнительно с нами ведением. Так, св. ап. Петр провидел, что Анания и Сапфира утаили часть денег от проданного имущества (Деян.5:1–3). Пр. Елисей пересказывал царю Израильскому даже те слова, которые царь Сирийский говорил в спальной комнате (4Цар.6:12). Тот же пророк провидел обман слуги своего Гиезия и наказал его за то проказою.
– Ты всё говоришь о живущих на земле.
+ Подожди, я не окончил! Если, живя на земле, святые провидят невидимое нами, то кольми паче по отшествии на небо они могут знать и знают то, что совершается на земле; ибо тогда они освобождаются от бренного тела. Посему-то Авраам и сказал богачу: у них есть Моисей и пророки, пусть их слушают (Лк.16:29). Соображай: Авраам умер раньше Моисея и пророков, а однако знал о их существовании на земле. Слушай дальше, что говорит Иисус Христос: Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался (Ин.8:56). Видишь! За много веков до рождения Христа Иисуса умер Авраам, а все-таки видел день Господень. Сам Господь святых на небе называет равными ангелам (Лк.20:36; Мф.22:30), а ангелы знают о совершающемся на земле (Лк.15:10). А чтобы тебе лучше было понять, как святые на небе могут знать о земном и слышать наши молитвы, ты вспомни нашу беседу о Церкви. Я говорил: Церковь есть духовное тело, Глава которого Иисус Христос, а члены – верующие в Него – не только живущие, но и умершие (1Кор.12:15–27). Отсюда понятно, как между членами тела существует тесная связь, так и между членами Церкви Христовой существует самое тесное общение, и вовсе нет ничего удивительного, если святые слышат наши молитвы и ведают о нуждах. Согласен-ли ты теперь с тем, что должно почитать святых и молиться им и что молитвы святых полезны нам?
– Я еще разберусь в ваших словах, а вас прошу написать мне на бумажке те места, которые вы приводили в своё доказательство.
+ Возьми этот листок. В нём указаны нужные места и по листку ты их отыщешь в Библии. Когда же с ними разберешься, приходи, – побеседуем о почитании святых ангелов и Божией Матери, и тогда для тебя еще яснее будет необходимость почитания св. угодников Божиих.
Казновский взял листок с цитатами мест Библии о почитании святых и, попрощавшись, ушел от меня.
Я возблагодарил Бога. Было заметно, что луч истины уже проник в душу сектанта. Быть может, за лучом скоро взойдет солнце, которое разгонит тьму сектантской лжи и невежества. Сектант, быть может, только в первый раз усомнился в своих заблуждениях, ибо раньше он не просил у меня никаких листков.
Свящ. Алексий Спасский
Летопись периодической духовной и светской печати и новые книги по вопросам веры и миссии Церкви
Козицкий П. [Рец. на] Прославление святых в Церкви христианской православной. К торжеству прославления преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского. Протоиерея Петра Смирнова. С.-Петербург. 1903 г. in. 16, стр. 122, ц. 30 коп. // Миссионерское обозрение 1903 г. № 11. С. 94–97
В 19 день июля текущего года православной России предстоит светлое и великое торжество открытия мощей преподобного отца нашего Серафима. Еще при жизни преподобный стяжал себе славу по всей России и имя его пронеслось от края до края нашей великой земли. Преподобный Серафим при жизни осиян был славой чудотворений. По блаженной кончине его, по молитвенному предстательству его совершались чудеса исцелений при гробе его, и от разных вещей, им оставленных и напоминавших о нём. Изображения подвижника Серафима – в виде согбенного старца, идущего из лесного уединения в обитель и обратно, коленопреклоненно, с воздетыми руками, молящегося на камне, сидящего близ лесной кельи и кормящего из рук своих медведя – в безмерном количестве распространены по всей России и известны каждому. Многочисленные случаи благодатной помощи по молитвам старца Серафима побудило Св. Синод, десять лет назад тому, начать, при помощи особой комиссии, расследование о чудесных знамениях и исцелениях, явленных по молитвам о. Серафима. Всех случаев было обследовано 94; при чем большая часть их была удостоверена надлежащими свидетельскими показаниями. Множество еще знамений осталось не расследованных и не внесенных в записи. Когда шло расследование особой комиссией о чудесных знамениях преподобного, «Его Императорскому Величеству, в минувшем 1902 г. 19 июля, в день рождения старца Серафима, благоугодно было воспомянуть и молитвенные подвиги почившего и всенародное к памяти его усердие, и выразить желание, дабы доведено было до конца начатое уже при Св. Синоде дело о прославлении благоговейного старца». Св. Синод, по рассмотрении во всей подробности и со всевозможным тщанием обстоятельств этого важного дела, в полном убеждении в истинности и достоверности чудес, по молитвам старца Серафима совершившихся, воздав хвалу дивному во святых Своих Господу Богу, присно благодеющему Российской Державе, в деянии своем от 29 января сего года, изложил следующее своё решение: 1) благоговейного старца Серафима, почивающего в Саровской пустыни, признать в лике святых, благодатию Божией прославленных, а всечестные останки его – святыми мощами и положить оные в особо уготованную усердием Его Императорского Величества гробницу для поклонения и чествования от притекающих к нему с молитвою; 2) службу преподобному отцу Серафиму составить особую, а до времени составления таковой, после дня прославления памяти его, отправлять ему службу общую преподобным, память же его праздновать как в день преставления его, 2 января, так и в день открытия святых его мощей, и 3) объявить о сем во всенародное известие от Св. Синода.
В настоящее время, в виду предстоящих торжеств, наши духовные журналы и печать, идя на встречу нуждам и запросам православных чад Церкви и в особенности благочестивцев, предприняли целый ряд изысканий о жизни и деятельности преподобного о. Серафима и издали не мало его жизнеописаний, то более кратких, то более подробных, пополненных новыми сведениями. Рассматриваемая нами книжка с вышеуказанным заглавием вышла из-под пера известного духовного писателя, протоиерея о. Петра Смирнова, и является вполне своевременным, вышедшим в добрую пору изданием. Она касается вопроса о прославлении святых в Церкви христианской православной во всей его широте и полноте и находится при этом в полном согласии и соответствии с требованиями православной догматики и церковно-исторической науки. Книжка о. Смирнова состоит из семи статей, находящихся между собою в строго-логической связи, заглавия их: а) деяние Св. Синода 29 января 1903 года. b) союз Церкви земной с небесною, с) Церковь первенцев, написанных на небесах, d) молитва об усопших и прославление святых, е) нетление святых мощей, f) прославление святых и g) предстоящее православной России светлое и великое торжество. Все эти статьи в наши лукавые дни, в век отрицания знамений и чудес, в век неверия и крайнего рационализма, в наше сектофильствующее время – имеют весьма важное значение и представляют собою глубокий интерес с миссионерской точки зрении. Не имея возможности в краткой библиографической заметке подробно анализировать содержание этих статей, мы остановим наше внимание на некоторых частностях, интересных как по самому своему существу, так и в миссионерском отношений. В своих изысканиях по вопросу о канонизации святых, т. е. о причислении Церковью усопших подвижников к лику святых, автор, опираясь на «Историю канонизации святых в русской Церкви» проф. Е. Голубинского, подробно раскрывает те условия, при которых совершается канонизация. Общим основанием для причтения усопших подвижников к лику святых служило и служит в нашей православной Церкви прославление подвижников а) даром чудотворений или еще при жизни их, или, как это было по большей части, после их смерти; чудотворения же совершались в большинстве случаев у гробов праведников и б) нетлением их мощей, при чем самое нетление мощей рассматривается, как одно из выдающихся чудес. Впрочем, это последнее обстоятельство не есть необходимое условие для прославления. По воле Господа, не все святые прославляются нетлением мощей (72). Нетленные останки святых угодников имеют особое значение и назначение в Церкви, не как только удостоверение в святости почившего подвижника, а главным образом как посредства для излияния свыше милостей Божиих. В этом отношении мощи и составляют предмет почтительного поклонения верующих. Автор довольно подробно останавливается над выяснением вопроса, что нужно разуметь под мощами. Под мощами, по изысканиям научным, разумеется не все тело, а части его, по преимуществу кости; в одной из древних рукописей читаем: лежат мощи – кости целы; слово моща означает не целое, а часть какого-либо священного и не священного предмета. В Греции, на Востоке, под мощами разумеются кости. Целость всего тела не требуется и существом дела для признания нетления мощей. Сила благодати Божией познается и тогда, когда оставшиеся нетленными части тела или кости источают исцеления (64–66).
Автор находит нужным в своих статьях коснуться вопроса о практике канонизации святых в римско-католической и православной Церкви. В православной Церкви мысль о суде Церкви над святыми пред прославлением их совершенно исключена из понятия о сем прославлении. Не Церковь земная должна судить святых, но им дано право суда над очами и всем миром (1Кор.1:2). Если же пред прославлением святых и происходит расследование о чудесных знамениях и исцелениях, получаемых от почиваемых угодников Божиих, то это делается православною Церковью не с целью суда, а с целью удостоверения истинными и надлежащими свидетельствами непреложности знамений и чудес для смиренного и благоговейного преклонения пред совершившимся событием, в послушание воле Бога, прославляющего святых Своих. В практике же католической церкви, прежде канонизации святого, совершается разбор его жизни и деятельности, напоминающий приемы суда. Там, можно сказать, творится суд над святыми, как будто они заинтересованы тем, будут ли они признаны таковыми или нет, и как будто увенчание их ореолом святости может зависеть от усмотрения и воли папы и вообще от земного суда (40–41, 87, 88 стр.).
В заключительной статье сборника автор эскизно рисует жизнь преподобного, по местам делая очень меткие характеристики. Жизнь старца Серафима, говорит о. Смирнов, прежде всего изумляет прямотой своих путей. Ни одного увлечения, ни каких-либо колебаний, не говоря уже о падении, не видим мы в жизни избранника Божия. Точно стрела, пущенная сильною и искусною рукою, стремился он прямо и бесповоротно к цели Божьего звания (102). Удивительны разнообразие и шпрота иноческого искуса преподобного и за тем постепенное восхождение как бы по лестнице от земли к небу по степеням возрастания духовной силы – в подвигах пустынника, столпника, молчальника, затворника, наконец старца-наставника тысяч людей, ежедневно к нему приходивших (104). Восстает пред нами необычайная личность, богато одаренная естественными и благодатными силами, великий праведник! В лице преподобного Серафима «является нам, выражаясь словами Златоуста русской Церкви, новый проповедник истины святые веры нашей, новый споручник наших надежд, новый образец для подражания, новый помощник во всех наших нуждах, но вместе с тем и новый судия и обличитель наш, если мы, радуясь явлению его, не воспрянем от сна греховного, не вступим на путь правды, по которому взошел он на небо, и не потечем, при его помощи, к горнему нашему отечеству».
Пожелаем рассмотренной нами книжке о. протоиерея Смирнова, в виду её благовременности и заключающегося в ней глубокого интереса по вопросу о канонизации и прославлении святых вообще в русской Церкви, и в частности преподобного отца Серафима, самого широкого распространения.
П. Козицкий
Александр, иеромонах. [Рец. на] Г. Ключарев. В защиту почитания нетленных мощей св. угодников Божиих. Цена 15 коп. Обращаться к автору, в Ставрополь-Кавк., Дух. Семинарию, преподавателю, священнику Г. Ключареву // Миссионерское обозрение 1903 г. № 11. С. 97–100
В виду открытия и прославления мощей преп. Серафима Саровского вышеозначенная брошюра о. Ключарева является вполне благовременною и благополезной.
На первых страницах автор, имея в виду сектантское заблуждение, обстоятельно указывает свидетельства св. Писания относительно нетления мощей св. угодников Божиих.
С особенным вниманием о. Ключарев останавливается на церковной истории, откуда извлекает много свидетельств о нетлении мощей. Блаж. Феодорит свидетельствует о благоговейном отношении первенствующих христиан к останкам св. Иоанна Крестителя. Честная глава Предтечи Господня несколько раз попадала в руки врагов христианства (напр., Юлиана Отступника), которые неоднократно пытались уничтожить её, но Господь всякий раз сохранял её для благоговейных почитателей (Блаж. Феод. Ист., кн. 3, гл.7:10). Точно также чествовались и нетленные останки св. апостолов, как свидетельствуют о том св. И. Златоуст, говорящий о почитании костей св. Ап. Петра и Павла, бл. Иероним, ист. Евсевий (Церк. Ист. кн. 8). В истории христианской Церкви наблюдалось иногда неблагоговейное отношение к св. мощам или злоупотребление оными, так что Евстафиане в IV в. отказывались не только почитать мощи, но даже и ходить в те церкви, где лежали св. мощи. Но в общем отрицание св. мощей было редким явлением древности, и даже иконоборцы, резко восстававшие против христианской обрядности и св. икон, мало вооружались против почитания св. мощей. На VII вселенском соборе почитание мощей было признано за обязательный для христиан догмат.
В следующем отделе брошюры автор обстоятельно перечисляет виды нетления св. мощей. Обычно под св. мощами разумеются целые тела усопших святых, сохранившиеся нетленными. Однако некоторые части тела св. угодников подвергаются и тлению, в исполнение слов Божиих, что человек «земля есть и в землю отыдет» (Быт.3:19), и как бы во свидетельство того, что остальное тело сохранено не силою природы, а чудом Божиим (8 стран.). Глубокоучителен приводимый у автора рассказ приснопамятного наместника Троицкой Лавры, архим. Антония, бывшего очевидцем нетленных мощей св. князя Глеба, сына Андрея Боголюбского, находящихся в г. Владимире. «Я глубоко поразился, передает он, когда священник обнажил предо мною по локоть руки святого и несколько раз поднимал их вверх, руки и составы их были в полном нетлении, даже пальцы рук отличались гибкостью. Кожа же была цела, как у недавно умершего, только желтоватого цвета. При виде сих нетленных мощей, ужас напал на меня и мороз прошел по коже. Я пламенно благодарил Бога, что Он благоволил уверить меня в нетлении св. мощей и просил Господа, чтобы Он не наказал меня за моё прежнее неверие» (9 стран.). Автор далее объясняет условия канонизации св. мощей, – 1) святость жизни угодника и 2) совершение чудотворений от мощей. В особенную заслугу и похвалу следует вменить автору основательно-критический разбор, коему он подвергает различные возражения, приводимые против нетления мощей. Так, напр., некоторые говорят, что подвижники еще при жизни настолько изнуряют своё тело постом, что уже не остается места тлению. Такое, скорее наивное, чем серьезное, возражение автор основательно опровергает указанием на св. князей Бориса и Глеба, св. Дмитрия Угличского, умерших в молодых летах. Другие же святые отличались полным и сырым сложением, напр., св. Тихон Воронежский, за год до смерти пораженный параличом (17, 18 стр.). Нельзя объяснять чудесного нетления мощей влиянием сухой атмосферы. Гроб преподобного Сергия Радонежского был найден почти в воде. Однако, несмотря на 30-летнее пребывание в сырости, не только мощи преподобного сохранились в целости, но и самые одежды его не подверглись тлению. Гроб св. Митрофания Воронежского пробыл во влажном грунте чернозема 114 лет. Верхняя доска гроба вся истлела, боковые доски чрезвычайно обветшали и целой сохранилась только нижняя доска, на которой лежало нетленное тело святителя (19 стр.).
Сохранение тела, говорят еще, возможно чрез окаменение его. Последнее часто бывает на почве, богатой минеральными растворами, особенно же кремнозёма. Указывают на египетские мумии… Но христианские мощи нельзя сравнивать ни с окаменелостями, ни с мумиями. Вот как описываются, напр., в житии св. Амвросия Медиоланского мощи муч. Назария. «Мы видели (говорит современник открытия св. мощей) во гробе, в котором лежали мощи мученика, кровь как бы сегодня истекшую, голова же его вместе с волосами и бородой была так нетленна, что как бы сегодня положена во гроб, и лицо его было так светло, как бы сейчас омытое; и мы исполнились такого благоухания, которое превосходит всякие ароматы». Такое полное сохранение св. мощей совсем не походит на окаменение тела или на сохранение его в виде безобразной мумии. Притом, мумия может храниться только в скрытом месте, подверженная же влиянию атмосферы, она постепенно разрушается (21 стр.)
Даже этот беглый обзор брошюры о. Ключарева много говорит о её достоинстве, она может оказать великую услугу приходским пастырям, особенно в южных губерниях, где много сектантов, отрицательно относящихся к мощам св. угодников Божиих: здесь священник может прекрасно воспользоваться фактами и свидетельствами, приводимыми в брошюре о. Ключарева.
С другой стороны, брошюра будет пригодна священнику и для бесед его с православными прихожанами и поможет ему уберечь их от «волков хищных, не щадящих стада».
Поэтому охотно рекомендуем брошюру о. Ключарева вниманию приходских пастырей и вообще всех лиц, прикосновенных к делу миссии православной Церкви.
Иеромонах Александр
Гринякин Н. Последний аргумент декадентов-новопутейцев // Миссионерское обозрение 1903 г. № 11. С. 100–101
В журнале «Новый Путь» есть отдел «религиозно-философская хроника». Отдел этот представляет собой подворотню декадентского вертограда, из-под которой незримые охранители дивного насаждения «новопутейцев» оглашают воздух, беспокоимые мимоходящими людьми… Один из таких охранителей, видимо, сильно неравнодушный к прелестям декадентского рая, в июньском № удостоив своим «религиозно-философским» вниманием «Мисс. Обозрение» № 9. Не имея возразить что-нибудь по существу против помещенной в этом № и даже неоконченной статьи «Кого ищете?» – он нашелся лишь предположить в авторе её «хамство, бурсачество и традиционно-извращенную фантазию». Это последний аргумент «религиозной философии» «Нового Пути». Аргумент, действительно, недалекий от argumentum ad bacuhum или даже пресловутой бурсацкой «вселенской смази»… Другими аргументами декадентский журнал, видимо, не богат, мы де выше их?… Хроникер новопутейский, кажется, не понимает того, что ругнуть человека другого образа мыслей и упования хамом и бурсаком далеко не значит доказать правоту своего «религиозно-философского» миропонимания и свою благовоспитанность. Удивляться ли после этого фанатичности и нетерпимости мутиков-раскольников и сектантов, если передовые и путеводящие интеллигенты, ратующие за свободу мысли и «религиозной совести», так непристойно ругательны и нетерпимы по отношению к несогласным с ними?! По всему видно, какая у них терпимость и свобода!… Теперь по существу.
Древний учитель Церкви Викентий Лиринский называет хамом того, кто в подрыв авторитета св. отцов указывает на их недостатки. И мне бы казалось, что, применительно к словам этого учителя Церкви, хамство скорее пристало к «Новому Пути» и его религиозно-философствующим писателя, не желающим быть «в кулачке святых отцов», а не к их критикам. Что касается «бурсака», то этого имени новопутейцы, правда, не заслуживают, так как бурсаки всегда отличались логичностью анализа и крепостью своих умозаключений, о каковых качествах вырождающиеся «декаденты» со своим мистическим разумом мечтать не смеют. К примеру. Хроникер июньского № «Нового Пути» не в состоянии был понять, что «декадентская литургия», план которой намечен в 9 № «Мисс. Обозр.», стоит в полном логическом соответствии с «религиозно-философским» бредом декадентов, желающих смешать культ самой плоти с культом верующего духа. Хроникеру кажется «любопытным соединение мотивов из «Синей Бороды» с Апокалипсисом». Мы с ним вполне согласны, потому что это не более любопытно, чем «святое сладострастие» у Мережковского и молитвословие пред началом и по окончании супружеских сношений «при свете, пред всезрящими очами Господа» у Розанова. Касательно «объявления в стихах» хроникер отозвался восклицанием: «какой позор! в стихах!?» Да ведь под «объявлением» – то написано, чьи в стихах – ритм и рифма! Правда, какой позор стихи о какой-то царице, читавшей «Глубинную книгу», – стихи, украсившие собой страницы «Нового Пути» и, как бессмысленный набор корявых слов, и «стихотворный сумбур», достойно осмеянные Бурениным в «Новом Времени» № 9747. Стихов этих не приводим в виду того, что новопутейцы своим мистическим разумом восприняли их, надо полагать, на память!
Пока довольно. На будущее время просим «религиозно-философствующего» хроникера «Нового Пути» придумать для нас своей благоразумной головой еще какой-либо эпитет – по-ругательнее и быть уверенным, что неприятности этим нам он не сделает. Мы очень были бы опечалены и пеплом посыпали бы главу свою, если бы нас похвалили в «Новом Пути», так как помним слова Писания: «отступники от закона хвалят нечестивых» (Притч.28:4).
Н. Гринякин
Хроника
Миссионерство, секты и раскол. Миссионерские курсы для приходских священников киевской епархии // Миссионерское обозрение 1903 г. № 11. С. 102–112
Читатели «Миссионерского Обозрении» знают из хроники нашего журнала, что уездные миссионерские съезды из года в год повторяются в киевской епархии, где сектантство, если не наиболее многочисленно, то наиболее характерно и жизненно. Но повторяющиеся из года в год съезды, которые обыкновенно продолжались не более одного дня (5–6 час.), страдают однообразием: что можно сделать, кроме общего обзора сектантства за такое короткое время? Поднимать жизненные глубокие вопросы и не довести их до желательного разрешения, – на это не решались ни руководители съезда, ни его участники. Такое печальное состояние такого благого дела, на которое и местной высшей властью, и самим духовенством возлагались большие надежды, особенно озабочивало руководителей уездных съездов – епархиальных миссионеров. И вот в нынешнем году найден и осуществлен самым блестящим образом выход из стесненного положения.
В апреле месяце этого года епархиальный миссионер священник о. Савва Потехин подал Высокопреосвященному, новому Киевскому митрополиту Флавиану, записку, в которой, доложив о стесненном положении обычных уездных миссионерских съездов, представил проект устройства миссионерских и пастырских курсов. Чуткий к нуждам миссии архипастырь милостиво разрешил привести проект в исполнение в нынешнем-же году.
При осуществлении проекта, пришлось встретиться с некоторыми немаловажными трудностями. Предстояло выбрать место – центральное для возможно большего числа зараженных сектантством приходов, в котором, при этом, было бы помещение удобное и достаточно обширное для занятий, затем, выбрать и время, неделю – свободную и от праздничных богослужений, и от спешных страдных сельскохозяйственных работ. Наконец, нельзя было не принять во внимание заботы о прокормлении и ночлеге для предполагавшегося довольно значительного числа участников курсов. Всё это, с Божией помощью, при живом содействии нового архипастыря-миссионера, удалось разрешить самым лучшим образом. Местом для съезда было избрано м. Жашков, – центральное для зараженных сектантством приходов трех уездов: Таращанского, Звенигородского и Уманского и располагающее обширнейшим зданием двухклассного министерского училища. Временем избрана неделя (с понедельника по пятницу) пред Св. Троицей (с 19-го по 23-е Мая), время свободное от праздников и от срочных работ. Организацию продовольственной части приняли на себя семьи местного священника и заведующего училищем. Местом для ночлега должны были послужить отчасти дом священника, отчасти здание церковно-приходской школы; кроме того, предполагалось, что священники ближайших к Жашкову приходов будут уезжать на ночлег домой и предложат свой кров для этого и другим, располагающим возможностью отъезда на ночь. Владыка-митрополит милостиво разрешил отпустить на продовольствие членов съезда из сумм духовной консистории сто рублей, г. попечитель учебного округа – воспользоваться зданием училища, а духовная консистория предписала благочинным оповестить духовенство ближайших к Жашкову округов о времени съезда. За месяц до съезда епархиальным миссионером свящ. С. Потехиным была составлена и представлена на утверждение Его Высокопреосвященства следующая программа съезда.
19-e Мая. Понедельник. 12 час. дня
Молебствие в местном храме по чину: «Последование молебного пения об обращении заблудших, певаемое в неделю православия и во иных потребных случаях». Открытие председателем заседаний съезда в здании министерского училища. Выбор секретаря. Обозрение состояния сектантства в епархии: численный рост и внутренние изменения в разных толках штундизма: штундо-баптизме, духовный, толстовстве и малеванстве. Сектантская пропаганда: проповедники, заграничные книжки и брошюры, гектографы и письма. Противосектантская литература: историческая, апологетическая и полемическая.
20-е Мая, Вторник утро (8 час. – 1 час. дня)
Отношение сектантов к вопросу о Церкви, её сущности, свойствам и признакам: Церковь – общество верующих во Христа. Единство Церкви. Вне Церкви нет спасения. Вопрос об отпадающих от Церкви. Святость Церкви и грешные её члены. – Соборность Церкви, вселенские соборы и их авторитет. Апостоличность Церкви и невозможность перерыва в её существование. Отношение внешних признаков Церкви к её сущности и цели.
21-е Мая, Среда утро (8 час. – 1 час. дня)
Отношение сектантов к вопросу о таинствах. Невидимая благодать и внешние посредства и действия. Условия действенности таинств. Крещение в воде, крещение младенцев. Миропомазание. Причащение. Покаяние. Брак. Елеосвящение. Священство: дар и права священства.
22-е Мая, Четверг утро (8 час. – 1 час. дня)
Отношение сектантов к св. храму, св. кресту и крестному знамению, св. иконам, св. мощам, каждению, светильникам, благословениям, священнической одежде, к постам, молитвам ко святым и за умерших.
23-е Мая, Пятница утро (8 час. – 1 час. дня)
Отношение сектантов к Св. Писанию и к Св. Преданию. Буква Писания и дух его. Исторический элемент в Писании. Необходимость Предания по Св. Писанию. Предание, как источник христианского учения и как памятник древней Церкви. Книги и обряды церковные по их отношению к Писанию и Преданию. Право Церкви издавать новые чины богослужебной практики.
20-е Мая. Вторник вечер (5 час. – 8 час.)
Состояние противосектантской миссии в епархии. Что требуется от приходского священника для охраны православных и для борьбы с сектантством. Помощь со стороны благочинного, окружного и епархиального миссионеров, а также высшей духовной власти. Публичные и частные миссионерские собеседования с сектантами. Отношение к сектантам и к миссии православных простолюдинов, образованного общества, печати и светской власти.
21-е Мая, Среда вечер (5 час. – 8 час.)
Организация пастырской взаимопомощи для борьбы с сектантством. Пастырские миссионерские комитеты и комиссии в других епархиях. Пастырские союзы в 1 и 5 окр. Уманского у. и 2-м Таращанского. Значение этих союзов и средство их оживления: соборные служения, пастырские собрания, библиотеки и проч. Выработка примерного устава.
22-е Мая, Четверг вечер (5 час. – 8 час.)
Положение вопроса о приходе, как церковной и административной единице. Разные средства оживления прихода. Кружки ревнителей православия. Братства. Церк.-приходские попечительства. Знакомство с различными уставами их.
23-е Мая, Пятника вечер (5 час.)
Чтение протоколов съезда. Благодарственное Богу молебствие и закрытие съезда.
Программа была Его Высокопреосвященством утверждена и в списках была за две недели до съезда разослана духовенству, при чем предложено было подробно ознакомиться с нею и, таким образом подготовившись и взяв с собою Библию и учебные материалы, прибыть на съезд. Председателем съезда Его Высокопреосвященству угодно было назначить епархиального миссионера священника Потехина.
Как весть о съезде-курсах, так и самая программа и распорядок занятий вызвали много различных пересудов. Как можно отвлекать на столь продолжительное время такую массу священников из своих приходов, кто будет совершать требы, да и нужны-ли такие съезды: разве сведения о сектантах ежегодно не доставляются начальству, а миссионеры разве и сами не могут собрать их, не вздумали ли миссионеры взяться за обучение священников, забывая, что ученого учить – только мучить и т. п.? Все эти толки, недоумения и сетования, насколько они выходили из среды предполагавшихся участников съезда, улеглись и рассеялись, заменившись самым бодрым и радостным настроением в самый-же первый день съезда.
К 12-ти часам в понедельник 19-го мая в местечко Жашков прибыли епархиальные миссионеры: свящ. о. Савва Потехин и Н. А. Белгорский и около 50-тн человек приходских священников трех соседних уездов, в том числе 4 благочинных и 5 окружных миссионеров. Наблюдение за приходами всех этих священников на время их отсутствия было поручено местными благочинными соседним священникам. Собравшись в здании училища и обсудивши вопрос о месте для ночлега и распорядке занятий дня, все собравшиеся пошли в местный храм, где в тот день служилось местным священником о. Филиппом Хижняковым литургия. В храме ожидала большая масса народа, прослышавшего о предполагаемом съезде духовенства. Облачившись в ризы (ризницу попривозили с собой ближайшие священники), многочисленный сонм священнослужителей вышел на средину храма. Председатель, епархиальный миссионер о. Потехин, обратившись к пастырям, сказал речь о современных нестроениях внешних и нестроениях внутренних в русском народе, создающих неверие среди образованного общества и сектантство в простом народе, и о том, что в молитвенном единении с Господом Иисусом Христом – душа и сила нашей миссии. Затем началось умилительное «молебное пение об обращении заблудших, певаемое в неделю православия и во иных потребных случаях», после которого в здании министерского училища последовало открытие съезда речью почтенного председателя следующего содержания:
«Позволяю себе, дорогие отцы и братия, высказать несколько слов о цели и желательном характере съезда. Как вы изволили заметить из разосланной вам заранее программы съезда, наши занятия будут посвящены двойного рода вопросам: утренние – апологии православия и полемике с сектантами, вечерние – церковно-общественным вопросам пастырской и миссионерской практики.
Вы отлично сами знаете, что в предстоящих нам четырех утренних заседаниях нам не пройти полного курса апологетики и полемики. Да это для нас и излишне. Кое-чему мы в этом роде уже учились на школьной скамье, а если кто не учился или успел позабыть, то для этого есть достаточно хорошие учебники апологетики и полемики, напр., Оболенского, Ольшевского, Мис. спутник, Мис. Обозр. и др. Из общего полного курса апологетики и полемики мы остановимся только на главнейших пунктах наших недоразумений с сектантами: это вопросы о Церкви, о благодати Божией, подаваемой христианам в таинствах, о внешних средствах христианского богоугождения и о св. Писании и св. Предании. Это вопросы коренные как по своему значению в христианском учении, так и по своей пререкаемости в отношениях сектантов к этому учению.
Но и в этих вопросах мы не будем держаться строгого научного метода и всестороннего обследования предмета. Для этого, повторяю, есть системы и учебники. Из житейского опыта пастырских и миссионерских сношений наших с сектантами мы постараемся здесь извлечь и воспроизвести всё, что думает и о чём спрашивает нас некогда православный, ныне сектантствующий наш простолюдин, постараемся узнать, чего требует от нас сектант, не справляясь с логикой и как отвечать ему, не справляясь с учебником…
Нельзя, впрочем, думать, что в решении казуистических, случайных вопросов должно полагать весь смысл предстоящей нам работы. Сколько бы отдельных случайных вопросов мы здесь ни перерешили, их всех не предусмотришь. Жизнь, которая не справляется с нашими запасами готовых ответов, идет вперед и вызывает всё новые и новые вопросы. Чтобы быть готовым ко всякому ответу, а это требуется св. Апостолом (1Пет.3:15), православным апологетам и полемистам нужно не столько знать и помнить все всевозможные доказательства православной истины, сколько понимать суть, сущность православного учения или догмата, с одной стороны и психологию души человеческой, образованной или необразованной, всё равно, не покоряющейся этому учению или догмату – с другой. Философия намеченных вопросов нашей программы и психология отрицающих наши догматы сектантов – вот желательные цель и содержание наших рассуждений.
Содержанием вечерних наших заседаний будут вопросы церковно-практические. Кроме специально миссионерских сюда войдут и вопросы общецерковного характера. Мы не можем не коснуться их, так как от такого или иного их положения непосредственно зависит и успех нашей миссии – охранение православных и вразумление заблудших. Наше время – начало колебания устоев старых и попытка воссоздания новых. Не будем сторонними и несмыслящими зрителями совершающихся событий.
По каждому из намеченных вопросов программы мной или моими сотрудниками будет представлен собранию краткий доклад. Но если бы каждый из этих докладов представлял собою не краткое, а самое полное и всестороннее изложение предмета, то и тогда он не заменит, по своей ценности, живого обмена мнений, которого мы ожидаем друг от друга. И чем живее и непринужденнее будет этот обмен мнений, чем свободнее каждый из нас будет чувствовать себя в высказывании своих мыслей, чем большую и горячую критику он вызовет против себя, чем острее будут нападения и чем сильнее защита, тем удачнее будет наш съезд… Не бойтесь всех этих бурь словесных… Будем помнить, что там, за стенами этой школы, идет стихийная сила сектантских словес, сваливших и сваливающих немалое число не умеющих противиться их лукавой силе простодушных чад наших… Сбросим же на время бремя послешкольных лет наших. Вернемся в эту школу с вопросами жизни и с Божией помощью и с благословением милостивого Владыки нашего примемся за дело! Объявляю съезд открытыми»…
Съезд выразил желание послать Владыке-Митрополиту телеграмму следующего содержания:
«Совершив молебное пение об обращении заблудших. собравшийся в мест. Жашкове миссионерский съезд сорока пяти приходских священников Таращанского, Звенигородского и Уманского уездов приносит Вашему Высокопреосвященству, своему Мплостивому Архипастырю и Отцу, чувства искренней любви и послушания и просит благословения на свой труд подготовления к миссионерскому служению».
На эту телеграмму последовал на другой день следующий глубоко обрадовавший всех ответ:
«Призываю Божие благословение на занятия миссионерского съезда. Да будет благоплодна его деятельность. Флавиан, митрополит Киевский».
В первый день съезда заседания продолжались до 7 часов вечера. Порядок остальных дней был таков. Начинались занятия после общего утреннего чая в 8 час. утра и продолжались с одним или двумя небольшими, пятнадцатиминутными, перерывами до 1 часу. Затем общий обед и отдых до 4 часов, после чего опять вечерние занятия до 8 часов и общий ужин с чаем. Три доклада (о Церкви, об организации пастырской взаимопомощи и о приходе) предложил епархиальный миссионер свящ. о. Савва Потехин, три доклада (обозрение состояния сектантства в епархии, о деятельности миссии и о внешнем богопочтении) епарх. миссионер Н. А. Белгорский и по одному докладу окружные миссионеры: свящ. о. Стефан Забродский (о благодати таинств) и свящ. о. Филипп Хижняков (о св. Писании и св. Предании). После каждого доклада о. председатель выяснял ту сторону вопроса, на которую съезду надлежит обратить особое внимание. Обмен мнений и рассуждений по всем вопросам, происходивший затем, указывал, что присутствующие относятся к делу с чрезвычайным интересом и множество новых вопросов, замечаний и рассуждений, давал богатый материал для размышлений, производил сильное впечатление той жизненной борьбы, которая теперь идет в приходах между догмою православия и отрицаниями сектантства. Оканчивались положенные часы заседаний, а вопросы программы оказывались далеко неисчерпанными и слышались громкие жалобы и сетования на кратковременность съезда. И долго еще за скромной трапезой и после неё не умолкали одушевленные беседы и сумрак надвигавшейся ночи долго не мог заставить сомкнуться усталые вежды и дать дремание очам.
Выбранные секретари вели краткие протоколы съезда, конечно, только краткие. Как предмет рассуждений, так и живой, одушевленный характер их требовал для записи и большого труда и большого искусства. Съезд выражал желание и обращался к о. председателю с просьбою огласить в печати тот богатый материал, который представляли доклады и происходивший по поводу их обмен мнений. Удастся-ли ему сделать это, Бог весть. Во всяком случае, если то, что получил каждый из участников съезда, останется не воспроизведенным в печати, а личными летучими впечатлениями слушавших, то и тогда оно не будет излишним. В жизни нашей так мало бывает впечатлений одушевленной религиозной церковной и богословской беседы.
Съезд окончился, в 1 час дня в пятницу благодарственным молебном, пред началом которого свящ. о. Павел Матушевич сказал речь о значении съезда для духовенства в смысле призыва к дружной одушевленной работе. Весь сонм священнослужителей одушевленно пропел многолетие Царствующему Дому, Святейшему Синоду, Владыке Митрополиту, всему освященному собору и всем православным христианам. В начале молебна, с начальным возгласом, разразилась страшная гроза с молнией, громом, страшными порывами ветра и проливным дождем. В большом каменном храме потемнело и всем стало жутко. Но уже к последним словам Евангелия (о десяти прокаженных): «вера твоя спасе тя» гроза прошла и темный храм прорезал ясный луч солнца. Это подало повод находчивому оратору о. председателю, по окончании молебна пред целованием Св. Креста, сказать речь на тему: «царство Божие, церковь Христова подобны храмине, построенной на камени: пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры и устремились на дом тот: и он не упал, потому что основан был на камени» (Мф.8:24).
После молебна, пред последней общей трапезой члены съезда собрались еще раз для взаимных прощальных приветствий. При этом свящ. о. Стефан Забродский сказал от имени и по уполномочию всего съезда следующую весьма содержательную и характерную для съезда речь.
«Высокопочтеннейший о. председатель.
Дело, ради которого мы по мысли и инициативе высшей Епархиальной власти собрались сюда, – закончено: совещания наши завершены, и съезд наш объявлен закрытыми, но будет неким зазирающим совести наши психическим пробелом, если мы оставим это место наших совещаний, ставшее нам отселе относительно дорогим не сгруппировав хотя отчасти в своих мыслях и сердце тех чувств благодарности и некоего умиления, какие невольно рождаются в душе каждого из нас, как результат полученных нами на нашем пастырском съезде впечатлений, если мы не дадим себе в сих чувствах отчета и хотя вкратце не выразим устами то, что в избытке наполняет наше сердце…
Прежде всего глубоко преисполняемся мы все чувством умиленной благодарности к высокой особе нашего милостивейшего Архипастыря и Отца, Высокопреосвященнейшего Владыки нашего. Искренно благодарим Его Высокопреосвященство за дарование возможности прийти к нам на помощь в деле нам, пастырям, наиболее благопотребном, в деле, бывшем задачею нашего съезда. Невольно умиляемся мы душою, видя такую сердечно-теплую попечительность о нас нашего Архипастыря, умиляемся, а вместе преисполняемся бодрости и утешения. Видим мы и убеждаемся, что и в высших сферах между людьми, обремененными разного рода важными делами и заинтересованными широкими задачами, есть милостивые о нас «печальники», о нас, незаметных тружениках, копошащихся в своих доставшихся нам от Господа в удел заброшенных уголках, кои, хотя и незначительно малы, но всё же являются частицами великой нивы Христовой. Тяжело бывает и на обыкновенной ниве в страдную пору, когда высланные «делатели» не имеют урочно благовременного подкрепления сил физических, но мы, «призванные делатели духовной нивы», оказались бы еще в более тяжком положении, если бы тоже не получали время от времени подкрепления и освежения наших немощных сил. Но милостив и благостен распорядитель и хозяин нашей местной великой пажити Киевской, наш Архипастырь и Владыко, благовременно пришедший к нам со своею благопотребною помощью, могущею нас подкрепить, а также ободрить и поощрить к дальнейшему деланию: Ему, милостивому нашему Отцу, и приносим мы свою первую, по Бозе, благодарность.
Высоко оцениваем мы также разумно опытное руководительство и труды, понесенные ради нас вами, высокоуважаемый о. председатель, и вашим почтеннейшим сотоварищем, епархиальным миссионером Николаем Андреевичем. Из постановки дела на съезде, из хода и характера наших совещаний, мы убеждаемся, что вами справедливо понято, как и в чём, именно, нужно прийти к нам на помощь и сообразно с этим, разумно и умело осуществлена та задача, какая имелась в виду при устройстве миссионерского съезда.
Скажем об этом подробнее. Учение Церкви по тем или другим вопросам, о кои претыкаются в своих умствованиях полагающиеся только на свои естественные силы умы человеческие, нам уяснено. На пререкаемые вопросы догматики, апологетики и полемики вы дали нам ясные и точные разъяснения, не такие, какими являются они в школьных учебниках, а разъяснения, так сказать, жизненно христианские, вполне отвечающие на запросы современной церковной жизни. Для более успешного действования словесно-духовным мечем в борьбе с врагами православия мы призваны сплотиться в тесные союзы братской пастырской взаимопомощи, выходя из положения: один в поле не воин. На самое устройство церковной жизни в наших паствах обращено также вами в достаточной степени наше внимание. Вы неоднократно отсылали наш мысленный взор к тяжбам между сектантами и церковною жизнью, взвешивали смысл и источник сих предъявляемых к жизни апелляций, уясняли средства их благого разрешения, возможного только при фактическом осуществлении нами цели церковных установлений. Для этого осуществления и в видах его успешности вы призывали не только сплотиться между собою в тесные союзы братской взаимопомощи, но и устроить союзы взаимопомощи ко спасению (под тою или иною формою и названием) и среди своих прихожан. Путем живого обмена мнений выяснены нам также и возможно лучшие типы сих союзов и братских приходских кружков.
Кроме того, установлены и занесены в протокол нашего съезда и некоторые такие пожелания духовенства, которые, в случае их осуществления при согласии высшей епархиальной власти, несомненно послужат к устранению замечаемых духовенством нестроений в жизни отдельных приходов.
Такая именно и таким образом осуществленная организация наших совещаний обусловливает то, что для каждого из нас, участников съезда, очевидна благопотребность съезда и его польза. Кроме обогащения потребными для дела приходской миссии сведениями, совещания наши являются великим средством к подъему духа в духовенстве, к поднятию пастырской бодрости и умелости в осуществлении цели Церкви и Её установлений.
Сознавая всё это, искренно благодарим вас, высокопочтеннейший о. председатель, и вашего достоуважаемого сотрудника, за понесенные ради нас доброплодные труды, а вместе с тем обретаем мы и высказываем живую надежду на то, что наш миссионерский съезд не составит единичного явления, а послужит образцом и как бы указанием на то, насколько вообще благопотребны подобные съезды для духовенства, насколько полезны, и в зависимости от сего, насколько желательно открытие их в епархии в более или менее непродолжительные промежутки. О последнем желании духовенства, а равно и ровно и об общем впечатлении от него для духовенства, просим вас, высокопочтеннейший о. председатель довести до милостивого внимания нашего Архипастыря».
После этой речи старейший из присутствующих священник о. Георгий Соломоновский приблизительно сказал так, обратившись к епархиальным миссионерам:
«Я священствую в приходах зараженных сектантством с самого первого появления штундизма в киевской епархии, я не могу, поэтому, не высказать того, чему я на съезде удивлялся с самого начала, что меня поразило и наполнило душу благодарным умилением. Много у нас было миссионерских съездов, но на них у нас требовали отчетов, спрашивали, что мы знаем, и что делаем. Теперь с большим старанием и умением нам дают то, что мы должны знать и что должны делать… О, если бы так это было в начале… Примите от всех нас земной поклон!»…
Епархиальные миссионеры отвечали благодарностью за внимание к их скромной работе. От души приветствуя эту первую многообещающую попытку в деле дорогой нам миссии, сердечно желаем: да даст Господь описанному съезду – курсам не остаться единичным и не повторившимся явлением в жизни не только киевского духовенства, но и в других епархиях.
Отклики
Михаил, иером. Новая книжка графа Л.Н. Толстого: «Обращение к духовенству»10 // Миссионерское обозрение 1903 г. № 11. С. 113–132
II
Обвиняя Церковь в проповеди идолопоклонства, далее Толстой упрекает её в проповеди – рабства, убийств и т. д.
«Мало того, что церковное учение вредно своей неразумностью и безнравственностью, – пишет он, оно особенно вредно тем, что люди, исповедующие это учение, живя без всяких сдерживающих их нравственных требований, совершенно уверены в том, что они живут настоящей христианской жизнью.
Люди живут в безумной роскоши, составляя своё богатство из трудов униженных бедных и ограждая себя и своё богатство стражей, судами, казнями, – и духовенство во имя Христа одобряет, освящает, благословляет такую жизнь, советуя богатым только уделять малую часть награбленного тем, у кого они не переставая грабят (когда было рабство, духовенство всегда и везде оправдывало его, не считая его несогласным с христианством)».
Смеем напомнить графу, что в последнее время Церковь больше всего упрекают за крайний аскетизм, в смысле излишней будто строгости требования, между прочим и за то, что она требует всего до конца, не довольствуется процентным добром в 50 или 98%, всё равно, а требует для желающих быть христианами «совсем» – и отречения до конца. Упрекают за то, что она возводит в идеал воззрения подвижников, которые считали самый воздух для себя «стяжанием неправедным», думали, что даже лишний съеденный кусок хлеба есть хищение.
И те, которые обвиняют Церковь за это, лучше Толстого знают Церковь: она (Церковь) никогда не проповедовала, будто маленькой жертвой можно оправдать себя в насилии и хищении.
А вот что в последние дни писал самый уважаемый из её пастырей, о. Иоанн Кронштадтский.
«У первых христиан было всё общее: богатые и достаточные добровольно жертвовали своим имением и деньгами, и собранное хранилось у предстоятелей Церкви, которые употребляли оное на содержание бедных, странных, заключенных в узах и других нуждающихся. Составляя между собою одно сердце и одну душу, можем ли мы отказаться от общности имущества»?
Здесь, конечно, не коммунизм, а чисто церковное учение, что в деле милости остановиться на полудороге, удовольствоваться подачкой не менее преступно, как и не начать пути.
Что касается рабства, то пусть просмотрит граф все обширные монографии, касавшиеся отношения христианства к рабству: он найдет, что с самых первых дней Церкви, она постоянно повторяет, что «неприлично, чтобы человек владел рабом», что «от природы никто не бывает рабом».
И много сделала она в борьбе против рабства, вернее сказать, всё, что сделано, сделала Церковь…
В частности, в России, как свидетельствуют компетентные люди (проф. Ключевский, напр.), все грамоты, в роде завещания какой-нибудь боярыни, отпускающей по смерти на волю всех рабов с дарами, «дабы они не плакались», или в роде всяких увещаний, что «раб не менее перед Христом, чем все, есть брат его возлюбленный», – вышли под воздействием Церкви, представляют «добрый бисер Владимира».
«Люди, силою оружия, убийства, стремятся к достижению своих личных и общественных корыстных целей, и духовенство одобряет, благословляет во имя Христа военные приготовления и войны, не только одобряет, но часто поощряет их, находя, что войны, т. е. убийства, не противны христианству.
И люди, – повторяет опять в третий раз Толстой, – поверившие в это учение, не только вовлечены этим учением в дурную жизнь, но и вполне уверены, что их жизнь хорошая, и им не нужно изменять её».
Здесь автор «Обращения к духовенству» повторяет свои старые мысли о войне и мы можем повторить ему старый ответ Церкви, который будет и касаться не одной войны, а и других затронутых Л.Н. вопросов.
«Можно-ли утверждать, что война не стоит в противоречии с нравственной сущностью христианства и согласна с духом Евангелия?» Вот вопрос Толстого. А вот ответ Церкви.
Христианство, как религия мира и любви, не может иметь ничего общего с насилием.
Мы уже говорили в другом месте, что Церковь никогда не считала войну благом. За убийство на войне полагается епитимия по канонам, как и за убийство при самозащите. Церковная заповедь о любви к врагам (я подчеркиваю церковная, потому что Толстой не принимает этой заповеди, находит её неприемлемой), эта заповедь исключает войну, ибо любимый враг перестает быть врагом и с ним уже нельзя воевать (В. Соловьев. Смысл войны. Нива. Прил. 1896. 7. 431).
Если Церковь благословляет и войну за правое дело, то только как относительный подъем над предыдущим, более чем война злым и безнравственным настроением равнодушия. Церковь хочет и в идею войны вдохнуть частицу христианской жизни, допуская войну только как проявление самопожертвования, любви, полагающей душу за други своя, хотя она тут же подчеркивает ложь бессилия и в самом таком самоотвержении.
«Но разве не благословляет Церковь оружие, не молятся в наших храмах о победе над врагами, не признают ли тем самым учители Церкви убийство на войне согласным с самою верою? Подобный упрек предъявлял к Церкви, как известно, не один Л. Толстой, и многие другие. Но справедлив ли этот упрек? Неужели представители Церкви должны относиться равнодушно, в качестве спокойных зрителей, к родным для них по плоти и вере воинам, идущим на бранное поле? И чем иным представители Церкви – носители мира и любви – могут выразить свою любовь к ним, как не молитвою за них? Несомненно, христианство призвано прежде всего предупреждать войну, стремиться к её отмене, но пока она существует, как факт, оно должно своими принципами ограничивать её и смягчать. Война есть великое бедствие. Как же представителям Церкви не прийти на помощь? И они приходят со своими молитвами, равно как и с проповедью о необходимости защищать отечество и самоотверженно исполнять долг военной службы, к которому призывает поставленная Богом правительственная власть. Отнюдь не об истреблении людей молятся представители Церкви, а о торжестве правого дела. Благодаря Бога за дарованный успех, они благодарят опять-таки за торжество правды и добра, и отнюдь не за то, что воинам пришлось стольких-то врагов убить, уничтожить. Начертывая на воинском знамени крест, Церковь, верная своей задаче, возводит всё к небесному и святому, напоминает сражающимся воинам символом мира о высшей цели бытия и жизни, устремляет их мысль к Божественному Промыслителю и Управителю всего мира. Церковь – вестница мира и, не имея возможности искоренить зло войны, ограничивает и смягчает его. Станем ли мы обвинять её за это? Любопытный образчик отношения Церкви к войне вспоминает Ревон из истории средних веков. «Среди самого средневековья, в разгар тогдашних войн. Церковь мужественно вступала в ряды враждовавших, проповедовала им согласие и даже заговорила о вечном мире, как Божьем мире. Но как было ей склонить к своей проповеди железных людей XI века, когда мы, сыны XIX, не можем заговаривать с нашими современниками об общем разоружении, выдвинутом тогда Церковью, не вызывая их насмешек? Можно ли было переубедить тех суровых воинов, видевших почетное занятие в одних военных делах, когда нам доселе не удается провести идею мира в ряды граждан столь трудолюбивого века, каков наш? Что удивительного поэтому, что великая мысль Церкви осталась непонятною? Она сама это увидела и стала тогда уже заботиться лишь об ограничении зла. Вместо Божьего мира она начала требовать Божьего перемирия. С материнскою любовью она постаралась, насколько могла, внести порядок и ограничение в неустранимые беспорядки. Отсюда целый ряд любопытных мер, проведенных ею в видах обуздания войны во времени и в пространстве». Таково отношение к войне и современной Церкви. Она всегда стоит на страже высших, нравственных начал в жизни людей, – она проповедница и носительница мира». (Радость Христианина. 1896. кн. III).
Но продолжим далее изложение Толстого.
«Главное зло вашего учения, – пишет далее Толстой. – в том, что оно переплетено с внешними формами христианства так искусно, что, исповедуя его, люди думают, что ваше учение есть единое истинное христианство, и другого нет никакого. Вы не то, что отвели от людей источник живой воды, – если бы это было, люди все-таки могли бы найти его, – но вы отравили его своим учением, так что люди не могут принять иного христианства, как то, которое отравлено вашим толкованием его.
Христианство, проповедуемое вами, есть прививка ложного христианства, как прививка оспы и дифтерита, делающая того, кому она прививается, уже неспособным принять истинное христианство
Люди, многими поколениями установившие свою жизнь на началах противных истинному христианству, вполне уверенные, что они живут христианской жизнью, – не могут уже вернуться к истинному христианству».
Мы уже знаем, как относиться к таким ламентациям. Эта прививка лжи к истинному христианству, как мы видели, дана прежде всего в Евангелии, так что нам остается одно из двух: или отказаться от всякого будто бы ложного придатка к христианству, т. е. отбросить Христово Евангелие и заменить его новыми подделками или остаться с Евангелием и евангельским Христом, хотя бы графу и казалось, что Евангелие – вредная и ужасная книга. Что выберем?
Да и что останется у нас, если мы примем истинную религию Л.Н. Толстого?
В чём эта религия?
«Для нас, – пишет он, – истинная религия есть христианство в тех положениях его, в которых оно сходится с основными положениями браманизма, конфуцианства. таотизма. еврейства, буддизма, магометанства».
Истинная религия – христианство, но из этих строк видно, что для Л.Н. истинная религия вовсе не христианство. Если христианство Л.Н. состоит из положений, какие у него общи с конфуцианством, буддизмом, таотизмом, то очевидно, что новое толстовское «евангелие» может быть выкроено с одинаковым успехом и из книг Будды и Конфуция, и корана, путем их очищения от примесей.
Но тогда зачем и называться христианином, зачем говорить, что для нас истинная религия – христианство… Христос, Который заповедует молиться о хлебе насущном, вопреки учению Льва Никол. будто в молитве нельзя о чем-нибудь просить, Который говорит и об ангелах и злых силах, Который прямо указывал на Свои чудеса, как на доказательство Своего посланничества, для Толстого должен казаться таким же вредным лжеучителем, как и мы Его ученики.
Посмеет ли Толстой сказать, что Господь Христос не учит ни о творении, ни о грехе, ни о искуплении, что Он не молился в храме молитвой хвалебной и просительной.
III
«Вы и никто другой как вы (т. е. духовенство) – начинает граф новую главу, – вашим учением, насильственно внушаемым людям, причиняете то страшное зло, от которого они так жестоко страдают. И ужаснее всего при этом то, что, производя такое зло, вы не верите в это учение, которое вы проповедуете, не верите не только во все те положения, из которых оно состоит, но часто не верите ни в одно из них. Я знаю, что, повторяя знаменитое «credo quia absurdum», многие из нас думают, что не смотря ни на что, они все-таки верят во всё то, что проповедуют. Слова, не имеющие смысла, но нельзя верить в то, что не имеет смысла. Можно верить в то, что души умерших перейдут в другие формы жизни, перейдут в животных или в то, что уничтожение страстей и любовь есть назначение человека, можно и верить просто в то, что Бог не велел убивать людей, или даже, что Он не велел есть, и многому другому, не представляющему в себе внутреннего противоречия; но нельзя верить в то, что Бог в одно и то же время – и один и три, что разверзлись небеса, которых для вас уже нет и т. д. То, что вы скажете, что верите, что Бог есть Троица, или, что разверзлись небеса, и глас Божий заговорил оттуда, или, что Христос вознесся на небеса и сойдет с небес судить воскресших в своих телах всех людей, – никак не доказывает того, чтобы вы верили в то, что было или будет то, что вы говорите. Не верите вы потому, что утверждение, что Бог один и три, что Христос улетел на небо и придет оттуда судить воскресших, не имеет для нас никакого смысла».
Странная манера уверять верующих, что они не верят. И по каким соображениям Толстой не хочет допустить, что мы – служители алтаря верим, а не только стараемся уверить себя в открытой Богом истине? То, что нельзя верить бессмысленному. Он допускает переселение душ, но не может принять, что небо разверзлось, что Господь вознесся на небо и т. д. Здесь удивительное мещанство полемики, если так можно выразиться. Не хотелось-бы и говорить об этом небе разверзшемся, если бы Толстой не повторял этот аргумент по крайней мере двадцать раз: так значит он кажется ему победоносным. Лев Николаевич знает, конечно, что люди никогда не понимали небо, куда вознесся Господь, в смысле атмосферного неба. Еще Давид, который так ярко выразил истину вездесущия Божия, называет в то же время небо престолом Божиим, но мог-ли он разуметь здесь Коперниково небо, когда Богу, для Которого небо престол, земля служит подножием, когда Он одновременно и на небе, и во аде, и в последних моря и всюду «рука Его наставляет и десница Его поддерживает немощь человека». Перейти в другие области жизни, скрыться от земли для человеческих глаз, и соединиться в славе и любви с Отцом вездесущим – разве не значит вознестись на небо и сесть одесную Отца? Небо не может раскрыться, в смысле физической географии, но разве мы не говорим, что небо разверзлось, когда яркая молния вдруг разделяет небо на две части и среди темноты отделяет ярко освещенную часть небосвода, как проблеск света за разорванными краями мрака. Положим, что небо разорвала не молния, а видения потустороннего мира свет проявившей себя в известном месте (напр. на Иордане) вездесущей руки Божией и из-за краев распавшегося неба взору Иоанна Крестителя открылся свет Божий, что-же противоречащего разуму, если мы скажем что «небо разверзлось в эту минуту».
Но самое главное Лев Николаевич забыл, что он сам признает это небо, где живет Бог. Я, пишет он, всегда молюсь: «Отче наш, Который на небесах». Значит, он счел возможным не поправлять слова Господа, не боится, что его вера в этого Бога будет признана нелепым суеверием. Если-же он может допустить какое-то небо, где живет Бог, «когда для него нет уже неба», то почему в наших устах это исповедание ложь, почему мы не можем верить в Бога, живущего, возносящегося на небо.
Наверное, наше небо не то, какое признает Л. Толстой, но это все-таки не пространственное небо, – которого, конечно, нет объективно.
Не стану повторять, что и мы не верим, будто Бог и один, и три. «Догмат Троицы не математическая задача», – пишет Кун.
«Прежние люди, установившие догматы, – читаем дальние, – могли верить в них, но вы уже не можете. Если вы говорите, что верите в это, то вы говорите это только потому, что вы употребляете слово «вера» в одном значении, а приписываете ему другое. Одно значение слова «вера» есть установленное человеком такое отношение к Богу и миру, которое определяет смысл всей его жизни и руководит всеми его сознательными поступками. Другое же значение слова «вера» есть доверие тому, что передает известное лицо или лица. В первом значении предмет веры, несмотря на то, что определение отношения человека к Богу и миру большей частью берется уже установленное прежде жившими людьми, проверяется и воспринимается разумом. Во втором-же значении предмет веры не только принимается независимо от участия разума, но при непременном условии неупотребления разума для проверки переданного.
На этом-то двояком значении слова «вера» и основывается то недоразумение, по которому люди говорят, что верят в положения, не имеющие смысла, или заключающие в себе внутренние противоречия. И потому то, что вы слепо доверяете своим учителям, никак не доказывает того, что вы верите в то, что, не имея смысла и потому не представляя никакого значения ни для вашего воображения, ни для вашего разума, – не может быть предметом веры».
О значении терминов вообще спорить трудно.
Однако здесь очень не трудно доказать, что понятие «веры» – неведомо Л.Н. даже в пределах катехизиса Филарета. «Вера (в церкви), – пишет Толстой, – доверие, принятие истин, или не-истин, вопреки разуму, и даже доверию к тому, что не имеет смысла, тогда как допустима лишь другого рода вера, которая есть установленное человеком» и т. д. С некоторым смущением приходится сообщать автору «Обращения к духовенству» азбучные для духовенства истины, что вера есть род знания, раскрытие, а не признание только «невидимых вещей».
Вера есть усвояемое нравственным подвигом жизни сближение с миром потусторонним, с Богом, миром небесной жизни, и приникновение к этому миру очами сердца. Вера, как признание, есть, по Исааку Сирянину и по Симеону Новому Богослову, низший вид религиозного ведения, – нужно не только знать, но и опытно в душе чувствовать прикосновение Бога и в этом находить бесспорное удостоверение веры. Истину должно принимать не по доверию, а в силу её переживания душой. «Христиане, которые не видят умно Господа, не освещаются явственно и значительно его Божеским светом, пусть не говорят, как неверные, что невозможно Его видеть». Великое дело веровать во Христа, но надобно научиться и познать Его. Воскресенью Христову верят многие, но мало таких, которые-бы чисто зрели Его. Те-же, которые не зрят так воскресения, не могут покланяться Христу, яко Господу. Бог должен вселиться в нас – и открыть нам Себя; заведомо сознательно мы должны прозреть к ведению, «т. е. ощутить Бога в Себе ясно и осязательно» (Мысли Симеона Нового Богослова).
Как я уверовал в Воскресшего, – пишет один бывший толстовец, – ты знаешь: напомню только, что в тот момент, когда я почувствовал прикосновение в сердце моём, я сразу узнал (ибо более реального я ничего не испытывал в жизни), что это Он, Господь мой воскресший. Это было впервые, что я назвал Иисуса Христа Господом и, не переставая называть Его этим именем, я чувствовал в том неизъяснимую сладость.
Хотя разум мой и долго бунтовался против сей истины, но имея в центре своего существа несокрушимую веру в Воскресшего, мне уже, как знание, как неоспоримый факт внутренней жизни, не трудно было и разум привести в послушание вере.
«Известный проповедник Pepe Didon в предисловии к своей: Vie de Iesus заявляет, что он верит не как-либо иносказательно, а прямо без объяснений, что Христос, воскресши, вознесся на небо и сидит одесную Отца. Знакомый же мне безграмотный самарский мужик, как мне рассказывал его духовник, на вопрос о том верит ли он в Бога, прямо и решительно отвечал: грешен: не верю. Неверие своё в Бога мужик объяснил тем, что он не жил бы так, как живет, если бы верил в Бога: и изругаешься, и нищему пожалеешь, и завидуешь, и объедаешься, опиваешься, – разве так стал-бы делать, если бы верил в Бога. Pepe Didon утверждает, что он верит и в Бога, и в вознесение Христа, самарский же мужик говорит, что не верит в Бога, потому что не исполняет Его веления. Ясно, что Pepe Didon даже не знает того, что такое вера, и только говорит, что он верит: самарский же мужик знает, что такое вера, и, хотя и говорит, что не верит в Бога, истинно верит в Него в том самом смысле, который составляет истинную веру».
Конечно, я самарский мужик, как о. Дидон, верит в то, что Христос вознесся на небо и сидит одесную Бога Отца, он только убежден, что это еще не та вера, какой можно жить, ибо и «бесы веруют».
Но так учит и Церковь: вера, как теоретическое признание не только не спасает, но и не вера в настоящем смысле, потому что вера – сердечное переживание, а не рассудочное усвоение. – «Сердцем веруется».
«Тщетно именуется христианином тот, кто не имеет в себе благодати Христовой ощутительно, т. е. так, чтобы опытно знал, что имеет в себе таковую благодать.
Надлежит человеку здесь на земле родиться свыше от божественной благодати, и тогда возможет он увидеть Царствие Божие. Кто не видит в себе царствия небесного, т. е. не видит, что в нём царствует Бог, тот не родился еще свыше от божественной благодати, и надлежит ему всячески взыскать того, чтоб родиться свыше, да узрит царствие Божие еще здесь на земле.
Кто как должно верует во Христа, тот имеет жизнь вечную в себе, которая есть благодать Господа нашего Иисуса Христа. Кто-же верует во Христа, а жизни вечной в себе не имеет, того тщетна и бесполезна вера».
Свою книжку граф заканчивает воззванием к чувству и совести священника.
«Я знаю, – пишет он, – что доводы, обращенные к уму, не убеждают: убеждает только чувство, и потому, оставляя доводы, обращаюсь к вам, кто бы вы ни были: папы, епископы, архиереи, священники и др. – к вашему чувству, к вашей совести. Ведь вы знаете, что неправда то, чему вы учите о сотворении мира, о боговдохновенности библии и многое другое; так как же вы решаетесь учить этому маленьких детей и взрослых необразованных людей, ждущих от вас истинного просвещения? Положа руку на сердце, спросите себя, верите ли вы в то, что проповедуете?
Если вы действительно не перед людьми, а перед Богом, памятуя о своём смертном часе, спросите себя об этом, вы не можете не ответить себе, что нет, не верите. Не верите вы в боговдохновенность всего того писания, которое вы называете священным, не верите во все ужасы и чудеса ветхого завета, не верите в ад, не верите в беспорочное зачатие (?!), в воскресение, в вознесение Христа, не верите в воскресение мертвых, в троичность Бога, не верите не только во все члены того символа, который выражает сущность вашей веры, но часто не верите ни в один из них и т. д.».
Было бы повторением снова толковать об этой удивительной манере доказывать верующим, что они не верят. Ограничимся тем, что повторим с полным и искренним убеждением слова епископа Антония Волынского: «В России есть священники пьяницы, священники грешные и недостойные, но, кажется (веруем, веруем), нет ни одного неверующего».
Сам Л.Н. сомневается в успешности своей «гипнотизации» и прибегает к методу устрашения. Он внушает своим собеседникам-священникам, что их проповедь – преступление. Пусть даже они веруют в истину того, чему учат, но ведь это учение – разъединяет людей.
«Внушая людям свою исключительную веру, вы делаете именно то, чего не хотите делать: лишаете людей единения со всем человечеством, заключаете их в узкие рамки одного своего исповедания, если не во враждебное, то во всяком случае в отчужденное положение по отношению ко всем остальным людям другого исповедания».
«Не должна ли, – путает граф, – самая эта мысль о ужасных последствиях проповеди родить сомнение, неуверенность в проповеди. А вдруг то, что вы хотите проповедовать, неправда».
Да, разъединение людей страшное дело; мы, пастыри и служители слова, считаем сущностью всего Евангелия нашим «лозунгом» заповедь Христа, чтобы ученики Его, прежде всего искали «да вси едино будут» и в то же время мы веруем, что истина евангелия, не вполне тожественна с истиной Корана, и не пожертвуем евангелием во имя приспособления, искусственного и следовательно ложного единения людей, в сфабрикованной нами (или Толстым), укороченной лже-истине. И мы напомним графу его собственные недавно сказанные слова.
Как рассказывает о себе граф, и в книге «Мысли о Боге» и в книге «Христианское учение» он одно время думал, что для целей единения с буддистами, конфуцианами и проч. лучше признавать только Бога в человеке, но вот ему стало больно и грустно, и он пожертвовал единением во имя истины живого Бога, без которой жить нельзя.
Так испугаемся ли мы призраков разъединения: мы верим, что нельзя продавать правду за чечевичную похлебку объединения в «полуправде», т. е. лжи.
Вслед за указанной нами попыткой устрашения, граф обращается к духовенству с таким трогательным призывом к покаянию.
«Я знаю, – восклицает яснополянский пророк, – что вы не сознательно делаете это ужасное дело; знаю я как трудно именно вам, с вашим воспитанием, в особенности с общей всем уверенностью в том, что вы непогрешимые наследники Христа-Бога. перейти к трезвой действительности и признать себя заблудившимися грешниками, делающими одно из самых гадких дел, которое только может делать человек, знаю всю трудность вашего положения: но, вспоминая слова признаваемого вами божественным евангелия, о том, что Богу приятнее один покаявшийся грешник, чем сотни праведников, думаю, что каждому из вас, какое бы он ни занимал положение, все-таки легче покаяться и перестать участвовать в том деле, которое вы делаете, чем не веря продолжать делать Кто бы вы ни были: папы, кардиналы, митрополиты, архиереи, епископы, суперинтенденты, священники, пасторы, подумайте об этом».
Читаю это обращение и мне чудится длинный ряд святых теней. Амвросий Оптинский, весь облик которого, выражаясь словами В.В. Розанова, светит какой-то сверхземной «озаренностью», который многолетним подвигом любви научился видеть сокровеннейшее и тайное в душах тех, кто приходил к нему; св. Тихон Задонский с кристально прозрачной детской душей, Серафим Саровский; суровый ряд молчальников, которые десятки лет жили в работе самоиспытания и самоисследования, которые в тишине молчания одинокие и самопогруженные выдержали всякие приступы сомнения, прошли «такие бездны отрицания» (слова Достоевского), какие и не чудились Толстому, а потом с высоты «столпов» стали вещать Христову истину и пр. и пр. Что дает право Л. Н-чу, какие его труды и подвиги отречения и евангельского делания – обращаться к этим священникам, «им-же нет числа», с трогательным обращением сознать себя недостойными грешниками и покаяться. Он за свою правду, за свою веру и нелицемерие этой веры выставляет, как свидетелей, свои труды, как мы сказали, десятки лет не только «дум уединенных» о Боге и Его правде, но и десятки лет жизни, по тому учению, какое приняли. А ваши свидетели? Что делает вас учителем покаяния для этих смиренных и кротких, всю жизнь отдавших покаянию?
Граф пытается разделить всех священников на три группы и обращается к каждой отдельно. Первая группа – священники, которые исповедуют и проповедуют ложь ради корысти и только преднамеренно утешают себя мыслью, будто их ложь нужна народу.
«То, что вы делаете, вы делаете не для пользы людей, а только ради своих честолюбивых, корыстных целей. А потому как бы величественны ни были те дворцы, в которых вы живете и церкви, в которых вы служите и проповедуете, и те облачения, которыми вы себя украшаете, – дело ваше от этого не становится лучше. Что велико перед людьми, то мерзость перед Богом. И не думайте, что ваша ложь может быть полезна толпе, народу, непонимающему еще того, что вы понимаете. Ложь никому не может быть полезна. То, что вы знаете, что ложь есть ложь, знал бы точно так же и был бы свободен от неё тот человек из народа, которому вы внушили и внушаете её».
Дворцы, в которых вы живете?… Граф, вы издеваетесь. Да, наши храмы – дворцы среди сел, они светятся огнями, блестят золотом своих украшений и мы горды этим, гордимся тем, что народ любит храмы и несет ему свои дары, но вот рядом с ними – наши священнические «дворцы». Нам приходится ютиться в хижинах, где зимой углы промерзают насквозь, а осенью протекают крыши. Наши дети умирают, потому что нельзя жить в этих убогих развалившихся «дворцах». С болью в сердце мы, как нищие, побираемся по деревне и все-таки нам не на что содержать наших детей. Недаром еще Некрасов, далеко не сторонник священника, на вопрос: «вольготно-ли и сыто-ли живется попу», ответил сценой, где священник, проклиная жизнь, с тоской берет два пятака у голодного мужика, берет… потому что и сам с семьей голоден. За 11 лет средней школы (годы, когда можно пройти университет), священник бедствует и только вера в народ да привязанность к храму и Церкви заставляет их жить в этой убогой обстановке и протекающих дворцах. Клевета и обидная и злая, нехристианская, в этих недобрых словах о дворцах и о кладах. Неужели граф станет утверждать, что Церковь дает священнику более, чем он мог бы взять, как «хищник», борющийся за существование на арене жизни?
Есть священники, которые живут обеспеченно, есть губернии, где они богаты, но много ли таких губерний и много ли таких обеспеченных? Не лучше ли за 3–4 года до окончания курса идти в акциз или полицию?
«Есть еще, – продолжает свою классификацию граф, – и такие и число их становится тоже всё больше и больше, которые, хотя и видят несостоятельность в наше время положений церковной веры, не могут решиться критически обсудить их. Вера эта так сильно была внушена им с детства, так сильно поддерживалась в них окружающей средой и влиянием толпы, что они, даже не пытаясь освободиться от неё, все силы своего ума и образования употребляют на то, чтобы хитроумными иносказаниями и ложными и запутанными рассуждениями оправдать все несообразности и противоречия исповедуемого ими учения. Если вы принадлежите к этому разряду хотя и менее преступных, но за то еще более вредных, чем первые, духовных лиц, не думайте, чтобы ваши рассуждения успокоили вашу совесть и оправдали вас перед Богом. Вы в глубине души не можете не знать, что всё, что бы вы ни придумывали и ни выдумывали, не может сделать того, чтобы безнравственные рассказы священной истории, ставшие в противоречие со знанием и пониманием людей и архаические положения никейского символа стали нравственны, разумны, ясны, согласны с современным знанием и здравым смыслом. Вы знаете, что убедить в истинности своей веры своими рассуждениями вы никого не можете, что ни один свежий, взрослый образованный человек, не воспитанный в детстве в вашей вере, не только не поверит вам, но или засмеется, или примет вас за душевнобольного, услышав ваши рассказы о начале мира, историю первых людей и проч.».
Священник должен отречься от своей правды, потому что в его учении многое не согласно с «современным знанием», Не знаем, в чём это противоречие, думаем, что его нет, да если бы оно и было, разумно ли было бы истины нашей веры менять на показания знания, как на что-то абсолютно во всём несомненное. Вот что пишет о современном знании один писатель: «Знание, по его отзыву, отодвинуло от людей важнейшие вопросы жизни, оно поставило пустяки на место существенных проблем познания, знания о Боге и жизни по Богу. Мало того, наука объявила себя непогрешимой и во имя своей непогрешимости выдает за истину никому ненужные и даже нелепые глупости. И она требует, чтобы человек отрекся от истинного знания во имя этих глупостей». Мы не подписываемся под таким излишне суровым приговором, но граф, конечно, подпишется. Он знает, кому принадлежат эти слова. Это собственные слова из книги «Разрушение ада» и предисловия к статье Карпентера.
Так как же после этого мы откажемся от учения, переданного нам отцами нашими, от учения, в котором всякая частность связана с проповедью Христа о любви к людям, Богу и т. д. – во имя и ради современного знания, которое, по словам графа, провозглашает за несомненные истины не только ненужные, но часто и нелепые глупости… Да и верим, – свет науки идет не против веры, а наоборот, освещает путь к познанию Бога в вере.
Мы не станем доказывать, что во всех своих частях учение Церкви, даже для безусловно неверующего, далеко не такая явная нелепость, чтобы вера в него могла держаться только гипнозом воспитания. Доказательство заменит небольшая справка. Недавно в одной газете (Бирж. Вед.) перечислялись главнейшие из последователей графа, основатели культурных скитов. Я с любопытством прочитал список. Оказалось, что все наиболее талантливые из этих «учеников графа», ознакомившись с истиной «чистого евангелия» по Толстому, поработав много и усердно в деле распространения толстовства, вскоре сознательно вернулись к истине Церкви (Н-в, Ал-н и др.). Так как же граф решается утверждать, что всякий свежий, чуть-чуть прикоснувшийся к истине человек не может смотреть на церковное учение иначе, как на бред. Кого, кроме Чертковых, удержало толстовство из действительно интеллигентных образованных людей?
Я не говорю уже, что, кажется, можно считать образованными и Вл. С. Соловьева, и Б. Чичерина, и Н. Грота, и Аксаковых, и Самариных, и Хомякова.
«Но есть и еще самый распространенный третий разряд простодушных духовных лиц, которые никогда не усомнились в истине той веры, которую они исповедуют и проповедуют. Люди эти или никогда не думали о значении и смысле тех положений, которые переданы им с детства, как священная божеская истина, или если и думали, но так не привыкли самостоятельно мыслить, что не видят заключающихся в них несообразностей и противоречий, или, хотя и видят их, до такой степени подавлены авторитетом церковного предания, что не смеют думать об этом иначе, чем так, как верили прежде жившие и теперешние церковники. Люди эти успокаиваются обыкновенно мыслью, что церковное учение вероятно удовлетворительно объясняет кажущиеся им, только по их богословскому образованию, несообразности».
Граф, конечно, старается доказать, что и эти в простоте верующие – преступники.
«Если вы, – пишет он, – принадлежите к этому разряду людей искренно и наивно верующих; или еще не верующих, но готовых поверить и не видящих к этому препятствий, кто бы вы ни были: уже действующие духовные лица, или еще готовящиеся к духовному званию молодые люди, остановитесь на время в своей деятельности или в своём приготовлении к этой деятельности и подумайте о том, что вы делаете или собираетесь делать. Вы проповедуете учение, которое должно определить для них смысл жизни.
А вдруг – оно неправда? Неужели не должно подумать об этом?»
Плохо граф следит за своей логикой. Через две страницы, после приведенных слов, он неосторожно бросает такие слова:
«Ни один разумный человек не возьмет на себя определить телесную пищу других людей, как решить и кто может решить, какая духовная пища нужна массам народу?»
Он не замечает, что дает собеседнику оружие, какое может быть обращено против него самого. «Я, может ответить Льву Николаевичу простец священник, верю, как этот народ, только осмысленнее, определеннее и сознательнее. Да, я верю церковной истине, а когда она не ясна для меня, думаю, что духовно еще не дорос до истины и молюсь, да поможет Бог моему бессилию. Вы требуете, чтобы я отрекся от народной истины и заменил её проповедью вашей истине. Но ведь ваша собственная логика заставляет меня не верить вам, не слушаться вас. Я проповедую то, что составляет для народа истину, всосанную им с молоком матери, напоминаю темному мужику те заветы, какие давала ему умирающая мать или отец. Следовательно, я ничего не отнимаю у него, не разрушаю его души и совести, и след. совесть моя спокойна: я не повинен в соблазне и убийстве душ. Вы предлагаете отнять у народа ту правду, какой он доселе жил; но страшно мне, боюсь я запретить ему ходить в церковь и благоговейно молиться там, из дьяконского чтения заучивать «блаженства», боюсь, потому что тогда мне вправе будут крикнуть: зачем вы отнимаете наш хлеб, которым мы живы? – «безбожники, заранее жилы перегрызаете».
Да боюсь и боялся бы, даже если бы почти поверил в вашу истину. Ведь поверить вам совсем нельзя по вашей логике, гласящей, будто ни один разумный человек не может решить, какая духовная пища нужна народу?
И не понимаю я, как и смеете ли вы, при такой логике, все-таки думать, что духовная пища, предлагаемая вами, нужнее народу, чем та, какую предлагали апостолы Матфей, Марк, Лука, Иоанн; ап. Павел, Петр: наше евангелие со Христом воскресшим и вознесшимся.
* * *
Считая, будто уже победоносно доказал ложь церковного учения, Толстой далее ставить вопрос: «но не будет ли хуже, если люди перестанут верить в церковное учение?» И отвечает на него с большей смелостью. Нет, не будет.
«Будет то, что, откинув принятое по доверию учение, люди установят разумное и соответствующее их знаниям своё отношение к Богу и признают вытекающего из такого отношения нравственные обязанности».
Правда-ли? Так-ли несомненен благополучный исход предлагаемого способа борьбы с мнимой ложью?
Нечего и говорить, что нельзя жить ложью и всякая ложь должна быть отвергнута, но еще менее сомнения, что для людей, отказавшихся от истины церковной, придется или выбирать новое учение из множества доктрин (буддизм, магометанство и т. д.), или принять за истину то, что есть общего во всех учениях, – некий неопределенный, спутанный и скудный субстрат, лишенный всего специфически-христианского или Христова. Первый исход, очевидно, ведет вовсе не к объединению, а к вражде и борьбе, второй, как мы видели, решительно осудил Толстой в последние дни и осудил, конечно, справедливо.
Не ясно-ли, что никакого пути нет перед Толстым и его учениками.
А тут напрашивается еще новый вопрос, от которого опять не легко отделаться.
А что, если церковное учение необходимо для народа, как его духовная пища? Ведь несомненно в народе есть потребность церковной молитвы, потребность пасть ниц перед иконой и пр. Л.Н. не смеет скрывать серьезности этого вопроса и отделывается от него совсем не серьезно.
«Вы говорите, – возражает он кому-то, – что хотя нам и не нужна уже эта пища – она нужна массам. Но ни один разумный человек не возьмет на себя определить телесную пищу других людей, как же решить и кто может решить, какая духовная пища нужна массам народу?»
«То же, что вы видите в народе, потребность этого учения никак не доказывает того, чтобы нужно было удовлетворять ей. Есть потребность к вину, табаку и еще другие худшие потребности. Главное же то, что вы сами сложными приемами гипнотизма возбуждаете ту потребность, существованием которой вы хотите оправдать свою деятельность. Только перестаньте возбуждать эту потребность и её не будет, потому что как у вас, так и у всех людей не может быть потребности ко лжи, а все люди всегда шли и идут от мрака к свету и вам, стоящим ближе к свету, надо стараться сделать его доступным для всех, а не заслонять его».
Граф таким образом признает, что в народе есть потребность именно той пищи, какую ему предлагает Церковь. Где же основания думать, что эти потребности не нормальны, не есть здоровые требования души, а созданы искусственно. Миллионы людей живут «церковной пищей», это питание создало великанов духа, создало ту христианскую стихию, которой живет русский народ, те обычаи, поговорки, легенды, в которых граф видит проявление Христовой правды, на той же истине воспитан и Христос, Который «не пришел разрушить закон Моисея».
Это достаточно убеждает, что «пища» была не камнем, а следовательно и искание её не ложь, не тяготение к искусственно привитой потребности. А новая пища? Кто может сказать, что она не камень.
«Кто может решить, повторим слова Толстого, какая духовная пища нужна массам народу»? Мы полагаем, что Евангелие, но Толстой и этого решить не может, – не смеет.
* * *
Собственно здесь и кончается содержание «книжки» Толстого. Далее следует патетическое «заключение».
Свои очень сомнительные истины Толстой заканчивает такими изумительными строками:
«Но не будет-ли, – спрашивает он от лица тех же несуществующих возражателей, – хуже от того, что мы люди образованные, нравственные, желающие добра народу, вследствие возникших в нашей душе сомнений, оставим нашу деятельность и места наши займут грубые, безнравственные люди, равнодушные к народному благу».
«Несомненно, – отвечает он, – что выход лучших людей из духовного сословия сделает то, что церковная деятельность, находясь в грубых, безнравственных руках, будет всё более разлагаться, обличая свою лживость и зловредность. Но от этого не будет хуже, потому что разложение церковного учреждения, совершающееся и теперь, есть одно из средств освобождения народа от того обмана, в котором он находится. И потому, чем скорее это освобождение совершится через выход из духовного сословия просвещенных добрых людей, тем это лучше. И потому, чем больше будет выходить из духовного сословия просвещенных хороших людей, тем это лучше».
Вот советь, перед которым останавливаешься в полном недоумении. Мы считаем своё учение – Христовым. Л.Н. не считает, но он все-таки считает нас верующими в евангелие. Ему кажется, что наше учение все-таки кое-что имеет христианское в себе и вот он предлагает всем искренним, честным людям уйти от народа и предоставить его хищникам, наемникам, которые будут растлевать Христово учение, не оставят ничего от него. Это для того, чтобы убить веру в Церковь и самую Церковь. Мы верим, что пастыри Церкви не разрушают, а созидают царство Божие, но пусть Л.Н. прав. Не грех-ли все-таки предлагать, чтобы мы отдали народ на растление, в волю злых пастырей?
Не великое-ли кощунство, не преступление ли против всякой любви желать, чтобы хотя одно-два поколения оказались во власти растлителей и развратников? Пусть это увеличит паству его учеников, вышедших из Церкви, но неужели не жаль ему миллионов, которых растлят злые пастыри. И это любовь? «Не противься злу, потому что это значит стол мыть грязной тряпкой – не отмоешь». Это афоризм Толстого. Теперь он хочет купить толстовское царство Божие ценой растления и гибелью многих душ. Граф?… Это хуже, чем мыть стол грязной тряпкой.
Здесь живые души, невинные души продаются за увеличение прозелитов толстовства, за популярность «учителя из Ясной Поляны».
«Знаю, – заключает Толстой книжку, – что многие из вас связаны семьями или зависят от родителей, требующих продолжения вашей деятельности, знаю, что трудно отказаться от почетного положения, но все-таки лучше, чем делать дело, губительное для своей души и вредное людям».
«Вот это то я и хотел, находясь теперь на краю гроба и ясно видя главный источник бедствий, сказать вам, и чтобы помочь вам проснуться от того гипноза, в котором вы находитесь, часто не понимая всей преступности своей деятельности. И помоги вам в этом Бог, Который видит сердца ваши».
Да, ужасно, что это говорится на краю гроба.
И мы можем кончить только пожеланием проснуться от того гипноза самообожания, в каком находится граф, вражьей лестью не понимая всей преступности своей деятельности.
И помоги ему в этом Бог, Который видит сердца всех.
Иером. Михаил
Скворцов В. Со скрижалей сердца. Саровские июльские торжества. – Св. Серафим, как чудный Богоизбранник и Боговидец. – Новые козни дьявола и «союз борьбы с православием». – «Необходимое разъяснение» высокопреосвященного митрополита Антония. – «Духовное ослепление» – по поводу борьбы «союза борьбы с православием». – Генерал Арсеньев в еврейской синагоге и раскольничьей моленной – и недоумение сына православной Церкви // Миссионерское обозрение 1903 г. № 11. С. 133–156
Наступил июль месяц. Приближается знаменательное, священное для всей православноверующей России Саровское торжество: прославляется Церковью давно всеми верующими свято чтимый великий Саровский подвижник, о. Серафим, как новый в русской Церкви преподобный угодник Божий, дивный чудотворец, теплый молитвенник и ходатай пред престолом Божиим за землю русскую и за всех православных христиан, а вместе совершается чествование и прославление нетленных останков преподобного, как святых многоцелебных мощей.
Русь православная, во главе со своим благочестивым венценосцем, благоговея пред Господом, дивным во святых Своих, священно радуется, что не гаснет на Руси тот благодатный свет подвижничества и чудотворчества, который «сияет11 и в пещерах Киева и Чернигова, и в затворах Ростова Великого и Владимира древнего, и в лесах Радонежа и на островах студеного Белого моря и во всех концах православной России»… Верующая мысль и благоговейное чувство миллионов верных сынов Церкви устремляется ныне в заброшенный среди дремучих лесов пустынный Саров, сотни тысяч паломников всех сословий и всяких состояний направляются к раке преподобного, движимые живою верою, чающие себе от Господа Бога, по молитвенному предстательству нового Саровского чудотворца, утешения в скорбях, облегчения в немощах души и тела, мира и радости о Дусе Святе… Словом, каждый верный сын, своей торжествующей ныне матери-Церкви считает священным долгом принять то или другое участие, – кто подвигом паломничества, кто молитвою у себя дома, кто свечей, или тою или другою посильною лептою… Приносим и мы свою посильную «словесную» лепту в честь и славу новопрославляемого угодника Божия, преподобного Серафима, Саровского чудотворца.
Посвятив Саровским торжествам в последних выпусках «проповедей» и в этой кн. журнала несколько статей общего и миссионерского характера, мы не можем и в настоящих наших «Скрижалях» не остановиться на том же великом и дивном знамении милости Божией, являемой в чудесах молитвенного заступления Саровского угодника Божия, которому, поистине и наипаче прочих святых русской Церкви, приличествует наименование «Богоизбранника» и «Боговидца».
О богоизбранничестве и о высоком предназначении преп. Серафима говорит всё его дивное житие, начиная со дня рождения и до кончины, там мы встречаем многократные свидетельства о Боговидении угоднику Божию, которым Господь, подобно Моисею, удостаивал своего избранного. Оживим в нашей памяти эти чудодейственные черты жизни великого Саровского подвижника Боговидца.
Как известно, преподобный Серафим Саровский родился в царствование дочери Петра Великого, императрицы Елизаветы Петровны, 19 июля 1759 года, в древнем Курске, в приходе церкви преподобного Сергия, на Сергиевской улице, от благочестивых родителей, купца Исидора Мошнина и жены его Агафьи. Будущий святой подвижник крещен был в храме преподобного Сергия с именем Прохора.
Отец Прохора, Исидор был уважаемым храмоздателем. Когда Прохору было семь лет, Господь уже засвидетельствовал об избраннике Своём чудом милости Своей: мать взяла сына на осмотр достраивавшейся колокольни, как вдруг отрок упал с огромной высоты на землю. В ужасе сбежала с колокольни мать, думая, что сын расшибся на смерть. Но к изумлению всех она нашла его целым и невредимым.
В десятилетнем возрасте постигла Прохора тяжелая болезнь и здесь спасительная благодать Божия засвидетельствовала об избраннике Божием в новом чуде. Десятилетнему Прохору во время этой тяжкой болезни является Божия Матерь и обещает опять посетить и исцелить его. Через несколько дней крестный ход с чудотворной иконой Знамения Богоматери двигается вблизи дома Мошниных; начинается сильный дождь, и через размытую улицу нельзя было нести икону. Решили перенести Чудотворную Святыню через двор Мошниных на другую дорогу. Чуткая верою, мать Прохора выносит из дома больного мальчика и тот, помня обещание Богоматери, горячо молится Пресвятой Посетительнице и мгновенно получает от Неё предсказанное исцеление.
Напрасно брат Прохора приохочивал его к торговле, думая привязать его к миру и делам житейским. Юноша весь был в Боге, день и ночь поучаясь божественному писанию.
В семнадцать лет в Прохоре окончательно созрело намерение покинуть мир и отдаться религиозно-нравственным подвигам иночества. Набожная мать не только не препятствовала сыну в его благом намерении, но и дала ему своё материнское благословение на высший подвиг. Дабы решить, где – на юге, или на севере – избрать место для своего духовного подвижничества, Прохор отправился за советом в Киев, к мощам великих основателей русского монашества, преподобных Антония и Феодосия. Добрая мать надела на грудь сына, в благословение ему, медный крест. Как святое сокровище, св. Серафим до самой могилы носил материнский крест поверх своих одежд. Чтимый в Киеве о. Досифей, затворник Китаевой пустыни, указал место подвижничества будущему св. Серафиму в новой, существовавшей только семьдесят лет, но уже прославленной строгими подвигами своих иноков обители Саровской.12 Прохор, трогательно простившись с матерью и родиной, двинулся в Саровскую пустынь, из которой не уходил уже во всю свою жизнь, где он всецело отрекся от своей воли и отдал её в суровое послушание старцам своей обители.
В течение восьми лет, до пострижения в монашество, в 1786 году, с именем Серафима, Прохор смиренно и усердно нес все монастырские послушания: в столярне, хлебопекарне, просфорне, в качестве будильщика монахов и пономаря; в то же время инок Серафим в молитве и богомыслии настойчиво и неустанно работал над своим религиозно-нравственным совершенствованием. Рясофорный инок скоро был рукоположен в иеродиаконы. В обители не было священнослужителя благоговейнее Серафима. Вера и молитва проникала всё его существо и возводили его на редкую для земнородных высоту Боговидения. Однажды, на литургии, после выхода из алтаря с Евангелием, иеродиакона Серафима озаряет необычайный свет и очам его предстает Сам Христос-Спаситель, окруженный ангелами и благословляющий молящихся.
Из жития св. Серафима узнаем, что и позже преподобный сподоблялся не раз такого же таинственного Боговидения. Так, после жестокого избиения о. Серафима разбойниками призваны к больному были доктора, удивившиеся тому, как при таких ранах подвижник остался жив. Он задремал и утешен был видением Богоматери, явившейся ему в сопровождении апостолов Петра и Иоанна. Ободренный этим посещением, он отказался от врачебной помощи и на другой день встал с постели. Разбойники были открыты, но незлолюбивый старец простил их и скоро довел их до полного раскаяния и исправления. С тех пор он стал согбенным на всю жизнь.
Затем, однажды некая княгиня привезла к нему своего тяжко-больного племянника. Старец сказал страдальцу: «ты, радость моя, молись, и я за тебя буду молиться; только смотри, лежи, как лежишь, и в другую сторону не оборачивайся». Но больной не вытерпел, оборотился и увидал преподобного Серафима стоящим на воздухе, и, объятый страхом, невольно вскрикнул. Старец запретил ему рассказывать об чудесном явлении этом до его смерти.
В день Благовещения 1831 года старица Дивеевского монастыря, посетив преподобного Серафима в его кельи, также удостоилась чудесного видения: предшествуемая ангелами, сопутствуемая Иоанном Крестителем и Иоанном Богословом явилась в келью св. Серафима озаренная небесным светом Царица Небесная, долго беседовала со старцем и, благословив его, возвестила: «скоро будешь с Нами».
Да, воистину, Саровской подвижник, св. Серафим, есть российский Моисей Боговидец!
В 1793 году Серафим был рукоположен в сан иеромонаха и удалился в глухой лес, в 5-ти верстах от монастыря, и здесь построил себе маленькую келейку.
На новой ступени подвига – в отшельничестве – он неустанно работает над своим внутренним совершенствованием. Пламень уединенной молитвы разгорается всё в нём сильнее и сильнее: святой пустынник кладет ежедневно по 1.000 поклонов и сам отправляет каждый день по уставу все церковные службы, за исключением Божественной литургии, для которой приходит в праздник в монастырь и здесь причащается Тела и Крови Христовых. При этом он берет из общежития на неделю хлеба. Но скоро, усиливая свой пост, лишает себя и хлеба, довольствуясь одними овощами из огорода, возделанного собственными руками.
Не нежит он своего тела и одеждой: и летом, и в холодную зиму он носит из белого полотна самую простую одежду, поношенную шапочку на голове и лапти на ногах.
Восходя от силы в силу в своём подвижничестве, о. Серафим затем налагает на себя еще новый подвиг – молчальничество. «Молчанием, – говорит св. Амвросий Медиоланский, – я видел многих спасающихся, а многоглаголанием – никого». Сам подвижник свидетельствовал впоследствии, что молчальничество дает мир душе и возводит дух человеческий к совершенному созерцанию Господа.
Преподобный Серафим перестал принимать у себя людей. Если кого случайно встречал в лесу, то падал ниц на землю и лежал, пока проходящий не уходил. Перестал ходить преподобный и в обитель. Оттуда ему приносили скудную пищу, и он не выходил и к приходившему монаху. В праздники из монастыря приносили ему Святое Причастие.
От полного отшельничества святой молчальник перешел к затвору в своей келье, из которой не выходил без крайней надобности.
Через несколько лет уединенных подвигов св. Серафим переселяется в монастырь, по настоянию братии, вследствие болезни; но и здесь остается в затворе в своей келье. Когда Преподобного упрекали за бегство его от людей, которым бы он мог приносить пользу, он отвечал, что он очищает себя для Бога.
В таких подвигах проведено им пятнадцать лет, и тогда только о. Серафим открыл двери своего затвора для людей. Приходили к нему за духовною и телесною помощью и иноки, и миряне, и знатные, и простые люди. Всех он встречал самым теплым приветом: «радость ты моя», всем он давал поучения, основанные на священном Писании и творениях святых отцов Церкви. Бог дал подвижнику прозрение настоящего и предвидение будущего. Он изумлял приходящих к нему тем, что сам прежде, чем скажут хоть одно слово, говорил о мучивших их вопросах и давал на них ответы; отвечал на нераспечатанные письма, входил в нужду и обиду каждого, указывая всем, как из неё выйти.
Одному человеку, удивленному его прозорливым ответом, который был дан одному из верующих, святой Серафим дал такое объяснение этого своего сверхъестественного дара:
«Он шел ко мне, как и другие, как и ты: шел, как к рабу Божию; я, грешный и убогий Серафим, так и думал, что я грешный раб Божий; что мне повелевает Господь, как рабу Своему, то я передаю требующему полезного. Первое помышление, являющееся в душе моей, я считаю указанием Божиим и говорю, не зная, что у моего собеседника на душе, а только веруя, что так мне указывает воля Божия. Своей воли не имею, а что Богу угодно, то и передаю».
Чем выше в смиренном старце росло это духовное единение с Богом, тем обильнее изливалась из него чудотворная сила, исцелявшая недужных и больных. Достаточно было, чтобы святой старец помазал маслом из лампады тяжко больного, много лет прикованного к постели, и он мгновенно вставал исцеленный. Давал ли преподобный Серафим испить воды из своего колодца одержимому холерою, и он здоровым на глазах у всех шел от Чудотворца. Неисчислимы были его исцеления…
Тысячами собирался народ к Серафиму уже при жизни его, ожидая себе помощи душевной и телесной от святого старца. Неизгладимыми чертами запечатлевался его образ в душе каждого, кому дано было хоть раз увидеть Угодника Божия. Вот как описывают современники внешний вид о. Серафима. Он шел сильно согбенный (после избиения разбойниками), опираясь на топор или небольшой посох; на нём был белый холщовый подрясник, на голове поношенная белая камилавка. Лицо его было бело, нежно и румяно, как у ребенка; на нём светились лучезарные, дышавшие необычайной добротой голубые глаза; с головы падали светло-русые с сильной проседью волосы: лицо было обрамлено густою бородой с длинными усами. В непогоду он накрывался мантией из выделанной кожи. За спиной у него была котомка, в которой лежали песок, камни и Евангелие.
Пишу он вкушал только один раз в день – вечером; спал он не ложась, сидя на полу, опершись о стену; иногда он прислонял голову на камень или на обрубок дерева; а если ложился, то на кирпичи или поленья. Пред кончиной своей он засыпал на коленях.
Великий Саровский подвижник как дивно жил, так свято и опочил о Господе. Преподобный знал приближавшийся конец земного жития и предсказал день кончины своей. Окружающие явно видели, что старец готовится покинуть этот мир: он чаще молился у своего заранее приготовленного и стоявшего в келье дубового гроба, нередко посещал избранное им самим у храма место для могилы. Силы телесные его угасали, но дух с возрастающей силою горел невечерним светом.
В день нового 1833 года преподобный Серафим с особым напряжением молился за обедней в храме св. Зосимы и Савватия и в последний раз приобщился Святых Таин. После литургии он простился с Саровскими иноками и сказал им: «спасайтесь, не унывайте, бодрствуйте. Днесь нам венцы готовятся». Три раза в день ходил он на свою могилу и как будто вглядывался в землю, а вечером пел пасхальные победные песни. На другой день 2-го января в шестом часу утра из кельи подвижника пошел дым (он говорил прежде, что о смерти его узнают по пожару). Постучали в двери, но ответа не было. Тогда их сорвали с петель, в сенях тлел холст от догоревшей свечи, а святой Серафим стоял на коленях пред иконой «Умиления», названной им «всех радостей Радостью», перед ним стоял аналой, на нём был развернутый и уже загоревшийся молитвослов, о. Серафим крестообразно положил руки на святую книгу, глаза его смежились, на лице сияло радостное молитвенное умиление, тело еще было тепло.
В это утро за несколько сот верст в Курской губернии, в Глинской пустыни, один благочестивый старец, по имени Филарет, выходя из храма от утрени, указал братии на небе необычайный свет и прозорливо сказал: «ныне в Сарове возносится на небо душа отца Серафима».
Много тысяч народа приходило к старцу Серафиму при его жизни. Но еще более верующих стало приходить на его могилу в течение 70 лет, протекших с его блаженной кончины.
Являясь требующим его помощи в видениях или невидимо. Угодник Божий и по смерти исцеляет безнадежно больных, помогает бедствующим, утешает скорбящих.
Царствующий Дом наш и Царская Семья в последовательном ряде поколений являли примеры благоговейного почитания великого Саровского молитвенника, который, внимая Царской молитве, простирал из небесных селений свою благодатную помощь над Царской Семьей.
Осенью 1860 года тяжко заболела скарлатиной Дочь Императора Александра II, Великая княжна Мария Александровна, доныне здравствующая. Августейшая тетка ныне благополучно царствующего Государя Императора. В самую тяжкую для болящей минуту принесена была Дивеевской монахиней в царский дворец полумантия, под покровом которой предал Богу свою святую душу преподобный Серафим, и Великая Княжна была покрыта ею. Почти мгновенно болезнь ослабела, и Царь, и Царица и исцеленная Их дочь с умилением признали в этом чудотворную помощь Угодника Божия. Государь пожаловал Дивеевской обители 600 десятин: а полумантия преподобного Серафима, как святыня, хранится в церкви Московского Августейшего генерал-губернатора В.К. Сергея Александровича.
Как известно и ныне благополучно Царствующие Государь Император Николай Александрович и Государыня Императрица Александра Феодоровна глубоко чтут, по примеру Своих Царственных Предков, прославляемого святою Церковью великого Угодника Божия, почившего в Саровской обители. Русский народ узрит 19-го Июля, в 144 годовщину рождения святого Серафима, его святые мощи, хранимые в драгоценной раке под великолепною сенью, которые ныне сооружены иждивением Царя, по рисункам, начертанным Самой Царицею.
Являя знаки особого почитания памяти и подвигов богомудрого Серафима, видимо благочестивый Государь наш свято хранит в верующем сердце своем завет великого подвижника: «возлюбив Церковь Святую и Православную, возлюбим веру, как наше твердое и благодатное ограждение, да будет правда нам в броню и благочестие – в щит спасения. Ими Россия будет славна, крепка и непоборима, и врата адовы не одолеют нас».
Глубокоучительно и отрадно для верующего сердца, что святой так близок нам по времени, что живы еще свидетели дивных чудес и святой жизни Преподобного.
* * *
Саровское торжество прославления св. Подвижника-Боговидца имеет великое церковно-общественное значение: оно должно возгреть в сердцах всей верующей России живую веру и надежду на то, что Господь, молитвами иже во святых Отца нашего Преподобного Серафима Саровского, новоявленного Земли Русской Чудотворца, оградит Русь от смут разного рода и водворит в стране нашей мир и безмятежье на радость Обожаемому Царю нашему на счастье нашего отечества.
Все мы, верные сыны Церкви и отчизны, ныне, в дни земного прославления великого Саровского чудотворца обратимся же с пламенной молитвою к нему об избавлении Руси святой от зловредной смуты, которая не оставила в покое даже и такое святое дело, как Саровское торжество. Впрочем, это и неудивительно. Как известно, при жизни св. Серафима враг рода человеческого много раз делал попытку помешать возрастающим подвигам его благочестия: то он ужасает его страшными видениями, поднимает на воздух и подвергает его ушибам. Однако эти испытания не преодолевают несокрушимо святой воли: подвижник после дьявольских козней поднимается на новый подвиг – столпничество. Он выбрал недалеко от своей кельи большой гранитный камень и на нём предается молитве в течение 1.000 дней и ночей. Вносит и в келью свою меньший камень, чтобы не было мягче на молитве его коленям.
И вот в разгар этих подвигов враг избирает орудием своих козней троих крестьян, последние нападают на старца, когда он рубит в лесу дрова, и требуют от него денег. Еще сильный физически и вооруженный топором, подвижник не защищает себя, а только кротко говорит грабителям. что у него нет денег. Они оглушили его ударом топора, топтали ногами и, связав веревками, оставили истекающим кровью. В келье нестяжательного старца не было ничего, кроме икон, священных книг и нескольких картофелин, и разбойники, пораженные страхом и укорами совести, бежали. Старец очнулся от обморока, кое-как распутал веревки и израненный и окровавленный едва добрался до монастыря, сказав о постигшем его новом искушении только одному игумену.
Что же видим мы ныне? Исконный враг не оставляет своих дьявольских козней и ныне при земном прославлении Церковью угодника Божия. Старожилы Саровской и Дивеевской пустынь передают, что преп. Серафим предсказывал эти козни дьявола, эту скорбь и смуту умов, которые ныне порождены в неверующей, а равно и в маловерной и легкомысленной части русского общества святым делом прославления и открытия мощей Саровского чудотворца.
В своем «Необходимом разъяснении», высокопреосвященный митрополит Антоний необинуясь «поведал Церкви», во всеобщее сведение, сколько наслоилось легкомысленных разговоров, мучительных сомнений около вопроса о том, «что в гробу Саровского праведника»; там же разоблачено владыкой дерзкое заявление какого-то «союза борьбы с православием».
По поводу заявления о «Союзе» нас спрашивают, что это еще такое? Мы также получили «гектографированные листки», в одном из коих излагалось «постановление» такого содержания: «Мы нижеподписавшиеся (?), считая деятельность организации (?), присвоившей себе наименование «восточной греко-российской церкви», вредной для блага русского народа, постановили учредить союз для борьбы с этой организацией, дав ему имя: «союз борьбы с православием»». Внизу пометка – «печатается по постановлению центрального (?) совета союза борьбы с православием». Другой листок заключает в себе извещение за № 1 того содержания:
«Союз борьбы с православием» во исполнение долга своего пред истиной и народом русским, принял на себя расследование дела о мощах Серафима Саровского. Сим извещаем, что союз не остановится в случае надобности и перед вскрытием «содержимого гроба»». Оба листка гектографированы славянским полууставом. Вот всё, что мы пока знаем о пресловутом «союзе борьбы с православием». Судя по конструкции речи и тону листка, нужно думать, что здесь шалит всё тот-же «недоучка-интеллигент» из лагеря российских неверующих прогрессистов, которым православие стоит поперек горла, как незыблемый оплот нашей государственности. Весьма возможно, что не ушли эти «новые затейники» в своём образовании и понимании вещей далее известных легкомысленных курских юношей-святотатцев, посягнувших на чудотворную икону Знамения Пресвятые Богородицы, а может статься, что «деятели союза» из тех мрачных типов, к которым принадлежит некто «Иероним Преображенский», выведенный на свет Божий в Бозе почившим иерархом Амвросием Харьковским напечатанием дерзкого его письма в «Вере и Разуме», «дабы показать, каким духом злобы дышит на Церковь и власть современная интеллигенция»; – так объяснял тогда архипастырь обстоятельства напечатания этого беспримерно дерзкого и кощунственного письма.
Архиепископ Амвросий, предусматривая необходимость борьбы с упорной «иеронимовскою интеллигентною злобою против Церкви», видел корень этого зла в толстовстве, как духе и секте. И он, конечно, был прав в этом своём диагнозе.
Разве действующее около 8 лет в Лондоне «издательство» интеллигентов толстовцев, выпустившее целую серию летучих листков в защиту сектантства и в поношение православия, не союз борьбы с православием? Или другое женевское издательство, той-же компании толстовцев, выпускающее листки и брошюры исключительно для народа, в непримиримом антицерковном и социалистическом духе, – разве не тот-же союз? Достаточно прочесть листки «о штунде», о том «как попы поработили народ учением Христа» и др., чтобы убедиться, что Церковь и её миссия давно имеют дело с так дерзко заявившим о себе ныне анонимным союзом. Ютясь ранее заграницей, возможно, что теперь антицерковный лагерь непримиримых, озлобленных врагов Церкви навербовал себе храбрых за углом членов в России и принял организацию и способы действий разных прозябающих подпольных и преступных союзов, в роде «рабочей партии», «социал-демократии» и под. Если мы в своей догадке правы, тогда, значит, толстовцы из агнцев-непротивленцев – перерождаются в хищных волчат, и начинают показывать свои зубы и переходят от слова к делу, при том решили действовать приемами, ничего общего не имеющими с христианским учением, во имя которого они якобы ратуют. Но Церковь не может и не должна бороться с подобными «героями тьмы» теми же способами, – из закоулка и в темную. Истина Христова не боится света и сама постоит за себя.
В Церкви Божией есть тайны веры, которые, как многоценный бисер, нельзя бросать на попрание, но нет и не может быть секретов, в ней ничего не должно быть недосказанного, неясного, порождающего толки, разномыслия и сомнения, особенно если вопрос касается достояния веры всенародной, – всецерковного дела или события, каким является прославление угодника Божия. И государство и Церковь переживают тревожное, болезненное время господства Фомина неверия, когда люди потеряли блаженство живой, детской веры и стремятся водиться не «верою, а видением». Вот почему разъяснение о мощах св. Серафима первоиерарха Церкви, высокопреосвященного митрополита Антония, и необычное в сих делах опубликование акта освидетельствования мощей св. Серафима к сведению всей Церкви – составляет событие высокой важности, которым вместе указуется и лучшее средство в борьбе света церковного учения с тьмою современных заблуждений, с подпольными врагами Церкви, им-же имя не союз только, а целый легион.
Вместе с тем «разъяснение» первоиерарха указывает учительской миссии Церкви на долг исправления односторонности в вере и суждениях о св. мощах людей истинно православных, «но имеющих ревность Божию не по разуму, которые думают и утверждают, что мощи святых всегда и непременно суть совершенно нетленные тела, т. е. целые, нисколько не поврежденные тлением тела святых угодников Божьих». И по самому словопроизводству, и по вере вселенской Церкви, и по истории почитания и прославления мощей св. мучеников и угодников Божиих, – мощи прежде всего суть останки, – священные реликвии, – будут-ли то чудотворящие кости прославленного святого или всё нетленно почивающее тело. По вере «неразумных ревнителей» пришлось-бы отказаться христианину от почитания такой величайшей святыни, как рука св. Иоанна Крестителя, хранящаяся у нас в России в ковчежце собора зимнего дворца, от почитания свящ. останков такого великого угодника Божия, как Святитель Николай Чудотворец. Ту же неразумную ревность и односторонность можно замечать и в нашей миссионерской полемической литературе. Разъяснение первоиерарха призывает также и деятелей миссии к исправлению также ненужного для истины уклона в миссионерской полемике.
Закончим «нашу сию лепту» благоговейным исповеданием глубокой веры в святость великого Саровского чудотворца, и в незыблемость той истины, что, пока Россия будет хранить свой свет православия, не оскудеет на св. Руси и Преподобный и, ограждаемая молитвенным покровом св. сонма сих преподобных, она на «аспида и василиска наступит и поперет льва и змия». Господь, дивный во святых Своих, благодатию Своею сохранит духовную мощь Руси святою, целою и невредимою от всяческих покушений внутренних и внешних врагов нашей дорогой отчизны. Ей и Аминь!
* * *
Когда наши «Скрижали» были закончены, мы получили ниже помещаемую статью, принадлежащую перу верующего интеллигента. Охотно даем ей место на наших «Скрижалях», как необходимое дополнение к нашим мыслям и чувствам… Автор – просвещенный верующий мирянин. В своей статье он выражает мнение православных людей той традиции, которые считают, что «излишняя ясность в делах веры скорее может повредить, чем принести пользу». Но почтенный автор не хочет принять особых условий и обстоятельств нашего времени. С другой стороны, легкомыслие людей нашего смутного времени таково, что и молчание правды, презирающей ложь, легко может быть почтено за бессилие и неслыханная дерзость предстанет в тоге торжествующей силы.
Духовное ослепление. (Письмо в редакцию)
«Не отвечай безумному по безумию его», – говорит Премудрый. «Молчание – золото», – говорит и наша народная мудрость.
Всё это невольно припомнилось нам при прочтении известия о том, что в Петербурге появились листки, выпускаемые от какой-то тайной компании, именующей себя чем-то в роде «союза борьбы с православием». Уже одно это название говорит само за себя и мы православные имели бы полное право наградить этот союз презрительным молчанием. Тем более, что трудно надеяться убедить безумцев в их безумии, ибо их неверие перешло границы дозволенного сомнения. Они не с грустью говорят – «аще не увижу язвы гвоздиные и не осяжу ребра Его – не иму веры», а дерзновенно требуют дать им покопаться в священных останках, угрожая в противном случае «не остановиться и пред вскрытием содержимого гроба».
Что же можно и должно сказать таким профессиональным гробокопателям, для которых, очевидно, нет ничего на свете святого? Что можем им сказать мы, которые не дерзаем открывать лица даже почившего заурядного иерея? Что можем сказать им мы, которые с почтительным благоговением относимся к праху вообще всех почивших, не позволяя копаться в телах наших близких даже ученым с научною целью? Что можем сказать им мы, которые с детства привыкли мощи праведников лобызать до вкушения пищи и питья?
Такое благоговейное уважение к останкам праведников мы, православные христиане, приняли от наших предков, получивших это в свою очередь от своих отцов и дедов, почерпнувших это из свящ. Писания и учения отцов святых. Вместе с сим многие достоверные случаи убеждают нас, как строго суд Божий наказывает за дерзновенное и грубое любопытство. Так, еврей Аффаний, любопытствуя осмотреть «содержимое во гробе», в котором почивало пречистое тело Богоматери, был тут же наказан за свою дерзость отнятием рук, которые и повисли на святом гробе. Но, очевидно, сей дерзновенный учинил сие по грубому невежеству, ибо, по молитвам Апостолов, он был исцелен. Пусть событие это получше прочувствуют те безумцы, которые, для выяснения какой-то истины, не желают остановиться пред вскрытием священных останков новоявленного Чудотворца. Да и что они в ослеплении своём думают этим доказать? Допустим даже, вопреки опубликованному, официально составленному, в присутствии целого ряда, заслуживающих всякого вероятия, лиц, акту, что в гробе одни кости, то что из этого следует? Разве от этого умалится удостоверенная уже многими другими фактами святость прославляемого старца? Любимый ученик Спасителя, придя к месту погребения своего Учителя, войдя в пустой гроб (т. е. пещеру) «и приник, виде ризы едины лежаша и виде, и верова» (Ев. Ин.20:6–9). Вот идеал истинного христианина. Ему не нужно многого. По одному штриху, по одному намеку, он уже убеждается в святом и вечном. Ловят, напр., ученики рыбу. Ночь. Лов плохой. Но вот на берегу появляется Некто и на жалобу рыбаков, что нет рыбы, советует забросить сеть по правую сторону лодки. Совет исполнен и, о диво! рыбы попалось столько, что не могут вытащить. Это обстоятельство моментально наводит на мысль одного ученика, что неизвестный их советник есть не кто иной, как Спаситель. Услыхав об этом, другой ученик, уже без всяких рассуждений, бросается в воду и плывет к несомненно стоявшему на берегу Господу. Так пламенна, так непосредственна была вера первых учеников Христовых. Ведь и Фома хоть и не поверил вначале, однако мы не видим из Евангелия, чтобы он остался при своём неверии. Ясно, что, пристыженный очевидностью, он, не касаясь Пречистого тела Спасителя, воскликнул: «Господь мой и Бог мой».
Чего же домогаются и чего требуют члены этого странного союза борьбы с православием? Неужели для них мало доказательств святости новопрославляемого угодника Божия Серафима, опубликованных доселе и подтвержденных целою массою почтенных лиц живых и мертвых? А если им всего этого мало, то что может им прибавить «содержимое во гробе», т. е. по нашему мощи праведного старца? Не о таких ли людях сказал Авраам богачу, томившемуся в муках ада и печаловавшемуся об оставшихся на земле присных своих, что «если кто из мертвых воскреснет, не имут веры». Но подумали-ли они о том, что будет, если все сотни миллионов верующих христиан потребуют таких доказательств для их убеждения? Ведь тогда, пожалуй, придется и Христу вновь сходить на землю для убеждения каждого сумасброда. Вот к какому абсурду приводит это грубое искание доказательств истины.
Непонятным нам представляется, почему неверие обрушилось на новооткрываемые мощи? Чем оно убедилось в святости доселе открытых мощей? Полагать надо, что никому из сих господ не было позволено осматривать их. Еще более того нам представляется непонятным, отчего они не возбуждают сомнений о святости тех праведников, мощи коих не явлены миру и находятся «под спудом»? А ведь таковых в православной Церкви не мало и притом особо чтимых святых Божиих. Так, мы не видим мощей св. Апостолов; нет мощей великих святителей и учителей греческой Церкви; нет открыто почивающих мощей особо чтимых святых русской Церкви, таковы: Антоний и Феодосий, Киево-Печерские чудотворцы, Фотий, митроп. Москов., Тихон и Лаврентий – Калужские чудотворцы, св. Благоверный Александр Невский и великое множество других мучеников, затворников, «их же, по словам Апостола, не бе достоин весь мир, в пустынях, горах, вертепах и пропастях земных», душу свою ради вечного её спасения положивших. Все эти пещеры и пропасти, освященные пребыванием в них святых людей, составляют предмет благоговейного почитания и поклонения верующих. Всё это многое говорит их сердцу, но холодному рассудку критиков в этих пещерах сумрачно и страшно. Ибо они «очи имут и не видят, уши имут и не слышат». А отчего? «Одебеле бо сердце их», – объясняет св. Писание, – «сердцем бо веруется в правду». А потому мы вправе сделать и обратный вывод, что у этих грубых гробокопателей нет сердца. Вправе мы заключить, что не «искание истины» побуждает их к писанию и распространению кощунственных листков. Бранью, хулою и заушением истина не ищется и не выясняется. Это ясно засвидетельствовала сама истина на суде первосвященника. Очевидно, другие, более низменные инстинкты руководят этими борзописцами. Впрочем, они и не скрывают своих намерений. Цель их ясно написана на их знамени. «Борьба с православием» – вот их задача. Значит и все стремления их направлены к тому, чтобы поколебать православие. Смешное и детское усилие. «Заблуждаетесь, не ведуще Писания, ни силы Божия», – говорил не раз во время Своей земной жизни Спаситель, отвечая пустым и праздным совопросникам Своим. Этими же словами Его можно и теперь ответить праздным искателям истины, ясной для всех, ведущих св. Писание и чувствующих силу Божию в Церкви Его, которой не страшны даже все силы ада. Убеждение это основано не на пустой вере, а ясно и разительно подтверждается самым фактом существования Церкви Христовой, испытавшей миллионы терзаний в течение 19 веков своей жизни и вышедшей с торжеством изо всех сих испытаний и нападок. И не пустым, уличным листкам поколебать веру в святость воинов Христовых в сердцах православных христиан! Бесчисленные полки верующего народа, – этого христолюбивого воинства, уже потянулись к целебоносному гробу вождя и утешителя своего. Умы их вовсе не занимают праздные вопросы о том, что во гробе. Их сотни тысяч перебывали там тогда, когда о прославлении его и об открытии мощей и речи не поднималось. Самое открытие мощей, по словам одного официального акта, является ответом на не умершую в народе веру в святость блаженного старца. Люди и не нуждались в этом добавлении. Они с благоговением брали и хранили «песочек» с его могилки, «водицу» из его колодцев, «глинку» от печи из его кельи, «камушки» с огорода, его руками некогда возделанного. Но что особенно для них ценно – это «заветы его и увещания», говоренные им при жизни, которые простой народ (да и масса интеллигентов) складывает в своём сердце, хранит их и руководится ими в жизни. В этих-то святых заветах люди находят для себя утешение в скорбях и подкрепление в борьбе с неизбежными трудностями жизни. В заветах этих новоявляемый чудотворец обрисовывается как утешитель и печальник народный. Этим и объясняется, что он еще и при жизни был окружен толпами почитателей. Этим и объясняется, что толпы эти не уменьшались и по смерти святого старца в течение семидесяти лет, а в последнее время даже увеличивались. Да поймут же из всех этих фактов члены «союза борьбы с православием», что почитание останков праведника равносильно почитанию иконы его, т. е. честь переносится на изображаемого, на его дух, на его религиозно-нравственный облик.
Членам «союза» всё это не понятно. Что же, это не новость. Еще ап. Павел писал: «Чудеса знамения требуют, эллины премудрости ищут: Мы же проповедуем Христа распята, иудеям убо соблазн, эллинам же безумие, а для нас в этом Божия сила и Божия премудрость». Этою то Божий силой, этою то Божией премудростью как некогда, в начале, 12-ть неученых рыбарей, так и в наши времена святые Божии, как и новоявляемый Преподобный Отец наш Серафим Саровский, покоряли и покоряют не себе, но Господу и сердца Царей и сердца миллионов подданных, и сердца ученых и сердца простецов. Ибо проповедь их заключалась «не в препретельных человеческие премудрости словесех, но в явлении духа и силы». Вот чем только и можно объяснить такие наши факты из жития преп. Серафима. Мать, огорченная и рассерженная тем, что дочь её осталась в монастыре, пришла делать старцу строгий выговор и взять дочь. Но окончила тем, что сама поступила в монастырь. Не напоминает ли это случай из жизни И. Христа, когда слуги архиерейские, посланные взять Его, возвратились одни, объяснив свой поступок тем, что «наколи же человек говорил так, как Сей человек». Эта же божественная благодать восполнила недостаток человеческой мудрости в блаженном старце, так что, читая многочисленные заветы его, невольно воскликнешь: «где премудр, где книжник, где совопросник века сего, не обуя ли Бог премудрость мира сего?»
Вот почему мнения и листки членов союза борьбы с православием так же интересуют истинно верующих христиан, как мнение магометан, язычников и всех прочих иноверцев. Не злобствуя на них, но с сострадательною любовью мы молимся: «Отпусти им, Боже, не ведят бо, что творят».
А. Л.
* * *
Мы получили следующее письмо, затрагивающее не лишенный интереса в миссионерском отношении вопрос.
Μ. Г. г. Редактор.
Читатели вашего журнала привыкли видеть в нём орган, от внимания которого не ускользает ни одно более или менее заметное явление религиозной и церковно-общественной жизни на Руси и не остается без такого или иного его отклика. Льщу себя надеждой, что и моё недоумение вы обсудите и решите. Дело в следующем.
«Гражданин» (№ 42 с. г.) со слов одесских газет передает «интересное сообщение о торжественном приеме, устроенном в одесской синагоге новому градоначальнику генералу Арсеньеву». Некие невежды вытолковывают из этого сообщения, будто бы генерал Арсеньев еврейской веры. Невеждам сим я доказывал, что в нашем православном царстве евреев не производят в генералы. А они одно твердят: «не бай не дело, как же он не еврейской веры, когда, по прибытии в Одессу, во-первых строках едет к еврейскому богослужению со своей свитой, простаивает всю еврейскую службу, выслушивает еврейские проповеди, – принимает благословение от еврейского раввина и заявил евреям, что он верит в одного с ними Бога. Как это могло бы статься, коли бы он православный был: чай, наши батюшки за каждой службой читают – «Христос истинный Бог наш», а жиды распяли Христа, да и над Пресвятой Троицей они смеются. Как не толкуй, а жидовский Бог другая статья от нашего; истинного Бога евреи не знают». На подмогу к сим невегласам подъявился еще какой-то, вероятно, раскольник с разными текстами и правилами. «По писанию, говорит, евреи явно истинного Бога не знают, аще бы знали Его, учит апостол, не быша Господа славы распяли».
Разве вы не знаете, что всякий христианин должен быть отлучен от Церкви за молитву с евреями, по 10 пр. апостольскому: в этом правиле ведь сказано: «аще кто с отлученным от общения церковного (не говоря уже о евреях) помолится, хотя бы то было в доме, таковой да будет отлучен». Вступил я в прение с этим неизвестным мне человеком. Дело было в вагоне жел. дороги. Градоначальник, говорю, ездил в синагогу не молиться и не за благословением, а за тем, чтобы ему представилось еврейское общество и чтобы успокоить его в такое тревожное для него и для общественного спокойствия время.
Неизв. Эка размазывает. Чай, всем известно, что представляется низший высшему, а не наоборот; они, евреи, должны были к нему явиться для представления, а не он к ним: «Меньший от большего благословляется». Как же не молиться ездил, когда в газетах пишется: «по прибытии градоначальника в синагоге началось богослужение… Служил кантор Кармиод», который потом благословлял градоначальника и многолетствовал… Если бы градоначальник ехал не к богослужению, то почему бы евреям не начать службу без него, да и зачем бы ему выслушивать всё жидовское служение? Для православных, чай, своих церквей там много. Да и зачем бы ему для представления-то ехать в жидовскую синагогу? неужто в Одессе больше другого места не нашлось? Вот и газеты то подлаживаются под ваш никонианский порядок: жидовское сонмище они называют «храмом», нашли там «алтарь», «богослужение» и т. п.
Всякому, чай, известно, что евреи, отвергнув и распяв Христа, не исполнили писаний, свидетельствующих о Нём, и подвергли себя проклятию Божию: «прокляты они в городе, прокляты на поле… прокляты они во входе своём, прокляты при выходе своём… Они будут ужасом, притчею и посмешищем у всех народов… и не главою, а хвостом» (Втор. 28 гл.). Дело-ли получать православному благословение от проклятого хвоста?
– Раввин, возражаю, не благословлял градоначальника, как своего единоверца, а сказал только «от имени всего еврейского общества словами свящ. писания: «Будьте благословенны Господом», «пусть Господь Бог вас благословит во всех ваших начинаниях… пусть Господь благословить всех ваших сотрудников… пусть Господь охранит и сохранит вас и ваших ближайших помощников на многие лета»… «и помощник раввина возгласил градоначальнику многолетие». Что же тут не по писанию? О властях предержащих все и иноверцы должны молиться.
Неизв. Тут всё не по писанию, не рассмотрены хорошенько Божественные книги-то: вас на смарку пустят, если будут выслушивать таких брехливых раввинов, как одесские. Что, напр., канителит-то «ученый раби Акиба» – будто всё еврейское вероучение выражается словами: «не делай ближнему того, чего бы ты не хотел, чтобы последний тебе сделал», при чем под ближним подразумевается каждый, без различия национальности и вероисповеданий. Ведь тут всё ложь. Как Христос говорил о ветхом завете? «Вы слышали, что сказано: око за око, зуб за зуб» (Исх.21:24; Мф.5:38) «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего (Лев.19:17–18; Мф.5:43). Евреи своими ближними считали и считают только евреев же; все остальные люди – других наций и исповеданий, для них – враги, Спаситель и обличал такую еврейскую ложь Своей притчей о милосердном самарянине. В книге Левит, на слова которой ссылались одесские раввины, сказано: «не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя» (Лев.19:18). Ясно, что под ближним здесь разумеется только еврей. А как жиды относились и относятся к христианам с самого начала веры Христовой, вам, надеюсь, известно и из слова Божия и из церковной истории. А раввины теперь выкрадывают учение из Евангелия и выдают его за еврейское. И впрямь подумаешь, какие блаженненькие, невинные страдальцы, возлюбившие ближнего, как самих себя, и в жидовстве то пребывающие будто бы для спасения прочих народов христианских, как утверждал недавно один из ваших же проповедников, а по писанию то проклятое они и отверженное семя; сидели бы тихо, да ждали антихриста: ведь к ним он по писанию то придет (Ипполит, Кирилл иер.) и родится-то от их колена Данова, и будет у них царем? Какое же от них благословение?
Собеседник мой всё более и более воодушевлялся и обострял разговор, вагонная публика насторожила внимание. Я постарался перевести речь на другие предметы, но видимо вопрос о посещении градоначальником еврейской синагоги оставил во многих, как и во мне, недоумение, которое прошу разъяснить.
Сын Церкви
Конечно, разглагольствование раскольника и простеца дышит нетерпимостью и пуританским буквоедством, а в частности – толки их о еврействе нового одесского градоначальника генерала Арсеньева – прямо нелепы. Генерал Арсеньев, выражаясь словами писания, «сын века сего», гуманный, просвещенный администратор, чуткий к веяниям времени и злобам дня, притом и тонкий политик. Он приехал в Одессу в период обострения на юге еврейского вопроса и недоверчивого отношения еврейской массы, после кишиневского погрома, к представителям власти. При этом ген. Арсеньев отлично знал, какая огромная сила – евреи в Одессе, держащая в своих цепких руках всё и всех. Делая такой, правда необычный, акт особого внимания к еврейской части населения вверенного ему города своим торжественным посещением синагоги с целою свитою, генерал, очевидно, желал этим сразу завоевать себе особое доверие и симпатии со стороны еврейской «силы», как к благопопечительному администратору. А так как ген. Арсеньев приехал в Одессу не миссионерствовать, а управлять городом, то он и не мог считаться с какими-то, очевидно неведомыми ему, канонами и, очевидно, чуждыми народно-православными взглядами и традициями. Тем более, что и время-то теперь господства принципов свободы совести, в духе и понимании гг. Стаховичей, Волконских и столичных «новопутейцев».
Теперь время прокладывания «новых путей», и кто теперь, кроме завзятых консерваторов, смотрит на церковные каноны, на вековые традиции, на народное православное мировоззрение, теперь на первом плане мнение публики, – общества и газет. А газеты все отметили посещение ген. Арсеньевым еврейской синагоги в хронике выдающихся событий, а некоторые симпатично подчеркнули, как своего рода «новый путь» к сближению евреев с христианами.
Не желая отнимать пальмы первенства от ген. Арсеньева в прокладывании этого нового пути в еврейском вопросе, мы заметим, что мы знаем и другие подобные же факты любезности и внимания к евреям на том-же юге. Так знаем, как в одном городе губернатор участвовал в освящении новой синагоги, построенной к тому-же в обход закона. Причем его превосходительству предложена была честь открыть входные двери в новую синагогу золотым ключом. Знаем другой случай, когда в синагогу еврейскую пожаловало всё губернское представительство в лентах, мундирах и фраках на свадьбу дочери еврейского креза. А когда один непокладистый генерал не хотел стоять в синагоге во время венчания в шапке, ссылаясь на то, что он не привык при дамах и в парадной форме быть в шапке, тогда твердый блюститель еврейских традиций попросил бравого генерала выйти из синагоги… Интересно, как – в шапках или без шапок – выслушивала еврейское богослужение одесская христианская администрация? Правда, что об обоих наших прецедентах в печати признано было неудобным говорить. Хотя это было не более 5-ти лет тому назад, а видно времена изменились…
Что генерал Арсеньев чутко следит за настроениями времени, об этом находим подтверждение и в другом недавнем сообщении одесских газет о том, как новый градоначальник посетил раскольничью моленную.
Как известно, что раскольники, после Высочайшего манифеста 26 февраля, бессовестно извращенного ими в понимании смысла веротерпимости, – мятутся духом, ищут тоже «новых путей» и составляют для печати и известных слоев общества модный вопрос. И вот печать не преминула снова на всю Россию оповестить о посещении моленной новым одесским градоначальником, чего та-же печать не сделала ни в отношении посещения новым градоначальником ни православного собора, ни католического костела, ни протестантской кирки, а мы не сомневаемся в высокой справедливости нового одесского администратора и, думаем, что не только православные храмы, но и представителей инославия генерал почтил ранее еврейской синагоги и раскольничьей моленной своим просвещенным вниманием.
Вот как описан этот визит градоначальника раскольникам.
На днях новый одесский градоначальник ген.-лейт. Д. Г. Арсеньев посетил одесский старообрядческий молитвенный дом, где был встречен на паперти, устланной ковром, старостой молитвенного дома В.А. Дубининым. Вместе с градоначальником молитвенный дом посетил также одесский городской голова П.А. Зеленый. В молитвенном доме, переполненном прихожанами-старообрядцами, совершено было молебствие, по окончании которого было провозглашено Царское многолетие. Священником молитвенного дома произнесено было перед провозглашением многолетия, по словам «Одесского Листка», следующее краткое приветствие:
Сегодня горячая наша молитва к Всевышнему Зиждителю завершилась в присутствии высокопоставленного лица, одесского градоначальника генерала Арсеньева. Посещение нашего храма г. одесским градоначальником является для нас ныне высоким вниманием. Обратим благодарные взоры на своего светского начальника и кланяемся ему, наперснику власти, поставленному по указанию Всемогущего Бога Самодержавнейшим Царем. Новый правитель гор. Одессы, желанный гость нашего старообрядческого общества, прибыв недавно из северных краев нашего дорогого отечества, засвидетельствовал нам своё славное имя внимательного начальника. Общины старообрядцев, приемлющих священство, вероятно знакомы его превосходительству по северу, таковые-же и здесь, проникнутые верой в Христово учение, в св. апостолов и в св. отцов, возносят молитвы по древне-православным обрядам как о своём спасении, так и о благоденствии богодарованного Царя своего, милость которого по промыслу Вседержителя с течением времени влагает в наши сердца всё большие и большие усердия молиться с сознанием свободы христианского вероисповедания.
Во время богослужения пел хор любителей-прихожан древним знаменным распевом.
Теперь спрашивается: от кого ген. Арсеньев принимал приветственную речь? Газеты пишут «от раскольничьего священника». Но ведь закон не признает этого звания за раскольничьими требоисправителями? и генер. Арсеньев не мог, конечно, признать его таковым? И не совершил-ли одесский раскольничий оратор оказательства раскола, совершая богослужение для присутствующих православных, хотя-бы и в лице ген. Арсеньева и город. головы г. Зеленого? Как известно, покойный министр Сипягин, объезжая раскольничьи центры, не счел возможным заходить во внутрь моленных, а только на крыльце одной обратился с речью к раскольничьей депутации, в которой предостерегал не переходить за черту закона 1883 г. В этом смысле издан был им и циркуляр губернаторам.
Кажется, и это так еще недавно было, а в Одессе, очевидно, забыто.
В. Скворцов
Гринякин Н. К открытию святых мощей Преподобного Серафима // Миссионерское обозрение 1903 г. 11. С. 157–158
Колыхнулося русское море глубоко,
Сильные волны поднялись высоко;
Волна за волною бежит.
Берег один – их стремленье;
Там для них всех утишенье
Сила небес совершит.
* * *
Знатный, богатый, убогий с нуждой,
С немощью плоти, с разбитой душой
В Саров к Серафиму текут.
Душой кто иль телом страдает,
Под ношей креста-ль упадает…
Всех его мощи влекут.
* * *
Сила Господня свершается:
Старец «в костех» прославляется, –
«Кости творят чудеса».
Чрез них исцеленья творят,
Душу и тело целят,
Чрез них говорят небеса…
* * *
Останкам святым поклонися.
В вере своей утвердися,
Сын православной Руси!
Святой Серафим Богозритель, –
Раскола и сект обличитель, –
Богу хвалу вознеси!
* * *
Ты же, отступник с гордыней, –
Смирись пред Саровской святыней.
Силу Христову познай!
К Церкви Святой обратись,
«Толков» и сект отрекись
И в вере святой пребывай.
Н. Гринякин
* * *
Примечания
Слово мощи у наших предков означало главным образом кости; в 1472 г. в Москве по случаю перестройки Успенского собора открывали гроба митрополитов для осмотра их тел и вот, как пишется в одной летописи: «Иону цела суща обретоша, Фотея же цела суща не всего… а Киприана всего истлевша, едины мощи». Собр. русск. лет. т. VI, стр. 196; подр. см. «Мисс. Обозр.» 1899 г. янв. «о мощах святых угодников Божиих».
См. «Мисс. Обозр.» № 7.
Во избежание недоразумений считаем необходимым заметить, что в своей статье, намеренно написанной по возможности просто и общедоступно, мы имели в виду у себя не отвлеченных адогматистов, а определенных лиц, приславших нам лично те возражения, недоумения…, какие нами и рассмотрены. Лица эти нами не названы: не в именах дело, а в принципах. Нами приняты были во внимание: наши литограф. лекции (где желающий нашел-бы много других подробностей: исторического, философского, вообще специально-научного характера, клонящихся к освещению этого-же вопроса), сочинения: особенно проф. А. Ф. Гусева, Лихтенберже (в статье проф. Гренкова), Gutberlet’а. Pfleiderer’а, Gunning’а, Thönes’а, Köstlin’а, Spir’а и другие (специально посвященные данному вопросу), – различные курсы христианской этики и проч., что и считаем необходимым здесь отметить. Выяснение общего вопроса о «взаимоотношении религии и нравственности», специально не рассчитанное на запросы нынешних дней, нами не преследовалось (чит. по этому поводу, напр.. у указанных сейчас авторов)…
См. «Мисс. Обозрн.» Апр. № 7, 1903 г.
Вот она вся раскольничья логика, – где дело касается св. православной Церкви, то и рознь прочь, начинается громкая хула хором – из-за двух ит, хотя и «Иисус» признается лжепопом за «Богочеловека».
Раскольничий женский монастырь Киевской губернии.
Т. е. Единоверческую, пос. Климова.
Видимо, лжепоп признает и престол Божий и «Св. Трапезу» грешными, поскольку зовет их ко спасению.
В собеседовании слова мои будут означены знаком +, а слова Казновского знаком –.
См. «Мисс. Обозр.» № 10.
Будем говорить словами нового, прекрасного, как всегда, иллюстрированного издания известного генерала Е.В. Богдановича под заглавием: «Св. Серафим Саровский», – предназначенного для бесплатной раздачи народу в дни торжеств. Издание это одно из самых лучших среди тех, кои изданы к торжеству.
В Темниковском уезде, Тамбовской губернии.
