- «Я всю жизнь жил о Бозе и с Богом»
- Часть I. Схиархимандрит Тихон (Муртазов). Жизнеописание в воспоминаниях
- Архимандрит Ермоген (Муртазов). Рассказ о себе
- Иеродиакон Никон (Муртазов). Воспоминания
- Монахиня Исидора (Носова). Об отце Ермогене
- Василий Петрович Чугрий. Мой духовный отец
- Часть II. Архимандрит Ермоген (Муртазов). Поучения
- «Ваши пути и Мои пути что небо и земля отстоят»
- «Бог спасать без нашего желания не будет»
- О духовном мире
- О монашестве
- По житию Марфы и Марии
- Бог хранит нас для того, чтобы мы хранили истину Православия!
- Часть III. Памятник любви
- Державному Ермогену, священноархимандриту, духовному отцу нашему и пестуну, посвящается сей убогий снетогорский распев
- На день Ангела архимандриту Ермогену
9 июня 2018 года отошел ко Господу архимандрит Ермоген (Муртазов), в схиме Тихон — известный на всю Россию старец, человек огромной опытности духовной. Батюшка был учеником многих подвижников. Как трудолюбивая пчела, дорогой батюшка Ермоген собирал духовную мудрость от различных подвижников и сам стал мудрым, умел вразумить и утешить. Вечная память!
«Я всю жизнь жил о Бозе и с Богом»
Уходят старцы, все мы сиротеем. 9 июня 2018 года отошел ко Господу архимандрит Ермоген (Муртазов), в схиме Тихон — известный на всю Россию старец, человек огромной опытности духовной.
Батюшка был учеником многих подвижников — блаженной Анны Михайловны Казанской, старца Сампсона (Сиверса), старца Тихона (Агрикова), валаамских старцев — Луки, Николая, Михаила, прп. старца Кукши Одесского, митрополита Вениамина (Федченкова), старца Тавриона (Батозского), старца Николая Гурьянова. В последние десятилетия был духовным чадом старца Иоанна (Кресгьянкина). Как трудолюбивая пчела, дорогой батюшка Ермоген собирал духовную мудрость от различных подвижников и сам стал мудрым, умел вразумить и утешить.
В новую духовную жизнь он впустил многих своих чад духовных — от его руки они приняли пострижение в иноческий, монашеский и даже схимнический чин.
На протяжении более полувека архимандрит Ермоген нес труднейшее послушание — был духовником женских монастырей. И был он не просто духовником, а любящим и мудрым отцом. Недаром в ранней юности ему явился прп. Сергий, указывая на то, что от него, как и от «игумена земли Русской», монашество распространится обильно в России XX и XXI века.
Но не только для монашествующих батюшка был отцом и наставником. Келейницы его свидетельствуют, что молитва его никогда не прекращалась. И день и ночь он молился за всех, за всю Россию, за весь мир. Батюшка принимал многочисленных посетителей, в том числе и государственных мужей. Много брал на себя и потом изнемогал от немощей и болезней.
Архимандрит Ермоген, еще в конце 1980-х годов принявший схиму с именем Тихон, — что оставалось до самой его кончины тайной, — был одним из тех «удерживающих», чьи молитвы спасли Россию от страшного междоусобия в 1990-е годы, одним из тех, кто незримо направлял течение народной жизни в русло спасения и брал на себя грехи многих людей.
За советом как к старцу к отцу Ермогену ездили многие священники, и теперь они рассказывают: «Мы все были у него как на ладошке, он знал, что с нами происходит, еще до нашего вопрошания». И он, конечно, знал свою судьбу. Говорил о том, что ему предсказывали мученическую кончину — и действительно, последние две недели земной жизни дорогого батюшки были страшно мучительными.
Мы верим в то, что ныне схиархимандрит Тихон молится о всех нас, о земном Отечестве нашем и о всем мире.
«Я всю жизнь жил о Бозе и с Богом и ненавидел тех, кто меня разбивал с Богом», — говорил батюшка, и теперь он стоит перед Престолом Божиим, и ничто уже не разлучит его от любви Божией.
Часть I. Схиархимандрит Тихон (Муртазов). Жизнеописание в воспоминаниях
Архимандрит Ермоген (Муртазов). Рассказ о себе[1]
Родом я из Татарии. Но только я чисто русский, потому что татарская фамилия заканчивается на -ин — Муртазин, а окончание -ов — это у русских фамилий в Татарии. У меня все русские: и папа, и мама, в роду у нас не было татар. Хотя и среди татар могли быть люди с фамилией Волков, например.
Район, где я родился, называется Новошешминский. Там река такая есть — Шешма, она впадает в Каму, а недалеко от нас город Чистополь. Возникали такие поселения, как наше, со времен Ивана Грозного, когда он завоевал Татарию и, чтобы держать завоеванные земли под контролем, переселял целые русские селения в пустынные татарские земли. Наш район переселен из Смоленска, наши корни оттуда. И центральная улица в Новошешминске называлась Слободка, там жили служилые люди, освобожденные от податей. Другая улица называлась Попушкина — там пушки стояли, третья — Мишеней, где стояли мишени, прицеливались, стреляли в них. То есть изначально это была военная слободка.
Вокруг этого района еще несколько деревень русских было: Екатериновка — Екатерининский полк стоял, Михайловка — Михайловский полк… Они и не давали ходу смутам. Теперь этот район называется Чистопольским. Чистое поле было. От Казани это километров двести.
У нас в роду все мои отцы — глубоко верующие, но священства не было. Особенно бабушка была верующая и мама. Бабушка Марфа Васильевна жила с нами. У нее было много детей, но все они умирали во младенчестве. Когда родился Иоанн, мой папа, бабушка пошла в храм, к чудотворной иконе Божией Матери «Скоропослушница», заказала водосвятный молебен и окропила младенца. И Бог его сохранил.
Брат мой, отец Никон, сейчас иеродиакон на Карповке в Иоанновском монастыре в Санкт-Петербурге, и сестра моя стала монахиней, получила имя Сергия, и мама приняла монашество с именем Магдалина, а папа погиб во время Великой Отечественной войны. Мы не вступали ни в партию, ни в колхоз, ни в совхоз, были единоличниками. Папа в первые дни войны был призван. Мне было шесть лет, и я помню, что ему дали первому повестку, он и погиб в первые дни войны, возле Великих Лук, город Торопец.
Крестили меня в церкви в честь Святой Троицы, как родился. Я молитвы знал с детства: «Отче наш», «Богородицу», знал «Верую», псалмы некоторые — «Помилуй мя, Боже» и «Живый в помощи Вышнего». Мама работала уполномоченным по сбору налогов, потом лесником, потом завхозом в больнице. Я всегда ей помогал и был, таким образом, всегда «на народе». Освоил все эти работы — выдача леса, например. Лошадь, коровы — все это я умел. С детства привык к труду. За пять километров ходил в школу, закончил семь классов; потом еще два года учился. Десять классов тогда мало кто оканчивал.
Когда мама работала лесником, то в доме нашем часто собирались люди для совместной молитвы. Я бегал и собирал народ. Но вообще жил я как все. Закончил школу, потом работал на почте, пошел в армию, служил в Баку в войсках зенитной артиллерии. Был сержантом, у меня есть много наград за службу. Всегда я был в армии с крестиком, хотя трудно было тогда носить. И пока я служил в армии, моя мама продала дом в селе и купила в Чистополе. Потому что церковь у нас была только в Чистополе. А там познакомилась с монашками из монастыря, который был закрыт, а когда-то они обслуживали окружение Патриарха Сергия, который был эвакуирован во время войны в Ульяновск. И когда вернулся из армии — я на Покров Божией Матери демобилизовался — то попал в такую среду: старенькие монашечки и моя мама-певчая.
Церковь была рядом с домом, они стали меня учить петь, читать. А потом я узнал, что есть восемь семинарий, которые во время войны открылись. Мне дали адрес, я написал в Ставропольскую семинарию и Саратовскую. В Ставропольской сказали: «Уже поздно», а из
Саратовской написали: «Можете приезжать, сдать экзамены и нагнать пройденный материал». Я с удовольствием подготовил всю программу, которая была нужна, бегло читал по-славянски, пел, написал сочинение на тему о жертвоприношении Авраама — все сдал, поступил, а потом и нагнал остальных. Устроился в Саратовский Троицкий собор иподиаконом у владыки Вениамина (Федченкова), который сейчас в пещерах ПсковоПечерских лежит. Он тогда из Риги приехал. Вот так я иподиаконствовал, регентовал, и пошла жизнь своим чередом. Преподаватели в Саратовской семинарии в те годы (конец 50-х) были хорошие, «старинные». Многие стали архиереями: псковский митрополит Иоанн (Гренланд); горьковский владыка Николай, он был у нас инспектором; ивановский владыка Феодосий. Владыка Феодосий славился у нас в семинарии как яркий проповедник. Он ранее жил в Чернигове, со старцем Лаврентием, ныне канонизированным. В войну его контузило под Курском. Положили его в гроб, закопали. И в гробу он очнулся и взмолился: «Господи, если Ты оставишь мне жизнь, я посвящу себя Тебе!» А ребятишки собирали в лесу патроны после боя. Краешек портянки торчал из-под прибитой крышки гроба и был виден среди холмика могильного. Дети и потянули за этот краешек. Чудо! Дети позвали стариков, и те его раскопали. Как Лазаря четырехдневного. Окончил Духовную академию в Питере. Жена и дети от него отказались.
В Саратовской семинарии я учился с 1957 по 1960 годы. Учился, с Божией помощью, отлично. Сдавал на четверки-пятерки экзамены, а летом дома ходил в храм, по дому трудился. Потом ректор велел сан принимать. Мои опекуны — отец протоиерей Иоанн (он в Чистополе жил, помогал и материально, и советом) и блаженная Анна Михайловна, прозорливая, как Ксения Блаженная, была — оба умерли в один год.
А вопрос с женитьбой я решал один. Жена была певчей церковного хора. Повенчались. Окончил семинарию, и мне назначили приход. В священники рукоположили в Саратове, митрополит Саратовский и Вольский Палладий рукополагал. Это было в 1961 году. Два года служил на приходе в городе Мамадыше (1961-1962).
Вскоре начались семейные несогласия. Тяжелые. Все старцы — почаевский старец Кукша, отец Сампсон (с ним я знаком был с 1963 года), отец Тихон (Агриков), прозорливый — благословили разойтись. Сначала в академию поехал учиться, в Троице-Сергиеву Лавру. Старцы сказали, что по окончании надо оставить жену и поступить в монастырь.
В Лавре учился с 1962 по 1965 год. Был однокурсником владыки Евсевия псковского. Профессора, преподававшие в Московской духовной академии, были людьми высокой образованности и духовной культуры.
Отец протоиерей Константин Ружицкий. Он после войны до самой своей смерти в 1960 году был ректором академии. После него ректорами были епископы. Он был профессором, преподавал нравственное богословие. Сделал много выпусков. Это был «старинный человек», родом из Киева. С ним произошла удивительная история в войну. Кто-то показал немцам, что он якобы имеет связь с партизанами. Немцы схватили его, увезли в комендатуру, а оттуда — далеко в лес и оставили там. Он никуда не побежал, а сел на поваленное дерево и стал молиться. А немцы оставили засаду, и если бы он побежал, они убили бы его. Но он молился, предавая жизнь свою в руки Божии. Немцы вернулись, забрали его с этого дерева, вывезли из леса и отпустили.
Профессор Старокамодский, Михаил Агафангелович. Богослов. Геолог. Больших знаний человек. Он старался научить студента. Если ответ на экзамене был слабым, знания неполными, то он восполнял их тут же, во время экзамена. Ему не оценку важно было поставить, а чтобы студент знал материал.
Профессор Георгиевский. Преподавал устав Православной Церкви и литургику. «Чтоб знать это, — говорил он, — надо жить в Церкви, жить жизнью Церкви».
Отец архимандрит Тихон (Агриков). Читал пастырское богословие. Был святой, прозорливый старец, очень популярный в Лавре, образец жертвенной любви.
Догматическое богословие преподавал профессор Сарычев (в иноках Василий). Был он строго требователен. Заочники трепетали перед экзаменом по этому предмету. Однажды он шел по коридору, и они, не заметив его, говорили: «Когда этот сухарь умрет, то его никто и не помянет». С тех пор он переменил свое обращение со студентами, стал много мягче. Скончался уже в 2000 году.
Профессор истории Шабатин. Читал историю Русской Церкви, общую историю Церкви.
Профессор Талызин читал каноническое право. Читал по памяти и ежегодно повторял из слова в слово. Мы проверяли. Так характер человека соответствует читаемому предмету.
Пока я учился в академии, ездил в ПсковоПечерский монастырь и нес послушание, там и познакомился с моим духовным отцом старцем Сампсоном (Сиверсом). Он меня вел духовно. И отец архимандрит Алипий тогда был наместником, и старцы тогда многие были живы, и валаамские недавно переселились в Печоры. А вот преподобного старца Симеона не застал, он преставился в 60-м году, а я пришел в 1962 году в монастырь. Знал и старца Никиту, человека святой жизни.
Дипломное сочинение на звание кандидата богословия писал на тему «Пастырское служение святителя Ермогена, Патриарха Московского». Его имя я получил при монашеском постриге в 1978 году. Я с детских лет почитал священномученика Ермогена, так как был родом из его мест. Еще будучи иереем Александром Муртазовым, получил благословение от своего духовника отца Сампсона (Сиверса) образом священномученика Ермогена с врезанными в него частицами мантии святого Патриарха и гроба. Так он мне предсказал мое имя в постриге.
Но еще учась в академии, я ездил и в Пюхтицы, там такой отец Петр был, Серегин. Старец и опытный священник. Ездили с братом, он свободен еще был. Отец Алипий нам тогда помог, и мы купили маленький домик в Печорах, около монастыря. Мама приехала и все мои. Я так и думал, что окончу академию и где-нибудь устроюсь в Печорах на приходе. Ничего себе не искал. А учебный комитет академии мне назначил в Эстонскую епархию, владыка Алексий просил двух священников. Вот мой товарищ, с кем мы поехали в Эстонию, отец Виктор, в Таллине служит до сих пор. А назначили меня в Пюхтицкий монастырь помощником отцу Петру. И с 1965 года почти тридцать лет я служил в Свято-Успенском Пюхтицком монастыре. Сначала служил с отцом Петром, лет десять, потом он ушел за штат, старенький. И духовником монастыря пришлось быть мне. Монастырь большой — тогда почти сто сестер было, сейчас сто семьдесят. Многие годы в Эстонии я был и духовником, и благочинным, имел 12 приходов. Монастырей тогда было мало, и люди ехали к нам в большом количестве. Не было ни одной епархии, которой бы мы не знали через паломников. Пюхтицы — Печоры — Рижская пустынька — Вильнюс (Свято-Духов монастырь) — Киев (Флоровский монастырь) — Одесса (Успенский монастырь) — Троице-Сергиева Лавра. Вот круг, по которому шло движение паломников.
Монастырь принимал зарубежные делегации. Архиереем Эстонским был с 1961 года будущий Святейший Патриарх Алексий II. Он сохранил монастырь и сделал его «показательным».
Духовник в женском монастыре — это очень специфичное служение. Как в Священном Писании: надо быть неопалимой купиной, чтоб гореть и не сгорать. Или иерихонской стеной быть, непробиваемой. Владыка Роман говорил: «В женском монастыре одна большая игуменья и сто маленьких». Их надо всех изучить и каждой знать «рецепт». Еще же и служба ведется, и требы: панихиды, молебны, крестины. А монастырей всего по Союзу было восемь, и многие ехали в эти годы в Пюхтицы. В монастырь люди приехали — должны сказать всё, что у них наболело, в своем приходе не всегда могут выговориться. Всех надо выслушать. И вот мы оказываемся в таком круге. Если трудно мне было на какие-то вопросы ответить, я посылал их к отцам в Печерский монастырь. И отец Сампсон мне помогал как молитвенно, так и советами во всех моих служениях.
За время моего служения было много разных событий в жизни монастыря, но я хочу остановиться лишь на некоторых моментах, которые мне пришлось пережить вместе со всеми, трудясь во славу Божию.
Особым событием, положившим начало серьезным изменениям в жизни обители, было поставление (назначение) новой игумении монастыря, а именно игумении Варвары, которая затем послужила много лет, до последнего своего дня земной жизни, на этом посту. «Претерпевый до конца спасен будет», — говорит Господь.
Другим событием была кончина матушки игумении Ангелины, служившей перед ее приходом. За этот период также скончался отец Петр (Серегин), который еще до моего прихода много лет служил в обители. Он ушел на пенсию и преставился ко Господу. Еще было такое знаменательное событие, когда наш архиерей, архиепископ, потом митрополит Алексий (Ридигер) в 1990 году стал Патриархом Московским и всея Руси.
Прежде всего остановлюсь на маленьком событии в истории нашего Пюхтицкого монастыря в те годы, когда я только пришел в обитель. Тогда правила игумения Ангелина — матушка в пожилом возрасте, я при ней служил примерно три года. На третьем году моей пюхтицкой жизни произошла следующая ситуация, после которой и последовали изменения в жизни обители. По традиции мы как всегда очень торжественно праздновали престольный праздник Успения Божией Матери. На праздник всегда приезжал Владыка Алексий и собиралось много верующих паломников. После праздника Успения, на третий день, матушка Ангелина имела обычай ехать вместе с Владыкой в Таллин на чин погребения Божией Матери. После чина погребения и вечернего богослужения она собралась ехать в Печоры, в Псково-Печерский монастырь, чтобы на следующее утро поздравить с днем Ангела архимандрита Алипия. Перед отъездом ее благословил Владыка и предупредил: «Пожалуйста, лучше бы вам поехать с утра, нежели на ночь». Но она все-таки решила ехать ночью. Машиной тогда управляла Надежда Семеновна, это была ее личная машина «Победа», и она часто приезжала в нашу обитель. Итак, они — игумения Ангелина, ее послушница мать Панкратия и Надежда Семеновна — направились в Печоры, но на полпути этой дороги, ближе к Печорам, случилась дорожная авария. То ли водитель заснула, то ли ей что показалось, но, короче говоря, они слетели с дороги. В этой трагедии матушка игумения сломала правую руку и пострадала от удара ее послушница мать Панкратия. По этой причине игумения Ангелина не доехала до Печерского монастыря и вынуждена была вернуться в Пюхтицкий монастырь. После всего этого матушка постоянно испытывала недомогания. Внутренние переживания, а также перелом руки очень отразились на ее здоровье, а поскольку она была пожилая, все остальное время своей жизни она чувствовала себя болезненно.
По этой причине в жизни обители возник вопрос о замене игумении, о необходимости искать кандидата на это служение. Негласно, но по устному благословению владыки Алексия этим вопросом занимались как сестры, так и мы, священнослужители. Я и отец Петр активно участвовали и молились. И я молился, ведь это дело важное для монастыря, нашей общей семьи, нашей жизни, когда от каждой личности зависит многое, тем более от правления игумении в монастыре. Поскольку у меня был духовником иеросхимонах Сампсон (Симеон), жил он в то время в Москве, я просил его святых молитв в решении этого важного для монастыря вопроса. Я спрашивал многих сестер о том, кто может быть кандидатом на игумению из наших сестер, но в то время наш монастырь был трудовой, и таких административных людей, способных к руководству монастырем, не оказалось. Потом я узнал от одной из сестер монастыря, что когда-то здесь были две такие сестрички, которые потом выбыли и уехали в Свято-Духов монастырь в Литву и там спасаются. Было сказано, что это были бы подходящие кандидатуры, поэтому я постарался сообщить отцу Сампсону, что есть такие личности и живут они в таком святом месте, в Свято-Духовом монастыре в Литве. Батюшка, конечно же, пошел нам навстречу. Поскольку это был особый случай в жизни монастыря, то отец Сампсон сам сел в поезд и поехал помолиться святым мученикам Антонию, Иоанну и Евстафию в монастырь в Литву. Когда он молился в Свято-Духовом монастыре, ему показали эту сестру, и когда все сестры за богослужением во время полиелея подходили прикладываться к иконе на середине храма, он посмотрел на всех своим прозорливым оком, и ему было подтверждение, небесное Божие благословение, что это лицо, избранное Богом. Он увидел, что монахиня Варвара Богом меченная, что быть ей игуменией. Старец уехал в Москву и мне написал, что та личность, которая там есть, она подходящая для несения игуменского послушания. И так он дальше усердно молился за нее и чтобы Господь осуществил желание монастыря.
Потом монахиня Варвара (Трофимова) была вызвана в Москву к Святейшему Алексию I. Было это после Нового года, после праздника Рождества Христова. В патриархии Святейший и митрополит Таллинский Алексий предложили ей такое святое дело — послушание быть игуменией в Пюхтицком женском монастыре. Для нее не было неожиданным предложением быть игуменией, потому что ее старица, игумения Нина в Свято-Духовом монастыре, потом схимонахиня Варвара, была в преклонном возрасте и готовила монахиню Варвару вместо себя быть там, в Виленском монастыре. Монахиня Варвара выразила свое желание остаться в этом монастыре, но ей Святейший сказал, что она за послушание должна быть в Пюхтицком женском монастыре. Монах всегда должен помнить, что первое для него должно быть послушание, молитва. Монахиня Варвара безусловно повиновалась этому благословению, вопреки своему желанию, и в назначенное время, после праздника памяти преподобного Серафима Саровского, они, две сестрички, монахиня Варвара (Трофимова) и, как помощница, инокиня Георгия (Щукина) , приехали в Таллин. Надень Богоявления, Крещения Господня, монахиня Варвара была поставлена во игумению Свято-Успенского Пюхтицкого монастыря. Потом торжественным поездом в несколько машин они с матушкой Георгией, во главе с митрополитом Алексием, приехали в обитель, и мы торжественно их встречали. А игумении Ангелине было предложено уйти на покой.
Когда мы стали совместно с матушкой Варварой служить в обители, то мне стало известно, что задолго до этого ее духовник, старец Николай Гурьянов, предсказывал, что она будет игуменией, будет восстанавливать монастырь, очень много потрудится для Церкви Божией и во славу Божию.
Новой игумении было благословлено первую неделю немного отдохнуть, рассмотреть и изучить положение дел, а потом приступить к своим священным обязанностям. В первую неделю Великого поста ко мне прибыл мой старец отец Сампсон (Симеон). Он приехал провести молитвенно первую неделю поста в монастыре. Для него это была тоже молитвенная радость — познакомиться с новой игуменией. Мы пришли в игуменский корпус и там встретились с матушкой Варварой, побеседовали. Когда мы вышли, батюшка сказал, что это настоящий Богом данный человек, «она светящаяся, на ней есть Божие благословение, печать Божия, быть ей игуменией здесь, в этом монастыре». Помолившись, батюшка уехал, но он никогда не бросал обитель молитвенно. Какие бы ни возникали у нас вопросы, а было их много, часто и жизненно важные, он всегда старался помочь. В молитве всегда предстоял Богу за обитель. Молился он также и за меня, поскольку я, можно сказать, был малоопытным, начинающим священником, желторотиком. Благодаря его молитвам Господь мне всегда помогал, содействовал, я всегда ревностно старался отдавать себя служению Богу, Матери Божией, сестрам и людям, которые посещали это святое место. И так с Божией помощью я послужил в Пюхтицкой обители начиная с 1965 года и до 1992 года.
В Пюхтицах я принял монашеский постриг. Лет пятнадцать уже был к этому времени протоиереем, все награды были, за исключением митры. Просил постриг у владыки. Он мне не отказал. Сам меня Святейший стриг. Да, тогда Святейший Алексий II был эстонским архиереем. Постриг был торжественный: впервые мужчину постригали в женском монастыре. Восприемником был отец архимандрит Иоанн (Крестьянкин), который после смерти старца Сампсона стал моим духовником.
Мне, когда начинал служить в Пюхтицах, наставления духовник давал: никогда ни с кем ни в каких закуточках не говорите, все должно быть прилюдно, открыто и чтобы тебя все видели. И я вел все беседы в храме. Никого не приглашал в келью, потому что келья священника — для молитвы. Со мной и мама жила, инвалид, и бабушка старенькая была у меня — мать Гавриила, и брат — инвалид первой группы. Я видел, как отец Петр себя вел, и от него взял навыки. Учел и недостатки и старался держаться как положено, с Божией помощью, чтоб никто пальцем не показывал. Все хорошо было и в бытовом, и в духовном, но было и тяжеловато. Народу много, паломники. Я был еще и наровским благочинным, у меня было тринадцать приходов, тоже было сложно. Я там сильно заболел, болел язвой.
Язва у меня случилась от переживаний, и дважды. Много крови потерял, чуть ли не вся вытекла. В Печорах такой хирург был, Георгий Васильевич, он меня выхаживал. И я думал, что мне уже будет не потянуть дальнейшее служение. Думал, уйду на пенсию. А потом стали границы меняться. В это время у меня был духовным отцом старец Иоанн (Крестьянкин). Все обсудили и решили, что мне надо оставить монастырь. С Божией помощью я уехал.
Был свой дом в Печорах, и я стал служить в Варваринской церкви с отцом Евгением. Святейший мне дал широкую дорогу, говорил: «Иди в любой монастырь, где захочешь устроиться, потом мне скажешь где». Мы со Святейшим в хороших отношениях всегда были, я был одним из его «домашних людей», окормлял его сестер обслуживающих, по-братски мы с ним были. Но никакой власти мне не хотелось, всего уже было достаточно — я был митрофорный архимандрит. Служил с отцом Евгением, помогал чем мог. А потом приехал владыка Псковский Евсевий в епархию, говорит: «Надо помогать, отец Ермоген, Снетогорскому монастырю». А я был знаком еще по Ельцу с матушкой игуменией Людмилой. И на зимнего прп. Серафима Саровского владыка назначил меня духовником в псковский Снетогорский монастырь.
У меня по Пюхтицам знакомых было много, и я стал их привлекать, чтобы помогали монастырю. Машины купили, автобусик, трактор, то коровку, то еще чего. Стали строить, восстанавливать храм и корпуса, и так одно за другим. И приходилось мне не только духовно вести людей, но и все время думать, где достать копейку: как гостиницу достраивать, скотный двор. Сестер у нас семьдесят, много стареньких.
Когда еще был жив старец Кукша Одесский, он называл меня архиереем. Отец Сампсон то же говорил. И отец Евгений (Тростин) тоже эти слова сказал, и блаженная Анна Михайловна, и владыка Зиновий (из Тбилиси). Но перед смертью старец Сапмсон (| 1979) сказал, что «за годы службы в монастыре Господь уже другой путь тебе избрал». Характер мой изменился. Я потерял властность почти совершенно, предпочитаю «согрешить в сторону мягкости, чем в сторону строгости».
И так в настоящее время я служу в Снетогорском женском монастыре, и сколько Господь мне помогал и помогает в жизни…
Иеродиакон Никон (Муртазов). Воспоминания[2]
Архимандрит Ермоген (Муртазов), в схиме Тихон, в миру Александр Иванович, родился в 1935 году в бедной крестьянской семье в Татарстане. Отец, Иван Федорович, работал трактористом в совхозе «Красный Октябрь» Новошешминского района Татарской республики, мать, Дарья Матвеевна, была домохозяйкой. Оба, и отец, и мать, были верующими людьми. Родители, Иван Федорович и Дарья Матвеевна, оба 1911 года рождения.
Сельский храм в Новошешминске был закрыт и разорен, верующие села собирались в одном доме, читали и пели молитвы. Их было немного. Причащаться ездили в Чистополь, небольшой городок на реке Каме, который стал известен во время войны, потому что туда эвакуировались многие деятели искусств.
С юных лет маленький Саша познал нужду и голод, но и благодать Святого Духа, которая укрепляла его веру. В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война с Германией, отец ушел на фронт, откуда уже не вернулся — погиб в начале войны в боях в районе города Торопца на Псковщине. Мать осталась с тремя детьми. Старшей дочери Насте было восемь лет, Саше — шесть лет, а младшему Боре — полтора года.
Со слов мамы я знаю, что она в детстве брала брата в дом к бабушке Бирюлихе (Наталье Бирюлевой), где собирались верующие нашего села. Там пели псалмы, читали духовные книги. Ходили по ночам, сидели до петухов. Саша внимательно слушал, что читали и пели, и сам читал всем собравшимся. В его сердце разгоралась искра веры. Бывало, все уже дремлют или спят, а он все читает. «И что из него получится?» — удивлялась Бирюлиха. Однажды учительница сняла с Саши крест. Мама пошла в школу и так отчитала учительницу, что та больше такого не повторяла. Однажды при встрече директор школы спросил: «Как ты воспитала сына? У нас во всей школе нет такого ученика, как твой Саша». Тужилин, работавший в колхозе, также однажды сказал матери: «Дай мне твоего сына. У меня своих двое, а толку никакого». Саша ходил к нему пилить дрова, косить сено, за что он давал нашей семье лошадь для доставки дров.
Отдельно расскажу о нашей маме, потому что именно от нее мы много получили в духовном плане. Дарья Матвеевна была неграмотной, в детстве и юности она жаждала знаний и просила мать пойти учиться, но та не позволила ей посещать школу. «Ладно, не всем грамотным быть, а кто же будет прясть, вязать, работать в огороде и в поле?» — говорила она. — «Мама, разреши, хоть один год похожу в школу, так мне хочется учиться!» Но мать, Анна Даниловна, настояла на своем, и Дарья Матвеевна осталась неграмотной. Отец, Матвей Львович, не вмешивался в дела жены и не принуждал своих детей к учебе. Суровая жизнь диктовала свое.
У нашей мамы был очень сильный и сложный характер. Попытаюсь его описать. Она была очень строгой, следила, чтобы кто не увидел неряшливость, не осудил за леность. Требовала блюсти чистоту. Была до мелочей придирчива. Для христианина (для нас — ее детей) это был постоянный урок смирения. Просила, чтобы без ее разрешения ничего не брали и не давали, вообще во всем спрашивались ее.
Брат мой Саша был всегда смиренным, всегда послушным. И бывало, что, когда мать брала в руки ремень, он говорил: «На, бей меня, если я виноват». Такая была у него покорность. Ум и сердце Александра с юных лет не были повреждены страстями века сего.
Еще о характере мамы: она не любила скрытных людей и требовала открытости, хотя сама была неразговорчива и при разговоре изучала человека, определяла дальнейшие отношения с ним. Порой была очень бережлива и скупа ко всему, а порой очень добра и милосердна, если это касалось спасения души. Для церкви и молитв денег никогда не жалела. Если бы она жила в монастыре, то была бы строгой старицей, могла бы применить и рукоприкладство, и покорная послушница под ее началом конечно бы спаслась. Таким послушником в детстве и юности был у матери мой старший брат Александр. Дарья Матвеевна очень любила трудиться, почти не знала покоя. Любила молиться и в молитвах бывала к Богу искренна, оттого ее детское восприятие легко доходило до Бога, и часто молитва бывала слезная. Из-за неграмотности, не имея возможности сама совершать правило, она пользовалась четками, перебирая их с Иисусовой молитвой. Мама любила пение и сама пела, любила природу.
Любила заниматься большими делами, как и ее покойная мать: заготовлять дрова, стройматериалы, красить, что-то доставать и для этого ездить по делам. Но и на кухне была мастерица, а вот швейную машинку терпеть не могла и шитьем никогда не занималась.
К безбожникам была терпима, видя в человеке главное — Божью душу, старалась сеять в каждом добро.
В начале войны Дарья Матвеевна стала работать уполномоченной по заготовке продуктов для фронта, потом несколько лет была завхозом в Петропавловской больнице. А потом случилась тяжелая болезнь — при остром аппендиците воспаление брюшины, что не только лишило ее работы, но и чуть не лишило жизни. Вся семья тогда во главе с бабушкой Марфой Васильевной встала на колени и молилась, слезно просила Бога об исцелении своей кормилицы. Дарья была при смерти и, одна из тысяч в такой ситуации, поправилась. Даже доктора удивились, признав чудо.
После болезни Дарья Матвеевна поступила на работу в лесное хозяйство. Теперь ей предстояло трудное для женщины служение — быть лесником. Лес был в десяти километрах от дома и очень большой. Потому дочка Тася и маленький Боря оставались дома с бабушкой Марфой, а Саша был с мамой в лесу, помогая ей в работе. Нужно было клеймить деревья, следить за чистотой леса и охранять лес от незаконной порубки. Жили они на кордоне — так называется дом лесника. Много людей, в основном бывших фронтовиков, приезжали тайком за дровами и норовили рубить деревья, где им нравится. Дарье Матвеевне приказано было разрешать рубку леса только по выправленным документам и в том месте, где было разрешено. Браконьеры приезжали ночью, тогда мама брала ружье и бесстрашно выходила к мужикам, отбирала топоры и пилы и через какое-то время возвращала в хозяйство. Мужики сопротивлялись: «Мы воевали, мы кровь проливали, что нам, замерзать теперь?» Но мама несла службу, такой у нее был стальной характер. И Саша ей помогал. Мама имела внутренний дар предчувствия. Ей во сне явился св. Иоанн Предтеча и все сказал о ее детях. Сашу назвал мучеником, что и сбылось в его жизни. Мученичество его было связано с женитьбой, об этом речь впереди.
А сейчас хочу вспомнить о матушках-монахинях, которые были нашими духовными наставницами.
В начале XX века на высоком левом берегу Камы в Чистополе красовался женский Свято-Богородицкий монастырь. В 1928 году монастырь закрыли. Он подвергся разорению, как и почти все обители на Руси. Все сестры были в скорби, переживали изгнание из отчего дома, горячо молились Царице Небесной, чтобы не оставила их.
Матушка игумения Эсфирь подверглась допросам, и потом ее утопили в водах Камы. Сестры объединились между собой, чтобы не разлучаться и вне монастыря. Сбылись слова чистопольской блаженной: «Сестры! Молитесь, еще немного, и наш монастырь в затон уйдет!» Многие над ней смеялись, не верили — как это их великолепный монастырь уйдет в затон? А после закрытия обители в ней открыли завод по ремонту кораблей, и народ это место стал называть «затоном».
В 1950-е годы нашей семье посчастливилось познакомиться и жить за одну семью с двумя сестрами Чистопольской обители: Феодосией Павловной Атлантовой и Анной Михайловной Ивановой. Феодосия Павловна была родной сестрой известного блаженного Петра Крутика, которого в Чистополе многие почитали. Анна Михайловна была дочерью известного рыботорговца. Она имела дары от Бога: хороший голос и главное — большое любящее сердце. Феодосия Павловна была возрастом старше Анны Михайловны. Жили они, когда закрыли монастырь, на частной квартире и выполняли завещание, данное игуменией Эсфирью: «Оставаться верными обетам целомудрия и помнить, где вы были призваны ко спасению. Любите друг друга, неся немощи других».
Матушки несли послушание при кладбищенской церкви в Чистополе: пели в хоре, читали Псалтырь и отпевали усопших. Регентом хора была инокиня Ираида Степановна. В годы войны она регентовала патриаршим хорам в Ульяновске (куда эвакуировался Патриарх Сергий).
Кроме тех матушек, которые жили с нами, при храме были и искусные иконописицы, такие как инокиня Елена (Мизохина), оставившая свои прекрасные работы в кельях сестер. Многие сестры обители ныне покоятся на кладбище рядом с чистопольской Казанской церковью.
Я пел в хоре Казанской церкви, а мой брат Александр, когда вернулся из армии, под руководством матушек подготовился к поступлению в семинарию. Но главное — мы видели, как молились матушки, усердно молились за родных и благодетелей. Как любили всех, все живое вообще — животных, птиц. Матушки называли друг друга «Устенька», «Варенька», «Аннушка», «Раечка», хотя им всем было уже по 70 лет и больше. Любовь и молитва матушек смиряли вражду. В послереволюционные годы гонимое русское монашество сохранило в народе веру. На гонимом монашестве держалась Православная Церковь на Руси и донесла веру до наших дней. Монашество сохраняло дух Православия. Монашество молилось за русский народ, веря, что наступит время возрождения.
Духовной наставницей моего брата Александра была и казанская блаженная Анна. Это была старушка, ходившая в безрукавке, сшитой из лоскутков, с нечесаной головой, со страшным колтуном волос, но с ясными голубыми глазами. Она была полная, но очень подвижная, беспокойная в своем поведении. Ходила всегда с палкой, как юродивая, всегда шумела, ругалась, обвиняла вслух воевавших с ней людей и бесов, взывала громко к Божией Матери, воздевая руки к небу, и грозила судом Божиим. Она раскрывала мысленную брань человека, отгоняя палкой бесов. В этой непрерывной борьбе проходила вся ее жизнь, лишенная всяких земных удовольствий и почестей. Люди к ней шли. Одних она прогоняла вместе с их искусителями-бесами, других жалела, принимала, утешала. В келье у матушки Анны было много икон, и на столике лежала стопка книг св. прав. Иоанна Кронштадтского. Мы узнали о ней, живя в Чистополе, после свадьбы брата Александра. Оказалось, что Вера, жена брата, и ее мать в прошлом принадлежали к обновленческой Церкви, но и не только это потом открылось…
С чистым сердцем пришел к старице мой брат, и полюбили они духовно друг друга. Анна Михайловна говорила не просто, а притчами, и многое открывала моему брату. Он ценил ее прозорливость, смирение, самоотвержение, веру, любовь к Богу. Многое получил он от ее слов и молитв, и крест своей жизни принял как волю Божию. Прошло немного времени, матушка Анна заболела и слегла, у нее были страшные пролежни, и только моему брату, отцу Александру, она разрешала себя переворачивать.
Ей был открыт день исхода из сей жизни. Накануне исхода она просила положить ее с кровати на лавку и читать молитвы. Глядя в окно, она последний раз запела слабым старческим голосом: «Чертог Твой вижу, Спасе, украшенный, и одежды не имам, да вниду в онь…» После чего тихо и мирно предала дух свой Господу.
Вспоминаю о том, как однажды, когда мы к ней пришли с братом, она обличила мои мысли. Я тогда много мудрствовал умом, воспринимая все по-своему. Войдя в келью, она закричала на бесов: «Псу», выгоняя их из углов, и добавила про меня: «Вон, философ какой спрятался и бормочет». Потом она, раздирая волосы обеими руками, растрепала свою голову и стала что-то говорить моему брату — отцу Александру, а я мысленно опять осудил ее, но спохватился, вспомнив, что старица читает мысли человека, и мысленно сказал ей: «Прости меня, мать Анна». Внезапно она прервала свой разговор с братом и обратилась ко мне: «Я-то прощу, а простит ли Господь?» — и опять продолжала юродствовать. Потом она вынесла написанную маслом небольшую картину, на которой были изображены Господь Иисус Христос и кающаяся грешница, и дала брату со словами: «На, возьми, только здесь надо грешницу переделать». Действительно, картине недоставало строгости и скромности. «Боря исправит», — сказал про меня брат. А я, взглянув на картину, подумал: «Она и так хороша, без исправления». Прочитав мои мысли, мать Анна взяла обратно картину со словами: «Он исправлять не будет», — и унесла туда, откуда взяла. Такой святости была матушка, которая оказала большое влияние на моего брата.
Еще в Казани был блаженный Петр Алексеевич Зотов. Он ходил в храм, имел благословение читать помянники в алтаре, но при этом обличал духовенство за праздные разговоры. Его выгоняли из алтаря, он смирялся, потом его опять впускали, но все повторялось снова: батюшки говорили о новостях по телевизору, Петр Алексеевич их обличал, его изгоняли.
Мы почитали казанского подвижника, и когда бывали в Казани, то заходили к нему, часто сталкивались с его прозорливостью. Моего брата Александра он очень уважал, жалел и молился о всей нашей семье. В драматической семейной ситуации брата он принимал особое молитвенное участие и всегда защищал его перед всеми, чем вызывал злобу и неприязнь со стороны родных и знакомых супруги брата.
Поболев немного, Петр Алексеевич преставился к вечной жизни в начале 1970-х годов.
Окормлял нашу семью и настоятель нашего чистопольского Казанского храма отец Иоанн Лизунов. К Александру он относился как к сыну, помогал ему советом и написал характеристику для поступления в семинарию. У батюшки была духовная дочь Вера, она пела в хоре. С ней Александр обвенчался перед окончанием Духовной семинарии. Но Господь, видно, не хотел ему счастья на земле, а готовил счастье небесное. В семье его ждали тяжелый крест и испытания. Но недаром, еще когда Александр приезжал на каникулы, мы сидели с ним и он, бывало, размечтается, как служить ему, как жить нам всем для спасения. Мечтал о святости, мечтал о подвигах, о богатстве благости Божией. Вот к этому подвигу и к святости призвал его Господь необычным образом.
Мама во сне получила откровение о том, что жена отца Александра и его теща занимаются «крупным чародейством». И вскоре это открылось на самом деле. Батюшка бежал из семьи, его потом отмаливали старцы. Духовные преследования не прекращались долгие годы. И недаром Бог определил его потом под покров Царицы Небесной в Пюхтицы.
Матушка игумения Варвара, пришедшая на смену игумении Ангелине, была очень деятельной: монастырь был провинциальный, а при ней все было перестроено, проведено отопление, сестры всем обеспечены. Своя земля, свой скотный двор, свои пастбища, своя мельница, все свое. Могут существовать автономно, независимо. А жизнь так шла, что всего не передашь, каждый день был новым.
И в псковском Снетогорском монастыре отец Ермоген работал очень много, невзирая на возраст и состояние здоровья. Ежедневное участие в литургии, молебен, исповедь, беседы с сестрами и все увеличивающимся потоком прихожан, келейная молитва. Спасала, силы давала, по его словам, только молитва. Ну и бережное, любовное отношение сестер. «В иной монастырь приедешь, — говорят они, — там матушка на сборы уехала, а духовника вообще нет. А у нас — слава Богу!» А в песенке в день именин отца Ермогена сестры пропели: «Не сироты мы у Бога, под защитою живем!» За тяжелый ежедневный пастырский труд платил ему православный народ горячей любовью.
Закончу свои короткие воспоминания словами одной из песен, которые каждый год батюшке преподносили сестры Снетогорского монастыря.
Отцу Ермогену в день Ангела 25.05.2014
Как поют на Пасху птицы!
Как радостно ручьи журчат!
И в день Ангела сестрицы
С песней к батюшке летят.
Вам приносим поздравленья,
Просим Господа мы вновь
Дать вам радость, утешенье
И ко грешным нам любовь.
Труд ваш пастырский чудесный,
Всюду радость он несет,
Дарит он любовь, согласье
Всюду, где раздор живет.
Кто в отчаянии — надежду,
Кто в сомненьи — веру шлет,
Тем, кто в мраке заблужденья,
Правду Божию несет.
Вера светлая, живая
Вам от Господа дана,
В Небо, где страна родная,
Твердо выведет она.
Пусть сонм Ангелов Господних
Охраняет вас всегда,
Пусть до сердца не коснется
Злое горе и беда.
Торжествующая Церковь
С нами в Пасхи светлый день,
И ликует с вместе с нами
Славный святче Ермоген.
Монахиня Исидора (Носова). Об отце Ермогене[3]
Часто я вспоминаю об отце Ермогене и о том, как он в мои молодые годы в Пюхтицах помогал преодолевать трудности монастырской жизни. Но помогал не поблажками, а прозорливыми советами. Расскажу о нескольких случаях.
Однажды батюшка сказал мне: «Читай историческую литературу, опыта наберешься. Это лучше, чем якобы духовная литература, из которой можно нахватать всяких ересей. Пойдешь к Чаше, и все эти еретические мысли начнут в голове крутиться…»
А у нас в то время в монастыре появились послушницы школьного возраста, нужно было для них книги брать в местной библиотеке. Я взяла книгу о Викторе Кингисеппе, в честь которого назван город неподалеку от Пюхтиц. И прочла в этой книге об одном эпизоде из его жизни, когда его арестовали, не имея улик, и оставили одного в комнате на первом этаже с открытым окном, а в столе, ящик которого он открыл, был пистолет. Все располагало к побегу. Но он понял, что что-то тут не так, и не тронулся с места. Это была провокация. Следователь, явившись через десять минут, сказал: «Ты что, трус?» — «Нет, я прозорливец», — пошутил Виктор.
И вскоре в моей жизни сложилась такая ситуация, когда испытывалась моя честность. Когда все миновало, отец Ермоген спросил меня: «Как ты все это выдержала?» — «Так вы же благословили меня читать историческую литературу».
Бывало и такое, когда мне было особенно тяжело — нужно было выполнять одновременно несколько физически выматывающих послушаний, отец Ермоген вдруг неожиданно появлялся на скотном и говорил: «Ничего, выдержишь». И молился, конечно.
Еще расскажу о том, как он помог определиться одному человеку. Теперь это отец Филарет в Троице-Сергиевой Лавре, а тогда он работал в угрозыске и был некрещеным. Но случилась беда: у него погибли старшие товарищи. Причем один из них поехал на задание, добровольно заменив его. От этого потрясения он не мог никак излечиться, только в монастыре становилось полегче. Я с ним как-то разговорилась и, узнав, что он некрещеный, сказала, что ему нужно креститься. А он говорит: «Мне сначала во всем разобраться нужно. Начитаться как следует нужной литературы». Вижу, что мне его не убедить, и говорю: «Пойдем к батюшке, к отцу Ермогену». Пришли, и батюшка ему только одну фразу сказал: «Крестись быстрее. Вот ты читаешь, а благодати-то у тебя нет. Что ты там можешь понимать? » Вскоре он крестился. А отец Ермоген прозрел его монашеский путь и послал в Печоры к старцу Иоанну (Крестьянкину), духовным чадом и пострижеником (отец Иоанн специально приезжал в Пюхтицы постригать в монашество тогда белого священника отца Александра) которого он был.
Старец Иоанн, завидев будущего отца Филарета, сразу сказал: «Ты — наш». И отец Ермоген после этого написал характеристику в Духовную семинарию, пометив: «Как сказал архимандрит Иоанн, сей раб Божий с монашеским уклоном». Мы потом на вооружение взяли это выражение — «с монашеским уклоном».
Отец Ермоген очень любил блаженных. Например, он говорил о блаженном Мише, который иногда жил у нас на скотном: «Сестры, вы внимательно относитесь к тому, что говорит и делает Миша. Если он ругается, значит, кого-то из вас ругают или будут ругать, будьте готовы. Если он, например, падает на землю — это значит, что кто-то пал духовно, и он на это указывает».
Так же и к блаженной Лиде он относился, старался ей дать денежку, потому что знал, что она странствует. А однажды мы с ним шли от почты к монастырю, а навстречу нам блаженная Лидия, и лицо у нее все в синяках. И батюшка сказал: «Вот она показывает — у меня душа так же избита, вся в синяках, как ее лицо…»
Вообще вся семья Муртазовых необыкновенная — ведь все монахами стали. И мама их, и сестра, и брат отец Никон, которого все в монастыре очень любили. Он хоть и инвалид с детства, но всегда был таким тружеником. И иконы писал, и реставрировал, и на клиросе пел, и дух нам всем поднимал своими шутками. Мы называли его «брат Борис» (тогда он еще не был в постриге) и сейчас вспоминаем добрым словом и на молитве.
Отдельно скажу о блаженном Михаиле, который иногда в монастыре появлялся. О его прошлой жизни мы ничего не знали, знали только, что родом он из Чебоксар. А однажды он сказал, что был сиротой и сидел за печкой, и Божья Матерь к нему приходила. Догадывались мы, что был он образованным человеком, потому что часто поражал своими знаниями из разных областей науки. Хотя и говорил гугниво, так что не все можно было понять.
Матушка игуменья не благословляла его оставлять в монастыре, говорила, что хотя ей и жалко бездомного Мишу, но ведет он себя так, что много смущения приносит. Но нам — сестрам, которые жили и трудились за оградой монастыря на скотном дворе, как говорила старшая мать Иона, «молитвы Миши были вместо монастырских стен и сторожевых собак». Да и очень жалко нам было Мишу, и мы его прятали в подполе. Там среди сложенных продуктов и вещей он и жил. Холода он не боялся, а паутины и духоты тем более. Сюда приходил исповедовать и причащать Мишу духовник монастыря отец Ермоген. Батюшка спускался к нему прямо в подвал и выходил со словами: «Это не я его исповедовал, это он меня исповедовал. Ему все открыто».
Отец Ермоген очень почитал Мишу. Мы были свидетелями того, как по его благословению получил помощь от блаженного Михаила известный наш композитор Арво Пярт — в крещении Арефа.
У него очень болел сын, и отец Ермоген, духовник Арефы, сказал: «Иди на скотный к Мише, попроси, чтобы он помолился». И вот однажды мы видим, что к нам по дороге идет господин в белом костюме, с шарфом на шее. Подошел к скотному и спрашивает: «Здесь Миша?» Мы ему показали, где тот скрывался, открыли дверцу в подвал, а Миша как начал оттуда кричать: «Это кто пришел? Изменник Родины!» (потом мы только поняли, что Пярта так в советское время стали называть, когда он уехал за границу). И еще как-то его ругал. Постоял-постоял Арефа, послушал все это и ушел. А вскоре уехал из монастыря домой в Таллин.
И тут наш Миша вдруг стал в дорогу собираться. Сел на автобус и поехал в Таллин. И там, в большом городе, сам нашел, где живет семья Пярта. Как он так мог? Только откровением Божиим. Пришел в квартиру, позвонил, когда открыли, сразу прошел к постели больного сына Арефы, перекрестил его, помолился, сказал: «Ты поправишься. Только потом купите много детских вещей и отдайте многодетной семье в Пюхтицах». И с этими словами ушел. Мальчик поправился, Арефа накупил много детских вещей и привез к нам на скотный, мы их спрятали — кому отдавать не знаем.
А потом мы узнали, что недалеко в поселке живет многодетная семья. Мы все им и отдали, и оказалось, что Миша уже однажды этой семье помог. Жили они бедно, да еще и зарплату задерживали часто. И вот случилось так, что осталось у них только три литра простокваши и немного картошки. А на работе сказали, что зарплату опять задерживают. И вот появляется Миша: «Хозяйка, дай три литра простокиши». Сначала она расстроилась, детям хотела испечь что-то. А потом дала ему эти три литра простокваши. Он взял, на стол деньги бросил и побежал. И этих денег ей хватило до следующей зарплаты.
Миша часто и нас о чем-то предупреждал. Однажды он стал страшно ругаться на наших сестер на скотном дворе. Они даже рассердились: «Как это так! Ты в монастыре — и так ругаешься!» Прошло какое-то время, и появился на скотном лесничий и стал ругаться точно такими же словами, как и Миша. Но они не испугались и выгнали его.
Ко мне Миша хорошо относился, не ругал. Но однажды вдруг стал ругаться на меня. И вскоре появились «ветеринары», что котов отлавливают. Засунули наших котов в мешок, а я его потихоньку развязала, и они все разбежались, а потом на меня ругались теми же словами, что и Миша. Я это сразу вспомнила.
Когда Миша в последний раз уезжал из Пюхтиц, он все время повторял: «Слышишь, как Божья Матерь на источнике плачет?» И вскоре он принял мучительную кончину. Миша приехал в Псково-Печерский монастырь и забрался там в какой-то шкаф. А монахи или трудники (потом их из монастыря выгнали) сбросили этот шкаф с горы в овраг. Миша весь был переломан и вскоре скончался. Его безымянная могила находится в Печорах.
Одновременно с Мишей в монастыре появлялась блаженная Лида. Она всегда ходила с большими сумками, набитыми книгами. Светлая такая была, с большой русской косой. В холода ходила совсем раздетая. Ее почитал и любил Святейший Патриарх Алексий, когда он еще был митрополитом Таллинским. Он благословлял ее привечать, кормить, а она в трапезную заходить не хотела, так он говорил: «Ну, вы ей маленький столик в прихожей поставьте, пусть она хоть здесь поест». Когда видел ее в синяках, жалел, говорил: «Это моя душа такая избитая». Потом он помог ее в дом престарелых пристроить… Боялся, что она в своих странствиях где-нибудь замерзнет.
Вообще мы счастливые — каких людей мы знали! Настоящих подвижников.
Отец Ермоген постоянно общался с военными, он крестил офицеров пограничных и железнодорожных войск, которые часто приезжали к нему с семьями. Потом армия стала помогать нам на покосах, у монастыря тогда техники не было, вручную трудно было сестрам справиться со всем объемом работ. И на картошке помогали солдаты.
Некоторых офицеров батюшка венчал вне монастыря (так как в монастыре не венчают), специально ездил в Йыхве. В связи с этим я помню случай прозорливости батюшки: он венчал одного офицера и сказал: «Но не думаю, что все у тебя будет хорошо». И скоро жена по пустой ревности нанесла ему раны, истыкала руки острой вилкой, он прибежал к отцу Ермогену, его сестра была медсестрой, обработала ему раны. Вскоре он с женой разошелся — батюшка все видел заранее.
Еще случай прозорливости. Пришла к батюшке девушка 28-летняя, жалуется, что молится о том, чтобы Господь послал ей мужа, а толку нет. Отец Ермоген говорит ей: «Ты иди на источник, помолись. Кто тебе икону подарит, тот и есть твой жених. Она пошла на источник, и вскоре пришел молодой человек и икону ей подарил. Потом они поженились, он стал батюшкой, а она — матушка, и деток им Господь послал.
Батюшка много крестил военных и после распада Советского Союза. Когда через Эстонию двигались части из ГДР, многие останавливались в монастыре, и отец Ермоген и отец Сергий (Иконников), ныне митрополит Барнаульский, крестили офицеров и их жен, а также солдат. Отец Ермоген составил специальный катехизис для армии и раздавал его.
После передачи границы от русских пограничников к эстонским по благословению батюшки в Пюхтицах служили особый молебен перед чудотворным образом Успения Божией Матери, и отец Ермоген окропил всех военных святой водой. И до сих пор у нас все мирно, что бы ни говорили и ни писали вокруг.
К отцу Ермогену вообще большие люди за советом ездили. Например, он рассказал мне историю, связанную с Юрием Владимировичем Андроповым. У него жена была верующая, через нее многие ходатайствовали об открытии храмов, и первые монастыри именно при Андропове стали открывать. А потом мне пришлось вести экскурсию по монастырю сыну Юрия Владимировича, который был послом в Греции. И в это время пришло известие, что эстонцы сносят памятник на могиле советского летчика неподалеку от монастыря, и тогда сын Андропова (имя не помню) сказал: «Поставьте крест. Против креста не пойдут». И тут я вспомнила, что отец Ермоген мне недавно рассказывал о его отце, как будто знал, какая мне предстоит встреча, и я ему говорю: «Я знаю, что ваш отец помогал». И он тогда прослезился и сказал: «Благодарю за добрую память об отце. Я приехал сюда, чтобы подать за него на вечное поминание в монастыре».
Еще расскажу об одном страшном искушении, которое пережил батюшка Ермоген в Пюхтицах. У нас появился шофер Сергей Яковлевич. И вот однажды, — что ему в голову стукнуло, не знаю (он вообще был нервный и глухой, потому что время войны на «Катюшах» служил), — он пришел на исповедь к отцу Ермогену и вдруг стал орать на него на весь храм. По ходу службы батюшке нужно было уже уходить в алтарь, он взял крест и Евангелие и ушел в алтарь, а тот стал еще больше орать: «Вот, он меня испугался!» И когда отец Ермоген вышел с Чашей, то он, сжав кулаки, бросился на него, но сестры повисли у него на руках со всех сторон, не пустили. Потом приехала милиция и стали разбираться (хотя батюшка был против), отправили в психбольницу, признали вменяемым, но потом выпустили его и он вернулся. Батюшки Ермогена уже в монастыре не было, он был на Псковщине, но я знаю, что этому Сергею Яковлевичу он присылал копеечку, чтобы его поддержать. Но потом я поняла, что этот Сергей Яковлевич был непростой человек. У меня был такой случай: приехал в нам семинарист на каникулы и нужно было ему возвращаться, а денег нет. Нам тогда выдавали на праздник по 25 крон, и мне мать Гликерия, с которой мы жили, говорит: «Иди в магазин, купи масло». И дала денег. И я решила: «Все ему отдам, а масло на кухне попрошу». Иду, планы строю, а на дороге стоит Сергей Яковлевич и кричит мне: «Иди сюда, я тебя чем-то угощу». Я говорю: «Ничего мне не нужно». — «Я тебе что сказал, иди сюда!» Подбежал и сует мне деньги, и именно ту сумму, которую я от матери Гликерии хотела утаить. Я опять отказываюсь, а он говорит: «Если ты сейчас не возьмешь, видишь магазин открытый, я пойду сейчас и напьюсь. А ты лучше масла купи».
И после того как отец Ермоген уже уехал из Эстонии, он один раз приезжал проведывать монастырь, нашел Сергея Яковлевича, который в это время уже жил в Йыхве, и примирился с ним. И на следующий день Сергей Яковлевич умер, как будто ждал батюшку. Хотя они и так уже примирились в письмах, но важно было лично встретиться. Батюшка любил таких особых людей, да и всех любил, как и наша матушка Варвара. Они всех эстонцев знали, которые вокруг монастыря на хуторах жили, старались со всеми дружить. Матушка, например, в праздники собирала подарочки и посылала меня как посыльную с подарочками по хуторам. Отец Ермоген смеялся: «Ну, ты своему имени соответствуешь, бегаешь везде».
Молитвами отца Ермогена исцелилась от рака эстонка Вивея, она приняла крещение и соборовалась. Батюшка умел просто говорить с людьми, и матушка Варвара, например, если едет в больницу в Таллин, обязательно возьмет кого-то из местных, кто болеет.
Как мы вспоминаем эти времена… Мы жили тогда по шесть человек в келье, а не по одному (как сейчас), из одной чашки ели, очень много работали и как-то всем были довольны. Монастырь для нас был всегда родным домом, семьей, где мать Варвара всем была матерью, а батюшка Ермоген — отцом.
Помню, как однажды я намученная (всю ночь была на послушании с собаками на страже, и днем еще были послушания) села на стул и заснула, и вдруг почувствовала, что кто-то у меня за спиной стоит. Проснулась, открыла глаза, а надо мной стоит батюшка Ермоген и плачет. Потом он взял меня с собой в Печоры к старцу Иоанну (Крестьянкину) и просил его: «Батюшка, может быть, можно ей переменить послушание? 14 лет она уже ночами не спит». А старец ответил: «Деточка, да даже и птички все по ночам засыпают и цветочки засыпают, а ты живешь как бы против естества, и организм разрушается. Но понимаешь, в чем дело: ты охраняешь обитель, я окормляю монастырь, и так мы вместе помогаем Патриарху держать Православие». Но потом меня по молитвам отца Ермогена от этого послушания освободили, и вот уже много лет я ухаживаю за нашим кладбищем. А еще при той встрече со старцем Иоанном (Крестьянкиным) я была свидетельницей того, что он дал благословение монахам: «Когда меня не станет, обращайтесь за советом к отцу Ермогену. Он — мой постриженик и мой духовный сын». И всегда потом, когда к нам в Пюхтицы кто-то приезжал с вопросами, я всех отправляла к отцу Ермогену, и он помогал.
Жалею иногда, что отец Ермоген уехал, но одна монахиня сказала после батюшкиного преставления: «Если бы он не переехал на Псковщину, то не попал бы в пещеры к святым».
А еще я часто вспоминаю, как я иду по монастырю, а батюшка издалека мне кричит: «Блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное… Блаженны плачущие, яко тии утешатся». Так укреплял меня батюшка.
Василий Петрович Чугрий. Мой духовный отец[4]
Благодарю Господа, благодарю Матерь Божию за то, что даровали мне такого замечательного духовного отца — архимандрита Ермогена (Муртазова), в схиме Тихона.
В 1981 году я, грешный, встретился в Пюхтицах с батюшкой. В это время я по службе был переведен в пограничную воинскую часть в Эстонию, она находилась в 20 километрах от монастыря. Встреча с монастырем всего меня перевернула. Мне было тогда 29 лет, я был крещеный, но в церковь не ходил, не исповедовался, не причащался. А отец Ермоген, как будто рентген, просвечивал тебя насквозь. После того как он своими особыми пронзительными глазами посмотрел на меня, я уже не мог жить без него, без Пюхтиц. Уже через три дня после первой встречи я купил цветы к иконе Божией Матери и поехал в Пюхтицы. Матушка игумения Варвара, как и в первый раз, очень радушно меня приняла. А отец Ермоген мне сказал: «Надо окунуться в источнике. И еще на службу приехать». И это было не приказом, а благодатным приглашением. Хотя была холодная зима, я послушался, пошел на источник, окунулся и потом стал постоянно ездить в монастырь. И там я еще встречался с матушкой Людмилой, теперешней настоятельницей монастыря св. прав. Иоанна Кронштадтского на Карповке, с инокиней Лидией (матушкой Исидорой теперешней). Благодарю их за их доброту ко мне, грешному.
Потом я стал возить солдат и семьи военнослужащих в монастырь, и многие из них крестились. Потом я возил их на исповедь и причастие. Кроме отца Ермогена военных окормляли отец Димитрий (который продолжает служить в Пюхтицах) и отец Сергий (нынешний митрополит Барнаульский), но отец Ермоген в первую очередь.
Батюшка много предсказывал. Он освящал мою заставу дважды и при этом говорил: «Это здание разберут и это разберут». А я на заставе занимался стройкой, для улучшения быта пограничников мы старались построить что-то новое. Но батюшка сам захотел второй раз освятить заставу после новой стройки в конце 1980-х годов и тогда сказал слова о том, что эти здания долго не простоят. И еще благословлял при стройке класть в фундамент псалом «Живый в помощи Вышнего». И еще сказал: «А забор останется». Когда мы ушли с заставы в 1992 году, эстонцы все здания снесли, остался только забор.
В 1985 году в Пюхтицы приезжал старец Николай Гурьянов. Меня пригласила матушка игумения Варвара. Старец меня спросил: «Как вы тут поживаете?» Я сказал: «Хорошо, после Киргизии, где раньше служил, тут так хорошо. Три годика я потрудился, часть привел в порядок, депутатом меня выбрали, жена работает в профилактории, дети в школу ходят. Я бы хотел тут навсегда остаться жить». А старец и говорит: «Нет, в 1992 году, во второй половине года, ты отсюда уедешь». А я, грешный, даже обиделся: как такое может быть? Я тут так потрудился! Но потом отец Ермоген подтвердил слова старца, и сам он, когда я его спрашивал и даже когда не спрашивал, говорил: «Да, ты покинешь Эстонию в начале 1990-х годов».
Батюшка освящал и здание профилактория, где моя жена была зам. главного врача. Освящали тайно, ночью. Очень многое связывало нашу семью с 1981 года и до последних его дней с батюшкой. Молитвы отца Ермогена спасали от многих неприятностей и даже от смерти. Когда у меня случилось обострение аппендицита, оказалось, что операцию мне делал пьяный хирург, чудо, что все прошло благополучно. Батюшка Ермоген даже послал в больницу двух послушниц, чтобы они рядом со мной помолились, и все было хорошо. Такая отеческая забота!
Еще об одном предсказании я помню — в 1984 году батюшка венчал нас с женой, в это время приехал мой брат с женой и их он венчал. Венчались на кладбище в Никольском храме. Матушка Варвара после венчания пригласила нас к себе на чай, пришел отец Ермоген и вдруг говорит мне: «Вася, а ведь твой брат долго не проживет». Я испугался: «Как так, он же молодой, на восемь лет младше меня?» — «Да нет, он с женой долго не проживет. Разойдутся они». И действительно, через несколько лет они разошлись. Так и с моей дочкой случилось. Она собиралась замуж за военного. Батюшка посмотрел на всех нас и говорит: «Вижу, что вы все хотите этого брака, но они долго не проживут». И правда, родился ребенок, и они через пять лет разошлись.
Батюшка определил дальнейшую мою судьбу после отделения Эстонии от России. Когда нашу часть переводили, мне предложили три должности, и все очень хорошие. В том числе и Украину. Сам я с Украины, и это, казалось, было бы неплохо. Я приехал к батюшке с вопросом, что мне выбрать. Он сказал: «Три дня держи пост и молись (сказал, какие молитвы читать). Через три дня приезжай, причастись, вместе помолимся, и Господь откроет». Через три дня, после литургии и причастия, он повел меня в Никольский храм на кладбище, завел в алтарь и вынес Евангелие. В книге лежали четыре записки, я вытаскиваю записку, и на ней написано: «Куда Господв пошлет». На трех остальных записках были написаны те три места, которые мне предлагали. И батюшка сказал: «Ну вот, жди, куда Господь пошлет». И вскоре нашу часть перевели в Псковскую область, в Самолву — на родину старца Николая Гурьянова. А вскоре и батюшка Ермоген переехал на Псковщину. Более того, когда мы переезжали, я полностью одну машину военную загрузил вещами отца Ермогена, и они у меня в части какое-то время стояли, а потом я их перевозил в Печоры, где батюшка сначала служил в храме св. Варвары и жил в своем домике. Потом архимандрита Ермогена перевели в псковский Снетогорский монастырь, и так мы оказались с ним рядом.
Когда я в первый раз приехал к батюшке на исповедь, он меня спросил: «Ты не жалеешь? » А надо сказать, что мы приехали в очень трудные условия, пришлось заставу приводить в порядок. Но я ответил: «Нет, батюшка, не жалею, на все воля Божия».
Вспомню об одном чуде Божием (я это воспринимаю как чудо и милость ко мне, грешному), которое произошло после того, как я сдал часть эстонским властям. Когда комиссия из Таллина все у меня приняла, они захотели в бане помыться, а мне так не хотелось с ними идти в баню, и так на душе было тяжело, и я вдруг говорю им: «А я вам еще один объект не показал». — «А где это?» — «Тут недалеко, Пюхтицы». Мы приехали, я их сначала повел на источник, а был уже ноябрь месяц, снежок уже выпал, вечер, смеркалось. Я говорю: «Делай как я», окунулся в источник, и они вслед за мной. А среди них были начальник департамента охраны границы из Таллина. И вот подъехали мы к монастырю, а там отца Ермогена провожают в Россию. Икона Успения Божией Матери была открыта (стекло киота открыто), я приложился к иконе, кто-то из эстонцев тоже приложился. Батюшка меня благословил в дорогу, и на душе стало так мирно, хорошо. Так я покидал Эстонию с благословением Божией Матери и отца духовного.
Но главное — потом, когда я через пять лет приехал в Пюхтицы, матушка игумения Варвара мне сказала: «А ведь они и потом не раз к нам приезжали. У нас очень хорошие отношения установились с эстонскими пограничниками». Такая промыслительная была поездка по молитвам отца Ермогена.
С архимандритом Ермогеном мы вместе съездили в Пюхтицу через пять лет после его отъезда из монастыря. Батюшка поехал именно на Прощеное воскресенье, чтобы попросить прощения у матушки Варвары (она переживала из-за его отъезда) и у всех сестер. Надо сказать, что матушка Варвара принимала моего духовного отца, как архиерея — с такими почестями и с такой любовью. Все пять лет батюшка молился, и по его молитвам произошло полное примирение со всеми. Матушка Варвара потом ко мне два раза приезжала в Самолву.
К отцу Ермогену, — я свидетель, — в непростое время конца 1980-х — начала 1990-х годов приезжали за советом многие «власть имущие» люди из Москвы, из Петербурга, ну и из Таллина, конечно. Это были и военные из Министерства обороны, и депутаты, руководители разного ранга. Многие из них были верующими, исповедовались и причащались у батюшки. Иногда, чтобы не афишировать цель своей поездки в Эстонию, они как будто по делам службы приезжали к нам в воинскую часть, я их отвозил в Пюхтицы и потом на военной машине забирал их и привозил к поезду. Различные патриотические организации окормлялись у отца Ермогена, и за всех он молился, не только за отдельных людей, но и за всю Россию и за весь мир. Все, кто с ним встречался, не могли забыть первого впечатления от встречи с Божьим, светлым-светлым человеком.
Расскажу еще об одном случае преображения человека от встречи с батюшкой Ермогеном. К нам в воинскую часть приехала комиссия из Москвы, мне позвонил начальник части и говорит: «Свози их в монастырь, нужно переключиться. Пусть они у тебя сутки проведут». Я повез их в монастырь. И руководитель этой комиссии после экскурсии по монастырю попросил о принятии крещения. В это время только что построили на «горке» крестильный храм св. Иоанна Крестителя. Отец Ермоген его крестил. Он думал, что эта командировка его последняя, он собирался уходить в запас, но после этого прослужил еще пять лет и получил звание генерала. И потом к отцу Ермогену он ездил еще не один раз.
Но надо сказать, что высокопоставленные люди приезжали к архимандриту Ермогену и на Псковщину, в Снетогорский монастырь, и они помогли восстановить монастырь, который, до того как батюшка там появился, был в плачевном состоянии. С матушкой игуменией Людмилой они были единодушными. На Псковщине батюшка был духовником трех монастырей: кроме Снетогорского, он окормлял сестер Елеазаровского и Творожковского монастырей. А меня тоже благословил помогать, работать в этих монастырях (и отказаться от выгодных денежных должностей).
Запомнилась встреча отца Ермогена с членом нашего правительства Ольгой Голодец. Меня попросили ее сопровождать. Батюшка в это время плохо себя чувствовал, я приехал к нему и говорю: «Батюшка, через два часа едет такая-то и такая-то, надо бы ее принять». Батюшка помолился. Надо сказать, что он всегда молился, прежде чем кого-то принять. И потом говорит: «Хорошо. Когда они приедут?» — «Через два часа». — «Лучше через три». Я позвонил тем, кто организовывал поездку, и они тоже сказали, что через три часа даже лучше. Батюшка их встретил, поговорил, проводил до ворот. И, прощаясь, раба Божия Ольга говорит мне: «Я такого человека никогда в жизни не видела! Это же не глаза, это рентген какой-то, он все видит насквозь!» У меня даже слезы на глазах появились: «Вы многого еще не знаете». И сейчас я многого еще не рассказал, вспомнил только то, что по горячим следам вспомнилось.
Я навсегда запомню батюшкин прощальный взгляд. Мы приехали в день Ангела, 25 мая, в Снетогорский монастырь его поздравить. Было много людей, он, конечно, очень устал. Я провожал его до входа в его келейный корпус. Я оглянулся и увидел, что он стоит в дверях и так смотрит на меня, как будто прощается. И через час, когда мы были в пути, нам уже позвонили и сказали, что батюшку увезли в больницу…
Вечная память архимандриту Ермогену, в схиме Тихону. Он был наш Ангел, его молитва уходила напрямую к Престолу Божиему. И он молился за всю нашу страну. Верим, что он не оставит нас своей молитвой и в нынешние непростые времена.
Часть II. Архимандрит Ермоген (Муртазов).
Поучения
«Ваши пути и Мои пути что небо и земля отстоят»[5]
Отец Ермоген, вы на протяжении многих лет окормляете православных. Со временем народ меняется. Какие были в 70-е годы люди, какие сейчас? Разница есть?
Грехи от первого человека до последнего — одни и те же. Только степень их поражаемое™ может быть другая. Вот период до Ноя: там люди пили, ели, женились, выходили замуж до того времени, когда Ной пошел в ковчег и все закрылось водой. Потому уничтожено было человечество, что «не может пребывать Дух Мой в человецех сих, зане превратились в плоть и кровь».
Что значит «в плоть и кровь»? Если проанализировать историю священную, у Адама были сыновья Каин, Авель и Сиф. Авель был убит. Сифиты назывались сыновьями Божиими, приносили жертвоприношения, жили более-менее по-Божьи, археологи обнаружили остатки центрических построек — храмов. А каиниты жили по-человечески: развивали науку, строили города. И когда их границы сблизились, они стали соблазняться, и сыны человеческие устраивали браки с сыновьями Божьими. Вследствие смешанных браков стали рождаться исполины, сильные люди, которые могли одним кулаком убивать человека. Святитель Димитрий Ростовский говорит, что это для смирения сифитов — не надо было им эти браки устраивать. Но грех за все годы перебил закваску, и превратились люди в плоть и кровь, что и произошло при Ное. Он один чистым остался.
И сейчас мы такое время наблюдаем. Пока была у России своя граница с Западом, мы себя соблюдали. И нечестие на нас не давило. Была стена медная, которая пала, все границы рушатся, и будет то, что при Ное. И Господь в Евангелии говорит, что и в последнее время люди будут жить, как при Ное: ели-пили, женились, выходили замуж, пока бедствие (потоп) не постигло. Поскольку грех глубоко поражает людей, вследствие греха и средняя проживаемость людей ниже, вроде, 60 лет или сколько-то. И хотя благодать Божия та же, что и в апостольские времена, Церковь-то и сейчас Христова, но грех так распространился, что отдаляет человека от Бога. И сложно возвращаться к Богу, даже и верующим через путь покаяния. Потому и школа оптинских старцев возникла, различающая, систематизирующая грех. Раньше люди жили простой верой, они были простодушны, как пастушки, которые услышали песнь Ангелов о рождении Спасителя и пошли, и достигли Вифлеема, и принесли благую весть миру. А мудрецы, которых вышло десять человек по звездам, из них только трое достигли цели. Это говорит о преломлении умозаключений. Простота ведет к Богу, а умствование удаляет от Бога. Отсюда и иконопись-то стала непонятной, как аскетический образ, одухотворенный вне нашего сознания. Но человек желает приблизиться к Богу, и живопись приемлемую начали, и Бог таким стал, как представляют Его люди, например, эпохи Возрождения.
Потому и у нас попущения были революционного лихолетья, что люди XX века охладели к вере. И свидетели рассказывали, как тогда в семинариях занимались политическими проблемами, в монастырях процветал блуд, пьянство. Все опустошилось и опустело, и грех стал преизобиловать, и надо это было как-то очистить Господу. Поэтому этот сортировщик Володя, Владимир Ильич, и был послан. И если бы не было этой сортировки, мы бы не сохранились в той вере. Греховная волна захватывала и съедала все здоровое.
Но вся Россия тогда была православной, не было же неправославных?
Было такое греховное состояние людей. И Господь послал, прежде всего, отца Иоанна Кронштадтского, как пророка, и он везде ходил, проповедь вел перед всем народом, людей к покаянию призывал, чудеса творил, чтобы сохранить еще веру детскую. Но потом пришло советское время, и все очистилось кровью, и теперь остаток остался. Другая жизнь теперь, и очень интересная. И должен этот период какой-то очистительной Голгофой окончиться, не просто так все. Сейчас уже само по себе то, что мы видим, политическая форма жизни, какая есть — это не без Промысла Божьего. Церковь, слава Богу, у нас открыта, монастыри открыты, все действует. Но это еще не духовный расцвет, который пророчествовали наши святые отцы. Это пока период покаяния. Господь дал время, чтобы люди пришли в себя, покаялись. А потом уже будет очистительный период.
Он еще впереди. Тогда уже у тех, кто останется в живых, будет другая система управления. Россия — будет одно государство, русские будут жить в своих границах, а другие будут жить в той земле и том государстве, где они родились и которому принадлежат. И каждое государство будет отдельно идти своим путем. Это для того надо, чтобы, когда соберется ООН и все правители будут разбираться, почему такая анархия произошла, столько людей погибли, вспомнить всех правителей от Диоклетиана, Нерона до Сталина и фюрера. А что сделать, чтобы этого больше не было? А надо избрать нового правителя земли.
Да, вот тебе и глобализация, вот и антихрист появится. Сверхчеловек, о котором они говорят. В народе скажут: вот пришел Христос, Спаситель. А чего Спаситель? Справиться с анархией. Спаситель — спас от анархии, от мирового политического зла. Вот и пойдет: храм в Израиле восстановят, потом все Церкви объединят. Папа и так у католиков как видимый Бог на земле. Последний Папа и будет главой гражданской и церковной власти на земле. И сейчас все идет в этом направлении: соединиться со славянами, помириться. Анаши тоже посылают в Рим своих студентов, потом будут у нас преподавать по возвращении. Отец Иоанн Кронштадтский говорил: «Что такое католики? Это люди, которые исповедуют Истину во лжи». Господи, дай Бог всем спастись.
Священники сейчас много говорят о том, что мы живем в конечные времена, времена конца мира. Становится как-то не по себе, еще и тексты есть святоотеческие, где звучит такая мысль: хоть молись, хоть держи посты, причащайся, но если ты не смиряешь гордыни, тебе не спастись. Не увидеть Царства Небесного. Как же жить без надежды?
В отношении времен, какие они есть — времена все были спасительные. А спасение зависит индивидуально от каждого человека. Пока, на сегодняшний день, есть живые клетки и организм живет. Есть обрядоверие, есть церковность, а есть духовность. В чем они различаются? Церковность — соблюдать посты, делать поклоны, совершать молитвы утренние и вечерние, в церковь ходить. Но это не значит, что человек духовный. Духовность — это когда человек созидает дух внутрь себя. Стяжание Духа Святаго — это когда человек понимает, как правильно избавиться от того или иного греха. Помнит ветхозаветное требование, Моисеево — жизнь по заповедям: не убий, не укради… А евангельское требование — избавиться от корней греха. Если только воззрит на жену, то уже повинен греху. Надо корень греха искоренять. Каждая болезнь имеет свою причину. А причина всех болезней, и душевных, и телесных — грех. И всех страданий, внешних и внутренних. Нужно научиться внутреннему деланию, научиться, как правильно жить во Христе и со Христом. Вот Иоанн Кронштадтский вел дневник, наблюдал за собой, как каялся, как молился. Он не только в Церкви жил, церковной жизнью, но и жил духовной жизнью. Как ему совесть подсказывает. Но есть люди с потухшей совестью, с ложной совестью, сгоревшей совестью. А совесть есть наш внутренний Божий закон, который контролирует наши поступки, оправдывает их или осуждает. Надо этого закона придерживаться. Но око совести вследствие греха стало извращенным, затемненным, и Бог дал нам писаный Закон — Евангелие, евангельские заповеди. А первая заповедь Евангелия — «блаженны нищие духом».
Что значит — блаженны нищие духом? Святой Иоанн Златоуст говорит, что это смиренномудрие. Когда мы сравниваем свою жизнь с Евангелием, мы видим, как мы далеки от того идеала, который здесь начертан. И мы смиряемся, значит, мы нищие духом, чтобы исполнить этот идеал, у нас нет такого духа. И когда мы осознаем свою нищету греховную — это первая ступенечка. А потом начинаем каяться, исповедоваться, сокрушаться, и вследствие плача покаяния рождается кротость. Вот вам пример кротости. Одному послушнику старец сказал: «Иди, ругай покойника. Что он сказал?» — «Ничего. Молчит». — «Теперь иди и хвали. Что он сказал?» — «Ничего». — «И ты таким будь: молчи на хвалу и ругань». Этот дух кротости направлен против гнева. Далее человек жаждет, алчет правды, живет внутренне. А потом он становится милостив — «блаженны милостивые». Потом очищает сердце, умиротворяется и не живет как все. Как говорит Господь, «раб не больше господина своего, Меня гнали, будут и вас гнать». И начинают человека выживать из мира, потому что он не живет как все. И если претерпит все до конца — спасен будет. Вот он, путь спасения, который начинается со смирения, с осознания своего греха, с раскаяния. Самому человеку это не преодолеть, поэтому Господь говорит: «Без Меня не можете творить ничесоже». Требуется благодатная сила, помощь Божия. Апостол Павел и говорит: «Сила моя в немощи совершается». Вот таков путь христианина: и мы идем, и святые шли. А искра преображения Божественного Света должна всегда теплиться в нашем сердце и указывать нам путь к вечной жизни. Господи, благослови нас.
Батюшка, мирянину спастись никакой надежды нету, в таком случае.
Святитель Игнатий (Брянчининов) это объясняет, напоминая евангельский эпизод о богатом юноше, который спрашивает Господа, как можно спастись. «Заповеди соблюдай». — «Это я еще с начала юности соблюл. А что еще?» — «Иди, продай свое имение, раздай нищим, возьми крест и следуй за Мной». Этого юноша не смог сделать и ушел опечаленный. Это была его болезнь, его рок, сучок в нем. Он ушел унылый. Кто же тогда может спастись, спросил апостол Петр, если такой юноша не смог. И Господь сказал: что невозможно человекам — возможно Богу. У каждого есть такой сучок, такой рок, с которым он не может расстаться, любит его и ему служит. У кого водка, у кого власть… Это нам затворяет богообщение, и самим нам от такого греха не очиститься, а только с Божией помощью. Господь говорит, что все возможно Богу, если человек будет просить и каяться. Разными путями спасаются: у кого болезни, у кого как, но нужно сказать, что избранники Божии заканчивают сейчас мученической кончиной. Особенно после 1980 года, после нашей Олимпиады, когда нам принесли языческий огонь в Россию и поклонялись языческому огню. За это Господь России послал мученические кончины верующим. Не отсекание головы, как в первые времена, а болезни, раковые, сердечные и другие. Очистительные, если человек их претерпевает. Пример один приведу: умирает грешник спокойно и мирно, и умирает человек праведной жизни, мучается и томится. Ну как же, вроде жил праведно? Отцы святые говорят, что тот, кто жил беззаконно, но мирную кончину получил — от какой-то добродетели, которая была в его жизни. Бог ему ее послал. А тот, который жил по заповедям — чтобы его окончательно очистить, Бог послал ему болезнь, чтобы он претерпел до конца. Он окончательно очистился и чистым уходит к Богу. Так что суд человеческий и Суд Божий — разные вещи. В паремии священник произносит: «Ваши пути и Мои пути что небо и земля отстоят».
Думается, что, когда человек много молится и делает столько добра людям, как вы, отец Ермоген, он не должен вообще болеть.
И за свои грехи, конечно, мне болезни. Но вот приходит к нам человек, я его исповедую, смотрю, а у него на глазах сетка, он весь покрыт этой сеткой. А пока исповедуешь, эта сеточка с него сходит, а следы остаются на тебе. Не просто так побеседовать. Или письмо пишут. Недавно женщина принесла мне две общих тетради… И все эти немощи, о которых пишут, говорят, мы все на себе несем, они никуда не деваются, не в воздух уходят. Если человек благодатный, старец — и ему написали свои духовные проблемы, и с нас как с гуся вода — все сходит, потому что в нас есть Дух Божий и не Божий. Священнический и такой. Тот благодатный дух старца, священника нас дополняет, мы соединяемся — получается открытое духовное пространство в общении с Богом. Распечатаешь письмецо, и пока не прочитаешь молитву разрешительную — все на тебе будет висеть, все эти грехи, а как прочитаешь молитву — всё. И тебе легко, и тому легко. Вот такой наш пастырский крест.
Ведь и Спаситель падал не от тяжести дубового креста, который нес, а падал от грехов мира. Еще св. Макарию Великому явился диавол и говорит, что христиан так много размножилось, и они как огнь палящий, даже ему нет места в пустыне. А когда уже Кириллу Белозерскому явился, то сказал, что никаких христиан не осталось, «и тебя скоро уберу отсюда». Когда люди живут по-настоящему жизнью во Христе, являются носителями благодати Божией — огненной этой ауры, то они все освещают вокруг себя, и даже поля, дома, все внутри. Была ангелоподобная жизнь, особенно в России. Это и есть Царство Божие, пришедшее в силе, и благодать Божия, которая все освящала. А когда это все вдруг исчезло, началась греховная жизнь. И пели мы ему гимн: «Вставай, проклятьем заклейменный», и с ним соединились, и стала греховная жизнь развиваться сама по себе. И так она и процветает. И когда люди пишут большие исповеди — освобождаются. Так вот, Спаситель нес земные грехи мира. Никто не мог их поднять, ни Ангелы, ни Архангелы, никто, кроме Него.
Он падал от этой тьмы греха. Она нам мешала общению с Богом. Но когда Господь рассек эту стену греха, мы через Него имеем доступ к Отцу Небесному и через Него спасемся. Но если жить только по Закону, как пишет апостол Павел, никогда не спасешься. Потому что если нарушишь одну заповедь, то тебе вменяется нарушение всех заповедей.
А чем же спасаемся, если не спасешься исполнением Закона?
Верой и благодатью Божией. Его любовью. Закон был дан через Моисея как детоводителя. А благодать дана через Иисуса Христа. Поэтому мы должны только поверить, покаяться, и благодать дастся нам по нашей вере и очистит грех, который мы делаем. Он наш ходатай перед Отцом Небесным. И тогда будет Второе Пришествие, и все воскреснут, и все будут как Ангелы, и «предаст Царство Бога Отцу» — и Бог будет во всех.
Тогда будет вся полнота, и та часть духовного мира, которая была человеческой, о чем выговорили вначале, станет ангельской, духовной?
А этот мир, который мы сейчас видим, будет предан огню и сгорит. Ездра пишет: «Мир стареет — зло увеличивается». Но как пожелание скажу прп. Амвросия Оптинского слова: «Всех люби, от всех беги, никого не осуждай и никого не укоряй, и всем мое почтение».
«Бог спасать без нашего желания не будет»[6]
Отец Ермоген, святитель Игнатий (Брянчанинов) в своих письмах писал, что чем благолепнее, благоустроеннее монастырь, тем духа в нем меньше… Второе, батюшка, он писал, что «монашество и христианство доживают в России свой срок», а писал он это где-то сто пятьдесят лет назад. Есть ли в этом какая-то истина?
Мой духовный отец, батюшка Сампсон, говорил, что такие святители, как Феофан Затворник — это делатели духа, которые учили, как надо искоренять очищением грех изнутри — в нашем сердце. Святитель Феофан более церковен, систематизировал учения Церкви и преподнес нам в понятной форме. Но уже в то время «оскуде преподобныя».
А что ж сейчас говорить о монашестве?
Все в Божиих руках. По-моему, у Макария Великого был момент — ему было видение. Говорит: «Что сделали мы?» Они сказали: «Мы исполнили Закон». — «А что сделают после нас?» — «Они исполнят половину Закона». — «А что сделают еще после нас?» — «А они ничего не будут делать. Будут только спасаться скорбями и болезнями». Дано было: у первых монахов были крылья орлиные. И когда надо было через море лететь — он взмахнул, поднялся и постепенно летел, не шелохнувшись, и приземлился. А у второго периода монахов будут гусиные крылья: как гусь поднялся, полетел, отдохнул, полетел. А у третьего периода — петушиные. Кудахчет и поднимается над водой, садится, кудахчет, поднимается над водой, садится, кудахчет… Помню, у нас было такое чудо в Печерском монастыре, когда отец Гавриил управлял — звали наместника Иваном Грозным. И был такой момент: со скотного двора перелетел петух и летел по всей площади, мимо храмов, сел к нему на подоконник, а окна были открыты, лето. И он дал такое распоряжение: уничтожить всех кур. Открыл гонения на кур, чтоб не летали и не пачкали. Вот последние монахи подобны этим курам.
А пока земля должна рождать святых до скончания века. Но если земля не будет рождать, то Бог, уже в конце, будет посылать с неба. Придут пророки Илия, Енох, многие из монастырей, которые под землю ушли. Даже из храма Святой Софии, что в Константинополе (Стамбуле). Когда мусульмане вошли в собор, тогда совершалось богослужение и пелась Херувимская. Они на коне въехали, и в это время священник, совершив вход, — Царские врата были закрыты, — был взят в духовный мир. И сейчас находится там. Но в конце мира сего все христиане при антихристе соберутся в Софии и закончат эту службу, и причастятся Святых Тайн Христовых, и тогда будет конец. Таинство Святой Евхаристии будет совершаться всегда, до скончания века, а раз Таинство будет совершаться, как говорит свт. Филарет, то найдутся и достойные совершители этого Таинства.
Раз Таинство будет совершаться, то и священнослужители будут, пастыри будут. Нам неизвестно, но если святитель Игнатий (Брянчанинов) писал об оскудении, то это надо понимать в общем — оно идет, оно есть. И мы сейчас видим, как живет наша молодежь, как развиваются пороки: пьянство, наркомания, и все это превращается в Содом и Гоморру.
Но Господь все терпит за счет мучеников, которых в нашей России много пострадало. И если нечестие увеличивается, всякие казино и другое, то и благодать Божия увеличивается за счет того, что много построено храмов. И какие бы ни были монастыри, в них совершается Божественная литургия. А если литургия совершается, то все вокруг освящается: и место это, и все вокруг. Это не голословно. В житии преподобного Петра Афонского рассказывается: когда он первым пришел на Афон, стал первым насельником Святой горы, то были там полчища бесов. Они его гнали как могли. И он им сказал: «Хорошо, уйду, но как скажет Божия Матерь, Она здесь Хозяйка». И они тут же разлетелись. И как только первая литургия была совершена — их не было. Вот что значит литургия. Пока Жертва Бескровная будет совершаться, приноситься, все их нечестие никакой силы не будет иметь. Поэтому такая «качка» сейчас идет: Божие — не Божие.
Божий Дух и не Божий дух. И когда мера весов пересилит, тогда Господь вступит со Своим правосудием, и уже будет Сам лечить людей.
Батюшка, люди считают, что бес — это такой фольклорный персонаж, чертенок симпатичный с хвостом, рожками и копытами из пушкинской сказки о попе и работнике его Балде. Может, у вас есть что сказать нам: что же такое бес?
Господи, помилуй! Священное Писание нам все объясняет.
Объясняет, что Господь Бог сначала сотворил невидимый духовный мир. Бог сотворил все «добро зело», все было зело добро у Бога, и цель творения была направлена на славу Творца. Человек был сотворен разумной душой, и по телу он принадлежит материальному миру, а по душе — невидимому духовному миру. Господь его сделал царем природы, которому все должно было подчиняться. И когда, мы знаем, святые очищаются и приходят в меру возраста своего духовного, то эти звери уже их не кусают, они чувствуют своего хозяина. К преподобному Серафиму Саровскому медведь приходил. Или на арене, когда мучеников бросали львам, а они им ноги лизали, потому что они чувствовали своего хозяина. А когда человек утратил свой первообраз вследствие своей греховности, то люди стали подобны зверям, и те стали на них нападать и уничтожать. Видимый мир, в котором мы живем, или человеческий — это одна сотая часть духовного мира. Святой Иоанн Златоуст объясняет, что Бог так возлюбил мир, что «яко Сына Своего Единородного дал есть нам, да всяк веруяй в Него не погибнет, но Им будет иметь жизнь вечную». То есть Господь Бог и Сын Бога пришел, чтобы спасти сотую погибшую овцу. Эта сотая овца — человечество. А девяносто частей — это ангельский мир. И средь ангельского мира произошла война. Война произошла на небе, где есть ангельское чиноначалие. Мы знаем Архангелов — их девять; престол Святой Троицы окружают Серафимы, Херувимы, Господства, Начала, Власти, Силы — вот такая иерархия. Одним из предстоятелей престола был и Сатаниил, как Гавриил, Михаил, Уриил и все прочие Архангелы. Сатаниил после падения стал Сатан (с евр. — противник), его часть имени «-иил» отпала, потому что он возгордился, позавидовал славе Сына Божия. Поэтому самый первый грех на небе был — зависть.
Она проявилась в том, что когда Господь сверг его на покаяние, то он искусил первого человека, и Ева сказала: «Нам Бог не повелел есть с этого Древа добра и зла». А он сказал, что если вы вкусите, «то будете яко бози, величе добри и лукавы». Вот сейчас мы и видим себя и добрыми, и лукавыми. «Будете как боги» — эта мысль его, змия, мысль лукавого. И эта мысль — быть богом — была еще там, на небе. Он был свергнут Богом для того, чтобы покаяться, а он не покаялся, а позавидовал первым людям, искусил их, и они совершили грех, получили проклятие, а через проклятие — смерть. Смерть — это не Божие творение, это греховное последствие. Вот отсюда эта злая сила. Сатаниил был проклят: первый раз, когда захотел быть богом Денницей («я поставлю престол выше звезд»), второй — когда искусил первого человека и Господь сказал ему, что он будет на чреве своем ходить, есть прах во все дни жизни своей. И когда будет Страшный суд, Господь возьмет к себе, как обещал, праведных, а кому было проклятие, тем: «Идите от мене, проклятии, уготованные диаволу и ангелам его». Ад и проклятие были уготованы диаволу, а не человеку. Диавол думал, что если он искусит человека, то займет вместо него здесь, на земле, первое место, потому что вкусившие с запретного древа умрут и он будет господином. Его единственное стремление — быть богом на земле. Что потом воплотится в антихристе в конце мира: господство его над миром. Но Бог по Своему милосердию продлил жизнь человека, разрушив планы сатаны. И дал обещание, что семя Жены сотрет главу змеи. Родится от Девы Спаситель Христос, Который избавит людей от греха смерти и проклятия. Ветхозаветный период человечества и наполнен предсказаниями о Спасителе — Сыне Божием. Ветхий Завет есть план искупления Христом человечества, и через пророков этот план предсказан: от Девы родится, когда родится, где родится, какая будет деятельность Христа Спасителя, как и чем она окончится. Поэтому когда Он взял богоизбранный народ еврейский, то говорил апостолам, что все должно совершиться, что писали пророки. Нам сейчас в храме читают Евангелие, и мы знаем, что должно совершиться, что будет. Так же и еврейский народ тогда, в ветхозаветное время, ходил в синагоги и знал все о Христе, о своем Мессии, им все было о Христе открыто, но поскольку было вавилонское пленение, оно изменило их понятие о Мессии, потому что, как маленькие народы, они думали: придет такой царь земной, начальник, пантократор, который избавит их от политического ига римлян. Иоанн Богослов говорит: «Он к своим пришел, и свои не прияше».
Даже апостолы спрашивали Христа, когда Он будет восстанавливать Царство Божие здесь, на земле. А Он им отвечал: «Царство Мое не от мира сего». Поняли те, кто жил чистой духовной жизнью, им было открыто. А те, кто не понял, они совершили злодеяние, сердце их было наполнено злобой, и Он им сказал, что хотел собрать детей Своих, как птица собирает птенцов в гнезде, но «вы не восхотесте, поэтому оставляется дом ваш пуст». Вы будете рассеяны по всему лицу земли, как песок морской. Но апостол Павел говорит, что Израиль — это остаток, а если корень свят, то и остаток свят. Остаток Израиля спасется. Это было попущено Господом для возбуждения ревности. И не нужно осуждать иудеев, у нас нет права их осуждать, потому что они осуждены Самим Богом на рассеяние. Они придут в себя. Сказано апостолом Павлом: когда определенное число язычников войдет в Царство Небесное и займет место падших ангелов, которых одна третья часть, потом Господь обратится к иудеям, и весь Израиль спасется, приняв покаяние. И еще апостол говорит: если Бог природных ветвей не пощадил, то пощадит ли вас, если вы будете вести себя недостойно? Мы же как дикая ветвь. Так пощадит ли нас? Все совершается по Промыслу Божьему.
А как его увидеть? Мы же даже не понимаем, что такое Промысел Божий. Как нам не пойти против воли Господа, если мы ее не понимаем?
По-православному наш Промысл основывается на предведении: Бог как Всеведущий предвидит, кто как будет пользоваться своей свободной волей, на добро и на зло. И «кого предуведи, тех и предустави, а кого предустави, тех и предопределе, а кого предопределе, тех и спасе». У католиков рок судьбы, что тебе назначено — то и кончено. Назначено тебе — Бог тебя спасет без добровольной твоей собственной воли. А не назначено — не спасет. У нас Бог спасать без нашего желания не будет, без нашего участия. Бог нас спас на Кресте без нашего участия, а чтобы спасаться лично — только по собственной воле, соединяя ее с волей Божией.
Воля Божия может быть выражена в исполнении заповедей Божиих, в Святом Писании. И, конечно, через священников, через Церковь Христову. Спрашивайте, и своим чадам Церковь поможет. Она должна нас спасти.
Но мы принимаем жизненно важные решения: учиться, жениться, замуж, работа, рождение детей… Как здесь увидеть волю Божию, в этих судьбоносных решениях нашей жизни? Как увидеть Промысел лично о тебе Бога? Мы же живем сейчас только по своему хотению, Бог не участвует в нашей жизни.
Это серьезные вопросы, особенно брака. И чтобы не ошибиться, я всегда придерживаюсь правила: посмотреть внимательно, порассуждать. Например, кто-то хочет быть священником, кто-то избирает монашеский путь… Я не спешу с ответом и говорю, чтобы молились. А другое правило — как у врача, чтобы поставить диагноз, надо рентген пройти, справки всякие. Наш рентген — это и есть наши преподобные отцы. Я всегда был с ними в дружбе, пользовался их советами и посылал своих чад или к отцу Николаю Гурьянову, или к отцу Иоанну (Крестьянкину), к отцу Тавриону, застал я еще и отца Кукшу, отправлял к нему, если были какие-то глобальные вопросы. Я смотрел кандидатуру в священника и видел, есть ли на нем благословение Божие. И говорил: «Вот тебе не от меня благословение, а от святого человека. И если какие случаи случатся в твоей жизни, чтобы не возвращаться вспять, искушения будут беспокоить, ты знаешь, что это благословение Божие. И ты твердо должен знать, что это твой путь». И в браке так же. Я еще в семинарии замечал: у тех, которые заботились и учились «едино на потребу», на первое место ставили духовное делание — «стяжите Царства Божия, а остальное все приложится вам», и ни о чем не думали другом, и когда период учения кончался, решался вопрос монашества или брака, обязательно Господь посылал хорошую девушку, если семинарист собирался рукополагаться во священника на приход.
Вот и архимандрит Никита мне рассказывал, отец Никита в пещерах лежит, он еще духовный сын отца Иоанна Кронштадтского: «Не хотел жениться, и пальцы были больные, и нога. Думаю, закончу учебу, посвящу себя Церкви и буду служить. Никаких других мыслей не было. А когда пошел к оптинскому старцу за советом, тот сказал, что тебе, друг, сначала нужно жениться, а потом рукополагаться. А в конце своего времени будешь и ты монахом. А я ни с кем не дружил — как же мне жену найти? И тогда, где жил, обратился за помощью к монашечке, она привела меня к старой деве, что она скажет. И жду, чего она скажет. А монашенка ее спрашивает: “Вот, есть молодой человек, ему надо рукополагаться, священство принимать, а матушки нет”. А она первым делом спросила: “Как его звать?” — “Петр”. — “Петр? Я согласна”. — “А почему согласна? Может, он тебе не понравится, может, он кривой, может, косой?”» А ей, оказывается, старец когда-то сказал: «Ты ничего не ищи, занимайся своим делом. Будешь матушкой, а батюшку твоего будут звать Петр». Все и совпало один к одному. Они и жили, двое деток было, дети в Великую Отечественную погибли, остались они вдвоем, вместе в ссылке были, вместе вернулись, обет монашеский исполняли. Она закончила свой земной путь в монашестве Варварой, а он приехал в Печоры, митрофорный протоиерей Петр, а потом стал отцом Никитой, доживал в храмике. Мы с ним дружили, и он мне много рассказывал.
Однажды отец Никита пошел совершать панихидку, это было его любимое послушание, в пещерах, там, где матушка Васса, св. Иона покоятся. Там клетчатая дверочка, он вошел в епитрахили с кадильцем, только через порожек, а впереди на стене изображение печерских святых, большая икона. Вдруг они ожили и в облаке голубом идут навстречу отцу Никите. Он оторопел, замер, потом он им поклонился, а они ему, и вошли обратно, в стену, в духовный мир. Он пошел, панихидку послужил, никому не говорил. И только потом отцу Алипию рассказал, а тот, когда отец Никита был во гробе, рассказал нам. Суть же видения в том, что его ожидал крест. Когда человека ожидает какой-то крест, терпение, тогда Господь его благодарствует заранее — укрепляет. Вот Серафиму Саровскому Божия Матерь двенадцать раз являлась — вот как хорошо? А это на подвиги нечеловеческие, только живой верой можно вынести то, что он вынес. Так и Никита. У него был афонский устав: он после литургии выметал мусор в кельях и выносил его за корпус, а рядом был мостик, и однажды он пошел высыпать мусор и поскользнулся о бревнышко мостика, упал вниз, метра два с лишним. Сломал ребра, еще что-то. Вот и видение ему было. Господь промышляет о каждом индивидуально. Для того чтобы правильно устроить свою жизнь, надо к этому серьезно относиться, обдумывать критически важные решения. Особенно брак. Но есть и другой способ — когда девушка молится специальной молитвой, она есть в молитвослове, молится, молится, чтобы Господь ей устроил жениха, послал ей хорошего супруга.
О духовном мире[7]
Господь преобразился на горе Фавор перед Своими страданиями, для того чтобы укрепить апостолов в живой вере. Он показал им Свою славу, для того чтобы они после страшных поруганий, страданий Господа и распятия Его не поколебались, не отпали окончательно от веры.
Так и с нами, христианами, бывает. Мы не знаем, что нас ждет в этой жизни. Но часто перед искушениями Господь благодатно утверждает человека. И когда уже это искушение приходит, то человеку бывает легче через него перешагнуть, потому что он духовно укреплен. Это христианское понятие.
В утешение-подкрепление бывают явления Божией Матери. Например, в Почаевской Лавре, там в 1950-е годы было 200 человек монахов, и перед хрущевским гонением было явление Божией Матери. Она стояла в воздухе 40 минут, и видели это многие братия монастыря. В Грушево на Западной Украине было такое же явление. Тогда у нас с западенцами было все еще неплохо. И вот перед началом разлада Божия Матерь явилась над храмом. Это было в 1990-е годы, Божья Матерь несколько раз являлась, народ туда ехал. Также и в Иерусалиме Божья Матерь являлась ночью в арабском квартале накануне израильской Семидневной войны, после которой территория Израиля сильно увеличилась. В настоящее время было еще явление Божией Матери в Индии, и сейчас мы узнали, что там началось гонение на христиан, там разрушают церкви и мучают верующих.
Я знал в Псково-Печерском монастыре подвижника архимандрита Никиту. Перед тем как он получил травму, которая привела к смерти, ему явились псково-печерские преподобные. Он шел служить панихиду в пещерах и вдруг увидел, как ожили преподобные на фреске у входа в пещеры и встали рядом с ним. Старец сначала оробел, потом поклонился преподобным, и они ему поклонились. После того как он послужил панихиду в пещерах и вернулся в свою келью, по обыкновению убрался в своей келье и пошел выбрасывать мусор, он попал в яму, получил серьезные переломы и через неделю скончался в больнице. Это была мученическая смерть. И ему в подкрепление явились святые. Настоятель Псково-Печерского монастыря отец Алипий рассказал об этом на погребении старца Никиты.
Но бывают и обратные случаи, когда человек получает не подкрепление, а наоборот, терпит Божье отступление или наказание. Бывает и родовое проклятие от Бога. Я знал одну матушку, у которой один за другим трагически погибли семь братьев. За что, спросите. Оказалось, что их дед вместе с друзьями однажды убил невинную девушку. А грех родителей, если он не раскаян, наказывается до четвертого колена. Как помочь таким людям? Надо исповедоваться не только за себя, но и за предков своих. К сожалению, многие современные священнослужители не понимают таких вещей. Надо найти такого священника, кто примет эту исповедь. Человеку надо осознать, что его личный грех часто имеет корень в наследственности. У нас три поколения воспитывали в безбожии, поэтому иногда человеку так трудно прорваться к Богу.
Мне приходилось не раз принимать исповедь детей за родителей и родителей за детей, причем и за живущих, и за умерших. Бывает, зовут принять исповедь у глухонемого или парализованного человека. Как его причащать, если он исповедоваться не может? Я спрашиваю жену или мужа: как человек молился, как постился, какими грехами согрешал, изменял ли супругу, честно ли работал, не хулил ли веру? И после таких расспросов читаешь над человеком разрешительную молитву.
Так поступать надо и в отношении умерших. Есть свидетельства из того мира, что умершим полезно, когда их родные приносят за них покаяние. Но не только на словах, а и на деле, стараясь жить свято.
Пока не свершился Страшный суд, не все еще потеряно. Все находится в движении. В духовной жизни все живо, все едино: «Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Конечно, такое общение поверх границ земного бытия доступно лишь старческому деланию, не всякий священник должен и может взваливать на себя этот крест. Тут необходимо особое благословение.
Нужно различать назначение старца и духовника. Старец от Духа действует, а духовник в первую очередь должен исполнять букву закона. Он — только свидетель. Когда человек кается, ему должно только помогать, а не выпытывать. Если грех еще не раскаян до конца, а священник начнет расспрашивать о подробностях, особенно касающихся плоти, то он сам может рано или поздно свалиться в яму. Так что во всем надо следовать правилу: «Блюдите, како опасно ходите». Потому что даже подвижник, даже старец высочайшей духовной жизни не должен для человека занимать место Христа. Так под видом добра может прокрасться великое зло.
Никогда не нужно отчаиваться, не нужно опускать руки. Необходимо надеяться и помнить, что до последнего Суда еще есть время исправиться.
О монашестве[8]
Монах в переводе с греческого — одинокий человек; инок—человек, ведущий иной, духовный образ жизни, который не измеряется нашими человеческими понятиями, мирской человек и не может этого вместить. Основоположниками монашества являются Господь наш Иисус Христос и Божия Матерь. Богородицу называют Приснодева: она Дева до брака, Дева во время ношения Сына Божия и после Его Рождества Дева. В иконографии это выражается на Ее иконах тремя звездочками — на плечах Божией Матери и на челе. Она первая дала обет монашества. У Господа в евангельском учении нет специальной заповеди, чтобы быть монахами, но Он дает это как совет. Также и святой апостол Павел говорит: лучше было бы как я быть. Оженивыйся печется о мирском, а неоженивыйся печется о Господнем, како угодно Господу.
В Евангелии передается беседа апостолов со Спасителем, где Господь говорит о скопцах от чрева матери, об оскопленных людьми, «и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного». Царство Божие — это Царство любви, Царство святости. Оно начинается с Таинств Крещения, Миропомазания, Покаяния, Бракосочетания и др. Через эти тайны нам дается сила свыше, и задача наша пользоваться этими Таинствами, чтобы Дух Божий жил в нашем сердце, и умело беречь внутренний мир с Богом и людьми.
Первое монашество — это апостолы, жены-мироносицы, преданные Господу, которые сопровождали Господа, Мария Магдалина и другие. После смерти Господа, Воскресения и Вознесения апостолы, по Его слову, в котором Господь обещал ниспослать на них Духа Святаго: «Я вместо Себя пошлю Духа Святаго, Который будет в вас и будущее возвестит вам», — не уходили из Иерусалима. Они молились в своей горнице десять дней, ожидая, после чего облеклись силой свыше и получили благодать Святаго Духа. После Святой Пятидесятницы они и пошли с проповедью Евангелия по Иерусалиму и всей земле. Апостолам Господь сказал: «Научите вся языки, крестяща во Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Соблюдите то, чему Я вас научил. Я с вами во все дни жизни вашей. Вам дано знать тайны Царствия Небесного, а прочим — в притчах». Апостолы являлись носителями тайны Царствия Божия, этой благодати, а другим, обыкновенно спасающимся, достаточно соблюсти заповеди. Всю полноту внутреннего делания благодати, как пользоваться ею, чтобы врачевать свои души — эти тайны дано знать апостолам. Монашествующие являются продолжателями делания тайны Царствия Божия.
Мы знаем из истории Церкви, что от Вознесения Господа первого века и далее три века до Константина Великого был мученический период. Христиан мучили, избивали, и кровь христианская лилась рекой. Мученик есть свидетель страданий Господа, который своей кровью запечатлел свое вероисповедание. Первые христиане свидетельствовали о Христе, и при истязаниях и пытках совершались чудеса, иначе невозможно было грубого язычника словесно убедить, только такими великими чудесами, страданиями, которые проявлялись в пытках через твердость веры. И римское язычество приходило к вере Христовой. Поэтому историк Тертуллиан писал: «Кровь мучеников была семенем христианства».
Когда Константин Великий издал Миланский эдикт о свободном вероисповедании христианской веры и христианство стало государственной религией, в Церковь пошли люди с разными языческими убеждениями, вследствие этого некоторые умы неординарно воспринимали христианство. Начались недомыслия, несогласия, возникали вероучительные споры, что заставило собрать Вселенские Соборы и разрешить все недоразумения по вере, установив догматы — систематизированные истины вероучения, открытые навсегда всему человечеству, чтобы было единогласие в основах веры. Православное вероучение потому и называется так — «правильно славящее Господа».
Мученический период, который длился три века, перешел в бескровное мученичество хранения чистоты веры, истины монашеством. Монашеский род явился продолжателем тайного делания, и монашествующие продолжили апостолвский подвиг. Монашество продолжило кровный подвиг мученичества бескровнвш подвигом, полностью отдаваясь исполнению воли Божией, чтобы очистить себя от всякой скверны плоти и духа и стяжать в своем сердце Царство Божие. Для сохранения чистоты веры явились такие люди, подвижники, монашествующие, как Антоний Великий, Макарий Великий, Евфимий Великий и другие, которые уходили в пустыню, чтобы найти полное единение с Богом, исполнение воли Божией во всей чистоте первохристианской традиции, когда было у первых христиан первого века едино сердце, едина душа и един дух. Они уходили в пустыню, отдаваясь полностью на служение Богу, руководимые жертвенной любовью ко Господу нашему Иисусу Христу и святым угодникам с Пречистой Божией Матерью, стараясь достигнуть духовных высот и оставив по себе аскетический опыт, которым пользуется Церковь во все времена и доныне для нашего спасения и назидания.
Пустынножители получили в уединении богатый опыт в том, как правильно соединяться с Богом, и опыт личного спасения души. Они ушли на молитву, на подвиги в пустыню и подвизались в посте и молитве, поэтому сподобились Благодати Божией, стали как земные Ангелы в своих подвижнических трудах. Они оставили после себя много сочинений, трудов, которыми мы до сих пор пользуемся, чтобы победить или врачевать тот или иной грех, с которым мы боремся и который мешает нам на спасительном пути в достижении Царства Небесного.
Все монашество делится на два класса: пустынножители-анахореты и общежительное монашество. Антоний Великий является начальником восточного пустынножительства, на Западе не развилось пустынножительство в той степени, как, например, на Востоке. Начальником общежительного монашества является преподобный Пахомий Великий. Все монастырское делание определялось не своей волей, а по указанию Божьему и Его Ангелов. И тот и другой вид монашества оправдал себя в жизни Церкви и оставил нам богатое наследство трудов аскетики.
Призвание к монашеству, на монашеский подвиг имеет три причины, признанные Церковью. Первая — горение, жертвенная любовь к Богу, когда человек отдается полностью служению Господу. Вторая — пример подвигов близких подвижников святой жизни, духовных старцев. Третья — через жизненные неудачи, семейные скорби. Монашествующие принимают три подвига, несут три обета: целомудрие, послушание и нестяжание.
Целомудрие — целостное состояние служения Господу, когда «возлюбиши Господа всем сердцем, всей душою, всем разумением своим, всей крепостию своею» — целостно, полностью возлюбить Бога. Обет безбрачия, целомудрия — не только физическое требование, но, что важнее, духовное состояние девства, которое не разрешает разжигания мысленных страстей: если кто воззрит на жену с вожделением, говорит Господь, тот является прелюбодеем в своем сердце. Грех прощается тогда, когда грех возненавидят, пока есть мысли о грехе, есть и грех, значит, есть бо́льшая любовь ко греху, чем ко Христу. Когда нас искушают помыслы, мы часто говорим: бес нас искушает, но надо и самому трезвиться.
Бесы — явление не философское, а настоящее, реальное, и единственный способ борьбы с ними — молитва, пост, смирение, как было с Макарием Великим, которому бес сказал: «Я не имею до тебя доступа, потому что у тебя есть смирение». Когда начинается духовная жизнь в монашестве, надо начинать ее с исповедания помыслов. Как в Оптиной пустыни старцами было заведено не только исповедовать проявляющиеся, заметные помыслы — гнев, страсть блуда и т. п., а исповедовать все, и тогда духовный руководитель, старец определял навязчивые помыслы, которые мешают ясности мысли, мешают молитве. Навязчивые помыслы отгонять молитвой, не вступая с ними в спор. Другой помысел придет и доведет до умопомешательства. Собственными силами бесовскую силу не победить — только при помощи благодати Божией. Помыслы необходимо исповедовать, есть и специальные молитовки против хульных помыслов. При этом не отчаиваться, молиться и продолжать поклоны, не останавливаться на помыслах, они как ветер, и ты их не остановишь.
В монастырях только с Божией помощью и духовной силой возможно очищение: ходить в целомудрии, уметь хранить и зрение, через которое приходит много искушений, и чувства. У монаха есть не только молитвенное правило, а сам монах есть правило: правило, сколько отдыхать, сколько есть, сколько молиться, как трезвиться в чувствах и помыслах, но все делать за благословение духовника или игумена. И даже количество молитв только с благословения читать, не принимать на себя никакого молитвенного подвига без духовника. Благословение — нам во всем полезно во спасение, а особенно в монастыре. В миру человек ведет естественный образ жизни, а монах — сверхъестественный, уподобляясь бесплотным силам — Ангелам.
Послушание — преданность исполнению воли Божией. Мы знаем, что первый человек был изгнан из Рая через ослушание, нарушив заповедь Божию. Через послушание Господь нам дал пример, как восстановить утраченную природу человеческую, Сам Спаситель сказал нам, что пришел исполнить не Свою волю, а волю Отца Небесного — Сам Спаситель был послушен Отцу Своему даже до «смерти крестныя», показав нам, как правильно нести послушание. Исполнять послушание — значит не творить свою волю, потому что воля своя есть греховная, исполнение воли бесовской. Человек склонен более к греху, нежели к добру, о чем писал апостол Павел в своих посланиях: «Что я хочу делать доброе, то я не делаю, а что не хочу, то делаю… живет во мне человек, противоборствующий закону ума моего». Наличие двух природ в человеке есть следствие греха, который стал привычкой, и чтобы очиститься от него, требуются усилия, но самому человеку этого не одолеть — только с Божией помощью, только с Божией благодатью, которая дается и при Таинстве Крещения, и при Таинствах пострига, покаяния, при молитве, когда мы общаемся с Богом.
В послушании необходим подвиг монаха, который оставил мир и хочет созидать Царство Божие внутри себя, что возможно только при послушании, исполнении заповедей Божиих. Есть дисциплина и есть послушание, для мира это одинаковые понятия. Как говорил Суворов, без дисциплины армия превращается в сброд. Но в духовном значении эти понятия разные: дисциплина основывается на силе, а послушание основывается на любви ко Христу, на вере, и если не будет послушания, не получим благодати Духа Святаго. В монастыре непослушание — грех, и на исповеди в этом грехе необходимо исповедоваться и исправляться.
Нестяжание — по этому обету монах отказывается от всего и, находясь в монастыре, все имеет за благословение. В монастыре строятся, что-то созидают, находятся в материальном мире, но только за послушание. И не является стяжанием то, что не себе и не для себя делается. Стяжательный человек не тот, кто много имеет, а тот, кто над рублем трясется. Стяжательный человек не будет иметь чистоту молитвы, стяжательный человек, по слову Божию, является идолослужителем и Царствие Божие не наследует. Монашествующие полностью отказались от мира и отдаются на волю Божию, и даже вращаясь среди этого мира, они к нему не привязываются, они ему непричастны, они стараются быть выше соблазнов мира. Как нам говорит Святое Евангелие, «пецитись прежде о Царствии Божием, а остальное приложится вам». Мысль монаха должна быть на первом месте и проникнута угождением Богу, и куда бы ни пошли, должны брать благословение Божие: Господи, благослови! И все, что я делаю, молюсь, выполняю послушание — все я делаю предлицем Божиим.
И отшельничество, и общежительные монастыри сыграли положительную роль в жизни Церкви, в жизни верующего народа. Они оставили богатую христианскую культуру, наследие духовного опыта. В общежительных монастырях живущие монахи испытывают искушения обычно от людей. Святые отцы говорят: сначала нужно научиться среди людей жить, а потом только можно научиться жить среди Ангелов. Как преподобный Серафим Саровский — сначала он жил в общежительном монастыре на послушании, самоотречении, духовном руководстве, а потом по благословению ушел на пустынножитие и достиг ангелоподобного духа. Они были как земные Ангелы и оставили нам богатый опыт работы над иссечением греха: «чистые сердцем Бога узрят».
Те монахи, которые уходят в пустыню, испытывают борьбу непосредственно с бесами лицом к лицу. Пустынножители вступали в борьбу с самой бесовской силой, не какой-то мысленной, а она непосредственно являлись им в разных видах со страхованиями. Макарий Великий прошел большую школу пустынной жизни, и когда ушел в пустыню, поселился в гробнице, как в келье, в ней подвизался, молился в посте, к нему только еду приносил один из братьев. Там и напали на него бесы, избили его, чуть не умер, был мертв. И брат принес его для погребения, а Макарий сказал: «Неси меня туда, где был». Бесы снова стали стращать преподобного, но Господь его утешил и голосом сказал ему, что видел его подвиги.
Макарий спросил: «Господи, где же Ты был, когда меня били?» Господь сказал: «Я видел тебя, и был с тобою Духом, и ты получишь большую силу над ними за любовь ко Мне, особую благодать, потому что все претерпел». И в вечерних молитвах, и в молитвах отчитывания злых духов есть молитвы Макария Великого, получившего от Господа силу благодати врачевания в изгнании духов зла. Там, в пустыне, он был с ними лицом к лицу, и однажды бес приступил и сказал ему: «Ты плачешь — и я плачу, ты не спишь — я вообще не сплю, бодрствую, и разница между тобой и мной — у меня гордость, а у тебя, Макарий, смирение». «Смиритесь под крепкую руку Божию, и диавол отойдет от вас», — говорит слово Божие.
Смирение, в котором Господь показал Свой образ, палит беса. Послушание есть самоотречение через исполнение заповедей Божиих. Евангельская заповедь говорит: «Блаженны нищие духом, яко их есть Царство Божие». Что это значит? Смиренномудрые, которые понимают, что далеки от того духовного идеала, который нам предлагается. У нас не хватает духа исполнить то, что начертано Господом, поэтому мы нищие духом. Но смиренномудрие — смирение ума, только начало смирения.
Смиренномудрием мы осознаем, но еще надо много потрудиться, чтобы очистить свое сердце. Осознав, увидев свою греховность, каемся, исповедуемся, молимся и тогда исполняем следующую заповедь: «Блаженны плачущие, ибо тии утешатся». Плачем о грехах мы, видим грех, сокрушаемся в нем, каемся, и тогда рождается следующая заповедь: «Блаженны кроции» — кроткие.
Кротость духа — такое состояние, когда человек и при хвале, и при поругании остается в одинаковом спокойном духе: хочешь быть монахом — имей кротость духа. А это достигается через осознание своей духовной нищеты, покаянием, вот и появляется кротость. И тогда начинаем жить истиной, и алчем: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, яко они насытятся». Восхождение по этой лестнице продолжается, человек очищается сердцем, приближается к Богу, и происходит духовное рождение, умиротворяется со своей совестью, с Богом, потом с ближними: «Блаженны миротворцы, яко тии наречены будут сынами Божиими». И далее делается милость, милость бывает духовная и телесная. Телесная милость: «Алкал Я, и накормили, жаждал Я, и напоили, был странником, и приняли Меня, был болен — посетили Меня», и т. д. Милость телесная — милость мирских людей, а монашеская милость — духовное делание: молиться друг за друга, прощать обиды и обращать людей на путь Истины.
Человек, живя высоким духом евангельских заповедей, не живет как все прочие: не вмещается среди мира, и начинаются разные испытания. Господь говорит: «Раб не больше господина своего, и если Меня гнали, будут и вас гнать, если слово Мое соблюдали, ваше соблюду, но претерпевший до конца спасется… радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша многа на небеси». Евангельские заповеди — внутренний мир монаха, который должен идти по этой своей лестнице внутри себя, а все остальное, что окружает его — посты, молитвы, богослужения — это как средство как орудие, которое должно помогать очищать сердце и стяжать Дух Святый.
Современное монашество не имеет такой высоты духа, как древнее восточное — египетское, палестинское, позже — греческое. По учению свт. Игнатия (Брянчанинова), Господь явил Свою милость и оставил богатый опыт трудов Церкви, духовных сочинений наших святых преподобных. Их сейчас мало осталось — «оскуде преподобные», и будет современное монашество спасаться скорбями и болезнями. От нас требуется искреннее стремление к Богу, без всякой фальши и утайки исповедание своих грехов, ауж само врачевание будет осуществлять Сам Господь, и если кто претерпит до конца скорби и болезни, будет больше тех подвижников, которые подвизались в первые века христианства, — так говорил свт. Игнатий (Брянчанинов).
Ныне пустынножителей нет явно, но есть тайно подвизающиеся, есть на Святой Горе Афон, что только Богу известно, но без них не может существовать мир. Святые есть друзья Божии. Господь сказал святым апостолам: «Вы — друзи мои, все, что Я мог, Я для вас открыл». Святые преподобные были подражателями жизни нашего Господа, достигали святости и являлись друзьями Божиими и исполнителями воли Божией, сохраняя единство своего духа с Ним. И говорят святые отцы: если земля перестанет родить святых, тогда и придет конец этого мира. А пока есть монастыри, есть святые угодники Божии, за счет наших общих молитв Господь посылает Свою особую милость.
Все времена благодатны, все времена спасительны, и Церковь, созданная Христом Спасителем, будет до скончания века. В ней будет совершаться Таинство Евхаристии, будут и достойные служители этого Таинства. Если хочешь работать Господу, «приготовь душу твою во искушение» — этими путями шел Сам Господь и, претерпев эти искушения, вышел на общественное служение народу.
Перед евангельской проповедью диавол искушал Его в пустыне и оставил Его «до времени», до Гефсиманского сада. Так и человек, когда начинает свой путь ко Господу, то приходят те же искушения, но особенно они усиливаются в жизненном итоге. Это ожидает индивидуально каждого христианина, если он идет истинным путем, а монаха — особенно. Наша религия является религией Креста: у каждого есть свой крест, своя Голгофа, и наша земная жизнь заканчивается не Фавором, а Голгофой, крестом. Есть у Церкви те же страдания, как и у Спасителя. Вся Церковь идет этим же путем крестоношения, потому что наша Церковь есть Тело Христово, и проходит те же этапы земной жизни Христа: Крещение, Проповедь, Преображение, Вход в Иерусалим, Голгофа, Воскресение, Вознесение. Аминь.
По житию Марфы и Марии[9]
Для того чтобы в стране жилось благополучно, ее устроение должно быть подобно согласному сестринскому житию Марфы и Марии. Государственная жизнь как одна из сторон внешнего делания не должна противоречить внутренней — церковной — жизни. А нам, пастырям, надо приучать людей к терпению и смирению, однако не запугивать их.
Глубоко ошибаются те, кто думает, что Россию Господь оставил. Все, что происходит у нас, вовсе не свидетельствует о том, что Господь покинул Россию. Евангельская закваска работает, тесто вскисает. Поэтому всегда, каждый день и час, надо быть верующим, ходить пред Богом, иметь благодушный настрой и надеяться на лучшее. Мир стоит на праведниках, на Божиих угодниках, и Россия в этом смысле самая устойчивая.
У нас много сокровенных, внутренних подвижников. В Оптиной пустыни, на Валааме, в монастыре св. прав. Симеона Верхотурского и в других монастырях живут по афонскому уставу, молятся ночью. А ночная молитва имеет особую силу. Живы старцы и старицы, которые принимают народ, утешают его, молятся за всех, дают душеполезные советы. Им дано решать те вопросы, который подчас не в силах разрешить приходские священники.
Красноречивый пример. Бывает, что родители проклинают детей. «Будь ты проклят!» — бросают они вслед сыну или дочери, не сознавая, что это очень серьезно. Проклясть — значит предать сатане. Как снять с человека это проклятие? Бывали случаи, когда проклятые дети через некоторое время умирали. Одна такая история была недавно опубликована. Сын просился у матери благословить его к принятию монашеского пострига, а мать вместо благословения послала проклятие ему в спину. Сын ушел, думая, что делает Божье дело, поступил в монастырь, даже стал иеродиаконом. Все как будто сложилось как нельзя лучше. Но в молодом возрасте монах скончался, и после кончины стал являться братии на амвоне. Многие слышали его пение: «Векую Ты отринул меня от лица Твоего, Свете незаходимый? И покрыла мя чуждая тьма, окаянного…» Являлся он обычно после всенощной, через некоторое время пропадал.
Нужно было что-то предпринять, как-то разрешить это недоумение. Послали запрос к архиерею, а тот велел найти родню. Мать еще была жива, ей исполнилось 90 лет. Старушку расспросили о сыне, и она рассказала о проклятии. После монахи выкопали останки своего собрата, прочли молитву, окропили кости святой водой и снова похоронили. Более иеродиакон не появлялся.
Приведу еще один пример. Среди верующих сейчас много людей, которые страждут душевными болезнями, или одержимостью. Надо понять причину одержимости, найти ее корни, установить, отчего она происходит. Очень часто Господь посылает такое наказание за аборты. Даже если человек каялся, скорее всего он не понес никакой епитимьи за этот разбойничий грех и Господь послал одержимость как суровое средство очищения. Часто беснование посылается за великую гордость или еще за какие-то страсти.
Во времена святителя Иоанна Златоуста жил монах, который вроде бы во всем был хорош, но страдал от заносчивости и гордыни. И старцы стали молиться, чтобы Господь «ими же веси судьбами» исправил его. Но по попущению Божию монах стал бесноватым. А в то время в каждом монастыре было несколтко человек, которые имели настолько сильную благодать, что могли воскресить мертвого. Бесноватый монах стал ездить по монастырям, но никто, даже благодатные старцы, не мог ему помочь. И монах написал святителю Иоанну Златоусту. Тот ему ответил: «Это все тебе на пользу. Когда ты был здоров, то ты превозносился, был привередлив к пище. А сейчас пост и молитва для тебя — единственная отдушина. Поэтому терпи. Если вытерпишь до конца, будешь приравнен к мученикам».
К таковым средствам искупления Господь прибегает и сейчас. Есть болящие люди, которым предначертано до конца дней своих мучиться на земле, чтобы не испытать вечной муки в аду. Им не суждено получить исцеление в этой жизни. Но, понимая это, им надо помогать и отчитками, и частым приобщением Святых Таин, и паломничествами к святыням. Главное, сам человек должен осознать, за что он терпит, и принять это как крест.
Бог хранит нас для того, чтобы мы хранили истину Православия![10]
В какие времена нам Господь отпустил жить
Господь отпустил нам жить в удивительное время, которое можно назвать вторым Крещением Руси. Миллионы людей ищут и находят дорогу в Церковь! Господь всех приемлет, всем желает спасения. Как говорится в святом Евангелии: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11, 28). И «научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф. 11, 29). Единственный покой и в этой жизни, и в будущей — это наш Учитель и Господь Иисус Христос.
Но нас всех разделяет грех. Он как стена между человеком и человеком, между человеком и Богом. Поэтому каждый, кто приходит как чадо в Церковь к своему Небесному Отцу, должен прежде всего распознать в себе грех, осознать его, раскаяться и примириться с Богом, с людьми, со своей собственной совестью.
А после, познав евангельские заповеди, стараться уже жить не по своей собственной греховной воле, а по воле Божией. Говорит же
Священное Писание: «Близ Господь всем призывающим Его» (Пс. 144, 18).
Православная Церковь единственная в мире сохраняет апостольскую истину неповрежденной до наших времен. «Церковь есть столп и утверждение истины» (1 Тим. 3, 15). В нее Господь вложил все для нашего спасения.
Надо только прислушаться к себе: насколько мы все нуждаемся в Истине! «Я есмь путь, и истина, и жизнь» (Ин. 14,6), — сказал про Себя Господь. Все мы нуждаемся в Боге! «Мною аще кто внидет, спасется, и внидет и изыдет, и пажить обрящет» (Ин. 10, 9). Пажить вечную.
Мы, духовники, стараемся помочь каждому приходящему к Богу — всем, кто желает спасения. А спасение собственной души имеет первостепенное значение, особенно важно о нем задуматься тем, кто только начинает свой путь воцерковления.
Примеры для подражания
За свою тысячелетнюю историю наша Русская Православная Церковь явила миру больше святых, чем какая-либо другая поместная Церковь. Среди русских угодников Божиих испокон века изобиловали и святители, и преподобные, и юродивые… Однако мучеников у нас было мало…
Правда, самыми первыми канонизированными русскими святыми стали как раз невинно убиенные князья-страстотерпцы Борис и Глеб. Но дополнили их число потом совсем немногие, их можно перечислить по пальцам. Мучеников на Руси было совсем мало.
Но вот за период начиная с 1917 года, когда началось советское иго, и поныне Церковь наша явила сонм новомучеников! Почти тысячу умученных за Христа в советские гонения сразу прославил Архиерейский Собор 2000 года, а потом их количество увеличилось почти вдвое и все еще прирастает… И прославлены новомученики и исповедники Церкви Русской целым сонмом: явленные и не явленные, но ведомые Богу.
По их святым молитвам в России вновь стали открываться храмы и монастыри. Жизнь народная входит уже в свое единое спасительное русло — и это отрадно.
Все они, угодники Божии, показали нам образ благочестия, чистоты, нравственности. Поэтому каждый из них — пример для нашего им подражания. Как апостол Павел говорит: «Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр. 13, 7).
Успеть покаяться
Новомученики выдержали экзамен верности Богу в нечеловеческих условиях. А те, кто не выдержал испытаний в те страшные годы, кто поддался инфернальным веяниям времени и участвовал в разрушении храмов, глумился, убивал, хулил Бога, навлекли на себя и свое потомство проклятие.
Правда, некоторые успевали все-таки покаяться…
Есть такой рассказ: коммунисты-богоборцы, закрывая храм, решили в первую очередь снять крест с купола… Но никто не решался. Вдруг кто-то вызвался из толпы. Быстренько взобрался на купол, уже спилил крест и хотел было его сбросить — да сам полетел вниз, едва сумев схватиться за какую-то травинку на крыше храма… Висит и не падает… Вызвали пожарную вышку, чтобы его снять оттуда. А он болтается там между небом и землей и понимает, что это чудо! Согласно физическим законам этот стебелек его не удержал бы… Внизу все тоже смотрят и изумляются:
— Бог его спас!
Человек этот раскаялся, пришел в церковь и на исповеди рассказал:
— Вот такой грех я дерзнул совершить… А Господь меня помиловал!
Всякими путями Всемилостивый Бог людей спасает. Надо только каяться, исповедоваться. Сейчас приходят в храм уже даже третьи, четвертые поколения тех, чьи деды-прадеды некогда кощунствовали. В большом требнике есть специальные молитовки, чтобы снять проклятие с целого рода.
Иначе люди страдают и не понимают почему…
Покаяние должно быть деятельным
Одно время ко мне из Нижнего Новгорода ездила семья: мать Агния, а у нее два брата были, и оба бесноватые. Но сами по себе, по характеру, это очень хорошие люди были. Особенно страдал от одержимости младший брат Алеша. Он и пил беспробудно, и под машину попадал, и в драке его ножом как-то порезали — это бес его всюду науськивал и бросал. И вот мать Агния приезжала к нам в Пюхтицкий монастырь, где я тогда был духовником, и рассказывала, как она за него переживает.
— Батюшка, — так жалобно спросит, — как же мне ему помочь?
А у меня был знакомый отец Феодосий — он прожил, кстати, 120 лет. Подвизался на севере. В свое время он, как, можно сказать, и все верующие, был приговорен к расстрелу. Да только у палачей просто руки не поднялись: они как увидели его, это уже тогда был точно Ангел Божий! Да еще как поговорили с ним: «Какая же, — думают, — на нем вина может быть?! Нет на нем никакой вины!» Так и написали ему квиток: приговор приведен в исполнение.
Один из энкавэдэшников взял его к себе домой, и отец Феодосий жил у него на даче, трудился. Дожил так до нашего времени, а это уже 1990-е годы были. Мы с ним вели переписку. У нас была связным такая Марья Григорьевна. Она ездила к нему. Каждый раз вернется и свидетельствует:
— Да он святой! Прозорливый!
С ней мы передавали записочки отцу Феодосию, о ком помолиться. А однажды туда имя Алексея вписали… С него тут же, как с гуся, всякая нечистота сошла.
— Что же я делал?! Не понимаю! — вдруг сказал тогда он, явно вернувшись в разум.
Но вся эта грязь еще больше перешла на другого брата — Костю. Тогда уже он стал особенно страдать от всех этих бесовских козней, сильно его крутило…
— Что же делать? — передали мы вопрос отцу Феодосию.
И он открыл:
— Виноват во всем этом ваш папа.
— А в чем он виноват? — спрашивают.
— После Отечественной войны он шел из Арзамаса к себе домой. Дорогой нашел большую сумму денег. А потерял их человек, который от безысходности корову-кормилицу продал! Он очень долго потом искал, где обронил эти деньги. Там какая-то уж очень острая жизненная ситуация была… И он потом долго проклинал того, по чьей вине этих денег лишился. Нечестно отец поступил, утаив находку.
Потом, когда уже отец покаялся, вспомнив, что действительно такое было, он всячески пытался и спустя годы загладить свой грех. Помогал храмам. Потому что грех стяжания, неправедного присвоения, тогда только прощается, когда человек возвращает все обратно в полной мере.
А если украл да обидел кого чем, то Закхей, принятый и похваленный Господом, и вовсе, как сказано, «вчетверо воздал» (см. Лк. 19, 8). Сколько где украли — столько туда и надо вернуть, а по усердию и больше. Только после этого покаяние при открытии всего на исповеди станет действительным. А если человек просто сказал на исповеди, что украл, но ничего не вернул, его грех остается на нем.
Вот и в рассказанном случае только после деятельного покаяния, когда отец все осознал, исповедовал и исправил, его семья стала исцеляться, дела поправились.
Очень много таких историй мне за свою жизнь слышать приходилось.
Не проклинайте!
В тех семьях, где родители не венчаны, враг особенно сильно воюет, разоряя заповедь о почитании родителей (см. Исх. 20, 12), а их в свою очередь подстрекает далее на проклятия детей…
Известен случай, который произошел в Архангельской области, на севере. Мальчик лет 13 с дедом, как правило, пас стадо коров. Чем-то он в то утро досадил матери, и она прокляла его:
— Будь ты проклят за то, что не слушаешься.
Он как всегда пошел на пастбище, дед куда-то отлучился, а к мальчишке приступил демон и говорит:
— Мать сегодня отдала тебя мне. Отныне ты — мой! И я буду поступать с тобой так, как мне надлежит.
Снял с него крест и взял к себе в команду, к бесам: чего они там только не вытворяли…
А отрок был найден якобы мертвым, для видимости вместо него бесы подсунули деревянную шпалу с его портретом, и такое наваждение на всех навели, что всем казалось, будто в гробу этот отрок.
Стали всей деревней его хоронить, да только лошадям везти эту шпалу было тяжко.
Явился он потом своей матери во сне:
— Мама, я жив. Так как ты изрекла на меня проклятие, я теперь не свой… Но я жив. Ты должна за меня молиться.
Она обратилась к священнику, и они стали молиться. Тогда сын периодами уже являлся, но в нечистых местах: в бане и т. д. Прошел год или полтора, когда грех она отмолила, демон выкинул сына на то же место, откуда взял:
— Я теперь не имею права тебя держать у себя!
Проклятый вернулся к своим родным и рассказал, какими грязными делами они занимались и как это страшно: где-то они дом подожгли, в другом месте еще зло такое, что и пересказывать не хочется, учинили…
Надо быть очень острожными в отношении гнилых слов, а тем более проклятий.
Познайте Истину
После насаждаемого десятилетиями госатеизма сложно было сразу ввести преподавание в школах Закона Божия. Но все-таки ради детей надо было постараться! В Грузии, знаю, ввели в свое время Закон Божий в школах, и преступности у них стало меньше, и с нравственностью куда как лучше дело обстоять стало. В храмы около 60% грузин каждое воскресенье ходит. А у нас сколько процентов из тех, кто даже называет себя «православными»?
«Куй железо, пока горячо». На исходе советской власти души людские устали от той идеологии, которую им подсовывали вместо веры… Начали бы тогда, хотя бы в 1990-е годы, Закон Божий в школах преподавать, — так бы и через детей родители познали Истину и почувствовали, как им самим от этого хорошо…
Тогда еще люди чище были, страх Божий при советской власти уже потеряли, но развратили их уже последние десятилетия вседозволенности, тогда уже и вовсе по своим прихотям жить стали. Вся эта либеральная пропаганда еще больше отдалила потерявших веру от богоустановленных норм жизни. Сейчас уже очень трудно людей ко спасению направить.
Человек наделен свободной волей, но одно дело, когда с детства тебе прививают вкус ко всему здоровому и спасительному, а другое — когда сызмальства травят и развращают. Такому человеку потом очень трудно себя восстановить.
Помните, при Хрущеве ввели «сухой закон» — запретили водку продавать. Но люди настолько уже привыкли к выпивке, что не могли уже дальше без этой вонючей водички жить. Причем, когда была свободная продажа, они брали себе одну бутылочку, и им было достаточно. А когда запретили, то стали ящиками закупать… Приволокут ящик, и на месяц, а то на неделю хватало.
Так же и при отмене советской идеологии: не обретя еще истинной веры, люди пустились во все тяжкие: экстрасенсы, гороскопы, секты… Такое засилье бесовщины началось! Почему не поторопились с введением Закона Божия в школах? Скольких бы людей спасти удалось! А сейчас аборты да аборты — смерти детей, а с этими бедными женщинами что будет?
Чего ждать земле, залитой кровью младенцев? Есть грехи, которые смываются только кровью.
Все те несчастья и нестроения, которые еще грядут, только с Божией помощью преодолеть можно.
Чего ждет от нас Господь
Но все-таки Россия не потеряет свое значение в мировом масштабе. Потому что Запад уже давно весь развращен. А Россия была святой, святой она и останется. Все те пороки, которые насаждались нашему народу с Запада, будут нашим народом осознаны. Люди в них покаются. По-настоящему покаются!
Потому что нас хранит Бог для того, чтобы мы хранили истину Православия!
Достаточно изучить учение Святой Церкви! Да ты лишь заинтересуйся основами православного вероучения — и Бог сразу же пойдет тебе навстречу! Только призови — и придет на помощь! «Близ Господь всем призывающим Его, всем призывающим Его во истине» (Пс. 144, 18).
Господь и Сам еще призовет наш народ к покаянию. Мы не падаем духом. Христос восстановит во всей чистоте и славе нашу Святую Русь. Только устроит все Своим путем. Каким? Некоторым святым старцам это открыто. А для всех это станет явно тогда, когда сами уже всё своими собственными глазами увидите…
Сейчас уже многие процессы подспудно происходят. Я встречался с такими старцами, которые говорили, что дальше будет. И это вполне согласно с тем, о чем и раньше нас в лике святых ныне уже даже прославленные отцы предупреждали.
Часть III. Памятник любви
От сестер Снетогорского Рождества Богородицы женского монастыря
Державному Ермогену, священноархимандриту, духовному отцу нашему и пестуну, посвящается сей убогий снетогорский распев
Вышла черница на берег Великой.
Нежно гасил свои краски закат.
Вешние воды текли величаво.
В небо сестра обратила свои взгляд.
Небо высокое… звезды далекие…
Вокруг тишина и надмирный покой…
И всякая тварь — до былинки окраинной —
Торжественно держит незабываемый строй.
Душа вдруг раскрыла опавшие крылья
И сбросила разом все ковы земли.
И трепетно к Вышнему сердце забилось,
Горячей молитвы слова потекли.
О Боже! Вонми сей молитве убогой!
Сегодня в обители праздничный день.
Твой раб и служитель, наш вдохновитель
Сей есть именинник — отец Ермоген.
Какое великое нам даровнье —
Духовного старца Господь нам послал!
Удобнее, право, хранити молчание —
Не выразить словом сердечных похвал.
Вот он восходит в священных одеждах
С посохом власти во Святая Святых.
Высокий, красивый, таинственно-важный,
Державный Твой раб, часть Твоя от Твоих.
Сердце его — как у всех по размеру,
Но в нем умещается море сердец.
И ближний, и дальний, и знаемый дальнего
Мир обымает духовный отец.
Руце его… Эти руки постригли
За сорок-то лет сотни новых овец!
Праздник души, когда снова в монашество
Всех нас ведет наш духовных отец.
Очи его… Эти очи проникли
Сквозь толщи греха в тайны тысячей душ.
Увидели все. Обновили, очистили —
Обрел их для Неба божественный муж!
Как праотец наш Моисей держит руце
Денно и нощно горе́, так и он —
В молитве Творцу предстоит непрестанно,
Скрывая усердно усталости стон.
Каждую душу, что здесь подвизается,
Обласкает, оплачет, как нежная мать.
Врачует, как друг Жениха, — осторожно,
Чтоб образ Христа собой не занять.
В муках рожденья за всех пребывает,
Доколе не явится в них лик Христа.
Пороки, грехи слой за слоем снимает,
Начаток для вечности — души чистота!
Как сердце его износилося ради
Молитв за нас, грешных, за мир, что во зле!
Заботы — не только о крепости стада,
Но — стройка, подворье да хлопоты все.
Все наши немощи, беды, проблемы
Слагает семейка на рамо ему.
Расходы, уходы, дрова, отопление…
А в храме толпа — все к нему одному.
О Боже! Услыши наше прошение!
Ты только можешь достойно воздать.
За все его скорби, болезни, терпение
Сугубые милости просим подать!
Благоприятным Твоим утешением,
Господи, сердце его озари.
И все, в чем нуждается батюшка,
Господи, щедро его одари.
Вместе молиться имеем мы счастие,
Жить под покровом такого отца.
Станем же добре и будем едины,
Прославим за все Пренебесна Отца!
На день Ангела архимандриту Ермогену
На берегу реки Великой,
Среди сирени и цветов,
Есть монастырь — спасенья остров,
Он странников принять готов.
Его незримо охраняет
Не только крепость древних стен,
Но Матерь Божья и святые,
Средь них — святитель Ермоген.
Хранит он батюшку родного,
Ему он крепость подает,
Чтоб он молился днем и ночью,
«Да всяко некие спасет».
И ранним утром, и средь ночи
Приветно светится окно.
И на труды, и на молитвы
Нас вдохновлять ему дано.
И мы тогда припоминаем
Законы Божией любви,
И терпим немощи друг друга,
И терпим немощи свои.
Что надо в подвиге спасаться,
Трудом своим смиряя лень,
И слать благодаренье Богу
За каждый сотворенный день.
Растет у храма клен могучий,
Семейство птичье там живет.
Оно в его обширной кроне
Ликуя, Господу поет.
И мы, как птицы, Бога славим
Под кровом мудрого отца,
И благодарно открываем
Ему и мысли, и сердца.
В сей день торжественный и славный
Вам пожелание несем:
Душевной крепости, здоровья
И Божьей помощи во всем.
За храмов благоукрашенье,
За труд отеческих молитв
Пусть Пресвятая Богоматерь
Всегда вас, батюшка, хранит.
Пусть светлый Ангел ваш Хранитель
Вас ко спасенью приведет,
Пусть вместе с вами вся обитель
На лета многая живет,
Чтоб нам всегда на Промысл Божий
Несокрушимо уповать,
В твердыне веры православной
Несокрушимо устоять.
[1] Источники: Псковское информационное агентство, интервmю 2005 года и запись Л. Ильюниной 2018 года.
[2] Запись и редактура Л. А. Ильюниной.
[3] Запись и редактура Л. А. Ильюниной.
[4] Запись и редактура Л. А. Ильюниной. В главе использованы фотографии автора.
[5] Информационная служба Псковской епархии,
[6] Информационная служба Псковской епархии.
[7] Источник: архив газеты «Православный СанктПетербург». Записано А. Г. Раковым.
[8] Журнал «Православный летописец СанктПетербурга», № 25, 2006.
[9] Источник: архив газеты «Православный Санкт-Петербург». Записано А. Г. Раковым.
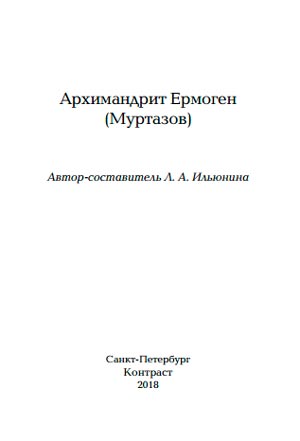



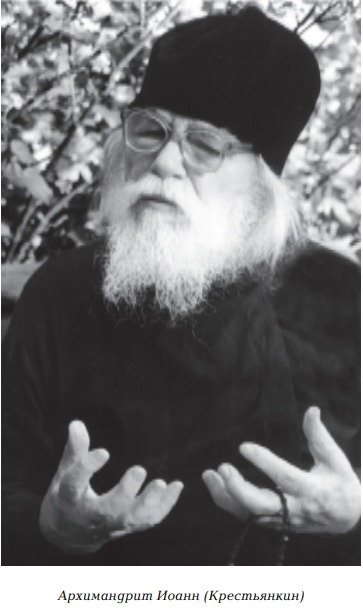






Комментировать