- От автора
- Предполагаем жить
- Центральное явление нашей культуры
- Пушкин и судьба России
- Христианство Пушкина: проблема и легенды
- Введение в художественный мир Пушкина
- Пророк
- Под небом голубым
- Несколько новых русских сказок
- "Евгений Онегин" как "проблемный роман"
- Да ведают потомки православных
- Поэт и толпа
- С веселым призраком свободы
- Слово о Пушкине
Центральное явление нашей культуры
Глава из книги «Да ведают потомки православных. Пушкин. Россия. Мы»
Пушкиноведение необозримо, это поистине «вторая литература», во многом параллельная отечественной литературе XIX-XX веков. Огромную часть пушкиноведения составляют споры. Явление это в науке обычное и необходимое, но в спорах о Пушкине есть своя любопытная специфика. Споры идут не только по специальным вопросам (биография, датировка, текстология, творческая история произведений и пр. и пр.), но и о самом смысле произведений и его оттенках; правда, без этого и в других «персональных» областях литературоведения никогда не обходится — но дело в том, каковы масштабы и характер расхождений и, в конечном счете, сам их предмет. При всех разногласиях, порой очень острых, при всем многообразии взглядов на творчество Толстого или Гоголя, Достоевского или Чехова либо гениев других литератур, в каждом случае имеются некоторые представления фундаментального характера, общие для всех спорящих. Можно по-разному относиться к тому или иному произведению того или иного писателя (скажем, к «Выбранным местам…» Гоголя или «Воскресению» Толстого), по-разному оценивать ту или иную позицию автора, по-разному трактовать те или иные детали, но в конечном счете и спорящим, и читателю ясно, что речь идет об одном и том же предмете, который всеми сторонами понимается приблизительно одинаково.
С Пушкиным положение иное. Расхождения сплошь и рядом начинаются чуть ли не с первых же слов, полемика разворачивается вокруг представлений именно фундаментального и ключевого характера — таких, от которых зависит общее понимание Пушкина, общее представление об этом феномене, художнике, личности. Очень часто споры, имеющие по видимости смысл специальный и локальный, на самом деле обнаруживают глубочайшую разницу в понимании самого важного в Пушкине, самого сущностного в нем. Вот наиболее известные или близко лежащие примеры.
Для известного критика пушкинского времени Н.Надеждина «Евгений Онегин» — всего лишь калейдоскоп «прелестных картинок», вставленных в неудачную «раму»; для Белинского — «энциклопедия русской жизни», то есть, по существу, тоже «картинки», но в достойной «раме»; для Достоевского — произведение, исполненное пророческого, нравственного и религиозного пафоса; для Ю.Лотмана — реальность от начала до конца литературная (правда, с сильной окраской социологического, культурного и бытового «энциклопедизма»); эти подходы только на первый взгляд кажутся параллельными и друг другу «не мешающими» — напротив: во многом друг друга и впрямь дополняя, и порой очень плодотворно, на глубине они чаще жестко друг другу противостоят. То же — и об отдельных героях: так, для Белинского Татьяна- «нравственный эмбрион», для Достоевского же — идеал русской женщины, да и человека вообще, а вот кто нравственный эмбрион, так это Онегин, — и спор этот актуален до сих пор.
На протяжении всего существования литературы о Пушкине стихотворение «Пророк» для одних — глубочайшее и важнейшее у Пушкина лирическое произведение, где раскрывается его поэтическая миссия, для других — живописная поэтическая стилизация, плод минутного вдохновения.
Для одних Пушкин — явление ренессансного характера, другие категорически с этим не согласны: одни видят в нем преимущественно языческое начало, другие — христианское; одни считают его атеистом, или деистом, или пантеистом, или агностиком, другие — верующим; одни — либералом, другие — консерватором и государственником. Одни считают, что творчество Пушкина есть единое целое, в котором воплощена подлинная душевная и духовная жизнь автора, другие — что оно есть цепь перевоплощений в «чужие» образы, спонтанных творческих актов, если и связанных между собою, то чрезвычайно прихотливо. И так далее, примеры можно умножать до бесконечности.
Все это приводит к мысли, что о Пушкине, центральной фигуре русской культуры, у нас отсутствует целостное представление, которое было бы общим для всех хотя бы в самых основных чертах. Но в таких условиях какое-либо изучение и вообще какой-либо диалог невозможны.
На этом основании время от времени возрождаются предложения вообще отказаться от попыток что-либо в Пушкине «понимать», призывают изучать его «как он есть» — никаких «толкований», никаких «домыслов», «только факты» (биографические и иные реалии, механизмы поэтики и пр.), — то есть по сути дела, изъять из рассмотрения Пушкина как целостное явление (как будто его как такового нет), рассыпать здание на отдельные кирпичики и предоставить каждому составлять из них свои комбинации.
Но ведь именно это как раз и происходит много лет и на каждом шагу — отсюда и те бесконечные споры, о которых говорилось выше. В результате пушкиноведение густо заселено «моими Пушкиными». Обозначаемое этой притяжательной формулой явление полно смысла и значительно уже своей уникальностью (слышал ли кто-нибудь о «моем Шекспире» или «моем Данте»?), — но оно естественно лишь в области приватных вкусов и личных предпочтений, не влекущих за собой ответственности. Претендуя же на статус в науке (и явочным порядком уже его обретя), оно отменяет понятие истины, а стало быть, по определению, и самой науки: наука становится сферой споров не об истине, а о вкусах, что уже похоже на безумие.
В безумии этом, однако, «есть своя система». Она состоит в том, что «мой Пушкин» — не просто моя концепция, мой взгляд и исследовательский подход или даже мой «вкус»; «мой Пушкин» есть мой автопортрет, моя личность в ее хотя бы некоторых фундаментальных чертах, с ее натуральными и идеальными сторонами (порой самим мною не осознаваемыми); это моя система ценностей, но не в моем личном умозрении и мнении, а — в работе, в реальном интеллектуальном действии; «мой Пушкин» — это ворота в мой духовный мир, моя вера.
Поэтому все сколько-нибудь серьезные споры о Пушкине суть споры аксиологические, споры духовные (хотим мы признаться в этом или нет), споры религиозные в широком смысле (каковы бы ни были сами наши убеждения) — столкновения разных духовных миров и разных вер.
Но ведь это вот что означает: что ключ к целостному пониманию Пушкина, что ключевое и фундаментальное в самом явлении Пушкина лежит в области не специальной — филологической, эстетической, собственно литературной, — а в сфере духовной; что коренное в этом феномене — его духовная природа. Сказать это необходимо потому, что в пушкиноведении, особенно советском, установилась прочная традиция отвергать всякие попытки исследовать духовный мир Пушкина, явленный в его текстах, как поползновения «субъективистские» и «ненаучные».
Подобные упреки были неизбежны и даже по-своему логичны в эпоху и с точки зрения «научного материализма», на которой стояла и филология. Но сама-то наука много старше философского материализма: она возникла, тысячелетиями развивалась и делала фундаментальные, на века и тысячелетия, открытия, стоя на почве противоположного философского воззрения, на почве религиозной, признавая не только объективное существование духа и духовной реальности, но и их первенство. С такой, традиционной точки зрения духовный мир Пушкина — реальность сложнейшая, огромная, но вовсе не такая туманная и принципиально непостижимая, как это представляется с точки зрения материалистического агностицизма.
Что же касается методологии исследования духовного мира художника (да и личности вообще), то такая методология существует как реальность не менее твердая и не более подверженная опасности субъективизма, чем любая другая методология. Это — аксиологический, или ценностный, подход.
Ведь духовный мир человека осуществляет себя в поведении — жизненном, интеллектуальном, нравственном, деятельностном, а у художника — еще и в собственно творческом поведении. Речь идет вовсе не о той сфере рефлексов, которая в обиходе называется «психологией»; речь идет о ценностной иерархии: системе предпочтений и неприятий, представлений о добром и дурном, высоком и низком, черном и белом, об идеале и пользе, об интересах моего «я» и интересах «других», о характере и уровне идеалов — обо всем том, что диктует нам наши внешние и внутренние поступки: все это своего рода несущая конструкция духовного мира человека в его умопостигаемых чертах. И все это вещи чрезвычайно конкретные, они есть у любого из нас и, натурально, у Пушкина; все это у него развивается, изменяется, становится, выражается в его творчестве, художественной системе произведения и всего художественного мира в целом, одним словом, представляет собой реальность, явленную на деле («Слова поэта суть уже его дела», — выражение Пушкина в передаче Гоголя), а стало быть, в посильных нашему разуму пределах постижимую.
Исследование этой реальности вовсе не отменяет исследования филологического, наоборот, оно его углубляет, утончает, одухотворяет, исполняет смысла и само без него немыслимо. В результате в неисчерпаемом и внутренне бесконечном пушкинском творчестве мы можем увидеть не неопределенную, «эстетическую» туманность, не броуново движение красот, а то, что составляет, так сказать, внутреннюю форму его как целого: пушкинскую картину мира, — и представляет аналог нашего мира как такового: не хаотическое и случайное образование, а прекрасное, совершенное и гармоничное в своем замысле целое, в центре которого — человек, одновременно и венчающий Творение, и уродующий его. Творчество Пушкина, помимо прочих своих сторон и качеств, есть картина мира, построенная на ценностных основаниях. Это не означает присутствия указующего перста, это означает только то, что в этой картине мира все, как говорится, на своих местах: как высокое и светлое, так и низкое и темное; все соотношения и связи в этой картине естественны так же, как естественна связь и соотношение света и теней между собою и с неровностями ландшафта. Отсюда и возможность постижения, хотя бы частичного, хотя бы в основных чертах, этих соотношений, а стало быть, и картины в целом, и пушкинского духовного мира.
Вместе с тем картина эта — не готовая, а становящаяся, пронизанная сплошным движением в сознании и творчестве автора. Поэтому пушкинское творчество есть также пушкинская духовная биография, процесс постижения мира через себя, процесс, в котором поэт является одновременно и субъектом, и объектом художественного созерцания и исследования; его собственный душевный и духовный опыт есть своего рода «магический кристалл», сквозь который «различаются» и «даль» Творения, и глубины человеческой души. Будучи картиной мира и духовной биографией одновременно, пушкинское творчество тем самым есть — выражаясь сухим языком терминов — художественная антропология, концепция человека.
Наконец, творчество Пушкина есть явление глубоко русское, чуждое рационалистической жесткости, отвлеченной философичности, прагматического активизма, романтической экзальтации (все это свойственно, конечно, и явлениям нашей культуры, но не составляет ее доминирующих качеств); оно есть напряженное сердечное созерцание мира как Божьего творения и мира человеческого духа, осуществляемое исключительно художественным образом. Если говорить о некоем общем характере этого творчества, который Белинский определил как «лелеющую душу гуманность», то это — непрестанное, непосредственное, но целеустремленное движение к истине, признаваемой за самоцель и опознаваемой в добре и красоте. Движение это сочетается с глубоким внутренним покоем, образ которого нам знаком по Святой Троице Андрея Рублева.
То, что Пушкин по сию пору остается центральной фигурой нашей культуры (а по мнению И.А. Ильина — и нашей истории), означает, что само явление его прочно и глубоко связано с судьбами России, ее отношениями с окружающим миром и ее ролью в его судьбах [темы настоящего (и следующего) выступления подробно развиты в работах «Удерживающий теперь. Феномен Пушкина и исторический жребий России» и «Феномен Пушкина в свете очевидностей» (см. в кн.: В. Непомнящий. Пушкин. Русская картина мира. М., 1999). — В.Н.].
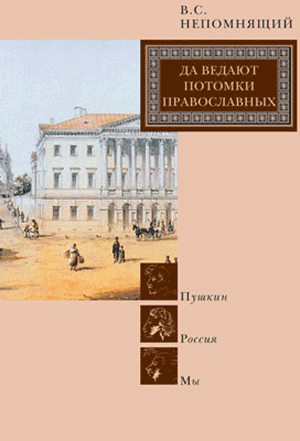
Комментировать