- От автора
- Предполагаем жить
- Центральное явление нашей культуры
- Пушкин и судьба России
- Христианство Пушкина: проблема и легенды
- Введение в художественный мир Пушкина
- Пророк
- Под небом голубым
- Несколько новых русских сказок
- "Евгений Онегин" как "проблемный роман"
- Да ведают потомки православных
- Поэт и толпа
- С веселым призраком свободы
- Слово о Пушкине
Под небом голубым
- Много лет одним из популярнейших пушкинских стихотворений была «Вакхическая песня»:
Да здравствует солнце, да скроется тьма!
Эти слова играли роль эмблемы времени. В последние годы я редко слышу эти стихи. У каждого времени свои песни и свой Пушкин. Сейчас чаще слышу другое: «Пир во время чумы». Эмблема сменилась.
Это хочется осмыслить. Не только в контексте нашей эпохи — тут-то все более или менее ясно, — но и в контексте Пушкина, творчество которого — единый мир.
Для этого придется вспомнить одну из главных лирических тем Пушкина, к которой не раз обращались исследователи, в том числе и я. Первые слова поэта, когда он узнал, что рана его смертельна, были: «Мне надо привести в порядок мой дом».
Дом для Пушкина ценность важнейшая, коренная, бытийственная. Дом — жилище, убежище, область покоя и воли, независимость, неприкосновенность. Дом — очаг, семья, женщина, любовь, продолжение рода, постоянство и ритм упорядоченной жизни, «медленные труды». Дом — традиция, преемственность, отечество, нация, народ,» история. Дом, «родное пепелище», — основа «самостоянья», человечности человека, «залог величия его», осмысленности и неодиночества существования. Понятие сакральное, онтологическое, величественное и спокойное; символ единого, целостного большого бытия.
На протяжении лет Дом представал у него в разных обликах и масштабах. В Лицее — шутливо стилизованное под «келью» жилище молодого и беззаботного «мудреца»-вольнодумца. В стихотворении 1819 года «Домовому» впервые появляется «семьи моей обитель». «Узнике» — «темница сырая», откуда хочется улететь. Во второй главе «Онегина» (1823) с юмором и даже иронией, но и со скрытой завистью рисуется устойчивость домашнего деревенского быта.
Вскоре после приезда в Михайловское, в двойном изгнании и огромном одиночестве, возникает новый образ:
Земля недвижна; неба своды,
Творец, поддержаны Тобой,
Да не падут на сушь и воды
И не подавят нас собой.
Авторское примечание: «Плохая физика; но зато какая смелая поэзия!» — сегодня можно прочесть решительнее: плохая физика — но зато какая верная метафизика. В «Подражаниях Корану» эта метафизика Дома развита и разработана: «Зажег Ты солнце во вселенной, Да светит небу и земле, Как лен, елеем напоенный, В лампадном светит хрустале». Солнце — «святая лампада» Дома, которая горит всегда. В качестве Дома предстает все Творение — Мир, или, по-древнегречески, ойкос (дом); тема впервые обнаруживает свой сакральный характер.
Однако после этого, словно спрыгнув с неба на землю, автор резко сужает масштабы. 1825 год: «Наша ветхая лачужка И печальна и темна. Что же ты, моя старушка, Приумолкла у окна?» Маленькое убежище двух одиноких людей, окруженное извне бурею, мглой, вихрями, — почти экзистенциалистское ощущение сиротства; единственное утешение- «Спой мне песню… выпьем, добрая подружка…». Наш классический вариант: грустно, одиноко, безвыходно? — выпьем и споем. Лучший выход, когда от тебя ничего не зависит.
«Зимнему вечеру» предшествует как раз «Вакхическая песня». Вот тут открывается нечто совсем неожиданное.
Что смолкнул веселия глас? Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Раздайтесь, вакхальны припевы! Спой мне песню…
Да здравствуют нежные девы
И юные жены… Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей…
Полнее стакан наливайте!… …Где же кружка?
Что смолкнул веселия глас? Сердцу будет веселей.
Да скроется тьма! Буря мглою небо кроет…
И печальна и темна…
«Зимний вечер», выходит, своего рода вариация «Вакхической песни». И там и там — некое ограниченное пространство: в «Зимнем вечере» материальное, в «Вакхической песне» идейное: замкнутый круг единомышленников, друзей «муз» и «разума», за пределами его — «тьма» («Буря мглою…»). От участников пира ничего не зависит, они лишь ожидают «ясного восхода зари» с полными стаканами и вакхальными припевами.
В «Вакхической песне» мне всегда чудилась какая-то тайна; или секрет; или странность. Лучезарное, сверкающее, словно отлитое из золота, стихотворение светит как бы отраженным светом, изнутри же излучает темную ауру одиночества. В нем, вполне годном быть гордым гимном просветительства, есть свойственная этой идеологии эйфорическая безопорность и абстрактность. Не столько жизнь, сколько эмблема. Неудивительно, что, проецируясь в «Зимнем вечере» на обыкновенную человеческую жизнь, эта эмблема даже тему Дома заставляет горчить и отдавать заброшенностью.
Тут просматривается, вероятно, процесс роста, в котором дар то и дело опережает своего обладателя, видя и зная больше, чем он. В «Подражаниях Корану» поэт был выведен на уровень темы Дома как метафизической, сакральной темы Творения, где «святая лампада» Солнца, зажженная Творцом для человека, никогда не гаснет и где человек никогда не одинок. Но воплотив то, что знает дар, сам поэт словно бы забывает об этом: «Вакхическая песня», похоже, — попытка силовым приемом преодолеть момент уныния, обернувшись на тот просветительский оптимизм, с которым в ходе кризиса начала 1820-х годов произведен расчет (хотя, по-видимому, и не полный).
Дар, однако, и тут оказывается мудрее и сильнее «идеологии». Пирующие пируют во «тьме», которую освещает «лампада», но не «святая», а обыкновенная и к тому же символизирующая «ложную мудрость»; при ее-то свете они и воспевают просветительский кумир «разума»; однако в конце откуда-то возникают совершенно не свойственные Просвещению ноты: истинное Солнце, которого ждет автор и свет которого затмит лампаду «ложной мудрости», — оно, оказывается, «святое» и «бессмертное» солнце «ума» («ум», греческий «нус», есть категория не рациональная, а духовная, от неоплатоников перешедшая в христианское учение). Интуиция дара чуть ли не контрабандой, помимо намерений автора наводит свой порядок: одухотворенность одерживает верх над «идеологией» (как в «Зимнем вечере» тоска и грусть одухотворяются простой человеческой нежностью к живому и близкому человеку).
Проходит год — и то, что было обретено в «Подражаниях Корану», не только возвращается, но и осмысляется по-новому.
В последней строке стихотворения «Пророк» — «Глаголом жги сердца людей» — речь идет о пробуждении в людях совести. В произведениях Пушкина художественно уловлена онтология совести. Совесть есть способность человека сознавать себя человеком — венцом, центром и целью Творения. Это — чувство богосыновства, сознание себя образом и подобием Божьим, притом сознание не спесиво-дурацкое, а глубокое, трепетное, налагающее сыновнюю ответственность за свое поведение и помыслы и потому связанное с понятием греха. Такое сыновство включает чувство Отчего Дома как космическое — в древнем и буквальном смысле слова «космос»: устроенность, порядок, осмысленность и красота. Грех есть нарушение порядка, разрушение Дома.
Человек, влачившийся в «пустыне мрачной», существовал в плоском эмпирическом мире, совершал путь по горизонтали жизни наличной, текущей, преходящей — «утомительной» и «однозвучной».
Встреча с шестикрылым серафимом дала ему Дом — большое бытие: на горизонтали восставилась вертикаль — не только физическая («неба содроганье» — «гад морских подводный ход»), но и метафизическая («горний ангелов полет» — «дольней лозы прозябанье»). Человек оказался на пересечении, в центре открывшейся вселенской сферы, ойкоса, — и увидел, что все это — для него, что Дом этот — Отчий. Иначе — зачем посылать ангела к ничтожной твари, взывать к ней: «Исполнись волею Моей» — и велеть глаголом жечь сердца… других ничтожных тварей?
Творение осмысляется теперь в связи с человеком — единственным во вселенной существом, обладающим совестью — чувством Дома.
«Ойкос» в новогреческом произносится «экое». То, что скрыто в недрах «Пророка», с очевидностью содержится в том чувстве, которое сегодня заставляет нас поминать совесть, говоря о проблеме планетарных судеб Земли, формулируемой как «проблема экологии».
Сделав от «Пророка» скачок на три года вперед, мы встретимся со стихотворением, заставляющим вспомнить и лицейскую «келью», и «темницу» «Узника»: «Монастырь на Казбеке» (1829), где монастырь парит, «Как в небе реющий ковчег».
Лицейская «келья» сменилась «заоблачной кельей», «темница» «Узника» — «ущельем».
…»Давай улетим!
Мы вольные птицы;
пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда…»
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!
Горизонтально-физическое измерение сменилось вертикальным, «морские края» стали небом (море и небо у Пушкина всегда рядом), а «гора» — символом спасения: к горе, как к «вожделенному брегу», пристал ковчег Ноя, спасшийся от всемирного потопа.
Еще через год появляется «Пир во время чумы».
Многозначительна исходная ситуация. Посреди бушевания грозных внечеловеческих сил, сродни потопу (раньше это была «тьма», потом «Буря… Вихри снежные»), — небольшая группа людей пирует, отгородившись от остального мира каким-то отдельным, особым убеждением, которое они, по-видимому, считают единственно верным — но которое никуда не ведет. Они пассивно ждут- но не «восхода зари» и не конца бури, а конца жизни, и приветствуют смерть поднятыми стаканами: «…спой Нам песню, вольную, живую песню, Не грустию шотландской вдохновенну, А буйную, вакхическую песнь, Рожденную за чашею кипящей».
«Такой не знаю…» — отвечает Председатель и поет гимн.
Он не знает, а автор знает. В трагедии и гимне чуме причудливо переплетаются мотивы «Вакхической песни» (тоже своего рода гимна) и «Зимнего вечера».
Начальный монолог Молодого человека, призывающего выпить в память Джаксона «С веселым звоном рюмок, с восклицаньем», отсылает к призыву: «Что смолкнул веселия глас?»
Дважды звучащие в трагедии обращения: «Спой, Мери, нам уныло и протяжно…» и «спой Нам песню, вольную, живую…» — к дважды повторенной просьбе: «Спой мне песню, как синица…», «Спой мне песню, как девица…»
Гимн чуме начинается с «могущей Зимы», в «Зимнем вечере» «Вихри снежные».
В гимне — чума «к нам в окошко… Стучит могильною лопатой»; «Зимнем вечере» — буря, «как путник запоздалый, К нам в окошко стучит».
В гимне чуме — «Зажжем огни…» (не «лампады» ли?), а что до «солнца… ума», то — «Утопим весело умы» (это вместо «заветных колец», бросаемых «в густое вино»).
Наконец, вместо «Да здравствует солнце, да скроется тьма» прямо в рифму: «Итак, — хвала тебе, Чума; Нам не страшна могилы тьма а «дева-роза» с ее «дыханьем», быть может полным Чумы, — эхо «нежных дев» и «юных жен».
Гимн чуме, а затем «глубокая задумчивость» Председателя в финале — мрачно-романтический апофеоз, а затем крушение просветительской утопии, попытавшейся изъять из жизни людей ее священные основания, обойтись без них.
Первые слова трагедии — «Улица. Накрытый стол…»
Стол всегда стоял в доме и был принадлежностью дома, сакральной, как и сам дом. В «Пире во время чумы» действует бездомное человечество, уличное человечество. Дом утрачен не из-за эпидемии, а из-за того, что утрачено чувство священности дара жизни и таинства смерти; бездомное человечество — это человечество, потерявшее святыни. Все, что делается, делается наоборот: мертвых предлагают поминать весельем, смерть прославляют в гимне, на призыв не лишать себя надежды «встретить в небесах Утраченных возлюбленные души» откликаются насмешками; перед лицом грозящего конца люди не становятся лучше, не думают друг о друге и о душе: Луиза так же суетна, завистлива и злобна, как была, и, может быть, еще хуже: «…ненавижу Волос шотландских этих желтину». Все продолжается так, как будто ничего в мире не изменилось. О Председателе, очнувшемся от наваждения, говорят: «Он сумасшедший, — Он бредит о жене похороненной», — для этих людей ничего реального, кроме смерти, не существует, это поистине мертвецы, которым остается лишь хоронить своих мертвецов. Эти люди больны — и не чумой; чума лишь обнажила их внутреннюю, духовную болезнь, она сама вызвана этим состоянием; она у Пушкина так же не случайна, как не случаен всемирный потоп. Люди «Пира во время чумы» забыли свое божественное происхождение, назначение и достоинство, иначе говоря — потеряли совесть и живут без нее, думая, что так тоже можно. Это и есть их бездомность. От этого и чума.
«Пир; его картина», писал Достоевский, картина «общества, под которым уже давно пошатнулись его основания. Уже утрачена всякая вера; надежда кажется одним бесполезным обманом; мысль тускнеет и исчезает: божественный огонь оставил ее; общество совратилось и в холодном отчаянии предчувствует перед собой бездну и готово в нее обрушиться. Жизнь задыхается без цели. В будущем нет ничего; надо требовать всего у настоящего, надо наполнить жизнь одним насущным. Все уходит в тело, все бросается в телесный разврат и, чтоб пополнить недостающие высшие духовные впечатления, раздражает свои нервы, свое тело всем, что только способно возбудить чувствительность. Самые чудовищные уклонения, самые ненормальные явления становятся мало-помалу обыкновенными. Даже чувство самосохранения исчезает».
Странно даже, что тут имеются в виду только «Египетские ночи», а не «Пир во время чумы», — настолько каждое слово соответствует смыслу и тексту трагедии-предостережения. Но здесь мы, кажете уже перешагнули границу веков.
- В январе (1989 года, после спитакского землетрясения — В.Н.) в газетах промелькнуло сообщение: в одной из разрушенных армянских деревень оставшиеся в живых люди решили, что наступил конец света и они — последние жители Земли.
У них были основания так думать. Сегодня и академику, и крестьянину ясно, что вечность земного существования не есть неотъемлемое достояние человечества. «Неба своды» могут пасть «на сушь и воды». Бессмертие человечества (заменившее нам бессмертие души) может прекратиться.
Остается удивляться, до чего совершенны наши механизмы психологической защиты. Никто ничего не осознает. Никто не слышит тех, кто стремится осознать. Все идет своим чередом, «пир продолжается». Продолжает насиловаться природа, продолжают расстреливаться небеса. Продолжается распространение орудий убийства людей, социальная злоба и семейная вражда. Продолжается похоть тела, похоть престижа, комфорта и власти, культ удобств, развращение людей прагматической «моралью» и бесчинство «свободы слова»; продолжается все, что не требует труда души, все, что помогает убедить себя и других, что души не существует, — «как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех» (Мф.24,38-39). Уже земля встает на дыбы то там, то здесь, уже звезда полынь (чернобыль — вид полыни — В.Н.) пала на источники вод, и воды стали горьки (Откр.8,10-11), но Луиза продолжает ненавидеть Мери и желтину ее шотландских волос. Никто не думает, что сегодняшние слова могут стать последними.
Озонная дыра — это, может, еще не конец, может, обойдется и с прочими плодами прогресса; но если изживается понятие о совести («разрешено все, что не запрещено») — это конец. А как он будет — перегрызем ли друг другу глотки, или сойдем на нет, вымрем, словно какие-нибудь ящеры, от неведомой чумы, или деградируем до биологической приставки к компьютеру, — в любом случае это будет позорная гибель: люди исчезнут оттого, что осквернили прекрасно устроенный Дом.
«Разврат последних упований… и — даже не щадя последних мгновений сознания! — содрогается Достоевский в рассказе «Бобок». — Им даны, подарены эти мгновения и… Нет, этого я не могу допустить…»
И правда, не хочется верить. Ведь это удивительное существо, человек, он так прекрасен в замысле своем, так может быть разумен, добр, отважен и мудр, так способен на любовь беззаветную, на самопожертвование даже до смерти; невозможно же допустить…
И последние слова «Пира во время чумы»: «…Председатель остается погружен в глубокую задумчивость», — ведь это все-таки слова надежды, не так ли?
У Пушкина последние слова вообще значат страшно много. «Мне что-то тяжело; пойду, засну. Прощай же!» («Моцарт и Сальери»); «Где ключи? Ключи, ключи мои!..» («Скупой рыцарь»); «Я гибну — кончено — о Дона Анна!» («Каменный гость»), — все это почти формулы.
Сократ перед смертью напоминает ученику о петухе, обещанном в жертву богу врачевания; Вольтер, у которого кюре надеется хоть перед смертью вырвать признание божественности Иисуса Христа, отворачивается к стенке с требованием никогда не говорить ему «об этом человеке»; Пушкин, вспоминает А. Тургенев, «умирал тихо, тихо». Все слова, сказанные им за эти сорок пять часов, символичны — и просьба: «Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше — ну, пойдем!» — и ответ Данзасу, обещающему отомстить убийце: «Нет, нет, мир, мир», — и предпоследние: «Кончена жизнь… Жизнь кончена» (это ведь, точно, слова эсхиловской Кассандры); и, наконец, самые последние: «Тяжело дышать, давит». Блок истолковал эти слова в общественно-историческом смысле: «Его убило отсутствие воздуха». А другой смысл — внутренний, личный, он ведь тоже был? Что, помимо надвигающейся телесной смерти, могло давить его — ведь даже врага своего он простил?
Зимой 1987 года мне позвонила незнакомая женщина. Сначала робко извинилась, потом сказала, что она не москвичка, из Псковской области, и очень просит, если нетрудно, о встрече на несколько минут: ей необходимо задать мне очень важный вопрос — о Пушкине. Хорошо, сказал я, приходите, и подумал, что это студентка или учительница.
Она пришла и, размотав с головы толстый серый платок, повязанный поверх черной шубейки, оказалась молодой, круглолицей, светлорусой, голубоглазой и необыкновенно привлекательной; на мгновение в моем воображении возник портрет Авдотьи Панаевой, но тут же исчез: здесь не было этой гордости, этого сознания неотразимости, а взгляд — такой чистый, светлый взгляд сегодня редко встретишь.
Она села на диван, положив руки на колени, как девочка. Я спросил, откуда она. Оказалось, из села в Опочецком районе. Нет, она не учительница и не студентка, к филологии и литературе отношения не имеет (спустя несколько лет я имел радость повидаться с нею в Пскове; она бывшая актриса, работает в храме — В.Н.). Ко мне обратилась потому, что прочла в «Новом мире» статью «Пророк», держала в руках мою книгу «Поэзия и судьба».
Я видел, что она волнуется; дело заключалось вот в чем: она хотела спросить, существуют ли точные, документальные, неопровержимые доказательства того, что именно Пушкину принадлежит (тут меня словно в сердце стукнуло: я как-то сразу догадался, что она имеет в виду) «Гавриилиада».
Я зачем-то сообщил ей о своей проницательности. Это не очень задержало ее внимание, она ждала ответа.
Как ей хотелось услышать, что доказательств нет! Я рассказал ей, что они есть. Рассказывал и чувствовал себя человеком — бывают такие, — в котором самое противное то, что он всем всегда говорит правду. Я стал утешать ее — объяснять, что он тогда был просто мальчишкой в «этой теме», что «это» для него было вроде как греческий миф, с которым делай что хочешь, говорил о воспитании, о среде, о состоянии умов, — все это она слушала внимательно, но как-то понуро, и тень не сбегала с лица. Я рассказал, что раскаяние его было искренним и, по всему судя, началось задолго до разбирательства «дела» об анонимной богохульной поэме; что, быть может, не в последнюю очередь стыд мешал ему признаться перед чиновниками (другое дело — царь); что он потом всю жизнь не мог забыть своего проступка, раздражался и краснел, когда упоминали, а тем более хвалили поэму; что след этих переживаний идет через его произведения, свидетельствуя о свободном, никем не вынужденном покаянии.
В конце концов мне, кажется, удалось немного загладить перед ней его вину; она посветлела — и так горячо и трогательно благодарила, словно я помог ей в жизни.
Стесняясь отнимать у меня время, она начала собираться, заматывать свой платок. Уезжать ей нужно было завтра утром; у нее были увесистые сумки — наверное, с продуктами, она ведь приехала в Москву из деревни. Сколько времени она потратила на то, чтобы разыскать мой телефон, дозвониться, добраться со своими сумками? Мне неловко рассказывать об этом, как будто я залезаю в чужую душу, — но и оставить эту встречу при себе тоже не могу. Когда она, еще раз поблагодарив, с легкими полупоклонами и пожеланиями всякого добра, ушла, мне в сердце словно ударила волна праздничной радости, надежды, благодарности и веры — и вместе с тем тонкой и смутной тревоги, что в дальнейшем не раз заставляла оглянуться на этот разговор и в конце концов прямо на середине писания первого варианта вот этой работы (слабый проблеск замысла которой мелькнул много лет назад) неожиданно изменила ее, казалось бы, прочно сложившийся план.
- «Как скучны статьи Катенина!» — сказал умирающий Василий Львович Пушкин, когда увидел у своей постели племянника. После чего племянник «вышел из комнаты, чтобы (так передает Вяземский. — В.Н.) дать дяде умереть исторически».
Живо представляю, как потрясенного Пушкина тихо, на цыпочках прямо-таки выносит за дверь, у него лицо человека, не знающего, смеяться или плакать.
Однако что-то коробит. Человек умирает, а тут…
Ведь не наплыв противоречивых чувств заставляет племянника покинуть комнату. Тут кое-что посильнее любых эмоций человечности: нагло топчущий все на своем пути бес художества, это чудовище, заставляющее известную породу людей обливаться слезами над вымыслом и цепким взглядом наблюдать особенно выразительные черты живой, невымышленной агонии. Слова, сказанные литератором, оказываются важнее жалости к умирающему человеку, важнее даже приличий. Тут ни до чего: сотворяется образ — умирающий литератор: «Как скучны статьи Катенина!», — все прочее немедленно тушуется, иссякает.
«Пушкин был, однако же, — тактично заступается Вяземский (тоже, значит, чувствует!), — очень тронут всем этим зрелищем и во все время вел себя как нельзя приличнее».
Менее чем через месяц, уже из Болдина, Пушкин в веселую минуту пишет Плетневу: «Около меня Колера Морбус. Знаешь ли, что это за зверь? того и гляди, что забежит он и в Болдино, да всех нас перекусает — того и гляди, что к дяде Василью отправлюсь, а ты и пиши мою биографию. Бедный дядя Василий! знаешь ли его последние слова? (Рассказывает. — В.Н.)… Каково? вот что значит умереть честным воином, на щите, le cri de guerre a la bouche! (с боевым кличем на устах, франц. — В.Н.)»
Итак, «Нестор Арзамаса, В боях воспитанный поэт… Защитник вкуса, грозный Вот» («арзамасское» прозвище Василия Львовича; стихи — лицейские) запечатлен в привычном со времен «Арзамаса» ореоле ироикомической доблести, овеянной славой древних («на щите»). И что бы еще ни говорил «бедный дядя» на смертном одре, «последними словами» его отныне будут вот эти, декретированные Пушкиным, про Катенина и его скучные статьи, все прочее никому не интересно. Образ сотворен, и притом самого излюбленного Пушкиным сорта: образ-анекдот, образ-слух, образ-миф — и условный, и опирающийся на абсолютно безусловную реальность, ибо выражающий основной пафос жизни В. Л. Пушкина — литературного бойца и вообще литератора по преимуществу. Встань на минуту из гроба автор «Опасного соседа», сам не последний шутник в литературе, он первым делом расцеловал бы нашего поэта за остроумие, за оказанные воинские почести, за верность словесности — а легкомыслии простил бы. А Что бы тот ответил? Наверное, отшутился бы.
Отношение его к смерти выглядит странным по сравнению со многими современниками. Чаще всего это отношение спокойное или равнодушное (в юности — легкомысленное, вообще свойственное возрасту). «Когда дело дошло до барьера, — вспоминал Липранди, — к нему он являлся холодным как лед… подобной натуры, как Пушкина в таких случаях, я встречал очень немного».
О казни декабристов: «…повешенные повешены; но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна». Каково? «…повешены», и — мимо, к более важному «но…».
О недавнем кумире: «…тебе грустно по Байроне, а я так рад его смерти…», потому-то и потому-то — речь идет о творческой эволюции Байрона… Так что же — коли развивался не так, то… туда ему и дорога, что ли?..
Кто-то назвал Грузию врагом нашей литературы — она лишила нас Грибоедова; так что же, без запинки отвечает Пушкин, ведь Грибоедов сделал свое дело, он уже написал «Горе от ума»…
«Ох, тетенька! ох, Анна Львовна, Василья Львовича сестра!» — милая шутка, сочинена на досуге вместе с Дельвигом, название — «Элегия на смерть Анны Львовны».
Все это нельзя списать на молодость — она уже позади; к тому же молодость глядит мимо смерти, скользит по ней взглядом; а он смотрит ей прямо в лицо.
Главное же вот что. Ему и живого человека нетрудно представить умершим: «Придет ужасный час… твои небесны очи Покроются, мой друг, туманом вечной ночи…» Что же он будет делать, если это случится? Вот что: «В обитель скорбную сойду я за тобой И сяду близ тебя, печальный и немой, У милых ног твоих — себе их на колена Сложу — и буду ждать печально… но чего? Чтоб силою ……..мечтанья моего…» — перо его спотыкается, останавливается, наконец немеет; набросок — 1823 года, того периода, когда он отчаянно мечется между «ничтожеством» (небытием) и бессмертием души. Тут и обнаруживается впервые какая-то детская вера в «силу мечтанья» и жажда воззвать к умершему.
В 1830 году в Болдине, когда он шутит о дяде, эта жажда доходит чуть ли не до визионерства: «Я тень зову, я жду… Ко мне, мой друг, сюда, сюда! Явись… Приди… сюда, сюда!» Ткань «Заклинания» трепещет от этих ударов, кажется, слова прорвут дыры, и там что-то проглянет, что-то случится, ибо она у него и в самом деле не совсем мертва, — так сильна связь их душ.
Тогда же обращение к другой женщине — «Прощанье». «В последний раз» дерзая «мысленно ласкать» ее образ, он тут же произносит: «Уж ты для своего поэта Могильным сумраком одета, И для тебя твой друг угас». И дальше: «Как овдовевшая супруга», -уславливаясь, что отныне они друг для друга — мертвые. То есть сам нежно, но твердо рвет сердечные, духовные связи, расстается глубоко, до конца, до смерти. Стало быть, смерть для него бывает и в жизни. Запомним.
Теперь назад — к знаменитой элегии 1826 года.
- Под небом голубым страны своей родной
Она томилась, увядала…
Увяла наконец, и верно надо мной
Младая тень уже летала:
Но недоступная черта меж нами есть.
Напрасно чувство возбуждал я:
Из равнодушных уст я слышал смерти весть,
И равнодушно ей внимал я.
Так вот кого любил я пламенной душой
С таким тяжелым напряженьем,
С такою нежною, томительной тоской,
С таким безумством и мученьем!
Где муки, где любовь? Увы, в душе моей
Для бедной, легковерной тени,
Для сладкой памяти невозвратимых дней
Не нахожу ни слез, ни пени.
Не правда ли, она так же, если не более, жива, чем это будет в «Заклинании»? «…и верно… уже летала» — повергает в трепет категорической достоверностью факта (только задним числом постигнутого: я еще не знал, а она верно уже летала!) — факта присутствия живой «младой», «бедной» и не условно поэтической «легкокрылой», нет — легковерной тени (на неожиданность сдвига из «поэтичности» в реальность давно указала Л.Я.Гинзбург: см. «О лирике». Изд.2-е.Л.,1974,с.203. — В.Н.) — легковерной потому, что она уже побывала, уже веяла над ним, а он, даже узнав об этом, не только не воззвал, нет, даже и не почувствовал ничего кроме равнодушия.
Объясняли: он, мол, тогда же узнал о казни декабристов — до возлюбленной ли тут? Здесь, помимо морального безразличия, любопытный принцип позитивистской методологии: все в произведении выводить из окружающих текст обстоятельств, а от самого текста держаться подальше.
Ну, а если заглянуть все-таки в текст? — есть же в нем, наверное, свой порядок, логика, постройка, связи смыслов…
Кстати — насчет пушкинских лирических построек. Их порядка, связности, внутренней иерархии. Внимание к этому предмету в пушкиноведении не очень распространено, скорее наоборот. Чаще всего стихотворение воспринимается как лирический гул, из которого можно извлечь те или иные фрагменты и составить из них композицию, отвечающую моим представлениям о смысле этого гула, — меняя и порядок, и связи, и внутреннюю иерархию текста. Логика, алгоритм пушкинской постройки остаются в стороне. В результате элегия «Под небом голубым…» чаще всего понимается как отражение, или рассмотрение, некоего психологического парадокса (любил страстно, а о смерти узнал равнодушно) — и все. Или как ламентация по поводу непрочности наших чувств — и все. В обоих случаях стихотворение превращается в горестное «ах!», в художественное междометие.
Если же отнестись к пушкинским стихам как к постройкам, можно увидеть бездну необыкновенно важных вещей.
Встречается, к примеру, любопытная особенность: то, что является главным, по смыслу ключевым, порой проскальзывает в общей фабуле высказывания незаметно, сглаживаясь в ней, что называется, заподлицо. К примеру, повествовательная фабула II главы «Онегина» организована таким образом, что центрального эпизода — строф о Татьяне — может как бы и не быть: рассказ до и после них великолепно обходится без Татьяны, словно ее и нет. Или история с посланием «В Сибирь»: ходило более двадцати списков стихотворения, но в некоторых было не четыре строфы, а всего три — то есть после слов «…Разбудит бодрость и веселье, Придет желанная пора» сразу шло «Оковы тяжкие падут…»; то есть самая лиричная строфа, «Любовь и дружество до вас Дойдут сквозь мрачные затворы, Как в ваши каторжные норы Доходит мой свободный глас», исчезла, выпала под «прямым углом» чисто «гражданского» зрения; в остальных же списках она неприкаянно маялась, меняя свое место: в одних на третьем, в других на втором. Она воспринималась как излишне «личная» в столь «общественном» контексте. А между тем ее лиризм и есть та материя, в которой воплощено самое главное сообщение: надежда на амнистию, вынесенная автором из приватного разговора с новым императором, и весть о том, что его, автора, «любовь и дружество» не сидят сложа руки (подробно см. в книге «Поэзия и судьба», изд. 2-е и 3-е: «Народная тропа», глава «Судьба одного стихотворения» — В.Н.).
Иначе говоря, лирически центральный момент порой как бы утаивает свою семантическую центральность. На самом деле таким моментом в «линейный» контекст вводится новое измерение, требующее от нас поднять голову и посмотреть, откуда берутся желуди. Такой случай представляет собой и наша элегия.
Сначала говорится, что она, верно, уже была тут, «уже летала». Потом — о «недоступной черте», о равнодушии. Говорю о его трепете, недоумении, ужасе. Отвечают: ничего особенного: любил, а потом разлюбил, и вот теперь напрасно чувство возбуждает, — печально, конечно, но с кем не бывает, вот об этом и элегия, и зачем усложнять (см.:С.Бочаров. О чтении Пушкина. — «Новый мир»,1994, № 6. — В.Н.).
Ну что ж, дело и впрямь обычное; только стоило ли автору в таком случае столько распинаться? если обычное? Можно ведь было и покороче:
Под небом голубым страны своей родной
Она томилась, увядала…
Увяла наконец, и верно надо мной
Младая тень уже летала;
Но недоступная черта меж нами есть.
Напрасно чувство возбуждал я:
Из равнодушных уст я слышал смерти весть,
И равнодушно ей внимал я.
…..
Где муки, где любовь? Увы, в душе мое!
Для бедной, легковерной тени,
Для сладкой памяти невозвратимых дней
Не нахожу ни слез, ни пени.
Вот так совсем хорошо; во всяком случае, благополучно укладывается в печальную и без усложнений формулу «любил, а потом разлюбил» — и притом без малейшего остатка! То есть, при определенном понимании элегии, под известным углом зрения нанес, текст Пушкина может быть сокращен на целую строфу и при этом ничего, в сущности, не потеряет! — как если бы строфа была приятной, но необязательной деталью всего этого художества.
Но стоит лишь пожелать услышать не лирический гул, а — что человек хочет сказать, стоит лишь попытаться понять, зачем он это пишет и почему именно так пишет, а не иначе как-нибудь, — как тут же эта лишняя строфа оглушит:
Так вот кого любил я пламенной душой…
Что это?!
Что означают слова: «Так вот кого…»?
Ведь мы говорим так, когда узнаем о ком-то нечто заставляющее изменить свое отношение к этому человеку, свой взгляд на него, нечто неожиданное, может быть страшное: так вот кто это!
Если нужен пример — вот он, по времени совсем рядом. Как нарочно.
«Из Ариостова Orlando furioso» («Пред рыцаре блестит водами») — единственный переведенный Пушкиным отрывок прославленной итальянской поэмы. Зачем-то понадобилось перевести эпизод, в конце которого Орланд узнает, из надписи на камне пещеры, об измене Анжелики и в ужасе не может поверить:
…Два, три раза, и пять, и шесть
Он хочет надпись перечесть;
Несчастный силится напрасно
Сказать, что нет того, что есть.
Он правду видит, видит ясно,
И нестерпимая тоска,
Как бы холодная рука,
Сжимает сердце в нем ужасно,
И наконец на свой позор
Вперил он равнодушный взор.
Готов он в горести безгласной
Лишиться чувств, оставить свет.
Ах, верьте мне, что муки нет,
Подобной муке сей ужасной.
На грудь опершись бородой,
Склонив чело, убитый, бледный,
Найти не может рыцарь бедный
Ни вопля, ни слезы одной.
Сходство, перевода — сделанного, в общем, с замечательной точностью (благодарю Р.И.Хлодовского за подстрочный перевод Ариостова текста — В.Н.) — с элегией разительно, оно не могло остаться незамеченным, но почти не осмыслено. Два момента сходства видны как на ладони: «Вперил он равнодушный взор» — «И равнодушно ей внимал я»; «Найти не может… Ни вопля, ни слезы одной» — «Не нахожу ни слез, ни пени». Есть и третий момент: вся гамма чувств Орланда буквально вопиет: «Так вот кого любил я…» Эти слова, будто «пропущенные» у Ариосто, — всплывают в элегии, как раз в той «лишней» ее строфе, которая может быть «пропущена» при поверхностном чтении, но представляет собою, по-видимому, лирический центр элегии, ее сердце и тайну. Ведь именно эти слова означивают тот новый взгляд на нее, то новое знание о ней, которые поражают автора элегии, как Орланда; как если бы автор узнал, например, подобно рыцарю, что ома его предала, ему изменила, его оставила. «Так вот кого любил я…»
Но он узнал о другом; он узнал, что она оставила его — оставив жизнь. Ситуации, что и говорить, разные. Почему же реакции так схожи? И что это за новый взгляд и новое знание, окаменяющие его Орландовым равнодушием?
Я говорю: «окаменяющие», — но этого образа у Пушкина нет: ни в переводе, ни в элегии. А вот в оригинале Ариосто он есть; и здесь единственная явная вольность, которую позволил себе переводчик. У Ариосто говорится:
Наконец глазами и мыслями
Уставился он на камень, сам подобный
равнодушному камню.
Пушкин оба «камня» устранил и сказал вот как:
И наконец на свой позор
Вперил он равнодушный взор.
Это чрезвычайно странно, особенно на фоне общей точности перевода. Пушкин снова вытаскивает наружу то, что в оригинале может лишь подразумеваться, откровенно меняет текст оригинала.
Одним словом, в перевод из Ариосто явно вкраплена личная лирика.
Вообще говоря, Пушкин, как правило, для того и переводит, чтобы высказаться самому. Но здесь, повторяю, при общей точности переделка выглядит кричаще. Переводчик передает Орланду некое собственное чувство, которое он называет чувством позора. И это происходит в том как раз месте перевода, который непосредственно перекликается — темой «равнодушия» — с элегией «Под небом голубым…».
В итоге картина получается такая.
Несчастный силится напрасно
Сказать, что нет того что есть.
Он правду видит, видит ясно,
И нестерпимая тоска, Напрасно чувство возбуждал я:
Как бы холодная
рука,
Сжимает сердце в нем ужасно,
И наконец на свой позор Из равнодушных уст
я слышал смерти весть,
Вперил он равнодушный взор. И равнодушно ей внимал я.
Готов он в горести безгласной
Лишиться чувств, оставить свет.
Ax, верьте мне, что муки нет,
Подобной муке сей ужасной… Так вот кого любил я…
Найти не может рыцарь бедный
Ни вопля, ни слезы одной. Не нахожу ни слез, ни пени.
Совпадения — порой текстуальные — основных мотивов и общность всего хода очевидны. Перевод и элегия проникают друг в друга, образовавшийся сегмент разрастается, включая по меньшей мере пять мотивов:
— равнодушие;
— «напрасные» попытки обмануть себя («Сказать, что нет того, что есть» — «Напрасно чувство возбуждал я»);
— отсутствие слез;
— новое знание о ней и связанные с этим мука и недоумение;
— наконец, «позор», скрыто присутствующий в элегии (предательское равнодушие былого страстного любовника), но по имени названный в переводе (у Ариосто и намека на такое нет).
В сущности, элегия и перевод образуют единый контекст [Академическое собр.соч. (Н.В.Измайлов) датирует перевод «январем — июлем (?) 1826 г.» Конечно, следует оставить только июль, даже конец июля, и избавиться от знака вопроса — то есть признать, что перевод мог быть сделан только после получения вести о смерти Амалии Ризнич. Кстати, именно июлем, а не «январем — июлем» Т. Г. Цявловская датировала черновые строфы перевода («Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты», М. — Л., 1935, с.500), а Р.В.Иезуитова — и беловые («Пушкин. Исследования и материалы», т. XV, СПб., 1995, с.255). В издании «Academia» (1935, т.2) перевод помещен и вовсе после элегии, а не до нее, как в Академическом издании. Точную последовательность, впрочем, вряд ли можно установить; важно, что перевод и элегия соседствуют самым ближайшим образом. — В.Н.].
Необходимо подчеркнуть то, что, собственно, разумеется само собой, но при разборе стихов Пушкина часто забывается. Элегия, конечно, не могла быть написана сразу, в момент известия о смерти; она не есть первая непосредственная реакция, она — рефлексия над реакцией, отделенная каким-то временем: не «отражение» испытанных чувств, а — постижение их. Вероятно, для этого и оказался нужен перевод, где описывается чужой — Орланда, — но сходный опыт: такое переживание, в котором — и равнодушие, и потрясение.
Возможно даже, что здесь — движение души понять (или простить?) себя, уподобив себя Орланду: ведь его равнодушие — не следствие каменной толстокожести, напротив! — вот и оправдание…
Но оправдание — дело «человеческое, слишком человеческое», а потому непоэтическое. Не дело гения. Человек может остановиться на оправдании, а творческий гений — нет, он идет дальше, идет мимо оправдания, вплоть даже до «позора».
Человек и хотел бы, может, приравнять смерть былой возлюбленной к ее измене — весьма даже поэтично, — но творческий гений и на поэтичности не задерживается, идет сквозь нее, к правде переживания как она есть. Человек хочет «выйти из положения», выглядящего сомнительно, — гений стремится понять саму природу положения: в чем его сомнительность, его «позор».
Два стремления — гения и его обладателя — накладываются друг на друга, переплетаются; и поэтому переплетаются элегия и перевод, взаимоотражаясь и обмениваясь мотивами, словами, определениями: так, ощущение «позора» есть у автора элегии, но появляется это слово не в ней, а в переводе; «так вот кого любил я» мог бы сказать Орланд, но говорит это автор элегии о себе; а к чему говорит — не очень понятно.
Но на фоне сходства, переплетения, чуть ли не путаницы, все ярче проступает простое различие: Орланд равнодушен оттого, что потрясен, а автор элегии потрясен тем, что равнодушен.
То есть — Орланд чист, а автор элегии — нет. Ибо причина потрясения и равнодушия Орланда — вне его, а у автора элегии она — внутри, в нем самом; отсюда и «позор», и потрясение.
Но если такова разница — отчего же путаница? Чем обоснованы переплетения элегии и перевода? Ведь сами ситуации несопоставимы: одна — изменила, другая — умерла! Одна — жива, другая…
Но вот в том-то и дело, что другая — тоже жива. Он сам это сказал. Он даже почти уверен, что она была здесь: «Младая тень уже летала». Уже летала — только он не «внимал». Он «внимал» лишь «смерти весть»; лишь это, а не незримое веяние ее тени, оказалось для него Действительным и внятным. Иначе говоря, не живая душа предстала ему, а женщина во плоти, которую он страстно любил, — только теперь мертвая.
В таком случае понятно, что значит: «Так вот кого любил я…» Так вот что я любил… Взгляд на труп.
Здесь у этого ощущения огромный объем. Ища его границ, нахожу с одного края — «Сцену из Фауста» с мучительным, близким к самоистязанию, анализом:
На жертву прихоти моей
Гляжу, упившись наслажденьем,
С неодолимым отвращеньем… —
и дальше «жертва прихоти» сравнивается, конечно, с трупом.
А с другого края — заупокойная стихира:
«Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижду во гробех лежащую, по образу Божию созданную нашу красоту, безобразну, и безславну, не имущу вида…»
Расстояние между «Сценой…» и стихирой необозримо — но лишь по житейским меркам. По духовным — иначе. И там, и там — протест духа против смерти, безобразящей и бесславящей «по образу Божию созданную нашу красоту». Разница в том, что Фауст, со своею «прихотью», со своим «наслажденьем», оказывается непосредственно причастен смерти, ее безобразию и бесславию, оказывается заодно с ней, оттого дальше и сравнивается с грабителем и убийцей. Это говорит ему Мефистофель. Он говорит Фаусту правду, и тот, не выдержав пытки, его прогоняет. Прогоняет, однако, не сразу после ужасных и циничных слов об «ободранном теле» зарезанного «нищего», о «продажной красе» и «разврате» — это Фауст еще вынес, — а после следующих слов:
Потом из этого всего,
Одно ты вывел заключенье…,
Фауст.
Сокройся, адское творенье,
Беги от взора моего!
Мефистофель не договорил, и Фауст знает — чего именно тот не договорил, и страшится услышать это. Из всего контекста явствует, что он боится собственного «заключенья»: любви нет, это красивая выдумка, мечта, есть лишь «наслажденье» телом.
Если же так — и в самом деле впору «Все утопить»…
История постижения Пушкиным того, что такое любовь, история драматическая, длительная, полная трагических сомнений в том; способен ли он на истинную любовь, то есть такую, которая захватывает все существо (в то время как его существо «захвачено» Музой), история и породившая, как я убежден, лирический миф об «утаенной любви» (который есть не что иное, как жажда истинной любви), — эта история требует отдельного, шаг за шагом, уяснения (начать такое уяснение я отважился в цикле статей «Лирика Пушкина»: «Литература в школе»,1994,№4-6; 1995,№ 1. — В.Н.). «Сцена из Фауста» (1825) — один из самых отчаянных ее шагов. Элегия «Под небом голубым…» — не менее, если не более, отчаянный момент в стремлении постигнуть — что же такое настоящая — то есть не чреватая смертью — любовь.
Но такое стремление есть стремление религиозное, познание любви есть богопознание, жажда истинной любви — духовная жажда. Любовь не просто связана с верой, любовь есть вера в действии.
И в элегии тема любви есть тема веры: ведь он не слышал и не знал, как летала над ним младая тень, — он в это верит, и безусловно верит; в данном случае это прежде всего тема веры в наличие иного мира, невидимого. И с этим связано величайшее духовное напряжение элегии как лирического процесса. В ней приходят в непосредственное, как говорится жесткое, соприкосновение здесь и там. Это любимые слова Жуковского — можно сказать, из его поэтического символа веры. В элегии Пушкина здесь и там не символичны, это реальность, осязаемая перстами души, и она причиняет боль, ибо персты натыкаются на «недоступную черту» — черту между живым и мертвым: так вот кого любил я!.. «Где муки, где любовь?»
Обычно, повторяю, толкуют о «парадоксе»: мол, любил с такою страстью, а о смерти узнал с равнодушием — как странно! Может быть, даже наверное, он и сам чувствовал «парадокс» и странность. Но для его гения ни парадокса, ни странности нет. Объясняя его чувства, гений говорит:
Так вот кого любил я пламенной душой
С таким тяжелым напряженьем,
С такою нежною, томительной тоской,
С таким безумством и мученьем!
Из всех определений той любви гений выбирает (кроме одного-единственного «нежною») сплошь отрицательные, связанные не с здоровым и живительным, а с болезненным и смертельным. Может ли быть столь безысходно мрачной характеристика истинной любви в ее полноте, радости, жизненной силе? «Тяжелое напряженье» — в родстве с совсем другим: с «неодолимым отвращеньем» («Сцена из Фауста»), с «тяжелым умиленьем», которое появится в VII главе «Онегина»
Как грустно мне твое явленье,
Весна, весна, пора любви!
(Вариант: Как тяжко мне твое явленье)
…
С каким тяжелым умиленьем
Я наслаждаюсь дуновеньем
В лицо мне веющей весны…
…
Все, что ликует и блестит,
Наводит скуку и томленье…
(А дальше будет: «…весной я болен; Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены…» — «Осень», 1833). Комплексом отрицательных ощущений сопровождается определенное плотское состояние («Кровь бродит»), которое чем дальше, тем яснее осознается как нездоровое («болен»), враждебное, мешающее жить и творить, отзывающее! смертельным.
В сущности, описание страсти к ней, данное в элегии, есть каталог черт самодовлеющей чувственности, в обиходе на каждом шагу самозванно присваивающей имя «любовь».
И тогда, в самом деле, никакого парадокса — любил страстно, а смерти отнесся равнодушно — нет; связь здесь не парадоксальная, прямая: чем сильнее власть чувственности над духом, тем естественнее равнодушие, когда «объект» исчезает как чувственный: с глаз долой — из сердца вон. Вот она, «недоступная черта».
Пастернак мечтал написать «восемь строк о свойствах страсти». В шестнадцати пушкинских строках явлено одно лишь свойство одной страсти, страсти чисто плотской: свойство превращать живое в мертвое. Ведь автор элегии только что говорил о «младой тени», и тут же выходит, что он равнодушен — и не к камню какому-нибудь или, в самом деле, к трупу (на труп он как раз взирает с ужасом: «Так вот кого…»), — нет, он равнодушен к ней, к этой тени, к живой душе. В физической жизни она умерла лишь физически, лишь телом; в его «пламенной душе» она умерла совсем; вот в чем «позор».
В обыденном, нижнем, душевном плане он, подобно Фаусту, еще склонен отождествлять страсть с любовью и недоумевать (вроде нас): как же так, было тяжелое напряженье, нежная, томительная тоска, было безумство, было мученье — одним словом, любовь! — а теперь ничего? Но в высшем, духовном плане он, точнее его гений, чувствует другое: что же это была за любовь, столь бренная, столь просто исчезнувшая? Так вот как любил я…
Так чувствует его гений, слышит его интуиция (пока он сам недоумевает и содрогается над «парадоксом», ищет ответа и обращается за помощью к Ариосто) — и оттого элегию переполняет боль и жалость к ней, «бедной, легковерной тени», что доверчиво летала над ним. Вся элегия — сплошное рыдание по ней и по себе: ее живая душа, младая тень, и его «пламенная душа», оказывается, ничем не связаны… Он рыдает о том, что не может рыдать над ней.
Это высшее «я» человека рыдает над низшим, это скорбит о нас Царство Божие, что внутрь нас есть, скорбит Бог, Который есть любовь. Элегия не говорит этого, она это являет — клубящаяся стихия мыслящего чувства, вихрь духовных ощущений, для самого автора покамест лишь отчасти постижимых.
Устремления духа слишком часто невнятны душе, и чувства свои мы нередко толкуем превратно. Так случится с Онегиным в VIII главе романа: ведь он поистине любит Татьяну, его «Душе настало пробужденье», — но свое собственное чувство к ней он еще не постиг: судя по его письму, он продолжает понимать и расценивать это чувство в привычном плане «страсти нежной» — оттого Татьяна и называет его «чувства мелкого рабом». Что такое любовь — это ему, может быть, объяснит последний разговор с Татьяной.
И высший план элегии «Под небом голубым…», в котором гений автора, его дух уже постигает, «от противного», истинную сущность любви, — самому автору еще предстоит лирически осваивать. Вот почему у элегии будет продолжение, в котором автора ждет то же, что, может быть, ждет Онегина за пределами романа. А именно: в «Заклинании», через четыре года, ему откроется высший, духовный план той любви, которая в элегии явилась лишь в натуральном естестве низшего, душевного бытия. Там он осмыслит свое чувство по-другому, он будет звать ее — «Явись… Приди…» — перелететь через «недоступную черту» физического: там этой черты, в сущности, нет, отсюда — свобода и уверенность взывания, открытость финала, как распахнутость объятий: вот-вот явится.
Не будет в «Заклинании» и мотива чувственности, подменяющей любовь. Ведь он зовет ее «не для того», чтобы овладеть миром невидимым на своей, так сказать, территории, но совсем для другого:
Хочу сказать, что все люблю я…
Того же, кому видится в «Заклинании» декадентского толка эротизм, спрошу: не случалось ли переживать или видеть объятия и поцелуи горячо любящих друг друга людей после казавшейся безнадежной или просто очень-очень долгой разлуки — войны, болезни с угрозой смерти, после тюрьмы, ссоры или разрыва? В эти мгновения счастья, поистине причастные вечности, не божественный разве эрос, чуждый всякого телесного эротизма, нисходит на людей, будь то стосковавшиеся супруги или просто любящие друзья? Что же сказать про мечту о свидании с теми, кого от нас отделяет черта, недоступная для земной, преходящей чувственности, но бессильная перед любовью? Кто не верит в высший, божественный эрос, тот толкует об изощренной некрофильской чувственности «Заклинания».
Вчуже это можно понять: уж слишком остро сочетание мертвенного, холодного, лунного, сине-фиолетового колорита с трепетом и пламенностью взывания. Но прислушаться: «Явись, возлюбленная тень… Искажена последней мукой. …Иль как ужасное виденье…», — он готов на все теперь, лишь бы загладить то равнодушие, тот отстраненный, отчужденный взгляд на мертвую плоть: «Так вот кого любил я…»: он готов встретить ее любою — лишь бы сказать, что тогда он ошибся, что «все люблю я».
А посреди этих взываний:
Не для того, что иногда
Сомненьем мучусь…
Каким сомненьем, в чем? Сама необъясненность слова говорит о том, что оно и так должно быть понятно: «сомнение», без дополнений и определений, есть, в сущности, термин: религиозное сомнение: есть ли жизнь там? есть ли бессмертие души? — все то, что мучило его в лирике начала 20-х годов («Надеждой сладостной младенчески дыша», «Ты, сердцу непонятный мрак» и др.).
Вопрос о любви снова оказывается един с вопросом веры. Следующий шаг он сделает в «Для берегов отчизны дальной».
- Собрав теперь вместе разнообразные равнодушия к смерти — своей ли, чужой, поэтического кумира, повешенных, возлюбленной, — легкомысленные шуточки, граничащие с кощунством, надежды на оживляющую «силу мечтанья», страстные призывы, обращенные туда, можно найти всему этому общий знаменатель. Он, конечно, есть. Это не идея или убеждение, а чувство, во всей суверенности и специфике этого понятия, — чувство, могущее быть выражено им только художественно, что и происходит, — чувство, говорящее, что смерти, в сущности нет. То есть она, конечно, существует, но — лишь в горизонтальном, физическом мире и имеет, стало быть, частичное, условное бытие; это лишь «ночлег» («Телега жизни»); это — граница, или черта, которая непреодолима физически, но может быть проницаема духовно. Чувство это намекает: человек, полагающий в физической смерти абсолютный конец, сам уже не совсем жив; оно говорит: предоставь мертвым погребать своих мертвецов.
Тут мне обязательно скажут (если уже не сказали): нельзя же так буквально толковать поэтическое чувство и то, что является всего лишь художественным образом… Подобное снисходительное мнение о «художественности», о том, что она не столько выражает, сколько замещает правду, встречается особенно часто, по моим наблюдениям, как раз у людей, изучение «художественности» сделавших своей профессией. В ответ им повторю сказанное В. С. Соловьевым о том «раздвоении между мыслью и чувством, которым с прошлого (XVIII — В.Н.) века и до последнего времени страдает большинство художников и поэтов. Простодушно принимая механическое мировоззрение за всенаучное и единственно научное, а потому несомненное, веря ему на слово, эти служители красоты не верят в свое дело. Как художники они передают нам жизнь и душу природы, но при этом в уме своем убеждены, что она безжизненна и бездушна, что их чувство и вдохновение их обманывают, что красота есть субъективная иллюзия. А на самом деле иллюзия только в том, что отражение ходячих мнений на поверхности их сознания принимается ими за нечто более достоверное, чем та истина, которая открывается в глубине их собственного поэтического чувства».
Художественный образ — не Эвклидова реальность, он сверхдостоверен и именно потому кажется «условным» с точки зрения Эвклидовой логики; отсюда и «раздвоение между мыслью и чувством». «Поэт, — говорит современный поэт, — как и всякий человек, живущий сердцем и умом, всю жизнь колеблется между «да» и «нет», между верой и неверием. Но поэт, может быть, чаще других ощущает себя орудием высших сил: он и сам пишет, и кто-то как будто подсказывает ему, водит его рукой. Как писал Баратынский, «дарование есть поручение» (Александр Кушнер. «Иные, лучшие мне дороги права…». — «Новый мир» 1987,№1,с.234. — В.Н.). Что касается Пушкина, то существует прямое, без всякого «художества» и очень горькое собственное его свидетельство такого «раздвоения». Это знаменитый отрывок письма об «уроках чистого афеизма» (от апреля — первой половины мая 1824 года: — «…беру уроки чистого афеизма. Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный афей (атеист), которого я еще встретил… Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но к несчастию более всего правдоподобная. «. — В.Н.). Обычно этот отрывок привлекают у нас как раз для доказательства «чистого афеизма» (хотя в таком случае зачем «уроки»?). В другой своей работе я уже пытался прочесть его, обращая внимание на моменты, всеми обойденные, кроме (как я узнал позже) С.Л.Франка, проделавшего сходный анализ полвека назад, поэтому сошлюсь на него: «Своего наставника в атеизме «англичанина, глухого философа» он (Пушкин. — В.Н.) называет «единственным умным афеем, которого я еще встретил», а о своем мировоззрении он отзывается: «Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастию, более всего правдоподобная». Сердце Пушкина влеклось, очевидно, уже в то время к совсем иному мировоззрению» (С.Л.Франк. Этюды о Пушкине. Изд.3-е, Париж, 1987,с.37. — В.Н.). «Несчастие», о котором пишет Пушкин, в том, что «неутешительную» систему приходится принимать — она, как сказал бы Соловьев, отвечает «механическому» мировоззрению как «всенаучному и единственно научному, а потому несомненному». Видно, как Пушкин, явно считающий свой «афеизм» не очень «чистым», отчаянно ищет истину, пусть хоть «неутешительную», но чтобы это была доказанная истина.
О том, что такая потребность в истине, жажда избавиться от «раздвоения» существовала издавна, говорит написанное еще восемнадцатилетним лицеистом стихотворение «Безверие», где, рисуя душевные муки «отпадшего от веры», «собою страждущего» человека, он все эти переживания вмещает в формулу: «Ум ищет Божества, а сердце не находит» — и требует «снисхожденья», а не порицания.
Герой стихотворения нигде не исходит из того, что отсутствует сам предмет веры, что «Божества», которого «ум ищет», не существует объективно, — все время говорится лишь о том, что его «сердце не находит». А близко к финалу — прямая речь, посвященная вожделенной, но недостижимой мечте: «С одной лишь верою повергнуться пред Богом!» Таким образом, название концептуально точно: стихи не о безбожии, а о безверии («Бабушка, а Бог знает, что мы в Него не верим?» — вопрос современного ребенка. — В.Н.).
Все это у нас привычно списывали на «заданную тему» (выпускной экзамен 1817 года), тем самым видя в стихах акт лицемерия (что, впрочем, никого не беспокоило); внешние обстоятельства снова впереди текста. Но что в таком случае мешало изобразить законченного безбожника и осудить его? — лицемерить так лицемерить. Однако Пушкин выбирает более лирический и, видимо, отвечающий требованиям совести ракурс; объемность и драматизм стихов связаны с этичностью позиции. Но еще важнее другое: созданная в юношеском стихотворении духовная ситуация будет в точности повторена зрелым поэтом в элегии «Под небом голубым…». Разница лишь в предметах: в «Безверии» это «Божество», в элегии — «младая тень»; но отношения совпадают совершенно. «Божество» в «Безверии» явно существует в действительности — его как бы нет только для «несчастного», который «Безумно погасил отрадный сердцу свет»; «младая тень» в элегии тоже несомненно существует, но ее как бы нет для автора, который воздвиг в своей душе «недоступную черту» равнодушия. «Недоступная черта», собственно, и есть причина терзаний героя «Безверия», к которому «мощная… рука с дарами мира Не простирается из-за пределов мира…» Отсюда — если автор элегии равнодушен, то и герой «Безверия» — «Холодный ко всему и чуждый к умиленью». Наконец, «толстовская» по своему аналитизму деталь элегии — «Напрасно чувство возбуждал я» — есть не что иное, как свернутое, сплющенное, но адекватное воспроизведение центральной формулы «Безверия»: «Ум ищет… а сердце не находит».
Можно утверждать, что перед нами вырисовалась одна из главных коллизий духовной жизни Пушкина — притом то и дело сознательно объективируемая и остро переживаемая. Она состоит в том, что — пользуясь определениями В. С. Соловьева — «поэтическое чувство», достигая известной «глубины», неизменно обнаруживает в этой глубине некое таинственное свойство, постоянно атакуемое с «поверхности… сознания», но неистребимое, хоть и не находящее никаких «доказательств», кроме как в себе же самом.
Вера, по одному из определений апостола Павла (Евр.11,1), есть уверенность в невидимом. Свойство, обнаруживаемое в глубинах духа поэта его «поэтическим чувством», в точности соответствует такому определению; так, в «Безверии» «невидимое» есть «Божество», в элегии «Под небом голубым…» и в «Заклинании» — это бессмертная душа.
Думается, формула «Ум ищет Божества, а сердце не находит» не есть целиком пушкинская мысль (в дневнике под 9 апреля 1821 года почти такая же мысль отмечается как убеждение Пестеля), а скорее максима в духе западного XVIII века (не случайно в дневнике она дана на французском), выдержанная в рационалистически-просветительском духе и построенная на довольно грубых в данном случае абстракциях «ума» и «сердца». Духовная сущность «раздвоения» более понятна, если обратиться к категориям души и духа. Душа человека «ищет» (или не ищет), находит (или «не находит») то, что духу известно отроду, по его божественному происхождению.
Вера дана Пушкину — как вообще человеческому духу — изначально, как дар, то есть даром, ни за что. Душа — которая, по слову другого поэта, «обязана трудиться» — должна распознать этот дар, возделывать его собственным усилием. Любой дар, любой талант, если он не распознан, не возделан, не применяется по назначению, часто ведет к трагическим, безобразным и разрушительным странностям поведения (вспоминается Достоевский с его «парадоксальным» убеждением, что именно в «мертвом доме», полном преступников, обитает, быть может, самая талантливая и духовно значительная часть русского народа. — В.Н.). Есть вера угнетаемая и деформируемая и потому сказывающаяся в сниженных, профанных формах, которые тем причудливее и даже предосудительнее, чем сильнее прирожденный дар веры. Отсюда все «странности» поведения, житейского и поэтического, — от кощунства над смертью до кощунства над самим предметом веры, — оставившие обильные следы в поэзии лицейской и начала 1820-х годов; здесь мы и находим истоки «Гавриилиады».
- «Россия, в лице Пушкина, создавшего «Гавриилиаду», пережила Ренессанс», — писал В.Ходасевич; «…из всех оттенков его атеизма тот, который проявился в «Гавриилиаде», — самый слабый и безопасный по существу, хотя, конечно, самый резкий по форме. Чтобы быть опасным, он слишком легок, весел и неприкровен. Он беззаботен — и недемоничен. Жало его неглубоко и неядовито»; «…я бы сказал, что это есть подлинный дух Ренессанса».
Под «духом Ренессанса» Ходасевич разумеет «нежное сияние любви к миру, к земле… умиление перед жизнью и красотой», проявившиеся в пушкинской поэме и побуждающие «спросить: разве не религиозна самая эта любовь?». Но ведь качества, тут перечисленные, свойственны — и именно религиозно свойственны — и «Песни Песней», и Давидовым псалмам, и Иоанну Дамаскину, и безымянному иконописцу (по преданию — апостолу Луке) Владимирской Божьей Матери, и Андрею Рублеву, а вовсе не только Ренессансу. Ходасевич под так понимаемым «подлинным духом» Ренессанса не подразумевает ли скорее формы — живописные, пышные, пиршественно-плотские, — в которых действительно выражались чувства «любви к миру, к земле»? Впрочем, Рафаэль скажем, совсем не пышен, скорее Даже аскетичен по-своему, тем не менее он носитель подлинного «ренессансного духа»; более того, именно в Рафаэле (а до него в Леонардо) этот «дух» как верование нашел свое исчерпывающее воплощение, притом концептуальное. От ранних флорентийских мадонн (См.: С.М. Стам. Флорентийские мадонны Рафаэля. Саратов, 1982. В этой работе проведен детальный анализ композиции, мизансцен, пластики ряда рафаэлевских мадонн, великолепно показывающий высокую степень секуляризованности художественного мышления великого мастера. В особенности интересен разбор картин, где Мадонна изображена с двумя младенцами — Иисусом и Иоанном: он демонстрирует, что младенец Иоанн — Предтеча и Креститель Иисуса — всегда трактуется у Рафаэля как крайне нежелательный для матери гость, едва ли не враг, от которого она оберегает своего ребенка; таким образом, евангельская история осмысляется не в провиденциальном, а в чисто житейском плане несчастья, грозящего мальчику по имени Иисус. Достоверность такого анализа нисколько не умаляется тем, что автор книги приписывает Рафаэлю собственные атеистические убеждения.) до Сикстинской, этого несравненного апофеоза подвига (но не в духе беззаветной веры и высокого смирения, а в духе героического самопожертвования, предвещающем романтизм), искусство Рафаэля воплощает евангельскую тему в таких решениях, которые, в сущности, ставят под сомнение акт, являющийся с христианской точки зрения центральным событием истории и краеугольным камнем вероисповедания, а именно добровольную крестную смерть Сына Человеческого во искупление грехов людей. И представляет этот акт как жертву в лучшем случае вынужденную — или как гордое противостояние безликой силе, родственной античному Року. Из художественного мира ренессансной картины вытеснялась идея богочеловеческой природы Христа и его божественного назначения, а образующуюся пустоту заполнял ужас физической смерти, преодолеваемый не столько верой, сколько героикой долга. Воскресение и бессмертие души, по существу, отменялись; Сын Божий превращался в обыкновенного мальчика; образ, который должен был говорить о вечной жизни, напоминал о власти смерти; исподволь разваливалось все здание христианского вероучения, вся его система ценностей, иерархия горнего и дольнего.
Нет сомнения, что Рафаэль был убежденным христианином. Однако убеждение и верование — разные вещи; и если убеждения принадлежат лично художнику, то от имени верования говорит его дар; в этом и разница между тем, что хочет сказать художник, и тем, что у него сказывается. «Подлинный дух» Ренессанса, его мировоззренческое кредо состоит не в «любви к миру, к земле» и «умилении перед красотой» (это лишь качества, а не дух) — он состоит в веровании, что человеческое может быть мерой божественного. Не небо сходило на землю, а земля проецировала себя на небо. Икона, «окно в мир горний», сменилась картиной — зеркалом мира дольнего. То, что не умещалось в зеркале, оказывалось лишним, вытеснялось в область абстрактно-спекулятивную у философов, в сферу мифа и аллегории у художников. Величавые движения, которыми ренессансные мадонны заслоняли младенца Христа от опасности, исходящей от младенца Иоанна, тем самым незаметно превращая божеское в человеческое, со временем преемственно сменились размашистым издевательством Эвариста Парни над самой идеей божественного, мифологически-карикатурно воплощенной в его «Войне богов».
Поставив «Гавриилиаду» рядом с этим яростным памфлетом против христианства — одним из непосредственных литературных образцов пушкинской поэмы, — нетрудно увидеть, какая пропасть отделяет кощунственную выходку Пушкина от просветительского манифеста Парни. Старательно наследуя пародийное начало от «Войны богов», Пушкин «не дотягивает» до ее идеологичности: у него выходит комическая сказка. И как почти в каждой сказке, тут возможны подстановки, подмены персонажей. Перед нами «модель» (сказка, собственно, всегда «модель») некоего соблазнительного события, героями которого могут быть кто угодно: хоть архангел, хоть «затянутый… адъютант». В дальнейшем Пушкин таким же образом «смоделирует» в «Графе Нулине» событие римской истории. Одним словом, то, что у Парни является содержанием — а именно сознательная дискредитация святынь христианской веры, — Пушкиным берется только как форма. Это, безусловно, кощунство, но такое, поверхностность которого не просто «неприкровенна», а прямо очевидна. Иначе говоря, это игра. И действуют в ней соответственно не лица (в «Войне богов» пародийное изображение Лиц Троицы мыслится как разоблачение догматов с позиции «разума»), а маски или ряженые, разыгрывающие пародию на сюжет Благовещения — своего рода «мистерию-буфф», типологически связанную со средневековым карнавалом.
Конечно, автор «Гавриилиады» здесь совершенно ни при чем: он оглядывается не на средневековье, а на Вольтера и Парни, во многом обводя их прописи; но в отличие от них святыня для него, в общем, безразлична и привлекается лишь как материал для фантазии или тема для вариации. (Неудивительно поэтому, что под именем «царя небес» выступает, в сущности, Зевс, а под маской Гавриила — Гермес.) Вопрос о святыне, ее подлинности или ложности для него пока вообще всерьез не стоит. Он не выдает зеркало за окно — он резвится, отвернувшись от окна. И это коренным образом отличает дух «Гавриилиады» от духа Ренессанса — духа секуляризации святыни изнутри самого о ней понятия.
Эта внутренняя отчужденность от святыни, принимаемой лишь как «тема» или «материал» (наподобие, повторюсь, греческого мифа), дает ему безграничную свободу: он безобразничает вовсю, можно сказать, con amore (с увлечением); следуя за своими учителями атеизма и литературной эротики, он может сделать с образом героини все, что способно подсказать его «французское» воспитание, — но эффект получается довольно неожиданный. Соблазняемая у нас на глазах героиня удивительным образом оказывается вне сферы глумления и кощунства, вне иронии и пародии, вызывая скорее улыбку, с которой мы глядим на ребенка, не разумеющего ни иронии, ни прямой насмешки. Соблазнение касается лишь ее тела, но не души, по-прежнему наивной, — отсюда и юмор, окрашивающий ее образ и клонящий некоторые места поэмы к бытовой стилистике «Графа Нулина» и «Домика в Коломне».
Ходасевич справедливо объясняет все это «богомольным благоговением Пушкина перед святыней красоты» — чувством, в котором С.Л.Франк видел прежде всего оттенок прирожденного религиозного преклонения перед божественным эросом, нисходящим на землю в облике красоты. А поскольку у Пушкина где «святыня красоты», там и святыня правды, то происходит самое, быть может, удивительное и непредвиденное. Посреди откровенно бутафорских фигур, пародийных масок, на фоне стилистики то условно литературной, то ренессансно-пышной, то гобеленной, героиня глядится как живое яблоко, вставленное в натюрморт, — совершенно живая, исполненная очарования, женственности и простодушия. Перед нами не пародия на лицо евангельского рассказа, а просто совсем другое лицо, милая тезка.
Если это и похоже на Ренессанс, то на ранний: не случайно «Гавриилиаду» связывают со второй новеллой четвертого дня «Декамерона» Боккаччо (о проказнике, выдавшем себя за архангела Гавриила) — произведения хоть и фривольного, но еще не затронутого десакрализующими мотивами.
Ренессансный художник, пиша «церковную» картину, проходит сквозь святыню как через неощутимую воздушную среду; русский поэт, надевая бесовскую маску, натыкается на нечто, кощунству не поддающееся. Дар, обнаруживающий связь с национальной духовной традицией и соприродность «тайному» верованию автора, ограничивает бесчинство «убеждений».
Тем лучше для русского читателя; «Гавриилиада» «соблазнит» его, только если он к этому уже хорошо подготовлен (так случилось с Блоком. До него «Гавриилиада», несмотря на авторитет Пушкина и на притягательность запретного плода, не давала «традиции» (вспомним слова Ходасевича о «неглубоком жале» пушкинского кощунства). Единственное в большой русской литературе подлинное, «глубокое» кощунство, совершаемое Толстым в «Воскресении» над таинством Евхаристии, осуществляется на совсем иных основаниях. Блок же — человек новой эпохи, и в своем «Благовещении» с его подлинно кощунственным эротизмом, несравнимым с «Гавриилиадой», он тем не менее именно на нее оглядывается. — В.Н.).
И тем хуже для автора. Все, что у него «не получилось» в его надругательстве над религиозной и народной святыней — образом Богоматери, — не получилось вопреки его стараниям. В отличие от Рафаэля он изрекает хулу вопреки глухому голосу совести, в итоге не позволившему ему осквернить героиню. Если как произведение «Гавриилиада» есть продукт исторических, культурных и иных внеличных факторов, то как поступок и намерение она целиком на совести автора. Тем более что поступок этот преследует определенную личную цель, которая связана с главной темой поэмы.
Выше уже говорилось, что происходящая в сюжете вакханалия касается только тела героини, ее плоти, над которой и одерживается «победа».
Могущество плоти — основная тема «Гавриилиады»: та сила, перед которой бессильно все и вся — от повелителя вселенной до самой чистой и невинной девушки. Это — то, про что написана кощунственная поэма и ради чего использован в ней священный сюжет. Здесь — личный интерес молодого автора с его «необузданными страстями» и, мягко говоря, беспорядочной жизнью. Профанация святыни совершается не только сознательно, но и небескорыстно.
Впрочем, корысть эта особого свойства: нравственного. Автор испытывает смутную неловкость за эту свою беспорядочную жизнь — и обращается, как к высшему авторитету, к нравам античных богов, только имена дает им библейские. Мол, если те, кто там, проделывают такие штуки, что спрашивать с нас грешных? То есть ему хочется оправдаться, в финале же — о котором ниже — он едва ли не кается и, кажется, намерен исправляться.
Это очень важно. Пушкин никогда не был способен путать черное с белым, нарушать иерархию верха и низа (отсюда отмечаемая Ходасевичем «недемоничность») («В нем был… — писал С. Л. Франк о нравственном облике Пушкина, — какой-то чисто русский задор цинизма, типично русская форма целомудрия и духовной стыдливости, скрывающая чистейшие и глубочайшие переживания… Бартенев метко называет это состояние души «юродством поэта» («Этюды о Пушкине», с.12).). У него есть чувство греха, иначе называемое совестью. Совесть в какой-то степени и есть побудитель замысла этого, так и хочется сказать «молодежного», произведения — и она же принесена ему в жертву.
О внутренних противоречиях автора поэмы внятно говорит ее завершение. Рядом с продолжающимися мальчишескими выходками («Аминь, аминь! Чем кончу я рассказы?») появляются интонации серьезные, глубоко лирические и… чуть ли не заискивающие. Крупно набедокурив и еще не отдышавшись, он начинает просить прощения: «Раскаянье мое благослови!» (хотя тут же снова ерничает: «Не то пойду молиться сатане») — и вдруг, мгновенно сменив тон, заговаривает о том времени, когда «важный брак с любезною женою Пред алтарем меня соединит». Готовясь к будущему Дому, он не только то знает, что грешен, но и то, что как аукнется, так и откликнется. Тут-то и рождается самое замечательное — финал: «Даруй ты мне беспечность и смиренье, Даруй ты мне терпенье вновь и вновь, Спокойный сон, в супруге уверенье, В семействе мир и к ближнему любовь!» — финал, который вот что напоминает: «Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему… Даруй ми… не осуждати брата моего…», — ту самую молитву преподобного Ефрема Сирина, которую он с детства знает, любит и через пятнадцать лет, незадолго до смерти, переложит в стихотворении «Отцы пустынники и жены непорочны».
Конечно, он и здесь ерничает. Но принять этот финал только как шутку, как усмешку значило бы счесть автора поэмы безнадежно толстокожим молодым человеком. Мне другое сдается: ему, верно, иногда очень хочется помолиться, но он стесняется. Поэтому паясничает и охальничает, как мальчишка, желающий показать, что ему все нипочем, — и прежде всего перед тем, к чему втайне тянется. Почитать святыни не принято, несовременно, его не учили этому, а у него есть смутная в этом потребность. Его натура, возраст, опыт повесы, художнический кураж и культурное чутье подсказывают путь завлекательный, древний до дикости, опасный и дразнящий: фамилъяризацию святыни (связанную в данном случае со смехом и темой «телесного низа»). Все это, конечно, совершенно стихийно: в верхних этажах сознания, то есть в «убеждениях», используемый им сюжет не более чем «предрассудок», входящий в официальную идеологию российского «самовластья».
Но дар не позволил довести кощунство до уровня французских образцов. В дальнейшем у него немало попыток как-то исправить, что натворил, «извиниться», отмыться, покаяться: не отсюда ли все его Марии, эти почти идеальные женщины, в которых главное — чистота и верность?
Так или иначе, появление «Гавриилиады» объясняется прежде всего причиной глубоко личной, в конечном счете духовной. Проблемой для него стала власть плоти, сила земного притяжения.
Но сила низа начинает быть проблемой и тяготить, когда пробуждается влечение к верху. Он может еще не отдавать себе в этом отчета-но идет 1821 год; скоро начнется «кризис 20-х годов», кризис мировоззрения. И кажется, первые зарницы грозы блеснули в кощунственной поэме.
- Во второй половине 20-х годов появляется упоминавшаяся выше тема: «Весна, весна, пора любви, Как тяжко мне твое явленье». Это — про обожаемую поэтами пору вдохновенья, роз и соловьев.
В третьей главе «Онегина» он самое любимое и возвышенное из своих созданий, Татьяну, подвергает испытанию страшной силой — «волшебным ядом желаний», ожиданием «блаженства темного», сотрясающим все существо.
Через два года — пятая глава: кошмарный сон, происходящий «карнавально», на святки, в крещенский сочельник: чудища, собравшиеся на свой шабаш, кричат, указывая на чистую девушку: «мое! мое!» — странно думать, что при этом была забыта «Гавриилиада», где претенденты на невинную «добычу», ряженые, маскированные, оспаривали ее (до драки) друг у друга; а если так, то богохульная поэма отзывается тут как пережитое автором бесовское наваждение («Друг демона, повеса и предатель» называет он себя в финале «Гавриилиады». Любопытно, что «выпадание» образа героини из ряда масок словно нарочно подтверждает святоотеческое учение о том, что бесы могут являться в любом облике, кроме облика Богоматери. — В.Н.).
В этом году и появляется элегия «Под небом голубым…», где смерть — реальность посюсторонняя, обретающаяся здесь, в жизни. Смерть опознается в собственном равнодушии к «младой тени» — равнодушии, тождественном отрицанию ее бытия. Смерть как явление жизни он находит, таким образом, в собственной «пламенной душе», догадываясь, что небытие («ничтожество», по-пушкински) начинается для человека там, где властвует не бессмертный дух, а смертная плоть; и что раз он, страстно любивший ее во плоти, равнодушен к ее живой душе, то выходит, что мертва не она, а он, что смерть — не в ней, умершей, а в нем, живом, что не она, а он — труп… Пусть не покажется жесткой метафора: она не мне принадлежит; а Пушкину, и им самим применена к себе. Правда, он сделает это значительно позже. Вспоминая в начале VIII главы «Онегина» историю своих отношений с Музой (сначала он ее, «вакханочку», «привел На шум пиров» — а потом уже она его «водила слушать… Хвалебный гимн Отцу миров»), — вспоминая об этом, он говорит:
Как часто по скалам Кавказа
Она Ленорой при луне
Со мной скакала на коне…
На эту Ленору если и обращали внимание, то лишь как на эмблему «эпохи романтизма» в творчестве Пушкина. Но все-таки — зачем именно Ленора?
Затем, что героиня знаменитой баллады Бюргера скачет на коне вместе с мертвым женихом. Муза-Ленора вывезла его, мертвого душой, из смерти — и повела слушать «хвалебный гимн». Еще через несколько лет, в 1835 году, в варианте «…Вновь я посетил», повторяется то же самое: Муза, «Поэзия как ангел утешитель Спасла меня, и я воскрес душой»; воскресшим называют то, что было мертвым.
Собственная мертвая душа — это как раз коллизия элегии «Под небом голубым…», определяемая, однако, с такою жесткостью лишь тогда, когда элегия далеко позади. В самой элегии автор слишком еще внутри этой коллизии, чтобы дать ей столь прямое название. «Под небом голубым…» — своего рода сон Татьяны; Татьяна проживает, чувствует, знает во сне то, «название» чего безуспешно ищет у Мартына Задеки; то, что ей только еще предстоит осмыслить в VII главе: «И начинает понемногу Моя Татьяна понимать (Теперь яснее, слава Богу)…», — и подвести итог: «Ужели слово найдено?»
Вот так и он, говоря о Леноре, находит «слово», определяющее, для него самого, то состояние собственной души, которое он наблюдал в элегии «Под небом голубым…».
В том же наброске «…Вновь я посетил», где говорится о воскресении души, он напишет: «…здесь меня таинственным щитом Святое провиденье осенило» (ср. «Хвалебный гимн Отцу миров»). Место, где это произошло, указано: Михайловское, где написана элегия «Под небом голубым…», где зародился «Пророк».
Связь между двумя стихотворениями оказывается неожиданно тесна.
Есть предание: молодой послушник прибежал к старцу и с трепетом поведал, что такой-то брат во Христе видит ангелов. Что ж, отвечал старец, это не великое диво, больше бы дивился я тому, кто видит свои грехи.
В элегии «Под небом голубым…» поэт оказывается близко к подобному диву. Пусть он еще не может найти слово, подвести итог тому, что открывает ему собственный гений в беспощадном исследовании состояния его души, — однако главное ему так же очевидно, как Татьяне в ее сне об Онегине: зрелище своего катастрофического духовного недостоинства, наводящее на образ «позора» (перевод из Ариосто), вызывающее неумышленные ассоциации со смертью, чреватое образом трупа.
Увидеть такое в себе — это надо осмелиться. Породившая элегию способность и готовность увидеть свой «позор», взглянуть столь прямо в лицо своему низшему «я» — высочайший взлет души. Это, может, и в самом деле большее диво, чем видеть ангелов.
Впрочем, будет и это: через месяц с лишним появится «шестикрылый серафим».
«Пророк» назревал в напряженном внутреннем процессе, начало ведущем еще из лицейских вещей (в том числе «Безверия»), включающем «Гавриилиаду» и мятущуюся лирику 20-х годов о смерти и бессмертии, историко-религиозную концепцию «Бориса Годунова», онегинские главы, — из этого ряда наиболее непосредственно, ближе всего по времени предшествует «Пророку» именно наша элегия, где собственная «пламенная душа» предстает автору поистине «пустыней мрачной» и где поистине нестерпимо томление «духовной жаждою». В чисто личном смысле «Пророк» — эманация элегии, порожденный ею порыв и прорыв.
Здесь пора вспомнить о моменте, ранее оставленном в стороне. Как напоминалось выше, «равнодушие» автора элегии было принято выводить из тогда же полученного известия о казни декабристов («личное», так сказать, перевешено «общественным»). А с этим известием связывали замысел «Пророка» (точнее, единственную дошедшую до нас строку-вариант «Великой скорбию томим»). Тем самым элегия и «Пророк» виделись в совсем разных рядах, мысли об их связи не возникало.
Но все дело в том, откуда смотреть.
Да, то, что «Пророк» был замышлен как прямой отклик на казнь, более чем вероятно. Однако настоящая лирика не повинуется плану, заданному первым импульсом, — это точно выражено Цветаевой: «Поэт — издалека заводит речь. Поэта — далеко заводит речь». И Пушкин-лирик вышел из того возраста, когда мог — точнее, думал, что может — «привести» Музу туда, куда ему хочется. Пусть стихотворение было задумано под впечатлением вести о казни; но в эту сторону оном не пошло, в этом поле жить не захотело. «Великую скорбь» сменила «духовная жажда».
- Событие повешения и ссылки «друзей, братьев, товарищей», обрушившись на поэта летом 1826 года, преследовало его всю остальную жизнь как проклятие. Об этом много написано, но роль события в собственно духовной жизни Пушкина почти не тронута, масштабы такой роли не уяснены.
Это был разлом во внутреннем бытии, в том числе в представлении о собственной судьбе. Две чаши весов колебались, то перевешивая друг друга, то пребывая в неустойчивом, тревожном равновесии.
На одной — чувство вины, невольной, но неизбывной и невыносимой, перед теми друзьями, с кем он, по справедливости, по «составу преступления», должен был бы разделить их вину и их участь, если не смертную (хотя вспомним его многочисленные виселицы), то каторжную, — но не разделил. Тот факт, что идейно он давно не с ними, вины не облегчал — наоборот: оказавшись исторически «умнее» их, он словно бы им изменил.
На другой — упорное, повелительное сознание, что так произошло не случайно, что здесь не «судьба» (названная им в этом же году «огромной обезьяной, которой дана полная воля»), а — промысел («святое провиденье»), что так было для чего-то нужно. Иными словами — давнее сознание своего особого призвания, необычности своего гения, его «таинственной» (о чем будет сказано в «Арионе») предназначенности. Но это опять-таки нисколько не умаляло чувства вины, а может, и обостряло.
Одним словом — сознание своей промыслительной избранности связалось, на фоне трагедии декабрьского бунта, с пыткой для его совести, с сознанием вины.
Но случилось это не сразу.
«Бывают странные сближения», — скажет он о «Графе Нулине», написанном в дни событий на Сенатской площади, куда он едва не «бухнулся» лично (последняя по времени основательная работа на эту тему — И.3.Сурат. «Кто из богов мне возвратил…». Пушкин, Пущин и Гораций. — «Московский пушкинист», вып.II, М.,»Наследие», 1996. — В.Н.). Следующее странное сближение случилось спустя несколько месяцев, летом 1826 года, когда он одновременно «Усл<ышал> о см<ерти>» пятерых декабристов и женщины, его возлюбленной во дни былые.
Одно из этих известий его, в момент получения, потрясло, наполнив «великой скорбию», а другое — нет. Но этому другому посвящена элегия, полная «великой скорби». А о первом не написалось ничего: автор было ринулся, но гений не пустил, у него были другие планы.
Автор ринулся прежде всего в сторону общественной, гражданской скорби (Не зря существует легенда о «гражданском» варианте «Пророка» («Восстань, восстань, пророк России»), в мутной генеалогии которой, может быть, и брезжат какие-то отзвуки истории замысла. Последняя работа на эту тему: В.М.Есипов. «К убийце гнусному явись». — «Московский пушкинист», вып. V, М., «Наследие», 1998.), с другой же стороны, возник страх за собственную судьбу, нежелание «охмелиться», говоря его словами, в чужом пиру (поскольку от движения он внутренне отошел). В этой сумятице внешних реакций он не сразу обратился к духовной сути страшного события, не сразу приметил, что на пороге — пожизненная пытка совести, «великая скорбь» о своей вине уцелевшего (еще не знал точно — уцелеет ли), отошедшего, изменившего.
Но его гений, его дар все расслышал и все приметил сразу. «Гражданская» реакция на смерть «друзей, братьев, товарищей» лирически не состоялась, растворилась в его готовности смотреть «на трагедию взглядом Шекспира» (Дельвигу, начало февраля 1826) — а реакция духовная, совестная, оттесненная чувствами «общественными», клубилась в интуиции, мучила неосознанностью, невысказанностью, неоформленностью.
И вдруг она нашла форму — форму вопроса (имеющего совсем другой предмет, но точно так же обращенного к совести и чувству вины): их смертью он потрясен — но ведь и она, которую он так любил, тоже умерла — отчего же к этой смерти он равнодушен?
И он «бухнулся» в глубины собственной души — и нашел там то, о чем написана элегия, заместившая, выходит, отклик на их смерть. «Великая скорбь», обретя свой изначальный, истинный — духовный — характер, вылилась в боль совести, в бесслезное рыдание виновного перед «легковерной тенью», отошедшего, изменившего ей. Не без смысла, видно, запись об обеих смертях — их и ее — нашла себе место как раз на том листке, где записана элегия: то ли эпиграф к ней, то ли примечание.
И вот после этого появился «Пророк» — другое стихотворение, заместившее отклик на их смерть.
По С.Л.Франку, отношение Пушкина к своему гению как к чуду, божественному дару — одно из двух главных оснований глубокой внутренней религиозности поэта. Другое основание — такое же пушкинское отношение к любви: она для него — как и «вдохновенье» — «признак Бога» («Разговор книгопродавца с поэтом»). В элегии и «Пророке» оба основания представлены в предельной, до страдания, выраженности: в элегии (любовь) — как богооставленность, в «Пророке» (дар) — как богоприсутствие.
В элегии — беспощадно пристальный анализ состояния собственной души, с ее любовью, анализ, обнаруживающий для автора, на какой «позорно» низкой духовной ступени он, с этой своей любовью, находится.
В «Пророке» — последовательное описание беспощадной операции (В.Турбин когда-то сравнил ее с казнью), цель которой — преобразить влачащееся в «пустыне мрачной» и томимое «духовной жаждою» человеческое существо, поднять его на новую духовную ступень.
Операция эта, кстати, начинается со слуха:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет…
В элегии «ангелов полета» он не «внял» (ведь «ангел» у него нередко то же, что и «тень»: «Две тени милые, два данные судьбой Мне ангела во дни былые» — «Воспоминание», 1828, черн.), — в ней он «внимал» лишь «смерти весть», а как «младая тень» над ним летала, не слышал.
В элегии «недоступная черта» между ним и «тенью», между ним и «ангелами» — это власть страсти над любовью, плоти над духом, он упирается в эту глухую стенку, в тупик, жаждет перешагнуть («Напрасно чувство возбуждал я») и не может.
В «Пророке» «недоступная черта» преодолена с той стороны: в ответ на его «духовную жажду» ангел, серафим нисходит к нему (не этим ли «опытом» будут вдохновлены полные надежды призывания «сюда, сюда!» в «Заклинании»?), нисходит — и через кровавые муки преображает грешную, глухую, празднословную и лукавую плоть; в эту плоть — власть которой превращает, в элегии, «пламенную душу» в «равнодушное» естество, едва ли не живой труп, — водвигает угль, пылающий огнем, и плоть лежит «как труп», чтобы после смертных мук восстать, по гласу Бога, обновленной и одухотворенной.
«Поэт — издалека заводит речь». Написанный автором «Гавриилиады» «Пророк» может быть соотнесен не только, как это принято, с Исайей и другими ветхозаветными книгами, но и с главой 9 «Деяний апостолов». Гонитель Христа Савл был осиян «светом с неба», «упал на землю», услышал с неба укоряющий Бога глас и повеление: «встань и иди», — и узнал, что он, Савл, для Господа «есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое пред народами» («…обходя моря и земли…» — словно формула дальнейшей судьбы апостола Павла; «Глаголом жги…» — тоже именно о нем могло бы быть сказано). И все это произошло с Савлом на пути («Пророк»: «на перепутье»; VI глава «Онегина»: «Пускаюсь ныне в новый путь»). «Поэта — далеко заводит речь».
Все, что будет происходить дальше, говорит о том, что, написав «Пророка», он еще не вполне отдал себе отчет в том, что, собственно, он написал. (Ничего удивительного в том нет: любому даже просто хорошему поэту такое знакомо; кому незнакомо — тот не поэт.)
То есть он, конечно, понимал, что написанное — это нечто грандиозное и, может быть, неслыханное («Памятники», скажем, писали многие поэты, и он напишет, но тут совсем другое); он ощущал гигантский общий смысл своего озарения: впервые его давнее восприятие своего собственного дара как чего-то перерастающего пределы привычного понимания поэзии обрело адекватную форму, язык, образный масштаб: «слово» было «найдено», и это было главное, что он ощутил сразу. Но то был, повторяю, лишь самый общий смысл сказанного (Лишь общий смысл, и притом в самом поверхностном виде, впоследствии был усвоен читателями, да и многими исследователями, преображаясь часто во впечатляющую метафору в библейском стиле, и только. В конечном счете все сводилось, как правило, к «роли поэта в обществе», к «задаче» поэзии «жечь сердца» в смысле — «воспламенять», «зажигать», на что-то «вдохновлять» и куда-то «вести». Кровавая операция преображения толковалась как метафора тяжелой жизни поэта, «духовная жажда» проскакивала без всякого смысла, поскольку неясен был смысл слова «духовный»; та же судьба постигла строку «Исполнись волею Моей» (не без помощи орфографии, упразднившей прописную букву). В итоге читательское, а во многом и научное, восприятие «Пророка» остановилось на предельно упрощенном, искаженном понимании того, с чего отношения Пушкина со своим творением лишь начались.). Ему только предстояло понять, что произошло в его жизни с появлением «Пророка» и, главное, в какое тяжелое положение он, написав эти стихи, себя поставил.
- Происходит почти невероятное: его, ссыльного, тесно связанного с заговорщиками, осужденными, казненными, сосланными, вызывает к себе коронованный недавно новый император, только что казнивший и сославший их, ведет с ним долгую и милостивую конфиденциальную беседу, закончившуюся своего рода джентльменским соглашением о сотрудничестве на благо Отечества; в обществе его носят на руках и чуть ли не тоже коронуют; он как на крыльях, пишет стансы «В надежде славы и добра», где без тени смущения и на глазах всего общества учит самодержца, как надо тому жить, что делать, кому подражать и как следует вести себя с побежденным противником; посылает каторжанам стихи («Во глубине сибирских руд»), в которых через голову правительства обещает амнистию, намекая, что имеет на это основания; одним словом, находится в эйфории и соответственно ведет себя.
Основания для этого были, и притом — если иметь в виду его внимание к «странным сближениям» и веру в неслучайность всего с ним происходящего — едва ли не мистического характера.
За последние два года с ним произошел внутренний поворот, духовный, творческий и политический, связанный в первую очередь с «Борисом Годуновым» и онегинскими главами; в частности, работая над трагедией (где, кстати, Романовы названы «отечества надеждой», и это не только тактический шаг опального, жаждущего прощения автора, но и маркировка замысла: исследовать как раз ту эпоху, что предшествует воцарению нынешней династии с ее собственной более чем непростой историей), — работая над трагедией, погружаясь в поток российской истории, постигая дух ее, он окончательно избавляется от революционистской психологии и идеологии, — вот откуда его готовность «условливаться» с правительством не как с врагом, а как с законной властью, и отсюда же — его поведение с императором, соединяющее трезвость вассала с достоинством дворянина.
Далее. Автор «Андрея Шенье», он назвал себя пророком, узнав о смерти Александра, — но до того, через три-четыре месяца после «Андрея Шенье», он простил Александру «неправое гоненье», и это случилось в стихотворении с датой 19 октября: день в день за месяц до таганрогского события 19 ноября, — и тем он словно напророчил себе прощение от преемника Александра.
В VI главе романа он прощается с Ленским, в котором воплощена «юность легкая моя», и готовится в какой-то «новый путь» (о чем сказано будет в заключительных строфах главы) — и вот прошлая жизнь кончается, и новый царь заключает с ним, поэтом, союз.
Он и в самом деле на новом пути; словно за ним следят и его ведут. И на вершине всего — «Пророк», где путь ему указывает Бог. Все cxoдится.
Но странно: в лирических стихах первых лет свободы никакого торжества нет — совсем наоборот. Нарастает глубоко меланхолическая — говоря мягко — доминанта.
В «Зимней дороге», которую он пишет, ненадолго возвратясь в Михайловское, все бесконечно грустно, преходяще и непрочно. Единственное пятно живого света («…Завтра, Нина…» и проч.), едва возникнув, тут же исчезает в ночном сумраке, волнистом тумане — будто мелькнуло на миг чужое теплое окно, и снова: «Грустно, Нина: путь мой скучен…» (это между «…обходя моря и земли» и «Пускаюсь ныне в новый путь»). «Колокольчик однозвучный Утомительно гремит»: «скуЧной», «пеЧальные», «навстречу», «ЗвуЧно», «полноЧь», «раЗлуЧит» — все шепот, в котором тонет звон; и, снова повторенное в финале «одноЗвуЧен» одним тоскливым шепотом-звоном сменяет «шум и звон» «Пророка».
«Другие, хладные мечты, Другие, строгие заботы», — напишет он вскоре в окончании VI главы романа. И словно с комом в горле: «Дай оглянусь…» Здесь, в «Зимней дороге», он пытается «оглянуться»: «Что-то слышится родное… То разгулье удалое, То сердечная тоска…», — это то, с чем бы надо проститься, как с Ленским; ведь он «Познал… новую печаль», новую тоску, «Другие, хладные мечты». «Чем; ближе к небу, тем холоднее», — говаривал Дельвиг. После «Пророка» становится холоднее.
Следует набросок о еще одном путнике:
В еврейской хижине лампада
В одном углу бледна горит,
Перед лампадою старик
Читает Библию. Седые
На книгу падают власы.
…..
На колокольне городской
Бьет полночь. — Вдруг рукой тяжелой
Стучатся к ним. Семья вздрогнула.
…..
И входит незнакомый странник.
В его руке дорожный посох.
Снова дорога, снова звон. Часы бьют полночь, и в это нехорошее время на пороге дома появляется человек, который «видел Христа, несущего крест, и издевался»; осужденный за это на бессмертие до Второго пришествия, он тяготится жизнью: «не смерть, жизнь ужасна». Так излагал свой замысел поэмы о Вечном Жиде поэт, несколько лет назад «издевавшийся» над Благовещением и непорочным зачатием.
(Другой долгожитель новозаветного предания, Симеон, переводя книгу Исайи, не поверил словам «Се, Дева во чреве приимет», решил в переводе «Деву» заменить «женой» и за это должен был жить до тех пор, пока не увидит Деву и не примет на руки Младенца; его «Ныне отпущаеши» — благодарность за милость и прощение, за возможность узреть исполнение пророчества, которым пренебрег, за окончание земного бытия. «Гавриилиада» связана с евангельской историей непорочного зачатия, «Пророк» — с книгой Исайи, которую переводил Симеон Богоприимец.)
Тема жажды смерти будет продолжена в следующем 1827 году в «Трех ключах» («В степи мирской, печальной и безбрежной»; ср. пустынный и печальный пейзаж «Зимней дороги»). С христианской фразеологией («В степи мирской») соседствуют античные образы: «Кастальский ключ» и «ключ забвенья», родной брат Леты, реки забвенья, текущей по ту сторону жизни; этот «холодный ключ» «слаще всех жар сердца утолит» — после «Пророка», где «сердцем» стал «угль, пылающий огнем»…
В «Арионе», написанном, почти в годовщину казни, о чудесном спасении от смерти, вариация на тему античного мифа помогает обрести такую поэтическую формулу его причастности к исторической драме последних лет, которая лишена мучительной для него и соблазнительной для окружающих противоречивости («Арион» обычно трактуется как манифест «верности идеалам декабризма». В свое время я пытался показать, что и текст, и подтекст, и мифологический источник этому сопротивляются (см.: «Поэзия и судьба». Изд. 2-е (М., 1987) и 3-е (М., 1999), где в разделе «Народная тропа» помещена работа о послании «В Сибирь»). Сама «расстановка сил» в стихотворении иная, чем в декабрьских событиях: мятежники вовсе не плыли мирно по своим делам, как плывет «челн» в «Арионе», и отпор государства («вихорь шумный») вовсе не последовал «вдруг», ни с того ни с сего, и заговорщиков было не «много», а мало. Все становится на свои места, если — в полном соответствии с античной традицией — понимать под гибнущим «грузным» челном пли кораблем не заговорщиков, а все государство в годину бедствий (грянувшую 19 ноября 1825 года в Таганроге). Тогда молчаливый — и погибший первым — «кормщик» это не кто иной, как Александр; а «таинственный певец» пел свои «гимны» («гимны смелые» — «Вольность») не сепаратному сообществу, а всей нации, включая власть и оппозицию, и это были «гимны» Закону («Вольность»), которые он и теперь продолжает петь, называя «гимнами прежними».) — и в то же время по-иному оборачивает тему смерти: «таинственный певец» не подлежит общей участи в «лоне волн», жизнь его не ему принадлежит и остается не сетовать, а благодарно недоумевать, суша влажную ризу на солнце.
И тут же следует, на ту же тему спасения, новая вариация, но в совсем ином материале, на ином языке, помеченном церковнославянизмами: «Акафист Е.Н.Карамзиной«, где автор, оставляя в стороне тему «певца», смиренно сравнивает себя просто с «пловцом» (ср. «Погиб и кормщик, и пловец»), спасшимся по милосердию «Провиденья» и несущим дар благоговейной хвалы «Святой Владычице» — чистой Деве; тяготение к этому образу стало с некоторого времени неотвязной слабостью автора.
Изложение одного и того же комплекса переживаний параллельно, в двух разных культурных языках, античном и библейском, настойчиво ведет к вопросу: не приходила ли ему в голову, на слух; в поэтическое воображение богатейшая рифма поэтики бытия, образуемая созвучием античного мифа и книги Священного Писания: челн — и корабль; «вихорь шумный» и воздвигнутый Господом «крепкий ветер»; «гроза» и «великая буря», сделавшаяся на море; погибающий в волнах человек; дельфин и кит; «таинственный певец» Арион и избранный Господом пророк Иона? «И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу» (Иона2,11) — «На берег выброшен грозою…»
Но, рифмуя, две судьбы обнаруживают свою разность. У Ариона (пушкинского), что называется, все в порядке: он как до «грозы», так и после, поет одни и те же «гимны» (в плане биографии автора имеется в виду гражданская позиция). У Ионы совсем иначе: «…встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем…» (Иона1,2), — сказал ему Господь («Восстань, пророк… И, обходя моря и земли, Глаголом жги…» — велел, без всяких гражданских заданий, «Бога глас» в «Пророке»). Но Иона не пошел: «И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня» (Иона1,3), — и вот тогда-то разразилась на море буря. А когда Иона по молитве своей был спасен — «было слово Господне к Ионе вторично: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что Я повелел тебе» (Иона3,1-2). Рифма бытия словно прямо окликает его.
Появляется «Ангел» — будто во исполнение просьбы Жуковского, написавшего когда-то, прочитав «Демона»: «Прощай, чертик, будь ангелом». Образ Ангела изумительно проникновенен, в духе Рублева. Но «герой» стихов — Демон: ему дано явление Истины (которого ждет, терзаясь бессмертием, Вечный Жид; которое дано было Ионе; которое узрел Симеон; которому посвящено стихотворение о явлении шестикрылого ангела поэту), мир его поколеблен…
Вся эта лирика 1827 года — единый и трепещущий клубок, и в нем — «Поэт» («Пока не требует поэта»), где автор выходит к прямому диалогу с собственным «Пророком».
Это — иной взгляд на дело поэта, другая концепция поэзии, ее разовьет «серебряный век».
Перекликаются некоторые внешние черты: «пустыня мрачная» — «суетный свет», «ничтожные» дети «мира»; «Бога глас» — «божественный глагол»; «испуганная орлица» — «пробудившийся орел»; но внутри все различно.
В «Пророке» герой томим в пустыне «духовной жаждою» — в «Поэте» «малодушно погружен» в заботы суетного света. Там — однократное и необратимое преображение в пророка; здесь — многократный, так сказать регулярным порядком, пифический транс; там — Единый Бог, здесь — Аполлон; там поэт-пророк посылается к людям, здесь — бежит от людей; там — очищение и одухотворение раз и навсегда; здесь — равные права высокого и низкого на душу поэта, их натуральный «паритет». Наконец, в отличие от «Пророка», в «Поэте» от поэта никакой личной жертвы не требуется: единственное лишение, которому он подвергается, — расставание с «забавами мира» и «заботами суетного света», от которых он, впрочем, и сам «тоскует»; во всяком случае, ни о каких муках пророческого служения речи нет. «Испуганная орлица» превращается в «пробудившегося орла», ветхозаветно-евангельское представление о душе как сущности женственной, в ее отношении к Богу, сменяется античным, горделиво-мужественным.
Все это, вообще говоря, чистая правда — правда естества поэта; перед нами — природная сущность поэтического дара как способности воспринимать и оформлять стихии бытия (ср. «О назначении поэта» Блока), и эта природная правда общезначима, относится к любому поэту. Оттого, может быть, и изложение ведется не в первом, как в «Пророке», а принципиально (как заметила И.Сурат) в третьем лице: «он».
Но в «Пророке» речь шла вовсе не о любом поэте, а об этом, обозначенном как «я», — только о нем одном; и о некой его особой, не как у «любого» поэта, миссии: оттого природные способности и были заменены сверхприродными.
И вот теперь этот поэт особого рода оглядывается на гильдию «поэтов вообще», от которых их дело особенных жертв не требует.
Противостояние «Пророку» продолжает перевод из Шенье «Близ мест, где царствует Венеция златая». Он полон перекличек с окружающими стихами на темы удела и жизненного пути: «На море жизненном…» (ср. «…моря и земли», «В степи мирской, печальной и безбрежной», «Арион», «Акафист…»), «тайные стихи» (ср. «таинственный певец») и пр. Но «тайные стихи» — «без отзыва утешно я пою», всего лишь «для забавы, Без дальных умыслов…», словно это беспечный лицейский «мудрец», никому ничем не обязанный, поющий ни для кого, ни для чего — для себя, а никакой не пророк.
И черновой — точный, соответствующий французскому оригиналу — вариант «Бога полн» (ср. «Исполнись волею Моей») заменяется: «И тихой думы полн…»
И почти тут же раздается другой голос:
Блажен в златом кругу вельмож
Пиит, внимаемый царями…
…..
Он украшает их пиры
И внемлет умные хвалы.
Меж тем за тяжкими дверями,
Теснясь у черного крыльца,
Народ, гоняемый слугами,
Поодаль слушает певца.
Словно встрепенулась, отверзла очи испуганная орлица.
- Как раз к этому времени относятся его попытки жениться, устроить семью, обрести очаг, Дом, осознаваемый им как святыня. В 1826 году он сватался к Софье Пушкиной, с 1827-го увлечен Ек.Ушаковой, в будущем 1828 будет предлагать руку и сердце Анне Олениной, в конце года увидит Наталью Гончарову. А параллельно — с азартом и какой-то яростью догуливает и проматывает остатки холостой жизни, словно стремясь впрок насытить все свои страсти, все стихийное и темное, словно страшась оставить для будущего брака даже клочок прежней «гибельной свободы». Размышляя над устной повестью «Уединенный домик на Васильевском», Ахматова говорит о периоде, когда происходит «некое осознание своей жизни как падения (карты, девки, гульба), которое, если не спасет какая-нибудь Вера, кончится безумием», когда «исследователю грозит опасность заблудиться в прелестном цветнике избранниц, когда Оленина и Закревская совпадают по времени, Пушкин хвастает своей победой у Керн (в печально знаменитом даже у невежд письме к Соболевскому. — В Н.), несомненно как-то связан с Хитрово (которая на 16 лет старше его. — В.Н.) и тогда же соперничал с Мицкевичем у Собаньской. И все это только в Петербурге… Все эти «мгновенные» страсти не могли у человека с характером Пушкина протекать безболезненно» (Анна Ахматова. О Пушкине. Статьи и заметки. М., 1977, с. 209, 213-214. — В.Н.).
Один из памятников этого периода — жанровая картинка «Сводня грустно за столом», навевающая ассоциации с «малыми голландцами», а сама навеянная визитами в дом терпимости известной Софьи Остафьевны и, соответственно, не ограничивающая себя в непечатных выражениях. Вещица эта блистательно забавна, а одно место — главное — просто уморительно:
Сводне бедной гость в ответ:
«Нет, не беспокойтесь,
Мне охоты что-то нет,
Девушки, не бойтесь».
Это не просто смешно — здесь вся соль картинки, обманывающей живописно подготовленное читательское ожидание. Гость, «хороший человек», который у «девушек» «как дома», нынче пришел совсем не за тем, за чем сюда ходят, нынче ему охоты что-то нет — просто заглянул, видно, на огонек, как бывает, когда некуда себя деть. И забавная картинка оканчивается тоскливо. Вот вроде бы и все.
Но «неохота» зазвучит иначе, если вспомнить еще раз тот текст, что приводился в связи с элегией «Под небом голубым…», — он относится к этому же году:
Весна, весна, пора любви,
Как грустно мне твое явленье.
…..
Как чуждо сердцу наслажденье…
Все, что ликует и блестит,
Наводит скуку и томленье.
Признание «Мне охоты что-то нет» представляется травестийным, пародийным вариантом того же мотива.
В нашем контексте это и само по себе значительно — но как раз тут контекст может быть внутренне расширен. К жанровой картинке по времени вплотную примыкает другой опус: «Рефутация г-на Беранжера» — тоже шутка, но уже не из частной жизни, а в государственно-патриотическом духе: роскошная стилизация военного фольклора, грубого солдатского юмора, «разгулья удалого», для которого невелика разница между посещением борделя воспитанным человеком и «визитом» русских войск в Париж. Казалось бы, сверх временного соседства, две эти выходки ничто существенное не объединяет кроме яркой колоритности и юмора, да еще откровенной и функциональной нецензурщины, — но дело оборачивается иначе в виду VII онегинской главы.
Ведь, как видели мы в своем месте, набросок «Весна, весна, пора любви» превратился во II строфу этой главы и определил тональность ее более чем печального начала. Что же касается ее эксцентрического финала: «Благослови мой долгий труд, О ты, эпическая муза… Хоть поздно, а вступленье есть», — то подчеркнутая шутливость («Я классицизму отдал честь») здесь не более чем шутка, ибо правды в этом финале гораздо больше, чем пародии. В VII главе сюжет романа выходит на совсем новый уровень, обнаруживает и в самом деле эпический масштаб: сквозь историю частных лиц просвечивает тема судеб России — об этом явственнее всего говорит роль и место в главе образа Наполеона, темы двенадцатого года, пожара Москвы, — судеб, в которые вплетается судьба Татьяны. Этот-то исторический план и составляет основу «Рефутации…», которая, стало быть, находится в таком же пародийно-травестийном отношении к «эпическому» плану VII главы, заявленному в ее финале, как картинка из частной жизни «Сводня…» — к лирической теме, введенной одною из начальных ее строф. За двумя непристойными шутками — бездна серьезности.
Это лишний раз говорит о том, что параллельные прямые у Пушкина, как правило, где-то пересекаются и что лирика периода, о котором идет речь, составляет тесное единство, где самое внутреннее и интимное неотделимо от внешнего и сверхличного.
Впечатляющий пример — стихотворение, возникшее — если следовать академической традиции — между «Ангелом» и наброском «Весна, весна, пора любви». Это — «Какая ночь! Мороз трескучий», — вещь, содержащая не характерные вообще для Пушкина черты жестокого натурализма:
Мучений свежий след кругом:
Где труп, разрубленный сразмаха,
Где столп, где вилы; там котлы,
Остывшей полные смолы;
Здесь опрокинутая плаха;
Торчат железные зубцы,
С костями груды пепла тлеют,
На кольях, скорчась, мертвецы
Оцепенелые чернеют…
Через кровавую, после массовой казни, площадь Москвы беспечно «летит… на свиданье» царский опричник, «кромешник молодой», накануне участвовавший в истязаниях и убийствах; успокаивая коня, испугавшегося виселицы с трупом («Но борзый конь под плетью бьется, Храпит, и фыркает, и рвется Назад…» — ср. в VI главе «Онегина»: «Почуя мертвого, храпят И бьются кони…»), он весело уговаривает его:
«…Чего боишься? Что с тобой?
Не мы ли здесь вчера скакали,
Не мы ли яростно топтали,
Усердной местию горя,
Лихих изменников царя?
Не их ли кровию омыты
Твои булатные копыты!
Теперь ужель их не узнал?..»
И преодолев сопротивление коня, «Спешит, летит он на свиданье, В его груди кипит желанье», он по трупам скачет дальше — «удалое», полное сил и похоти молодое животное, для которого трупы и кровь — не препятствие для «желанья» и «свиданья», азарт зверского убийства и любовная страсть — едва ли не одно и то же. Тут с особенной выразительностью звучит «яростно топтали», обнаруживающее в этом контексте, призвук того значения, которое слово «топтать» имеет в крестьянском употреблении, на птичнике.
Это написано, как и «Арион», в непосредственном соседстве с годовщиной казни декабристов (виселица — центральный эпизод), написано поэтом, который, избежав наказания, обласканный тем, кто казнил и сослал «Лихих изменников царя», вкушает радости жизни на свободе и в славе, светские удовольствия, волочится за женщинами, в «прелестном цветнике» которых исследователь может заблудиться, — и все это в то время, когда «друзья, братья, товарищи» влачат кандалы во глубине сибирских руд и минул лишь год со дня повешения.
Через некоторое время — прелестный набросок «в народном духе» «Всем красны боярские конюшни». Тут ни площади, ни казни — просто «младой конюх» скачет каждую ночь «К красной девке в гости…», как тот опричник, — и после этого
Конь не тих, весь в мыле, жаром пышет, С морды каплет кровавая пена…
Коллизия «любовь — кровь», грянувшая при получении известий о казни декабристов и о смерти любимой некогда женщины, продолжается; «эротическая» и «гражданская» темы по-прежнему связаны одним лирическим контекстом.
Ничего странного в этом нет: ведь это Пушкин в свое время осмелился, вразрез с декабристской идеологией, соединить «общее» и «частное»:
Но в нас горит еще желанье
…..
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Теперь (про опричника) — как эхо:
Спешит, летит он на свиданье,
В его груди кипит желанье…
Власть плотского естества, представшая в элегии «Под небом голубым…» как власть смерти — и отмененная в «Пророке» во имя высокого призвания, в ответ на духовную жажду, — обретает в этом всаднике на коне уже апокалиптический облик; она вторгается в тему общественных бурь и кровопролитий и в то же время сохраняет связь с образом насильника, грабителя и убийцы, который в «Сцене из Фауста» «Бранит ободранное тело» («…топтали… Лихих изменников царя…»). «Интимное» сплетается с «гражданским» в кровоточащий ком.
Жизнь создает всему этому подходящий фон. Из всех ударов, которые она наносит посреди радостей свободной жизни, самый тяжкий — не дело об «Андрее Шенье», истолкованном как сочувственный отклик «на 14 декабря», не иные притеснения, которым вовсе не помешало «соглашение» с государем, а кампания общественной клеветы по поводу «Стансов» «В надежде славы и добра», написанных как «программа» и поучение молодому царю, а обществом прочитанных (включая близких людей) бездумно и трусливо и потому расцененных как лесть и лицемерие, как измена либеральным идеалам, поворот флюгера. Триумфатор и автор «Пророка» чувствует себя, может быть, одиноким как никогда: с большой высоты больнее падать.
Клевета тем ужаснее, что никакой порок не внушает ему большего отвращения, чем измена (именно в это время обдумывается и пишется «Полтава», самая патриотическая и государственническая его поэма, где изменник рисуется едва ли не сплошь черным — прием, почти отсутствующий у Пушкина). Клевета — проявление психологии толпы, не понимающей, что он не изменил, а изменился, не предал убеждения молодости, а вырос из них. Ему стал чужд декабристский либерализм западнической закваски; его умеренный, но твердый монархизм, его позиция «либерального консерватизма» (как Вяземский скажет позже) — во многом предвосхищение славянофильских воззрений, и это не случайность или власть внешних обстоятельств, а органическое следствие его внутреннего развития. С молодых лет, с уже напоминавшегося послания к Чаадаеву, он не мыслит «общее» и «частное» раздельно, в нем зреет идея единства «судьбы человеческой» и «судьбы народной» в ее чисто русском понимании. Повинуясь этой идее — а скорее чувству — национального единства, он вышел из стана «друзей, братьев, товарищей», чтобы оказаться между двумя станами. Словно провидя, за двадцать лет до «Коммунистического манифеста», наступление эры «классовых битв», надвигающейся на Европу, он мечтает о роли миротворца, помогающего сблизиться царю и дворянству, дворянству и народу, установить и упрочить классовый мир в России.
Однако, делая это, становясь между станами, он ведь не по воздуху перелетел — он перешагнул через «судьбы человеческие», судьбы мертвых и живых, отдалился от побежденных и приблизился к победившим — таковы были условия истории, заставившей-таки общее возобладать в этом случае над частным, «народное» над «человеческим». Но его совесть, для которой народное и человеческое, общее и частное едины, взбунтовалась против истории. В послании «В Сибирь», в «Арионе», в «Друзьям» он, твердо придерживаясь новых своих воззрений, в то же время пытается найти какую-то точку равновесия между собой нынешним и собой прежним, то лезвие, на котором можно удержать в единстве новую гражданскую позицию и прежние человеческие идеалы. Как тонка и деликатна эта материя, доказывается тем, что верность человеческим идеалам у нас сплошь и рядом толковалась и толкуется как «верность идеалам декабризма», то есть опять же под «прямым углом» чисто идеологического взгляда, породившего клевету, которая приписывала «Стансам» льстивость, посланию «В Сибирь» — смысл прокламации, «Ариону» — рефлексы декабристской идеологии, «Друзьям» — тактическое лицемерие, а всему вместе — комплекс двурушничества, или, как выражались «научно», сложность позиции.
Но его совесть жаждала простоты. И отвергая клевету, она была беспощаднее чужих мнений: читая лирику 1827-1828 годов, трудно уклониться от впечатления, что поэта преследует его собственный образ, увиденный глазами тех «друзей», которые обвиняют его в измене, что какая-то жестокая сила то и дело заставляет его с содроганием оглядываться на кривое зеркало, отражающее искаженный, чужой и все же чем-то знакомый лик.
Эту трагическую двусмысленность положения и самочувствия можно было бы счесть — принимая во внимание чистоту его собственных помыслов — грубой и бессмысленной игрой судьбы, злобной шуткой истории — если бы не одно обстоятельство, которое в нашем контексте является самым существенным.
Бунт совести ведет к восстанию памяти. Он быстро разрастается за пределы «гражданской» темы — подобно тому, как реакция на известие о казни сыграла роль в появлении элегии «Под небом голубым…», заместившей отклик на казнь. Другими словами, ощущение пятна на совести гражданской расползается на всю предшествующую частную жизнь.
В лирике этих двух лет бродят, словно продолжая элегию, мотивы «тени», или призрака, или трупа, мотивы смерти — сопровождаясь притом мотивом вины — измены, греха, чуть ли не причастности к смерти.
Это было в стихотворении об опричнике — которое бросит свой отсвет и на стихи о «младом конюхе» с его ночными свиданьями. Это будет в «Не пой, красавица, при мне», где проплывут «Черты далекой, бедной девы» (ср. «…бедной, легковерной тени»), ее «призрак милый, роковой», который, «Тебя увидев, забываю» (опять как в элегии: с глаз долой — из сердца вон). Это отзовется в переложении шотландской баллады «Ворон к ворону летит», где «хозяйка молодая» изменяет побежденному, убитому богатырю с другим — верно, с победившим «недругом». Это мелькнуло усмешкой в стишках о сводне и даст свою вариацию в «Клеопатре» («Чертог сиял, Гремели хором» — позже это войдет в «Египетские ночи»), где любовь и смерть уже в открытую предполагают и едва ли не замещают друг друга. Это воплотится, конечно, в предательстве Князя («Русалка») и, наконец, — ночным кошмаром в «Утопленнике», где непогребенный мертвец каждый год является мужику, чтобы напоминать об измене христианскому долгу. (Спустя несколько лет подобная же тема будет повернута иначе: «Но отшельник, чьи останки Он усердно схоронил, За него перед Всевышним Заступился в небесах», — «Родник», 1835.)
В «простонародной сказке» (подзаголовок «Утопленника») трудно пройти мимо одной детали, поданной с изощренной небрежностью и потому едва ли заметной, но если заметить — приводящей содрогание. Мужик, открыв окно, видит мертвеца:
С бороды вода струится,
Взор открыт и недвижим.
Все в нем страшно онемело,
Опустились руки вниз,
И в распухнувшее тело
Раки черные впились.
В ком все «страшно онемело»? У кого «Опустились руки вниз»? У мертвого? Онеметь всем телом, руки опустить может только живой — от страха. Значит, в описание мертвеца встроено описание ошалевшего от ужаса мужика — а дальше (всего через запятую) опять мертвец с его «распухнувшим телом» и впившимися раками, — и уже не разберешь, кто поистине труп — мертвый или живой.
Одним словом, в годы после «Пророка» идет ревизия всей собственной прошлой жизни. О том, что это действительно так, говорит датированное 19 мая 1828 года «Воспоминание».
- В черновом продолжении «Воспоминания» появляются, как известно, …два призрака младые,
Две тени милые, два данные судьбой
Мне ангела во дни былые;
Но оба с крыльями и с пламенным мечом,
И стерегут — и мстят мне оба,
И оба говорят мне <внятным> мертвым языком
О тайнах <вечности> счастия и гроба.
Это не те ангелы, что серафим в «Пророке», и другой меч. «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни» (Быт.3,24).
Но связь с «Пророком» остается. Стихотворение — само как меч, только рассекающий не грудь, а душу; и не сердце трепетное извлекается, а свиток воспоминаний, и его невозможно читать без трепета сердца, отвращения и проклятий.
Если же перевести коллизию «Воспоминания» в житейски-предметный план — получится «Утопленник», позже и написанный.
Мужик каждый год, ночью, когда «буря настает», слышит стук своего покойника — автор «Воспоминания» каждую ночь, «в тишине», но в буре душевной, созерцает свиток своих грехов. Он читает свою жизнь, «трепеща и проклиная», — в «Утопленнике» то же самое: «Так и обмер: «Чтоб ты лопнул!» — прошептал он, задрожав». Только вот если мужик «окно захлопнул, Гостя голого узнав», то автор «Воспоминания» ничего такого сделать не может: муки совести приходят не извне; и не «Раки черные впились» в тело мертвого «гостя», а
…живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья.
(Ср.: «И угль, пылающий огнем, Во грудь отверстую…» и «жало мудрыя змеи».) Самосуд так нелицеприятен, что акт поэтический тут и в самом деле на грани пророческого — та же беспощадная правда. «Так говорит Господь Бог Израилев: Я помазал тебя в царя над Израилем и Я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего… и дал тебе дом Израилев и Иудин, и… прибавил бы тебе еще больше; зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами Его?., итак не отступит меч от дома твоего…», — так сказал пророк Нафан царю Давиду, согрешившему в «частной жизни» (2Цар.12,7-10) — и тоже пророку (после чего и появился 50-й, покаянный, псалом). Содержание приведенного обличения должно бы было быть внятно «помазанному» в пророка автору «Пророка». Ведь в «Воспоминании» и в самом деле явно содержится память покаянного Давидова псалма. Можно даже сказать, что все стихотворение содержится в одном стихе этого псалма:
«Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну» (всегда; Пс.50,5).
Связь здесь вовсе не литературная, стихотворение не перефразирует псалом, это не реминисценция — это совпадение духовных ситуаций: у «Воспоминания» тот же внутренний строй, как у покаянного псалма, Пушкин сейчас чувствует то же и так же, как чувствовал кающийся царь и пророк; стихи Пушкина есть Давидово покаяние — по силе, глубине и беспощадности.
Сходство огромно — но разница не меньше. Чувствуя, как Давид, автор стихов совсем иначе разумеет свое чувство: его покаяние безысходно. Последний стих:
Но строк печальных не смываю, — противоречит самому понятию о покаянии и его цели — как ветхозаветному, так и евангельскому.
О последнем стихе были споры: «не смываю» — это что: не хочу смыть или не могу смыть? У каждой из спорящих сторон были вполне убедительные и для поэта лестные резоны, но опору они находили отнюдь не в тексте стихов, а исключительно в личных предпочтениях спорящих; проблема ставилась в чисто психологическом плане и потому была неразрешима, ибо предмет «Воспоминания» — вовсе не психология.
Предмет финала «Воспоминания» («не смываю»), а стало быть, по существу, всего стихотворения, является нам лишь на фоне покаянного псалма:
«Наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя… омывши мя, и паче снега убелюся…» (Пс.50,3-4,9).
И в ветхозаветном, и в христианском понимании, цель и смысл покаяния — очищение, омовение души от греха, которое возможно не самому человеку, но только Богу. Покаяние без такой цели и, следовательно, без молитвы об очищении, просьбы о помощи — не имеет смысла.
В «Воспоминании» грех не смывается, ни обращения, ни молитвы, ни просто просьбы, ни даже надежды нет: «И горько жалуюсь, и горько слезы лью» — не обращено ни к кому, направлено никуда: в нем самодостаточность безнадежности. Речь не о том, может ли, хочет ли (или не может и не хочет) автор смыть печальные строки своей жизни; автор говорит просто: «не смываю», — как если бы лишь от него самого зависело смыть или не смыть. Как если бы больше это сделать было некому.
Это значит, что «Воспоминание» есть не сразу явное, но прямое противостояние Давидову псалму: исповедь без адреса и цели, жалоба без надежды, покаяние без молитвы об очищении, слезы без облегчения; псалом в отсутствие Бога, в сущности — антипсалом.
Но тем самым это и противостояние собственному «Пророку». Взяв из «Пророка» художественный язык для выражения мук совести («…горят во мне Змеи сердечной угрызенья»), автор оставил без внимания само событие «Пророка»: личную встречу своего духа и гения с Богом. Словно «Пророк» был всего лишь поэтическая фантазия, метафора, реальность чисто художественного, а не духовного опыта (как это часто и понимается); словно никакого события не было и обращаться не к кому: полное одиночество. Это, похоже, как раз тот случай «раздвоения между мыслью и чувством», о котором писал цитированный выше В. Соловьев. «Чувство» (точнее, дух и творческий гений) вопиет к Богу Давидовым воплем, а «мысль» (точнее, может быть, душа) этому воплю не внемлет, его не слышит, продолжая маяться в одиночку. То ли античный фатализм стоической окраски, то ли предвосхищение принципиального сиротства экзистенциализма.
Снова думаю: тогда, осенью 1826 года, автор «Пророка» испытал, в стихах воплотил могучее наитие Святого Духа, полноту которого душа вместить еще не могла. Понято было лишь то, что по природе умопостигаемо, а именно — только художественно-философская сторона записанного. Сама же встреча, в качестве реального духовного события, предполагающего некоторые реальные же последствия, была хоть и записана, но не постигнута. Да и не могла быть постигнута умственным или даже художественным образом. Она должна была быть не понята умом или прочитана в тексте — она должна была быть явлена в душевном и духовном опыте жизни.
Этот опыт и начался после рождения «Пророка». «Пророк» оказался не констатацией свершившегося (как нам издавна кажется), а пророчеством на будущее: предварением душевных и духовных мук, через которые обретается истинное — не в стихах, а в жизни, — посвящение.
Проходя эту инициацию — когда его совесть, подобно Орланду из его перевода, на каждом шагу вперялась в «свой позор», сталкиваясь со зрелищем чудовищного несоответствия жизни и поведения тому, что он постиг о себе в «Пророке», ибо личная жизнь его и поведение оставались такими же, что у всех «детей ничтожных мира» (словно, повторяю, «Пророк» был величественные слова и ничего больше); когда открывалось его недостоинство в отношениях с любовью, с милыми «тенями» и «призраками», с тяжестью возвещенного в «Пророке» призвания, становящейся невыносимой; когда все это усугублялось страданиями счастливца, избежавшего общей с политическими заговорщиками участи, взысканного милостью, славой и двусмысленным положением в глазах общества; когда вся прошлая жизнь стала разворачиваться по-новому — под знаком не «судьбы», а совести, и читать ее стало невозможно без отвращения, — проходя столь жестокий искус и неизбежно честно запечатлевая эти шаги в своем искусстве, отдает ли он себе отчет в том, что все это и есть те именно муки и та именно боль, которые должен был испытывать преображаемый в «Пророке»? что вот сейчас касаются его ушей, исторгают язык празднословный и лукавый, рассекают мечом трепетную душу? что возросшая жестокость совести — уже и есть дело посвящения? Сознает ли, наконец, что именно в «Воспоминании» — которое не столько покаяние, сколько самоказнь, вопль бесконечной безнадежности, в сущности отчаянная манифестация безверия, — что как раз в этом «антипсалме», именно в нем, божественный глас пушкинского гения впервые прямо и вслух вопросил своего обладателя о его личном соответствии предназначению такого поэта — поэта, о котором написан «Пророк»? Сознает ли?
И нет, и да. Это как у его Моцарта: сам Моцарт ничего не знает об умысле Сальери, дух же Моцарта, его гений знает все — и больше даже, чем сам Сальери. Разница лишь в том, что у нас речь идет о не о двух, а об одном и том же человеке. Есть высшее «я» в человеке, которое знает об этом человеке все, в то время как сам он мечется и ничего не понимает. Оно есть в каждом человеке, оно является, оплотняется в совести — и может быть явлено в действии, в том числе в действии творческого гения, который есть печать Святого Духа в человеке; но совесть тоже есть печать Святого Духа в человеке; совесть — это гений каждого человека как образа Божия. Человек знает о себе не все, а его совесть, его гений знают все. Так было в элегии «Под небом голубым…», так было в «Пророке». В терминах Соловьева: «чувство» опережает, «мысль» отстает. От духа отстает душа — так бывает всегда и со всеми; собственно, в стремлении души не отстать совсем, и совершается истинная духовная жизнь человека на земле, и стремление это бывает полно мук и чревато драмами.
В «Воспоминании» великая, пророческая духовная жажда — жажда не отстать — соединилась с великим отчаянием души. Отчаянием человека, который своим человеческим разумом полагает, что его ввели в заблуждение: позвали, вознесли — а потом бросили. Как в насмешку. Об Иове «сказал Господь сатане: вот он, в руке твоей, только душу его сбереги» (Иов2,6) — а тут и душу не жалеют.
В черновом продолжении «Воспоминания» есть не очень понятные, но очень страшные слова:
Но оба с крыльями (Вариант: И оба грозные),
и с пламенным мечом —
И стерегут — и мстят мне оба —
И мертвую любовь питает их (?) огнем
Неумирающая злоба
(Вариант: И мертвую любовь сменила
Неугасающая злоба).
«Мертвую любовь» «питает» (напитывает?) огнем или «сменяет» вечная (неумирающая, неугасающая) злоба! — это до жути напоминает «Русалку», замысел которой не покидает его как раз с 1826 года, года элегии и «Пророка». Но мстящая Русалка и Дочь мельника — не одно и то же, это уже разные существа; точно так же и «тени милые», «два ангела» не могут «мстить» сами от себя, и не может им самим принадлежать, от них самих исходить «неумирающая» или «неугасающая» («пламенный меч») «злоба»: в грозных мстителей преображает их (как Дочь мельника в Русалку) чья-то «злоба», злоба внешней, могучей, высшей силы…
И он, раскаиваясь в своих грехах и винах, чувствуя свое недостоинство, как Давид, страдая, как Иов, не следует примеру согрешившего пророка Давида и непорочного человека Иова: не хочет никого ни о чем просить, ни к кому обращаться, ни у кого даже вопрошать, и с каким-то упоением безысходности вперяется в проклятый свиток. Его слезы — сухое рыдание, а жалоба не адресована никому — ибо кому пожаловаться на Бога?
В таком существе, в такой душе, как он, подобное чревато взрывом.
Взрыв происходит спустя неделю, в день рождения. Во всяком случае, именно эта дата, «26 мая 1828», предваряет, в качестве эпиграфа, новое стихотворение.
- «Дар напрасный, дар случайный»
Относиться к смыслу этих стихов серьезно давно отвыкли: все, что пишет Пушкин, прекрасно, и это тоже прекрасные стихи, написанные в тяжелый момент жизни; вот, собственно, и все. В советской науке было принято объяснять стихотворение «тягчайшим общее венным кризисом, глубокой депрессией передовых кругов» (Д.Д. Благой. Творческий путь Пушкина (1826-1830). М.,1967, с.179. — В.Н.) — внешние обстоятельства снова на первом месте. Но от депрессии «общественной» автор стихов был как раз далек, он рвался к деятельности, а конфликт у него был (в частности, по поводу «Стансов») как раз с «передовыми кругами». Да, было трепавшее нервы полтора года дело об элегии «Андрей Шенье», был запрет на выезд в армию на Кавказ и за границу и другие неприятности; но отвергнуть из-за всего этого жизнь — такое, может, и бывает, да только это на Пушкина не похоже.
Правда, и у Пушкина ничего, подобного этому стихотворению, да сих пор не было; был трагизм, были сетования, была тоска по смерти — но такой, самоубийственного спокойствия (в котором вопль) декларации отвержения у него больше не встретить. Если «Воспоминание» — «анти-псалом», то спустя неделю написан анти-«Пророк». Все происшедшее в «Пророке» переосмыслено в духе отрицания и отвергнуто.
Говорится о случайности и бессмысленности жизни, отсутствии в ней «цели» — после того как в «Пророке» поэту дана новая природа и возвещена цель жизни.
Говорится о «казни» — после преображения плотского естества поэта в «Пророке».
После: «Как труп в пустыне я лежал, И Бога глас ко мне воззвал», — «Кто меня враждебной властью Из ничтожества (небытия. — В.Н.) воззвал?»
«Душу мне наполнил страстью, Ум сомненьем взволновал…», «Сердце пусто», — это в ответ на: «угль, пылающий огнем, Во грудь отверстую водвинул» — и на повеление: «Исполнись волею Моей».
«Празден ум» — после того как вырван «празднословный» язык.
«Однозвучный жизни шум» (ср. «Колокольчик однозвучный») отменяет весь тот «шум и звон», в котором «неба содроганье» и «горний ангелов полет».
Наконец, финал «И томит меня тоскою» — прямая антитеза началу «Пророка»: «Духовной жаждою томим».
«Пророк» отрицается «по всем пунктам» подряд, дары, полученные в нем, отвергаются. Как будто это была злая шутка, бытийный подвох. Д. Благой сопоставлял «Дар напрасный…» с книгой Иова: «…открыл Иов уста свои и проклял день свой. И начал Иов, и сказал: погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался человек!.. Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева?.. На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого Бог окружил мраком?» (Иов3,1-3,11,23). Но автор стихотворения знает, что Иов был праведнейший из людей земли Уц и страдал неповинно. У него была чистая совесть, воспоминание не развивало перед ним длинный свиток его жизни, заставляющий трепетать от отвращения. Бог попустил сатане испытать крепость его веры — будет ли она такова же в лишениях, как в достатке и счастье. У автора стихотворения все иначе. Он полжизни считал себя неверующим — а его тоже испытывают; и не отъятием богатства, детей и здоровья, а, напротив, дорогим подарком, в котором подсунута отрава (приходят на ум «змеиные» метафоры «Пророка» и «Воспоминания»); его, с его слабой верой и нечистой совестью, испытывают непомерным даром, который соприроден дару веры, с его воздушной невесомостью и нечеловеческой тяжестью; который соприроден дару совести, а совесть — это «ведьма, от коей меркнет месяц, и могилы Смущаются и мертвых высылают!» («Скупой рыцарь»). Для чего? — вопиет он как Иов; и как Иона, которому ни за что ни про что велено быть пророком, бежит от лица Господня.
Но «Пророк» уже есть, смыть его строки невозможно: они, как сам дар, слиты с жизнью, они лишь раскрывают задание этой жизни, которое до того было неведомо, лишь смутно предчувствовалось («Иная, высшая награда Была мне роком суждена — Самолюбивых дум отрада! Мечтанья суетного сна!» — «В.Ф.Раевскому»,1822). Отвергнуть задание, отказаться от послушания, данного в «Пророке», стать беглецом и расстригой — значит отказаться от жизни. В этом смысле «Дар напрасный…» есть посягательство на духовное самоубийство. Внешней формой отвергая жизнь как дар напрасный и случайный, а внутренней формой отрицая «Пророка», стихотворение предвосхищает бунт Ивана Карамазова, возвращающего Богу «билет».
Нет, «Он застрелиться, слава Богу, Попробовать не захотел»; продолжает роман (VII глава), пишет «Полтаву», ведет светскую жизнь, очередной раз влюблен (мадригал Олениной «Ты и вы» — в промежутке между «Воспоминанием» и стихами о даре напрасном), жизнь идет своим чередом. Но лирика — тоже жизнь, не менее жизнь, она тоже идет, и слово бунта уже сказано.
- И как только оно сказано — тут же, «бездны мрачной на краю», следует приступ великолепной бодрости, радости, жизнелюбия. Восторженный дифирамб «Ее глаза». Короткое стихотворение «Кобылица молодая» — горделивый апофеоз мужественной силы, хозяйской власти над жизнью; ему явно сопутствует набросок «Как быстро в поле, вкруг открытом, Подкован вновь мой конь бежит!», который спустя пять лет прорастет в «Осени» (и вот как преображается тревоживший его образ несущегося всадника!). И наконец, открывающее эту трилогию (может быть, сразу после стихов о даре) одно из самых светлых, нежных, радостных стихотворений зрелого Пушкина — «Еще дуют холодные ветры» — про «первую пчелку», летящую «О красной весне поразведать: Скоро ль будет гостья молодая? Скоро ли луга позеленеют?..» — он вдруг полюбил весну!
Бунт совершился, все сказано и выговорено, все названо своими словами, расставлено по местам — и будто иго свалилось с плеч, и все стало ясно, просто и легко. И мир засиял новыми и свежими красками. (Такой опыт будет запечатлен позже, когда он будет описывать самочувствие безумца: «И я глядел бы, счастья полн, В пустые небеса» — «Не дай мне Бог сойти с ума».)
«Я не Бога не принимаю, пойми ты это, я мира, Им созданного, мира-то Божьего не принимаю и не могу согласиться принять», — говорит Иван Карамазов, приближаясь к своему «бунту». И — еще раньше, словно подводя под бунт мировоззренческий фундамент: «Жить хочется, и я живу, хотя бы и вопреки логике. Пусть я не верю в порядок вещей (то есть в «мир Божий». — В.Н.), но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо, дорог иной человек…», — и опять: «Клейкие весенние листочки, голубое небо я люблю, вот что! Тут не ум, не логика, тут чревом любишь…»
Любовь к «голубому небу» как «пустым небесам», к миру вне Бога, к миру не как к Творению, а как к дару случайному, напрасному и потому как-то особенно прекрасному и аппетитному; любовь вне духа, чревная, в сущности животная, — воспевается поистине вдохновенно: пусть я не могу посмотреть вверх, не знаю и не хочу знать, что там, — но жить хочется, и я живу и… желуди люблю, вот что!
Так обозначается Достоевским начало пути Ивана к преступлению; и от окончательной духовной гибели Ивана спасает лишь безумие — следствие его «глубокой совести», по мнению Алеши. Словно Алеша Пушкина начитался.
Да ведь клейкие-то листочки — и правда из Пушкина! Из стихов о пчелке:
Скоро ль будет гостья молодая?
Скоро ли луга позеленеют?
Скоро ль у кудрявой у березы
Распустятся клейкие листочки,
Расцветет черемуха душиста?
Выходит, у Достоевского почти в точности воспроизведена «структура» духовной катастрофы, пережитой Пушкиным весною 1828 года; воспроизведена не в порядке литературной реминисценции, а как, очевидно, прожитая и самим Достоевским; воспроизведена с той лишь разницей, что тема «клейких листочков» у Ивана бунту предшествует (ибо Достоевский демонстрирует, и сознательно, «идеологическую платформу» совершающейся катастрофы), а у Пушкина эта тема следует сразу после «бунта» — не идеологически, а органически и спонтанно, как у «первопроходца», точнее — первой жертвы.
Самое замечательное в этой истории с листочками у Пушкина — то противоречие (или драматическое напряжение, или — контрапункт), которое делает стихотворение о пчелке нежным и ослепительным лучом света в темном царстве.
В ответ на мрачную логику бунта, совершившегося в стихотворении «Дар напрасный…», гению его автора было тут же явлено — в стихах о пчелке — не что иное, как образ мира в качестве изумительного, сплошь одушевленного Божьего Творения, в котором всякое дыхание да хвалит Господа, — словно восклицание Алеши: «Ты не веришь в Бога. Как же клейкие листочки?»; но душа автора, объятая страстью победившего карамазовского отрицания, даже этот ликующий, увещевающий ответ своего гения, эту милосердную подсказку заблудшему восприняла и истолковала как утешительный итог бунта, его законное следствие и чуть ли не поощрение. Так Сальери, услышав экспромт Моцарта («Какая глубина! Какая смелость и какая стройность!»), отнюдь не отступается от бунта («…правды нет — и выше»), а, напротив, утверждается в своем мрачном умысле.
То, что все так, подтверждается краткостью этого эйфорического всплеска. Дальше — «Не пой, красавица, при мне», «Предчувствие», «Утопленник», «Ворон к ворону летит» с их уже названными мучительными мотивами; сухая и какая-то апатичная «лицейская годовщина» («Усердно помолившись Богу»); и еще — странный эскиз «Уродился я, бедный недоносок, С глупых лет брожу я сиротою…»: тоже ведь своего рода «Дар напрасный…», вопль сиротства. Конечно, тут сразу вспоминается более поздний «Недоносок» Баратынского («сокрушенное сознание неполноты и бедности сил, происходящее от взгляда на жизнь не шутя» — [С. Бочаров. «Поэзия таинственных скорбей» — в кн.: Е. Баратынский. Стихотворения. М., 1976, с. 280. — В.Н.]), который предстает едва ли не прямым продолжением пушкинского наброска:
Я из племени духов,
Но не житель Эмпирея,
И едва до облаков
Возлетев, паду, слабея.
Как мне быть? я мал и плох;
Знаю: рай за их волнами,
И ношусь, крылатый вздох,
Меж землей и небесами.
…Бедный дух! ничтожный дух!
Дуновенье роковое
Вьет, крутит меня как пух,
Мчит под небо громовое
[Ср.: «Снова тучи надо мною…» («Предчувствие»). — В.Н.]
И, наконец, группа стихов, осененная образом Клеопатры, продающей свою любовь за жизнь (и несомненно являющейся ипостасью Музы, поэзии, требующей, по словам Батюшкова, «всего человека»): «Портрет» («С своей пылающей душой»), «Наперсник» («Твоих признаний, жалоб нежных») и «Счастлив, кто избран своенравно» -три коротких как стон обращения к А.Ф.Закревской, которую Ахматова отнесла к типу «женщин-вамп», «анти-Татьяны». Последнее особенно выразительно звучит на фоне «анти-псалма» «Воспоминания» и «анти-«Пророка» «Дар напрасный, дар случайный»: ведь явление Татьяны в романе в известном смысле предваряет явление серафима в «Пророке» [cм. статью о второй главе «Евгения Онегина» («Поэзия и судьба». М., 1999; «Пушкин. Русская картина мира». М., 1999). — В.Н.].
Так или иначе, восторг после учиненного Богу и жизни разноса быстро проходит, чувство освобожденности и легкости уступает место чувствам мрака, тревоги, вины, гибельного упоения «бездны на краю».
Но еще раньше — и, может быть, именно в момент «гибельного восторга» после бунта — происходит в его жизни одно из самых невероятных «странных сближений».
Едва отзвучал бунт, как его прошлое — отнюдь не в своих «первоначальных, чистых днях» («Возрождение»), а в несмываемых («Воспоминание») строках — постучалось к нему в окно, как непогребенный покойник. На его бунт ответили.
Не успевают высохнуть чернила, которыми пишется дата «26 мая 1828» над стихотворением «Дар напрасный…», как ровно через день, 28 мая, Серафим, но не шестикрылый, а митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский, извещает статс-секретаря Н. Н. Муравьева, что получено «весьма важное на Высочайшее Государя Императора имя прошение с приложенной при нем рукописью, в коей между многими разного, но буйного или сладострастного содержания стихотворениями… помещена поэма под названием Гаврилияда, сочинение Пушкина», исполненная «ужасного нечестия и богохульства».
«И отвечал Господь Иову из бури и сказал: препояшь, как муж, чресла твои: Я буду спрашивать тебя, а ты отвечай Мне» (Иов 40, 1-2).
…Все в нем страшно онемело,
Опустились руки вниз…
(«Утопленник», кстати, и пишется как раз в это время.)
И начинается следственное дело о богохульстве семилетней давности.
Современники свидетельствуют, что Пушкин не любил, когда «Гавриилиаду» при нем вспоминали, тем более хвалили. Во время разбирательства стыд был сугубый.
Пришлось унизительно изворачиваться, трижды письменно лгать о своей непричастности к своей поэме (дважды — в официальных ответах следствию (А.С.Пушкин. Полн.собр.соч. в 10-ти тт., т.10, М.,1958, с.635,636. — В.Н.), один раз в письме к Вяземскому от 1 сентября, сваливая авторство — в ожидании перлюстрации письма — на покойного и не могущего защитить себя от клеветы Дм.Горчакова, — о чем мне напомнила как раз моя псковская гостья). Вряд ли был в его жизни момент большего в собственных глазах позора. И это было величайшее благодеяние.
Несмотря на отпирательства, от него не отставали, ему не верили. В конце концов он написал лично царю — ему признаваться было не так унизительно: то был царь (См.:В.П.Гурьянов. Письмо Пушкина о «Гавриилиаде». — «Пушкин. Исследования и материалы»,т.VIII,Л.,1978. — В.Н.). Царь его простил и никому ничего не сказал. «Дело это мне подробно известно и совершенно кончено» — так завершил он следствие.
Дело было кончено — но не для автора. Момент и обстоятельства встречи с кощунственной выходкой молодости не могли быть расценены автором стихотворения «Дар напрасный, дар случайный» как чистая случайность: на «странные сближения» слух у него был безукоризненный, «случай» же, как он скажет позже, есть «мощное, мгновенное орудие провидения» (XI,127).
Как бы то ни было, к периоду следственного дела о «Гавриилиаде» относится (конец августа — первая половина октября) работа над вещью, связанной неразрывно как с «Даром…», так и с «Пророком», — и может быть, столь же этапной, как «Пророк».
- «Анчар»
В традиционном представлении «Анчар» — художественно-философский образ мирового зла, столь же впечатляющий и зловещий, сколь и отвлеченный, то есть нечто такое, чего у Пушкина никогда не бывало, тем более в лирике. В качестве стихотворения лирического «Анчар», насколько помнится, не рассматривался никогда. Думается, это просто потому, что лиризм здесь слишком глубокого свойства; единственное свидетельство лиризма, и весьма откровенное — об этом речь впереди, — автором из белового текста убрано.
Начнем издалека. Со стихотворения (1829), которое, как потом увидим, не могло бы появиться, не будь «Анчара», и принадлежащее уже Пушкину позднему.
Кавказ подо мною.
Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины.
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
Далее предстает — с невероятной высоты (когда орел, даже «поднявшись» с вершины, все равно лишь «со мной наравне») — картина мира, предстает в вертикальном, так сказать, разрезе. Это само по себе необычайно важно для понимания позднего Пушкина, но сейчас главное другое. Исходное положение стихотворения — одиночество героя, одиночество надмирное, планетарного масштаба, и без малейшего призвука романтизма (ср. сходную, но явно романтическую, «мизансцену» в «Кавказском пленнике»). И вот, это величественное одиночество повторяет (не семантически, а структурно) ситуацию «Анчара»:
В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит — один во всей вселенной.
Проведенная параллель преследует сейчас лишь одну цель. Тема, одиночества у Пушкина, разумеется, не нова — в частности, в лирике последних лет, тех, о которых здесь идет речь. От одиночества страдал герой «Безверия» (1817), который «видит с ужасом, что в свете он один, И мощная к нему рука с дарами мира Не простирается из-за пределов мира»; в «Пророке» герой тоже одинок — но рука из-за пределов мира к ; нему простирается; в «Воспоминании» — муки нового одиночества, но- более жестокого и принятого сознательно, ибо исключающего просьбу , о помощи; наконец, автор стихотворения «Дар напрасный, дар случайный» одинок окончательно и почти агрессивно перед лицом «враждебной власти», «воззвавшей» его к бессмысленному существованию.
Разные степени одиночества объединены — до «Анчара» — общей чертой: страдательностью. Одиночество — причина страданий.
В «Анчаре» главный «персонаж» неслыханно одинок: он «один во всей вселенной». Но это одиночество не страждущего, а причиняющего страдания; не претерпевающего зло, а источника зла. Это у Пушкина впервые. Пушкин впервые от переживания одиночества обращается к метафизике одиночества, к онтологии одиночества — не пропущенной через человеческое переживание. Оттого и появляется древо.
Было, однако, стихотворение, где, при очевиднейших поводах к самому мучительному переживанию героя, описания страданий нет ни в одной строке — есть «только факты»: «вырвал… язык», «грудь рассек мечом…» и т.д. В «Пророке» — сплошная метафизика, а ее переживание, душу сотрясающее, автор целиком передает нам. Так же передается одиночество в «Анчаре» — только еще более глубинно, с меньшим участием наших столь трепетных эмоций. Можно сказать: здесь переживает более наш дух, чем душа.
Теперь пора сопоставить «Анчар» с «Пророком».
Перекличка начинается с первых же строк: «В пустыне мрачной…» — «В пустыне чахлой и скупой».
Дальше: «Духовной жаждою томим» — «Природа жаждущих степей».
Томимый духовной жаждою герой влачится в мрачной пустыне. Порожденное природой жаждущих степей древо яда стоит в чахлой и скупой пустыне.
Жажда духа вызывает явление серафима; жажда естества, «природы» — явление древа смерти.
Подробному описанию в «Пророке» сверхъестественного преображения плоти героя, сходного с умерщвлением, соответствует подробное описание «естественной» смертоносности анчара.
В результате преображения плоти герой «Пророка» с трепетом внимает, сразу и вдруг, все мироздание. Результат действия анчара — трепет всей живой плоти, всего мироздания перед источником зла.
«Бога глас» оживляет лежащего «как труп» героя и дает ему новую жизнь. «Властный взгляд» князя дает повеление, обрекающее живого человека стать трупом.
Бог посылает к человеку шестикрылого серафима — князь посылает к анчару раба. Шестикрылый серафим вырывает язык героя, извлекает трепетное сердце — раб извлекает из анчара отраву.
Герой «Пророка» по велению Бога должен двинуться из пустыни к людям, нести им глагол правды, — «бедный раб» по велению «непобедимого владыки» несет из пустыни предназначенную для «соседей» смертную смолу.
Посылая героя обходить «моря и земли», Бог велит ему исполниться Его волей; «владыка» рассылает в «чуждые пределы» стрелы, напитанные отравой.
Соответствия многочисленны, очевидны и имеют сквозной характер. В то же время некоторые из них — смещенные и как бы перепутанные. С героем «Пророка» соотносится то анчар, стоящий в пустыне, то раб, несущий вместо жгучего глагола смертную смолу, то опять анчар, из которого не сердце извлекается, а яд, то стрелы, рассылаемые владыкой. Раб соотносится то с серафимом, посланцем Бога, то с героем «Пророка», то с теми же стрелами. Князь — то с Богом, то с распространяющим смерть анчаром. Линии то совпадают, то пересекаются: «образ входит в образ» и «предмет сечет предмет» (Пастернак), причем блуждание соответствий происходит и внутри «Анчара». Бедный раб дублирует облик древа смерти: у того с ветвей «ядовит, стекает дождь», «Яд каплет сквозь его кору, к полудню растопясь от зною», — у этого, вернувшегося «к утру», «пот по бледному челу Струился хладными ручьями». Но и господин похож на анчар: принеся смертную смолу, раб умирает у ног князя, князь ядом напитывает стрелы — и отрава словно повторяет свой путь от корней — ног — к ветвям — стрелам.
Одним словом, отношения между «Пророком» и «Анчаром» построены как отношения двух разных миров, из которых второй представляет собой сдвинутое, смещенное, смятое подобие первого.
Это прослеживается и в соотношении фабул. В «Пророке» фабула имеет вектор и развивается по восходящей: от «влачился» — к «Восстань…», от «духовной жажды» к пророческому дару, от томления к призванию. Собственно, вся фабула есть единое действие Бога, в котором каждая ступень выше предыдущей, а все завершается открытым финалом, устремляющим к высокой цели.
В «Анчаре» фабула замкнута. Финал — напитанные ядом стрелы — смыкается с началом — напоенными ядом ветвями и корнями; действие князя есть повторение действия «природы», напоившей древо ядом: движение по кругу. Единое действие Бога расщепляется на одинаковые действия «природы» и «человека». «Природа» и «человек» делят между собой функции Бога.
Отсюда и различие двух миров. Если в «Пророке» основное измерение — вертикальное (Бог — серафим — «я»), если мир «Пророка» сферичен, объемен («я» — центр сотворенной вселенной, а вокруг все на своих местах: горнее и дольнее, физическое и метафизическое, «гады морские» — «ангелы», «подводный ход» — «горний… полет», и т.д.), то в «Анчаре» все горизонтально. Вертикали — лишь чисто физические: анчар стоит в плоской пустыне, по нему стекает ядовитый дождь; вверху — «туча», но ее движение горизонтально, как и у «вихря черного»: одна «блуждает», другой «бежит» и «мчится». Все расположено на плоскости: древо смерти, непобедимый владыка и совершающий путь между ними раб. Иерархической разницы нет: древо и князь совершенно сходны по функции: оба сеют смерть. Иерархии нет нигде, это подчеркнуто: «Но человека человек…» — зато есть земная субординация, ознаменованная физической вертикалью: «бедный раб» умирает «у ног Непобедимого владыки» (пародия на: «Как труп… я лежал, И Бога глас ко мне воззвал: Восстань…»).
В «Пророке» то, что похоже на убийство, приводит к новой жизни и на «восстающего» возлагается послушание (не случайно в «Памятнике»: «Веленью Божию… будь послушна») — фабула «Пророка» вертикальна. В «Анчаре» она сплюснута в горизонтальную: убийственное поручение («послушно в путь потек») приводит к новой смерти, и только смерти, и ценой гибели одного смерть («послушливые стрелы») распространяется дальше.
«Пророк» — это фабула жизни, отсюда его открытый финал. Фабула «Анчара» замкнута, это фабула смерти. Объемный, иерархически устроенный мир «Пророка» спроецирован в «Анчаре» на плоскость, образуя на ней порочный круг. Метафизические координаты сменяются физическими, верх и низ совмещаются, все оказывается «рядом», сдвигается, перемешивается, пересекается. «Анчар» — это плоский, лежащий мир, поистине воплощенная формула Иоанна Богослова «весь мир лежит во зле» (1Ин.5,19). Другой образ такого мира — у того же апостола, в Апокалипсисе, где мы встречаем мотивы, ставшие у Пушкина в стихах этого времени («Какая ночь!..», «Воспоминание») центральными, и где словно бы предуказан даже способ изображения Пушкиным такого мира: «…и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним… И звезды небесные пали на землю… И небо скрылось, свившись как свиток, и всякая гора и остров сдвинулись с мест своих…» (Откр.6,8,13-14). Мир «Анчара» — сдвинутый, скрученный, сплющенный мир «Пророка», мир готовый к гибели, чреватый смертью.
Ключевое слово «Пророка» — Бог, оно звучит в его конце. Ключевое слово «Анчара» звучит в начале: «природа». Мир «Анчара» написан как мир сплошной «природы», где Богу места не оставлено.
В «Пророке» то, чего человек не может сделать сам, делает Бог, и в этом — движение и жизнь. В «Анчаре» князь может делать то же, что делает «природа»; дерево и человек — одинаково «природные» явления («Так деревцо свои листы Меняет с каждою весною», — объясняет Онегин Татьяне природу ее любви в главе IV. — В.Н.), имеющие одинаковую функцию — сеять смерть. Смерть есть конечное свойство «природы», тогда как свойство Бога — жизнь. Бытие в «Анчаре» лишено божественности, а значит, лишено для человека и жизни. Мир сплошной «природы» есть мир смерти: где нет места Богу, нет его и человеку. Жизнь человека в таком мире — недоразумение, поистине
Дар напрасный, дар случайный…»
Так обнаруживается в «Анчаре» лиризм — эхо стихотворения о даре напрасном, которое было отречением от «Пророка», опровержением «Пророка», бегством от него.
«Анчар» — отповедь автора «Пророка» автору стихотворения «Дар напрасный, дар случайный».
— Вот (гласит эта отповедь), вот, я показываю тебе мир, из которого возникают такие стихи, как твой «Дар напрасный…»: это мир сплошной смерти, сплошного зла, и ты сам — гражданин этого мира Если бы из стихотворения о даре мог возникнуть реальный мир, он, был бы таков, как в «Анчаре»; ты стал бы демиургом мира, недостойного существовать, пародии на мир Божий. Пусть этого не случилось, пусть стихи о даре напрасном остались стихами — но в них ты признал, что «правды нет — и выше», что нет ничего кроме неправды, кроме «враждебной власти». И, значит, вы, «мира-то Божьего» не приемлющие, — мир зла принимаете, и принимаете по своей воле. Ты принял мировое зло как последнюю истину, неправду принял как правду. Тем самым ты стал соучастником в торжестве мировой неправды и пособником враждебной власти зла. Благодаря таким, как ты, мир, изображенный в «Анчаре», существует реально. Ибо взгляд на жизнь как на дар напрасный и случайный, на мир как на сплошное зло — сам есть зло, есть кощунство, умножающее зло в мире. Тебе не на кого пенять, анчар — в твоей душе.
Таков ответ. Вспомним разъяснения, которые Мефистофель дает Фаусту относительно природы его увлечения Гретхен; там такой же диалог с собой. «Анчар» — лирика в той же мере, как и «Сцена из Фауста». И метаморфозы, что претерпевает в «Анчаре» созданная в «Пророке» картина мира — когда с героем «Пророка» соотносится то анчар, то раб, то стрелы, а то и князь, эти стрелы рассылающий (слово поэта не раз уподоблено у Пушкина стреле), — эти метаморфозы имеют лирическую природу: и древо яда, и князь, и раб, и стрелы — все это не что иное, как смятые, изувеченные осколки авторского «я» «Пророка». В «Анчаре» «я» «Пророка» размножилось, раздробилось, исчезло — ибо в мире вне Бога не может быть никакого «я».
Обращусь теперь к тому авторскому свидетельству о лиризме «Анчара», которое упоминалось выше. В рукописи стихотворения имеется английский эпиграф — цитата из Кольриджа. Он гласит:
«Это — ядовитое дерево, которое, будучи пронзено до сердцевины, плачет только ядовитыми слезами».
При публикации эпиграф снят. Почти наверняка — снят (говоря словами автора) «по причинам, важным для него, а не для публики» («Отрывки из Путешествия Онегина». — В.Н.). Снят потому, что явственным образом интимен, пожалуй даже исповедален. Название произведения Кольриджа не указывается, а оно важно. Это — трагедия, она называется «Remorse», то есть «Раскаяние», а лучше — «Угрызения совести». У автора «Анчара» есть стихотворение, которое могло бы называться в точности так же, если бы не называлось «Воспоминание». Эпиграф может служить метафорой того состояния души, какое и дано в «Воспоминании»: душа поистине «пронзена до сердцевины», в ней «горят… Змеи сердечной угрызенья» (мотив яда), есть и «слезы», которые, при том безысходном самоистязании, каким является в этих стихах раскаяние, впору и ядовитыми назвать; а последовавший за «Воспоминанием» «Дар напрасный…» — что это как не ядовитая слеза?
Основа сюжета трагедии Кольриджа — отношения двух братьев (за помощь в части работы, относящейся к трагедии Кольриджа, выражаю сердечную признательность Н.В.Перцову и М.М.Кореневой. — В.Н.). Действие (оно относится к эпохе после избавления Испании от владычества мавров начинается возвращением старшего, дон Альвара, из изгнания в родную Гранаду (любопытно: мавры, Испания, Гранада — все это имеет отношение — через Новеллу В. Ирвинга — к «Сказке о золотом петушке», по пафосу близкой к «Анчару». — В.Н.). Младший брат, Ордонио, злоумышлял против старшего, но дон Альвар, вернувшись, не хочет творить возмездие, которого требует его преданный оруженосец. Помни, говорит дон Альвар, я его брат, поистине глубоко оскорбленный, но все же брат! — Да ведь это, отвечает оруженосец, делает его вину еще чернее! — Тем нужнее, возражает дон Альвар, чтобы я разбудил в нем угрызения совести. — Угрызения совести, говорит слуга, таковы, каково сердце, в котором они пробуждаются. Если оно мягко, то способно к истинному раскаянию, но если оно гордо и мрачно, то это — ядовитое дерево, которое, будучи пронзено до сердцевины, плачет только ядовитыми слезами!
Поставив последние слова в эпиграф, Пушкин тем самым уподобляет свой анчар сердцу «гордому и мрачному», раскаяние которого ядовито. Чье же это сердце? Странно было бы думать, что имеется в виду кто-то другой (ведь «Анчар» не эпиграмма!), а не сам автор жестокого, но безадресного раскаяния в «Воспоминании» и «гордого и мрачного» стихотворения о даре напрасном.
Если это так, то надо дополнить пересказ диалога. Дон Альвар не хочет карать брата, «не сделав никакой попытки спасти его… Вот эту самую жизнь, которую он замыслил отнять, он сам же однажды спас от свирепого потопа…». Теперь, говорит дон Альвар, «я должен спасти его от него самого».
Спасти от него самого… Вот, кажется, ключевой мотив. Не являют ли — для Пушкина — отношения двух братьев подобия отношений поэта с самим собой? Не «злоумышлял» ли автор «Воспоминания» против автора «Пророка», не умыслил ли «отнять жизнь» у него в стихах, где жизнь названа даром напрасным? И не спасение ли от себя самого — цель диалога автора «Пророка» с автором «Воспоминания» и «Дара…» в стихотворении «Анчар»? [думается, исследователь темы «Пушкин и «Remorse» Кольриджа» найдет в английской трагедии — сверх темы спасения от бури («Арион») и возвращения из изгнания — немало созвучий внутренним коллизиям поэта, могущих дополнить или скорректировать излагаемое. Что до меня, то одно из подобных созвучий приходит в голову немедленно. Возвращение на родину, в Испанию, вместе с верным слугой, из изгнания — это ведь первая сцена «Каменного гостя», который будет написан два года спустя и представляет собою самую «лирическую», по справедливому мнению А. Ахматовой, из «маленьких трагедий». Вот только героя зовут не дон Альвар — это имя присвоено Командору (который в двух главных для поэта «Дон Жуанах» — Тирсо де Молина и Мольера — имени вовсе не имел). — В.Н.].
Я отдаю себе отчет в жесткости сопоставления, но что делать? Мысль изреченная — известно что (для поэта особенно), но без нее бедный наш разум обойтись не может. И разве вся поэзия Пушкина — от лицейских «Желания» и «Мечтателю», от двух посланий к Чаадаеву, «Под небом голубым…» и «Заклинания», и т. д. до «Онегина», где одна ипостась авторской души убивает другую, читает мораль третьей в ответ на ее письмо, а затем сама выслушивает ее отповедь, и пр. и пр., — разве это не беспрестанный диалог с самим собой, как в той же «Сцене из Фауста»? (Да и в «Каменном госте» не случайно Командор назван дон Альваром. В ситуации Кольриджа Пушкин «делит» себя между дон Альваром и его братом, а в «Каменном госте» — не исключено — между дон Гуаном и Командором дон Альваром. — В.Н.).
Сознаю и то, что соблазняю некоторых оглянуться на ветхую концепцию «двух Пушкиных» — от которой открещиваюсь сейчас же: это — детище позитивизма, который не знает иного измерения кроме горизонтального, иного подхода кроме количественного, у которого двоится в глазах от созерцания качественного различия между душой и духом, между обладателем гения и самим, Богом данным, гением, от ощущения их разноприродности, этой квадратуры круга, в которой не «двойственность», а единство — дорого стоящее носителю гения, но только и могущее излучать свет из самой порой безнадежной, казалось бы, темноты, давая нам отдаленное подобие того «сверхъестественного сияния Божественного Мрака», в который облечена Истина (Послание к Тимофею святого Дионисия Ареопагита. — Мистическое богословие. Киев, 1991, с. 5. — В.Н.).
«Анчар», где явлен мир без Бога, — несомненно своего рода художественная теодицея апофатического характера (оправдание и прославление Бога, опирающееся на отрицательные суждения), то есть высказывание, содержание которого предельно сверхлично. Вместе с тем содержание это прожито самым непосредственным, кроваво личным образом, предвозвещенным в «Пророке»; оно лирично. Дерзну назвать «Анчар» лирическим богословствованием. Это новое, после «Пророка», капитальное событие в духовной жизни и лирике Пушкина. «Дар напрасный…» — это «Как труп в пустыне я лежал»; «Анчар» — это «Восстань… Глаголом жги…»
«Пророк» был чистым наитием божественного гения, которое автору пришлось постигать, грубо говоря, на своей шкуре. В «Пророке» пушкинский гений слишком опередил своего обладателя. В «Анчаре» поэт осознает качественное различие между собою самим и своим гением — и тем самым сокращает это различие; в «Анчаре» душа на деле стремится догнать дух; это делается не только по наитию, но и собственным духовным усилием: работой не только художественной интуиции, но и человеческой совести и разума. Оттого в «Анчаре» нет трепетной импульсивности, характерной для чистой лирики; это жесткое стихотворение, поистине модель мира, выстроенная с инженерной точностью, потому и неявен лиризм: кровавый личный опыт скрыт, как скрыт в здании труд и пот каменотеса; лирический эпиграф убран.
Эта модель мира осознанно нова. В «Анчаре» прямо назван начальный и одновременно центральный момент трагической истории всего человечества — увиденный теперь и как факт личной биографии.
Мы поймем это, сопоставив вторые строфы двух стихотворений: «Дар напрасный…» и «Анчар»:
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?
Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила
И зелень мертвую ветвей
И корни ядом напоила.
Вопрос — ответ (почти полный синтаксический параллелизм). Но ответ — не только ответ. В нем еще и оценка вопроса, который сам по себе кощунствен, ибо порожден логикой падшего мира. В ответ на обвинение «власти» во враждебности — напоминание о «дне гнева».
Эти слова обычно означают конец времен, Страшный суд (см. в Апокалипсисе ту же главу, где «конь бледный» и небо, свернувшееся «как свиток» — В.Н.). Но здесь имеется в виду не будущее, а прошлое, не конец, а начало времен — тот день, когда возникло древо яда: день, когда была преступлена первая по времени заповедь, когда вместо Бога послушали сатану («будете, как боги» — Быт. 3, 5; ср. пародирование Бога князем в Анчаре»), вместо Отца вняли «природе» («И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно» — Быт.3,6; ср.: «Природа жаждущих степей») — и так возник падший мир, покорный власти «природы», лежащий во зле, сплющенный и изуродованный настолько, что благая воля Творца может быть в нем представлена и осмыслена как «враждебная власть».
В «Анчаре» посреди этого мира растет «древо смерти», наоборотное отражение «древа жизни», растущего посреди Эдема. «Древо яда», — поясняет Пушкин название стихотворения в публикации «Северных Цветов» — как будто все не ясно из самого контекста. Но он делает это, открыто рифмуя «Анчар» с библейским рассказом о грехопадении.
Этот мотив уже мелькал: в черновом продолжении «Воспоминания» был ведь «пламенный меч» из того же библейского рассказа, преграждающий путь к «древу жизни». Но это был лишь мотив, и он скорее служил замыслу, чем строил его. В «Анчаре» событие грехопадения впервые становится в центре, играя, осмелюсь сказать, методологическую роль. Эта тема строит новый взгляд Пушкина на окружающий мир и на себя: картина мира строится в свете события грехопадения. Раньше у Пушкина такого не было, «Анчар» начинает новый этап.
Однако вряд ли автор «Анчара» забыл, что в самый первый раз о грехопадении у него было рассказано в центральном эпизоде кощунственной поэмы молодости, рассказано бесом, и притом в самых привлекательных красках; рассказано так, что Творец представлен не чем иным, как «враждебной властью».
Теперь два упоминания о дне гнева встретились. Один из черновых вариантов «Анчара» записан прямо на листке с черновиком официальных показаний Пушкина по делу о «Гавриилиаде» (август) [см. статью В.Б.Сандомирской в кн.: «Пушкин. Исследования и материалы», т.X,Л.,1982, с.244 — В.Н.]. Перебеленный автограф «Анчара» датирован автором 9 ноября 1828 года — месяц с лишним с тех пор, как было написано письмо с признанием в авторстве «Гавриилиады».
(Через какие-то недели он впервые видит женщину, о которой, оказывается, и шла речь когда-то в ерническом, но одновременно и молитвенном, финале «Гавриилиады»:
И важный брак с любезною женою
Пред алтарем меня соединит.
Поистине — дар и жизнь составляют одно пространство.)
…Но что такое «ветвь с увядшими листами», которую принес бедный раб вместе со «смертною смолой»? (О эти клейкие листочки!..) Ветвь в руках — символ примирения и добра, призыв к миру и милосердию, напоминание о человечности человека. Что значит «с увядшими листами»? Мертвая, не годная быть таким символом? Или — уже не ядовитая?
А родной брат этой ветви — да и клейких листочков тоже — «Цветок засохший, безуханный» (ведь он пишется одновременно с «Анчаром»)?
Что это — жалость к эфемерному, исчезающему навсегда, безвозвратно? «И жив ли тот, и та жива ли?»; «Или, не радуясь возврату Погибших осенью листов, Мы помним горькую утрату, Внимая новый шум лесов?» (это из того самого места VII главы «Онегина», где ему тяжела «Весна, весна, пора любви»)…
Или напротив: такая щемящая нежность к отцветшему и уходящему, к живущим и отжившим — бессмертья, может быть, залог? Может быть, эфемерность и единственность «того» и «той» — это и есть доступное нам выражение их вечности? Ведь в этих стихах, в их нежности и любви, они, «тот» и «та», такие эфемерные, так живы — неужели у Бога они мертвы? Не может быть.
- Поздний Пушкин
Начало самостоятельного творческого пути его я отношу к 1816 году («Желание»). Стало быть, весь путь — двадцать лет.
В самой сердцевине этого срока и находится двухлетний период (осень 1826 — осень 1828) описываемого духовного кризиса: «Пророк» — «Воспоминание» и «Дар напрасный…» — «Анчар». В этом кризисе родился поздний Пушкин.
Одна из главных черт этого поэта — эсхатологический элемент. Не прямо, не тематически, а — тонально, в настрое, в угле зрения. Проявляется некая суровая трезвость во взгляде на мир и на себя («спокоен и угрюм»). Порой какая-то даже холодноватая созерцательность, «изучающая» отстраненность: ну-ка, мол, посмотрим, где это я…
Кавказ подо мною. Один в вышине…
[Покойный Кайсын Кулиев, смеясь, говорил: горцы обижаются на эту строку. А для Пушкина Кавказ был первой ступенькой в монотеизм («Подражания Корану»). — В.Н.]
Вертикальный, как уже было сказано, разрез мира; почти космический масштаб: люди «гнездятся», овцы «ползают». Все — в порядке, все — устроено, все — на своих местах; только вот в самой бездне, в «ущелье», — Терек играет, как зверь, хаос шевелится «в клетке железной» всего этого порядка и устройства: антипод и антитеза «неба содроганью» в «Пророке»; и в этом тоже — свой порядок…
«Обвал» — тоже картина мира, но — в динамике и звуке. Порядок на мгновение нарушается, становится как будто легче и удобнее для тех, кто «гнездится» и «ползает»:
И путь по нем широкий шел,
И конь скакал, и влекся вол,
И своего верблюда вел
Степной купец… —
но через мгновение же все становится как было, как изначала устроено:
Где ныне мчится лишь Эол,
Небес жилец.
Везде — дух орлиной высоты, взгляд гостя, у которого свои мерки, своя система отсчета, другой масштаб. «Делибаш»:
Посмотрите! каковы?
Делибаш уже на пике,
А казак без головы.
Мол, ведь я же вам говорил: не надо! — как о бессмысленной, хоть и азартно наблюдаемой, детской возне. Это словно обо всех нас, от Адама, и во всей трагикомической бренности.
И наконец, «Монастырь на Казбеке» с его бегством из «ущелья» в «соседство Бога», с необъявленной (хотя, впрочем, упомянут «ковчег») темой спасения от потопа — о чем шла речь в самом начале этих заметок.
Здесь же — «прощальная» тематика: и «Брожу ли я…», и переводы из Соути: «Медок» (где возвращение домой настойчиво видится в плане «Мы близимся к началу своему», в плане заката) и набросок «Еще одной высокой важной песни» (где он собирается «повесить» «смолкнувшую лиру» — ср. «Еще одно, последнее сказанье» Пимена, собирающего «погасить лампаду»), а также «Родрик» с его темой спасения души, отказа от мира и с примыкающим загадочным «Чудный сон мне Бог послал», с чисто евангельской трактовкой смерти. И «Чем чаще празднует Лицей» («И мнится, очередь за мной…»), и «мой закат печальный» (ср. в «Медоке» — «Садится солнце»). Все эти предчувствия надо осмыслить не просто в привычном биографически-психологическом плане: все это личный обертон общего эсхатологического мотива, мотива конечности земного бытия как такового. Он звучит все сильнее: в сказках о рыбаке и рыбке и о золотом петушке, в «Страннике», в «Анджело», в «Медном всаднике» наконец.
Что до «Медного всадника», который уже, кажется, растворился, расточился в интерпретациях социального, политического, исторического, психологического и пр. рода, то, думаю, его нерастворимого ядра — или, может быть, точнее, зерна, откуда поэма растет, в котором ее онтология, — не увидеть без того же «Анчара». Начать хоть с начала:
В пустыне чахлой и скупой
…..
Анчар, как грозный часовой,
Стоит — один….. На берегу пустынных волн
Стоял он…
«Отсель грозить мы будем…»
«Стоял он…» — то есть «непобедимый владыка»; а кто же еще? Дальше:
Природа жаждущих
степей
Его в день гнева породила…
К соседям в чуждые пределы. «…Природой здесь нам
суждено…»
Отсель грозить…
Назло надменному соседу.
С горизонтальным «порядком» лежащего мира соотносится роскошный порядок земного града, который «пышно, горделиво» «вознесся»: творение «непобедимого владыки», который всего лишь продолжает природу (ср. «Анчар»), делая одно с ней дело («Природой… суждено»), однако претендует быть подобием Творца, то есть «с Божией стихией… совладеть», подчинив ее себе.
Можно, вероятно, продолжать и дальше по деталям и частностям, но лучше сразу обратиться к зерну.
Прояснились
В нем страшно мысли. Он узнал
И место, где потоп играл….
…..
и того,
Кто неподвижно возвышался
Во мраке медною главой,
Того, чьей волей роковой
Под морем город основался…
Город основался под морем? Но ведь:
«Господня земля, и исполнение ея, вселенная и вси живущий на ней. Той на морях основал ю есть и на реках уготовал ю есть» (Пс.23,1-2), — а не под морем!
«Кто взыдет на гору Господню? Или кто станет на месте святем Его? Неповинен руками и чист сердцем… Сей приимет благословение от Господа и милость от Бога, Спаса своего» (там же, 3-4).
И прямо в темной вышине
Над огражденною скалою
Кумир с простертою рукою
Сидел на бронзовом коне.
Человек, руководимый лишь «природой», взошел на гору Господню и стал на святом месте Его, чтобы тою же «природой» повелевать. «Медный всадник» — это мир «Анчара», явленный в действительности: мир, где все наоборот.
И получается как в «Обвале»: сначала все изумительно — и «юный град», и «со всех концов земли», одним словом: «И путь по нем широкий шел…», — но потом… Потом — то, что написал когда-то один лицеист — в шутку:
Ведь в мрачный ад дорога широка.
(«Монах», 1813)
«И вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним» (Откр.6,8):
И озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется всадник медный
На звонко скачущем коне.
Думал ли он о чем-либо подобном, когда в письме к А.И.Тургеневу (7 мая 1821, Кишинев) назвал, шутник, «сочинением во вкусе Апокалипсиса» свою «Гавриилиаду»? Уж верно нет. Но был ли бы «Медный всадник» без «Гавриилиады»? — вот вопрос. Во всяком случае, убежден, что «Медного всадника», как и всего того, что мы называем «поздний Пушкин», не было бы без «Анчара», созданного тогда, когда шло дело о кощунственной юношеской поэме, когда прозвучал нему голос «из бури» (Иов40,1).
Создав «Анчар», он, в сущности, был уже готов к тому диалогу, который предстоял ему спустя год с лишним, когда ему ответили — уже не из бури.
- Филарет
Когда в январе 1830 года Е.М. Хитрово известила Пушкина о том, что «Дар напрасный, дар случайный» («Северные цветы» на 1830 год) прочел и отвечает ему стихами митрополит Московский, он, по-видимому, растерялся; это видно из его развязного, почти наглого ответа (см. «Христианство Пушкина: проблема и легенды», ч.2: «Легенды» — В.Н.). Последнее время все его учат, все указывают ему, что можно и чего нельзя, он уже получил целый ряд выговоров от начальства — и вот заранее ощетинивается; но из бравады, с ее шутовским самоуничижением («скептические куплеты»), как раз и выглядывает растерянность: что он там написал?
Положение и впрямь было опасное и, что того хуже, неловкое: человек, который мог при желании стереть его в порошок за новое (вспомним, что письмо о «Гавриилиаде» лежит у царя) богохульство (Булгарин уже успел где-то вякнуть на эту тему), первоиерарх Русской Церкви, рангом равный, по существу, местоблюстителю Патриарха (при отсутствии патриаршества, уничтоженного Петром) и обладающий соответственным непререкаемым авторитетом, — этот человек величественно снисходит к нему со стихотворением! К чему бы это? и что там, в этих стихах? и — что немаловажно — каковы сами стихи, в ответ на которые нужно будет непременно как-то поступить?
Через какие-то дни он эти стихи получил — не знаем, как это было, — и прочел:
Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана.
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.
Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.
Вспомнись мне,
Забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум, —
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светел ум.
[«Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей» (Пс.50,12) — В.Н.].
Мне почему-то кажется, что первым делом он испытал облегчение: стихи были хорошие. Не шедевр — но отнюдь не благочестивая графомания. Более того: они были искусны и в каком-то смысле остроумны. Наследуя традицию древней церковной учености (в которую входила и версификация), автор умело воспроизвел структуру, лексику и рифмовку стихотворения «Дар напрасный, дар случайный», но сменил его смысловую ось; а в конце напомнил своему адресату тот самый, Покаянный, псалом, противостояние которому было неявной осью «Воспоминания» — этого пролога к стихам о даре (хотя знал ли Филарет «Воспоминание», читал ли?). В «Воспоминании» был сдвинут с места и перевернут на голову псалом пророка Давида, в стихах о даре то же было сделано с «Пророком» Пушкина; автор ответа разом, властно и простодушно, перевернул и поставил на место и то и другое («Стихи хорошие, крепкие», — сказал мне когда-то поэт Борис Слуцкий. — В.Н.).
Само содержание ответа вряд ли было открытием для Пушкина: все, что было в нем сказано, он мог сказать, да собственно уже и сказал, себе сам — больше года назад был написан (еще не напечатан) «Анчар», месяц назад — «Монастырь на Казбеке». Но ведь именно так и звучал ответ — как ответ поэта себе самому, а не поучение со стороны! Словно автор в душу ему заглянул.
Тут и было, думаю, потрясение: прозорливостью и тактом. Вообще — поступком. Когда в своем ответе «В часы забав иль праздной скуки» он говорит про «потоки слез нежданных», здесь нет лукавства. Судя по цитированной записке Елизавете Михайловне, такого он и в самом деле никак не ждал. Его не обвинили в богохульстве, как обвиняли Иова его друзья, ему не прочли нотацию, не сделали выговора — с ним поступили так, как поступил с Иовом Господь, со всею твердостью поставивший его на место — «Ты хочешь ниспровергнуть суд Мой, обвинить Меня, чтобы оправдать себя?» (Иов40,3), — но простивший и благословивший: ведь все свои речи Иов обращал прямо к Всевышнему, говорил с живым Богом; и за веру Бог оправдал его.
Подобие такого же прямого обращения к Богу и услышал в бунтарских, богохульных стихах о даре напрасном и «враждебной власти» автор ответа на них. Вера, по апостолу Павлу, есть «удостоверение в уповаемом и уверенность в невидимом» (Евр.11,1). «Уверенность в невидимом», как уже говорилось, у Пушкина была едва ли не отродясь — а вот с упованием бывает всегда труднее, оно требует духовных усилий. Не жажду ли такого усилия, не потребность ли в уповании, скрытую в парадоксальной, одиозной форме, прозрел в стихотворении Пушкина святитель Московский, выдающийся церковный деятель и христианский мыслитель, великий проповедник, «отец русского богословия» (В.Н.Лосский), а ныне иже во святых отец наш Филарет?
Ходили слухи, что он нравом крут и чуть ли не жесток, — впрочем, распространены они были более в светских кругах, чем в церковных, где без строгости и нельзя, — но вот свидетельство мирянина: «Как кротко выслушивал он мои мнимофилософские лжеубеждения! Как мирно возражал он на все нелепости, бережно прикасаясь к молодому самолюбию и осторожно умеряя во мне гордость безумия. Другие на его месте, изо ста 99, с гневом удалились бы от меня. Но он… вынес мой бред и терпеливо подламывал мало-помалу подпорки моего полудеизма, полуматериализма, фатализма и т.д.» (И.Корсунский. Черты из жития святого праведного Филарета Милостивого в жизни Филарета, митрополита Московского. Сергиев Посад, 1893, с.59. — В.Н.). Это относится как раз к концу 20-х годов.
Акт сострадания — вот, думаю, то главное, что на Пушкина, с его впечатлительностью, горячей отзывчивостью на малейшее участие, всякое доброе слово или движение души, должно было произвести глубочайшее впечатление в стихах и самом поступке Филарета. Его расслышали, верно поняли, ему протянули руку — и откуда! Верховный пастырь, без чьего благословения Синод не принимал ни одного важного решения (хотя Филарет покинул Синод), нелицеприятный к сильным мира, в том числе и к государю, внял его воплю о помощи, спустился со своей высоты, умалился до второстепенного стихотворца и приблизился к нему с увещеванием — понимая, по всей вероятности, что здесь случай непростой и человек непростой — избранный человек, нужный Богу, Отечеству и людям.
Стихи митрополита Московского были прочитаны Пушкиным в первой половине — середине января 1830 года. Ответ, «В часы забав иль праздной скуки», датирован 19 января. Здесь нет той дистанции времени, которая, как правило, нужна ему, особенно в серьезных случаях, чтобы воплощать переживаемое не в гуще его, а хотя бы на шаг отступя («Прошла любовь, явилась муза»). Это стихи, написанные врасплох. Советское — и либеральное — мнение о них кислое: они недостаточно для Пушкина хороши, в строках о «струне лукавой», о слезах и «ранах совести», о «чистом елее» и «священном ужасе», во всем слышат звон лукавой струны, принужденность, искусственность, не смущаясь тем, что в итоге выходит самый непотребный цинизм — не в стихах, а в поступке. Спорить не трудно, но бесполезно: все это и в самом деле можно прочесть — и даже неизбежно так прочтется — при одном простом условии: если не верить (в любом смысле этого слова или в обоих вместе).
В ином случае, то есть в случае веры, — стихи прекрасны каким-то «нежданным», как «слезы», юношески возвышенным простодушием, не успевшим спрятать себя (не случайна реминисценция юношеского «Безверия»: «И мощная к нему рука с дарами мира Не простирается из-за пределов мира» — «И ныне с высоты духовной Мне руку простираешь ты»); хороши даже и очевидной громоздкой неуклюжестью пассажа «Твоим огнем душа палима Отвергла мрак земных сует», в котором, как и в «арфе серафима», явственно прочитывается и язык, и возрожденный смысл «Пророка» с его пустыней мрачной и углем пылающим; ясно, что через Филарета ответ обращен дальше и выше: «Когда твой голос величавый Меня внезапно поражал» — о том же, о чем: «И Бога глас ко мне воззвал».
«Из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой» (Иона2,3).
Вообще с этим стихотворением неуютно тем, для кого поэзия Пушкина — лишь (или прежде всего) совершенное художество. Это стихотворение — прежде всего факт его жизни, а не художества. Верить же ему или не верить — это уже по части жизни нашей собственной.
Впрочем, в известной мере это относится и к большинству стихотворений, которые затронуты в этих заметках, особенно к основным, в том числе в первую очередь к «Пророку». Если не верить, что «Пророк» написан о себе, а не является лишь живописной картиной в библейском духе, — тогда все внутренние связи между стихами 1826-28 годов, показанные здесь, мною выдуманы.
Вскоре после окончания (октябрь 1928) дела о «Гавриилиаде» (написанной, кстати, Великим Постом 1821 года) и «Анчара», перебеленного 9 ноября 1828 года, он впервые видит Наталью Гончарову. Спустя неполных три месяца после ответа Филарету, весной 1830 года, Великим Постом (6 апреля), он получает согласие на брак с нею; помолвка совершается через месяц, 6 мая, на Пасху.
«…И знала рай в объятиях моих», — скажет Вальсингам о Матильде, глядящей на него с небес. Наталья Николаевна такого рая еще не знает. Тем не менее как раз об объятиях написано стихотворение, по общепринятой традиции относимое именно к ней: самое интимное, самое откровенное, едва ли не бесстыдное (во всяком случае, не менее в своем роде смелое, чем эротика «Гавриилиады»); стихотворение, являющееся в то же время последним эротическим и вообще любовным стихотворением Пушкина и датируемое во всех списках (автографа нет) 19 января, тем самым днем, каким датирован ответ Филарету.
- «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем»
«В сущности, перед нами подробнейшее, чисто физиологическое описание полового акта. А между тем читаешь — и изумляешься: «какое произошло волшебство, что грязное неприличие, голая физиология претворились в такую чистую, глубоко целомудренную красоту?» (В.Вересаев. В двух планах. Статьи о Пушкине. М.,1929,с.138. — В.Н.).
Оставим и грязь, и неприличие, и физиологию, и фразеологию доктору Вересаеву — точнее, медицинскому натурализму его зрения. Но вот что точно смущало людей, так это вопрос о годе: может быть, все-таки это не 1830? Ведь тогда в январе и о помолвке речи еще не было, и ничего такого между поэтом и предметом его страсти быть не могло. Если бы могло — тогда, прощай брак: тут Пушкин был человек серьезный. Тогда как же? Ведь стихи-то — вот они, в них все рассказано…
И вот в одном из списков год 1830 целомудренно заменен на 1831 (свадьба, однако, состоялась только в феврале 1831; была попытка — у П. Ефремова — датировать и 1832-м). В другом списке стихи адресуются «Прелестнице», еще в одном названы «Антологическим стихотворением». В иных — твердо: «Жене» (а она еще и не невеста, если это 1830).
Все это от привычки думать, что лирика Пушкина — «отражение» действительности: сначала было в «биографии», потом «отразилось» в поэзии («автобиографичность»).
Но ведь это заблуждение. Совершенно не обязательно, чтобы «было». «Во тьме твои глаза блистают предо мною» и прочее, создающее почти физическое ощущение присутствия возлюбленной, — на самом деле только плод воображения: «Ночь» (1823) — это стихи не о ночи любви, это стихи о том, как он ночью пишет стихи о любви, — и только. И вообще, у него есть прямая декларация, которую почему-то никто не воспринял всерьез:
Замечу кстати: все поэты —
Любви мечтательной друзья.
Бывало, милые предметы
Мне снились, и душа моя
Их образ тайный сохранила;
Их после муза оживила…
Это из первой главы «Онегина» (а курсив мой). Для того чтобы «милый предмет» был воплощен в стихах, ему вовсе не обязательно наличествовать в действительности, он может быть поэтом воображен, музой «оживлен» — и так начать существовать, а нам кажется, что он есть на самом деле; здесь, думаю, природа мифа об «утаенной любви».
То же можно сказать и об акте любви: он может быть воплощен в стихах, не имев места в действительности. Ничего странного в этом нет, дело обычное; просто у непоэтов это бывает не в стихах.
Пушкину, поэту, тут на память может прийти Пигмалион: вообразил (изобразил) — полюбил — оживил. Он и припоминается автору «Онегина» и его музе, когда они сочиняют IV главу романа (строфы о женщинах, в окончательный текст не вошедшие):
Все в ней алкало слез и стона,
Питалось кровию моей…
То вдруг я мрамор видел в ней
Перед мольбой Пигмалиона
Еще холодный и немой,
Но вскоре жаркий и живой.
Прямое предвосхищение «Нет, я не дорожу…».
Здесь — «вамп», а там будет «змия»; здесь — «Перед мольбой Пигмалиона» — там «…склоняяся на долгие моленья»; здесь «мрамор… холодный и немой», там «стыдливо-холодна… Едва ответствуешь…»; здесь — «вскоре жаркий и живой», там «И оживляешься…».
Предвосхищение — не только исчерпывающее, но и объясняющее: акт любви — не всякой, а такой и своей — приравнивается Пушкиным к акту творчества; «я» — художник, любовью оживляющий холодную статую. «Смиренница» здесь — нечто вроде белого листа бумаги.
(Между прочим, Пушкин, более чем в полтора раза старший Наташи Гончаровой, будет относиться к ней, уже жене, если и не совсем как к белому листу, то во всяком случае как к существу, которое надо еще воспитать, создать как женщину и личность.)
Сверх этого, рельефно выступает одна из магистральных пушкинских тем глубокого метафизического значения: оппозиция двух типов женщин — страстного (Зарема) и кроткого (Мария). Впрочем, не только женщин: демонического и ангельского начал в человеке.
Или вот еще сопоставление:
Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем,
Восторгом чувственным, безумством, исступленьем…
«Нет; решительно нет: восторг исключает спокойствие, необходимое условие прекрасного» («Возражение на статьи Кюхельбекера в «Мнемозине»), — отвечает он «критику», который «смешивает вдохновение с восторгом». Как вдохновение предпочитается им восторгу, так «смиренница» для него «милее» «вакханки».
Значит, «эротика», сама по себе, — вовсе не главное в этих стихах; и для их появления совершенно не обязательно было наличие житейского основания; «теория отражения» искусством «действительности» (случилось в жизни — «отразилось» в искусстве) применительно к Пушкину не очень-то работает. Его стихи не «отражают», даже и не «выражают» жизнь — даже и духовную, — а образуют и строят ее. И что «первичнее» здесь: фактическая материя внешней жизни или дух жизни внутренней, — это еще вопрос; да и вопрос ли?
Так что можно не сомневаться: «Нет, я не дорожу…» написано 19 января 1830 года, когда между ними ничего еще не могло быть. Просто он увидел или угадал в ней вот эту «смиренницу» — и запечатлел угадку в стихах. В его выборе это был очень важный момент. Он увидел в этой девочке ту ипостась своей многоликой музы, которая стала ему, в пору его зрелости, дороже и милее всего. Ведь в этом же году он пишет восьмую главу романа, где музу юности, что «как вакханоч-ка резвилась», сменяет «барышня уездная» «С печальной думою в очах».
Вот и выходит, что это стихотворение — интимнейшая личная (а не «антологическая») лирика, ни на чем житейском не основанная, рожденная «единством и теснотой стихового ряда» (Тынянов) его внутренней жизни. И не «вообще» внутренней, а — творческой.
Здесь опять возникает пигмалионова тень, «греческая» тема.
Недавно — спасибо Олегу Чухонцеву, с которым у нас как-то вышел разговор об этом стихотворении, — я разыскал читанную когда-то, даже цитированную (см.: «Поэзия и судьба», раздел «Космос Пушкина»), но нелепо затем забытую мною статью Н.М.Ботвинник, где убедительно показано: «Нет, я не дорожу…» — реплика в поэтическом диалоге («Временник Пушкинской комиссии. 1976». Л., 1979, с. 147-156. — В.Н.).
Диалог — с Батюшковым, он давний, с молодых лет, и продолжается сейчас, в 30-е годы. Есть у Батюшкова, в цикле «Из греческой антологии», вольное переложение по-русски французского перевода, сделанного С.С.Уваровым, тогда еще членом «Арзамаса», из греческого поэта Павла Силенциария (VIв.), в стихотворении которого любовная опытность женщины в летах предпочитается «цветущей свежести» молодых красавиц. С пятой свой строки батюшковские стихи («Тебе ль оплакивать утрату юных дней» (К.Н.Батюшков. Опыты в стихах и прозе. М., 1977; «Литературные памятники», с.347. — В.Н.) выглядят так:
Твой друг не дорожит неопытной красой,
Незрелой в таинствах любовного искусства.
Без жизни взор ее стыдливый и немой,
И робкий поцалуй без чувства.
Но ты, владычица любви,
Ты страсть вдохнешь и в мертвый камень;
И в осень дней твоих не погасает пламень,
Текущий с жизнию в крови.
Достаточно положить эти стихи рядом с пушкинским «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем», чтобы согласиться с Н.М.Ботвинник: «Пушкин своим стихотворением прямо возражает Батюшкову» («Временник Пушкинской комиссии», с.150 — В.Н.). В самом деле, Пушкин все поменял местами: «пламень» у него исходит не от женщины, а от «я», и «дорожит» он как раз «неопытной красой». И такая перестановка происходит не в первый раз. Кажется, он уже спорил с Батюшковым — тогда, в строфах о женщинах, в строках о Пигмалионе. Пигмалион оживляет «мрамор», а у Батюшкова в этой роли «владычица любви», оживляющая «мертвый камень», то есть «меня». У батюшковской «владычицы любви» пламень течет «с жизнию в крови», а у Пушкина — «Все в ней… питалось кровию моей».
И вот теперь Пушкин снова вступает в старый спор. И вовсе не из «любви к искусству» — скорее из любви к правде: правде о любви. Спор с Батюшковым — спор об истинных ценностях в любви. У того «любовь» и «страсть» — синонимы: и та и другая равно тождественны чувственному наслаждению и им исчерпываются; «любовь» начинается с сексуального возбуждения и с ним же заканчивается; отсутствие «любовного искусства» равно отсутствию любви. Пушкина же как раз отсутствие «искусства» пленяет и умиляет: «О как милее ты…»; поздний Пушкин не «искусство» любит, а чистоту, ему нужна не готовая страсть, а любовь, свободная от страсти, сама любовь, собственно любовь, из которой страсть высекается, как из кремня, его любовью.
У позднего Пушкина первична любовь — страсть вторична. В споре с Батюшковым он утверждает свою иерархию ценностей.
Оттого строки о «вакханке» завершаются определением чисто физиологическим, нагруженным семантикой отрицательной, «болезненной» — по пушкинскому же слову [«Стерн говорит, что живейшее из наших наслаждений кончится содроганием почти болезненным. Несносный наблюдатель! Знал бы про себя; многие того не заметили бы» (XI, 52). — В.Н.]: «миг последних содроганий» — так можно сказать и о миге смерти; близость эроса телесного со смертью — один из важнейших пушкинских мотивов (вспомним «Сцену из Фауста» или «Каменного гостя»). Последние же строки — «И оживляешься потом все боле, боле И делишь наконец мой пламень поневоле» — это не конец, а начало, не смерть, а возникновение, рождение, жизнь (ср.: «И мысли в голове волнуются в отваге, И рифмы легкие навстречу им бегут, И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, Минута — и стихи свободно потекут» — «Осень»)… «Дремавший» корабль плывет, холодный мрамор оживает. «В «эротическом» стихотворении обнаруживается единство двух уже названных основных, по С.Л.Франку (С.Л.Франк. Этюды о Пушкине, с.21. — В.Н.), «мотивов… религиозности поэта»: «чувства божественности любви» (любви, а не страсти) и ощущения божественности своего творческого дара, чуда вдохновения.
Два стихотворения помечены одним днем, 19 января 1830 года. Завершение их — кто знает — разделяется, быть может, какими-нибудь часами:
Нет, я не дорожу мятежным
наслажденьем, …Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Восторгом чувственным,
безумством, исступленьем… Безумства, лени и страстей.
О как милее ты,
смиренница моя… …И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.
И делишь наконец мой пламень… Твоим огнем душа палима…
Две темы излагаются почти одним языком. Религиозное чувство говорит языком любви, и наоборот: как в «Песни песней».
Второе стихотворение, прямо обращенное к ней (теперь уже невесте), отделено от «Нет, я не дорожу…» четырьмя месяцами; но в пространстве первой половины 1830 года, занятом всего лишь каким-нибудь десятком «значащих» стихотворений, они выглядят близкими соседями.
Тем более близкими, что это второе стихотворение (о нем ниже) тоже явно восходит к Батюшкову. Мало того: к тому стихотворению Батюшкова, которое в цикле «Из греческой антологии» непосредственно предшествует стихам о «владычице любви» — тем самым, с которыми Пушкин спорит в «Нет, я не дорожу…». Н.М.Ботвинник, впрочем, сближает с этим батюшковским стихотворением (его первая строка: «В Лаисе нравится улыбка на устах») совсем другие пушкинские стихи, давние, 1819 года, «Дорида»; и совершенно справедливо сближает:
БАТЮШКОВ ПУШКИН
В Лаисе нравится улыбка на устах,
Ее пленительны для сердца разговоры
….. В Дориде нравятся
и локоны златые, И бледное лицо,
и очи голубые.
Я в сумерки вчера,
одушевленный страстью,
У ног ее любви все клятвы повторял
И с поцалуем к сладострастью
На ложе роскоши тихонько увлекал…
Я таял, и Лаиса млела…
Но вдруг уныла, побледнела
И — слезы градом из очей!
…..
«…Я мыслию была
встревожена одною:
Вы все обманчивы, и я…
тебя страшусь». Вчера, друзей моих оставя
пир ночной,
В ее объятиях я негу
пил душой;
Восторги быстрые
восторгами сменялись, Желанья гасли вдруг
и снова разгорались; Я таял; но среди неверной
темноты
Другие милые мне виделись черты,
И весь я полон был таинственной печали,
И имя чуждое уста мои
шептали.
«Сюжет» один и тот же, но во второй своей половине он видится по-разному: у Батюшкова — со стороны «ее», у Пушкина — с «его»: «та же тема, — замечает автор статьи, — развивается как бы «для мужского голоса» («Временник Пушкинской комиссии», с.150. — В.Н.).
«Дорида», повторяю, это 1819 год. Думаю, что «имя чуждое», приходящее на уста в объятиях Дориды (так будет в «Кавказском пленнике»: «В объятиях подруги страстной Как тяжко мыслить о другой!»), означает не совсем то, чего боится батюшковская Лаиса («Вы все обманчивы…»): это зарождается пушкинский лирический миф: «утаенная любовь» — единственная, неповторимая, идеальная, почти нездешняя. Не лишне заметить, что в этом же 1819 году впервые поэтически воплощается и тема Дома, домашнего очага, семьи — в стихотворении «Домовому».
К чему я все это говорю? А к тому, что теперь, в 1830 году, на пороге Дома, Пушкин снова возвращается к диалогу с Батюшковым — но теперь уже прямо повторяет ситуацию его стихотворения («Но вдруг уныла, побледнела… Вы все обманчивы…» и проч.), и это происходит в стихах, обращенных к невесте:
Когда в объятия мои
Твой стройный стан я заключаю
И речи нежные любви
Тебе с восторгом расточаю,
Безмолвно от стесненных рук
Освобождая стан свой гибкий,
Ты отвечаешь, милый друг,
Мне недоверчивой улыбкой.
Прилежно в памяти храня
Измен печальные преданья,
Ты без участья и вниманья
Уныло слушаешь меня.
(Разумеется, слухи о его прошлой жизни, «Измен печальные преданья», не могли не доходить до нее.)
И дальше следует пламенное покаяние:
Кляну коварные старанья
Преступной юности моей,
И встреч условных ожиданья
В садах, в безмолвии ночей.
Кляну речей влюбленный шепот…
и проч.
Два пушкинских, обращенных к Н.Н., стихотворения параллельны двум подряд батюшковским. И сами они идут почти подряд. Между ними («Нет, я не дорожу…» и «Когда в объятия мои») — всего четыре завершенных стихотворения.
Из них два — «на случай» (эпиграмма «Не то беда, что ты поляк» и «Новоселье»), одно — монументальное «К вельможе», где автор в своем орлином полете над всею Европой и ее историей не забывает все же о «прелести Гончаровой», и одно… странное, особенно в том контексте, который я здесь пытаюсь обрисовать; да и вообще какое-то не очень для Пушкина характерное.
- Три сонета
И называется оно занятно: «Сонет» — с подзаголовком «сонет». То есть — и само сонет, и посвящено сонету, и ничего другого автор не хотел. Стихотворение превосходное: мастерское, безупречно респектабельное. Как на экзамене. О стихах, о стихотворной форме. О том, какие замечательные люди этой формой пользовались: семь поэтов, от «сурового Данта» до друга Дельвига. Один изливал в сонете «жар любви», другой облекал им «скорбну мысль», третьему эта форма необходима, «Когда вдали от суетного света Природы он рисует идеал» («Суетного» — «рисует» — эффектно, но в общем строфа не из самых у Пушкина вдохновенных), и т.д. Красиво, стройно, точно и парадно-фрачно. Уверен: стихи эти никому не приходило в голову читать публично вслух, с эстрады.
Особенно это относится к двум катренам. В терцетах что-то немного меняется, голос теплеет. В заключительном теплота струится вокруг — конечно — имени Дельвига: какая-то домашность в строке «У нас еще его не знали девы», а рядом оттенок трепетности: «Гекзаметра священные напевы». Но вот предыдущее трехстишие, о Мицкевиче:
Под сенью гор Тавриды отдаленной
Певец Литвы в размер его стесненный
Свои мечты мгновенно заключал.
Эти строки как-то уж совсем выделяются — тем более после аккуратного четверостишия о том, как «Вордсворт его орудием избрал», — выделяются ощутимой вибрацией интимности, непринужденности — словно вдруг развязался скованный язык — и в то же время доверительной недоговоренности; это единственное в сонете место, где содержание не равно тексту, перерастает его, в нем что-то происходит — но что?
Конечно, и «певец Литвы» звучит в этом контексте с явной задушевностью (отсутствующей в «творце Макбета»), и «Таврида» (Крым) — не просто география, а часть жизни — и своей, и автора «Крымских сонетов»; и «мгновенно заключал» навеяно восхищенной памятью об импровизациях Мицкевича, — все это так, все дает теплоту интонации, входит в ее состав — но где сам источник этой теплоты, очевидной и вместе таинственной? Стихи-то — не о Тавриде, не о Мицкевиче; они о сонете, о стихотворной форме, и источник вибрации должен быть где-то здесь…
Не здесь ли: «…в размер его стесненный Свои мечты мгновенно заключал»? Ведь и в самом деле: в сонете, посвященном сонету, сам сонет как форма до сих пор только называется, но никак не характеризуется, и в этом некая почтительная отчужденность; и только в одном этом месте отчужденность пропадает, автор мягко, чуть ли не нежно, прикасается к предмету, который воспевает: вот он, мол, какой, сонет, «…размер его стесненный…».
Я некоторое время кружил вокруг этого места, ощущая, как в детской игре: тепло, тепло… И вдруг сразу стало горячо:
Певец Литвы в размер его
стесненный
Свои мечты мгновенно заключал Когда в объятия мои
Твой стройный стан я заключаю
…..
Безмолвно от стесненных рук
Освобождая стан свой гибкий…
В том локальном лирическом пространстве, которое образуется в эти месяцы всего несколькими стихотворениями и овеяно темой любви к Н.Н., такое не может быть случайным. Я не к тому, что совпадение сознательно: просто о любви он говорит языком поэзии, а о поэзии — языком любви: тоже своего рода «песнь песней». То, что происходит на белом листе бумаги, обдает пламенем интимного акта или объятия, а «другие милые… черты» музы просвечивают в образе невесты так же неоспоримо, как в «барышне уездной» или «неторопливой» княгине.
Так, может быть, из этих интимных глубин поэзии-любви, любви-поэзии и выплыла тема сонета — строгой и изысканной стихотворной формы, которая есть образец сочетания свободы с самоограничением, полета чувств с порядком в мыслях, вдохновения с трудом и расчетом; формы, требующей от стихотворца того же, чего от мужчины требует супружество? Формы, таившей себя в онегинской строфе и вдруг выступившей открыто, со скромной парадностью сватовства?
«Чем кончился «Онегин»? — Тем, что Пушкин женился» (Анна Ахматова. О Пушкине. Статьи и заметки. Л.,1977,с.188. — В.Н.).
Чем кончается лирика Пушкина-жениха перед творческим и жизненным (в преддверии свадьбы) рубежом Болдинской осени?
Двумя сонетами подряд: 7 июля — «Поэту», 8 июля — «Мадона».
И дальше, в течение ровно двух месяцев — ничего (если не считать единственной эпиграммы).
Два сонета — как два столба, ворота в другую, новую жизнь, на болдинский тракт.
В двух июльских сонетах ясно обозначены те самые основания «религиозности поэта»: мотив творчества и мотив любви. Все в этих основаниях непросто.
В сонете «Поэту» (7 июля) связываются нити, идущие от совсем разных трактовок своего призвания: в «Пророке» и в «Поэте» («Пока не требует поэта»). Трактовок, как уже говорилось, едва ли не противоположных.
В «Пророке» преображение поэта в пророка совершается раз и навсегда, и «Бога глас» — тоже отныне и навсегда.
В «Поэте» Аполлон может требовать к священной жертве, а может и не требовать; божественный глагол звучит время от времени, в промежутках предоставляя возможность — если даже не законное право — быть всех ничтожней.
В «Пророке» поэт посвящается в посланника Единого Бога. В «Поэте» он — заведомо подобие языческого жреца или пифии, время от времени впадающей в транс.
В «Пророке» поэт посылается обходить моря и земли, жечь сердца людей — в «Поэте» он, наоборот, от людей бежит, дикий и суровый, на берега пустынных волн, в широкошумные дубровы.
«Поэт» написан спустя год после «Пророка» и в споре с «Пророком» — приведшем к «бунту» («Дар напрасный, дар случайный»). Сейчас бунт позади, он «снят», и мы можем увидеть отношения между «Пророком» и «Поэтом» в иной перспективе — которая делает очевидным, что эти стихотворения находятся в разных измерениях. «Пророк» — метафизическое событие, «Поэт» — идейно-художественная концепция. «Пророк» -духовное озарение, «Поэт» — душевная реакция. «Пророк» причастен онтологии творчества, «Поэт» — его психологии. У одного стихотворения голос задыхающийся, с явным хрипом, у другого — великолепный, тончайше разработанный ораторский тембр. «Пророк» написан пророком, «Поэт» — поэтом. И там и там — своя правда: в «Пророке» библейски-сакральная, в «Поэте» — «натуральная» (близкая, повторю, любому поэту, чего о «Пророке» не скажешь. Когда-то давно, на одном из михайловских праздников, вышел на эстраду Сергей Наровчатов — пришибленный какой-то, обиженный, раздраженный — и, конечно, прочитал «Поэта»: всем вмазал).
И выражаются обе правды — вполне соответственно — в «терминах» библейских и антично-языческих.
Сонет «Поэту» (в отличие от стихотворения «Поэт») с «Пророком» ни в чем не спорит, напротив: говорит с тою властью, какою поэт облечен в «Пророке»: «Ты царь…», «Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд» — так можно сказать только о раз и навсегда посвященном и рукоположенном («Исполнись волею Моей»); отсюда же и «Дорогою свободной…» («Обходя моря и земли»), и «свободный ум», и умение «Всех строже оценить… свой труд», и отсутствие потребности в «наградах» (пророк и «награды» — две вещи несовместные), и, наконец, «подвиг» — понятие из христианского лексикона, в сущности монашеское.
От «Поэта» («Пока не требует…») в этом сонете, пожалуй, лишь пафос одиночества — но не только на берегах пустынных волн, в моменты служения Аполлону, а — всегдашнего, принимаемого как сущностный удел: «Живи один».
Сонет «Поэту» продолжает тему «Поэта и толпы», зерно которой было брошено в «Поэте» («Пока не требует…»). В «Поэте и толпе» раздражение било через край, переходя в ярость. В сонете — мужественное усилие воли: обрести власть над собой, уговорить и дисциплинировать себя (оттого и форма сонета), взять себя в руки, пусть до «угрюмства» (не отсюда ли блоковское слово пошло?).
«…Женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью» (Кривцову, 10 февраля 1831). «Но ты останься тверд, спокоен и угрюм». Сонет строится как оборонительное укрепление, долженствующее защитить «будущность»: мой дом — моя крепость; в то же время его вызывающая интонация («Поэт! не дорожи…») связана с надеждой на обеспеченность и защищенность личного «тыла». Ведь перед нами не абстрактная и для всех годная поэтическая декларация-манифест — это личная лирика, ее автор и герой — один такой на свете, один — автор «Пророка». Как жить такому поэту дальше, как иметь силы жить дальше, будучи пророком, но оставаясь поэтом, — попытка решить эту проблему и есть сонет «Поэту».
Попытка эта упирается, повторяю, чуть ли не в монашеский идеал подвижничества. Впрочем, слову «подвиг» придан в сонете эпитет «благородный» в том оценочном смысле, который понятийному лексикону христианства чужд. «Система ценностей» сонета выведена из «Пророка», но художественная органика сонета, горделиво-аполлоническая пластика, твердость антично-стоического толка от «Поэта».
И в финале сонета треножник дельфийской пифии — рядом с библейским алтарем, на котором библейский «огонь горит». Этот огонь — третье пламя, горящее в лирике этого года:
Твоим огнем душа палима
И делишь наконец мой пламень поневоле
…алтарь, где твой огонь горит
Три языка пламени, конечно, не слиянны. Но и не раздельны.
На следующий день, 8 июля, мы попадаем в обстановку опять же чуть ли не затворническую: «В простом углу моем, средь медленных трудов… Пречистая и наш Божественный Спаситель… под пальмою Сиона».
«В… углу» обычно бывает икона. Но тут не икона — картина; и «Пречистая» — не Богородица, а «Мадона». Сонет, это ясно, наследует тему «рыцаря бедного», которому «Несть мольбы Отцу, ни Сыну, Ни Святому Духу ввек Не случалось…», но который обходным, так сказать, путем был все же «впущен» «в Царство Вечно» милостью «Пречистой», оценившей его веру («верен сладостной мечте») и любовь. Этот обходный путь повторен в последнем терцете сонета: «Исполнились мои желания», — говорится во множественном числе: стало быть, очевидно, Творцом ниспосланный вместо «картины» дар, «моя Мадона», жена, вмещает в себя все.
Через несколько месяцев сонет напечатан; цензура отнеслась к нему спокойно (может, именно потому, что — не икона, а картина, не Божья Матерь, а мадонна) — чего нельзя сказать о многих читателях прошлого и настоящего; бывают самые жесткие мнения, притом не только духовного, но и художественного порядка: «Неудача языковая неизбежно влечет за собой неудачу структурно-композиционную; если во второй строфе говорится о желании (одном!) лицезреть картину с Пречистой и Божественным Спасителем, то в заключительном пассаже сообщается об исполнении желаний (многих? всех?) о Даровании Поэту образа Мадонны в лице возлюбленной жены. Что происходит в таком случае с образом Спасителя? Куда он исчезает и на кого накладывается? О пульсации в слове «желания» навеянного любовной лирикой и опасного в данном случае смысла говорить не приходится» (Александр Архангельский. Огнь бо есть. Словесность и церковность: литературный сопромат. — «Новый мир», 1994, №2, с.232. — В.Н.).
Насчет «неудач» сказано явно неудачно, и «желания» рассмотрены с действительно «опасной» в данном случае специфической заинтересованностью; вообще, попытки прямых наложений «церковности» на «словесность» (пользуясь словами из подзаголовка цитированной статьи) бывают поистине «опасны», дискредитируя, а подчас и забрызгивая грязью и ту и другую, а заодно того, кто пытается такие наложения делать, — и не затрагивая Пушкина: он-то всегда сам производит с собою расчет. Как это объяснить?..
Глубина проникновения Бога в его жизнь и судьбу, в его труд, а может быть, в каждый его шаг и ответная глубина его религиозной интимности, сказавшейся в этих вот стихах, в этом сонете, — неимоверны и на языке мирском, на языке светского художества, невыразимы. А он все же дерзает выразить — и дерзость эта также неимоверна: до кощунственной фамильярности. Он никогда не декларировал стремления «дойти до самой сути», но он почти всегда до нее доходил. Его влечет дойти до нее и здесь — видимо, это было сильнее его.
И в выражении сути на грубом и немощном человеческом языке он отважился перешагнуть тот порог иного мира, ту грань иноприродности, которые так, таким вот образом перешагивать — метафизически опасно; как физически опасно совать руку в огонь (чей образ трижды посещает его в лирике этого времени). Осуждать этот шаг, «критиковать» или вообще оценивать его и то, как он сделан, — это похоже на реакцию священника, который в ответ на известие Андрея Карамзина: «Александр Сергеевич Пушкин убит на дуэли!» — воскликнул: «Как же это можно-с, ведь дуэли запрещены-с» («Последний год жизни Пушкина. Переписка. Воспоминания. Дневники». М.,1988, с.528. — В.Н.).
«Оценивать» пушкинскую дерзость не имеет смысла потому, что «оценка» в данном случае была произведена самим поэтом; точнее, его интуицией. Творческим гением.
Сонеты «Поэту» и «Мадона», как уже сказано, написаны подряд, 7 и 8 июля; после них два месяца — ничего.
Первое, что возникает ровно через два месяца, 7 сентября (пятый день в Болдине), — «Бесы».
Первый приступ к ним был осенью прошлого года, и сначала стихи были о каком-то «путнике», они то шли, то плутали, меняли размер, снова меняли и наконец где-то на «одичалом коне», сами, как кони, стали, — и он оставил их. А вот теперь они вернулись.
Много лет назад я попытался бегло проследить, как он стремится указать набрасывающейся на него «бесовской» теме другую дорогу, направить ее по ложному следу, умалить ее лиризм. Личную тревогу он пытается то передать «путнику», то разбавить безличным «мы» («едем, едем»), то аранжировать в фольклорном, сказочном духе, да еще под названием «Шалость». Но тема все же настигла его — как хандра, что «Поймала, за ворот взяла» (восьмая глава романа заканчивается тоже здесь, в Болдине), — «и стихи стали такими, какими единственно могли стать… «Шалости» не вышло» [См.: «Поэзия и судьба». М.,1987, с.222 (М.,1999, с.187). — В.Н.].
Впрочем, тогда я не сообразил вспомнить зловещий смысл народного словоупотребления: разбойники «шалят», нечистый тоже «шалит». Вот это-то как раз осталось в стихах: «скачет», «толкает» (вариант: «кувыркаясь толкает»), «играет», наконец «Дует, плюет на меня».
Последнее особенно замечательно. Бес пародирует таинство крещения, при котором иерей, в частности, говорит крещаемому: «Дуни и плюни на него» (сатану). А тут — наоборот: он — «на меня».
А дальше — юмор совсем уж изуверский: такой, что я, только расслышав его, но еще не совсем поняв (См.: «Поэзия и судьба». М.,1987, с.163 [и 136]. — В.Н.), ужаснулся:
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?
Это какой же такой «домовой»? Не тот ли:
Поместья мирного незримый покровитель,
Тебя молю: мой добрый домовой,
Храни селенье, лес и дикий садик мой,
И скромную семьи моей обитель!
(«Домовому», 1819)
Это его хоронят накануне женитьбы автора?
И какая еще такая ведьма, выдаваемая замуж в преддверии бракосочетания автора не с кем-нибудь — с Мадоной!
Он написал: Мадона, а услышал: ведьма.
Неужели это — про нее, про ту, с которой его «важный брак… пред алтарем… соединит»?
Нет, конечно, не про нее.
А «Пречистая» («Моя мадона») — про кого?
Два месяца назад, 8 июля, он сунул руку в огонь. И как только, спустя два месяца, взялся за стихи, его обожгло: вот тебе Бог, а вот — порог (а не в стихах — не обжигало: в письмах и быту он и позже называл ее «мадоной» — см. письмо к ней около (не позднее) 30 сентября 1832 года. — В.Н.).
- Болдинская осень
На следующий день после «Бесов», 8 сентября (день в день два месяца после «Мадоны»), он пишет «Элегию» («Безумных лет угасшее веселье»). Здесь — вершина его смирения, без малейшей примеси стоицизма, смирения подлинного и потому о цене своей умалчивающего; благодарного и готового благодарить за любое «наслажденье» как за милость («Всякая радость будет мне неожиданностью»).
Когда-то (см.: «Поэзия и судьба», глава «Предназначение». — В.Н.) я сопоставлял «Элегию» с «Желанием» («Медлительно влекутся дни мои», 1816) — стихотворением, с которого начался собственно Пушкин. Собственно Пушкин начался с того, что стал расти внутри этого стихотворения, как Гвидон в плывущей по морю бочке; стал меняться на протяжении текста.
Сначала — сетования на «горести несчастливой любви» и «мечты безумия» (так теперь и в элегии: «Безумных лет… Мне тяжело… смутное похмелье…»).
Потом: «Но я молчу; не слышен ропот мой; Я слезы лью; мне слезы утешенье… наслажденье…» (а в элегии: «Но не хочу, о други, умирать… слезами обольюсь… мне будут наслажденья…»).
И наконец вышиб дно и вышел вон — из стихов — другим:
Пускай умру, но пусть умру любя!
Не печаль «несчастливой любви», а само счастье — любить.
И в элегии: «Блеснет любовь улыбкою прощальной», — то есть опять: «умру любя»; в обоих стихотворениях — вошел одним, а вышел другим (см. об этой особенности пушкинской поэтики в тезисах «Время в его поэтике». — «Пушкин. Русская картина мира». — В.Н.).
Он по-прежнему мечтает о любви — великой и единственной, о которой всю жизнь мечтал — и которая ему не дана, ибо два медведя — любовь и Муза — не живут в одной берлоге, ибо велик и единствен его творческий дар, за обладание собой требующий всей жизни — как Клеопатра. Но он все равно мечтает. Только это какая-то другая любовь. Стихотворение «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем» — самый сильный, но последний чувственный всплеск в его лирике.
Зато осенью в Болдине возвращается, снова слетает к нему та «младая тень», к которой он остался холоден, как труп, четыре года назад («Под небом голубым…»). И не потому, чтобы она была лучшей или избранной из всех; но в самих его отношениях с нею, с этой тенью, воплотилось нечто бесконечно важное в его духовной жизни.
В «Заклинании» он зовет ее «сюда, сюда», чтобы просить прощения, сказать, что все любит. Почти через полтора месяца, в конце ноября, уже перед самым отъездом, — «Для берегов отчизны дальней». Здесь он уже и не зовет, он говорит иначе: «Но жду его; он за тобой» — «поцелуй свиданья». Он говорит это накануне женитьбы на женщине, которую любит, которая даст ему Дом, — но тут не измена ей; это совсем Другой поцелуй, и он будет в ином мире — там, где ему предстоит опять
В пиру лицейском очутиться,
Всех остальных еще обнять
И новых жертв уж не страшиться.
(«Чем чаще празднует Лицей», 1831)
Там, где скоро будет его ждать и «Дельвиг милый», с которым они, встретившись когда-то в Михайловском, руки друг другу целовали. Там, где любовь — не страсть с ее «безумством и мученьем», с ее печалью и воздыханием, а радость, бесконечная как жизнь. Здесь об этом можно только мечтать; здесь всякая радость есть неожиданность — вот его новый и трезвый взгляд на мир, в котором живут люди и который не вечен.
Эта новая трезвость и есть эсхатологичность позднего Пушкина; отсюда и не характерный для него обычно прямой взлет «Туда, в толпу теней родных» («Чем чаще празднует лицей»), «В соседство Бога» («Монастырь на Казбеке»). Дальше это не повторится в таких формах, приобретет другие («Родрик», «Чудный сон мне Бог послал», «Странник» и пр.), и это уже иной разговор.
А с 1830 года в его лирике происходит невообразимое: исчезает любовная тематика личного характера. «Нет, нет, не должен я, не смею, не могу Волнению любви безумно предаваться…» (1832), «Благоговея богомольно Перед святыней красоты» («Красавица», 1832), «Я ужасаюсь неги властной» («Я думал, сердце позабыло», 1835, вариант) — вот теперь его взгляд на женщину. В 1833 — знакомые интонации:
…Забыл бы всех желаний трепет,
Мечтою б целый мир назвал —
И все бы слушал этот лепет,
Все б эти ножки целовал…
(«Когда б не смутное влеченье»)
И слушал бы, и целовал бы —
Когда б не смутное влеченье
Чего-то жаждущей души…
Куда влеченье, что за жажда его томит теперь — не говорит: видно, слов таких нет, даже у него.
Поэт, лирик — без любовной лирики! это, может, и понятно на склоне лет с их «хладными мечтами» и «строгими заботами», немощью и мудростью — но ему-то, поэту и потомку африканца, всего за тридцать! Где это видано в поэзии?
У него это получилось. Он автор «Пророка», он «вышиб дно».
И в конце концов вышел в такое творческое пространство, в каком еще никто не бывал. Что такое Болдинская осень, удачно говорит Андрей Битов, «как не попытка написать вообще все, чтобы ничего не осталось?» Это, думаю, оттого, что ему вдруг стало видно все из нового пространства или, точнее, с нового уровня обзора. Сидя в бочке, ты видишь только то, что внутри нее, и это есть твоя картина мира. Он — вышел наружу и увидел, как все на самом деле. Недавно он с высоты обозревал физическую вертикаль Кавказа — теперь ему предстала структура человеческого бытия на земле, стал слышен алгоритм падшего мира, где все перевернуто с ног на голову, где «В беспредельной вышине» жалобно визжат и воют, «Надрывая сердце мне», низшие силы бытия — тоже, видно, страдающие в этом исковерканном мире, где все не на своих местах.
«Бесы» открывают Болдинскую осень. Последняя, завершающая ее вещь большой формы — «Пир во время чумы». Этой темы в довольно давнем уже замысле цикла «драматических опытов» не было; с драмой Вильсона «Чумный город» Пушкин познакомился лишь в прошлом 1829 году — и тогда произошло нечто подобное процессу мгновенной кристаллизации раствора: был найден финал цикла, а с ним — его структура, смысл, воплощение, перспектива. Перспектива уходит в вечность. Это не метафора. Тема трагедии — отношения человека с вечностью, иначе — с бессмертием. С жаждой бессмертия, которая есть память человека о своем божественном происхождении.
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!
Великие слова. В них интуиция бессмертия, для которого и был сотворен человек; интуиция, оставленная ему и после грехопадения, за которым в мир вошла смерть. В них память о том, что смерть может быть вратами в бессмертие. Но в гимне Чуме они — обман и самообман: они взяты из одного контекста и вставлены в другой, наоборотньш. Данная Богом интуиция изъята из мира, где Бог, и применена к Миру, где только «природа»; где анчар стоит в пустыне чахлой и скупой, где нет ничего кроме смерти и несущих смерть стихий. О «бессмертии» толкуется в антимолитве («Всякое дыхание да хвалит Господа» — «Итак, хвала тебе, Чума!.. И девы-розы пьем дыханье…»); именно так объемный и вертикально устроенный мир «Пророка» превращается, на плоскости горизонтального мира «Анчара», в порочный круг.
Вряд ли Пушкин вспомнил о драме Вильсона, сцена из которой ляжет в основу трагедии, когда в январе 1830 года писал Е.М. Хитрово: «Стихи христианина, русского епископа, в ответ на скептические куплеты! это право большая удача».
Удача, и правда, оказалась большая.
Сюжет сцены из Вильсона сошелся с его личным опытом. В трагедии происходит диалог между автором гимна, вместившего в себя вопль «падшего духа», для которого жизнь есть дар напрасный и случайный, — и священником. Когда творец антимолитвы на увещания Священника, заклинающего пир «Святою Кровью Спасителя» («Вспомнись мне, Забвенный мною», — призывал «русский епископ» в своем стихотворении), отвечает:
Я здесь удержан
Отчаяньем, воспоминаньем страшным,
Сознаньем беззаконья моего, —
то надо оглянуться на страшное стихотворение «Воспоминание» — антипсалом, где автор оцепенело противостоял Покаянному Давидову псалму, и сообразить, что этот псалом Вальсингам сейчас прямо цитирует («Сознаньем беззаконья моего» — «Яко беззаконие мое аз знаю» — Пс.50,5). И дальше:
Сердце чисто созижди во мне, Боже,
и дух прав обнови…
(Пс.50,12) И созиждется Тобою
Сердце чисто…
(Филарет)
Священник.
Матильды чистый дух тебя зовет.
«И ныне с высоты духовной Мне руку простираешь ты», — отвечал Пушкин Филарету; Священник произносит слова о Матильде «с подъятой к небесам… рукой».
Священник указывает туда, где живая Матильда — как Дженни из песни Мери («А Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах»). А в песне Мери сходятся мотивы элегии «Под небом голубым…» («Младая тень уже летала») и рождающегося стихотворения «Для берегов отчизны дальней» («Но жду его; он за тобой»). Восставляется вертикаль, и автору гимна Чуме вновь открывается небо — вместе с глубиной собственного падения:
Где я? Святое чадо света! вижу
Тебя я там, куда мой падший дух;
Не досягнет уже…
В остальном же мире:
Он сумасшедший, —
Он бредит о жене похороненной, —
все остается как было.
И председатель пира, очнувшийся — надолго ли? — благодаря видению возлюбленной, тоже остается «погружен в глубокую задумчивость» — оставляется Священником на волю Божию — ибо перед открывшимся Священнику страданием человеческая воля бессильна. Цикл, представивший своего рода художественную феноменологию духа падшего человечества, завершается открытым финалом, в который автор вписывает себя наравне со всеми, не ища оправданий и лазеек, записывая все как есть.
Болдинскую осень открывает, вместе с «Бесами», элегия «Безумных лет угасшее веселье». Два стихотворения — две темы, заявляемые в начале большого музыкального опуса: как отчаяние и надежда, как улыбка сквозь слезы. «Бесы» — бездна отчаяния, элегия — вершина смирения.
У этой вершины есть своя вершина. Всем известная строка, которая написалась не сразу.
Я жить хочу, чтоб мыслить и мечтать…
Этот вариант — из какой-то другой поэзии: в которой подобных строк хоть отбавляй, но нет «Пророка». В поэзии, где нет «Пророка», может ли быть сказано: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать»? Жить, чтоб страдать?
В поэзии, где это возможно, — возможна Болдинская осень.
В сущности, вся Болдинская осень — вариации на две темы; точнее — на тему отношений между относительным и абсолютным, «здесь» и «там», землею и небом жизни, низкими так называемыми истинами и так называемым возвышающим обманом, «мышьей беготней» жизни и ее «смыслом». В конечном счете — между образом Божьим в человеке и «падшим духом» его; между бытием сотворенным и бытием изуродованным. Неслыханная быстрота, с какой в течение трех месяцев возникает универсум, создается целая великая литера- тура во всех основных жанрах, которой иной культуре хватило бы на столетие, а то и больше, — эта быстрота говорит о верности, универсальности некой общей формулы судеб этого пирующего во время чумы, этого падшего, но еще не покинутого Богом мира — формулы, которая, будучи уловлена, работает уже сама — только успевай записывать, и только хватило бы крови.
1989, 1999
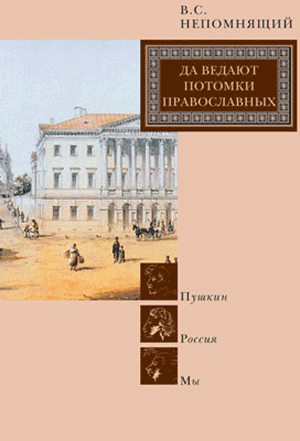
Комментировать