- Глава I
- Глава II
- Глава III
- Глава IV
- Глава V
- Глава VI
- Глава VII
- Глава VIII
- Глава IX
- Глава X
- Глава XI
- Глава XII
- Глава XIII
- Глава XIV
- Глава XV
- Глава XVI
- Глава XVII
- Глава XVIII
- Глава XIX
- Глава XX
- Глава XXI
- Глава XXII
- Глава XXIII
- Глава XXIV
- Глава XXV
- Глава XXVI
- Глава XXVII
- Глава XXVIII
- Глава XXIX
- Глава XXX
- Глава XXXI
- Глава XXXII
- Глава XXXIII
- Примечания
Глава III
А раньше здесь пестрел ковер
Возделанных и тучных нив,
Стеной стоял дремучий бор,
И бурных рек гремел разлив,
И мчал поток, и пел ручей,
И бил фонтан в тени ветвей.
Брайант
Предоставим ничего не подозревавшему Хейворду и его доверчивым спутникам углубляться в дремучий лес, населенный вероломными жителями, и, используя свое авторское право, перенесем место действия нашего рассказа на несколько миль к западу от того места, где мы их видели последний раз.
В этот день два человека сидели на берегу небольшого, но очень быстрого потока, протекавшего на расстоянии одного часа пути от лагеря Вебба. По-видимому, они ждали появления какого-то человека или начала каких-то событий. Могучая стена леса доходила до самого берега речки; ветви густых деревьев свешивались к воде, бросая на нее темную тень. Солнце уже не жгло с такой силой, дневной зной спал, и прохладные испарения ручьев и ключей легкой дымкой висели в воздухе. Нерушимая тишина, царившая в этом лесном уголке, прерывалась по временам ленивым постукиванием дятла, резким криком пестрой сойки или глухим однообразным гулом отдаленного водопада, доносимым ветром.
Но эти слабые обрывки звуков были хорошо знакомы жителям лесов и не отвлекали их внимания от беседы. Красный цвет кожи одного из собеседников и его одежда обличали в нем воина-индейца. Загорелое лицо другого, одетого тоже в очень простое и грубое платье, было гораздо светлее; он казался несомненным потомком европейских переселенцев.
Краснокожий сидел на краю мшистого бревна и спокойными, но выразительными движениями рук подчеркивал свои слова. Его почти обнаженное тело являлось ужасной эмблемой смерти: оно было расписано черной и белой красками, что придавало человеку вид скелета. На бритой голове индейца была только одна прядь волос, украшением же служило лишь орлиное перо, спускавшееся на левое плечо. Из-за пояса виднелись томагавк и скальпировальный нож английского производства. На мускулистом колене небрежно лежало короткое солдатское ружье, одно из тех, какими англичане вооружали своих краснокожих союзников.
Все в этом воине — его широкая грудь, прекрасное телосложение и горделивая осанка — доказывало, что он достиг полного расцвета сил, но еще не начал приближаться к старости.
Судя по фигуре белого, можно было сказать, что он с самой ранней юности познакомился с лишениями и невзгодами. Он был мускулист, скорее худощав, чем толст; каждый напряженный нерв и стальной мускул его тела говорили о том, что жизнь этого человека проходила в беспрестанном риске и тяжелом труде; одежда его состояла из охотничьей рубашки зеленого цвета, окаймленной желтой бахромой; голову прикрывала летняя кожаная шляпа. За поясом охотника торчал нож, но томагавка у него не было. По обычаю краснокожих его мокасины украшала пестрая отделка, кожаные штаны были зашнурованы по бокам, а выше колен перевязаны оленьими жилами. Кожаная сумка и рог с порохом довершали его снаряжение; у ствола соседнего дерева стояло его очень длинное ружье. В небольших глазах этого охотника или разведчика светились живость, проницательность и ум. Во время разговора он оглядывался по сторонам, то ли высматривая дичь, то ли опасаясь какого-нибудь скрытого нападения. Несмотря на обычную подозрительность, лицо его было не только бесхитростным, но в тот момент, о котором идет речь, оно было преисполнено безукоризненной честностью.
— Предания твоего племени, Чингачгук, говорят за меня, — сказал он. Беседа велась на том наречии, которое было знакомо всем туземцам, занимавшим область между реками Гудзоном и Потомаком, и мы будем для удобства читателя давать лишь вольный перевод, стараясь, однако, сохранить некоторые особенности речи собеседников. — Твои отцы пришли из страны заходящего солнца, переправились через большую реку[4], сразились с местными жителями и завладели их землями. Мои предки пришли от красной утренней зари, переплыли через Соленое Озеро и поступили так же, как твои родоначальники. Не будем же спорить об этом и попусту тратить слова.
— Мои праотцы сражались с обнаженными краснокожими людьми, — сурово ответил индеец на том же языке. — Скажи, Соколиный Глаз, разве ты не видишь разницы между стрелой с каменным острием и свинцовой пулей, которой ты приносишь смерть?
— Природа дала индейцу красную кожу, но у него есть разум, — сказал белый, покачав головой, словно человек, которому этот призыв к его справедливости не прошел впустую. На мгновение показалось, что ему пришло в голову только слабое доказательство, но потом, собравшись с мыслями, он ответил на возражение своего соперника наилучшим образом, насколько ему это позволяли его скудные знания. — Я неученый человек и не скрываю этого; однако, судя по тому, что я видел во время охоты на оленей и белок, мне кажется, что ружье в руках моих дедов было менее опасно, нежели лук и хорошая кремниевая стрела, которую послал в цель зоркий глаз индейца.
— Все это ты слышал от твоих отцов, — холодно ответил краснокожий, махнув рукой. — Но что говорят ваши старики? Разве они говорят воинам, что бледнолицые были встречены краснокожими в военной раскраске, с каменными топорами и деревянными ружьями в руках?
— У меня нет пристрастий, я не хвастаюсь преимуществами своего рождения, хотя мой злейший враг — макуас — не посмеет отрицать, что я чистокровный белый, — ответил охотник, с тайным удовлетворением разглядывая свою потемневшую, жилистую, костлявую руку. — Но я охотно сознаюсь, что не одобряю многих и очень многих поступков моих соотечественников. Один из обычаев этих людей — заносить в книги все, что они видели или сделали, вместо того чтобы рассказать обо всем в поселениях, где всякая ложь трусливого хвастуна немедленно обнаружится, а храбрый солдат сможет призвать в свидетели собственным правдивым словам своих же товарищей. И поэтому многие ничего не узнают о настоящих делах отцов своих и не будут стараться превзойти их. Что касается меня, то в обращении с ружьем у меня прирожденные способности, и это, наверное, передается из поколения в поколение, ибо, как говорят наши священные заповеди, хорошее и плохое наследуется.
Впрочем, я бы не хотел отвечать за других. Каждую историю можно рассматривать с двух сторон. Скажи мне, Чингачгук, что говорят предания краснокожих о первой встрече твоих дедов с моими на Миссисипи.
Наступило молчание. Индеец долго не говорил ни слова; наконец, полный сознания важности того, что он скажет, он начал рассказ, и в его тоне зазвучала торжественная искренность:
— Слушай, Соколиный Глаз, и твои уши не воспримут лжи! Вот что говорили мои отцы, вот что совершили могикане! Мы пришли оттуда, где солнце вечером прячется за необъятные равнины, на которых пасутся стада бизонов, и безостановочно двигались до великой реки. Тут мы вступили в борьбу с аллигевами и бились, пока земля не покраснела от их крови. От берегов великой реки до Соленого Озера мы не встретили никого, только одни макуасы издали следили за нами. Мы сказали, что весь этот край наш. Мы мужественно завоевали этот край и охраняли его, как сильные и смелые мужи. Мы прогнали макуасов в леса, полные медведей, и они добывали для себя соль только из ям пересохших соленых источников. Эти псы не выловили ни одной рыбы из Великого Озера, и мы бросали им одни кости…
— Обо всем этом я уже слыхал и всему верю, — сказал белый охотник, видя, что индеец замолчал. — Но ведь все, о чем ты рассказываешь, случилось задолго до того времени, когда пришли англичане.
— Тогда сосны росли там, где теперь поднимаются каштаны. Первые бледнолицые, пришедшие к нам, говорили не по-английски. Они приплыли в большой пироге. Это случилось в те дни, когда мои отцы вместе со всеми окрестными племенами зарыли свой томагавк[5]. И тогда… — произнес Чингачгук, и глубокое волнение выразилось только в тоне его голоса, — тогда, Соколиный Глаз, мы составляли один народ. Мы были счастливы! Соленое Озеро давало нам рыбу, леса — оленей, воздух — птиц. У нас были жены, которые приносили нам детей. Мы поклонялись Великому Духу, и макуасы боялись наших победных песен…
— А ты знаешь, что было в то время с твоими предками? — спросил белый. — Должно быть, они были храбрыми, честными воинами и, сидя в советах вокруг костров, давали соплеменникам мудрые наставления.
— Мое племя — прадед народов, но в моих жилах нет ни капли смешанной крови, в них кровь вождей — чистая, благородная кровь, и такой она останется навсегда. На наши берега высадились голландцы. Белые дали моим праотцам огненную воду; они стали пить ее; пили с жадностью, пили до тех пор, пока им не почудилось, будто земля слилась с небом. И они решили, что увидели наконец Великого Духа. Тогда моим отцам пришлось расстаться со своей родиной. Шаг за шагом их оттесняли от любимых берегов. И вот теперь я, вождь и сагамор[6] индейцев, вижу лучи солнца только сквозь листву деревьев и никогда не могу подойти к могилам моих праотцев.
— Могилы внушают благоговейный трепет, — заметил собеседник индейца, растроганный благородной и сдержанной печалью Чингачгука, — и они часто помогают человеку в его благих начинаниях; правда, что касается меня, то я бы хотел, чтобы мои кости остались белеть в лесах или были разодраны на части волками. Но скажи, где живут представители твоего рода, потомки людей, которые пришли в делаварскую землю много весен назад?
— Ответь мне, куда исчезли, куда скрылись цветы давно улетевших летних дней? Они упали, осыпались. Так погиб и весь мой род: все могикане, один за другим, отошли в страну духов. Я стою на вершине горы, но скоро придет время спускаться вниз. Когда же и Ункас уйдет вслед за мною, тогда истощится кровь сагаморов: ведь мой сын — последний из могикан!
— Ункас здесь, — послышался мягкий молодой голос. — Кто упомянул об Ункасе?
Белый охотник поспешно вынул свой нож из ножен и невольно потянулся за ружьем. Чингачгук же, заслышав голос, остался спокойно сидеть и даже не повернул голову.
В следующее мгновение показался молодой индеец; беззвучными шагами он проскользнул между двумя друзьями и сел на берегу быстрого потока. Ни одним звуком не выразил индеец-отец своего удивления. В течение многих минут не слышалось ни вопросов, ни ответов; каждый, казалось, ждал удобного мгновения, чтобы прервать молчание, не выказав любопытства, свойственного только женщинам, или нетерпения, присущего детям.
Белый охотник, очевидно подражая обычаям краснокожих, выпустил из рук ружье и тоже сосредоточенно молчал.
Наконец Чингачгук медленно перевел взгляд на лицо своего сына и спросил:
— Не осмелились ли макуасы оставить следы своих мокасин в этих лесах?
— Я шел по отпечаткам их ног, — ответил молодой индеец, — узнал, что число их равняется количеству пальцев на моих обеих руках. Но ведь они трусы и прячутся в засадах.
— Мошенники залегли в чаще и ждут удобной минуты, чтобы добыть скальпы и ограбить кого-нибудь, — сказал Соколиный Глаз. — Этот француз Монкальм, конечно, послал своих шпионов в лагерь англичан во что бы то ни стало узнать, по какой дороге движутся наши.
— Довольно! — сказал старший индеец, взглянув в сторону заходящего солнца. — Мы выгоним их из кустов, как оленей… Соколиный Глаз, закусим сегодня, а завтра покажем макуасам, что мы настоящие мужчины.
— Я согласен. Но, для того чтобы разбить ирокезов, прежде всего нужно отыскать, где прячутся эти хитрые плуты, а чтобы поесть, нужно найти зверя… Да вот он, тут как тут! Посмотри-ка, вон самый крупный олень, какого я встречал в течение нынешнего лета! Видишь, он бродит внизу в кустах?.. Послушай, Ункас, — продолжал разведчик, понизив свой голос до шепота и смеясь беззвучным смехом человека, привыкшего к осторожности, — я готов прозакладывать три совка пороха против одного фунта табака, что попаду ему между глаз, и ближе к правому, чем к левому.
— Не может быть! — ответил молодой индеец и с юношеской пылкостью вскочил с места. — Ведь над кустами видны только его рога, даже только их кончики.
— Он — мальчик, — усмехнувшись, сказал Соколиный Глаз, обращаясь к старому индейцу. — Он думает, что, видя часть животного, охотник не в силах сказать, где должно быть все его тело.
Он прицелился и уже собирался показать свое искусство, которым так гордился, как вдруг Чингачгук ударил рукой по его ружью и сказал:
— Ты, верно, хочешь сразиться с макуасами, Соколиный Глаз?
— Эти индейцы точно чутьем узнают, что кроется в чаще, — произнес охотник, опуская ружье и поворачиваясь к Чингачгуку, как бы признавая свою ошибку. — Ну что делать! Предоставляю тебе, Ункас, убить оленя стрелой, не то, пожалуй, мы действительно свалим животное для этих воров-ирокезов.
Чингачгук одобрил предложение белого, выразительно кивнув головой. Ункас бросился на землю и стал осторожно подползать к оленю. Когда молодой могиканин очутился всего в нескольких ярдах от кустов, он бесшумно наложил стрелу на тетиву лука. Рога шевельнулись; казалось, их обладатель почуял в воздухе близость опасности. Еще секунда — и тетива зазвенела. Стрела блеснула в воздухе. Раненое животное выскочило из ветвей прямо на своего скрытого врага, грозя нанести ему удар рогами. Ункас ловко увернулся от взбешенного оленя и, подскочив к нему сбоку, быстро пронзил его шею ножом. Олень ринулся к реке и упал, окрашивая воду своей кровью.
— Дело сделано с ловкостью индейца, — с одобрением сказал Соколиный Глаз, беззвучно смеясь. — Приятно было смотреть! Но все же стрела хороша лишь на близком расстоянии, и в помощь ей нужен нож.
— У-у-ух! — произнес его собеседник и быстро повернулся, точно собака, почуявшая дичь.
— Клянусь богом, кажется, сюда идет целое стадо! — заметил Соколиный Глаз, и его глаза заблестели. — Если олени подойдут на расстояние ружейного выстрела, я все-таки пущу в них пулю-другую, хотя бы весь союз шести племен услышал грохот ружья! Что ты слышишь, Чингачгук? Для моего слуха лесные чащи молчат.
— Вблизи только один олень, да и тот убит, — сказал индеец и наклонился так низко, что его ухо почти коснулось земли. — Но я слышу звуки шагов.
— Может быть, волки гнали этого оленя и теперь бегут по его следам?
— Нет. Приближаются кони белых, — ответил Чингачгук, горделиво выпрямился и принял прежнюю позу. — Соколиный Глаз, это твои братья. Поговори с ними.
— Хорошо. Я обращусь к ним с такой английской речью, что самому английскому королю не было бы стыдно ответить мне, — сказал охотник на том языке, знанием которого он гордился. — Но я ничего не вижу и не слышу: ни шагов животных, ни топота человеческих ног. Ага! Вот треск сухого хвороста! Теперь и я слышу, как зашелестели кусты. Да-да, шум шагов! Я его принял за отголосок рева водопадов. Но вот и люди. Боже, спаси их от ирокезов!
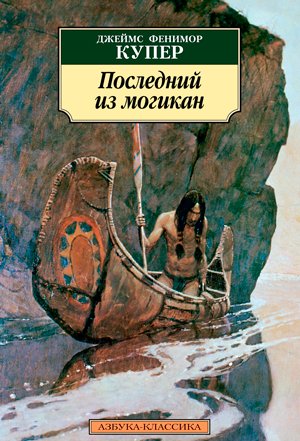
Комментировать