- Предисловие
- Схимонах Иоасаф
- Невинный страдалец, блаженный Василий Мангазейский
- Рафаил, митрополит Киевский
- Великая подвижница
- Иеросхимонах Алексий
- Старец Василий Кишнин
- I. Раннее иночество. Саров. Коренная пустынь. Афон
- II. Белые Берега
- III. Севск. Рыхловская пустынь и странствования
- IV. Глинская пустынь. Площанская. Последние годы
- Алексей Неофитович Прокудин
- Иеромонах Максим
- Мелания затворница
- I
- II
- Игумен Филарет
- I. Детство, отрочество, юность
- II. Софрониева пустынь
- III. Глинская пустынь
- IV. Келейная жизнь о. Филарета
- V. Кресты его жизни. Последние годы
- Подвижница Елизавета
- Схимонах Зосима Верховский
- I. Детство и юность старца
- II. Первые подвиги
- III. Отшельничество на Коневце
- IV. В Сибирских лесах
- V. Райская жизнь
- Старец Феодот
- Игумен Антоний
- Глава I
- Глава II
- Преосвященный Феодотий, архиепископ Симбирский и Сызранский
- Тамбовский подвижник Илья немой
- Московский юродивый Семен Дмитриевич
- Раба Божия Анна Ивановна
- Схимонах Филипп
- Инокиня Алипия Маркова
- Петр Савельевич Прохоров (в схиме Пантелеймон)
- Старица Параскева Ивановна Ковригина
- Игумения Досифея (основательница Вышневолоцкого Казанского монастыря)
- Подвижницы Вышневолоцкого монастыря, схимонахиня Пелагия и схимонахиня Мария
- Схимонах Вассиан (подвижник Алатырского Свято-Троицкого монастыря)
- Андрей Ильич Огородников, симбирский блаженный
Предисловие
Нет ничего, что громче говорит о христианстве, что ярче доказывает его высоту, сильнее заставляет задумываться над целью существования, как жизни тех людей, которые поставили единственной своей задачей — за Христом стремиться к совершенству.
На крови мучеников состроилась и расширилась Церковь. Святостью церковных учителей окрепла, невидимым подвигом отшельников одухотворилась.
И, показывая на этих людей тем, кого хочется убедить в превосходстве христианства, верующий может смело сказать: вот, наше доказательство.
Когда вступаешь в тот мир, в котором жили и двигались эти люди, тогда кажется, что ходишь по какому-то раю духовному. И при виде того, чего достигли они в ограниченной своей жизни, идя от общей немощи человеческой к сиянию безграничной силы духовной, силы Христовой — и в себе чувствуешь какие-то дремлющие силы. И подвиг кажется возможным, и жизнь в Боге и ради Бога кажется так легко достижимой.
Церковь оделась подвигами святых, как царица в злато и пурпур.
Святые — это живые лучи слов Христовых, письмена Евангелия, проведённые в быт людской, учение «показом», как надо жить и каких вершин может достичь душа человеческая…
Поразительно впечатление, оставленное в человечестве великой жизни святыми. Время оказалось над ними бессильно. От поколения к поколению любовно и заботливо их память передавалась от отцов к детям, от дедов к внукам, так — из века в век, от одного тысячелетия в другое тысячелетие.
Обыкновенно уже при конце жизни подвижника определяется и судьба, которая ждёт его после смерти.
Происходит чудное явление: народ не хочет отпустить из своей любви этих людей, которых привык любить, доверять им, пред которыми привык плакать, от которых ждёт утешения и научения. И порывом своей веры устремляется за ними туда, куда ушли они. А те видят, спешат, отвечают.
Вот — происхождение почитания святых.
Одним нужно сильных духом и мощных делом покровителей. Другим, людям высокой и бескорыстной веры, нужны просто — для радости духа, как светлое небо для радости глаз — нужны прекрасные люди, чтобы насладиться, нагреться, освятиться сияющими в них яркими лучами Божества.
Россия, так глубоко и искренно воспринявшая учение Христа, выставила, как живые неугасимые свечи пред ликом Спасовым, — великий сонм святых.
И, кроме тех праведников, которых имена помещены в святцах, которым поют молебны, есть много-много праведников, усвоенных памятью и сердцем народным, которые почитаются в тишине отдельного усердия, и прославление которых увидят будущие люди России, будущие века.
Вот, показать — именно — этих праведников и задался целью автор.
Пред читателями пройдут многие десятки русских подвижников и праведников самых разнообразных типов: митрополиты и архиепископы, основатели и основательницы новых обителей, восстановители и устроители уже существовавших, приходские пастыри, странники, блаженные молельники, монастырские «старцы», затворники, праведные юноши — эти недолгие гости земли, миряне и схимники, и люди разного характера и положения, в которых общее одно: неудержимое стремление за крестную жертву Христа отдать Ему невозвратно и безраздельно всю свою собственную жизнь.
Когда, один за другим, пред сознанием встают эти родные образы, так жарко искавшие и нашедшие Бога, — как укрепляется тогда вера в великую душу народную и в высокий жребий такого народа!
Кто же из верующих сомневается, что небесной славой засияют имена подвижников, которых жизнь описана в настоящем труде?
Итак, за родными богатырями духа, как за путеводными звёздами, вперёд:
В небо, к Богу!
* * *
Схимонах Иоасаф
(почивающий в селе Старые Печеры близ Нижнего Новгорода).
Около 1330 года, когда в Нижнем Новгороде сидел удельный князь Суздальский, Александр Васильевич, преподобный Дионисий пришёл в Нижний Новгород из Киево-Печерской обители и в трёх вёрстах от города, с помощью других, сопутствовавших ему иноков, выкопал в полугоре, на берегу Волги, пещеру.
Кроме приведённых к нему иноков, к преподобному Дионисию стали стекаться другие, и, таким образом, устроился монастырь, в котором он и сделался настоятелем.
Монастырь, мало-помалу, процветал и простоял на первоначальном месте своём около двухсот пятидесяти лет, пользуясь вниманием и жертвой великих князей и лиц всякого звания и сословия. В самом конце шестнадцатого столетия Нижегородский Печерский монастырь был, по богатству и постройкам, одним из первых на Руси, но в том же конце шестнадцатого века монастырю пришлось пережить тяжкое испытание.
Восемнадцатого июня 1597 года гора, под которой был расположен монастырь, завалила его. Незадолго до этого печального события выше монастыря в горе, при которой стояла обитель, образовалась огромная расселина длиной в версту, шедшая вверх по реке Волге до монастырской слободы, а вниз до пещер, вырытых в горе под монастырём. Чувствовалось колебание земли, монастырский мост стал расшатываться. Предчувствуя опасность, тогдашний настоятель монастыря вынес из обители чудотворный образ Печерской Божией Матери с другими иконами, церковною утварью и всё, что можно было с собой забрать. К сожалению, не были вынесены крепости и дарственные записи. Выведены также были монастырские лошади и прочий скот.
Вскоре после этой предосторожности, ровно через три дня вершина горы, на которой была засеяна нива с дозревавшим уже на ней хлебом и лес, стала осыпаться в расселину с ужасным шумом и треском. Разбуженные жители искали спасения в бегстве, и архимандрит Трифон с братией без повреждения вышли из монастыря и, встав вдали, стали созерцать великое бедствие с плачем.
Гора, оторвавшись от своей вершины над монастырём сажен на пятьдесят, а кое-где и более, с шумом ринулась в расселину, вытеснила из-под монастыря землю в Волгу на пятьдесят и более сажен, так что суда, стоявшие под монастырём на якоре, отбросило от прежнего берега сажен на двадцать и, всё-таки, они остались на суше, так как на Волге — от вытесненной из-под горы земли — образовались огромные бугры, и даже Волга изменила своё течение.
В образовавшемся провале горы во многих местах потекли сильные источники, которые стали размывать уцелевшее здание храма. Храм Вознесения Господня обвалился до основания. Другие же храмы обители, колокольня с колоколами, здания келий и все монастырские службы с оградой частью — разрушены, частью — повреждены.
У монастыря, на берегу, стояла деревянная церковь во имя святителя Николая, и она была сдвинута с места на две сажени. В самой Печерской слободе дома жителей покачнулись. Таким образом, обрушившаяся гора разрушила — в короткое время — цветущий прекрасный монастырь.
До сих пор ещё можно наблюдать, среди развалин, груды камней на земле и под землёй в большом количестве, развалины пещер, которые имели столь большое протяжение, что при обходе их сгорала свеча в гривенник. У бывшего входа в пещеры существует колодезь с отличной водой. Он носит название «святого» и поддерживается заботами жителей. Он доселе посещается многими богомольцами, как древняя святыня.
Село Старые Печеры названо так потому, что его приходская церковь стоит на месте прежде бывшего здания Печерского монастыря. По разрушении монастыря лишь на третий день иноки решились подойти к разрушенному святому месту. Грустно бродили по развалинам, и тут обрели, по воле Божией, новую святыню, которая как бы занималась счастливой зарёй над погибшим монастырём.
За три десятка лет до этого несчасття, то есть приблизительно в 1567 году, в Печерской обители скончался схимонах Иоасаф, который был погребён в обители. Гроб его, слегка прикрытый землёй, остался вне, и иноки обнаружили его полную целость с нетлением одежд и тела. Только часть его лица предалась тлению. Вот, современное свидетельство об обретении мощей схимонаха Иоасафа.
«На третий день после того разрушения сзади церкви были обретены мощи, немного покрытые землёй. Во гробе лежал схимонах, мощи его, ризы и гроб оказались нетленными, только земля приняла часть его лица, его волосы же на голове были все целы, ничуть не повреждены и во гробе было миро. Старый монах объяснил, что в их время жил в обители сей схимонах, по имени Иоасаф. Он был строгим подвижником в жизни своей и по смерти своей погребён на этом месте. С тех пор прошло тридцать лет, пришёл тот игумен Дудина монастыря (село Подъяблонное, Горбатовского уезда) архимандрит Евфимий с братией, и того же Печерского монастыря иеромонах Трифон с братией и все вместе подняли гроб с того места и ради уверения осматривали мощи и осязали их своими руками, а потом погребли его в другом месте, оставив гроб поверх земли и устроив над ним надгробие».
С тех пор мощи схимонаха Иоасафа почивают на том самом месте Старо-Печерской Преображенской церкви, в ограде прежнего разрушенного монастыря.
После разрушения монастыря архимандрит Трифон ездил в Москву, к царю Феодору Иоанновичу, и просил дозволения возобновить обитель на прежнем или каком-нибудь другом месте неподалёку от прежнего монастыря. Царь, снисходя к его просьбе, дал приказание нижегородскому воеводе Леонтию Аксакову с опытными людьми осмотреть предложенное место, чтобы решить, будет ли оно годно для постройки монастыря. Оно оказалось слабым и опасным, чтобы выдержать каменные здания, и тогда было велено перенести монастырь на другое место, на том же берегу Волги, но выше, расстоянием от прежнего места около версты. Там обитель стоит и доныне.
На прежних развалинах обители Государь велел поставить деревянный храм для поминовение умерших братий. Эта церковь и была вскоре устроена и освящена в честь Преображения Господня с приделами св. Иоанна Богослова и Николая Чудотворца. Гробница схимонаха Иоасафа вошла под новую церковь. Туда же были перенесена из бывшего вне монастырской ограды па берегу Волги храма святителя Николая некоторые иконы, в их числе две чудотворные иконы Николая Чудотворца. Обе они пользуются особым уважением прихожан и захожих богомольцев.
О могиле схимонаха Иоасафа в этом храме в летописи записано так: «Сей же преподобный Иоасаф почивает даже и доныне в Старых Печерах, в церкви святого Иоанна Богослова под спудом, иже исцеления многа подает с верой приходящим ко гробу его; гроб же его по левую сторону царских врат, за клиросом».
Печерский монастырь на новом месте процвёл, как и на первом своём месте. Мало-помалу, кельи, деревянный храм и строения заменились каменными. Но почти два века деревянная Преображенская церковь не перестраивалась.
При утверждении монастырских штатов, в 1764 году, Старо-Печерская церковь из приписанной к Печерскому монастырю обращена в приходскую, в 1782 году в мае месяце она сгорела и в 1790 году вместо сгоревшей старой церкви преосвященный Дамаскин освятил новую — каменную.
В 1860 году холодная Преображенская церковь благолепно украшена, сделан каменный чистый и прочный пол, и церковь, вообще, приняла такой вид, что не отличается от нижегородских городских церквей.
При этих трудах возобновлена и пещера над гробом схимонаха Иоасафа, находящаяся теперь не как раньше — в деревянной церкви, в приделе, а за левым клиросом, с северной стороны.
В 1882 году, отчасти — от тесноты помещения около гробницы, к которой, особенно в летнее время, стекается много богомольцев, отчасти же — по усердию преосвященного Макария, бывшего в то время епископом Нижегородским и Арзамасским, устроен у могилы небольшой храм в честь преподобного Иоасафа, царевича индийского.
Рядом с гробницей, справа, сделан алтарь, отделяющийся от гробницы сплошной железной стеной, а вверху железной решёткой и по ней — завесой. В этой небольшой церкви теперь могут поместиться приблизительно около ста человек. В ней в течение всего лета совершается ранняя литургия в воскресные и праздничные дни, а после литургии — панихиды об упокоении в Бозе почивающего блаженного схимонаха Иоасафа.
Под тёмным сводом пещерной церкви тихий свет неугасимой лампады и чувство вечности охватывает верующий народ, приближающийся к заветной могиле на поклонение.
На поклонение могиле схимонаха Иоасафа сходятся не только нижегородцы, но также и жители окрестных селений, и стекаются и из дальних городов и местностей. Часто с раннего утра до позднего вечера пение одной панихиды сменяется другой и верующие люди получают, по вере своей, помощь от подвижника. Особенно много исцеляется больных горячкой и лихорадкой. Они, приложившись к могиле праведника, берут от неё песок и от лампад елей и вскоре получают исцеление. Если детей, одержимых болезнями, вносят в пещеру и прикладывают к гробнице и её покрову, тотчас их плач и крик прекращается, и они необычайно быстро выздоравливают.
Много ходит в народе преданий и рассказов о чудесах исцелений и явлениях преподобного Иоасафа. Но далеко не все они заявляются причту и много из них потеряно. Вот, свидетельство о целебной силе преподобного схимонаха Иоасафа совместно с явлением, бывшим от иконы святителя Филиппа, митрополита Московского, в Нижнем Новгороде, в церкви Спасова собора под колоколами.
В 1702 году в городе Балахне девице Евдокии Михайловне два раза являлся святитель Филипп митрополит: четвёртого июня и восьмого ноября. Он явно явился ей, приказывая идти в Нижний Новгород в соборную церковь и отпеть там молебен с водосвятием, а в Старых Печерах взять песку, от гроба преподобного Иоасафа и пить воду, перекатывая песок, при этом — святитель обещал девице здоровье и приказал ей идти в монастырь. Он указал ей местонахождение образа своего, стоящего в Нижнем Новгороде, в соборе, под колокольней — в церкви, справа от царских врат. Когда она отправилась в Нижнем Новгороде в эту церковь, то лежала божественную литургию до «достойно», как мёртвая, после же «достойно» ей снова явился святитель Филипп и велел подняться. Она встала и выздоровела, стояла во время молебна и совсем оправилась.
При слухе об этом исцелении Нижегородский митрополит Исаия велел произвести следствие соборному ключарю, священнику Андрею, причём — исцеление было вполне удостоверено. Много в народе ходит, вообще, рассказов о разных исцелениях и явлениях от гроба схимонаха Иоасафа, из которых — к сожалению — первое время не записывали решительно ничего. Благодати схимонаха Иоасафа приписывается спасение от гибели Преображенской церкви в 1853 г.
В этом году, в мае, в ночное время гора опять двинулась, оторвавшись от своей вершины сажен на тридцать в длину, и пошла прямо на церковь, разрушая сады и обывательские здания. Но, благодаря заступлению угодника Божия, святителя Николая Чудотворца, и почивающего в церкви схимонаха Иоасафа, храм не разделил печальной участи, постигшей несколько веков назад обитель. Гора, уничтожив двенадцать садов с плодовыми деревьями и разрушив стоявшие выше церкви обывательские дома и другие постройки, приняла новое направление и, в нескольких саженях дальше церкви, спустилась в Волгу. По дороге она оторвала и разрушила почти половину церковной каменной ограды с приходского кладбища, которое спустилось к Волге сажен на двенадцать.
Можно себе представить этот ужас и изумление, с которыми жители смотрели, как — по велению Божию — восходят и снисходят горы, с какой радостью благодарили они, что церковь их пощажена от разрушения, видя в этом явление чудесной силы инока Иоасафа.
В конце прошлого века памятно исцеление одной простой женщины из Костромской губернии, которая три года была больна расслаблением всего тела, так что, — наконец, — была лишена возможности ходить и вставать с постели. В таком безнадёжном состоянии ей являлся во сне, в продолжение трёх ночей, старец. Он называл себя Иоасафом и приказывал ей идти в Печеры для поклонения его гробу. Она не только не знала об Иоасафе, но даже никогда не слыхала этого имени. Поэтому — она тут же объяснила являвшемуся монаху, что не может идти, куда он ей приказывает. Но в третий раз он стал угрожать ей смертью, и больная произнесла обет. На другой же день, после третьего явления, ей стало лучше, и вскоре она собралась в путь. С усердием помолилась она там над гробом преподобного и совершенно выздоровела на глазах десяти своих односельчан.
Женщина из нижегородской купеческой семьи заболела раздражением нервов, причём — доходила до беспамятства, кричала, кликала и бесновалась. Во время болезненного состояния она была приведена в Старо-Печерскую церковь и, — во время молебна пред чудотворным образом святителя Николая, билась и кричала. Много усилий стоило её подвести к святому Евангелию и ко кресту. Но, когда её свели в пещеру схимонаха Иоасафа и приложили её, с неистовым, как прежде, криком к его гробнице, тогда она стала заметно затихать, по окончании панихиды совершенно успокоилась, а через двадцать дней оказалась и вовсе здоровой.
Невинный страдалец, блаженный Василий Мангазейский
Часто видим мы в мире наглое торжество зла, гонимую и презираемую добродетель. И тогда, в глубоком отчаянии, нам кажется, что зло царствует в мире, что его больше, чем добра, которое оно давит и угнетает… Но это не так… То самое, что мир стои́т, показывает, что добра в жизни больше, чем зла. Добро есть сила созидающая; зло — сила разрушающая. И в ту минуту, когда бы зло взяло окончательный перевес над добром, мир бы разрушился и не мог бы продолжать своё существование. Ошибка, в которую мы впадаем, признавая за злом бо́льшую силу, чем оно в действительности имеет, основывается на том, что — в большинстве случаев — зло гораздо более видно, обращает как-то на себя большее внимание, чем добро. Как это ни странно, о каком-нибудь большом злодеянии, каком-нибудь ярком преступлении, немедленно оповещается весь образованный мир. Газеты всех стран трубят о великих преступлениях, совершаемых в Лондоне, Петрограде, Париже, в Нью Йорке, Риме, Вене. А великие подвиги добра, совершаемые в тех же городах; удивительные примеры добродетели, пред которыми нельзя не преклониться в душевном волнении всякому сколько-нибудь чувствующему человеку: эти великие сокровища добра остаются, по большей части, совершенно никому неизвестными.
Зато как отрадно взору, утомлённому видом всевозможных крикливых пороков, отдохнуть на созерцании чего-нибудь возвышенного и светлого, выливающегося из благой и ясной души человеческой.
Много в мире скрыто истинных рабов Божиих, усердно и смиренно, в тишине и незаметно работающих Богу. Безызвестными живут они, и только опытный глаз чуткого человека способен различить невидные поверхностному взгляду великие сокровища их души. Безвестными отходят они из жизни, чтобы получить победный венец из рук Христа, любовно взиравшего на их подвиг.
Но иногда Господь прославляет таких рабов Своих и они становятся покровителями той страны, где совершился их святой подвиг, и помощниками людям в их бедах и скорбях. К таким безвестным людям, прославленным Богом, принадлежит мученик Василий Мангазейский.
* * *
Невысока была доля этого человека и недолга его жизнь.
Он происходил из той Ярославской губернии, которая уже три века назад, как и теперь, поставляла множество деятелей по торговой части, и был сыном ярославского купца.
В 1602 году он с товарищами пришёл из Ярославля в Сибирь, в город Мангазею. Город этот, основанный царём Борисом Годуновым при реке Тазе, впоследствии запустел и заменён городом Туруханском, что на Енисее.
В Мангазее Василий Феодорович (так его звали) поступил приказчиком к богатому купцу, от которого имел доверенность. Усердно исполняя свои обязанности, он, по сердечному своему благочестию, не забывал и храма и в свободное время не опускал ни одной церковной службы.
В пасхальную ночь над ним стряслась беда. Во время самой утрени — воры, пользуясь его отсутствием, взломали дверь и выкрали весь товар.
Тяжело было усердному честному приказчику, вернувшись домой из церкви, увидеть разбитые двери лавки.
По своей простоте, далекий от мысли, что его могут заподозрить, он побежал поскорее к хозяину и рассказал ему о беде, но всю досаду свою тот выместил на приказчике. Он немилосердно избил Василия; а затем отдал его, как сообщника воров, на пытку бывшему там тогда воеводой — Пушкину.
Пытка была жестокая. Несколько раз Василий падал замертво, но хозяин не мог исторгнуть у него признания в краже. Утомлённый этим упорством, хозяин ударил его бывшими у него на длинных ремнях ключами прямо в висок. Василий тяжело вздохнул и упал замертво. Когда его хотели ещё раз поднять на дыбу, — его смерть обнаружилась.
Что переживал в эти минуты невинный страдалец? Встал ли перед ним его родной Ярославль с множеством храмов и колоколен и мелькнули пред ним с чрезвычайною яркостью милые лица тех людей, среди которых протекло его безмятежное детство и первая юность? Наполнила ли его христианское сердце радость, что и он принимает через эту муку участие в страдании Христа? Видел ли он отверстое небо и тихих ангелов, слетавших принять его чистую душу?
Воевода, чтобы скрыть своё преступление, не позволил даже совершить над ним христианского погребения. Наскоро был сколочен гроб и закопан в болотном месте, подле той самой избы, где умер Василий; и чтобы гроб глубже уходил в землю, перекинули через него доску, по которой все проходили в съезжую избу.
Так погиб, во цвете лет, юный Василий и был схоронен с бесчестием. Народ помнил о его неповинном страдании, и Господу было угодно из бедного замученного приказчика воздвигнуть великого чудотворца Сибирского края.
Первоначально стали совершаться исцеления силой страдальца между инородцами, которые — однако — не находили нужным оглашать эти необыкновенные случаи своей скитальческой жизни. Затем начались исцеления и знамения также и между русскими.
Первый обрёл гроб Василия, в 1642 году, мангазейский житель Ширяев. Придя на погорелое место бывшей съезжей избы, он увидел на пепелище гроб, подымающийся кверху из болота, в которое был втоптан. Над гробом всё ещё была перекинута обломанная доска, другая же поднялась кверху, и любопытные могли видеть под нею сохранившиеся нетленно останки мученика. Но гроб продолжал оставаться всё там же, в том же небрежении.
Прошло десять лет, и Ширяев увидел во сне, будто гроб Василия выкапывают из земли, и из него поднимают под руки юношу, а воевода Корсаков велит людям почерпать воду для исцеления.
Чем дальше шло время, тем чаще и чаще разные люди объявляли об исцелениях, полученных ими по отслужении панихид над гробом Василия. Один из исцелённых устроил над гробом Василия часовню.
Были случаи избавления Василием людей, погибавших от бури, и прозрения слепых. Было ясно, что приближалось время прославления его в России.
Он явился во сне одному тамошнему жителю в виде юноши с молодым и светлым лицом и светло-русыми волосами, без бороды, в белой сорочке, и велел возвестить воеводе о своём явлении.
Прошло уже с лишком полвека со времени ужасной гибели Василия. В ночь на третье февраля 1670 года одному мангазейскому служилому человеку, Ивану Осипову, было чудное видение. Он стоял на карауле подле съезжей избы. Внезапно пришли два человека и (привели его в часовню над гробом блаженного Василия. Он сам тоже хотел войти туда, но не мог, пока его не ввели эти неведомые люди. Внутри часовни, ярко освещённой, он увидел человека в светлой одежде, который велел ему объявить иеромонаху Туруханского монастыря Тихону, чтобы он пришёл освидетельствовать мощи человека Божьего. Потом всё это скрылось от его взоров, и он в ужасе возвратился в избу.
Иеромонах Тихон, человек праведной жизни, был основателем Троицкого монастыря, лежащего в 30 вёрстах от города Туруханска.
В марте 1670 года он пришёл в Мангазею по чудному зову: ему, в сонном видении, являлся в монастыре святой юноша в белой одежде, который звал его в Мангазею — освидетельствовать его мощи.
Достигнув Мангазеи, Тихон пришёл в часовню, где почивал блаженный Василий, — сомневаясь, к нему ли был зов праведника. За своё неверие он всю ночь пролежал в расслаблении при гробе, прося себе помощи свыше. К утру он впал в дремоту и в тонком сне услышал голос, как бы из гроба, который говорил ему: «Посмотри, с каким поруганием положен я в гроб, весь сломанный, и глава моя преклонена к правому плечу; отколотая доска упала мне на ноги и тесно мне лежать. Без всякого сомнения открой гроб, не убойся осмотреть мои мощи, переложи их в новую раку и перенеси из Мангазеи в монастырь свой, а ветхую раку оставь здесь, для утешения тех, которые с верой будут просить себе исцелений; если же ослушаешься, горько пострадаешь».
Первого апреля Тихон собрал всех жителей мангазейских и в их присутствии освидетельствовал нетленные останки блаженного Василия. Когда был открыт гроб, все почувствовали лившееся из него благоухание.
Положив нетленные останки в новую раку, Тихон поставил их на особо устроенную на лёгких полозьях нарту, и, привязав к ногам длинные лыжи, несмотря на огромное расстояние — 700 вёрст, сам повёз на себе нарту, с помощью немногих провожатых, по реке Турухану, впадающему в Енисей. Благополучно достигнув до своей обители Троицкой, он поставил раку в церкви у левого клироса, и совершено было по этому случаю, на десятое мая, всенощное бдение, которое ежегодно и отправлялось в этой обители более ста лет.
Исцеления над гробом блаженного Василия и явления его продолжались.
В 1787 году раку Василия перенесли во вновь сооружаемую каменную церковь и она опущена была на аршин под землю, с южной стороны храма; там и доселе хранится под спудом, и над нею совершаются панихиды усердствующими к его памяти.
Вёрст за восемьсот на северо-запад от Туруханска, вёрстах в двенадцати на север от селения Тазовского, на берегу тихого величественного Таза, который покрыт мелким густым лесом, видна и теперь ещё местность, где находилась Мангазея, сгоревшая в 1661 году. Во многих местах видны ямы, где были погреба жителей, и лежат груды угля и кирпичей; всё это заглохло и заросло тальником и мелкими кривыми соснами, так что летом туда трудно проникнуть… Берег Таза в этом месте плоский и тундристый; тут же находится ветхая часовня, в которой некогда погребён был Василий Мангазейский. В часовне этой, во всякое время года, можно найти несколько звериных шкур, из которых многие уже истлели: это приношение бродящих вблизи юраков Тазовской орды и других инородцев, случайно заходящих в эту глушь. Они свято чтут память Василия и, отправляясь на лов зверей, или после удачной охоты, всегда приходят к часовне и оставляют в ней в дар какую-нибудь шкуру. Русские жители ближайшего Тазовского селения считают святотатством взять оттуда что-нибудь. Память блаженного Василия светло сохраняется во всех северных пределах Сибири.
Рафаил, митрополит Киевский
Митрополит Рафаил крепко держал жезл архипастырства, сурово выправлял недостойных членов клира, но суровее всего был к самому себе.
Объятый пламенем молитвы, «горняя мудрствуяй», весь погруженный в мысль о небесном, но решительный, прямолинейный, деятельный и созидающий, когда надо было заняться деланием земным, — таков был преосвященный Рафаил, митрополит Киевский. Что-то парившее над жизнью и, вместе с тем, глубоко нужное и драгоценное для этой жизни было в его существовании. И после земного века, полного труда и значения, он остался сиять среди сонма киевских праведников, и всё ярче в веках будет разгораться его звезда…
Митрополит Рафаил разделил счастливую участь тех преосвященных, которые не были забыты после своей смерти потомками паствы. Над его гробом часто совершаются панихиды и в народе передаются, из уст в уста, вести об исцелениях, там получаемых. У гроба святителя, в Успенском приделе Софийского собора, всегда теплятся горящие многочисленные лампады.
Так же, как другой нетленно почивающий в Киеве святитель, митрополит Тобольский Павел Конюскевич, — святитель Рафаил происходил из Червонной России, нынешней Галиции, именно — из окрестности Львова, местечка Заборова. По этому местечку он и получил фамильное прозвище «Заборовский». Он был сыном отца католика и матери православной. Мать настояла на том, чтобы он был крещён в православие; имя ему было наречено «Михаил».
Сперва Михаил Заборовский обучался в школах в чужих краях. Когда же отец его умер, тогда он с матерью устроился в Киеве и проходил курс Киевской братской академии. Знаменитый местоблюститель патриаршего престола, Стефан Яворский, обратил внимание на блестящие успехи, способности и душевное устроение молодого Заборовского и перевёл его в Московскую духовную академию. Сам митрополит постриг его в Заиконоспасском Московском монастыре, с именем Рафаила.
Короткое время Рафаил был, в сане иеромонаха, учителем риторики Московской духовной академии, затем проводил должность флотского обер-иеромонаха, а затем архимандрита Троицкого Калязина монастыря. Ему было пятьдесят лет от роду, когда 9 октября 1725 года, архимандрит Рафаил был рукоположен во епископа Псковского и Нарвского и назначен членом Святейшого Синода. Ревнитель просвещения, епископ Рафаил немедленно открыл в Пскове школу и вызвал в неё учителями питомцев Киевской академии. По его предписанию были доставлены в архиерейскую школу годные для обучения сыновья духовенства; и учащих и учащихся он содержал, главным образом, на средства кафедры и самым пристальным образом следил за учебным делом. Когда ему было время, он даже и сам брал на себя учительские обязанности.
В течение шести лет — под его надзором — школа окрепла и влила новую струю в среду псковского духовенства. Как администратор, он был строг, его резкие указы сильно подтянули клир. Вот, какая характеристика сохранилась от времени пребывания преосвященного Рафаила на Псковской кафедре:
«Муж сей от добродетелей составлен; красота пастырей, правило паствы и жилище благочестия; во все празднества, в субботы и недели почти ежедневно во Святую Четыредесятницу совершал литургию. Ногою левою болезнуя всегда, нерадяще о советующих о послабе от трудов молитвенных и обещающих от послабы цельбу, говорил так: „не да болезнует нога, Богу же буди здрава“. Кроток был, незлобив, снисходителен, преступником удобопростителен, милостив, всем неукрыт; взором мил и весел, тих и сладок словом, чуден нестяжанием и часто служители его были богатшие своего господина, раздававшего пенязи свои требующим. В искусстве риторском знаменит: в проповеди благоглаголив, в увещаниях страшен, всеми любим и почитаем. Ревнитель учений и учёных любитель, чтитель и благодетель. Возрастом благолепен, телом не толст, очес светлых и весёлых, власы главы лепотно кудрявые, белые; брада краткая, реденькая, мало на среде разделена, седая; уста коралловые. Имя, нравы и взор снесши воедино, несть зазора нарещи его ангела земнородна».
В 1730 году, по интриге против тогдашнего Киевского архиепископа Варлаама Ванатовича, он был низведён с кафедры и заточен в Кирилло-Белозерском монастыре. Тогда на Киевскую кафедру был назначен Рафаил в сане архиепископа. Киевская кафедра, устроенная после деятельности на ней незабвенного поборника православия, преосвященного митрополита Петра Могилы, находилась снова в немалом расстройстве.
Киев пережил бурные времена — междоусобие, после гетмана Богдана Хмельницкого, войны. В течение почти что тридцати лет Киевские иерархи даже не жили в Киеве. Пред преосвященным Рафаилом иерархи Киевские были или стары, или болезненны, или злосчастно низводимы с кафедры. Рафаил близко знал Киев и, получив приказ о своём назначении, дал Богу клятву отдать все свои силы на восстановление расстроенной епархии.
Он прибыл в Киевскую епархию в начале сентября 1731 года, и торжественно встречен близ Глухова малороссийским гетманом Даниилом Апостолом. Тут была торжественная свита, множество значительных малороссов и множество клира. Отдохнув, митрополит Рафаил совершил здесь первое торжественное богослужение, а затем в сопровождении почётного конвоя, под начальством генерального бунчужного Заборовского, своего родственника, он выезжал для осмотра ближайших приходов и монастырей.
Киевскую епархию в то время составляли юго-восточные уезды теперешней Черниговской епархии, бо́льшая часть нынешней Полтавской епархии и часть теперешнего Киева по левую сторону Днепра. Восьмого октября в Киеве происходила торжественная встреча архиепископа Рафаила киевским духовенством, военными чинами, членами магистрата и народом. Остановившись на несколько дней в Лавре, архиепископ переселился затем в свой дом при кафедральном Софийском монастыре. Обозревая епархию, архиепископ ещё больше убедился в той запущенности её, которую он видел издали и раньше.
До конца дней своих он трудился над искоренением всевозможных злоупотреблений и неправильностей. Приказы его по епархии представляют собой, с одной стороны, яркие осколки тогдашнего быта, с другой — одушевлённую проповедь. В одном из приказов он говорил о том, что к нему посылают для посвящения совершенно молодых людей, которым — по рукоположении — запрещают по их молодости на четыре, пять, шесть лет исповедовать своих прихожан. «Молодые священники, — говорит он, — не умеют радеть о своём доме, как же могут радеть о доме Божием? Они совершают. Таинство Евхаристии, на которое не могут взирать без трепета ангелы, а, между тем, им запрещаются меньшие действия — исповедать прихожан». Он говорит о шумных игрищах, соединённых со свадьбами, на которых духовенству неприлично присутствовать, между тем, «священницы да и сами протопопы осуетишася, сами старостами или дружками на браках бывают, ручниками препоясуются и плясати с женским полом дерзают». Он запрещает духовенству держать в доме других женщин, Кроме матери, сестры и тётки и присылать к рукоположению в священники лиц моложе тридцати лет, а в диаконы — моложе двадцати пяти.
Как позднее в своей епархии святитель Иоасаф Белгородский, так у себя в Киеве архиепископ Рафаил требовал устройства особо приспособленных флаконов для хранения святого мира с держанием их в алтаре, в приспособленном месте, тогда как, обыкновенно, миро держали просто дома на полках, и даже под скамьями.
Относительно браков святитель требовал, чтобы настоятели церквей приглашали брачующихся до брака отговеть и за три дня до брака приобщиться. Венчать он распорядился сейчас же после божественной литургии, не выходя из церкви — «прежде обеда, трезвенными и не ядшими».
В Киевской епархии распространился обычай приглашать помногу крестных отцов и матерей на крестины ребёнка. Святитель требовал, чтобы у ребёнка были или крестный отец или мать, и никак не больше уже двух. Он говорит о том, что из-за обычая иметь три и четыре пары восприемников размножается духовное родство, и впоследствии происходит духовное кровосмешение, и гнев Божий разными способами наказывает кровосмесников — то разными болезнями, то сокращением жизни или разорением, то разрешением от бремени мёртвыми младенцами и несчастной жизнью детей.
Святитель вооружался против обычая передавать приходы по наследству своим детям или родственникам и отдавать приходы в приданое за своими дочерями. «Многие вдовствующие попадьи, — говорит он, — это не диво, но что уже весьма удивительно, — и попы дураки своих сыновей, дочерей и других сродников называют наследниками прихода, и думают, что приход непременно должен принадлежать их сыновьям, дочерям, внукам и правнукам. Мы такое безумное наследие отрицаем, а утверждаем лишь, что будем рукополагать во пресвитерство тех поповских сыновей, кои будут достойны сами по себе, постоянны и притом учёны, равным образом — и тех только мужей священнических дочерей, которые окажутся людьми добрыми и учительными».
В Великом посту, при большом количестве говеющих, некоторые священники сразу исповедовали по несколько человек. Святитель строго это запретил. Восставал он и против обычая пускать в алтарь почётных мирян, которые часто разговаривали, шумели, смеялись и мешали духовенству совершать богослужения.
Крещение часто совершалось небрежно: крестили в одной и той же воде, не меняя её. Архиепископ, угрожая наказанием на теле, требовал, чтобы священник над каждым младенцем совершал всё, показанное в требнике, освящал для всякого крещения новую воду и выливал её затем под церковь. Святитель строго также запретил духовнику брать лишние деньги за так называемые «венечные памяти», то есть метрические записи и выписи о браках, и объявил, сколько полагается взимать денег за браки в архиерейскую казну. Вот, крайне интересный указ относительно злоупотреблений духовенства при погребении:
«Нам приносятся жалобы, что попы мёртвые тела своих прихожан не погребают по церковному чиноположению, кока не выдерут с мужика или жены его рублей шесть, пять, четыре или три. В случае же бедный, нищий мужичок или жена его оказываются без денег, но имеют лошадей, волов или коров, то, не ожидая, пока добровольно мужик даст что-либо за труд, либо сам поп, либо по его приказанию пономарь из-под навеса выдирает лошадей, волов или коров, и уводит их в свой дом, говоря: „то не за погребение берётся, а на сорокоуст, душу надо поминать умершего и литургию по небозчику отправлять“. Так, под предлогом заботливости о душе, ненасытные хищники насильно забирают себе скотину, желая иметь великий прибыток от здырства. Когда же бедный мужичек имеет единственную лошадь, или коровку, или бычка, и не хочет отдавать этого последнего своего достояния вследствие своей крайней нужды, то попы окаянные, бесчинные любители ненасытного грабления, возъярившись, уходят в свои дома; тела же мёртвых часто дня по три, по два в домах или на улицах валяются без погребения, от чего весной, летом и осенью бывает смрад нестерпимый, от которого распространяется зараза и безвременная смерть здоровых. Чтобы не было последнего, предписываем: ненасытного здырства не производить, а погребать умерших без всякого торгу, в особенности же не торговаться за сорокоусты, за которые попы всегда домогаются великой цены, хотя их и не просят служить таковые и сами они об этом не думают, только под предлогом служения их истязуют большую плату, будто пошлину за смерть. Если нам будет донесено на кого-либо за подобное насильное здырство, то его мы заставим возвратить вдвое, жестоко накажем и запретим ему священнодействование».
Точно так же драгоценной, бытовой картинкой является приказ преосвященного относительно пьянства духовенства:
«Нам известно, что многие пресвитеры, не прилежащие своему пресвитерскому званию и не любящие трезвости, до того возлюбили богомерзкое пьянство, что всякой годины дневно и нощно чванцы руками и устами с великим невоздержанием объемлют и о том только думают, чтобы горелка от их уст не отходила; даже во время священнослужения (если кому из них случится за целую четверть года один раз литургисать) о том только и помышляют, как бы пойти к кому-либо с просфорой, да напиться горелки. При этом одною чаркою не довольствуются, но напиваются до помрачения ума и так, что падают на том же месте и засыпают. Проснувшись же на другой день, они не помнят своего вчерашнего окаянного действия, и у других, живущих в богоугодной трезвости, расспрашивают о себе про то, что они вчера делали: и как те скажут — мерзкое дело, — то они, терзаемые совестью, снова бросаются к горелке, говоря себе: „ох, як совесть бие по щекам“. И, снова напившись опять на первое злое дело, как псы на блевотину свою, возвращаются. Вследствие такого постоянного пьянства они, во время богослужения, едва могут от дрожания рук и всех членов, перенести св. дары чрез церковь, чуть-чуть не падая; а потому св. дары принимают не во спасение, но на погибель себе. Так они возлюбили пьянство, крайнее окаянство и безумие, приносящее вред здоровью и сокращающее жизнь; так удалились от трезвости, приносящей телу здравие и душе спасение; забыли заповедь апостола Павла и наставление иерейских грамот. Временами, быть может, разум, как добрый советник, и увещевает их: „й, не делай; худо будет; казнь вечная постигнет тебя в богомерзком пьянстве…“ Но необузданная воля влечёт их к скаредному, как бы говоря: „один только раз“. И так, увлекаемые своей страстью, как больные, они неожиданно умирают… Да не будет этого. Дай Боже, чтобы во всех вас всегда царствовал разум над волею — этого вам пастырски желаем… Мы рассуждаем: ежегодно большое число причетников посвящается в иереи, а где они так скоро деваются? От проклятого лишь пьянства быстро умирают».
Святитель предписывает со священников, которые будут ходить пьяными по улице или напьются в своём доме, и опустят богослужение, брать штрафу три рубля, во второй раз — вдвое, а в третий, отрешив от богослужения и всех доходов, оковать и держать в школе или госпитале, пока не исправится. Вдовых же священников посылать за три провинности в монастыри, в мужицкую работу.
Старинный быт брызжет из приказа преосвященного относительно злоупотреблений «духовных командиров» во время разъездов по ревизии:
«Причиняют немало обид священно- и церковнослужителям, у одних бесстыдно вымогая денежные взятки, а у других ручники и полотна не самолично, но через спутников, у иных же требуя посулов, с выговорами и похвалами, при чём добиваясь, чтобы им устраивали обеды, возят с собой непотребную ассистенцию, вымогая немало излишнего пропитания, как для себя со своими спутниками, так и для лошадей. Мы повелеваем, чтобы они ни под каким предлогом не требовали взяток и никаких излишеств, кроме харчей для себя и своих лошадей, чтобы во время объездов своих округов не имели при себе ни лишних лошадей, ни лишних людей, что причиняет иереям напрасный убыток и разорение, вместо пользы. Об обидах со стороны протопопов мы разрешаем иереям доносить нам; мы же знаем, как нужно поступить…»
Скорбел святитель о том, что бо́льшая часть духовенства была весьма невежественна и предписал, чтобы лица, ищущие священного чина, раньше были вручаемы опытным священникам для обучения всему, что им надо знать. Эти священники должны были давать им, по обучении, аттестаты.
Святитель был чужд той современной морали, которая, щадя преступника, не исправляет его и потакает злу. Он строго карал. Кроме денежных штрафов, он заключал провинившихся в консисторский карцер, на долгое время сажал на цепь в чулан кафедрального монастыря, посылал в монастыри на покаяние и продолжительную чёрную работу. Наконец, за тяжкие проступки отрешал от священнослужения, присуждал к бичеванию плетьми и к лишению священного сана.
Воспитанники Киево-братской академии сохраняли на всю жизнь любовь и духовную связь к ней. Когда они служили в Москве и там собирали пожертвования на подарок Киевской академии — евангелия, хранящегося и теперь в академической церкви с сохранившимся на нём списком жертвователей, то среди них был и Михаил Заборовский, тогда ещё мирянин. Мы видели, что в Псков он выписывал учителей из родной академии, особенно же он проявил свою заботу о ней в бытность на Киевской кафедре.
Сейчас же по вступлении на кафедру, он обратил внимание на разрушавшиеся академические здания. Он написал воззвание, с которым разослал сборщиков на постройку новых зданий. Лично из своих сумм он отпустил значительную по тому времени — тысячу шестьсот сорок рублей. В короткое время были возведены новые большие дома для профессоров и студентов.
При Братском монастыре была гостиница, которую митрополит Пётр Могила сделал пристанищем для недостаточных учащихся. На место её преосвященный Рафаил воздвиг «великую бурсу», которую киевляне назвали «студенческим домом». Над большим, каменным корпусом, выстроенным усердием гетмана Ивана Мазепы, преосвященный Рафаил надстроил второй этаж с громадной колокольней и устроил там Благовещенскую церковь. Он обновил большой Братский Богоявленский собор и для этого снова разослал сборщиков в Москву, в Петербург и Украинские полки.
По ходатайству митрополита, императрица Елизавета Петровна восстановила права и привилегии Киевской академии, причём — было разрешено принимать в неё для обучения не только русских подданных, но и православных молодых людей других стран.
Митрополит из своих средств, постоянно давал значительные суммы в награду учителям академии, многих бедных студентов содержал на своём иждивении и многократно оказывал пособие студентам, которые по окончании курса посылались за границу для пополнения образования и подготовки к профессорской службе. К преосвященному Рафаилу смело шли питомцы академии с просьбами о насущном куске хлеба, отпусках и одежде. Вот, например, краткое прошение и соответствующая резолюция святителя. — Пётр Яновский, обучавшийся в академии, пишет в 1746 году: «Понеже аз, нижайший слуга и подножек, в наставшее сие зимнее время за неимением кожуха весьма крайнюю нужду узнаю…». Вслед резолюция: «исправити, и о прочих нужду имеющих прилежание имети».
Сиротам священников и дьячков, по распоряжению святителя, выдавалась часть доходов из церквей, где служили их отцы… Наконец, для помощи бесприютным студентам святитель разрешил им проживать в киевских церковно-приходских школах, которых было тогда в Киеве тринадцать, а затем помогать в совершении богослужения, получая за то часть доходов от церковных треб.
Случилось, что священник Притиско-Никольской церкви с дьячками выгнали, поселившихся в школе, студентов и жестоко их избили. Святитель резко вступился за студентов и велел на неделю посадить священника на цепь при Софийском монастыре и сеять муку в пекарне, а дьячков наказать плетьми перед школой, дабы «таковых продерзостей на учащихся не происходило».
«Студентам же, по примеру других школ, жить впредь в оной же Притиско-Никольской школе беспрепятственно… Оные же в Притиской школе живущие студенты до церкви, когда от трудов школьных вольны будут, и на клирос ходили б… за что взимали б надлежащую часть доходов ради пропитания и снабдения в нуждах»…
Такие меры покажутся теперь крутыми и жестокими. Но святитель Рафаил нужные, одобренные меры проводил в жизнь железной рукой. И те, которые теперь будут жалеть дьячка, подвергнутого телесному наказанию, раньше пусть вспомнят о том, что предварительно этот дьячок подверг такому же наказанию ни в чём не повинного студента, который, по своей бедности, проживал там, где проживать ему предоставило право начальство епархии. И действия такого духовенства были тем подлей, что они издевались над бедностью молодых людей, нёсших тяжкие лишения в жажде высшего образования. Этим людям святитель сочувствовал и умел оберегать их, не принадлежа к числу тех водянистых и безвольных людей, которые ни к чему не имеют ни искреннего сочувствия, ни искреннего негодования, и не умеют деятельно поддерживать то, что считают полезным.
Сеятель просвещения, святитель Рафаил сочувствовал и тем православным иноземцам, которые приезжали в Киев учиться в академии, и оказывал и им пособие.
Пристально следя за преподаванием в академии, святитель требовал, чтобы ему, пеед началом учебного года, представляли список лиц, способных занять ту или другую кафедру, в котором он делал иногда изменения. Расширяя круг преподавания наук, он открывал в академии новые кафедры. Среди приглашённых им преподавателей был знаменитый своей учёностью Симон Тодорский, получивший за границей своё образование. О нём сохранился такой отзыв современников: «неутомимое усердие к занятиям, богатство сообщаемых знаний, сила слова, теплота чувства молодого преподавателя производили сильное, необыкновенное действие не только на учеников, но и на самых наставников академии».
Симон Тодорский был впоследствии духовником императрицы Елизаветы Петровны и употреблял своё влияние на широкую благотворительность. Скончался он в сане архиепископа Пскова, и доныне чтится псковитянами, как великий молитвенник. У гроба его неоднократно совершались знамения и чудеса.
Святитель Рафаил составил на латинском языке академические правила для преподавателей и студентов. Приведём из них выдержки:
«Наставники должны служить для своих питомцев образцом высокой христианской нравственности. Религиозность тех и других должна проявляться в неопустительном посещении всех церковных служб. Каждый урок должен начинаться и заканчиваться молитвой, а после уроков все учащие и учащиеся должны отправляться в церковь для совершения общей благодарственной молитвы. Если учащие, во время промежутков между уроками, остаются в классах, то не иначе должны беседовать со своими питомцами, как на латинском языке. С питомцами своими учащие должны обращаться не слишком строго и не слишком слабо, а держаться средины, опасаясь при этом бранить их поносными, оскорбительными словами. Младшие питомцы обязаны уважать старших питомцев. Всякого рода пороки — пьянство, буйство, лихоимство, ябедничество, непослушание — должны строго преследоваться и подвергаться каре».
Благодаря попечениям святителя Рафаила, академия достигла полного процветания, и в благодарность своему попечителю, соединяя имя его с именем незабвенного её основателя, митрополита Петра Могилы, стала именоваться Киево-Могило-Заборовской.
Выпускники Киевской академии, разъезжаясь в разные места России, подымали русское духовное просвещение и, как от могучего дуба, во все стороны шли молодые, здоровые побеги Киево-Могило-Заборовской академии.
Рафаил был возведён в сан митрополита императрицей Елизаветой Петровной второго июня 1743 года, по ходатайству Святейшего Синода.
Полная, кипящая сознательными силами личность митрополита Рафаила не могла оставить без внимания и древнейшей святыни Киева — Софийского собора. Тут развернул он обширную строительную деятельность, на которую он употреблял и свои личные средства.
Прежде собор был окружён деревянным забором. Митрополит Рафаил обвёл обширную монастырскую усадьбу каменной величественной оградой, в большей части своей стоящей доныне. Она устроена так прочно, что когда недавно часть её надо было снести для возведения жилых строений, то пришлось взрывать её динамитом.
Против западной стены собора он воздвиг обширные великолепные теперешние митрополитанские палаты, с церковью при них. В старое время при Софийском соборе не было колокольни. В семнадцатом веке были поставлены две деревянные колокольни. Усердный к церкви гетман Иван Мазепа устроил нынешнюю трёхъярусную колокольню, на которую повесил новый колокол, по сейчас называющийся Мазепой.
При митрополите Рафаиле во втором и третьем ярусах колокольни оказывались повреждения; они были разобраны и отстроены вновь. На новой колокольне митрополит повесил самый крупный из Софийских колоколов, который доселе называется «Рафаилом», весит восемьсот пудов и слит тем самым мастером Материным, который слил в Москве известный Царь-Колокол.
Есть записи, что на колокол митрополит Рафаил пожертвовал сто червонных, полученных им за погребение в Сарочинцах гетмана Даниила Апостола. В храм же святой Софии он пожертвовал большое серебряное паникадило и выстроил на свои средства деревянный храм на Шулявке, где был летний дом киевского архипастыря. Митрополит Рафаил был известен, как любитель построек и — в виду этого — императрица Анна Иоанновна прислала ему ценную готовальню с разными инструментами, нужными для архитектурных работ.
В привязанности своей к трём киевским монастырям: Киево-Братскому училищному, Пустынно-Никольскому и Киево-Михайловскому, митрополит Рафаил выхлопотал распоряжение о присвоении их настоятелям редкого тогда звания архимандритов. Глубоко чтя память почивающей в Михайловском монастыре великомученицы Варвары, митрополит всякие два вторника в месяц совершал там божественную литургию.
В 1744 году последовало посещение Киева императрицей Елизаветой Петровной с многочисленной свитой. Императрица пробыла в Киеве с двадцать девятого августа до двенадцатого сентября. После торжественной её встречи было предложено представление от Киевской академии. Митрополиту Рафаилу императрица пожертвовала две ценные бриллиантовые панагии и полторы тысячи червонных на личные его нужды и свой портрет, осыпанный двадцатью пятью бриллиантами и вложенный в серебряный круг. С обратного пути императрица приказала выслать Киевскому митрополиту бочку с восьмьюдесятью бутылками английского пива.
Митрополит тихо скончался двадцать второго октября 1747 года. Ему было семьдесят один год, а на Киевской митрополии он пробыл шестнадцать лет. В кратком завещании его отразилась его нестяжательность: «Слава Святей, Единосущней, животворящей и нераздельней Троице всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Завещание и определение моим от доброхотных подаятелей праведно собранным червонным таковое полагаю: по погребении многогрешного тела моего духовным персонам на молитвы раздати сто червонных. А прочии мои деньги розданы прежде за живота моего. Смиренный Рафаил, митрополит Киевский».
Во время кончины его в Киеве находился прибывший в Россию для сбора милостыни, посланный Александрийским патриархом Фиваидский митрополит Макарий. Киевская консистория, снаряжая посланца в Петроград с вестью о кончине митрополита, спрашивала, кого из соседних архиереев пригласить для погребения.
Из Петрограда ответили, чтобы пригласили епископов Черниговского и Переяславского, присоединив к ним и митрополита Фиваидского. Пока посланный совершил переезд в столицу и обратно, а затем в Чернигов и Переяслав, — прошло более месяца.
Епископы Черниговский и Переяславский отказались ехать: первый, вследствие приближавшихся царских дней, а второй — по «неполному своему здоровью». И тело митрополита Рафаила с двадцать второго октября оставалось непогребённым до тридцатого ноября.
Тридцать девять дней нетленное тело митрополита оставалось в незакрытом гробе, в Софийском соборе, при ежедневно совершаемых заупокойных литургиях и панихидах с множеством молящихся.
При погребении его тридцатого ноября надгробное слово говорил иеромонах, префект академии, Георгий Конисский (он впоследствии, в сане архиепископа Могилёвского, сказал в приветствие при посещении Белоруссии Екатериной Великой знаменитое слово, начинавшееся словами: «Оставим философам доказывать, что земля вокруг солнца вращается. Ныне солнце наше вкруг нас ходит, и для того ходит, да в мире почиет». Текстом он избрал слова: «Бе светильник горяй и светяй»).
Вот, как говорил он про усердие святителя к церкви:
«Ведомо всем, как он часто в жизни своей телом немоществовал, обаче духом присно укреплялся; многажды свещник многоболезненного состава его бедне сокрушался, но светильник души его тем паче множае пламя разливал. Шествовал Рафаил и болезненными ногами в церковь Господню; простирал Рафаил и недужния руце к Богу в молитве; протягал он голос, иногда едва от сослужащих слышавшийся. Была то ему в недузе едина отрада — литургия божественная; веселился, когда ему какий лекарь рекл: „в дом Господень преосвященнейшему вашему свободно пойти“; а тот ему болезнь на болезнь прилагал, который получения ради здравия от служения поудерживатися советовал. Горел Рафаил любовью к храму Божию — сколько годовых служб своей архиерейской, сколько других доходов получал, злато и сребро за любовь Божью вместо дров и хврастия вменивши, всё до последнего истощал. Полторы тысящи златиц за одним разом от всещедрой руки всемилостивейшей государыни нашей её императорского величества Елизаветы Петровны восприял; абие убо тысящу златиц, а не по мнозем времени и остаток на сооружение в сей церкви иконостаса отдаде. Смекай, колик любви к Богу и дому Его пламень в Рафаиле был, который толикое бремя злата в един час от среды себе истребил.
Горел Рафаил Бога ради любовью к ближнему, — к вам наипаче, глаголю, нищии и беднии, сироты и вдовицы, страннии и беспомощнии: вы достовернии огня в нём бывшего свидетели есте; вы паче прочих ощущали, елико руце Рафаиловы теплы быша. Ощущали братия ваша — калеки и недужнии, по болням (т. е. в больницах) лежащий и узники, в темницах заключеннии, которых многажды нарочно посланнии с милостынею объезжали.
Кто не видел бесприкладную милость его к учащим? Кому не сведомо было великое призрение его к учащимся? Не хощу я о сем много слов простирать: лучше за мене проповедуют, хотя и безгласная, каменная оная столповодруженная, царским чертогом подобящаяся, училищная здания, многим иждивением преосвященного архипастыря отстроенная. Недоволен един язык того исповести: нехай убо многочисленными языками с жалостью ныне исповедует многолюдный оный дом, общее учащихся нищих прибежище, — бобыли, глаголю, бурсацкие, безгрунтовие, безденежние, чрез шестнадцать лет милостью преосвященного архипастыря оправляемы, огреваемы и многообразно, ежечасным знатным его подаянием снабдеваемы».
Около ста семидесяти лет, отделяют нас от времени кончины митрополита Рафаила, и то, что не договорено в его житии — то невыразимое благоухание благочестия и милосердия души, устремлённой к Богу и согревающей бедствующих, выразилось в том народном почитании, которое всё увеличивается вокруг памяти митрополита Рафаила.
До 1843 года, по желанию усердствующих, панихиды по митрополите Рафаиле совершались в самой усыпальнице митрополита, под Успенским приделом Киево-Софийского собора. Гроб его не был покрыт землёй и замурован и, по просьбе богомольцев, открывался.
Один из преемников митрополита Рафаила, митрополит Серапион, заносит в свой дневник 1804 года, что митрополит Платон Киевский, будучи в Киеве на богомолье, совершил панихиду у гроба святителя Рафаила, и после панихиды прикладывался к руке нетленно почивающего митрополита Рафаила. Тогда же, в 1804 году, митрополит Серапион спускался в усыпальницу митрополита Рафаила с сенатором Лопухиным, который, дивясь нетленью мощей, воскликнул: «Mirares — чудное дело! Уже пятьдесят восемь лет прошло, как скончался!»
При капитальном ремонте Софийского собора, по распоряжению митрополита Киевского Филарета, гроб святителя Рафаила, со стоящими при нём гробами его пяти преемников, был обмурован, и вход в усыпальницу закрыт сплошными чугунными плитами. С тех пор панихиды по митрополиту Рафаилу совершаются в самом храме.
Как киевляне, так и жители ближайших к Киеву местностей часто просят служить у гроба митрополита панихиды, и — по его предстательству — получают помощь в болезнях и скорбях.
Соборяне, при служении этих панихид, заканчивают ектенью «за здравие и спасение людей», прибегающих к загробному предстательству святителя Рафаила.
Великая подвижница
(спасавшаяся в мужском образе под именем Досифея, рясофорного монаха и затворника Киево-Печерской лавры).
Лицам чутким, вдумывающимся в историю того или другого подвижника, лицам, глубоко чтущим тех или иных подвижников, очень важны и до́роги бывают те люди, которые крепкой рукой направили полных светлых стремлений юношей на путь спасения, указали им, когда они с неясным стремлением души вопрошали их, что им делать и куда идти, — указали те обители, в которых они обрели опасение и которые они своей жизнью прославили.
Почитатели Оптинского старца о. Амвросия никогда не забудут имя того затворника в селе Троекуровском, отца Иллариона, который сказал пришедшему к нему молодому преподавателю Липецкого духовного училища, Александру Михайловичу Гренкову:
— Иди в Оптину, и будешь опытен.
И этим советом своим поставил молодого человека на ту стезю, по которой он пришёл к своему великому жизненному деланию.
Точно так же для людей, благоговеющих к памяти светоносного, лучезарного, несказанно великого старца Серафима Саровского — дорого имя того подвижника Досифея, к которому пришёл искавший слова решительного, слова руководственного для направления своей души, расширяемой жаждой подвига, юный уроженец Курска, Прохор Сидорович Мошнин, которого старец Досифей направил в Саров.
И только в последнее время стало достоверно известно, что под именем старца Досифея спасалась в великом самоотвержении и подвиге девица дворянского рода.
Более ста тридцати лет прошло со дня кончины этой великой подвижницы, и настало время, чтобы эта удивительная жизнь стала широко известна.
* * *
Рязанские дворяне Тяпкины вели свой род от «мужа честна», Василия Маргоса, по прозвищу «Погож», который выехал с Ольгердовичами на Мамаево побоище в 1380 году, затем остался в Москве и служил окольничим при Димитрии Донском.
От старшого сына его пошёл род Погожевых, а четвёртый сын, Михаил, по прозванию Тяпка, был родоначальником Тяпкиных, из которых на Московской Руси многие занимали видные служебные места.
В 1721 году в семье рязанских дворян Тяпкиных родилась дочь, наречённая при крещении Дарьей.
Всё предвещало, казалось, ровную и сладкую жизнь хорошенькой, здоровой девочке богатой дворянской семьи. Но пути жизни её были направлены непосредственно Божией рукой не по общему руслу.
У маленькой Дарьи была бабушка, которая незадолго до рождения внучки поступила, по обещанию, в Московский Вознесенский монастырь и постриглась там с именем Порфирии. Особые соображения побудили благочестивую старушку выбрать, именно, эту обитель.
Единственная женская обитель, находящаяся в Кремле — Вознесенский монастырь — основан благоверной великой княгиней Евдокией, в постриге Евфросинией, вдовой великого князя Димитрия Иоанновича Донского.
Матери Порфирии была вдвойне дорога память великой княгини Евфросиньи, как супруги того человека, который взыскал родоначальника её мужа своими милостями. В этой обители пришлось вырасти и маленькой Дарье.
Ребёнку было два года, когда её родители отправились на богомолье в Троице-Сергиеву лавру и взяли с собой дочь. По дороге они останавливались в Москве, где прогостили несколько дней у матери Порфирии.
За эти дни бабушка так привязалась к своей внучке, что ни за что не хотела с ней расстаться. Как ни было тяжело родителям, они — в конце концов — согласились на просьбы бабушки и оставили дочь в Москве.
Тихо и мирно текли дни в этой келье в обители, находящейся среди многолюдной столицы, но отделённой от неё высокими кремлёвскими стенами и представлявшей собой как бы неприступный для мира остров среди кипящего моря столичной жизни.
Вознесенский монастырь расположен в самом восточном краю обширного Кремля, прилегая к кремлёвской ограде. За этой оградой тянется широкая Красная площадь и здания торговых рядов, где жизнь замирает с вечера до утра. С двух сторон разлёгся кремль, многолюдный вне часов богослужения. Справа кремлёвский холм сбегает зелёным уклоном вниз, где за стеной протекает Москва-река… Место, вообще, далеко не столь шумное, как можно предполагать для столичной обители.
Пока там, в родной усадьбе, кипела обычная жизнь состоятельного помещичьего круга — с шумными охотами, гоном собак и звуками рожка, с яствами, гостями, пирами и балами в дни именин: тут, в этой тихой келье, бабушка с внучкой жили сосредоточенной жизнью.
Что-то словно отделило их от современного мира и перебросило вдаль, к тем временам, когда Маргос Погож бился с Димитрием Донским за русское дело на Куликовом поле, а благоверная княгиня Евфросиния с московскими женщинами молила Господа со слезами о помощи и победе; когда блаженная великая княгиня, преподобная Евфросиния, проводила в подвигах дни честного вдовства своего, когда основывала свою обитель.
Вместо звуков музыки, под которые помещичья молодёжь танцевала в дни праздников, маленькая Дарья слышала только клиросное пение. Вместо мирских пересудов слышала о том, как люди спасали свою душу, какими подвигами трудились для Бога. Часто, засыпая в кроватке, под заботливо подоткнутым одеяльцем ласковой рукой старушки, она видела — при свете нескольких неугасимых лампад — фигуру бабушки, кладущей поклоны, слышала неясный шёпот её молитв.
В церкви стояла девочка, как взрослая монахиня, чинно и с благоговением, стараясь класть поклоны и креститься одновременно с монахинями. По выходе из церкви, бабушка поручала внучке оделять милостыней нищих.
Дарьюшка рано научилась грамоте и знала много молитв. Мудрая бабушка воспитывала во внучке духовные добродетели. Однажды, когда девочка не подала нищему, который был грязен и оборван, старушка сейчас же позвала нищего к себе в келью и заставила внучку прислуживать ему.
Бабушка также следила, чтобы внучка всякое дело делала тщательно и держала его строго. Всякий вечер, перед чтением молитв на сон грядущий, бабушка приказывала внучке становиться перед образами и перечислить вслух всё, чем она в тот день согрешила.
Бабушка приучила её никогда не быть праздной, и Дарьюшка, сидя в келье, всегда или читала бабушке вслух, или что-нибудь рукодельничала.
В Вознесенском монастыре девочка прожила семь лет. Когда ей минуло девять лет, родители взяли её обратно к себе. Надо было дать ей воспитание, сообразно её званию и общему положению в свете. Кроме того, бабушка мечтала о схимнической жизни, требующей полного уединения.
Старушка простилась с внучкой, которую уже больше никогда не видела. А маленькая Дарья никогда не забыла этого монастырского детства — с заутреней в темноте церкви, радостным перебором колоколов в праздники и царящим над всем звоном Москвы, гудящим полной грудью, мощным, как стихия, звоном с колокольни Ивана Великого, с книгами в толстых кожаных переплётах, со страниц которых смотрели в душу девочки образы древних, великих святителей, мучеников и пустынножителей-отшельников, особенно пленявших её душу.
Никогда не забыла девочка тихой кельи, мирно мигающих перед старыми образами лампад и старческую фигуру, кладущую перед образами поклон за поклоном в ночной тишине.
Жизнь родной усадьбы поразила Дарью после тишины монастыря. Ей казался странным этот образ жизни, позднее вставание и сидение с гостями до полуночи, роскошь в убранстве и пище, весь шум богатой усадьбы, смех молодёжи, редкость церковных служб, кое-как справляемых священником раз в неделю.
Дома были недовольны внешним видом Дарьюшки. Находили, что у неё нет ни соответствующих манер, ни умения носить тогдашние нарядные и своеобразные платья, ни знания иностранных языков. Поэтому — к ней поспешили приставить француженку, которая должна была научить её необходимому в светском обиходе французскому языку.
Дарья, несмотря на свою юность, решила не покоряться течению жизни, в отцовской усадьбе. Она строго соблюдала посты: в среду и пятницу ровно ничего не ела. Вообще же, никогда не принимала ничего ни мясного, ни молочного, ни даже — яичного.
Она была со всеми кротка, любила узнавать о нуждающихся крестьянах, и, зазывая к себе в дом сирот, давала им хлеба. Спала она на узкой доске, а в изголовье клала мешок, наполненный сеном.
Дарья страшно дичилась людей. Она не ездила никуда по гостям и, как только заслышит, что в их усадьбу скачут гости, забиралась в какой-нибудь отдалённый угол сада и там молилась.
Родные находили, что она своими странностями стыдит их, и единственным выходом из создавшегося положения они считали раннее замужество Дарьи. Ей было около пятнадцати лет, и, несмотря на суровое воздержание, она цвела красотой. Дарья не только не думала о замужестве, — в её душе зрела твёрдая решимость навсегда расстаться с родительским домом.
Привыкши жить в себе самой замкнуто, Дарья долго обдумывала, как ей лучше уйти из дому и решила, наконец, скрыться в виде молодого человека.
Она знала из житий святых, что были подвижницы, спасавшиеся в мужском образе, как, например, преподобная Евфросиния, прожившая в мужской обители в течение тридцати восьми лет. Таким подвижницам решила подражать и она.
Был май месяц 1736 года — та пора, о которой сказал наш поэт:
Как хороша Москва весною,
Как хороша весна в Москве.
И эти майские дни, вливающие в душу человека предчувствие и жажду счастья, наполнили стремлением к духовной свободе и душу одиноко страдавшей, в чуждой и тяжёлой для неё обстановке, Дарьюшки.
Однажды Дарья вышла из родной усадьбы незаметно для других, когда сёстры её, вероятно, веселились со своими гостями и не заметили отсутствия Дарьи. Начав путь по просёлку, она свернула на большую дорогу и пошла в Москву, куда для здоровых, молодых ног ходьбы всего лишь несколько суток.
Вот, она в знакомом Кремле, в дорогом Вознесенском монастыре, видит монахинь, подходящих за праздничной всенощной к иконе, и узнаёт свою бабушку, сильно изменившуюся за эти годы.. Она хотела, было, кинуться в ноги старушке, раскрыть ей своё сердце, но передумала, боясь, что бабушка осудит её уход из дому и станет уговаривать её вернуться.
Дарья решилась, не открываясь и бабушке, поступить так, как поступали подвижницы, о которых она читала в житиях святых: принять на себя мужской образ. Она, по выходе из монастыря, остригла себе волосы, купила на базаре мужское крестьянское платье, переоделась в него в укромном уголке и с этого дня уже более не носила женской одежды.
Не спеша, так как теперь она не боялась быть узнанной в случае погони за нею из дому, она побрела в Сергиево-Троицкую лавру, всё более и более загорая по дороге и теряя вид воспитанной барышни богатой помещичьей семьи.
Достигнув лавры, Дарья просила принять её в монастырь, назвавшись беглым крестьянским сыном, но принимать в послушники такого человека монастырские власти не решились, и предложили остаться в лавре тайно на послушании, не приукаживаясь.
Шёл день за днём, месяц за месяцем. Постоянно опасаясь, чтобы её не открыли, жила Дарья в Сергиево-Троицкой лавре, не говоря без особой нужды ни с кем, так как опасалась, что её может выдать её девичий голос.
Родители долго искали Дарью и, конечно, нигде не могли найти её. Были они и в Москве у матери Порфирии, поехали к Сергию-Троице. Здесь в соборе дочь обратила внимание и указала своей матери на молодого серьёзного послушника, который зажигал свечи, уверяя, что этот послушник — сестра Дарья.
Мать, чтобы проверить предположение дочери, просила у одного из начальных монахов прислать к себе этого послушника, но Дарья поспешила скрыться из обители и направила свой путь в заветный для верующих русских — древний Киев…
Многие сотни вёрст, ещё более далёкие тогда, чем теперь, при нынешних быстрых путях сообщения — легли между Дарьей и её родиной, её родными. Она навсегда умерла не только для семьи, но и для Великороссии. И с этих пор мы будем звать её иноческим её именем — Досифеем.
* * *
Вот — Киев, тот Киев, в котором верующее сердце переполняется неизъяснимыми чувствами, над которым почила неотступно благодать первого русского крещения, благодать Пречистой Девы Марии — игуменьи лавры Киево-Печерской, благодать тех изумительных преподобных отцов — подвижников пещер, которых русская земля принесла в чистую жертву Богу, как первый богатый плод своей молодой веры. Вот — высоты киевские, с подымающимися кое-где к небу тополями, что теплящиеся перед Богом Руси неугасимые свечи…
Тополи шелестят сказания о былых временах, о былых, здесь веровавших, трудившихся, к Богу отошедших, неизгладимой славой осиянных отцах. Шёпотом своим славят Богоматерь, благодатью Своей осеняющую Киев,, и творят они, старые тополи, заветную, святую, спасительную молитву Иисусову:
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного».
А под высоким берегом струится, течёт, сверкает на солнце, в глубоком русле своём, Днепр — купель Руси, в котором крестился во Христа и возродился на новую жизнь русский народ-богоносец…
Пещеры, те киевские пещеры, куда в жажде подвига, не развлекаемой молитвы, уходили от солнечного света великие подвижники, для которых Христос, Сын Божий, становился Единственным Солнцем, для которых лик святых и воспоминания об их самоотверженной жизни заменяли небо. Пещеры, из которых лучезарный подвиг их насельников пробился наружу и доныне светит всякой русской, чуткой к святости, душе человеческой.
Что переживал Досифей в своей пламенной, восторженной душе, когда нога его вступила на эту священную почву, когда слуха его коснулся мощный, торжественный напев лаврского клира, когда глаза его узрели священный мрак пещер, а уста коснулись той наместной иконы Успения, которую Владычица мира, в таинственном явлении Своём во Влахерне, Сама вручила в руки братиям-зодчим!
Над Киевом и его окрестностями есть какое-то незаходимое сияние, какая-то покоряющая и невыразимо влекущая благодать, какая-то сила, утоляющая жажду духовную и приковывающая верующее сердце к этим святым местам.
Радоваться здесь тихому сиянию Божией славы с почиющими во мраке пещер преподобными, ликовать душой, ожидая пришествия Христова, чувствовать таинственное присутствие Небесной Игуменьи — Пресвятой и Преблагословенной Девы Марии, со старыми тополями шептать неумолкающие молитвы, растекаться сердцем в благодарности Богу, удивляться мудрости творческой мысли, вылившейся в красотах киевской природы — вот, какая судьба выпала теперь на долю пришлеца Досифея!
«Здесь жить, здесь молить Бога, здесь умереть и лечь костьми»: таково было его решение…
Не скрывая, что он беглый крестьянин, Досифей явился к настоятелю лавры, архимандриту Иллариону, которому понравился скромный и, вместе с тем, смелый вид юноши, но он затруднился принять в число послушников беглого господского человека. Отказал в приёме также и митрополит Рафаил Заборовский, сам великий подвижник, почивающий ныне нетленно в усыпальнице при Софийском соборе и источающий чудеса.
Приняв благосклонно юношу, митрополит объявил, что без отпускного листа от помещика принять Досифея в лавру никак нельзя.
Итак, Досифею оставалось только идти своим особым путём. Преподобные отцы лавры своим примером указывали этот путь: у пещеры за городом, у Китаевской пустыни, окружённой сплошным и густым тогда лесом, Досифей нашёл высокую гору, по имени Китаевскую.
Эта гора была в двух с половиною вёрстах от Днепра, отрезанная от мира дремучими лесами, и с вершины её открывался самый широкий вид, так что в ясную погоду можно было видеть Триполье.
В древности в Китаевской горе были выкопаны пещеры отшельников. Но, не желая поселяться в готовой пещере, Досифей лично выкопал у вершины горы небольшую пещерку и стал жить там, никем не замеченный.
Один старец Китаевской пустыни приносил ему хлеб и воду. Великим же постом Досифей лишал себя и этой пищи. Днём сидел в затворе, а по ночам собирал мох и корни, которыми и питался. Пещера эта была холодная, и никогда не отапливалась.
Господь помог Досифею достичь своего заветного желания — быть постриженным в иночество.
В 1744 году последовало торжественное посещение Киева императрицей Елизаветой Петровной. Она ехала с большим количеством царедворцев, так что под её поезд на каждой станции заготовлялось около полторы тысячи лошадей. Императрица, проведя в дороге из Петрограда месяц, двадцать пятого августа торжественно въехала в Киев, где и пробыла до двенадцатого сентября.
Посещение Киева императрица желала соединить с некоторым богомольческим трудом, а потому иногда выходила по пути из экипажа и по несколько часов шла пешком.
Императрица посетила не раз ближние и дальние лаврские пещеры, Софийский собор и разные монастыри. Наслышавшись о необыкновенно прекрасном расположении Китаевской пустыни и её окрестностей, императрица немедленно же туда отправилась.
Будучи в Китаевской пустыни, императрица услышала рассказ о живущем в пещере молодом монахе Досифее и пожелала посетить его в самом месте его подвига. Так как подъём на Китаевскую гору был крутой, то наскоро набили по горе деревянные колышки, по которым императрица поднялась пешком в гору, как по лестнице.
Императрица благосклонно беседовала с отшельником и, узнав, что он до сих пор не пострижен за неимением документа от помещика, велела немедленно постричь его в рясофор, и сама присутствовала, на другой же день, при самом его пострижении.
Имя, по желанью отшельника, оставлено ему то, какое он объявил раньше, то есть Досифей.
Прощаясь с Досифеем, императрица дала ему полный золота кошелёк. Избегая корыстолюбия, Досифей положил этот кошелёк в глиняном черепке у своих дверей.
Через несколько времени в его окошко постучал благочестивый крестьянин из недальнего села Пирогова, чтобы передать отшельнику принесённую в подаяние пищу. Досифей рассказал крестьянину, что у него была императрица и что-то ему подала. Крестьянин спросил — что именно? И тогда Досифей просил крестьянина посмотреть то, что лежит в горшке.
Крестьянин, с удивлением увидав там золото, уговаривал Досифея принять его. Но отшельник отказался наотрез. И честный крестьянин снёс деньги в Киево-Печерскую лавру.
С согласия Досифея соборные монастырские старцы решили на пожертвованные Досифею императрицей деньги выстроить деревянную церковь в селе Пирогове.
Впоследствии эта церковь сгорела и была заменена теперешней — каменной.
Одинокая келья Досифея не расскажет никому той великой борьбы, которую вёл в ней отшельник-девица, сражаясь с духами злобы и поражая их.
Из опыта других подвижников можно думать, что борьба велась не на живот, а на смерть, и была тяжёлая, трудная, ужасная. Можно с уверенностью сказать, что посещение императрицей Досифея дало ему, во-первых, успокоение духа, так как теперь его, постриженного по воле императрицы и приукаженного к лавре монаха, никто не посмел бы беспокоить и гнать.
Затем это посещение должно было сделать имя Досифея известным.
Народ, чуткий к духовному подвигу и жадно ищущий людей высокой жизни, с тех пор пошёл в бедную пещеру Китаевской пустыни.
В крайне бедных сведениях о жизни и подвигах старца Досифея совершенно безвестными остаются годы его жизни от посещения императрицей Елизаветой Петровной до того, как он является уже известным старцем.
Яркие лучи бросает на эту малоизвестную жизнь встреча старца Досифея с одним из величайших подвижников всего православия во всех его веках, с преподобным Серафимом Саровским, тогда молодым курским жителем, Прохором Сидоровичем Мошниным.
Избранный Богом от детских лет, с детства почувствовав в душе своей «божественное желание», святой отрок рано стал мечтать о монашестве, и в первой юности в нём сложилось окончательное решение уйти от мира.
Он слыхал о строгой жизни Саровских монахов, и ему хотелось поступить в Саров. Но до того он желал поклониться заветным святыням Киево-Печерской лавры, имя которой так тесно связано с именем преподобного Феодосия, проведшего своё детство в Курске. И Прохор Мошнин пошёл в Киев.
Обходя святые места и впивая в себя благодать их, он усердно молился, чтобы Бог вразумил его, куда потом идти, что с собой делать?
Говея в лавре, Прохор услыхал о замечательном человеке, прозорливом старце Досифее, который проживал в затворе уже двадцать шесть лет, в Китаевской пустыни. Сердце юноши затрепетало радостью, когда он услыхал об этом подвижнике. Кто-то сказал ему, что, именно, там он найдёт пророческое слово о своей жизни.
И вот, Прохор Мошнин стоит перед старцем Досифеем, как некогда юный Феодосий стоял перед отцом русского монашества, преподобным Антонием Печерским.
Когда, в кратких словах, Прохор открыл затворнику причину своего прихода: как ясно должны были вспомниться Досифею собственные прошлые годы, его тогдашнее стремление уйти подальше от соблазнов мира и погребсти себя в тихой обители.
И, вот — открылись пророческие уста, и отец Досифей сказал то слово, которое определило путь жизни юного Прохора Мошнина:
— Гряди, чадо Божие, в Саровскую обитель и пребудь там. Место сие будет тебе во спасение. С помощью Божией скончаешь там своё земное странствование. Только старайся стяжать о Боге непрестанную память и постоянно призывай имя Его тако: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного»… В том да будет твоё внимание и обучение! Ходя, и сидя, и стоя в церкви, да будет сие непрестанное твоё во устах и в сердце. С ним найдёшь покой и приобретёшь душевную и телесную чистоту. И тогда вселится в тебя Дух Святый, и управишь жизнь свою во всяком благочестии и чистоте…
Затем старец прибавил:
— Там, в Сарове, настоятелем отец Пахомий. Он богоугодной жизни и последователь преподобных отец наших Антония и Феодосия…
В акафисте преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу, это событие вспоминается в следующих словах:
«Имея тщание о подвизе иноческого равноангельского жития, во град святый Киев поклонения ради преподобным Печерским притекл еси, и от уст преподобнаго Досифея повеление приимь в пустыню Саровскую путь свой управити, верой издалеча облобызал еси место святое сие и тамо вселився, житие твое богоугодно скончал еси…»
Преподобный Серафим придавал большое значение поминовению усопших и учил духовных детей своих поминать лиц, к которым он благоговел при жизни. И для тех, кто — из усердия к памяти преподобного Серафима — на панихидных молениях или, ещё того лучше и выше, за проскомидией поминает имена близких к старцу людей — его родителей, Исидора и Агафью, его духовных старцев, Пахомия и Иосифа, и Дивеевскую первоначальницу, мать Александру, сделает хорошо, если к этим именам прибавит и имя того, кто словом своим направил старца на путь, по которому он достиг столь высокой степени богоугождения — монаха Досифея…
Через два десятка лет после того, как Досифей начал затворническую жизнь, он ещё раз увидел перед собой свою сестру.
Родители Тяпкины к тому времени умерли, и в одиночестве своём их дочь решилась побывать в Киеве.
Так как много богомольцев, искавших духовного утешения, посещали затворника Досифея, то пришла к нему и Тяпкина. Стала поверять ему свои семейные несчастия, рассказала и о том, что у неё давным-давно пропала неразысканная доселе сестра.
В беседе своей затворник не показал сестре своего лица, и потому остался ею неузнанный. Но он дал ей совет не допытываться о судьбе сестры, так как она могла скрыться из дому, чтобы угодить Богу.
Вскоре вышел приказ; запрещавший где бы то ни было жить людям отшельнической жизнью. И, повинуясь этому приказу, лаврский начальник предложил Досифею переселиться в лавру. Там, оставаясь верным своему образу жизни, Досифей поселился в дальних пещерах.
Келейником к затворнику был приставлен монах Феофан. История этого Феофана замечательна. Он происходил из семьи малорусских поселян, и двенадцати лет, с братом и сестрой, остался сиротой. Шестнадцати лет он уже сделался самостоятельным хозяином.
Однажды, во время работы в поле, он почувствовал в душе Божественный призыв и — тогда, сейчас же распрягши волов, он ни с кем не простившись никого не предварив, ушёл с родины в Киев, определился в лавру и, прожив там семнадцать лет, был приставлен келейником к отцу Досифею.
Многим попользовался он душевно от великого подвижника. У него было желание посетить Святую Землю, и когда он открылся в этой мечте своей затворнику, прозорливый отец Досифей сказал, что ему нет пути в Иерусалим, а предложил отправиться в Молдавию, причём — велел идти на «Подол» («Подол» — лежащая книзу от главного, возвышенного квартала города низменная часть Киева) и привести к нему двух молдавских иноков, которых он там найдёт.
Действительно, на «Подоле» оказались два инока, из которых один был другом знаменитого возобновителя монашества старца Паисия Величковского, архимандрита молдавских монастырей.
Прислуживая по дороге старцам, Феофан достиг Немецкого монастыря отца Паисия. Видя здесь высокую жизнь братии, ему хотелось остаться в Молдавии, но отец Паисий послал его в Россию, чтобы послужить перед смертью старцу Досифею.
Перед концом своим отец Досифей посоветовал ему, по погребении своём, идти на север и поступить в Соловецкую обитель.
Сперва Феофан не исполнил совета старца, и думал остаться в Киеве. Он выкопал себе пещеру, но ему не позволили там жить; думал устроиться в Китаевской пустыни, но и там его не стали держать. И он был вынужден тогда по обстоятельствам исполнить то, чего не исполнил из послушания к старцу.
В Соловках проводил он подвижническую жизнь, пребывая в пещере и в пустыни. Приобретя широкую известность своей подвижническою жизнью, он скончался двадцать шестого июля 1819 года.
Отец Феофан был свидетелем следующёго случая прозорливости отца Досифея.
Раз отец Досифей велел принести от пономаря Великой лаврской церкви ладана, употребляющегося во время каждения при Херувимской песни. Когда ладан был принесён, отец Досифей разложил его у себя на окне и стал раздавать его всякому киевлянину, приходившему к нему за благословением. При этом — приказывал хорошенько покурить во дворе, так как скоро начнётся мор, и люди станут умирать, как мухи.
Действительно, в конце 1770 года появилась в Малороссии моровая язва, распространявшаяся с большой силой. Но все люди, которые получили от Досифея ладан, остались живы со своими семействами.
Пустыннолюбивая душа Досифея томилась в лавре и, в 1775 году, он стал проситься о переходе снова в Китаевскую пустынь. На это последовало согласие.
Есть предание, что лаврское начальство даже было радо теперешнему удалению Досифея из Киева. Говорят, что он в то время исполнял обязанности лекаря, и его хотели сделать иеродиаконом. Он отказался. И, чтобы избавить себя от таких дальнейших предложений, даже стал юродствовать, бегая по улицам и обличая народ. Чтобы избавиться от юродствующего монаха, начальство было радо удалению его в глухую пустынь.
Последний год жизни отец Досифей провёл в ещё более строгом воздержании и не перестающей молитве. Когда он почувствовал приближение смертного дня, то, выйдя из затвора, он обошёл все кельи Китаевской братии. Появляясь на пороге каждой кельи, он падал на колени, испрашивая себе прощения.
Всю ночь он, затворившись, пел у себя в келье псалмы и читал разные каноны, а на рассвете почил с молитвой на своих устах.
Когда, поутру, пришёл Феофан и постучался в запертую дверь, ему не отворили, и старец не откликнулся. Феофан созвал Китаевскую братию, дверь была открыта, и тогда увидели затворника. Он стоял на коленях перед иконой, озарённый огнём лампадки, словно застывший в молитве.
В левой руке у него была хартия, и на этой хартии написаны слова: «Тело моё приготовлено к напутствованию вечной жизни; молю вас, братия, не касаясь, предать его обычному погребению».
Это завещание было исполнено. Тело, не обнажая, и не омывая, положили во гроб, и схоронили на кладбище Китаевской пустыни; затворник почил двадцать пятого сентября 1776 года, на пятьдесят шестом году своей жизни.
Тайна жизни Досифея осталась бы не открытой, если бы Бог не привёл промыслительно в Киев во второй раз его сестру. Не застав в живых старца, с которым она уже раз беседовала, она поинтересовалась узнать о его жизни и посмотреть на его портрет.
Несмотря на столько протекших годов, она в чертах монаха Досифея узнала свою сестру Дарью. И тут только стало известно, что Досифей был не монах, а дворянская девица Дарья.
Имя Досифея более чем через сто с четвертью лет после его кончины пользуется большим почитанием, и часто служатся панихиды у бедной гробницы его.
Так, и в нашей русской земле, подобно тому, как было в первых заветных веках христианства, нашлась подвижница, спасшаяся в мужском образе.
Иеросхимонах Алексий
Близ Москвы, а теперь, с расширением города, почти сливаясь с ним — лежит на берегу Москвы реки ставропигиальный, то есть независимый от московского митрополита, древний Симонов монастырь.
Монастырь этот основан родным племянником преподобного Сергия Радонежского, Феодором, который был впоследствии архиепископом Ростовским, причислен к лику святых и покоится в кафедральном ростовском соборе нетленными мощами своими.
Благоволение великих князей к этой обители, объясняемое — прежде всего — личностью её основателя и близкой связью великокняжеского дома с преподобным Сергием, доставило обители исключительное процветание. Она соединяет в себе близость к городу с некоторой отдалённостью для того, чтобы быть достаточно защищённой от мирской суеты.
Москвичи любили навещать обитель, которая — при некоторых настоятелях — славилась истовой своей службой и превосходным пением.
Одно время Симонов монастырь привлекал внимание набожных москвичей и даже иногородних лиц нахождением в нём одного из крепких русских подвижников, иеросхимонаха Алексия, который здесь доживал свои последние дни и здесь почил блаженной кончиной.
Иеросхимонах Алексий, в миру Василий Иванович Елинский, родился в 1722 году, в селе Орле на реке Каме, Соликамского уезда, Пермской губернии, в семье небогатых мелкопоместных дворян.
Отца своего мальчик потерял в двухлетнем возрасте, мать его вскоре вступила во второй брак и детей своего мужа — маленького сына и двух дочерей — она поручила брату первого мужа, который стал распоряжаться также и детским имением.
Человек недобросовестный, он продал землю сирот и лично воспользовался вырученными деньгами, а сиротам не оставил ничего. Так как в семье дяди пришлось терпеть детям притеснения, то детство это прошло не весело.
На седьмом году мальчика стали обучать грамоте. Он был понятлив и прилежен, выучился грамоте скоро и особенно любил читать божественное. Учил его местный священник, который, заметив его любовь к чтению, стал давать ему книги, какие были у него самого.
Особенно сильное впечатление производили на мальчика Четьи Минеи св. Димитрия Ростовского. По ним познакомился он с множеством людей, которые в разных обстоятельствах, счастливые и несчастные, богатые и бедные, знатные и простые — единственною целью своей жизни ставили угождение Богу.
Неподалёку от того места, где он жил, находился мужской монастырь. Мальчик любил ходить к церковным службам, присматриваясь к жизни иноков. Монахи ласкали добронравного мальчика, сажали его с собой за трапезу, и простые кушанья их казались ему лучше домашней пищи. Во время трапезы читались вслух душеполезные книги, из которых он узнавал много полезного для себя.
Дома были недовольны тем, что он так часто отлучается в монастырь. Ему за это выговаривали; мальчик молча выслушивал эти выговоры и продолжал потихоньку посещать монастырь.
Однажды, опечаленный этими препятствиями, он зашёл в одиноко стоявшую за воротами монастырскими часовню и пред распятием стал молиться от всей души, чтобы Христос склонил сердца его домашних не мешать ему посещать обитель. После долгой молитвы он ощутил какое-то необыкновенное успокоение и в первый раз почувствовал тут силу истинной сердечной молитвы,
И с тех пор всякий раз, как он посещал обитель, он — прежде всего — заходил в часовню и там, пред ликом Спасителя, изливал в молитве свои скорби и желания, и всегда получал новые силы для житейской борьбы. Он молился также словами псалма, чтобы Бог даровал ему «сердце сокрушенно и смиренно» и чтобы помог ему найти верный путь спасения.
Когда родные убедились, что посещения монастыря не мешают Василию прекрасно учиться, они перестали придираться к нему.
В этом мальчике уже тогда совершенно ясно было монашеское устроение души. Его никогда не видели смеющимся или болтающим, или ропщущим, или ссорящимся. Он был доволен всем, что ему подавали, был всегда послушен и покорен.
Всего больше книг он брал у монастырских старцев, и чтение так захватывало его, что нередко он плакал над книгами по ночам. Особенно умиляла его книга Ефрема Сирина. Над ней он познал радостные слёзы и часто плакал и над творениями других св. отцов. Уже в столь ранние годы ему пришлось вытерпеть тяжёлое искушение. Днём ему молиться было нельзя, так как его увидели бы его домашние, — он мог молиться только по ночам. И, вот — враг рода человеческого стал наводить на него, во время ночной молитвы, страх.
Едва становился он на ночную молитву, как от страха весь застывал, холодел, испытывал головокружение. Но, принуждая себя молиться, учащая поклоны, он успокаивался, и страх исчезал. Он вскоре убедился, что страх этот — наваждение врага, стал с ним бороться и победил.
Вскоре после этих событий ему было знаменательное сновидение. Он видел светлого юношу в белой одежде и безобразного эфиопа, ведших между собой спор. Юноша приказал ему бороться с эфиопом, а он отказался из-за немощи своей.
— Иди смело, — сказал тогда светлый юноша: — Бог поможет тебе одолеть и попрать врага.
Перекрестившись, Василий вступил в борьбу и низложил противника. Когда он проснулся, он долго думал о значении этого сна и решил, что этот сон заключает указание на его судьбу, и что ему много будет впоследствии препятствий и борьбы. Со времени этого сна он стал особенно строг к себе, избегал осуждать кого-нибудь, особенно чутко следил за своей совестью.
Самым понятным, при таком настроении, для Василия было бы вступить в обитель. Но родственники его определили его в военную службу, где он прослужил более двадцати лет.
Военная среда не соответствовала его наклонностям, но он хранил себя от вредных бесед и других соблазнов. Сколько было возможно при служебных требованиях, он читал, как раньше, душеполезные книги, хранил посты, старался посещать храм, оберегал себя от помыслов нечистых, хранил чистоту нравственную, телесную и мысленную и, как раньше, молился по ночам.
Он преднамеренно, из смирения, уклонился от офицерского чина, и, служа рядовым, считал эту службу подготовлением к монашеству. Он говорил себе, что Господь Иисус Христос пришёл на землю в образе раба и что, чем ниже будет, его звание на земле, тем ближе будет он к Богу.
Товарищам не нравилось поведение Василия. Они старались склонить его к тому, чтобы он вёл себя одинаково с ними, и иногда его завлекали на попойки, старались развратить его соблазнительными зрелищами. Раз, за отказ пьянствовать с ними, они жестоко его избили. В другой раз он избег падения нравственного тем решительным способом, как некогда Иосиф Прекрасный, оставивший в руках соблазнительницы часть своей одежды.
Все такие выходки товарищей Василий великодушно прощал, молясь, чтобы Бог не взыскивал с них вину.
Во время стоянки Ширванского пехотного полка в городе Волхове, Орловской губернии, Василий получил назначение, которое совершенно не соответствовало его взглядам и стремлениям; он был зачислен полковым музыкантом, являющимся невольным свидетелем весёлых попоек и всяких оргий, когда — для потехи офицеров — призывалась военная музыка и играла целые ночи. Однако случившаяся с ним тяжёлая болезнь избавила его от этих неприятных ему обязанностей.
Недалеко от Болхова лежит Оптин монастырь, который он часто навещал. Однажды, отстояв там утреню, он забылся лёгкой дремотой и видел, как словно несколько иноков в ризах постригали его в монашество и сказали друг, другу: «он свято понесёт это иго и будет истинным монахом». Тут Василий проснулся и объяснил себе этот сон тем, что пришло для него время начать иноческую жизнь.
В это время в Волхове была известна некоторая Феврония, которая несла тяжёлые подвиги юродства во Христе; она отличалась даром прозорливости.
Однажды Василий встретил её на улице, упал ей в ноги и просил дать ему совет, как спастись?
Юродивая пристально посмотрела на него и, отложив на этот раз свой обычай, сказала ему:
— Молись Богу, молись усердно, без лени, храни чистоту, возлюби воздержание, упражняйся в смирении, почитай себя худшим и недостойнейшим из всего мира и тщательно исполняй свои обязанности.
К этому она прибавила ещё нечто, что сбылось над ним буквально. Юродивая благословила его, обещала молиться за него и — в свою очередь — просила, чтобы он поминал её в молитвах пред престолом Божиим. Так предсказала она о его будущем священстве.
Занятий в полку было тогда мало, Василию оставалось много свободного времени и он отлучался беспрепятственно из полка, обходя в это время монастыри, и посещая монастырских старцев-подвижников.
Уже в то время Василий налагал на себя тяжкие подвиги, иногда зимой он, по целым ночам, босой стоял на молитве на церковной колокольне, подражая терпению древних столпников. Никем не замеченный, он затем с колокольни сходил к началу утрени в церковь, выстаивал утреню, литургию и затем уходил за город, в пустынное место, где его никто не мог найти, и тут упражнялся в богомыслии, посте и слёзных молитвах.
Случалось ему заниматься ловлей рыбы в ближайшей реке; выуженную рыбу он продавал торговцам, а деньги раздавал нищим.
В полку как-то все привыкли к его отлучкам. Никто его не требовал, и такая жизнь могла бы продлиться долго, если бы полк не был внезапно переведён в Москву.
Василий был опечален. Он чувствовал, что в Москве будут порядки иные, и что нельзя будет ему надолго уходить из полка. Кроме того, он боялся расплаты за прежние долговременные отлучки. Запасшись мужеством, он пошёл к своему ротному командиру, открыл ему своё намерение начать духовную жизнь и просил его помочь ему уволиться из военной службы. Капитан обнадёжил его тем, что выхлопочет ему в Москве отставку и дал предписание следовать ему в обозе, с его вещами. Но тут случилось препятствие: вышел приказ, которым, по случаю объявления военных действий, воспрещалась отставка нижним чинам.
Не теряя надежды, Василий пошёл к командиру своего полка, имевшему чин генерала, и просил его способствовать его увольнению. Генерал, разгневавшись, выгнал его вон. Оставался только один исход — бежать из полка, на что Василий было уже и решился. Но никаких важных шагов он не предпринимал без совета старцев и на этот раз он открыл своё намерение одному старцу-подвижнику. Старец не благословил его тайно оставлять полк, посоветовал ему ещё потерпеть недолго и высвободиться от военной службы законным порядком.
Он пока остался в довольно тяжёлом положении. Генерал на него гневался, товарищи и сослуживцы сторонились его, как опального. Наконец, в этом невыносимом положении он встретился с одним незнакомым ему человеком, который привлёк его к себе своим благоговейным видом. Познакомившись с ним, он почувствовал в нём человека духовного настроения и открыл ему своё горе. Тот посоветовал поскорее поступать в монастырь, пока не прошла та ревность, которая вспыхивает иногда в человеке ненадолго и потом быстро угасает. Он вызвался получить для его дела помощь у Иннокентия, епископа Псковского, который любил помогать людям духовного устроения.
Не сразу был допущен Василий к преосвященному. Челядь архиерейская посмеялась над намерением солдата идти в монахи. Преосвященный обошёлся с ним иначе. Он внимательно расспросил его обо всём. Оказалось, что начальник его близко знаком ему, и преосвященный написал этому генералу письмо, которое должен был передать ему в руки сам Василий.
У генерала он тоже был допущен не сразу. Когда же, наконец, предстал пред генеральские очи и снова повторил ему свою просьбу, генерал вторично ему отказал. Когда же Василий протянул ему письмо преосвященного Иннокентия, генерал сразу изменился, обещал принять прошение Василия об отставке и поддержать его.
Вскоре затем был получен из консистории указ о перечислении солдата Василия Блинского в духовное ведомство, и об отправлении нужных документов в Площанскую пустынь, Орловской епархии, куда он и отправился. Таким образом, уладились все препятствия, и сбылось давнее его душевное желание.
Настоятелем Площанской пустыни в то время был отец Иоиль, который радушно принял его и назначил ему послушание на поварне.
В одно время с Василием вступил в Площанскую пустынь послушник Иоанн, из болховских мещан, принявший впоследствии постриг с именем Ионы, бывший доверенным и сподвижником старца до его кончины и сохранивший сведения о его жизни. Истинная приязнь связала обоих и не изменила им до гроба. Так как Василий был уже опытен в подвигах духовных и вёл монашескую жизнь, можно сказать, в миру он во многом служил Иоанну наставником б продолжение первых четырёх лет они несли послушание рядом, Василий поваром, а Иоанн — хлебопёком. Нравственные, смиренные, они привлекли к себе внимание настоятеля и старцев обители. И по взаимной приязни их многие, глядя на них, вспоминали великую духовную дружбу, связывавшую святителей Василия Великого и Григория Богослова, имевших как бы одну душу в двух телах. Они дали друг другу обещание никогда не разлучаться и вместе нести монашеские подвиги.
В Орловской епархии в то время не было монашеской вакансии, и Василий, как старший летами, должен был принять постриг раньше Ионы. Он перешёл на время в Москву, в Симонов монастырь, где, в 1772 году, в пятидесятилетнем возрасте был пострижен в мантию, с именем Адриана, вскоре был рукоположен в иеродиакона и иеромонаха, и в этом сане вернулся в Площанскую пустынь.
Его душа жаждала истинной пустыни, не нарушаемой тишины, непрерываемой молитвы. И — по возвращении в Площанскую пустынь — он, оставив обитель, поселился в уединённой келье в лесу.
Он избегал посещения братии и мирян и, с двумя единомыслящими послушниками и неизменным другом своим Ионой, ушёл в дремучий и непроходимый в то время Брянский лес.
В лесной чаще, при светлом роднике, они отыскали место, удобное для жизни пустыннической. Столетние ели были им вместо ограды, и дикость того места восхищала и радовала их.
Они выпросили у одного благочестивого помещика, которому принадлежал этот лес, деревья для постройки келий, и Адриан отправился в Площанскую пустынь, чтобы возвратить монастырских лошадей, на которых они привезли свои убогие пожитки, а Иона с двумя послушниками рубил деревья, подготовляя их для постройки. Адриан остался в Площанской пустыни дольше, чем предполагал, и тем доставил немало беспокойства Ионе и товарищам. Послушники эти даже возроптали на старца и собирались вернуться в обитель, так что Ионе немало труда стоило уговорить их немного подождать и вернуться в монастырь уже вместе.
Как-то в полночь, греясь у разведённого огня, послушники сетовали на то, что старец оставил их одинокими в новом для них месте. Иона утешал их, убеждая, что старец никогда этого не сделает и в обители задержан чем-нибудь важным. Вдруг, донёсся до них стук, словно кто ударял палкой о палку. Они подумали, что на них собираются напасть разбойники и не знали, как им беззащитным быть? Продолжая прислушиваться, они услыхали окликающий их человеческий голос, и в этом голосе они с радостью узнали голос старца. Он заблудился в лесу и, ударяя посохом о деревья, давал знать о себе. Они окликали его, пока Адриан не нашёл тропинку, которая вела к их временной хижине.
Как радостно встречали своего старца и руководителя эти трое пустынников, с какими слезами рассказывали ему о пережитых ими беспокойствах. Тут же была совершена всеми благодарственная молитва с просьбой, чтобы бог дал им пожить вместе во спасение душ их.
Отец Адриан призвал плотников из ближнего села, и из приготовленных заранее учениками деревьев была срублена изба, где началась строгая и суровая жизнь пустынников в лесу.
Трудно было ученикам привыкать к этой жизни. Постоянные долгие ночные бдения с пением псалмов и молитв, крайняя, нищета, недостаток наинужнейших вещей — всё склоняло их к ропоту. Но отец Адриан спокойно переносил этот ропот, убеждая учеников не унывать и продолжать суровую жизнь их.
Когда, через год, ученики несколько попривыкли к строгой жизни, старец положил им следующее правило: — чтобы в пустыни употреблялось одно сухоядение и чтобы из мира в пустынь никто не вносил скоромной пищи; и если какие-нибудь миряне и подадут отшельнику такую пищу, то отдавать её первому встречному на пути. Если же встречного не окажется, то класть эту пищу на дороге, молясь Богу, чтобы нашедший воспользовался всем этим спокойно и на пользу.
Сперва братия ревностно исполняла положенное старцем правило, но вскоре едва не нарушила его.
Одна добрая женщина в праздник Рождества прислала пустынникам сыр, масло и яйца. Ученики не нашли в себе силы противостоять искушению и просили старца в этот великий праздник разрешить им воспользоваться этими припасами в самый последний раз, чтобы затем уже неукоснительно соблюдать его заповедь.
Замечателен ответ, который старец дал тогда ученикам: «Не будет на то вам моего благословения, чада. Или не знаете, что данные Богу обеты нужно исполнять нерушимо и, дав их однажды, не увлекаться встречающимися соблазнами? Они от диавола, который нарушением обета ищет погубить души человеческие. Для чего мы оставили мир, для чего ушли из своего монастыря в эту пустыню? Не для того ли, чтобы узким и скорбным для плоти путём самоумерщвления стяжать небесное царствие? Для того, именно, и поселились мы здесь, чтобы свободнее и строже исполнять подвиги иноческие, почему твёрдо да помним, что за нерадение наше подвергнемся строжайшему осуждению, чем в общежитии монастырском. Мужественно и терпеливо понесём принятый нами крест вслед возлюбленного Господа Иисуса, и ради Него отвергнемся мирских пристрастий, которыми обольщаются чувства, расслабляются ум и воля. При находящих на нас искушениях, когда коварная плоть захочет нам изменить и повлечёт нас к угождению ей, вспомним о великих мучениях святых мучеников, которые из любви к Богу терпели лютейшие страдания, нещадно изливали свою кровь и радостно полагали свою жизнь: вспомним древних пустынножителей, преподобных и богоносных отцов наших; как они плоть свою изнуряли строгим постом, терпели лишения, как бы бесплотные, и в награду за это — удостоились высших даров Божией благодати. Воззрим на подвигоположника нашего — Господа Иисуса Христа, Который нас ради алкал и жаждал, терпел нищету, изгнание, поношение, оплевание, заушение, биение и, наконец, крестную смерть претерпел. После всего этого, ради обольщающей нас снеди, неужели сделаемся клятвопреступниками и, рабами своего чрева? Пример нам — праотец Адам, который за вкушение приятной взору снеди изгнан был из рая сладости и всю жизнь свою горькими слезами оплакивал своё падение. Если и жесток кажется нам избранный нами путь, будем терпеть его жестокость, ибо сами добровольно его избрали для своего спасения».
Эти сильные слова старца заставили раскаяться его учеников. Они, обливаясь слезами, тут же решили возвратить присланные припасы и, не сожалея о них, с радостью поели своей обычной пищи, то есть сухарей, размоченных в воде.
Молитвенное правило исполнялось так, что ежедневно вычитывались все службы по церковному уставу, кроме Божественной литургии.
В глубокую полночь читалась положенная полунощница с утреней; около полудня — часы с обедницей; перед вечером — повечерие, а с наступлением ночи прочитывались двенадцать псалмов и обычный канон Господу Иисусу Христу и Пресвятой Богородице, ангелу хранителю, молитвы на сон грядущий и помянник, клались многочисленные земные поклоны с молитвой Иисусовой.
Со своим живым воображением старец любил молиться там, где самая обстановка возводила душу к Богу.
Так, он особенно любил, окружённый своими учениками, молиться ночью на открытом воздухе, среди торжественного безмолвия лесной чащи.
Как хорош и необъятен был этот богозданный храм. Небо вставало над ним безграничным сводом. Звёзды, казалось, дрожали, охваченные вместе с иноками молитвой, и лесные великаны вытягивались, как усердные свечи. Часто молитве иноков подпевали лесные птицы, а неумолчно шумящая листва, казалось, творила непрестанную молитву Иисусову.
Вообще, жизнь этих пустынников в Брянских лесах заставляла вспомнить о лучших временах монашества, об отцах древней Ливии и Фиваиды, с их иноками, жившими — казалось — вне естества.
Подвижник, покоривший всецело свою волю Господу и стяжавший через это мирный дух, действует успокоительно не только на одних людей, но и на всех зверей, приобретая тем власть над всеми необузданными и дикими зверями, ютящимися в пустынях и злобно относящимися к человеку.
Когда Адам изменил Творцу в грехопадении и был проклят Господом и изгнан из рая, — тогда и самая тварь возмутилась против него, стихии вышли из его повиновения и стали ему враждебны, а те звери, которые раньше лизали ему ноги, стали грозить отверженному от Бога человеку смертью.
Но когда люди возвращают себе благодать Божью и становятся вновь избранными детьми Божиими — к ним возвращаются утраченные благодатные дары, и они снова являются распорядителями вселенной и владыками зверей.
Такого блаженного состояния достиг и отец Адриан, так что звери подчинялись слову его.
Однажды, в лесу, дорогу старцу преградили три медведя. Старец погрозил им своей палкой, приказал им — именем Божиим, чтобы они, твари бессловесные, уступили ему, одарённому подобием Божиим. Смирились дикие животные пред словами его и, поведя по своему обычаю головой вниз, расступились и отошли в сторону.
Был ещё другой случай. Медведица, с тремя медвежатами, была испугана приближением старца к её логовищу. Она было, рыча, поднялась на задние лапы, чтобы защищаться. Старец бесстрашно погрозил ей опять своей палкой, приказал ей — именем Божиим — отойти, и медведица немедленно исполнила это приказание.
Как-то раз старец со своим сопостником Ионой в глухой чаще леса собирали грибы и ягоды, которые составляли главную часть их пустынной трапезы. Во время этой работы они встретили шедшую на них громадную медведицу. Иона донельзя перепугался и бросился к старцу с криком: «Отче, мы погибли, смотри, какой зверь идёт на нас!» Адриан успокоил его, двинулся навстречу медведице, осенил себя крестным знамением и приказал медведице отойти. Она тотчас пошла назад и, будто гонимая невидимой силой, большими спешными шагами скрылась в тёмной лесной чаще.
Вот, ещё замечательный случай. Один помещик, помогавший старцу, послал к нему своего слугу верхом с письмом. Чтобы дойти до лесного убежища пустынников, надо было переправиться по плоту через реку. При этом слуга пеший переправил лошадь и, когда уже они были на другой стороне реки, вложил ногу в стремя, чтобы вскочить в седло и ехать дальше. Тут лошадь внезапно понесла, волоча за собой всадника, нога которого запуталась в стремени и который головой бился о землю.
Положение его было отчаянное. И вдруг он начал кричать: «отцы пустынные, помогите!»… Немедленно лошадь остановилась, как вкопанная, а спасённый рассказывал отцу Адриану и его ученикам о том, что с ним случилось.
Один соседний помещик прислал старцу запас хлеба и огородных овощей. В осеннюю непогоду и бездорожье крестьянин, вёзший этот запас, сбился с пути. Оставив лошадь в лесу, он стал ходить кругом, чтобы напасть на дорогу и, при этом, в наступившей темноте потерял и лошадь. Мысленно он поручил свою кладь пустынникам, которым она предназначалась, а сам пробродил всю ночь по лесу, отыскивая дорогу. Под утро он, измученный, нашёл повозку, которая стояла с нетронутыми лошадьми, хотя вокруг были слышны завывания волков.
Все такие случаи старец приписывал молитвам своих учеников и, постоянно ободряя их, уговаривал их не падать духом.
Старец любил лишения и жил в лишениях. У него не было тёплой одежды, тёплой обуви. Он летом и зимой ходил одинаково в ветхой суконной одежде, босой и в таком виде являлся на двадцать-тридцать вёрст от своей пустыни к окрестным помещикам.
Зимой — от стужи и снега, от колючего льда, по которому приходилось иногда ходить, ноги растрескивались, и из них шла кровь. Летом часто на них были язвы от заноз и уколов древесными иглами, так как приходилось пробираться по лесу без дороги.
Ученики постоянно упрашивали старца надевать обувь и не истощать себя такими переходами. Но он успокаивал их, что всё это ему в привычку, что легче ему самому ходить в мирские селения, чем посылать своих учеников, которым там есть много случаев соблазна.
Путешествуя босой по грунту, растравлявшему ему ноги, старец, чтобы скрыть свой подвиг от людей, имел с собой в котомке обувь и надевал её при входе в селение. Ученикам же своим строго запрещал рассказывать о суровости своей жизни.
Восемь лет продолжались подвиги отца Адриана в Брянских лесах. Когда стали рубить лес, окружавший его хижину, и постоянные посетители всё более нарушали его безмолвие, — старец перешёл в другое лесное место, принадлежавшее другому помещику. Этот помещик принял его ласково и также дал ему деревья, нужные для устройства хижины.
Вёрстах в десяти от кельи отца Адриана жил другой пустынник, Варнава, имевший при себе одного ученика, и особенно любивший безмолвие.
Старец Варнава был недоволен тем, что у него появились соседи, так как к отцу Адриану ходило много монахов и мирян, а старец Адриан с любовью принимал этих посетителей.
Ища любимого безмолвия, отец Варнава перешёл от прежнего места далее вёрст на сто, что причинило огорчение Адриану, который уважал этого пустынника.
Неожиданный случай свёл их вместе. Наступил голодный год, и отец Варнава должен был перенести своё жительство поближе к селению.
Придя к отцу Адриану, он просил его разрешить поселиться близ его кельи. Старец принял его с любовью, и оба они согласно несли свои подвиги, пока отец Варнава не погиб от руки разбойников.
Разбойники, в тёмную осеннюю ночь, напали на хижины пустынников, в которых думали найти деньги. Сперва они ограбили келью Адриана, потом кинулись к Варнаве и, ничего не найдя у них, жестоко их избили.
Отец Адриан был более крепок телом и оправился от жестоких побоев, а отец Варнава, который был старше его и слабее, через десять дней умер от последствий побоев.
Горько оплакивал отец Адриан своего сподвижника, с которым он так недолго пожил. Со своими учениками он отпел тело этого невольного мученика и схоронил его около своей кельи.
Проведя тут зиму, старец с весны решил оставить это небезопасное место и отправился в Рославльские леса, Смоленской губернии, сопровождаемый учениками.
Местные жители слышали уже об его подвигах и позволили ему поселиться, где ему покажется лучше. Он выбрал глухую чащу в Рославльских лесах. При помощи благодетелей, старец выстроил две избы. В одной собирались на молитву, ей был придан вид часовни. Некоторые из почитателей старца предлагали ему устроить даже на свой счёт небольшую церковь и тем положить начало иноческой обители. Но старец не шёл на это предложение, и говорил, что на это нет воли Божией.
И, действительно, его предвидение оправдалось, так как ему не долго пришлось здесь жить.
В Смоленской епархии иноки, обыкновенно, не отлучались из обителей для пустынной жизни, и потому поселение в лесах отца Адриана с учениками казалось странным и гражданским, и духовным властям.
Первым против него выступило духовенство. Священники расспрашивали о нём у помещика, который ему помогал и, по отзывам о строгой жизни пустынников, приняли их за раскольников, которые привлекают в свой раскол и самих помещиков.
Вероятнее всего, что по их проискам местная полиция донесла, что в лесу живут люди, которые выдают себя за монахов, отправляют богослужения по-раскольничьи и привлекают к себе народ.
Для проверки этого доноса к помещику, которому принадлежал лес, где находилось Адрианово убежище, приехал исправник и стал разузнавать, каких монахов он держит в своём лесу. Помещик рассказал о благочестивой жизни старцев, о том, что давно знает этих монахов за истинных подвижников, предложил посетить их.
В келье старца исправник стал грубо спрашивать отца Адриана, кто он, откуда пришёл и, если монах, то отчего не живёт в монастыре?
— Мы не беглецы и не изгнанники, — ответил старец со смирением и вместе с твёрдостью: — мы пострижены в Площанской пустыни и с благословения настоятеля вышли из монастыря, чтобы жить в безмолвии и уединении. Это пустынное место мы избрали потому, что оно удобно для жизни отшельнической. Мы, хотя и грешные рабы Христовы, но желаем подражать святым мужам, которые от соблазна мира скитались в пустынях, горах, вертепах и пропастях земных. Не мешай нам жить здесь, и Христос, Который обещал награду Свою за чашу воды, поданной человеку во имя Его, и тебя не лишит награды!
Кроткая и твёрдая беседа старца понравилась исправнику. Отшельник показал ему свой вид с разрешением на жизнь пустынническую от Площанского настоятеля, и исправник обещал не тревожить их. На следующий день, в знак уважения к старцу, исправник послал ему мешок пшеничной муки.
Но дело не кончилось посещением исправника. Соседние священники послали донос преосвященному Смоленскому Парфению, и старца вызвал к себе архиерей и принял его очень недружелюбно.
На вопрос преосвященного, кто и откуда он, давно ли живёт в Смоленской епархии и с чьего разрешения, старец, упав в ноги архиерею, рассказал ему о том, как началось его отшельничество и как он из Брянских лесов пришёл в лесную дачу помещика Храповицкого.
Епископ тогда объяснил, что он должен или перейти в ведомство Смоленского епархиального управления или уходить из пределов епархии.
Не давая епископу окончательного ответа, старец просил у него позволения переговорить об этих делах со своими учениками.
Когда старец, вернувшись к себе, рассказал отцу Ионе и другим сподвижникам о предложении архиерея, они объявили, что они на всё согласны, только просят не оставлять их. Старец высказал боязнь, что вследствие недостатка в Смоленских монастырях монахов, архиерей, получив отшельников в своё ведение, разошлёт их в разные стороны и не позволит им оставаться в лесу.
Долго раздумывали и толковали иноки, и тут Иона вспомнил, что он хорошо знаком с Феофаном, келейником митрополита Петроградского и Новгородского Гавриила, горячим почитателем монашества (впоследствии Феофан стал архимандритом Кириллова Новоезерского монастыря).
Помимо склонности к истинному монашеству отца Феофана, сам митрополит Гавриил был покровителем иноков и с особенной любовью принимал и успокаивал у себя странников.
Отец Иона вызвался написать отцу Феофану и вскоре был получен ответ от Феофана, что митрополит Гавриил с охотой принимает отца Адриана с учениками в свою епархию, и что там много места, где они могут уединиться во имя своего спасения.
Прибыв в северную столицу, отец Адриан с отцом Ионой отправились к митрополиту и не раз беседовали с ним о спасении души.
Отец Адриан просил владыку послать его на Валаам, куда манил эту уединённую душу устроенный там отшельнический скит. Но митрополит благословил им сперва попробовать пожить в Коневской пустынной обители, которая расположена на острове Ладожского озера. И, вот, отец Адриан с Ионой переселились в Коневец.
Тамошний строитель, носивший тоже имя Ионы, сперва обходился с ними ласково, показал им весь остров, прося выбрать какое угодно место для своей пустыннической кельи.
Отец Адриан не предполагал, что ему долго придётся пожить на Коневце. Когда строитель Иона ехал по делам в Петроград, он просил старца во время его отсутствия следить за братией. Отец Адриан принимал это предложение неохотно, так как иноки вели себя нетрезво и бесчинно, и задача управлять ими была не из лёгких.
Однажды, проходя мимо настоятельской кельи, старец Адриан просил у них прощения и замечал, что, прежде, наткнулся на пьяных монахов, которые бесчинно говорили между собой. «Мир вам, братия, — сказал им старец, — какой сегодня праздник? Пора бы успокоиться!»
Монахи грубо возразили ему, что он им не начальник, так как начальник их строитель Иона, а его они знать не хотят. Они, вообще, обругали его и утверждали, что, будучи старше его, лучше знают, как им поступать.
Старец вышел униженный из их кельи, а раздражённые, иноки утром же послали донос на отца Адриана, обвиняя его в нарушении мира и порядка в их обители.
Строитель дал веру этому доносу, поспешил вернуться в обитель, и здесь вся братия стала укорять отца Адриана за то, что он только восстановил против себя братию. Отец Адриан просил у них прощения и замечал, что, прежде чем не искоренится здесь пьянство, обитель будет всегда в беспорядке.
Настоятель говорил, что вино здесь необходимо по суровости климата, что без вина не прожить.
Тут Адриан отвечал кротким словом, которое нелишне запомнить всякому человеку, вообще, защищающему пользу вина:
— Без хлеба прожить трудно, без вина можно ещё жить!
Своей ревностью о добром поведении иноков отец Адриан возбудил против себя общее негодование. Строитель предлагал ему донести обо всём митрополиту, а пока принять от него строительскую власть.
— Власти я не домогаюсь, — отвечал кротко пустынник: — мне только желательно, чтобы в обители был мир и благочестие. Они несовместимы с пьянством.
Этот ответ раздражил строителя так, что он велел старцу выйти. Монахи приступили с настоятельными требованиями к строителю, чтобы он избавил обитель от этого обличителя. Сделать это было трудно, так как отец Адриан был назначен в обитель по личному распоряжению митрополита. Настоятель пустился на хитрости и, отправившись к митрополиту, рассказал ему о ропоте братии и о том, что он просит избавить его от настоятельства, если отец Адриан у них останется.
Но ему пришлось попасть в расставленные им же самим сети, так как он думал, что митрополит не переменит его на малоизвестного монаха. Между тем, митрополит на просьбу его ничего не ответил, а предписал ждать в лавре решения этого вопроса. Потом митрополит позвал к себе лаврского наместника и с ним посоветовался. Тот предложил ему вместо слабого строителя Ионы назначить опытного и твёрдого отца Адриана, который несомненно улучшит состояние монастыря.
Был написан указ об увольнении Ионы и о замене его Адрианом, и утром, отпуская коневского строителя, митрополит подал ему запечатанный конверт, предписывая по возвращении в Коневец раскрыть его при братии и прочесть пред всеми, вслух.
С нетерпением ждала коневская братия возвращения своего строителя, полагая, что он добьётся удаления из монастыря старца Адриана. И, вот, строитель явился и, не зная содержания митрополичьего пакета, собрал всю братию и торжественно распечатал перед нею пакет. Затем стал читать его вслух.
В пакете был указ о переводе строителя Ионы строителем же в Моденский монастырь и о назначении на его место строителем в Коневец иеромонаха Адриана.
Можно представить себе возмущение братии, которая ждала мести со стороны отца Адриана за все причинённые ему грубости и неприятности!
Иона позвал к себе Адриана, передал ему указ и монастырские ключи и сказал: «Без описи я принял обитель и без описи и сдаю. Всё, что найдёшь, всё то твоё», — и вскоре отправился в Моденский монастырь.
Отец Адриан не добивался настоятельства и не думал о нём, а принял его только из послушания митрополичьей воле — смиренно, как монах.
Собрав братию, отец Адриан повёл к ней такую речь:
— Неожиданно для себя, по воле Божией и назначению владыки, я призван управлять вами. Не для этого я сюда шёл, не об этом мечтал, весной я надеялся уйти в безлюдное место и проводить жизнь пустынническую. Но Господь судил иное, и я не могу не исполнить воли архипастыря, которому я обязан по обету послушанием. Великое иго возлагает он на меня, и боюсь я ответственности пред Господом и Судьёю моим. Трудно мне оправдать доверие и милости ко мне архипастыря, но я должен исполнять свой долг и направлять вас ко спасению. По мнению моему, вы живете не по-монашески и главный недостаток нашей обители связан с вашею страстью к пьянству. От сегодняшнего дня, кроме церковного вина, нужного для совершения литургии, в обители не будет больше вина, а кому этот устав покажется не по силам, тот пусть ищет себе другое место, где ему покажется всего лучше.
С трепетом выслушали иноки эти слова настоятеля. Некоторые унывали, некоторые роптали, некоторые тотчас же оставили обитель.
Отец Адриан был непоколебим и с беспощадною твёрдостью выводил пьянственные напитки из монастыря. Иноки оскорбляли его за его твёрдость, поносили в лицо, но он не обращал ни на что внимания и продолжал своё дело.
Были братья, которые сознавали безобразие своего порока и готовы были исправиться, но страдали от слабости своей воли. Двери отца Адриана были всегда открыты для них, они всегда могли получить в минуту соблазна нужную поддержку.
Старец считал, что откровение помыслов является лучшим средством для улучшения иноческой жизни, и ревностью своей он вскоре достиг того, что монастырь преуспел в духовной жизни.
Прежнее недоброжелательное отношение к отцу Адриану коневских монахов совершенно изменилось. Ему добровольно подчинялись. Его старый единомышленник Иона и здесь был его помощником и помогал ему поддерживать заведённые им в Коневце порядки.
Когда отец Адриан был в Петрограде, чтобы отдать митрополиту отчёт во всех своих действиях по управлению обителью, он рассказал настоятелю о прежних недостатках монастыря и о мерах, которые были им против этих недостатков приняты.
Митрополит узнал, что в Коневце, кроме настоятеля, нет другого лица священнического сана, и на вопрос митрополита, кто из иноков достоин стать иеромонахом, отец Адриан указал — прежде всего — на Иону.
В той трогательной встрече, которую братия устроила настоятелю при его возвращении, выразилась та любовь и уважение, которые он сумел за это короткое время приобрести среди братии.
Когда отец Адриан, позвав к себе отца Иону, стал говорить ему о важности и обязанностях священного сана, Отец Иона не понимал, почему он завёл об этом речь, и был невыразимо изумлён, когда отец Адриан сообщил ему о том, что ему предстоит рукоположение, в иеромонаха. Он умолял избавить его от этого бремени, говоря, что он недостоин его нести: ведь, тот же отец Адриан уговаривал его раньше отказаться от иеродиаконства.
— Не иди против воли Божией, — отвечал отец Адриан. — Раз Бог судил тебе быть иеромонахом и устами митрополита изрёк о тебе Свою волю, тебе остаётся только ей подчиниться.
Отец Иона подчинился и пеший, с палкой в руках, отправился в Петроград, где было совершено рукоположение его самим митрополитом.
После этого отец Иона точно так же пешком вернулся в обитель, не заходя к себе в келью, прошёл к строителю и с низким поклоном благодарил его за дарование ему священного сана.
— Благословляешь ли ты? — с ласковой улыбкой спросил его отец Адриан.
— Учусь только, — отвечал Иона.
Однако старец Адриан потребовал, чтобы отец Иона благословил по-священнически своего настоятеля.
Благоговение, которое проникало всё существо Ионы во время совершения богослужения, произвело сильное впечатление на всю братию.
Отец Адриан старался не отлучаться из монастыря. Но, когда это требовалось по делам обители, он отправлялся в столицу всегда пешком. Он никогда не посылал по делам никого из своих иноков и не производил через них никаких сборов, так как берёг братию от всяческих соблазнов.
Митрополит Гавриил был жизнью и в душе подвижник, истинный любитель монашества. Он часто вызывал к себе для духовной сладкой беседы отца Адриана, оказывал ему уважение. По своему обычаю, старец пешком приходил по приглашению владыки и пешком уходил в монастырь. Он был до такой степени просто и бедно одет, что лица, его не знавшие, прямо даже отказывались верить, что он настоятель монастыря.
Всего в Коневце, в трудах настоятельских, отец Адриан провёл десять лет. За это время в Коневец собралось много благонастроенных и искренних духовных людей, которых всех старец принимал с любовью.
Старцу многое было открыто, и часто он, не исповедуя человека, знал его душевное расположение и грехи. Но он не был строгим обличителем немощи человеческой, — любовью покрывал человеческие недостатки. Особенно радовался отец Адриан, если видел в людях склонность к уединению и отшельнической жизни, и всячески помогал таким людям в их стремлениях.
Введя общежительный строгий устав в Коневце, старец был сам примером хранения этого устава.
Так, по уставу, братия не должна была иметь в кельях своих съестных припасов и даже воды, и старец тоже не держал у себя сосуда с водой. В случае жажды он ходил в трапезу и пил там, что оказывалось, — воду или квас.
Он ходил в грубой, ветхой, заплатанной одежде, говоря братии, что заплаты на иноческой одежде — украшение монахов. Он не терпел в келье своей украшений и не позволял себе даже держать часов, утверждая, что шум маятника и бой часов развлекают его.
Застав в монастыре много пьяниц, старец — с помощью Божией — совершенно искоренил в обители нетрезвость. Иноки, в подражание своему настоятелю, настолько приучились к воздержанию, что бросили не только пить вино, но отказались и от чая, который старец, по высокой в то время цене чая, считал пристрастием, излишним для монахов.
Сам старец никогда не употреблял чаю, а для монахов собирал летом и затем высушивал шалфей, зверобой и другие травы. Замечательно, что и простые травы приносили, по его молитве, больным облегчение в недугах.
Кто-то спросил старца, можно ли пить чай? И, вот, мудрый ответ его: «Не грешно нимало, ибо это растение благословлено Богом, как и всякое другое, и полезно во многих недугах, и басни о чае раскольников достойны порицания. Я и сам люблю чай, — присовокупил старец, — но, по дороговизне своей, он нам, нищим инокам, причесться может в роскошь и сладкопитание, почему его и уклоняемся, да не безответны будем на страшном Христовом суде, ибо дали обет Богу произвольной нищеты и всяких лишений».
По начитанности своей в святоотеческих творениях, отец Адриан любил приводить в беседе изречения святых отцов и примеры из их жизни, так что выходило, что он говорил не от своей мудрости, а от мудрости великих праведников.
Мало-помалу, старец стал ослабевать в силах. Глубокая старость, соединённая с частыми недугами, говорила ему о близости перехода в вечность.
Он желал приготовиться к этому переходу в полном безмолвии, которого всегда жаждал в душе. Поэтому он стал просить митрополита Гавриила уволить его от должности Коневского строителя и, как милости, просил разрешения провести остаток дней своих в московском Симоновом монастыре, где он некогда полагал начало иноческой жизни и где мечтал лечь на последний покой.
В 1800 году отец Адриан со своим любимым учеником перешли из Коневского монастыря в Симонов.
В следующем году отец Адриан принял схиму, при чём — получил имя Алексия, и последние десять лет своей жизни провёл в посте и молитве, в глубоком уединении.
В это последнее время своего жизненного подвига, лик старца освещался выражением света и радости. В нём замечалась младенческая кротость, и любовь его была так велика, что распространялась не только на людей, но и на бессловесных тварей. Он любил в келье своей давать приют больным птицам и животным, лечил их и кормил и, вылечив, отпускал на волю.
Тот дар прозорливости, который замечался в нём и раньше, особенно ярко выразился за год до великой Отечественной войны. Он предвидел тяжкие испытания родины, открыто говорил это ученикам своим и посетителям, чтобы они усилили свои молитвы, как особенно нужные теперь для спасения отечества. Видели старца погружённым в глубокую задумчивость, во что-то скорбное, по щёкам его струились слёзы, и, словно пробудившись от тяжкого видения, он просил окружающих его молиться усерднее Богу.
Раз слышали от него, в каком-то необыкновенном состоянии духа, громкое восклицание; «Какой огонь в Москве, о, какой огонь! Молитесь, братия, великий будет огонь… будет огонь этот и здесь!»
Господь не судил дожить праведному старцу до великого испытания Москвы.
В начале 1812 года у старца стали пухнуть ноги, он стал слабеть, не мог уже вставать. К этому времени относится случай, показавший обилие благодатных даров, действовавших в старце.
Одна женщина добивалась позволения видеть отца Алексия и беседовать с ним. Сколько ей ни говорили, что старец от слабости не мог принять её, она не отходила и сидела у окна кельи старца.
Наконец, отец Иона сказал старцу о женщине. Он велел привести её к себе.
Увидав старца, женщина упала ему в ноги и, плача, стала рассказывать, что душа её не чувствует себя от скорби, что человек, с которым она имела близость и которого она любила, ей изменил, что она с отчаяния готова лишиться своей жизни, что она уже покушалась на самоубийство, но тайный голос ей повторял: «иди к симоновскому схимнику и он тебе поможет»,
— Скажи, — спросил её старец: — если бы тот человек умер, ты не решилась бы тогда на самоубийство?
— Нет, — сказала она, — мне было бы легче перенести его смерть, чем измену.
— Если же ты так любишь его здесь, на земле, — продолжал старец, — то зачем лишаешь себя встречи с ним за гробом? Ведь, самоубийцы получают самую худшую долю в жизни вечной, и участь закоренелых грешников и злодеев будет легче участи самоубийц.
Своей беседой старец вызвал в этой женщине чувство страха вечных мук и раскаяния. С плачем, у ног старца, просила она молиться за неё и, наконец, услышала от старца ответ словами евангелия: «иди, и отселе не согрешай!»
Подобно тихой лампаде, бросающей мирный отсвет на иконы, пред которыми она теплится, угасал постепенно старец Божий. Отец Иона не отлучался от своего учителя и с любовью ему прислуживал.
При наступлении великого поста старец потерял уже голос, но терпеливо выносил это испытание и взором, обращённым к святым иконам, выражал свою веру и любовь к своему Искупителю. Не раз он был приобщён Тела и Крови Христовых, а также и особорован.
В то время, когда совершалось вечернее богослужение, в четверг средокрестной недели, двадцать восьмого марта 1812 года, лицо умирающего подвижника озарилось светлой неземной улыбкой.
Видно было, что он кого-то приветствует. Потом он начал оправлять руками своими волосы и бороду. Лицо его озарилось какой-то райской улыбкой неземного счастья, и душа его, верная Богу, перешла в руки Божии. Ему было девяносто лет от роду.
Многотрудное тело старца было положено в Симоновом монастыре, пред алтарём больничной церкви, близ кельи, где он жил и скончался.
Ученик и сопостник старца, иеромонах Иона, оставался до конца дней своих в Симонове, подражая в жизни своей старцу, описал его подвиги и, умирая, завещал положить его возле своего учителя.
Некоторые события, последовавшие за кончиной старца Алексия, дают основание думать, что старец за гробом стяжал Господню благодать.
Восьмого мая 1832 года девица Наталия Жмаева, путешествуя по русским монастырям, простудилась и получила болезнь — раны с обмороками. Одиннадцатого августа, находясь в Москве, она впала в сильнейший обморок. Тут ей представилось, что, переехав через речку, она видит пред собой какой-то монастырь, в который и вошла. Когда она стала молиться в церкви, то из алтаря явился старый монах, держа в руках икону, и произнёс: «Молись этой иконе, она тебя исцелит и покажет путь ко спасению. Икона эта писана святым отцом».
Четырнадцатого августа, под впечатлением этого сна, Жмаева отправилась к обедне в Донской монастырь, а к всенощной — в Данилов монастырь. Переночевав тут, у жены служителя, отправилась она на следующее утро в Новоспасский монастырь.
Подходя к реке Москве, она увидела на горе монастырь, виденный ею во сне, переехала реку на лодке и очутилась в Симонове. Должна была начаться вечерня, когда она вошла в храм. Однако, ни за вечерней, ни за всенощной она не увидала ни монаха, ни образа, которые ей снились.
После всенощной госпожа Тыртова привела странницу к себе домой и, услыхав рассказ её, на следующий день привела её в монастырскую трапезу, где ей стала показывать портреты умерших монахов. Взглянув на портрет иеросхимонаха Алексия, странница в ужасе упала в обморок и, опомнившись, рассказала, что этот самый старец являлся ей с образом. По её просьбе семнадцатого августа была совершена панихида по отце Алексии. И когда служащие вышли на могилу, странница — при совершении литии — лишилась чувств. С тех пор обмороки её стали более частыми, и болезнь приняла худший оборот.
На двадцатое августа, после исповеди, Наталии представилось во сне, что она в Симоновом монастыре, и видит настоятеля, который идёт из своих келий, и около него юноша несёт икону. Архимандрит Мелхиседек позвал будто бы её к себе и произнёс: «Вот, тот образ Божией Матери, который мы нашли; неси его в церковь и отслужи молебен». Когда она вошла с образом в церковь, увидала там иеросхимонахов Серафима Саровского и Алексия Симоновского. Старец Серафим молился пред царскими вратами, а старец Алексий подошёл к ней, принял от неё образ, который она несла, и стал служить молебен. Когда молебен был кончен, она поклонилась до земли и проснулась. На этом сон кончился.
Двадцатого числа странница была приобщена. В ночь на двадцать первое число на сильно разболевшейся руке её появились чёрные пятна. Она отчаялась в своей жизни, думая, что это антонов огонь, а утром в изнеможении увидала сквозь сон, что к ней входит иеросхимонах Алексий, неся образ Божией Матери, и произносит: «Вот, тебе икона Царицы Небесной. Она являлась тебе трижды, и три чуда с тобой сотворила одним словом.. Она заступница: предстоя престолу Божию, обо всех нас молит Бога с0 слезами. Только не молится за тех, кто гордится против Сына Её Господа. Икона сия стоит в соборной церкви на правой стороне. Где стёрт лик на сей древней иконе, вели поправить, но вновь не покрывать красками, и поставить оную у царских врат. Всё сие скажи отцу архимандриту. Если же ты не скажешь, то не исцелишься».
После поздней обедни, двадцать первого августа, больная передала свой сон настоятелю, иеромонаху Мелхиседеку, и тот приказал наместнику с ризничим идти в церковь, найти образ, отслужить молебен. Больная при входе в церковь пошла на правую сторону, увидала в киоте икону Казанскую и, признав её той самой, которую она трижды видела во сне, заплакала от радости. Икона, как ей и снилось, в нескольких местах потрескалась от сырости, и когда больная взглянула на неё, точно что-то её опалило, и сна почувствовала необыкновенную радость и облегчение.
Когда пред иконой был отслужен молебен с водосвятием, а затем у гроба иеросхимонаха Алексия — панихида, Наталия выздоровела, припадки её прекратились, а рана на левой руке закрылась.
После отца Алексия остались вериги, которые возлагали на мучимых духом нечистым, и тогда дух злобы кричал: «больных вериги жгут, Адриан мучит».
На одной из этих вериг оказался вырезанным 1762 год, — год, когда Ширванский полк, где служил тогдашний Василий Блинский, будущий иеросхимонах Алексий, стоял в Волхове.
Раньше не знали о существовании этих вериг, но больные вслух называют того, который этими веригами смирял своё тело.
Доселе многие из одержимых нечистым духом всячески стараются быть подальше от могилы отца Алексия, и как только на панихиде произносится его имя, они падают, мучительно бьются и плюют. Если насильно приводят одержимых к могиле старца, а затем оставляют их на воле, они немедленно выскакивают и убегают прочь с исключительной быстротой.
Могила старца Алексия представляет собой гранитную продолговатую плиту на двух плоских диких камнях, окружённую невысокой железной решёткой. На могиле следующая надпись: «В уповании блаженного воскресения, подвигом добрым подвизавшийся, веру соблюдший, приснопамятный девятидесятилетний старец сея святые Симоновские обителя, иеросхимонах Алексий, скончал течение 1812 года, марта двадцать восьмого дня, и погребен зде».
Старец Василий Кишнин
(настоятель Белобережской пустыни).
В истинном монашестве Господу Богу угодно было воздвигнуть Себе истинных рабов и служителей, вернейших исполнителей Его закона.
Божий Промысл постоянно охраняет чин иноческий, достойно славословящий Господа. Время от времени — Господь посылает, для укрепления и освежения иночества, великих тружеников, которые — с помощью Божией благодати — на долгие времена окрыляют современное им иночество и последующие его поколения.
Одним из таких людей был знаменитый инок Паисий Величковский, деятельность которого относится ко второй половине XVIII века.
Полтавский уроженец, отец Паисий, недолго пробыв в России, перешёл на Афон, где духовно возрос. Имея много учеников, он с ними перешёл в Валахию и в трёх монастырях — Драгомирне, Секуле и Нямеце, завёл иноческую жизнь строго-общежительную, по уставу Василия Великого и Феодора Студита.
Было установлено постоянное откровение братией своих Помыслов старцу: так называемое «старчество».
Поставив жизнь иночества во внешние правильные рамки, архимандрит молдавских монастырей, Паисий, дал и духовный фундамент иноческой жизни, в виде перевода святоотеческих аскетических творений. Эти переводы впоследствии были изданы оптинцами, архимандритом Моисеем и старцами — Леонидом и Макарием, которые все трое были наставлены в духовной жизни ближайшими учениками старца Паисия Величковского.
Вообще, влияние старца Паисия не ограничилось одними его молдавскими монастырями и его переводными трудами, внёсшими много света в жизнь русского иночества.
Его влияние сказалось непосредственно через его учеников и через учеников его учеников.
Этим людям русское иночество обязано значительным оживлением духовной жизни, которая наблюдается в первой половине XIX века.
«Духовная закваска» отца Паисия оказалась благодетельной для русского иночества…
К числу непосредственных учеников старца Паисия принадлежит и старец Василий Кишкин, о котором пойдёт здесь речь.
Большие испытания налагает Господь на людей крепких духом, и вся жизнь отца Василия была полна испытаний. Он приводил в порядок многие обители: Коренную пустынь, Глинскую, Площанскую, и во всех этих обителях за труды обновления и устроения — терпел жестокие скорби, гонения, клевету, угрозы и даже метания в него каменьями.
Всё вытерпел старец, и — является великим подвижником — не только иночества, но и дивных христианских добродетелей кротости и всепрощения…
I. Раннее иночество. Саров. Коренная пустынь. Афон
Будущий иеромонах Василий принадлежал к числу тех необыкновенных детей, у которых стремление к Богу ярко выражается с дней младенчества.
Происходил он из старого дворянского рода, в миру назывался Владимир Тимофеевич Кишкин и родился в 1745 году, в деревне Клюшниковой, Фатежского уезда, Курской губернии.
Верующие его родители рано стали в нём развивать религиозность. А он уже с трёх лет стал задавать своим родителям такие вопросы, которые показывали, как занят его ум мыслью о богоугождении.
Так, он однажды в трёхлетнем возрасте стал допытываться у отца значения слов псалма двадцать третьего: «Кто взыдет на гору Господню и кто станет на месте святем Его» и что значат упоминаемые в псалме «неповинность рук и чистота сердца»?
Отец, обрадованный такими вопросами сына, обнаруживавшими в ребёнке такую вдумчивость не по летам, поспешил объяснить ему эти слова приспособительно к его детскому понятию.
— Если ты, — сказал он, — не будешь шалить и никому досаждать, но будешь много молиться, будешь со всеми почтителен, не будешь говорить вздора, тогда ты будешь неповинен руками и чист сердцем, и с помощью Божией взыдешь на гору Господню и станешь на месте святом Его.
И мальчик старался вести себя так, чтобы взойти на эту таинственную «гору Господню», которая влекла его к себе с какой-то необъяснимой силой.
Он был совершенно особый ребёнок. Его не видели играющим и резвящимся с другими детьми. Он изумительно рано научился читать, и странно было видеть этого малыша, как он, влезши на стул и стоя на сидении на коленках, приникал к большим листам толстых славянских книг «Житий» святителя Димитрия Ростовского.
Всякий день шёл он в церковь и там становился поодаль от других, в каком-нибудь тёмном углу, чтобы никто с ним не заговаривал.
И всюду — в детской, и во время тайной молитвы у себя, пред старыми семейными иконами, и в церкви, и под открытым небом — всё думал он о той таинственной «горе Господней» — и всё ясней и ясней понимал своим детским умом, что эта «гора Господня» есть уединённая в Боге жизнь, далёкая от мира.
И каким-то чутьём мальчик почуял, что в монастыре он — скорее всего, — встретит свою мечту. И ему было всего семь лет, когда он объявил своему отцу, что хочет поступить в монастырь.
Это — совершенно исключительный пример начала подвижничества в столь раннем возрасте и ещё более редкий пример согласия родителей отпустить так рано от себя своего сына.
Помещик Кишкин видел, что сын его, всё равно, не жилец миру. Предав его судьбу в руки Божии, он его с миром отпустил…
И, вот, семилетний мальчик входит во врата Саровской пустыни, чтобы остаться в ней.
В Сарове подвизалось тогда немало уроженцев из курских пределов. Из Курска же происходил прославивший своей жизнью Саров, Прохор Мошнин, будущий великий старец Серафим, вступивший в Саров через четверть века после Василия Кишкина.
Одновременно же с ним поступил в Саров семнадцатилетний послушник, известный впоследствии восстановитель Валаама — игумен Назарий.
Этот юноша и мальчик вместе явились к настоятелю с просьбой принять их в обитель.
Вероятно, настоятель был заранее предупреждён о приходе Владимира. Надо думать, что и привёз его в Саров кто-нибудь из взрослых курян — не мог же семилетний дворянский мальчик совершить один этот сложный путь!
Владимира отдали в послушание старцу подвижнику Ефрему. Служа безропотно и усердно старцу, он исполнял все монастырские, правила. Потом он был переведён на трапезу, но, не ограничиваясь этим трудом, по окончании трапезы хаживал на другие монастырские послушания.
Прожив в Сарове четыре года — мальчик-инок был всеми любим за простоту, усердие, смирение. Его давно влекло в Киев, куда неудержимо влечёт всякую русскую душу, неравнодушную к святыне. Несмотря на юный его возраст, старец Ефрем благословил двенадцатилетнего Владимира в путь, дав ему много напутственных наставлений. Спутником его был родственник его, Макарий, впоследствии игумен Коренной пустыни.
Впоследствии Макарий передавал некоторые подробности об этом пути.
На ночлегах все удивлялись такому юному и смиренному страннику, да ещё в иноческой одежде, и расспрашивали, откуда он, и куда идёт? Мальчик отвечал охотно и приветливо и начинал мудрую беседу. В избу набиралось много народу, и все восторгались разумом и даром слова в таком маленьком существе. На другой день поселяне провожали их далеко за деревню и совали им много денег, от которых мальчик, большей частью, отказывался.
Макарий потом сам признавался, что он досадовал на успех юного Владимира. Отойдя от деревни, он поносил и ругал его, бил, драл за волосы и ударял оземь. Но Владимир был, как невинный агнец, кроток и тих и, падая к ногам родственника, со слезами просил у него прощения. Потом совесть упрекала Макария, и он решил оставить Владимира одного. По приходе в Киев, с его множеством богомольцев, ему было удобно незаметно удалиться от родственника, что он и сделал.
И, вот — он в Киеве, где удовлетворяет свою духовную жажду видом лавры, обходом пещер, где нетленно почивают в небесной славе уничижившие и вольной мукой мучившие себя за земной свой век преподобные.
Посещал Владимир и старцев духовных. Один из них присоветовал ему идти в один монастырь, расположенный в Сумском уезде, Харьковской губернии. Здесь он пожил три года и на пятнадцатилетнем возрасте пострижен в иночество, с именем Василия.
Только таких исключительных людей с духовной жаждой, с детства выраженною, и особым настроением можно разлучать с миром в столь юном возрасте.
До девятнадцатилетнего возраста юный Василий жил в разных обителях, из которых некоторые были упразднены печальным указом императрицы Екатерины Второй, в 1764 году. Тогда Василий поселился в Коренной пустыни, и здесь он вёл строгую жизнь, стараясь приобрести внутреннюю молитву, и не отказывал тем, которые приходили к нему за советом.
Особенно дорого было ему духовное общение с великим святителем Тихоном Задонским, который уже в то время оставив свою кафедру, жил на покое и трудился в Задонском монастыре.
Святитель Тихон учил юного монаха бороться со страстями и руководствовал его в приобретении внутренней Иисусовой молитвы. Он говаривал ученику своему: «Когда ты молишься со всею крепостью и усердием, то отойдёт от тебя леность, и сердце исполнится любовью Божественной».
Святитель учил Василия произносить слова молитв, вдумываясь в них, не спеша, отчётливо, и просить у Бога всегда помилования и пощады, прерывая чтение молитв кратким призывом: «помилуй, прости». И, узнав тогда всю сладость молитвы, Василий не расставался с нею до конца жизни.
Многочисленность приезжающих богомольцев и та слава, которой начинал пользоваться отец Василий, заставила его искать себе другого пристанища, и он решился уйти на Афон. От некоторых своих знакомых он получил необходимые средства для приобретения на Афоне скита, то есть уединённого места с строением для двух-трёх, совместно спасающихся иноков. И, простившись с братией, отправился на Афон с двумя учениками: Арсением (в миру Алексий, его ближайший ученик, свидетель всех его подвигов) и Израилем.
На Афоне, в Ильинском скиту, они приобрели пустую келью с церковью во имя Илии пророка, при которой был виноградник, и здесь стали подвизаться.
С течением времени об отце Василии всё более узнавали. Так как он обладал умением успокоить людей, дать им добрый совет, к нему стало стекаться много народа — и для духовной беседы и за благословением. Он с любовью принимал приходивших, также и сам в разъездах по Афонской горе навещал пустынников, отшельников, старцев, приобретая от них духовный опыт. Афонские же старцы, со вниманием слушая его, удивлялись его духовным дарам и содержательности его беседы. Отец Василий располагал остаться на Афоне в Ильинском скиту до конца дней своих, но Бог судил иное.
Как-то ученик его, отец Израиль, сушил виноград, и по неосторожности произошёл пожар, сгорела келья, и огонь перекинулся на окрестный лес, принадлежавший турецкому правительству, и часть его выгорела. Турки долго искали виновных. Но немедленно после этого случая отец Василий с учениками своими отплыл с Афона и прибыл в Молдавию, в Нямецкий монастырь, где собирал многочисленную братию строгого закала знаменитый старец Паисий Величковский, скончавшийся в 1794 году.
Наши афонцы уже не застали отца Паисия в живых и, погостив некоторое время в Нямецком монастыре, они вернулись в Коренную пустынь. Теперь, после отсутствия о. Василия, стечение народа стало ещё усиленней. Игумен Макарий поручил отцу Василию духовное руководство братии и также приведение, несколько поупавшей в быте своём, обители в порядок.
Не всем инокам понравились нововведения отца Василия, и некоторые из недовольных даже покушались на его жизнь. После жестокого на него гонения, недоброжелатели раскаялись, повинились в своей вражде, и старец благодушно с ними тогда помирился.
Однажды, отец Василий задумал перейти в другой монастырь, и немедленно после этого решения заболел, положение его грозило ему смертью. Когда он посмотрел в зеркало на свой язык, то язык оказался совершенно черным. Тогда он с верой возопил Богоматери: «Мати Божия, помилуй меня грешного! Дай мне ещё пожить, и тогда я останусь в обители Твоей». Он исцелился в тот же день.
Когда он бывал в Москве, то в доме, где он останавливался у своего знакомого почитателя, собиралось много людей всех званий, чтобы принять от него благословение и выслушать советы его. Многие под его влиянием начали монашескую жизнь. Так, удалилось в монастырь до сорока девиц дворянок.
Однажды, идя по Москве, отец Василий зашёл — конечно, не без воли Божией — в лавку купца Веденисова. У этого купца был шестнадцатилетний сын, Сергий, который был очень набожен. Теперь, увидав пред собой пустынного старца и услыхав его речь о монашестве, он вдруг воспылал желанием бросить мир и идти в монастырь под руководство старца. Тут же, по совету отца Василия, Сергий написал записку отцу и домашним; взяв от лавки ключи, положил с запиской под подушку отца и ушёл с отцом Василием из Москвы.
На короткое время из обители он вернулся в Москву, для свидания со своим отцом, но потом снова ушёл в Коренную пустынь.
Это был достойный ученик достойного учителя. Одиннадцать лет прожил он в пустыни под руководством отца Василия, являясь подражателем его смирения, молчания, послушания, кротости и благодушие. Он был пострижен в монашество с именем Серафима, затем был сделан иеродиаконом и иеромонахом, сопровождал, около 1800 года, отца Василия в Белобережскую пустынь, откуда был взят казначеем в Свенский монастырь; затем был настоятелем той же Белобережской пустыни; через восемь лет взят для приведения в порядок приходившей в расстройство Площанской пустыни, где и скончался в сане настоятеля, на шестидесятом году.
В Коренной обители жил один старец раздражительного нрава, которому никто не мог угодить. Часто прислуживавшего ему послушника он бранил и даже бил. Этот старец сильно заболел, и никто не желал за ним ходить.
Отец Василий послал послушника Сергия. Василий молился, чтобы Господь укрепил терпение Сергия. Ему приходилось принимать от старца неприятности, брань и побои.
Как-то, однажды, гневливый старец бросил в него, с бранью, сосудом с пищей. Сергий же кротко всё сносил, кланяясь и прося у старца прощения. Старец Василий укреплял добрыми советами своего ученика в этом страстотерпничестве и для смирения предлагал ему целовать дверь кельи сварливого старца, укоряя себя и считая себя ниже всех людей, и Сергий терпеливо служил старцу до конца.
За неделю до смерти старец пришёл в изнеможение. Тут он причастился, позвал всех оскорблённых и просил прощения в слезах умиления, и затем отошёл.
Сказание о жизни отца Василия говорит об одном невидном подвижнике, который, оставаясь неизвестным миру, в то же время — составляет соль Русской земли и который принадлежит к числу тех праведников, за которых Бог милует грешный народ.
Это был Александр Матвеевич Верёвкин, раньше бывший курским губернатором. Он жил в имении своём, селе Александровском, недалеко от Курска, и проводил жизнь благочестивую, имея в своём доме домашнюю церковь. У него отправлялась ежедневно служба приезжими из Коренной обители монахами.
Впоследствии он пожелал стать иноком и в имении своём устроить монастырь, но в его решении ему было отказано через происки родственников. С юности Веревкин вёл жизнь целомудренную и часто подвизался подвигом молчания, усиленно читая в это время Священное Писание.
Он был, вообще, всегда молчалив и кроток. Двери его дома были открыты для всех; и монахи, и странники любили бывать у него. Никто не отошёл от него голодным. Он обильно раздавал милостыню и всем усердно служил. Он умер в 1814 году и погребён в Коренной пустыни.
В Коренной пустыни отец Василий не раз терпел от гонителей, так что одно время покинул её и перешёл в Софрониеву пустынь, но снова вернулся в Коренную и жил здесь до окончательного перехода своего в Белые Берега.
В то время Орловским епископом был преосвященный Досифей.
Как-то, ближайшему из учеников отца Василия, отцу Арсению, довелось быть в Орле и видеться с преосвященным Досифеем. После долгой беседы отец Арсений произвёл на владыку лучшее впечатление и он не скрыл от него своего заветного желания восстановить запустевшую Белобережскую пустынь, в которой удобно, по её уединённому местоположению, нести жизнь иноческую. Он просил его указать ему человека, который бы мог на себя принять труд восстановления обители, и отец Арсений назвал своего учителя, отца Василия.
Услыхав предложение владыки, отец Василий решил не отказываться от него и стал готовиться с учениками к отъезду.
II. Белые Берега
Отец Василий прибыл в Белые Берега в начале 1800 года. Он был поражён печальным состоянием обители.
Вместо настоятеля обителью правил мирской священник, под началом которого было семь человек братии. Один из них, иеродиакон Мелхиседек, имел восемьдесят пять лет от роду. Этот известный долголетием своим добрый старец выехал в 1810 году в Бельские леса, затем жил в Мальцевских лесах, где и скончался в возрасте ста двадцати пяти лет, в 1840 году.
Посредине обители возвышалась каменная двухъярусная церковь. Внутренность её была в таком виде, что не было пола и ходили по кладкам, другая церковь была на (монастырских воротах.
Прежде всего, отец Василий занялся стройкой и исправлением келий и братской трапезы, в чём ему помогала пришедшая с ним братия. Когда число их умножилось, они умоляли старца принять на себя настоятельство, но он отказался от этого.
Братия письменно просила преосвященного Досифея вызвать к себе отца Василия и назначить его им в начальники.
Владыка, зная, что встретит со стороны отца Василия отказ, поступил так: он просил его прибыть для переговоров с ним к известному числу в Чолнский монастырь, взяв с собой в спутники двух иноков. Отец Василий ощутил какую-то тревогу и только уговоры его спутников удержали его ехать обратно.
В Чолнский монастырь он приехал перед поздней литургией, которую собирался служить преосвященный. Владыка предложил ему служить вместе с ним, и за этой службой он, без предуведомления, был поставлен в иеромонахи и утверждён настоятелем.
Трудно выразить радость иноков, когда они встретили своего нового настоятеля. В слезах отец Василий молился среди соборного храма, чтобы Господь не оставил людей, живущих на этом месте.
В скором времени отец Василий почувствовал — по вражескому действию — такую тоску, что решил тайно уйти из монастыря, что он и исполнил ночью. Братия догнала его на дороге и вернула в обитель, угрожая, что все они разойдутся, если он не останется. Старец вернулся.
После этого искушения старец горячо молился Пресвятой Богородице пред чтимым в обители образом Троеручицы, прося Её, чтобы Она успокоила его. Его томительное душевное состояние, мало-помалу, прекратилось, и он стал спокойно развивать в обители свою деятельность.
Всего за три месяца число братии увеличилось до шестидесяти человек. Из вновь прибывших были прекрасные иноки, как, например, иеромонах Клеопа и схимонах Феодор, ученики известного старца Паисия Величковского, которые долго жили под руководством этого старца в монастыре Нямецком.
Эти иноки принесли в Белые Берега устав молдавской обители. Со своей стороны, отец Василий вводил правила, которым обучился как на Афоне, так и в России, так что при нём обитель уподоблялась пчеле, которая собирает повсюду лучшие соки.
В руководстве братией отец Василий начинал с лёгкого, с течением времени требуя от иноков всё большего. Он умел соблюсти меру между строгостью, настойчивостью и добротой.
При слухе о новых порядках в Белых Берегах многие лица, чтившие отца Василия, посещая его, делали свои пожертвования на обновление обители. Другие же посылали ему по почте как деньги, так и всё нужное для благолепия, как то: церковные сосуды и другую утварь, книги и ризы. Случалось также, что в обитель приходили целые обозы съестных припасов от помещиков, желавших остаться неизвестными, что утешало и ободряло братию.
Снабжённый, таким образом, средствами благотворителей, старец деятельно работал. Он окружил монастырь оградой, поставил мельницу с лесопильней, гостиницу, много келий и другие строения.
Сам он от суеты и дел настоятельства любил уходить в уединение и после вечернего церковного правила ходил в лес, где у него была келья, и где он в тиши беседовал с Богом. При наступлении ночи он возвращался в свою обитель.
Сам он служил лишь в исключительно редких случаях, но был любителем стройного согласного пения. Некоторые номера были им особенно излюблены. Случалось, что он, подойдя к клиросу, просил клиросных пропеть концерт: «Реку Богу моему: Заступник мой, почто забыл мя еси», и во время чувствительного напева он неутешно плакал, а затем благодарил певчих и приглашал их к себе в келью.
У окрестных и дальних помещиков образовался добрый обычай приезжать в обитель к всенощной пред большими праздниками и привозить с собой рыбы, масла и других припасов. Поэтому, в келарне перед праздниками стояли целые чаны с хорошей рыбой — белугой, осетриной. Всем этим на другой день игумен угощал приезжих. Они, насладившись прекрасной художественной службой, долго ещё, вернувшись домой, вспоминали сладость пения белобережских певчих и стройность богослужения.
Вот, как описывает впечатление, произведйнное на неё порядками Белых Берегов, монахиня Ангелина, которая жила в обители, в пятидесяти вёрстах от Белобережской пустыни: «Узнав о пришествии дивного старца Василия в Белобережскую пустынь и слышав много чудесного о сей пустыни, а более о святой жизни отца Василия, я с моими родными поехала туда и что же я видела? Великие чудеса! В шесть месяцев времени обитель точно воскресла, и было так хорошо там, как бы в раю земном. Всенощное бдение совершалось семь часов, поют сладко, подобно ангелам. Довольно странствовала и до старых лет дожила, но нигде такого пения не слыхала».
И Белые Берега прославились по всему русскому православию по жизни иноков и благочинью церковному. Братия жила между собой в любви. Младшие беспрекословно повиновались старшим, и, избрав себе старца, иноки открывали пред ним ежедневно свою совесть. Тот дух смирения, о котором старался особенно отец Василий, придавал белобережским инокам что-то особенное во всех их действиях, словах и во внешнем виде.
Белобережский настоятель стал известен среди знати не только своей губернии, но и Петрограда и, наконец, самой императрице Елизавете Алексеевне. Императрица желала видеть подвижника и побеседовать с ним, но он постарался избежать этого свидания, которое могло нарушить его смирение и невысокое о себе мнение. Вообще, можно сказать, что Белые Берега зацвели при отце Василии, как розовый, радостный куст, усыпанный цветами.
Значение Белобережской пустыни за время управления ею старца Василия видно уже из одного перечня настоятелей, которые вышли из этой обители. Вот, имена их: строитель Площанской пустыни Серафим, архимандрит Московского Симоновского монастыря Мелхиседек, Белобережской пустыни отец Леонид, Глинский игумен Филарет.
Как умел кротостью своей вести монахов к спасению отец Василий, — доказывает следующий случай.
Был своевольный, раздражительный и грубый послушник Артемьев, из военных. Прежним настоятелям пришлось его не только наказывать, но даже заковывать в цепи, но проку из этого не выходило.
Как-то отец Василий, передавая ему ключи от гостиницы, просил его привести её в порядок, и где нужно подмести пол.
— Ты сам здоров, — отвечал Артемьев: — тебе самому делать нечего; так, вот, прибирай да подметай сам! — И он швырнул ему ключи.
На эту грубость отец Василий поклонился брату в ноги, прося прощения, и в том возникла тогда такая сильная и благая душевная работа, что он совершенно переменил своё поведение. Он стал кроток, тих и спокоен. Прежние его выходки томили его душу непреходящим раскаянием.
В церкви он становился перед иконой Богоматери Троеручицы, и из глаз его истекали источники слёз, и он смиренно повторял краткие слова: «прости и помилуй меня, Владычица… стань мне Поручительницей о спасении моём за молитвы моего старца, который воскресил мою душу».
Долго следил настоятель за происшедшей в нём переменой и решил его постричь. При пострижении он нарёк ему имя Сергий…
Ещё строже стал жить кающийся инок. Он никуда, кроме как в церковь, не выходил из кельи и держался полного безмолвия. Достигши большой старости, он несколько месяцев поболел и, напутствуемый таинствами, тихо отдал Богу свою, некогда бурную, душу.
Отец Василий во время его смерти находился в Свенском монастыре. Вернувшись же, сам совершал над ним обряд погребения.
Тут совершилось некое чудо. Старец, вдруг, ожил. Сперва ужас поразил всех присутствовавших, а потом, успокоившись, все стали расспрашивать его, что он видел? Старец ответил им, чтобы они молчали и размышляли над часом смертным.
Неделю жил он после этого пробуждения, не принимая не только никакой пищи, но даже и воды. В последний день недели он приобщился и мирно отошёл к Богу.
Старец обратил к православию из раскола жителя села Дядькова, Брянского уезда, Мальцева, который гнушался православной церковью и не крестил своих детей. Неоднократно старец убеждал раскольника в истине православия. Тот, наконец, сознал свои заблуждения и отрёкся от них и, по любви к отцу Василию, стал постоянным помощником Белобережской пустыни.
Такое же светлое влияние оказал отец Василий на богатого помещика Никанора Стефановича Переверзева. Это был жестокий в отношении крестьян своих человек, который — кроме того — ненавидел монахов и странников и с глумлением гнал их, когда они являлись в его усадьбу.
Отец Василий очень сожалел о таких его поступках и о его печальном душевном положении и, наконец, решился непосредственно действовать на Переверзева и отправиться к нему. Но такое вмешательство в то, что на мирском языке принято называть «не своё дело», — казалось ему самому настолько страшным, что он не сразу нашёл в себе силы войти к Переверзеву.
Долгое время он расхаживал перед его домом и молился о нём в это время с верой и усердием к Господу.
Переверзев в это время смотрел на него из окна. Какие чувства клокотали в этой озлобленной душе? Быть может, у него мелькнуло намерение также оскорбить этого старого монаха, как он оскорблял раньше других иноков. Но он ничего не предпринимал против него и продолжал задумчиво на него смотреть. Против воли у него в сердце слагалось что-то хорошее и доброжелательное, и он велел своему слуге вежливо позвать к себе старого монаха.
Уже по этому одному отец Василий мог видеть, что в душе этого человека совершается перелом.
Широко осеняя себя крестным знамением при входе в дом, он воскликнул: «днесь спасение дому сему» и повёл с помещиком беседу о милосердии к ближним, помощи, ласковости, и в то время, как старец говорил, чудное действие благодати перерождало злобную душу.
Переверзев не только не прекословил и не говорил старцу своих обычных глупостей, но в умилении кланялся ему и благодарил за наставления. Он тут же предложил ему несколько золотых монет, но старец сказал, что денег ему от Переверзева не надо, что он сам готов положить за него свою душу.
После долгой беседы монах и помещик в мире расстались. А Переверзев с того дня изменился. Он стал добрее и ласковее с крестьянами, некоторых из них отпустил совсем на свободу, другим облегчил их быт.
Обеспечение обители внешним строением и труды, которых она требовала, не отвлекали мыслей отца Василия от духовного назидания и окормления братии. Он, вместе с монахами, боролся против их недостатков и склонял их к добродетелям, противоположным этим недостаткам.
Господь послал ему особый дар к настоятельству, и одной из главных его способностей было умение поддерживать между братией мир. Он завёл, между прочим, обычай, чтобы монахи никогда не возвращались в мир в домашнюю обстановку, и чтобы перед вступлением в обитель всякий делал подробную исповедь за всю свою жизнь, так что воспоминались давно исповеданные грехи. За тяжкие прегрешения налагалась епитимия, и тем самым успокаивалась совесть тех кающихся, какими являются почти все истинные монахи.
Послушание он поручал всякому по мере его сил. Он любил телесный труд и знал его цену для монаха, в чём и показывал всем пример. Особенно трудился он во время летних покосов, где граблями перебирал и ворошил сено, возбуждая к работе других. По окончании покоса он читал молитву и благословлял косцов, и они с пением духовных песен возвращались в пустынь.
Он умел возбуждать ревность братии в исполнении послушаний. Когда он посещал трудящихся, то, обыкновенно, говорил: «Бог так ценит труд послушания, что у Него каждая капля пота, пролитая на послушании, как мученическая кровь».
Случалось, что во время работы в поле, когда монастырь пустел, настоятель оставался в обители для того, чтобы пройтись по кельям, которые — по Белобережскому обычаю — в таких случаях не запирались. Входя в келью, он клал на стол отсутствующего монаха какой-нибудь ничтожный подарочек, в виде бубликов, пряников или гребешка. Если чья-нибудь келья была нечиста и не выметена, он убирал и подметал её и наставлял затем её обитателя, чтобы в келье было опрятно: «Ангел твой хранитель уважит твой труд», — говорил он в таких случаях. Особенно часто он советовал, чтобы братия сидела в келье своей со страхом Божиим, читала душеполезные книги и творила умственно молитву Иисусову.
— А когда ложишься спать, — говаривал он, — представляй себе, что ты лежишь во гробе, что тебя ждёт суд и что Божественный Жених придёт за тобою в полунощи.
Устроив столь крепко жизнь обители, он стал мечтать о сложении трудов настоятельства и об удалении на Афон.
Однажды он тайно посетил преосвященного Орловского Досифея и просил уволить его на покой. Высоко ценя его самого и значение его для обители, любя беседовать с ним, преосвященный очень скорбел об этом намерении старца. Он говорил ему, что, собрав иноческую паству, он не должен оставлять её, ибо наёмник разорит его стадо. Он говорил ему о том, что его некем заменить, что никто не сравняется с ним в любви и смирении.
Старец продолжал просить отпустить его и предлагал вместо него назначить тех иноков, которые были старцем недовольны и гнали его.
— Они святы только для себя, — ответил на это преосвященный: — другим же не могут быть полезны.
В конце концов, отец Василий уговорил архиерея назначить на его место настоятелем иеромонаха Питирима, который был его учеником и, несмотря на то, был его гонителем и злейшим врагом.
Можно себе представить скорбь братии, когда они услышали эту печальную весть. Они неутешно плакали и рыдали и не хотели повиноваться новому настоятелю.
Сперва отец Питирим поддерживал обычаи, заведённые отцом Василием, потом он стал истреблять его порядки и преследовать его сторонников.
Отец Василий, ни в чём не прекословя, перебрался с ближайшими учениками в Свенскую обитель, в двадцати вёрстах от Белых Берегов. Но братия явилась в Свенск со слезами, требуя, чтобы он вернулся на настоятельство, а преосвященный Досифей предписал Питириму во всём покоряться отцу Василию и ничего не предпринимать без его одобрения и благословения.
Сперва Питирим исполнял это приказание, но потом вернулся к прежнему и стал разгонять лучшую братию. Наконец, Питирим был смещён, и на его место избран сторонник отца Василия, иеромонах Леонид.
Тогда Василий стал жить попеременно то в Свенском, то в Белобережском монастыре, являясь старцем и назидателем того и другого, так как в обеих обителях были настоятелями его ученики.
В 1810 году шестидесятипятилетний старец решился идти на Афон. С глубокой скорбью провожало его множество его почитателей всех сословий. Особенно скорбела об его отъезде ученица старца, монахиня Ангелина. Она была из тех душ, которые умеют молиться неотступной молитвой. Уже после отъезда старца она пошла в Одрин монастырь и служила там молебен пред образом святителя Николая, умоляя угодника, чтобы он возвратил её старца назад, в Россию.
Слёзы и молитвы её видел один старец Одрина монастыря, который имел дар прозорливости. Он спросил её об её горе, и она рассказала ему, в чём дело. Он успокоил её, что старец, не дойдя до Афона, вернётся обратно в обитель.
Так и оказалось. В Одессе отец Василий узнал, что за границу пропуска нет, так как шла война Турции с Россией, и он принуждён был вернуться обратно, к великой радости своей паствы.
Освобождённый от трудов настоятельства, отец Василий чаще посещал свою пустынную келью, куда любил уединяться по ночам во время настоятельства. Великий пост он проводил в этой уединённой келье безвыходно до Пасхи.
Келья эта стояла в частом сосновом лесу, на пригорке. Около был устроен огород с грядками. Впоследствии на том же холме жили и другие отшельники Белобережской обители: игумен Серапион, монахи: Дорофей, Авраамий и другие.
В один из дней 1811 года старец собрал братию, в последний раз сказал им своё наставление и закончил: «Спасайтесь ныне, как вразумит вас Бог. Простите меня; я теперь иду туда, куда поведёт меня Господь».
III. Севск. Рыхловская пустынь и странствования
Из Белобережской пустыни отец Василий, на этот раз, отправился в город Севск, для совета с преосвященным Досифеем, который его чтил и понимал. Преосвященный просил старца пожить в Севском женском монастыре для духовного окормления сестёр, на что старец и согласился.
Как рады были сестры иметь у себя человека, к которому они могли обращаться во всех своих духовных нуждах и недоразумениях! Это было для них самое драгоценное время.
Но не обошлось без действия вражеского. Игуменья и казначея Севского монастыря возненавидели старца и запретили ему наставлять сестёр, всячески его оскорбляли и, наконец, начали его звать не иначе, как «бродяга».
Когда отцу Василию пришлось побывать в Орле, преосвященный Досифей спросил его, слушаются ли его овечки. Тот ответил о монастыре самым доброжелательным образом. Но всё устроилось само собой. Игуменья была удалена из обители, казначея сошла с ума, и Божий гнев постиг всех противниц старца.
Иначе обошлось дело во время случайного посещения старцем в Курске женского монастыря. Монахини, в духовной жажде, силились услыхать от него «слово на пользу», а игуменья приказала выгнать его за ворота и, не довольствуясь этим, вышла к старцу, осыпая его бранью, называя его бродягой и другими поносными словами. Старец, принимая это поношение, стоял перед нею безмолвно и кланялся ей в ноги, благодарил за то, что она приносит пользу его душе. Потом он приказал всем сёстрам, слушавшим его, просить у игуменьи прощения. Это смирение совершенно обезоружило игуменью, которая с тех пор стала верить в святость его жизни.
Вот, несколько интересных событий, случившихся во время пребывания отца Василия в Рыхловской пустыни.
Был у отца Василия один ученик, иеродиакон из дворян, человек с хорошим образованием. Гордость сгубила его: Он вышел из обители и женился, но потом разочаровался в мирском счастье и, оставив жену, ушёл на Афон. Потом, вернувшись в Россию, он жил в Свенском монастыре и скончался в Рославльских лесах.
Падение ученика очень огорчало отца Василия, и он горячо молился Божией Матери, чтобы Она простила его. Как-то раз, после особенно усиленной молитвы, он получил в сонном видении весть, что молитва его услышана, и покаяние его ученика принято.
Радостно возблагодарил он тогда Бога и Пресвятую Деву Марию.
Одна помещица, почитательница старца, прислала в Рыхловскую обитель некую сумму денег на имя одного монаха для передачи их отцу Василию. Монах этот, по корыстолюбию, скрыл эти деньги, но праведник не лишился их.
Вскоре во сне этому недобросовестному человеку явился Николай Угодник и грозно велел ему отдать деньги старцу. Инок стал бесноваться, бегал по монастырю и громко кричал о явлении ему Святителя. Старец помолился о несчастном, к нему вернулось сознание и, покаявшись, он отдал старцу его деньги.
Ещё замечательно следующее событие. Недалеко от монастыря был расположен принадлежавший помещику кабак, который соблазнял и братию, и богомольцев. Отец Василий просил хозяина отвести этот кабак в другое место, но последний не исполнил его просьбы. Тогда отец Василий снова пришёл в дом помещика и, упав пред ним на колени, со слезами умолял его сохранить монастырь от этого соблазна. Жестокосердый помещик не только не послушал старца, но строго-настрого запретил ему беспокоить себя впредь.
Не об унижении своём скорбел старец, но о том, что через этот кабак в самой близости обители погибнет столько душ христианских. И вот, вернувшись в обитель, он пошёл прямо к образу святителя Николая и, упав пред ним на колени, со слезами вопил:
— Сжалься, святитель, над столькими душами человеческими, падающими в соблазн, избери пути, чтобы удалить этот соблазн от обители!
Всю ночь вопил к святителю старец.
Святитель Николай, скорый на услышание, не посрамляет уповающих на него.
Следующую ночь, от неосторожности солдат, заночевавших в этом кабаке, он загорелся и сгорел весь до основания. Тогда помещик, в сознании своей вины, пришёл в обитель, просил себе прощения и больше кабак не возобновлялся уже там.
После пребывания в Рыхловской обители старец некоторое время посвятил странствованью в сопутствии с двумя учениками своими, иеромонахом ипослушником.
Близ Курска он навестил генерала Веревкина, благочестивого человека, жившего по-монашески в селе Александровском. В то же время проживал там некий, Христа ради юродивый человек, прозорливый. Он заранее предрёк Веревкину приближение дорогого гостя и встретил его по-архиерейски трезвоном колоколов; тем же самым трезвоном он и проводил его.
В городе Ливнах вдова бывшего городничего пригласила к себе старца Василия. Войдя в её дом, он назвал по имени всех трёх дочерей, что очень удивило хозяйку, так как он не мог знать их. Тут же он сказал матери: «Надо одну овечку отдать на жертву Богу».
Так и случилось. Средняя дочь вдовы расположилась сердцем к речам и мнениям старца, стала его усердной ученицей и вступила в Севский монастырь, где проводила до конца дней своих истинно богоугодную жизнь.
Из города Ливен старец Василий пришёл в Задонск, где пробыл некоторое время. Тут был с ним такой случай. Архимандрит обители был корыстолюбивый, жестокосердый человек, обижавший без всякого повода братию.
Однажды в церкви, во время литургии, старец Василий свёл архимандрита с его места и сам стал вместо него. Когда же архимандрит выразил ему свой гнев, старец ответил ему: «Я не тебя свёл, я видел стоящего с тобой духа злобы, который над тобою глумился». Зная за собой много грехов, архимандрит умолчал.
Из Задонска старец пришёл в Воронеж, где тогда сиял на кафедре знаменитый праведностью своей архиепископ Антоний. Старец просил благословить его вступить в Кременскую пустынь. Владыка сразу же назначил его туда настоятелем.
Обитель была разорена и малолюдна — всего восемь человек братии, под управлением белого священника. Молитвами и хлопотами своими старец устроил обитель, собрав больше шестидесяти человек братии, и украсил её сосудами и ризами. Затем он продолжал свой путь и пришёл в Усть-Медведицкий монастырь, которым управляла его ученица, игуменья Августа. Эта обитель имела до двухсот сестёр и в ней происходили тогда сильные неустройства. Сёстры восстали против игуменьи, так что приход почитаемого ею старца Василия игуменья приняла за Божие посещение.
В течение недели, которую старец провёл тут, он наставлял сестёр на путь спасения, увещал всех смирять себя, быть кроткими, незлобивыми, снисходительно относиться к слабостям и недостаткам других. Старец вносил с собой всюду мир и благословение, и тут ему удалось вполне примирить сестёр.
На Дону же Бог (помог старцу Василию обратить в православие главу и учителя сектантов молокан. Этот человек был настроен настолько враждебно против старца, что на увещания его отвечал смехом, ругательствами и плевал ему в глаза. Старец как-то на коленях помолился Богоматери: «Мати Божия, помоги, просвети сердце этого жестокого человека!» И вскоре молоканин признал своё заблуждение, с плачем упал к ногам старца, покаялся и стал православным со своими учениками.
В городе Новочеркасске одна набожная генеральша пригласила к себе старца и на коленях просила его помолиться Господу, чтобы Он продлил её сыну жизнь. Мальчику этому было тогда три года. Старец сказал матери: «Господь утешит тебя ещё на двенадцать лет». И, действительно, сын её скончался пятнадцати лет.
Когда отец Василий снова появился в Воронеже у владыки Антония, преосвященный, желая сохранить на память черты его лица, просил позволения у старца снять с него портрет. Старец наотрез отказался. И владыка узнал от учеников старца, что он дал себе зарок никогда не давать снимать своих черт.
Владыка, не желая отступить от своего решения, объяснил его ученикам, что портрет старца многим послужит во спасение. Он поручил своему духовнику, отцу Феофану, и искусному живописцу устроить так, чтобы портрет со старца был написан. Отец Феофан зазвал отца Василия к себе в келию и стал предлагать ему разные вопросы, требовавшие длинных пояснений. Между тем, удобно усаженный и невидимый отцу Василию живописец набросал во время этой беседы портрет его, который вышел очень похож. С этого портрета многие почитатели старца снимали себе копии. Одна из них находится в настоятельской келье Белобережской пустыни.
Из Воронежа отец Василий отправился снова в Задонск, для поклонения гробу святителя Тихона († в 1783 году). В Задонске у старца было несколько учеников.
В то время близ Задонского монастыря спасалась подвижница, прозорливая девица Евфимия-постница. В прозорливости её были убеждены не только миряне, но и монахи.
Ученики старца Василия интересовались узнать, сочтёт ли старец её прозорливой, и просили его поговорить с нею. Старец уклонился от ответа.
Через несколько дней они одни пошли к прозорливой и повели её с собой в монастырь.. Когда Евфимия увидала старца, она остановилась, задрожала и хотела повернуть обратно, но ученики удержали её силой. Она стала рваться и кричать, билась о землю и стала, как полумёртвая. Ученики поняли, что Евфимия находится в прелести, и стали просить прощения у старца.
Старец объяснил им, как надо осторожно относиться к людям и бояться самочинных и ложных пророков, живущих на свете.
Тут же старец, в поучение им, рассказал следующее ужасное происшествие.
В Софрониевой пустыни жил строгий подвижник, иеросхимонах Ф-ий, затворник и постник, один раз в неделю вкушавший пищу. Этот подвижник впал в прелесть, приняв беса вместо ангела. Обстоятельство это выяснилось следующим образом. Однажды, по обыкновению, прислуживающий затворнику брат, принеся ему пищу, поставил у дверей. Затворник сказал ему: «теперь пищи этой тленной я не требую, мне уже принёс дорогой мой гость пищу нетленную». Слова эти были переданы настоятелю. Тот немедленно собрал старцев и всё это передал на обсуждение их. Старцы рассудили, что затворник в прелести, и находится в опасном положении. Когда же пришли к его келье и отбили дверь, то увидели потрясающее душу зрелище: затворник висит удавленный, схима и крест его разбросаны по келье, и самая келья полуразрушена. Показалось им, что бесовское сонмище, в виде псов, торжествовало в то время. Вся братия пришла в ужас и неутешно плакала.
Как далеко простираются стремления врага рода человеческого, искушающего подвижников, видно из следующего случая. В селе Троекурове, близ города Лебедяни, был знаменитый старец подвижник, отец Илларион. Он находился в духовном единении с другим подвижником, Иоанном, жившим в селе Сезенове, того же уезда.
У отца Иоанна в келье стояла икона двунадесятых праздников. В честь этих праздников у него было устроено двенадцать лампад, которые он все и зажигал в каждый двунадесятый праздник.
Однажды, отец Илларион прислал сказать отцу Иоанну: «Берегись вражеского искушения, в следующий двунадесятый праздник лампады пред твоими иконами зажгутся сами. Ты же не обращай на это внимания, но молись Богу, это действие вражеское!»
Действительно, перед праздником лампады пред иконами зажглись сами. Затворник не обратил на это внимания и продолжал молиться, и они погасли.
Вот, какой пример смирения показал отец Василий по пути из Задонска. Встретившись с крестьянином, он спросил его:
— Скажи мне, брат, как лучше поступить: идти вперёд или вернуться назад?
— Иди, отче, вперёд, — отвечал крестьянин, — там будет тебе добро, и ты много принесёшь пользы.
— Может ли простой земледелец и невежда чему-нибудь научить тебя? — спросили у старца ученики, изумлённые тем, что он тут положился на совет простолюдина.
— Он более меня знает, потому что пребывает в непрестанных трудах, а я живу в лености, и многие несмысленные ублажают меня. Я верую, что он, по Божиему внушению, сказал мне это.
Действительно, в усадьбе Веревкина, к которому отправился из Задонска старец, он принёс великую пользу двум его знакомым фрейлинам императрицы, приехавшим навестить старика из Петрограда.
Беседа старца произвела на них столь сильное впечатление, что они рассказали о старце царице, и она пожелала его видеть. Но старец, боясь впасть в гордыню, решил под предлогом болезни не ходить в столицу.
Один молодой дворянин, при посещении Киевской лавры, спросил одного схииеромонаха указать ему человека, которому бы он всецело мог поручить себя. Старец посоветовал ему ехать в Коренную пустынь, к старцу Василию.
Юноша исполнил этот совет. Когда он прибыл в пустынь и стоял в церкви, вдруг — во время литургии, к нему подошёл старец и сказал ему:
— На что тебе грешный Василий? Я — Василий.
Юноша тотчас же поклонился ему в ноги и просил принять его под руководство.
В это время один близкий к настоятелю монах злобно обрушился на Василия и сказал ему:
— Ты что тут, старик, празднословишь в церкви и блазнишь молящихся?
Старец стал просить прощения, а гордый монах кричал: «нет тебе упрощения, клади поклоны», и старец клал их до конца службы.
Этим злобный монах хотел посрамить старца пред его мирскими почитателями, но вышло наоборот, так как вид такого смирения ещё возвысил их высокое о нём мнение. Монаха же этого постигла скоро Божия кара, и он скончался без покаяния, скоропостижно.
Какое-то внутреннее чувство влекло отца Василия в Глинскую пустынь, куда он и отправился.
IV. Глинская пустынь. Площанская. Последние годы
Глинская пустынь была в то время далека от того процветания, которого она достигла впоследствии и которым она пользуется доныне. Братии в ней было около десяти человек. В ней была устроена одна церковь, во имя Рождества Богородицы, где помещалась явленная икона Богоматери. Гостиницы вовсе не было. Монашеские кельи были тесные и ветхие, да и жизнь братии была не на должной высоте.
Отец Василий со слезами старался умолять Владычицу благословить его труды по обновлению обители и искоренить в ней соблазн.
С ближайшим учеником своим Арсением он стал ревностно заводить новые порядки.
Он строго взыскивал за пьянство, уговаривал иноков не быть соблазном для мира. Настоятель и братия вооружились против старца и его ученика, плевали ему в глаза, по три дня не давали ему трапезы.
Отец Василий всё кротко переносил, ублажал своих хулителей и продолжал заботиться об улучшении обители.
В то время находился там казначеем инок плохого поведения, чрезвычайно злой. Уговоры старца только ожесточали и расстраивали его. Он тайно отправился в Курск к епископу и донёс на старца, будто бы у отца Василия имеется около обители особый скит для женского пола, где он держит свою жену и сына и часто проводит с ними время. Кроме этого, были разные ещё подробности в этом особенном доносе.
Епископ поверил клевете, вызвал старца, стал жестоко укорять его и велел уходить из его епархии. Старец, поклонившись преосвященному, смиренно сказал ему: «Прости меня грешного, владыка святой, много я нагрешил, но таких грехов за собой знаю!»
Узнав об этих событиях, многие почитатели старца, среди которых были люди высокопоставленные, прибыли в Курск, чтобы заступиться за него, а бывший курский губернатор Верёвкин предостерегал архиерея, чтобы он, преследуя этого нового гонимого за правду Златоуста, не пострадал за него, как некогда императрица Евдоксия.
Когда дело было подробно расследовано, — оказалось, что это всё была злобная клевета, невинность восторжествовала, отец Василий возвратился в обитель, клеветники были наказаны.
По возвращении в обитель, самой горячей молитвой отца Василия была молитва о том, чтобы Владычица послала им в настоятели угодного Ей человека.
Во исполнение этой молитвы был послан в Глинскую пустынь возвеличивший её впоследствии отец Филарет, из Софрониевой пустыни.
Отец Филарет был утверждён в звании настоятеля и стал, вместе с отцом Василием, трудиться над благоустроением пустыни. Отец Филарет заботился о внешних нуждах, обители, а отец Василий назидал братию, смирял гордых, умирял враждующих и искоренял пьянство. В обитель быстро стала собираться братия из других монастырей и в короткое время образовалось многочисленное цветущее братство.
Но и тут старца не оставляли искушения. У него были такие ненавистники, которые не останавливались ни перед чем. В своей ненависти двое братьев часто плевали ему в лицо, и тогда старец, отирая свои глаза, с ласковой улыбкой говорил: «Освяти, брате; пусть голова моя исцелеет и глаза будут прозрачнее».
Другой гонитель старца, полковник М., жил в обители, как в миру, не слушался, настоятеля. Он так возненавидел старца, что обещался хлопотать пред архиереем, чтобы старец был выгнан из обители, и введённый им устав уничтожен. Тем не менее, старец продолжал бесстрашно обличать этого человека. Ему жизнь в Глинской пустыни стала настолько нестерпима, что он написал на стене кельи своей ругательные стихи и, после этой дикой выходки, в гневе переселился из Глинской в Коренную пустынь.
Но и этого человека, как и прежних врагов своих, отец Василий умел победить добром. Как-то этот М. с одним иеромонахом, тоже ненавистником старца, сошлись в Глинской пустыни, где неожиданно встретились с отцом Василием. Старец поклонился им в ноги, облобызал их и позвал в свою келью. Стыдно им было пред старцем и только после долгих уговоров они вошли к нему. Он их так обласкал, так искренно предлагал им свою келью на время их пребывания в обители, что злые души их смягчились и они воскликнули; «Отче, дивное твоё незлобие разогрело наши оледеневшие сердца». С тех пор они стали искренними друзьями его.
Один инок передает свои впечатления о незлобии старца Василия: «Аз грешный вздумал искусить его, но за сие страшно пострадал. По монастырскому делу были мы в городе; я много ему делал досаждений, укоризн и прочая, но старец не только оправдывался предо мною, но, сознавая себя виновным, кланялся мне и просил у меня прощения. Вскоре после сего, Божиим попущением, враг поднял в душе моей брань и восколебал мой ум мятежом помыслов и хулою на старца. В таком злом настроении я заснул и… вижу во сне старца, стоящего на облаках. Он облечён был в мантию и камилавку, и был оттуда глас ко мне: «каков есть Василий телом на земле, таков и духом он на небеси, что всуе мятёшься?» Я проснулся, пошёл к старцу в келью, упал ему в ноги и, заливаясь слезами, рассказал ему всё своё искушение и просил у него прощения и молитв. Старец же, облобызав меня, во всём простил и, кланяясь, просил меня умолчать о виденном мною. После сего, отец Василий не раз являлся мне во сне, обличал мои страсти и поучал отсечению злых помышлений».
Интересен тот способ, которым старец Василий смирил одного из своих учеников. Этот молодой ученик был красив собой, любил щеголять и особенно гордился своими великолепными волосами. Долго старец укорял его, тот не исправлял своих замашек. Тогда старец зазвал его к себе и сказал ему: «Прочих я постригаю за послушание, а тебя постригу за ослушание». И, взяв ножницы, остриг его догола и сказал ему: «Лучше тебе на время лишиться волос, чем погубить свою душу».
После этой стрижки этот послушник совершенно изменил своё поведение. Он сделался смиренным, молчаливым и кротким, одевался в старые одежды, первый приходил в церковь и молился Богу, так что братия смотрела на него с удивлением.
Старец был особенно внимателен к маленьким детям. Он любил учить детей Иисусовой молитве и учил полагать на себя крестное знамение твёрдо, внимательно, неспешно. Часто после его ухода дети, во исполнение слов его, со слезами повторяли: «Иисусе! Иисусе!» По его молитвам — часто самые упрямые и злые дети становились самыми кроткими и смиренными.
У одного высокопоставленного лица был трёхлетний сын такого буйного нрава, что никогда не обращался к родителям, как говорят дети: «папа и мама», а всегда бранился и плевал им в глаза. Родители его прибегали к разным мерам, но совершенно бесплодно. Как-то зашёл в дом их отец Василий, и этот знатный человек поведал ему о своём горе, прося его молитв.
Долго молился тогда старец и с собой вместе заставил молиться и младенца. С тех пор дитя изменилось нравом и продолжало расти на радость родителям.
О детях случалось ему предсказывать их будущую судьбу. Об одном младенце, в котором нельзя было ещё видеть никаких определённых расположений, он выразился: «Это дитя будет неосвященным сосудом», о другом сказал: «Этот будет драгоценный аромат», и — всё это сбылось в своё время.
В Глинской пустыни был инок из дворян. Вступая в обитель, он вложил в пользу её значительный вклад и вскоре был пострижен в монашество. Первое время он вёл себя так, что все его почитали. Но это почитание испортило его, и он начал много думать о себе, всех презирал и не исполнял монастырских правил и порядков. Василий видел тот гибельный путь, на котором находился этот человек и задался целью смирить его. Предварительно помолившись о нём, он смирил его собственным смирением, так как поклонился ему в ноги, потом повёл с ним душеспасительную беседу. Он выяснил ему последствия гордости, и слова старца так подействовали на инока, что он немедленно стал просить его принять его в своё руководство. Отец Василий поставил непременным к тому условием, чтобы инок снял монашескую одежду, одел платье простолюдина и занялся чёрной работой. Потом старец велел стоять ему у святых ворот и кланяться всем входящим и выходящим. Всё это инок исполнял беспрекословно. Одновременно с тем старец Василий постоянно утешал инока и, поддерживая его, говорил: «Тецы, тецы, чадо, и достигнешь, ибо венец послушания готовится тебе».
Таким образом, отец Василий воспитал в этом ученике своём великое смирение и, кроме того, он приобрёл дар умиления при обилии слёз. Отец Василий радовался и благодарил Бога за этого ученика. Когда он предложил ему снова надеть монашескую одежду, тот ответил: «Благодарю тебя, отче, что ты воскресил мою погибшую душу. Никогда прежде я не ощущал той душевной отрады и умиления, как ныне. Умоляю тебя оставить меня в той же одежде и в том же послушании». И, действительно, до конца дней своих он нёс послушание при вратах.
Другой брат без благословения старца наложил на себя пост. Старец хорошо знал, что телесные подвиги иногда возбуждают в иноке самообольщение. Поэтому, желая испытать его смирение, отец Василий в праздник приказал повару: «Когда этот монах придёт к тебе за пищей, ты откажи ему и хорошенько укори его». Так было и сделано. Постник, видя себя обиженным, разгневался на повара, осыпал его бранью, проклял его и ушёл в келью.
Старец, узнав об этом, призвал к себе постника и стал уговаривать его.
— Я, ведь, тебя предупреждал, что нужно убивать страсти, а не тело; сперва надо исполнять заповеди, потом приносить Богу дары.
И тогда он приказал постнику непременно ходить за трапезу и вкушать предлагаемое с прочей братией.
Одна странница рассказывала братии Глинской пустыни, что она приходила, как-то, к отцу Василию принять от него благословение и просить молитв. Старец дал ей просфору. Она тут же, по своему простосердечию, подумала сохранить эту просфору для исцеления будущих недугов своих, а старец сразу же угадал её мысли и тотчас же велел ей съесть просфору.
Один купец был у старца Василия в келье. После беседы старец повёл его к своему ученику на пасеку, где предложил ему свежего мёду. Купец отказался есть мёд, так как от него страдал желудком. Старец же настоятельно благословил его вкусить предлагаемое, и с тех пор купец совершенно избавился от своей желудочной болезни.
Один господин, навещавший Глинскую пустынь, привёл к старцу своих двух детей на благословение. Старец благословлял их, медленно произнося: «Бог благословит в небесную страну».
— Я прошу вас, батюшка, — сказал возмущённый этими словами отец, — чтобы вы помолились Богу, чтобы Господь продлил чадам моим жизнь!
— Не много поживут, — отвечал старец тем же голосом. И, действительно, в том же году дети скончались.
Старец любил посещать своих духовных учеников.
Так, он провёл некоторое время в Площанской пустыни, где строителем был его ученик, отец Серафим, и в Белобережской пустыни. Тут и там братия просила его остаться в их обители, но старец не согласился и вернулся в Глинскую пустынь где ему — допущением Божиим — предстояла тяжкая кара — изгнание.
За десятилетнюю жизнь свою в Глинской пустыни, всё время ревнуя о славе Божией и о благе обители, старец не избежал вражеского искушения.
Духовник братии позавидовал славе отца Василия, начал клеветать на него, называя его льстецом, и склонил к вражде против него и настоятеля пустыни, выставляя, что отец Василий принимает к себе всевозможных посетителей, без различия пола, и тем наводит на братию соблазн. После долгого совещания, старца присудили, наконец, к изгнанию из обители.
Смиренно подчинился он этому унижению. Он сказал только: «Верно, Бог так хочет», и припомнил, что однажды, живя в Софрониевой пустыни, он спросил старца, полезнее ли будет ему оставаться там или идти в Площанскую пустынь?
— Иди в Площанск, — отвечал тогда тот старец; — там твои духовные чада, там живи и умри.
Это неисполненное пророчество само собой исполнялось теперь. В Площанской пустыни отец Василий не застал уже в живых ученика своего Серафима. Новый настоятель с радостью и уважением встретил старца и особенно был рад, узнав, что он собирается провести с ними остаток своих дней.
Вскоре глинский настоятель писал отцу Василию, прося у него прощения в том, что придал веру словам его клеветников, и убедительно просил его вернуться и тем успокоить их. Старец отвечал, что он чрезвычайно счастлив, найдя тихое пристанище в Площанской пустыни, всех Глинских с любовью лобызает и прощает.
При Площанской пустыни жила одна богатая вдова купчиха, которая на построение монастырской церкви пожертвовала сорок тысяч рублей. При ней проживало много молодых особ. Кроме того, такие же особы у неё гащивали.
Отец Василий понимал, что постоянное нахождение при обители такого количества молодых особ очень дурно влияет на братию, которая часто посещала её дом. И вот, отец Василий стал просить настоятеля, чтобы он удалил эту особу от обители. Но настоятель не решался этого сделать. Тогда, не успев у людей, отец Василий стал умолять Божью Матерь, чтобы Она отыскала путь к устройству этого дела. Его молитва была услышана.
Как-то Орловский архиерей, объезжая епархию, был, в Площанской пустыни. Отец Василий явился к нему, рассказал об обстоятельствах этого дела и просил повлиять на удаление вдовы.
Владыка обратил внимание на это заявление, призвал к себе эту вдову, и после ласковой беседы договорился с нею до того, что предложил ей перейти на жительство в Севский девичий монастырь.
Так дело и устроилось. Настоятель, узнав о ревности по этому делу отца Василия, приходил его благодарить, кланяясь ему в ноги, так как пребывание этой особы при обители было, действительно, большим злом.
Вот, несколько примеров того, как старец умел извлекать себе пользу из советов самых, по-видимому, незначительных людей.
Однажды у него разболелась рука. Когда он собирался в церковь, то боль эта сделалась столь сильной, что ему захотелось вернуться в келью. Навстречу ему попалась девочка, шедшая в церковь. Он спросил её, полезнее ли ему будет идти в церковь или вернуться в келью?
— Нет, отче, — отвечала девочка, — боль не даст Тебе стоять в церкви спокойно и молиться Богу.
Так недоразумение его было рассеяно.
Однажды старца стал смущать помысл, что настоятель плохо заботится об обители, а казначей медлителен. Свои сомнения тогда он поверил одному крестьянину и получил от него такой ответ: «Не так дела, как ты думаешь, отче; настоятель у вас хороший, и казначей всё делает хорошо». Исповеданный, этот помысл утратил свою остроту и не беспокоил более старца.
Старец Василий часто ходил в лес, чтобы в уединении там молиться Богу. Как-то раз наткнулся он на больного зверька, который лежал неподвижно. Он почувствовал к зверьку такую жалость, что взял его к себе, в келью, кормил и поил его и всячески старался его вылечить, а потом, когда он выздоровел, отнёс его, откуда взял. На следующую ночь старец увидел этого зверька во сне. Ему снилось, что зверёк подошёл к нему близко, ласково на него глядел, а потом склонил свою головку к ногам, благодаря его за заботы.
В одном городе жили две особы крайне лёгкого поведения. Старец навещал их, скорбел о них и молился Богу, чтобы Господь вразумил их, и молитва его была услышана. Грешницы раскаялись в своём поведении и из дома греха дом их стал странноприимницей.
За полтора года до смерти старец предсказал время своего конца. Однажды, он в лесу рубил нужное ему дерево и во время рубки почувствовал страшное истощение сил, упал на землю, ушиб себе поясницу и лежал без чувств. Ученики его подняли, отнесли в келью, где он был окружён собравшейся со всех сторон братией. Старец открыл глаза и обвёл всех взором с удивлением. Его особоровали и приобщали. Тогда старец весело сказал окружающим: «Не думайте, что я умираю; мне назначено ещё жить восемнадцать месяцев». С тех пор старец стал приготовляться к смерти.
Он построил себе в пустыни тесную келью, с окном на восток, и в ней затворился. Только в летние долгие дни в его затвор проникало солнце. В келье не было ничего, кроме священных книг; икона с лампадой и стул — составляли единственную её обстановку.
К старцу ежедневно приходил один из его учеников, приносивший ему воду и пищу. Старец ежедневно отправлял тут всю службу, кроме литургии, занимался умной молитвой, причём шептал молитву Христу и Богородице. Часто также произносил он молитву святого Иоанникия Великого: «Упование мое — Отец, прибежище мое — Сын, покров мой — Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе».
По праздничным дням старец приобщался святыми Дарами, которые после ранней литургии приносили к нему.
Братия и миряне жаждали услышать слово затворника, но он лишь в крайней необходимости беседовал через малое оконце и говорил: «Простите меня, отцы и братия, пришло время моему молчанию, конец мой приближается, смерть при дверях». Эти слова производили на людей сильное впечатление. Много лишений претерпел в этой жизни старец, боролся с различными наваждениями диавола и побеждал их и подвигами отшельническими достиг высшего развития своих духовных сил. И тогда остающиеся ему дни он отдал на дело руководства ближних.
Незадолго до кончины отца Василия пришли к нему сёстры Борисовской женской пустыни, Курской епархии, которые — от имени игуменьи — приглашали старца прибыть в их обитель и преподать благословение сёстрам. Сперва старец отказался. Тогда на третий день сестры опять пришли к нему и умоляли не отказывать им, и он исполнил их желание и накануне Троицына дня, с учеником своим Арсением, приехал в Борисовскую пустынь.
Старец принимал, вообще, близкое участие в судьбе этой Обители, где он завёл общежитие и помогал внешним нуждам сестёр, заботился об их спасении. И в этот приезд старца к нему приходили за советом по очереди все монахини. Иногда, покинув его, они становились под его окном и внимали его молитве: «Господи Иисусе Христе», «Господи, прости меня», «Тебе рече сердце мое: радуйся, Обрадованная», «Отверзу уста моя», «Радуйся, Невесто Неневестная», «Владычице моя», «Упование мое Отец», и потом старец снова начинал стих молитвы Иисусовой и в том же порядке повторял эти молитвы.
Кроме сестёр, заходило в келью старца и много окрестного народа. Здесь были люди, скорбящие из-за какой-нибудь беды, из-за душевной болезни или телесных недугов. Для всех жаждущих его беседы у старца всегда в изобилии хватало духовной пищи.
Однажды, во время вечерней службы, старец, усердно молясь, стал горько плакать и рыдать и после службы, собрав вокруг себя сестёр, предсказал печальные события, которые произойдут в монастыре и смену начальницы.
Действительно, в монастыре вскоре возникли смуты. Игуменья была низложена, и на место её была поставлена другая, но затем правда была восстановлена и прежняя игуменья вернулась на своё место.
Расставаясь с Борисовской обителью, отец Василий предсказал своим ученицам, что более с ними не увидится, а что они посетят его могилу, чтобы молиться об упокоении его души. Он просил их исполнить невыполненный им за болезнью обет — побывать в Воронеже и поклониться угоднику Божьему Митрофану. Он просил их также благословиться у глубоко чтимого им архиерея Антония Воронежского и просить у него молитв об упокоении его души. Когда, впоследствии, эта весть была принесена архиепископу, он глубоко скорбел об утрате старца и до конца дней своих молился об упокоении души его.
Старец просил сестёр не забывать подвигов поста и молитвы, не щадить телесных сил своих и трудиться, памятуя о дне, когда они переселятся в вечные обители. Он поручал их покрову Богоматери.
В назначенный для отъезда день в обитель прибыло множество народа и среди них — много духовных особ. Всё это общество провожало старца с пением псалмов за несколько вёрст от обители. Старец, опираясь на жезл, шёл медленно рядом с учеником своим, Арсением, а народ толпился вокруг него, желая последний раз взглянуть на отъезжающего старца.
Подойдя к ожидавшей его повозке, старец, подняв взор к небу, помолился обо всех и громко произнёс: «Благословение Господне да будет на вас всегда, ныне и присно, и во веки веков». Потом он запел слова «Господи, помилуй», при чём — по его просьбе, все подпевали ему, а затем — «Богородице Дево, радуйся».
После этого пения отец Василий в трогательных выражениях благодарил всех, провожавших его, за усердие и поклонился им до земли и затем уехал.
Встреченный с почётом в Площанской пустыни, старец стал готовиться к великому переходу. Он реже выходил из кельи и менее принимал народ, силы его ослабевали, но он не оставлял церковные службы. На просьбы его учеников пощадить свои силы, он отвечал: «Именно, теперь надо мне более бодрствовать и пользоваться общей молитвой, скоро не увижу я рукотворного храма и не услышу пения его».
В келье не оставлял он и молитвенного своего правила и, сидя, отправлял то, что не мог исполнить стоя. За два месяца до конца своего он просил своего ученика, который принимал приходящих к нему, относиться ко всем с особой лаской…
— Время моё приближается к концу, — говорил он, — нужно со всеми примириться и у всех попросить прощения и святых молитв.
В среду, на шестой неделе поста, отец Василий исповедовался и приобщился за литургией преждеосвященных даров. После церковной службы зашёл в странноприимный дом, простился со странниками и, дав им наставление, просил поминать его по его смерти.
В келье у себя он стал мастерить деревянный ящик для того, чтобы положить в него подарки для странников, но у него не хватило сил доделать его, и он поручил его своему ученику.
Потом он стал благодарить Господа за все благодеяния, излитые на него за всю его жизнь, и не раз повторял: «Сто лет пред Тобою, Господи, яко день вчерашний».
Страдая внутренним жаром, старец лёг на кусок войлока, разостланный ему по его просьбе. Духовная бодрость в нём не иссякала, и он, не переставая, повторял свои любимые стихи: «Упование мое — Отец»… «Хвалите имя Господне»… «Исполни, Чистая, веселия сердце мое»… Заставлял также читать ученика любимые свои молитвы. Когда же его болезнь усилилась и ум ослабевал, то он заставлял себя брать в руки какую-нибудь работу.
В первый день Пасхи, 19 апреля, отец Василий приобщился, при чём — было заметно, как лицо его просияло. Многие из братии приходили к нему поздравлять его с праздником и проститься с ним.
Приехал из города Севска его духовник Макарий, которому отец Василий явился во сне, прося, чтобы он поскорей приехал к нему проститься.
Наступила Фомина неделя. В понедельник ученики видели старца в особо весёлом виде, и один из них воскликнул: «Радуюсь, отче, что ты здоров».
— Теперь болеть более не буду, — ответил он.
В тот же день старец попросил этого ученика зажечь пред иконами свечи, позвать настоятеля и собрать братию. Узнав о том, что старец окончательно ослабел, настоятель с братией собрались у смертного одра старца, и он утешал скорбящих о разлуке с ним и просил молиться за него. Наконец, — он умолк, дважды вздохнул и предал Богу чистую свою душу.
Он казался спящим, и ничто не напоминало в нём смерти. Это было 27 апреля 1831 года, на восемьдесят седьмом году от рождения его.
Тело отца Василия погребено в Площанской пустыни, под алтарём Казанской церкви.
Алексей Неофитович Прокудин
Алексей Неофитович Прокудин — муж благочестивый и богобоязненный — жил в первой четверти минувшего столетия, в Нижегородской губернии, в двадцати вёрстах от Саровской пустыни.
Исполненный любви к ближнему, он всю жизнь свою посвятил на дела милосердия. Следуя слову Писания: «Всякому просящему у тебя дай», — Прокудин не жалел своего состояния на нищих, больных, вдовиц, сирых и убогих.
— Помилуйте, Алексей Неофитович, — говорили ему домашние и соседи, — что вы делаете? Всё раздаёте, а детям-то что останется?
— И, батюшка, — отвечал он, бывало, на это: — я верю, что Бог их не оставит… Ты слышишь ли, родной: ведь, он просит-то «Христа ради»: ну, так как же ему не подать?
Однажды, будучи в дороге, встретил он полураздетого нищего. Заметив, что на этом человеке нет рубашки, Прокудин приказал кучеру остановиться, разделся и, сняв с себя рубашку, отдал её нищему. Точно так же поступил он, в другой раз, и с шубой.
Алексей Неофитович был женат на лютеранке, дочери митавского суперинтенданта, Е.Ф. Фелькерзам. Будучи ревнителем православия, он скорбел о разномыслии с ним в вере доброй супруги и нередко пытался склонить её просьбами и убеждениями к принятию истинного учения, но беседы эти оканчивались нередко взаимным смущением и недовольством. Сам Господь, исполняющий во благих желание сердца верных рабов Своих, внял скорби его в предопределённое время и, наконец, обрадовал его необыкновенным, почти чудесным образом.
Это было так. Алексей Неофитович был в тесной духовной дружбе с современным ему подвижником благочестия, схимонахом Саровской пустыни молчальником Марком. Отец Марк, проводя скитальческую жизнь, нередко прихаживал к Прокудину в имение его, село Круглые-Паны, и живал у него по целым дням, пребывая летом в особо устроенной для него в саду келье, а зимой — в отдельной уединённой комнате.
Связанный обетом молчания и всегда глубоко погружённый в себя, отец Марк, зная жизнь своего друга и горячую любовь его к Богу, разрешал тут уста свои и целые дни и ночи проводил с ним в общей молитве и в собеседовании о едином на потребу.
В одно из таких посещений — Алексей Неофитович излил пред богомудрым старцем свою душевную скорбь о разномыслии с спутницей своей жизни, столь дорогой его сердцу, и о своих неудачных попытках преклонить её на сторону православия.
— Оставь этот путь, — сказал старец: — ты этим ничего не достигнешь, а только можешь вконец расстроить своё семейное согласие: ведь, в правду веруется сердцем, а сердце для убеждения требует более, чем голые слова, — ему потребно опытное внушение, подсказанному: «Вкусите и видите, яко благ Господь». Отныне ничего, ни единого слова, не говори со своей супругой о разномыслии в вере, а лучше, вот, что: памятуя слова Спасителя: «Аще два от вас совещаетеся на земли о всякой вещи, еяже аще просите, будет им от Отца Моего, Иже на небесех», — помолимся о ней Богу Всемогущему, я у себя в пустыньке, а ты — тут, дома. Он силен преклонить её убеждения к истине православия, ими же весть судьбами.
Условившись таким образом, они расстались. Разделённые пространством, они совокуплялись духом в неустанной ежедневной молитве Наставнику и Подателю премудрости, да откроет Он умные очи рабы Своей Елизаветы к познанию и уразумению истины православия. Недаром сказано: «Много может сотворить молитва праведного!»
Не много прошло дней с того времени, когда ревнители благочестия совещались о деле их совокупной молитвы, — как та, о вразумлении которой творили они тёплые и усердные молитвы, увидела чудный сон или, говоря правильнее, благодатное видение.
Елизавета Федоровна поспешила передать о нём мужу, но Алексей Неофитович, верный наставлениям старца, едва скрывая сердечную радость, равнодушно отвечал ей на это:
— Э, мой друг, мало ли что видится во сне! Нельзя всему верить!
Тот же сон повторяется и в другой, и в третий раз со всей ясностью и определённостью благодатного видения. А сон этот состоял в следующем.
Елизавета Фёдоровна увидела себя на берегу реки. Тот берег, по которому она ходила, был страшно крутой, обрывистый, совершенно бесплодный и песчаный, тогда как противоположный берег манил взоры своей красотой и свежестью. Луговая сторона его была покрыта яркой зеленью, чудными ароматическими цветами и деревьями, на которых висели сочные и питательные плоды. Было жарко. Жажда томила горемычную путницу. Между тем, крутизна берега не позволяла ей спуститься к воде, горячий песок жёг ей ноги, позади же — ни воды, ни тени, ни дерева с живительным плодом: всё мёртво, пусто, безжизненно… В недоумении и ужасе она не знала, что делать…
Вдруг — на противоположном берегу показался старец, лет преклонных и вида благообразного. Поманив её рукой, он приветливо сказал ей:
— А что ж ты медлишь переходить на наш берег?
— Да как же я перейду, — отвечала она, — если я не могу даже подойти с этой стороны к воде, чтобы утолить нестерпимую жажду? Но кто же ты, добрый старец?
— Я, — отвечал он, — Марко Фраческий. Когда примешь истинную веру, то перейдёшь сюда.
При этом он наклонил растущее у берега дерево, которое послушно легло широким мостом через реку. Старец перешёл её и подал руку тосковавшей жене и безопасно перевёл её на свою сторону.
Увидав в третий раз этот явно знаменательный сон, Елизавета Фёдоровна не захотела уже далее откладывать своего обращения к православию, а прямо потребовала от мужа, чтобы он немедленно послал в Арзамас, к бывшему тогда архимандриту тамошнего Спасского монастыря Александру, который и присоединил её к православной церкви.
Обрадованный таким осязательным знаком благоволения Божия, Алексей Неофитович тогда же заказал в Москве одному из известных художников сделать большую картину, изображающую подробно это благодатное видение, обратившее его любимую супругу в недра святой православной греко-российской церкви.
Алексей Неофитович скончался мирной христианской кончиной, с напутствием страшных Христовых Тайн, на 42-м году от рождения, 1827 года, 1 октября, в день Покрова Божией Матери.
Во всю жизнь свою питал он к Заступнице рода человеческого горячее чувство сыновней любви и даже в обыкновенных беседах называл Её не иначе, как: «Матушка моя, Заступница моя».
Убогие и нищие горько оплакивали раннюю кончину обнищавшего их ради и на своих плечах несли его до места вечного упокоения.
Тогда уже не было в живых духовного друга его, схимонаха Марка, зато другой великий подвижник Саровской пустыни, Серафим, приготовил раба Божия к переходу в лучшую жизнь.
— Готовься, Алексей, — сказал он ему при последнем свидании: — тебе предстоят золотые горы.
Алексей Неофитович сам назначил себе место для могилы и стал готовиться к смерти, как к приёму давно желанного друга, с упованием и твёрдостью христианина.
Алексей Неофитович очень любил умиротворять враждующих между собой. Надобно было видеть, как радовался он, когда благоволением Божиим — усилия его увенчивались желанным успехом.
Памятником благочестия Алексея Неофитовича остались две церкви, построенные им по обеим сторонам его сельского дома; одна — во имя Казанской Божией Матери, и другая — во имя святителя Николая Чудотворца. Им же пожертвовано в московский Успенский собор богатое украшение: распятие, которое и поныне известно под именем «Прокудинского».
Елизавета Фёдоровна Прокудина пережила благочестивого своего супруга ровно двадцатью годами и скончалась в 1847 году, 3 октября, быв строгой ревнительницей преданий и уставов церкви православной.
Сохранилось драгоценное свидетельство о нравственном образе Алексея Неофитовича (или, как звали его в общежитии, Алексея «Нефёдыча») в воспоминаниях о нём госпожи Аксаковой.
Госпожа Аксакова в детстве своём с несколькими семьями высшего нижегородского общества побывала, в Сарове, у старца Серафима.
Богомольцы не застали старца в его Саровской келье: очевидно, он ушёл в своё лесное уединение.
— Попробуйте сами, не откликнется ли кому из вас? — сказал старик вожатый, обращаясь к богомольцам.
Обычный возглас у закрытой двери повторили другие, — пробовали и женщины и дети…
— Чтобы вам, Алексей Нефёдович, — робко пригласила моя мать высокого господина в отставном гусарском мундире, человека ещё молодого по гибкости стана и блеску чёрных глубоких глаз, — старца же по седине в усах и по морщинам, бороздившим высокий лоб.
Алексей Неофитович Прокудин быстро прошёл к двери, нагнулся к ней и с уверенностью друга дома, с улыбкой уже готового привета на лице, мягко проговорил грудным тенором:
— Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас!
И на его симпатичный голос не послышалось, однако, ответа из-за закрытой двери.
— Коли вам, Алексей Нефёдович, не ответил, стало быть — старца-то и в келье нет! Идти разве, понаведаться под окном, не выскочил ли он, как послышался грохот вашего поезда на дворе?
Мы вышли за седеньким вожатым из коридора другим, уже более коротким путём. Обогнув за ним угол корпуса, мы очутились на небольшой площадке, под самым окном отца Серафима. На площадке этой — между двумя древними могилами, действительно, оказались следы от двух, обутых в рабочие лапти, ног.
— Убёг, — озабоченно проговорил седенький монашек, смущённо поворачивая в руках ненужный теперь ключ от опустевшей кельи.
После панихиды отец игумен благословил нас, богомольцев, отыскивать отца Серафима в бору:
— Далеко ему не уйти, — утешал игумен: — ведь, он, как и отец наш Марк, сильно калечен на своём веку. Сами увидите: где рука, где нога, а на плечике горб. Медведь ли его ломал… Люди ли били… Ведь, он — что младенец, не скажет. А всё вряд ли вам отыскать его в бору. В кусты спрячется, в траву заляжет. Разве сам откликнется на детские голоса. Забирайте детей-то побольше, да чтобы наперёд вас шли. Непременно бы впереди бегли… — кричал ещё игумен вослед уже двинувшейся к лесу толпе.
Весело было сначала бежать детям одним, совсем одним; — без присмотра и без надзора бежать по мягкому, бархатному слою сыпучего песка. Лес становился всё гуще и рослее. Под высокими сводами громадных елей стало совсем темно… По счастью, где-то вдалеке блеснул, засветился солнечный луч между иглистыми ветвями… Они ободрились, побежали на мелькнувший вдалеке просвет, и скоро все врассыпную выбежали на зелёную, облитую солнцем поляну.
Смотрят: около корней отдельно стоящей на поляне ели работает, пригнувшись чуть ли не к самой земле, низенький худенький старец, проворно подрезая серпом, высокую лесную траву. Серп же так и сверкает на солнечном припёке.
Заслышав шорох в лесу, старичок быстро поднялся, насторожив ухо к стороне монастыря, и затем, точно спугнутый заяц, проворно шарахнулся к чаще леса. Но он, не успев добежать, запыхался, робко оглянувшись, юркнул в густую траву недорезанной им куртины и скрылся от детей из виду. Тут только вспомнился детям родительский наказ при входе в бор, и они чуть ли не в двадцать голосов дружно крикнули:
— Отец Серафим! Отец Серафим!
Заслышав неподалёку от себя звук детских голосов, отец Серафим не выдержал в своей засаде, и старческая голова его показалась из-за высоких стеблей лесной травы. Приложив палец к губам, он умильно поглядывал на нас, как бы упрашивая ребяток не выдавать его старшим, шаги которых уже слышались в лесу.
Протоптав к нам дорожку через всю траву, он, опустившись на траву, поманил детей к себе и — крошка Лиза первая бросилась старичку на шею, прильнув нежным лицом к его плечу, покрытому рубищем.
— Сокровища, сокровища… — приговаривал он едва слышным шёпотом, прижимая каждого из детей к своей худенькой груди.
Дети обнимали старца, а, между тем, замешавшийся в толпу детей подросток, пастушек Сёма, бежал со всех ног обратно к стороне монастыря, зычно выкрикивая:
— Здесь, сюда. Вот, он… Вот, отец Серафим. Сю-ю-да-а!..
Старец пошёл один, слегка прихрамывая, к своей хибарке над, ручьём. Подойдя к ней, он оборотился лицом к поджидавшим его богомольцам. Их было очень много.
— Нечем мне угостить вас здесь, милые, — проговорил он мягким, сконфуженным тоном домохозяина, застигнутого врасплох среди разгара рабочего дня.
И старец просит детей нарвать лучку из его огорода.
Получив его благословение, все стали поодаль почтительным полукругом, и смотрели издали на того, кого пришли посмотреть и послушать.
Много было тут лиц, опечаленных недавним горем; большинство крестьянок повязано было, в знак траура, белыми платками. Дочь старой няни, недавно умершей от холеры, тихо плакала, закрыв лицо передником.
— Чума тогда, теперь холера, — медленно проговорил пустынник, как будто припоминая про себя что-то давно, давно минувшее.
— Смотрите! — громко сказал он. — Вот, там ребятишки срежут лук — не останется от него поверх земли ничего… Но он подымется, вырастет сильнее и крепче прежнего… Так и наши покойнички, — и чумные, и холерные..; И все восстанут лучше, краше прежнего. Они воскреснут. Воскреснут. Воскреснут, все до единого…
Не к язычникам обращался пустынник с вестью о воскресении. Все тут стоявшие твердили смолоду «о жизни будущего века». Все менялись радостным приветствием в «светлый день». А, между тем, это громкое: «воскреснут», «воскреснут» — провозглашённое в глухом бору, устами, так мало говорившими в течение жизни, пронеслось над поляной, как заверение в чём-то несомненном, близком.
Над смолкнувшей поляной как будто тихий ангел пролетел.
Отец Серафим поманил к себе Прокудина рукой:
— Скажи им, — сказал он, — сделай милость, скажи всем, чтоб напились скорей из этого там родника. В нём вода хорошая. А завтра я сам буду в монастыре. Непременно буду.
* * *
Настало прощальное свидание со старцем. Все, богатые и бедные, ожидали его, толпясь около церковной паперти. Когда он показался в церковных дверях, глаза всех были устремлены на него. На этот раз он был в полном монашеском одеянии и в служебной епитрахили. Высокий лоб его и все черты его подвижного лица сияли радостью человека, достойно вкусившего Тела и Крови Христовых; в глазах его, больших и голубых, горел блеск ума и мысли. Он медленно сходил со ступеней паперти и, несмотря на прихрамывание и горб на плече, казался и был величаво прекрасен.
Живо помню звуки голоса, говорившего, «как власть имеющий» малому стаду собравшихся в Сарове богомольцев.
Но — вот — паломники, между которыми, как всегда, было много хилых, слабых от старости, женщин и детей, стали расходиться и разъезжаться. На монастырском дворе, то и дело, слышался грохот отъезжавших экипажей более состоятельных богомольцев.
И наши лошади стояли у крыльца гостиницы. Сытые кони били оземь копытами, поторапливая своим нетерпением прислугу, разносившую по экипажам нашу дорожную кладь. К Алексею Нефёдовичу, ехавшему верхом и заносившему уже ногу в стремя, подошёл старый монастырский служка.
— Ещё утресь, — сказал он, — отец Серафим, выходя из церкви, изволил шепнуть мне мимоходом свой наказ, чтобы вы, Алексей Нефёдович, не отъезжали вечером, не повидавшись с ним ещё раз.
— Проститься хочет старый друг, отец мой духовный, — заметил на это Прокудин и, оборотившись к нам, промолвил:
— Идите за мной и вы все!..
И, вот, вся наша семья, с отставным гусаром во главе, снова потянулась по длинным коридорам корпуса.
Дверь в прихожую отшельника была открыта настежь, как бы приглашая войти. Мы молча разместились вдоль стены длинной и узкой комнаты, напротив дверей внутренней кельи.
Последний замиравший луч заходившего солнца падал на выдолбленный из дубового кряжа гроб, уже десятками лет стоявший тут в углу, на двух поперечных скамьях. Прислонённая к стене, стояла наготове и гробовая крышка…
Дверь кельи беззвучно и медленно отворилась. Неслышными шагами подошёл старец к гробу. Бледно было его бескровное теперь лицо, глаза смотрели куда-то в даль, как будто сосредоточенно вглядываясь во что-то невидимое, занявшее всю душу, весь внутренний строй человека.
В руке его дрожало пламя поверх пучка зажжённых восковых свечей. Налепив четыре свечи на окраинах гроба, он поманил к себе Прокудина и, затем, пристально и грустно глянул ему в глаза. Перекрестив дубовый гроб широким крестом, он глухо, но торжественно проговорил:
— В Покров…
Слово святого старца было понято как самим Прокудиным, так и окружающими, как предсказание его — Прокудина — кончины. Под, потрясающим впечатлением этого предсказания покинули мы Саровскую обитель.
Вот, как сбылось прорицание батюшки отца Серафима, а сбылось оно в том же году.
Наступил праздник Покрова Богородицы. Что сделалось в этот день с нашим Нижним, всегда таким спокойным, когда с него сбывает ярмарочная суматоха и он засыпает на всю зиму, как бы мёртвым сном. Четверня за четвернёй несётся мимо нашего дома на конце Малой Покровки. Кажется — всякий, имеющий экипаж, дал себе слово проехаться по этой улице, поворотить направо и остановиться перед большим белым домом баронессы Моренгейм. Здесь в эту зиму квартировал А.Н. Прокудин. Он сегодня приобщался Святых Тайн и весь город ехал сюда, чтобы его поздравить. И наши все старшие отправились туда же. Лошадей, разумеется, не запрягали, так как из окон нашей гостиной видны были наискось окна дома Моренгейм. Нас меньших, меня и сестрёнку, оставили под охраной мадам Оливейра, старушки испанки, которую Прокудин отыскал где-то в трущобах Москвы, умирающую от голода и нужды, и привёз в дом моей матери, чтобы она её выходила и откормила, пока священник, отец Павел, будет её обучать догматам и обрядам нашей веры.
Пламенным желанием испанки было уже теперь постричься в монахини в лежащем неподалёку Девичьем монастыре. Сидя в этот памятный день с нами, девочками, и работая своё нескончаемое штучное одеяло, бедная иностранка посматривала на свои дряхлые, худые руки и вздыхала, думая, вероятно, когда-то они пополнеют? Но, вот, тщательно сложив свою работу, она сказала нам:
— Не пойти ли нам тоже с вами прогуляться до дома Моренгейм? В дом мы с вами, разумеется, не войдём, но мы можем уловить минуту, когда мой благодетель выйдет на балкон, чтоб поклониться ему и поздравить его.
Мы собрались в одну минуту и, завернув за угол, стали медленно прохаживаться перед домом, где уже гуляли другие — кто с гувернанткой, а кто и с нянькой.
На колокольне ближней церкви пробило два часа. Стеклянная дверь на балконе Моренгейма зашевелилась, но когда она открылась, то из неё вышел не хозяин дома, а только общий всему Нижнему врач и друг Линдегрин. Робко подошла к решётке испанка, спрашивая:
— Что наш Прокудин?
— Что ваш Прокудин? — ответил доктор. — Он здоровее всех нас и, вероятно, доживёт до ста лет. Теперь прохаживается себе по комнатам своим добрым шагом, угощая своих гостей рассказами о делах Спасителя на земле и так рассказывает, что всякому кажется, будто бы он слышит это в первый раз. Желая совершенно убедиться в его здоровье, я выдумал какой-то глупый анекдот, где приходилось щупать пульс у каждого из гостей. Я пощупал пульс у толстого господина Смирнова и у старой мадам Погуляевой, и пульс того, который, по предсказанию, должен был скончаться в этот день, оказался ровнее и крепче всех. Извольте после этого верить предсказаниям!
И добрый немец, повернувшись на одной ножке, почтительно поклонился испанке, послал каждой из нас по воздушному поцелую и ушёл обратно за стеклянную дверь.
На колокольне пробило половина третьего. Вдруг — стеклянная дверь наверху распахнулась, и сбежал опрометью по ступеням бледный, как смерть, лакей; он кричал:
— Умирает, меня послали за духовником.
Но как ни близка была церковь, и как ни спешил отец Павел, всё же — ему пришлось дочитать отходную над усопшим над холодеющим уже трупом того, кого бедные и богатые называли другом нищих и убогих. Умирая, он опустился на кресло, прильнув головой к его высокой спинке. Правильные, благородные черты лица отставного гусара были совершенно спокойны. Казалось — это младенец, тихо уснувший на коленях матери.
— Преставился, — громко сказал седовласый пономарь, стоявший с кадилом в руках.
— Да, — прибавил священник, утирая крупную слезу со щеки: — и теперь он там, откуда же отбеже и печаль, и болезнь, и воздыхание.
Врачи не обнаружили в скончавшемся никакой болезни и не отыскали никаких признаков приближавшейся смерти.
Может статься, в Нижнем или в окрестностях Сарова найдётся кто-либо, ещё помнящий смерть Прокудина, этого человека, горячо любившего Бога и ближнего. Он, вероятно, подтвердит мои воспоминания. Помнят ли в Сарове или нет прорицательное слово, сказанное отшельником своему другу и ученику, в виду издавна приготовленного им для себя гроба, — не знаю. Во всяком случае — оно сбылось.
Иеромонах Максим
(«строитель» обители преп. Мефодия Пешношского).
Пешношский монастырь — обитель преподобного Мефодия Пешношского — находится в Московской губернии, в Дмитровском уезде, в двадцати пяти вёрстах от города Дмитрова и в тридцати пяти — от города Клина. В этой обители с благоговением поминают бывших настоятелей — архимандрита Игнатия, скончавшегося в 1796 году и архимандрита Макария, скончавшегося в 1811 году. Этим настоятелям обитель обязана тем внутренним и внешним благоустройством, которые высоко поставили её в ряду общежительных русских монастырей, когда она уже клонилась к упадку и уничтожению. Из учеников архимандрита Макария обитель помнит жизнь строителя иеромонаха Максима.
Строитель иеромонах Максим назывался в мирской жизни Никитой и родился в 1755 году, в Твери, от благочестивых родителей купеческого звания — Василия и Параскевии Погудкиных. У отца его была обширная пряничная торговля, и по любви к церкви Божией он служил церковным старостой при кафедральном тверском соборе. Детей своих Погудкины воспитывали в благочестии и страхе Божием, и среди них особенно выделялся Никита. Ревность к духовному чтению, молитва, строгое воздержание — всё показывало в нём особенного человека. Родители радовались на него и не стали ему возражать, когда — на тридцатом году своей жизни — он открыл им своё давнишнее намерение поступить в монастырь.
В это время до слуха Никиты дошла весть, что Пешношский монастырь обновляется по новому обжещительному уставу. Никите захотелось видеть эту обитель, и он, простившись с родителями, отправился один в путь. До Пешноши он дошёл благополучно, но вследствие разлива реки Яхромы, которая протекает около обители, должен был остановиться в версте от монастыря, при часовне преподобного Мефодия, и ждать здесь перевоза. Тут, глядя на обитель, окружённый водами, он думал о ней, как о тихом пристанище среди волнений житейского моря.
Молодой послушник-перевозчик, впоследствии Самуил, строитель Голутвинский, известный своей строгой жизнью, перевёз его в монастырь и представил его настоятелю, иеромонаху Игнатию.
Отец Игнатий был из числа учеников знаменитого старца отца Феодора, происходившего из известного рода дворян Ушаковых и служившего в юности в миру в Преображенском полку. За своё заступничество за крестьян против местного недобросовестного воеводы отец Феодор из обновлённой им Санаксарской пустыни, где он со своими учениками вёл в высшей степени строгую жизнь, был послан в заточение в Соловки. Тогда вся братия санаксарская разошлась по другим монастырям. Отец Игнатий поселился в Введенской Островской пустыни, близ города Покрова, Владимирской епархии, у строгого подвижника, отца Клеопы. Этот воспитатель отца Игнатия снабдил его той духовной мудростью, которая появилась в нём в качестве строителя Пешноши и настоятеля знаменитых монастырей Тихвинского Новгородского и Симонова Московского, где он завёл общежительный устав.
Когда, в 1785 году, Никита пришёл на Пешношу, там только что вводился общежительный устав. Требовалась большая ревность и терпение, чтобы перенести все труды монастырской жизни. Обитель была неустроенная, братия малочисленная, богослужение продолжительное. Не привыкший к таким подвигам, Никита впал в уныние и задумал оставить обитель. Прозорливый отец Игнатий заметил это. Однажды он, призвав его к себе, долго уговаривал его не предаваться отчаянию, не обращаться назад, но не успел уговорить его, и Никита, выйдя из обители, вернулся домой. Но мирская жизнь была не по нём. Он тосковал теперь в миру, вкусивши жизни монастырской, — ещё больше, чем раньше, — и не в силах был оставаться дома. Он пошёл, на север России, в Соловецкий монастырь. Однако, суровый климат Соловков показался ему невыносимым.
В это время он услыхал, что выходец из Сарова, отец игумен Назарий, вводит новый устав в древней Валаамской обители. Никита поступил на Валаам, где мечтал окончить свои дни. Но отец Назарий, который пристально следил за своими иноками, заметил, что в нём есть ревность не по разуму, не соответствующая его летам, представляющая для него немалую опасность. Об этом своём открытии он обиняками поведал Никите в таких словах:
— Один послушник жил на Пешноше и прежде времени начал заниматься умной Иисусовой молитвой. Старец ему это воспретил, но он не послушался, перешёл в наш Валаамский монастырь и у нас продолжал заниматься той же молитвой. Это ему и здесь воспрещалось, но он оставался непокорным. Так он впал в прелесть вражью. В один праздник взошёл на высокую колокольню, бросился на землю и убился до смерти, чем лишил себя и временной, и вечной жизни. Это было недавно, — заключил старец свою иносказательную речь.
Никита, поняв наставление, решился тогда распроститься с Валаамом.
Родители Никиты были ещё живы, и он опять устроился у них, но остался там не долго. Он всё продолжал мечтать о монашестве. В Твери он сблизился с купеческим сыном Петром Волковым, который разделял с ним его мечты. Они порешили вместе поступить в один монастырь, взяли благословение от родителей, выправили себе паспорта, и пришли в Пешношу.
В это время строитель Игнатий действовал уже в качестве архимандрита известного Тихвинского монастыря, Новгородской епархии, а на Пешноше его заменил иеромонах Макарий, он и принял обоих пришельцев.
Отец Макарий был достойный преемник отца Игнатия. К нему имел особое доверие знаменитый митрополит Платон. Он восстановил восемь монастырей, и двадцать четыре ученика его были настоятелями в разных обителях.
От Игнатия Макарий получил обитель неустроенной. Макарий же не только поднял её из развалин, но и духовно восстановил её и прославил. Он же ввёл в ней новый общежительный устав. Этот устав святой Афонской горы имел в виду не только порядок церковной службы, но и всё монастырское благочиние.
Послушник Никита смиренно подчинился требованиям строгого устава, был неутомим в церковной и келейной молитве, трудолюбив в послушаниях и во всяком ремесле, необходимом общежитию.
В 1795 году, в сорокалетнем возрасте, Никита Погудкин был пострижен отцом Макарием в мантию, с именем Максима. Через два года он был рукоположен в иеромонаха и затем избран духовником братии, ризничим и библиотекарем. Вскоре и друг его, послушник Пётр Волков, с которым он пришёл на Пешношу из Твери, пострижен был в мантию, с именем Пахомия.
В качестве духовника, отец Максим хотел стать примером для всей братии. Ему хотелось спасаться в безмолвии, но Бог определил ему другие пути.
В 1793 году отец Макарий построил в двух вёрстах от обители, в монастырском лесу, пустынные кельи, чтобы временами туда уединяться и дать возможность уединяться и другим любителям безмолвия. Среди них был и иеромонах Максим. Но его жизнь в пустыни, которая — вообще — представляет собой очень много опасностей, была прервана, для Максима таким обстоятельством.
Однажды, в полночь, он стоял на молитве, как вдруг совне кельи послышался необыкновенный шум и говор. Он страшно перепугался и бросился опрометью в монастырь, и затем уже никогда не удалялся в пустыню.
В 1805 году митрополит Платон, который отличал Пешношскую обитель и называл её «училищем благочестия, примером жизни монашеской», назначил её настоятеля Макария заведующим многими обителями, где Макарий должен был заводить общежитие по образцу Пешноши и назначать в них настоятелей из своих учеников. В московский Сретенский монастырь был назначен настоятелем, против своей воли, отец Максим. Он не подчинился этому требованию и явился к митрополиту просить его избавить его от этой чести. Владыка показал себя строгим и вместо настоятельства послал его в тот же Сретенский монастырь в число братства. Вскоре, однако, отец Максим перешёл в Берлюковскую пустынь, где был назначен строителем его друг Пахомий. В Берлюках любитель безмолвия хотел подготовить себе для жительства пещеру. Но так как место было песчаное, с просачивающейся водой, то начатая им пещера обрушилась.
После смерти, в 1811 году, Пешношского архимандрита Макария, был переведён на Пешношу из Берлюковской пустыни отец Пахомий, который взял с собой и отца Максима на прежнюю должность казначея и духовника братии.
В 1812 году Господь сохранил Пешношу, как и Троице-Сергиеву лавру от нашествия французов, хотя они были от неё всего в двадцати пяти вёрстах. Тем не менее, братия была распущена, а монастырские ценности — утварь, ризница и ризы с икон — запечатаны в ящики и отправлены, с казначеем, отцом Максимом, в село Кимры на Волге, в Тверской губернии.
В 1819 году строитель Пахомий был уволен от управления обителью, и митрополит Серафим предписал консистории высказать своё мнение, кого определить в Пешношскую обитель, «яко первейшую и знатнейшую пустынь» строителем. Был представлен строитель Коломенского Бобренева-Голутвина монастыря, отец Самуил. Но голутвинские монахи заявили, что они уйдут за Самуилом на Пешношу, а коломенские жители просили не лишать их отца Самуила и оставить его по-прежнему в Голутвинском монастыре. Самуил был оставлен, но ему было предписано немедленно отправиться на Пешношу и избрать, с согласия лучшей братий, достойнейшего из них в строители.
Все указали на Максима. Но он отнекивался, указывая — между прочим — на свои преклонные годы и телесную немощь. В конце концов, он должен был согласиться.
Около этого времени с отцом Максимом случилось странное происшествие. Однажды, ночью, он найден был в своей келье завёрнутым в полушубок, скорченным и втиснутым под келейный столик; едва живого вынули его из-под столика. Старец после этого долго был нездоров, но оправился и никому никогда не говорил об этом искушении. Видевшие страдания его дивились, как он мог остаться живым, как могли остаться на своих местах его кости. Несомненно, это было вражеское искушение.
Промысл Божий устроил так, что тот самый отец Самуил, который когда-то, бывши послушником и неся послушание на перевозе, представил в первый раз молодого Никиту, будущего отца Максима, Пешношскому настоятелю, — теперь привёз его, как выборного пешношской братии, к Московскому митрополиту.
С водворением на настоятельстве отца Максима как будто вернулись блаженные дни отца Макария. Так же продолжительно совершалось богослужение, так же чинно стояла братия, то же слышалось стройное благоговейное пение, внятное чтение, та же была простота в обращении и назидательной жизни настоятеля.
Отец Максим пользовался таким уважением среди крестьян, что ему удавалось прекращать между ними поземельные споры. Они боялись оскорбить чем-нибудь отца Максима, не ловили в монастырских рыбных ловлях, не рубили леса и не травили лугов и даже не позволяли своей молодёжи петь песен в виду монастыря.
Филарет, сменивший митрополита Серафима на Московской кафедре, относился к отцу Максиму с неизменною любовью и уважением.
При отце Максиме Пешношская обитель украшалась, обогащалась и прославлялась, как было при архимандрите Макарии… Много было привезено при нём святынь, много возведено зданий.
Замечательное обстоятельство сопровождало освящение больничной церкви в 1829 году. Митрополит был намерен в этот день освящения храма возвести отца Максима в сан игумена. Максим просил избавить его от этой чести и на настояния владыки объявил, что решительно уклоняется. Опасаясь, тем не менее, что митрополит во время литургии рукоположит его, он нашёл предлог в день освящения храма уклониться от сослужения в литургии. Митрополит оценил это намерение старца и больше никогда не напоминал ему об игуменстве.
1830 год, год страшной холеры, прошёл для обители благополучно. Настоятель советовал братии поститься, молиться и — сколь можно чаще — причащаться Святых Таин. В обители никто не умер, несмотря на то, что её храм, гостиница и странноприимная были открыты для всех приходивших в обитель.
Много надо было духовного опыта, силы духа, ревности, чтобы вести обитель в сто тридцать пять человек разного возраста, звания и образования. Лучший способ управления — был собственный пример жизни строителя. Никому не приходила мысль не явиться вовсе или запоздать к ночному богослужению или к вечернему правилу, когда на них являлся первым строитель. Никому не приходило в голову лениться, когда приходивший на послушания старец просил: «Потрудитесь, отцы и братия, потрудитесь ради Бога». Никто не оправдывался в своих поступках, когда старец, начинал его обличать со слов: «Зачем пришёл в монастырь? Лучше бы жил в миру!» — и доводил согрешивших до покаянных слёз. Отец Максим очень редко выезжал из обители по необходимым монастырским делам и передвигался в той же самой простой кибитке, в которой ездил и отец Макарий.
Жизнь его была вся на виду. Он ничем не отличал себя от прочей братии ни в пище, ни в одежде. Он был горячим любителем стройного церковного пения и часто призывал к себе певцов, заставляя их спеваться перед собой, подпевал сам и исправлял ошибки. Отец Максим был далеко известен своей подвижнической жизнью, и многие подвижники благочестия искали знакомства с ним или даже проводили в его обители последние годы жизни.
Митрополит Филарет часто обращался к отцу Максиму с просьбой указать иеромонаха, способного быть настоятелем обители.
Старец уклонялся от посетителей. Простая, сердечная беседа его производила на присутствующих глубокое впечатление. О чём бы ни заговорили с ним, но — так или иначе — он непременно находил случай поговорить о смерти, страшном суде и вечности. При разговорах же о делах мирских всегда молчал. Если спрашивали отзыва его о каком-либо постороннем лице, он отвечал: «Не знаю, не знаю, Бог весть». Разговоров пустых, шуточных не терпел. Редко когда показывалась улыбка на устах его, а смеющимся никто никогда его и не видал. Не беседа только назидала посетителей, но самый вид старца, его глубокое смирение, благолепная седина, поступь, взгляд — всё невольно заставляло благоговеть к нему.
Многие из лиц светских имели его своим духовным отцом. Старец не уклонялся и от этой нелёгкой обязанности. «С каким, бывало, умилением идёшь к отцу Максиму на исповедь, — рассказывала одна из его духовных дочерей. — Сколько советов, вразумлений, утешений услышишь от него, какою любовью к Спасителю горело его сердце. Он сокрушался о грехах кающегося гораздо более, нежели сам кающийся».
Пешношские старцы говорят: «что он кому предсказывал, то всё сбывалось». Вот, случай его прозорливости. «Однажды я была на Пешноше вместе со своими родственниками, — рассказывает некая г-жа Фриденталь, — и, когда они стали сбираться домой, я решила остаться там поговеть. Но как денег с собой не имела, просила родственников прислать мне их, как можно поскорей. Пред отъездом мы все зашли к отцу Максиму. Благословив их и сказав им несколько напутственных слов, он обратился ко мне и сказал: „А ты, Наталья, останься у нас, поговеешь; мы исповедуем и без денег“. Кто ему сказал, что я хочу остаться говеть и что с собой не имею денег?»
С восьмидесятилетнего возраста отец Максим, сохранявший до того бодрость и крепость, почувствовал слабость и стал настоятельно проситься у митрополита Филарета на покой. Не сразу сдался митрополит на просьбу и предписал монастырю всячески покоить своего бывшего настоятеля. Отец Максим поселился в кельях, где жил его наставник, архимандрит Макарий. Здесь и прожил он до конца своей жизни, как заключённый во гробе; из кельи, кроме храма, он никуда не выходил, ни в какие дела, ни в начальственные, ни в братские не вмешивался. Редко кто нарушал его безмолвие и то только для духовной беседы. Как провёл он в духовном отношении эти последние четырнадцать лет своей жизни, неизвестно.
Он довольствовался самым небольшим количеством простейшей пищи. Видно было, что кожа на его лбу отвердела от частых земных поклонов, одеяние на плечах протёрто от правильного истового изображения креста. По его целомудрию никто никогда не видал его нагим ни в бане, ни в реке. Если он когда и беседовал с женщинами, то только о предметах духовных и при других людях. Любимым его подельем было производство коробочек, которые он бесплатно раздавал братии и мирянам или переплетал книги. Так жил он, скрываясь, в течение почти пятнадцати лет.
На девяносто пятом году он так ослабел, что еле мог добраться до храма. Он с первым ударом колокола, чуть передвигая ноги, с поддержкой келейника отправлялся в церковь, и в алтаре с умилением выслушивал всё богослужение. Господь чудесно подкреплял его, и этот девяностопятилетний старец сохранил свой рассудок, зрение и слух в полной целости до конца жизни.
«Старец Максим, — вспоминают современники, — лицом был приятного вида, имел глаза серые, брови наклонные, нос прямой, чело кругло-выпуклое, власы редкие и русые, а на браде седые, голос тихий, руки сухие, росту был небольшого, телом весьма тощ, походку имел всегда тихую, старческую».
Он перестал ходить в храм лишь за три дня до смерти. В последний раз отстоял он литургию в праздник Благовещения. Затем отправился к игумену Сергию и всё время говорил о милосердии Пресвятой Богородицы. К ночи старец в последний раз слег в постель. Двадцать седьмого марта пожелал приобщиться для подкрепления духа, дабы благонадёжно вступить в вечность. Он вслух молился Пресвятой Богородице, чтобы Она защитила его Своим покровом в час смерти.
Двадцать девятого марта, за несколько часов до конца, он снова приобщился Святых Таин, твёрдо прочитал молитву перед причащением: «Верую, Господи, и исповедую».
Над ним игуменом Сергием была прочитана отходная. Старец просил прощения и молитв у игумена и братии. Затем замолчал, перекрестился, взглянул на икону Богоматери, закрыл глаза, протянул вперёд руки, словно идя кому-нибудь навстречу, и безмятежно почил двадцать девятого марта 1850 года, в первом часу пополудни.
Тело его было положено в гроб, давно им самим для себя приготовленный. Так как старец не позволял снимать с себя портрета при жизни, то портрет этот был снят с него, лежащего во гробе. Старец схоронен в настоятельской усыпальнице, под колокольней.
Такова была тихая и праведная жизнь этого замечательного русского подвижника.
Мелания затворница
В Орловской епархии, при городе Ельце, находится уединённая Каменная гора, отделённая от города речкой Ельником. С других сторон она отрезана каменистым рвом. В прежнее время, поросшая лесом, она привлекала своей тишиной любителей безмолвия, которые и селились по отлогой её части. Тут же в подгорье, на малом ровном месте, бил превосходный ключ холодной воды, которую древние иноки назвали святой.
По преданию, здесь жили отшельники, а в 1675 году уже был монастырь Курской иконы Божией Матери с кельями для монахов. Но в безвыходном положении находились женщины и девушки елецкие, имевшие призвание к духовной жизни. Им приходилось скитаться по домам набожных жителей города, а для богослужения посещать то ту, то другую из городских приходских церквей.
На это их бедственное положение обратил внимание Воронежский епископ, знаменитый святитель Митрофан, к епархии которого принадлежал Елец. Елецких монахинь, которые имели уже как бы старшую над собой в лице опытной инокини Иулиты, святитель поместил в монастырь, что на Каменной горе, а монахов из того монастыря перевёл в Елецкий Троицкий монастырь.
Из первоначальных подвижниц обители памятна схимонахиня Елизавета, супруга схимонаха Митрофана, ученика святителя Тихона Задонского, скончавшаяся первого августа 1765 года.
Из любви к Богу она оставила мирскую жизнь и богатство, по взаимному согласию с мужем, и довольно долго прожила в подвигах на Каменной горе. В то время вокруг этой горы был пустынный лес, в котором часто укрывались беглые солдаты и разные бродяги. Иногда они приходили к дверям кельи схимонахини Елизаветы, требуя себе пищи. Она, по своему милосердию, не боялась их, как опасных людей; но с кротостью, как братьям своим, подавала им хлеб и овощи.
Около ста лет (с 1683 года) этот женский монастырь существовал в благоустройстве и изобилии. Но 12 апреля 1769 года выгорел почти весь Елец. Сгорел и монастырь. И монахини, и послушницы были перемещены в Воронежский женский монастырь. Только две инокини остались на прежнем месте, предпочитая лучше жить под открытым небом, чем оставить родное пепелище: это были — 60-летняя Ксения и 80-летняя Агафья.
Узнав о великом испытании, перенесённом Ельцом, святитель Тихон, живший в то время на покое, в городе Задонске, прислал приближенного своего схимонаха Митрофана, чтобы ободрить скорбящих жителей и подать нуждающимся тайную милостыню. Митрофан посетил и стариц Ксению и Агафию, которые показали ему три сохранившиеся невредимыми в огне иконы — Спаса Вседержителя, Троеручицы и Знамения. Митрофан — от имени святителя ободрял инокинь, что это место недолго будет в запустении, но вскоре обновится.
Сначала старица Ксения устроила себе и Агафии малую келью из каменного погреба и дождалась того времени, когда возникла малая деревянная церковь и новые кельи на месте погоревшей обители.
Елецкие жители посещали Каменную гору и оказывали посильную помощь монахиням, хотя и не могли разом возобновить обитель. Одно необыкновенное видение подтвердило веру инокинь в судьбу Каменной горы. Однажды — после долгой молитвы Ксении — на том месте, где был престол сгоревшей церкви, она, с сотрудницей своей Агафьей, видела в небе всадника, который простёр руку над местом бывшей обители, осенил её благословением и сказал: «Буди имя Господне благословенно на месте сем от ныне и до века!» Прибавив, что он — мученик Христов, Иоанн Воин, он стал невидим.
Возобновлением своим Елецкий женский монастырь на Каменной горе обязан святителю Христову Тихону.
Монахиня Воронежского монастыря, елецкая уроженка, Матрона Ивановна Солнцева, получила от святителя Тихона совет поселиться в Ельце на Каменной горе. Святитель ей предсказал, что монастырь возобновится.
Мало-помалу, на Каменную гору стали собираться новые сёстры, была выстроена церковь. Святитель Тихон, бывая в Ельце, навещал монахинь и давал им советы по духовной жизни. А елецких граждан просил не оставлять сестёр своей помощью. Во время недостатков их святитель сам посылал им всё нужное.
Тяготясь умножением сестёр, которое лишало её ею любимого безмолвия, Матрона хотела, было, оставить Елец и поехала в Задонск просить на это благословения святителя Тихона. Но, переезжая на лодке Дон, она едва не утонула и возвратилась на своё место. Есть предание, что святитель Тихон сам явился на помощь утопавшей Матроне и, выхватив её из реки, поставил на берегу.
Святитель назвал Матрону, в постриге Олимпиаду, начальницей монастыря и передал ей правила, поныне соблюдаемые:
1) неусыпаемое чтение Псалтири во весь год (кроме Светлой седмицы) за упокоение душ всех православных христиан, особенно же — поживших в обители и благотворивших ей;
2) не посылать никуда для сбора ни по каким нуждам, иметь упование на Бога и от Него единого ждать себе помощи; в крайней же нужде сказывать о том елецким гражданам.
В 1779 году святитель Тихон последний раз посетил любимый им город Елец и Каменную гору, благословил всех, обошёл гору, остановился на месте нынешнего храма и назначил тут быть храму. Храм этот строился очень долго трудами сестёр, которые сам на плечах своих носили из-под горы тяжёлые камни, очищали землю, обжигали кирпич, таскали песок и воду. Он был освящён лишь в 1813 году. Игуменья Олимпиада, вместе со сподвижницей своей, монахиней Евпраксией, скончалась в 1831 году.
Игумения Павлина (с 1837 года) воздвигла прекрасную каменную ограду с каменными сходами вниз горы и угловыми башнями.
Главной же славой обители, сделавшей её известной далеко за пределами Ельца, была затворница Мелания, о которой мы и поведём речь.
I
В ту пору, когда святитель Тихон посещал Каменную гору, из подгородной Ламской слободы пришла жить на Каменную гору эта девица Мелания, прославившая своими подвигами имя обители.
Родилась она в 1759 году, в бедной семье однодворцев, Памфила и Феодосии Пахомовых, умерших рано и оставивших своих малолетних дочерей, Меланью и Екатерину, на попечении старшего своего сына.
Мелания с отрочества чувствовала влечение к монашеской жизни. Чрезвычайно трудолюбивая, красивая, собой, она часто ходила в церковь; особенно же любила бывать на Каменной горе и, по возвращении оттуда, часто уговаривала брата отпустить её в монастырь. Но брат о том и слышать не хотел. Говорил ей о домашних делах и об обязанностях её к её младшей сестре. Мелания находилась в колебании и молилась постоянно Богоматери, прося наставить её на путь спасения. Более трёх лет провела она в этом колебании. Наконец, брат нашёл ей богатого жениха и решил непременно выдать её замуж, хотя бы силком. Но в день, назначенный для помолвки, Мелания пропала и не показывалась три дня. Всё это время она укрывалась у ближайших соседей своих, крестьян Абрамовых, в семье которых воспитывалась любимая подруга Мелании, Матрона Наумовна, впоследствии знаменитая задонская странноприимница, великая праведница. После этого происшествия брат согласился отпустить сестру в монастырь; но в денежной ей помощи и в прочем содействии отказал ей наотрез.
Осенью 1778 года 19-летняя Мелания, со слезами помолившись пред иконой Богоматери и благословив ею свою сестру Екатерину, поспешно вышла из родительского дома, унося с собой лишь ту одежду, которая была на ней.
Поселившись в возрождавшемся будущем монастыре, Мелания подвизалась в посте и молитве, усердно проходила назначаемые ей послушания и упражнялась в молчании. Своё воздержание она довела до того, что довольствовалась хлебом и водой — и то в меру. Сама она была безграмотна, но, внимательно слушая чтение слова Божия и житий святых, постигла глубоко дух и смысл Писания. Она любила бывать в Задонске; вставала для этого с полуночи, к ранней обедне поспевала в Задонск, а после обедни, приняв благословение и наставление святителя Тихона, возвращалась на Каменную гору. Кое-как научившись разбирать Псалтирь, она заучивала наизусть стихи из неё. В церкви она нередко умилялась сердцем, и её духовный восторг выражался слезами. В ночное время, не давая себе покоя, она, бродя по лесу, читала наизусть псалмы. Так прошло три года её жизни.
Сестра её Екатерина часто её навещала. Мелания обучала её молитве и посту, не принимала от неё никаких рассказов ни о чём мирском и советовала ей не узнавать о чужих делах, чтобы не отвлекаться мыслью от Бога.
Когда Екатерине минуло 18 лет, она поселилась на Каменной горе, где и стала жить в келье своей сестры. Они побивали в Задонске, где открыли святителю Тихону своё сильное желание научиться грамоте.
— На что вам учиться по книгам? — сказал им святитель. — Благодать Божия и так свыше научит вас — и будете довольны.
Сурова была жизнь сестёр. В келье у них не было ничего, кроме кувшина с водой и небольшого запаса сухарей. Одежда у них была ветхая и часто заплатанная, но всегда совершенно опрятная. Хотя они хорошо рукодельничали, но лишь иногда брались вязать чулки: им было более по сердцу другое дело. У них был так называемый «дар слёз», и они плакали ежедневно о грехах обоих горьким плачем покаяния.
В Великий пост Мелания и Екатерина постились по пяти суток подряд. Случалось, что в субботу Мелания скажет: «нынче можно лапшицы сварить». А младшая Екатерина ответит ей: «и, матушка сестрица, подождём Пасхи. С нас довольно и сухариков». И в таком воздержании проходил у них весь Великий пост, в который они ели свои сухари лишь по субботам и воскресеньям. В разговорах они были тоже очень воздержны, не говоря ни о чём, кроме того, что было необходимо.
В 1804 году Бог послал Екатерине тяжёлую болезнь, от которой она и умерла. Лёжа на голой доске, она, углублённая в непрерывную молитву, терпеливо выносила страдания. Мелания, с любовью смотря на неё, говорила ей:
— Ну, вот, сестрица, ты покидаешь меня! Кто же мне теперь водицы принесёт? Или кто к благодетелям сходит в город? Ведь, это всё было твоё послушание!
— Бог не оставит тебя, матушка сестрица, — отвечала умирающая. — А мне уж пора к Господу Богу. Он зовёт меня к Себе.
Напутствованная св. таинствами елеосвящения, исповеди и причащения, Екатерина перед самой смертью пришла в какой-то восторг. Светлая радость разлилась по её лицу, и она, сияя тихим счастьем, говорила сестре:
— Вот, матушка сестрица, отверзлись райские двери, и там предивное веселье! Вот — и райские плоды, которые Господь дарует мне за моё малое здесь воздержание.
Мелания, припав к ногам умиравшей, неутешно плакала. Начальница спросила Екатерину, жалеет ли она сестру. Та ответила:
— Нет, госпожа матушка! Она велика пред Богом и будет прославлена от Него ещё здесь, на земле.
По лицу её разлилась улыбка, и она мирно отошла, к Богу. С тела её с трудом сняли грубую и тесную власяницу, приросшую к ней и служившую ей бессменным одеянием. Её положили близ первой деревянной церкви Знамения, где — впоследствии — схоронили и блаженную Меланию.
II
Итак, Мелания осталась одна. Потеря сестры была для неё великим горем, от которого она очень долго не могла прийти в себя.
Из жизни многих подвижников можно заметить, что — именно — такие душевные потрясения, разочарования в возможность или прочность земного счастья толкают этих чутких людей на тяжёлый путь юродства во Христе, ибо истинное юродство есть неумолкаемый крик внутренней боли, есть как бы некоторое глумление над тем ничтожным содержанием земного благополучия, земных радостей, в гоньбе за чем большая часть людей забывают о том великом, неизмеримом и истинном счастье, на которое мы были созданы, и которое нам будет возвращено ценою крестной жертвы нашего Спасителя… На этот путь вступила Мелания. Она принимала гневный вид, когда ей оказывали внимание. Когда ей подавали милостыню, она грубо говорила:
— Ты мало даёшь! Тут видеть нечего — ни на что не достанет этого…
Некоторые этим соблазнялись и обвиняли её. Но когда все уходили, Мелания выносила всё принесённое благотворителями из кельи и клала это на дрова. Птицы уносили всё съедобное. А нищие забирали деньги и вещи, так как, приметив её обычай, часто осматривали все места около её кельи. Ночью Мелания ходила молиться на могилу своей сестры и оканчивала эту молитву лишь пред утреней.
Одним из руководителей Мелании был старец Илларион Мефодиевич, впоследствии подвизавшийся в затворе в селе Троекурове, Лебедянского уезда, а в то время живший в селе Карповке, Раненбургского уезда. Этот подвижник посещал временами город Елец и Каменную гору, и тамошние старицы назидались его советами.
Кроме того, Мелания находилась в духовном общении со знаменитым елецким священником, отцом Иоанном Преображенским, память о котором доселе свято почитается в Ельце, и юродивым старцем Иоанном Тимофеевичем Каменевым, который — по преданию — был из дворян, с отличием служил раньше повытчиком в провинциальной канцелярии, был всеми уважаем и, по призванию, оставил всё мирское и затем — до конца своих дней — жил в юродстве.
Однажды, все эти трое людей Божиих: отец Илларион, священник Иоанн и Иван Тимофеевич, придя к Мелании, стали советовать ей оставить юродство и приготовлять себя к затворнической жизни и совершенному безмолвию. Мелания отвечала:
— Не могу понести.
Старцы обещали помолиться за неё и настаивали на своём совете.
С того дня она стала отлагать свои выходы из кельи и повела ещё более строгую жизнь. Она никогда не закрывала после топки печной трубы, и потому в келье её была постоянная стужа, увеличивавшаяся ещё от крайней ветхости стен. Согревалась она лишь тогда, когда на молитве полагала бесчисленные поклоны. Богатством и утешением её служил тихий огонёк лампадки или иногда восковой свечки, которую она зажигала перед образом. Когда наступил 1812 год, Мелания предсказала, что французы не придут в их город и умножила свои молитвы за родину и за всех страждущих от войны.
Время шло.
Священник Иоанн приближался к последним дням своей жизни. Как-то, пред концом, он сказал своим духовным детям:
— Посещайте храм Преображения Господня, в котором я, грешный Иоанн, священствовал всю жизнь мою. Не забывайте поклониться там со всем усердием двум святым иконам: Спасителя и Божией Матери, что утверждены на столпе. Я молился Владыке моему за всех духовных детей моих, и за весь город Елец, и за всех православных христиан — и слышал Божественный ответ Его на мою смиренную и недостойную молитву. Глас был мне от Его святой иконы: «Слышу». И я пал на землю пред Богом-Спасителем моим с благодарными слезами и не помню, сколько времени лежал и плакал пред стопами Его. А Владычица наша, Пресвятая Богородица, прежде того явилась мне, грешному, в храме этом очевидно, как царица. И я думал, кто эта приезжая госпожа? И смело смотрел на Неё. Она же, подойдя к Своей иконе, рукой поправила лик её, который прежде отвращён был от меня, а потом остался прямозрящим. И при этом сказала мне: «рабе Божий, время твоё близко, уготовися ко исходу твоему». И пошла Сама в алтарь. А я всё ещё недоумевал: кто Она такая? И какими судьбами пришла Она в храм в ночное время… Простите!
Память отца Иоанна пользуется у елецких граждан особым благоговением. Приняв на себя подвиг юродства, он со многими говорил просто и духовно. Он любил посещать Каменную гору и её смиренных насельниц.
Одна из старых монахинь, помнивших его, рассказывала, что о. Иоанн указал ей место своего вечного покоя и предсказал, что на этом месте будет устроен мужской монастырь. А в то время это место было пустое, и ничто не указывало на возможность возникновения на нём обители. Этой монахине о. Иоанн наказал, когда она будет пострижена в схиму, прийти к нему на гроб и отправить панихиду.
Советы затворнической жизни были как бы предсмертными советами о. Иоанна Мелании. Он предварял её, что ей будет легче всего достичь спасения в затворе. Мелания всегда с уважением принимала советы о. Иоанна, но не всегда считала их обязательными для себя, особенно в отношении путей иноческой её жизни.
К числу подвижников того края принадлежал блаженный Иоанн, на месте подвигов которого стоит теперь многочисленная Сезеновская обитель. В молодости он был как-то в келье затворницы Мелании и, разболевшись, упал у неё без чувств.
Мелания разожгла в кадильнице уголь, покадила ладаном больного. Он встал и почувствовал себя настолько крепким, что мог с ней беседовать. С тех пор он имел к Мелании большое уважение и многим говорил, что её молитвой неоднократно был исцеляем.
Великий пост Мелания провела у себя в келье, а в Лазареву субботу из храма пошла в дом благочестивых елецких граждан Лавровых, намереваясь пригласить к себе о. Иллариона, будущего затворника Троекуровского, который тогда гостил у Лавровых. Хозяева приняли Меланью с лаской, но отпустить Иллариона на праздник не согласились.
Мелания печальная возвратилась к себе в келью; в день Пасхи даже и поплакала. Вдруг — входит о. Илларион с радостным приветствием: «Христос воскресе!»
Мелания открыла ему свою скорбь, а он кротко укорял её в малодушии. Вскоре пришла к ней и сама Лаврова и стала извиняться пред ней за то, что она не отпустила в первый день праздника о. Иллариона из своего дома.
— Сама посуди, Меланьюшка, — говорила она, — ведь, он у нас гость какой дорогой, редкий! Вот, оденется лес листвой, он от нас и уйдёт. Может быть, и век больше его не увидим.
Не могла скрыть Мелания своего глубокого изумления. Наконец, она сказала:
— Ведь, я никогда пред тобой не лгала, а твои слова меня удивляют. В день Пасхи о. Илларион был у меня в келье, и мы затем с ним вместе ходили к вечерне.
— Ну, что ты говоришь, — возразила ей Лаврова, — он разговаривал с нами, а потом весь день читал Жития святых. Мы все, его слушали.
— Бог знает, — отвечала задумчиво Мелания.
— Стало быть, Меланьюшка, тебя посетил ангел!
— Не знаю, недостойна я видеть ангела…
К этому времени относится другое событие, показывающее ту благодать, которую тогда же стяжала Мелания.
Жила тогда на Каменной горе, жившая там и впоследствии, молодая послушница Иулита, девушка разумная, сильная собой, изумлявшая других трудолюбием и послушанием. Она была усердна, исполнительна, все её любили. Но на неё напала лютая и долгая естественная брань, свойственная её годам. Даже иногда на иконы не могла она смотреть без волнения. Она боялась в этой борьбе потерять рассудок, и в горе молилась пред чудотворной иконой Знамения, прося у Богоматери помощи.
Наконец, она решила: если брань не утихнет, оставить монастырь и вернуться домой, к родителям. В ту ночь видит она сон. Кажется ей, что она молится перед той чудотворной иконой и слышит от неё голос: «Не смущайся, девица, это искушение пройдёт. В келье Мелании усни на её кровати и получишь совершенное избавление от этой брани».
Послушница тут же, во сне, себе сказала, что ей не удастся добраться до кельи Мелании, что Мелания её прогонит.
«Не бойся, — был ответ, — выбери время, когда её не будет дома».
Действительно, послушница — во время отсутствия Мелании — пошла к её келье. Дверь была не заперта. Она вошла вовнутрь, помолилась пред иконой Спасителя, легла на её постель. На неё напал сладкий сон. Проснувшись, она встала, и спешила уйти до возвращения Мелании.
Но, как только она, положив несколько поклонов, вышла из кельи и отошла немного в сторону, как подошла к ней Мелания и сказала ей:
— Что ты тут делаешь?
— Я сама никак не могу избавиться от скверных мыслей, — ответила смущённая послушница.
— А ты больше молчи! Да и молчи! — и она грозно погрозила на неё пальцем.
И с тех пор эта послушница не знала более тяжких искушений, и достигла она на Каменной горе преклонных лет, доживая по старости своей век свой безвыходно в келье.
Как-то пошла Мелания в город и встретилась с юродивым старцем Каменевым.
Встретившись с Меланией, Каменев повернул обратно к Каменной горе, убеждая Меланью идти обратно. Она объяснила ему, что ей нужно купить или достать у благодетеля кусок хлеба. А он отвечал ей:
— Не малодушествуй, не о хлебе едином жив будет человек. Иди в келью, отыщи прежде царствие небесное, остальное приложится тебе!..
Так, понуждая её, привёл её Каменев на Каменную гору до дверей её кельи. На прощание он ей грозно сказал:
— Помни час смерти!
Слова эти принудили Меланью с особым вниманием остановить мысли на жизни в затворе. Но жизнь эта казалась ей столь тяжкой, что она сразу не могла взяться за новый крест, который, по её мнению, ей было не вынести. Не раз ходила она в Задонск, где горячо молилась у могилы святителя Тихона, служа по нём панихиды, искала она вразумления, беседой с учениками святителя: схимонахом Агапитом и отцом Никандром Бехтеевым, но нужной решимости в ней всё не образовывалось. Хотя она уже достигла зрелых лет и была опытна в монашеской жизни, но ей казалось, что для спасения от искушения нужны ещё тяжкие телесные труды, и что жизнь в затворе принесёт не пользу, а вред.
К этой жизни она перешла постепенно. Она стала затворяться в келье на срок всё более долгий, но, всё же, она не могла окончательно решиться на затвор.
В таких обстоятельствах прослышала она о новом задонском подвижнике, затворнике Георгии. (Затворник Георгий Машурин из состоятельных дворян, бывший гусарский офицер, подвизался подвигом затвора в Задонском монастыре). Мелания отправилась в Задонск, чтобы поговорить с затворником. Она открыла ему свои недоразумения, и затворник убедил её в пользе уединённой жизни.
Теперь она со спокойным сердцем приняла мысль о затворе, и в продолжение затвора своего часто была подкрепляема письмами затворника Георгия.
Настал Успенский пост 1819 года. В день Преображения Господня Мелания приобщилась Божественных Таин, долго молилась перед чудотворной иконой Знамения Пресвятой Богородицы, потом закрыла глаза платком и просила одну, послушницу довести её до кельи, говоря, что у неё несколько времени болят глаза, и она не может дойти до кельи одна.
С этого дня, шестого августа 1819 года, до самой кончины своей — в июне 1836 года — Мелания пробыла безысходно в затворе.
* * *
Одновременно с Меланией подвизались на Камне несколько подвижниц, о которых грешно не вспомнить.
Старица Василиса Ивановна была родственницей того благодетельного купца Кожухова, который считался другом святителя Тихона и благотворил насельницам Каменной Горы.
В келье Василисы Ивановны стоял портрет святителя Тихона, и она в распорядке жизни своей руководствовалась его наставлениями. Иногда, скрывая духовную высоту свою, она прикидывалась юродивой. Она любила во всём монашескую простоту, нестяжательность и удаление от мирских знакомств, даже от родных. Иногда с ней обращались очень грубо, что её радовало.
У неё была келейница-послушница Мария Ильинишна, удивительный примера смиренной незлобивости и непритязательности. Она ходила зимой и летом в одной одежде, которая составляла её единое имущество. Но её вера была удивительна. Она давно уже дала обещание быть в Соловках. И, по благословению своей старицы, пространствовала шесть лет, не взяв с собой решительно ни одного гроша.
Во время этого странствования было с ней изумительное происшествие. Как-то, осенью, она достигла обители преподобного Нила на озере Столобенском. Подвоз был затруднителен. Рано придя к озеру, она слышала, как в монастыре звонили во все колокола, но перевозчика не было. Она встала тогда на колени и горячо помолилась угоднику Божию, преподобному Нилу, о помощи.
Вдруг, кто-то подплыл в лодке и перевёз её в монастырь. Это совершилось так быстро, что, когда она вошла в собор, служба ещё не начиналась. Монахи с изумлением спрашивали её, с кем она переехала. В то время никого на озере не было.
Пред кончиной своей она предупредила старицу свою, Василису Ивановну, что скоро умрёт и радостно ждала смерти.
Вскоре после смерти этой рабы Божией поступила к Василисе жить её родственница, девица Екатерина Ивановна Кожухова, родная внучка того Кожухова, который был так близок со святителем Тихоном Задонским. Когда она поступила на Каменную Гору, игуменья Глафира сказала ей:
— Ты знаешь, Екатерина, что дедушка твой был другом святителя Тихона и во всём повиновался его наставлениям. Так и ты не делай ничего без благословения святителя Тихона. Я поручаю тебя его покрову.
И простосердечная, глубоко верующая Екатерина считала святителя Тихона своим отцом-покровителем, и к портрету его, находившемуся у Василисы Ивановны, относилась как бы к самому святителю. Пред выходом в церковь, например, она клала земной поклон пред портретом и произносила:
— Святитель отче Тихон, благослови меня идти в церковь помолиться!
После обеда она благодарила святителя за его хлеб-соль и просила благословения на отдых и на всё, на что ревностный послушник благословляется у своего старца.
Екатерина Ивановна была дочь богатых родителей. Они предлагали ей не раз дать ей прислугу и другие условия жизни, но она от всего отказывалась и всем, сколько могла, служила сама. Когда в келье бывали посетители, Екатерина не обращала на них внимания. В свободное время становилась на «правила», за что некоторые неразумные послушницы над ней смеялись.
Но она действовала так потому, что вполне отказалась от своей воли, и этим путём достигла спасения. Слабая здоровьем, она редко выходила из кельи, и старица Василиса тщательно её хранила.
Случалось, что летом, когда окна были открыты, некоторые сёстры через окно начинали беседовать с Екатериной, но старица тогда опускала занавески, крестила окно и произносила вслух слова псалма: «Отврати очи мои еже не видети суеты»? И Екатерина совершенно вошла во вкус этой уединённой жизни, и ей было не по себе, если во время молитвы занавески на окне были подняты.
Она любила чтение житий святых, особенно же нравились ей жития мучеников, и над ними из её чистой души вырывалось иногда восклицание:
— Матушка, как бы я желала пострадать за Христа!
— Терпи, девушка, всякую скорбь, и будешь мученицей, — отвечала старица.
И Господь подал ей по её желанию. Перед смертью она понесла тяжёлое страдание.
В июле 1841 года Екатерина хлопотала у затопленной печи, приготовляя пищу для заболевшей Василисы Ивановны. Вдруг, на ней вспыхнул тонкий коленкоровый подрясник. Она с криком упала на пол. Тётка её, забыв свою болезнь, бросилась к ней на помощь. Но она вся уже пылала и чрез несколько минут её тело покрылось волдырями. Уцелели только лицо и кисти рук не опалёнными, несмотря на то, что огонь дошёл и до них.
Когда её уложили в постель, и посторонние разошлись, тётка её сказала ей:
— Ну, вот, мать, ты желала быть мученицей! Теперь не ропщи! Бог исполнил твоё желание и увенчает тебя венцом мученическим.
Все знают, что одно из самых ужасных страданий — смерть от ожогов. Но Екатерина, с верой приняв слова своей тётки, подготовляла себя к смерти, памятуя о тех мучениках, которые страдали за Христа, и которыми она всегда восхищалась, с необыкновенным терпением выносила эти нечеловеческие муки. Она лежала с весёлым лицом и благодарила Бога за то, что Он ей послал такую смерть. Отстрадав несколько дней, приобщённая Христовых Таин, она мирно преставилась.
Как только она умерла, её тётка, несмотря на то, что стояла на дворе сильная жара, стала топить печь, и, когда её спрашивали — на что это она делает, — отвечала, что она больна и озябла. Печь эту она топила день и ночь.
— Побойся Бота, Василиса Ивановна, — говорили монахини, приходившие поклониться усопшей, у тебя в келье покойница, а ты ещё в такую жару топишь. Ведь, её хоронить трудно будет.
— Ничего, — отвечала осиротевшая старушка, — мы живём в монастыре, у нас этого не бывает.
Покойница лежала в келье более трёх дней, пока отец распорядился устроить всё для похорон и поминовения любимой дочери, на которые собрался почти весь город. И когда умершую подняли, чтобы положить во гроб и нести в церковь, вместо смрада, который, по естественному закону, должен был идти от её тела, полилось чудное благоухание, как бы от растёртого росного ладана.
Старица Василиса после похорон племянницы часто ходила к её родителям и обедала у них. Игуменья советовала ей не нарушать монастырских правил, но Василиса всё-таки отпрашивалась к родственникам.
И вот, как-то ночью, она видит во сне умершую за пять лет до того блаженную Меланию, которая, войдя к ней в келью с каким-то старцем монахом, говорит:
— Василиса, зачем не слушаешь ты игуменьи? Знаешь, что тот, кто не повинуется поставленной от Бога власти, тот подлежит анафеме!
— Кто этот монах с тобой, Мелания? — в страхе спросила Василиса.
— Это игумен Каменной Горы, преподобный Варлаамий Хутынский, — отвечала затворница: — вот, прими от него благословение!
В обители есть придельный храм в честь преподобного Варлаамия, с его иконой и частью мощей. Утром Василиса Ивановна повинилась игуменье, рассказала ей о сновидении и обещалась более никуда не ходить на поминки. Так она и прожила в монастыре, безвыходно, до смерти. Кончина её была тиха, предварённая несколькими днями совершенного вольного безмолвия.
Вот, ещё воспоминание о смиренной старице Смарагде, которая поступила в монастырь из дома богатых елецких купцов Холиных. Ничего она не требовала от богатых родных, которые сами, уважая её, о ней пеклись и старались снабдевать её всем нужным.
Как-то, к празднику Благовещения, они принесли ей для стола рыбы. Но она почти всю эту рыбу раздала другим, а оставшееся у неё в ту же ночь унесли из погреба воры. Она сама слышала, как они ходили в погреб, но была рада, что они избавили её от этой рыбы. Жившая с ней монахиня Ксанфира умоляла старицу принять от неё часть денег, которые Ксанфира заработала, но она решительно отказывалась.
Молитвами блаженного священника Иоанна и матери Смарагды, эта Ксанфира удивительным образом совершила богомолу в Киев. Отец Иоанн предсказал Ксанфире, что ей придётся выйти только за заставу, а весь путь в Киев и обратно от Ельца она совершит в коляске.
Что же вышло?
Проводив Ксанфиру до заставы, Смарагда плакала о тех трудностях, которые ей предстоит вынести. В это время с нею поравнялась дама, ехавшая в коляске. Она остановила лошадей и спросила, о чём старица плачет. Та рассказала ей, в чём дело, а госпожа, ехавшая в Киев, предложила ей взять её племянницу с собой и доставить обратно.
Племянница Смарагды, Холина, дочь её богатого брата, вступила в монастырь. И, вот, какими словами Смарагда говорила племяннице о монашеской жизни:
— Олюшка, друг мой, ты не думай, что поступаешь в монастырь на радость и на покой! Наша радость бывает только о Господе, и наш покой — ожидать вечного покоя в царствии небесном. А мирские радости для нас укрыты. Если мы будем желать их и искать, то приобретём себе порок. Мы на то пошли, чтобы жить в покорности и страхе, так и живём и в скорби и терпении. А если будешь любить наряжаться и веселиться с молоденькими подругами, скучно будет тебе потом жить в монастыре.
Одна монахиня, после смерти Смарагды, молила о том, чтобы ей была показана её загробная судьба. Ей приснилось, что настал день Страшного Суда, и в монастыре смятение, и среди собирающихся в церковь стоит монахиня Смарагда в одежде — сверкающей, как молния…
Но — вернёмся к Мелании.
Слух о затворнической жизни Мелании ещё увеличил общее мнение о благочестии её, распространённое в Ельце, и стал привлекать к ней народ. Иногда матери приводили к ней детей и просили затворницу из окна положить на них свои руки в знак её благословения и молитвы. Нередко бывало, что больные дети получали скорое выздоровление.
На руках затворницы видели кровавые язвы, прикрытые полотняными обвязками. Таинственное значение и происхождение этих язв не известно. Из живших на Каменной Горе только одна Василиса Ивановна имела доступ во внутрь кельи затворницы.
— Ищи уединения и молчи, — сказал таинственный голос святому Арсению Великому, и люди, достигавшие высот духовной жизни, наслаждались в полном уединении и молчании.
Такова же была жизнь Мелании. Все её мысли были сосредоточены в Боге. В ней действовала неумолкаемая молитва, и душа её возрастала под обилием изливавшейся на неё благодати, как быстро взрастают в южных странах на горячем солнце чудные деревья.
Полная нестяжательности, затворница любила свои добродетели прикрывать видом некоторой жадности. Она раздавала бедным чай и, заказывая купить для себя ладан, свечей, лампадного масла, прибавляла:
— Чаю, да хорошего, купи! Пусть знают, что и мы пьём хороший чай, хотя они того вовсе и не знают, как нам бывает горько.
Иногда, завязав деньги в тряпки, Она бросала их далеко от кельи, и бедные находили их. Те, которые иногда по усердию приносили затворнице воду, находили иногда деньги в порожних вёдрах, которые затворница выставляла обратно.
Так как в обители на Каменной Горе не было официально монастыря, и так как обитель имела большие нужды — именно, ограда обветшала и обвалилась, не было тёплой церкви, то некоторые сестры тяготились этим и переходили в другие монастыри.
Между тем, городской голова Ельца, богатый купец Иван Васильевич Шапошников, не раз обещался обстроить обитель Каменной Горы и выхлопотать открытие монастыря. Спрашивали затворницу, исполнит ли Шапошников по своему обещанию?
— Что Божия часть, то Бог и примет от него, — отвечала с твёрдостью затворница.
И, действительно, это и произошло в 1823 году.
Вместе с некоторой славой затворница несла также и поношение.
Говорили, что она не ходит к церковным службам по лени и из-за лени же избегает послушаний, а в любви к уединению прикидывается для похвал. Одно время ей страшно докучала завидовавшая ей монахиня Ельпидифора, жившая близко к её келье.
Когда у этой монахини Ельпидифоры заболела родственница, тяжко стенавшая, она устроила ей постель под самым окном затворницы, и оставила её там на всё лето. Когда настали холода, и больную пришлось взять в келью, тогда монахиня Ельпидифора привязала у кельи затворницы козу, и загородила ей оттуда выход, так что бедное животное постоянно блеяло, нанося тем муку затворнице.
Когда же это искушение прекратилось, враг стал испытывать её ночными привидениями, нападавшими на неё, как это было с великими иноками. Привидения принимали то образ зверей, то образ лиц, её оскорблявших. Однажды враг вырвал у неё множество волос из головы, и не раз ударял её оземь, так что Василиса Ивановна находила её даже полумёртвой.
Те же искушения терпел в пустыне и великий старец Серафим Саровский. Но едва ли «враг» мог мучить затворницу, как мучила себя она сама.
Вот, например, признание её о том, каким образом она принуждает себя бодрствовать в ночных молитвах:
— От юности приучила я себя к бодрствованью в ночное время. Пост и безмолвие помогали мне в этом. А когда отягощал меня сон, то за волосы к стене, где набиты были гвозди, привязывала я голову, и тем не допускала дремоте овладеть мною, и сейчас же пробуждалась.
В затворнице, несомненно, действовал дар прозорливости. Вот, примеры.
В елецкой тюрьме был один узник, имя которого забыто. Он был осуждён несправедливо по наговорам и, когда был оправдан по суду, уже умер. При приближении смерти он пригласил священника приобщить его. В этот же день затворница Мелания раным-рано послала к своей благоприятельнице, купчихе Лавровой, просьбу отложить для неё чаю, сахару и сладкого пирога, готовившагося в тот день, и всё это послать умирающему.
Лаврова была удивлена тем, что затворница знала о том, что у неё есть в печи. Удивился и больной, когда ему подали эти «утешения», о которых он почему-то мечтал, не смея никому открыть своих мыслей. И схоронен он был неким купцом Перекалиным на свои средства, по указанью затворницы же.
Приехала в Елец помещица Кромского уезда, Орловской губернии, Александра Петровна Маслова, покинутая своим мужем. Оставив карету свою у подошвы Каменной Горы, Маслова со спутницами пошла по крутому подъёму к затворнице. Она купила для затворницы чаю и сахару, но всё забыла в карете. В разговоре затворница сказала ей:
— Я бы вас угостила, да у меня чая и сахара нет. Пришла ко мне барыня, а чай и сахар дома забыла; она для меня его и купила.
Между тем, госпожа Маслова нарочно оделась по-крестьянски, так что, кроме указаний на чай и сахар, была крайне удивлена, когда затворница назвала её барыней.
Когда узелок был принесён из кареты и вручён затворнице, она отделила себе немного и, возвращая остальное Масловой, сказала:
— Возьми, тебе самой нужно будет. Ты тут долго проживёшь, а деньги не скоро получишь.
— Мне денег не от кого ожидать, — ответила Маслова.
— А от мужа.
— Он меня навсегда оставил.
— Пришлёт, пришлёт, и будешь богата, — отвечала уверенно затворница.
Так и случилось.
Всю весну Маслова провела в Елецком уезде, в разных местах, у родных. Затем муж её оставил ей по духовному завещанию сто тысяч рублей, и когда Маслова поехала рассказать об этом затворнице, та, не дав ей заговорить, сказала:
— Недаром ты стала ездить к нам в Елец: построй-ка ты богадельню!
— О, матушка, — воскликнула Маслова, — ведь, мать моя, умирая, завещала мне выстроить богадельню!
Когда кто подавал затворнице пожертвование с усердием, она хвалила его, и иногда вкушала тут же, если это было съестное. Но тем, кто подавал в скупости, возвращала милостыню обратно. Иногда выкидывала в окно без всякого внимания.
Был в Ельце купец Лавров-Кречет, который близко знал отца Иллариона Мефодиевича, впоследствии знаменитого троекуровского затворника. Одно время Илларион жил в доме его, и Лавров-Кречет открыто говорил:
— Я всем моим капиталом обязан молитве о. Иллариона. С тех пор, как он поселился у нас, Бог благословил дом мой всяким изобилием, и где надлежало быть по торговле нашей убыткам, — там неожиданно были очень большие барыши.
Молодой Лавров-Кречет, уважая затворницу, пришёл однажды к ней в праздник прямо от обедни из монастырской церкви, чтобы опросить совета по крайне важному и занимавшему его вопросу.
— Пойди-ка, мой любезный, — сказала ему затворница, — перенеси мне дрова в сенцы.
Нечего делать, пришлось молодому человеку, одетому по-праздничному, переносить дрова.
— Ну, теперь иди с Богом! Ты будешь хороший монах, — сказала затворница, когда он кончил работу.
А он и приходил только для того, чтобы посоветоваться с ней насчёт монашества. Он постригся и умер впоследствии в Почаевской лавре, с именем Ксенофонта.
Раз, как-то, затворница послала к благотворившей ей доброй купчихе Гавриловой просить арбуза. Просьба эта застала Гаврилову за хозяйственными хлопотами, и она с ропотом исполнила просьбу.
Затворница, получив арбуз, долго его рассматривала, потом вырезала из него сердцевину, всыпала в него много земли и, закрыв, послала обратно. Гаврилова поняла, что затворница уличает её в той неохоте, с которой она исполнила её просьбу.
Две женщины пришли к Мелании за благословением. Одна — бедная — приготовила ей калач и тужила, что не могла принести ничего больше. У другой были крендели, и она спрашивала себя — «ну, куда ей столько!»
Когда они постучались в окошечко, затворница Мелания сказала первой:
— Я есть хочу, дай-ка мне твой калач! — и поцеловала его, взяв.
А от другой не взяла её дар и промолвила:
— Вот, добра накупила, сухие да чёрные! Ешь сама, мне не нужны они!
Когда монахини в скорбях приходили к её окошечку и говорили ей про себя:
— Матушка Мелания, у меня такая-то скорбь и такое-то искушение, помолись обо мне, Бога ради!
Тогда Господь чудесно извещал затворницу о нуждах этих сестёр и, по молитвам затворницы, посылал им скорое облегчение.
Когда мы любуемся деревом, осыпанным чудными плодами, мы не можем уяснить себе тайн его роста: какие соки впитывало оно в себя из почвы, чем питалось из воздуха? Дивимся только виду, любуемся и наслаждаемся плодами. Так же бывает тогда, когда пред нами в величии духа стоит подвижник: большая часть подвигов его, ведь, остаётся нам неизвестными, и скрыты от нас те труды, которыми достиг он высоты духа, на которой мы его застали.
Столь же сокровенна была и жизнь затворницы Мелании, особенно в годы её, проведённые в затворе. Но та благодать, которой она удостоилась от Бога, обстоятельства её смерти, последующие, её явления: всё это говорит о том, что велики должны были быть её подвиги — больше и выше того, что мы о ней знаем.
С весны 1836 года блаженная Мелания была как-то особенно погружена в себя. Лёгкий кашель, доносившийся временами из её кельи, показывал, что она недомогает.
Наступил пост, апостолов Петра и Павла. Она готовилась к причастию. Священник пришёл к ней из церкви со святыми Дарами, предшествуемый причётником с зажжённой свечой. Вдруг, подул сильный ветер и загасил по дороге свечу. Причётник хотел вернуться в церковь, но торопившийся священник сказал:
— Всё равно, зажжём там!
Когда же они вошли в келью к подвижнице, свеча внезапно зажглась в сенях сама.
Это необыкновенное явление было замечено всеми. Причётник этот был служивший впоследствии в Знаменском монастыре диаконом — Иоанн Александрович Гасанов.
Вечером, в день причастия, Мелания приказала купить меру углей и, подняв половицу, всыпала угли под пол, под иконами. Тогда не чувствовали, для чего это было сделано. Но по её смерти многие из окрестностей утверждали, что монахиня в сновидении являлась им и приказывала брать уголь в келье затворницы Мелании с Каменной Горы из угла под иконами… Некоторые приходили за этим углём даже очень издалека.
Надо думать, что время преставления Мелании ей было заранее открыто. Незадолго до её смерти пришла к ней девица от одной купчихи и, против своего обыкновения, Мелания, не принимавшая в свою келью никого, кроме духовника, ввела её вовнутрь, приказала ей согреть самовар и тёплой водой омыла себе лицо, руки и ноги. Посланная вызывалась помочь ей, но затворница сказала:
— Не надо! У меня самой есть ещё силы.
На прощание она сказала девице:
— Благодарю, иди с Богом, скажи всем, чтоб грешную Меланью простили во всём, и я всех прощаю.
Тут она, словно от слабости, прилегла и затем громко произнесла:
— Слава Богу, слава Богу, слава Богу за всё!
Одиннадцатого июня, перед утреней, послушница Наталия принесла затворнице воду и, сотворив молитву у окна, ждала ответа. Ответа не было. Она отошла к двери и хотела отворить её, но чувствовала, что дверь чем-то припёрта изнутри.
Она поспешила к игуменье, которая послала в келью Мелании двух старых монахинь. Дверь была отперта.
Блаженная Мелания лежала на полу, с молитвенно поднятыми руками. Выражение лица её было свято. Она словно созерцала стоящую перед ней икону Спасителя в темнице? Необычайный свет и покой разлит был по её лицу.
Множество народа стало собираться в монастырь при вести о кончине блаженной. Три женщины из Задонска с клятвами показывали, что в самую полночь видели они над Каменной Горой огненный столб, озарявший окрестность и достигающий неба.
Елецкие граждане, из уважения к почившей, на память и благословение разобрали не только её одежду, но и самый мох из стен кельи и почти всю келью. Сорок дней по кончине её не прекращался прилив народа, которым полна была обитель день и ночь. Священники еле успевали совершать панихиды: Губернатор и архиерей встревожились, когда об этом дошли до них слухи. Было произведено дознание об обстоятельствах после кончины затворницы. Тут же было заявлено о семи происшедших исцелениях.
При новом следствии игуменья показала, что затворница была найдена мёртвой, лежавшей на полу боком, в одной сорочке, так как не имела никакой другой одежды и погребена в одеянии, пожертвованном некоторыми из монахинь. Игуменья сообщала, что при поступлении её на должность игуменьи, посещая келью Мелании, она спросила у неё письменный вид. Но затворница отвечала, что так как она жительница здешнего города и никуда из монастыря не отлучается, то вида не нужно.
Недоброжелательные отношения к памяти Мелании со стороны епархиального начальства не прекращались. Через год после её смерти преосвященный Орловский Никодим запретил служить по ней панихиды на её могиле, а только в храме. Между тем, необыкновенные обстоятельства после кончины её умножались.
Старец Задонского монастыря, монах Сергий, уважая затворницу, очень жалел, что не получил себе ни одной вещи её на благословение. По приезде его в Елец старица снилась ему во сне и сказала:
— Если хочешь благословения, возьми себе на память мой платок и мои волосы. В нём завёрнуты эти волосы, исторгнутые из главы моей демонами, когда они, попущением Божиим, за мои грехи нападали на меня во время молитвенного ночного моего подвига. Ты отыщи их во святом углу под полом моей кельи.
Там он их и нашёл.
Этот старец Сергий жалел, что при жизни не снял с затворницы Мелании портрета. Вскоре затворница явилась ему во сне и приказала ему хорошенько заметить черты её лица. Он видел её с большим сияющим крестом в руках, и по его рассказам живописец изобразил её так, что все находят портрет очень удачным.
Когда приезжал в монастырь гонитель памяти Мелании, преосвященный Никодим, вовремя не успели прибрать первый портрет затворницы, а преосвященный всюду искал следов затворницы. Несмотря на то, что он со своей свитой был в той комнате, где находился этот портрет, он его не увидал, хотя портрет висел открытым на стене.
Многие монахини при построении монастырской каменной ограды слышали, во время сна, голос затворницы: «неси кирпичи». А одна из монахинь, пробудившись, видела Меланью выходившею из кельи.
Жена помещика Ливенского уезда, Орловской губернии, Симашко — в молодых годах страдала зубной болью, так что около двух недель не могла ничего принимать, кроме жидкости, и лишилась сна. Доктор ей не мог помочь. Так как перед тем она слышала о блаженной кончине Мелании, то стала призывать её:
— Если ты, действительно, угодила Богу, Меланьюшка, исцели меня!
Тут она почувствовала, словно кто-то стал тянуть и выдёргивать у неё больной зуб. К удивлению своему, она ощутила, что боль унялась. После этого зубы у неё не болели более десяти лет.
Мать госпожи Симашко, Раненбургского уезда, Рязанской губернии, помещица Анастасия Матвеевна Бунина, была исцелена у могилы затворницы Мелании, куда её привезли недвижимой на постели в карете.
Во время панихиды у гроба затворницы Мелании, в день её памяти, одиннадцатого числа, она почувствовала облегчение болезни ноги и сразу пошла.
Некоторое время келья затворницы Мелании имела заросший и запустелый вид. Дверь её заросла травой, окна были закрыты ставнями. Мимо кельи пролегала тропинка, которая спускалась вниз по горе маленькими ступенями. Но память затворницы Мелании не заглохла. По усердию елецких граждан — на её могиле устроен был памятник в виде чугунной часовни, как бы маленькая келейка белого цвета под осенением золотого креста. Внутри памятника-кельи горит лампада перед иконописным изображением распятия Христова. Блаженная Мелания доселе как бы живёт и присутствует на Каменной Горе.
Многие видят её в сновидениях. Она помогает людям в скорбях, разрешает недоумения, возбуждает к молитве, исцеляет неизлечимые болезни, иногда кротко обличает. Страдающие беснованием не могут стоять спокойно на её могиле и теряют там чувства. Не раз на могиле Мелании в ночное время ночные сторожа и монахини видели необыкновенный таинственный свет. Так — престарелая монахиня Маврикие, имевшая от роду более семидесяти лет и более пятидесяти лет жившая в монастыре, однажды — в ночь на день Сошествия Святого Духа — вышла из кельи и, помолившись на восток, увидела над гробом затворницы Мелании как бы занимающуюся зарю, которая потом разгорелась в великолепное сияние.
Другая монахиня, Модеста, схоронив юную дочь свою, монахиню Митрофанию, умершую внезапно от горячки, неутешно скорбела. Тут видит она во сне затворницу Меланию, которая говорит ей:
— Полно тебе скорбеть! Потрудись лучше, Бога ради, продавай мои книжечки!
Монахиня успокоилась. А вскоре в монастырь были присланы жизнеописания Мелании, которые Модесте настоятельница поручила продавать при свечной продаже.
В селе Илька, Курской губернии, Суджанского уезда, в доме мещанина Абрамова находился замечательный портрет затворницы Мелании, сохранившийся неповреждённым в пожар в 1869 году. Пожар этот истребил в несколько часов дом с надворными строениями, а портрет её был найден на дворе одиннадцатилетним мальчиком, сыном Абрамовых, посреди горящих угольев.
Один офицер пехотного Дорогобужского полка, который был расположен в Ельце, вследствие долго не поддававшейся лечению лихорадки, думал бросить службу. Зайдя в монастырскую церковь помолиться, — он, покупая свечу, спросил о книжках, которые лежали на свечном ящике. Упомянутая выше Модеста объяснила ему, что это жизнеописание затворницы, девицы Мелании.
— Ваша. Мелания великая угодница Божия, — сказал офицер, вздохнув. Я находился при смерти и видел её во сне.
Теперь понимаю, что означает этот сон.
Он отслужил панихиду у гроба затворницы и совершенно выздоровел.
Он был ещё на поклонении у гроба затворницы, а потом с полком должен был перейти в другой город.
В монастырских бумагах есть письма из Петербурга, из Царицына, из Забайкалья и других местностей, в которых разные лица свидетельствуют о загробной помощи затворницы Мелании.
Протомив себя столько лет вольной мукой, блаженная затворница слишком хорошо знает, что значит земное страдание и стремится облегчить его.
Игумен Филарет
(возобновитель и настоятель Глинской пустыни).
I. Детство, отрочество, юность
Отец Филарет, один из выдающихся настоятелей русских монастырей, замечателен тем более, что, кроме личных трудов настоятельства, он понёс ещё великие труды по возобновлению Глинской обители.
Он родился на Украине, в простонародной семье, в 1777 году, и носил в миру имя Фомы Данилевского. С раннего детства на него имела большое влияние его мать, Феодосия, отличавшаяся умом и благочестием.
Между прочим, она приучила сына к тому, чтобы он неопустительно, утром и вечером, прочитывал положенные молитвы. Она вложила в него первая тот корень благочестия, который так быстро, легко и прочно укореняется в избранных Богом душах. По воскресным и праздничным дням мать водила мальчика в церковь и, вернувшись с ним домой, просила его пересказывать ей то, что было читано в дневном Апостоле и Евангелии.
Малютке было восемь лет, когда он заявил о своём неотступном желании учиться грамоте. Целую неделю он плакал, прося родителей отдать его в школу. Родители, помолившись Богу, посоветовались между собой и, вероятно, спасая ребёнка от возможного в школе дурного влияния, решили отдать его благочестивой вдове одного протоиерея, которая обучала у себя дома малолетних своих внуков. Фома стал учиться с ними и вскоре одолел грамоту. Мальчик был очень понятлив, не любил сидеть без дела и перенимал у взрослых их знания. Так, он приучил себя к некоторым мастерствам, а от матери присмотрелся даже к стряпанию.
Ходя в церковь, набожный мальчик стал понемногу помогать причётнику в чтении и пении, и по своей любознательности и быстрой смётке хорошо усвоил себе церковные уставы. Вследствие такой любви к церкви, мальчика полюбил один местный священник и поощрял его в его трудах. Наружность Фомы соответствовала его внутренним душевным качествам.
Как-то, отправляясь в Киев, протоиерей, покровительствовавший Фоме, взял его с собой и повёл его, между прочим, к своему знакомому иеромонаху Трифилию, который был настоятелем дальних пещер. Трифилий выразил протоиерею сожаление, что не имеет у себя канонарха. Протоиерей сказал ему, что Фома очень годен для обязанности канонарха. Тут же был испробован голос и знание мальчиком канонаршей службы, и тотчас Трифилий предложил Фоме остаться у него канонархом и келейником, на что Фома с радостью согласился.
Сильно влияли на набожную душу мальчика прекрасные храмы лавры, истовое торжественное богослужение и та благодать Приснодевы, которая веет над этим местом Её земного жребия, и близость нетленно почивающих в пещерах угодников.
Исполняя обязанности канонарха, юноша ещё ближе и точнее изучил церковные уставы и пение. А то множество народа, с которым приходилось иметь дело Фоме, так как он обо всех должен был докладывать отцу Трифилию, — при его уме дало ему знание людей. Отец Трифилий был требователен, настаивая на том, чтобы ему служили усердно, держали его келью в чистоте. Отдыха его келейнику было мало, вознаграждения за труды свои он не получал и даже одежду покупал на деньги, которые ему присылала из родного села мать. Между тем, на руках молодого Фомы было всё хозяйство отца Трифилия, не запертые лежали у него в ящике значительные суммы, и ни разу он не поддался соблазну.
Отец Трифилий в это время внимательно наблюдал за своим послушником. Жизнь в Киевской лавре, где постоянно бывает много богомольцев и которая расположена, можно сказать, в самом городе Киеве, — городе столичном, шумном, — могла доставить юноше много испытаний. Но отец Трифилий зорко следил за ним и постоянно его наставлял и предостерегал.
Как-то, после провода гостей, он беседовал со своим келейником и спросил его:
— Что ты полагаешь о людях, которых ты теперь проводил? Видел ли ты, как один из них постоянно лепетал, а другой молча беседовал сам с собой, а может быть — и с Богом? Многословие первого происходит от легкомыслия, а молчание второго от великого благоразумия.
У Фомы было заветное желание зажить семейной жизнью и получить сан диакона. Так как он обладал прекрасным голосом, ему представлялось, как он своим благолепным служением и красивым чтением с амвона евангелия приводит в умиление молящийся народ. А, кроме того, ему с детских лет нравились сельские работы и жизнь в деревне. Эту мечту свою Фома доверил отцу Трифилию, а тот — как бы в духе пророческом — ответил ему:
— Знай, что ты будешь монахом и начальником над многими монахами.
Так оно впоследствии и вышло.
Три года нёс Фома Данилевский послушание при дальних пещерах. После того ему пришлось отбывать воинскую повинность в черноморском казачьем войске, в Екатеринодаре. Он был определён в войсковую церковь, где доставлял молящимся немало утешения своим приятным голосом и отчётливым чтением. Ему предлагали в Екатеринодаре диаконское место, и его мечта, таким образом, была близка к исполнению. Но тут же Промысл Божий ему указал иной путь. Фома опасно заболел, — так, что еле мог передвигаться. В это время в Екатеринодар пришли из Киева послушники, знакомые ему по лавре. Жалея больного, они посоветовали ему дать обет побывать в Киеве на поклонении Божией Матери и преподобным печерским. Больной отвечал, что он с радостью это сделает, если бы благодатью Богоматери был исцелён от недугов. Со следующего дня ему стало лучше, и он, во исполнение обета, выздоровев совершенно, отправился в Киев на поклонение.
В Киевской, лавре он зачислен с радостью в число клирошан Великой церкви. Теперь окрепший голос его звучал ещё лучше. Часто видался и водил духовные беседы Фома с иеромонахом Антонием, который впоследствии был епископом Воронежским и является одним из замечательнейших подвижников среди русского епископства. С иеромонахом Антонием отец Фома не расставался совершенно до конца своих дней. Ещё во время жизни подвижника в Киеве, он пользовался постоянно его советами.
Фоме было двадцать пять лет, он был красив собой. На него со всех сторон неслись искушения. Монастырское начальство не один раз предлагало ему приписаться к братству монастыря.
Но Данилевский не делал этого, так как он имел в виду куда-нибудь уйти из Киева. Отец Антоний, со своей стороны, советовал ему устроиться в каком-нибудь пустынном монастыре.
Случай, казалось, был очень подходящий. Лавру посетили иноки Софрониевой пустыни, с которыми Фома вступил в беседу. Каким-то глубоким миром веяло от рассказов их о глубоком уединении обители, об общежительном уставе и строгих праведниках, о старце Феодосии, имевшем большой духовный опыт, о библиотеке, которая богата творениями святых отцов… Всё это окружало Софрониеву пустынь каким-то ореолом, неудержимо влекло в неё любителей безмолвия.
Фома колебался, что ему делать, как в первую же ночь после болезни ему явился во сне архимандрит Феодосий с избранными братьями и любовным взором позвал его присоединиться к их обители. Утром Фома проснулся совершенно успокоенный, в каком-то сладостном чувстве. Он решил, что над ним было явное знамение непосредственной Божией воли. И он тотчас же решился идти в Софрониеву пустынь. Однако, он позадержался в своём намерении до нового толчка.
Как-то, в праздничный день, знаменитый проповедник и протоиерей Киево-Софийского собора Иоанн Лаванда в Великой лаврской церкви говорил слово на текст: «Скажи мне, Господи, путь, в онь же пойду», и эти слова Священного Писания как-то особенно глубоко запали в душу Фомы. Он обливался слезами, слушая, как оратор несколько раз с силой повторял:
— Скажи мне, Господи, путь, в онь же пойду!..
И эти слова как бы воцарились в сердце Фомы, и он молился ими, когда только мог, чтобы Господь помог ему найти себе путь…
Наконец, Фома окончательно решился расстаться с Киево-Печерской лаврой и идти в Софрониеву пустынь.
* * *
II. Софрониева пустынь
Наставником отца Филарета в Софрониевой пустыни стал настоятель её, архимандрит Феодосий.
Этот опытный инок происходил из купеческой семьи города Глухова, Черниговской губернии, и начало иночества полагал в одном из молдавских монастырей. Там отец Феодосий сблизился с великим старцем Паисием Величковским, который был строгим блюстителем иноческих уставов и великим ревнителем истинной монашеской жизни на почве старчества. Братия одного из молдавских монастырей уважала отца Феодосия и избрала его своим настоятелем.
Главной чертой его характера была строгость, которая требовала послушания без всяких возражений. Однако он был снисходителен к немощам. Вследствие неприятностей с турками отец Феодосий был вынужден выходить из турецких владений. И тут он обратился к русскому правительству с просьбой дать ему какой-нибудь монастырь, куда бы он мог переселиться с братией. Софрониева же пустынь расположена неподалёку от его родины.
В 1779 году отец Феодосий был назначен строителем Софрониевой пустыни, Путивльского уезда, Курской губернии. Ему было предложено туда переехать и перевести с собой — по их желанию — часть братии. Отец Феодосий и в новой обители ввёл, с помощью переведённой им братии, старую закваску и строгий афонский монашеский устав. Он умело руководил своими учениками. Его-то и просил Фома Данилевский о принятии в Софрониеву пустынь. Архимандрит Феодосий радостно принял чистого душой и телом юношу в число братства и, предчувствуя будущее, говорил о нём:
— Сей брат упокоит душу мою, — душа моя благоволит о нём…
Через три дня уже по своём прибытии Фома, как хорошо знающий пение и церковные уставы, был назначен управлять клиросными. В этом же году он был пострижен в мантию, под именем Филарета. Имя для него — вполне подходящее, так как в переводе с греческого оно означает: «любящий добродетели».
Архимандрит Феодосий сам руководил отца Филарета, наставлял его в духовной борьбе, подарив ему книгу для чтения, где содержится подробное объяснение о духовном трезвении и молитве и указал своему ученику на страницы, особенно для него полезные.
Отец Филарет с большой охотой читал и перечитывал увещания Антония Великого и главы из творений Марка подвижника. Для того, чтобы проникновенно понимать книгу, он молился Богу, чтобы Бог послал ему разумение её и всё более и более обильный свет озарял его ум и сердце.
Опираясь на отца Филарета, юный инок шёл быстро по пути добродетели. Но ему суждено было потерять своего наставника, так как 9 декабря 1802 года архимандрит Феодосий мирно закончил свою земную жизнь. До самого конца отец Феодосий заботился об отце Филарете. Он успел представить его к посвящению в иеродиакона. И, чувствуя близость смерти, поручил его руководству одного строгого старца подвижника, который мудро руководил отца Филарета, отсекая его волю. Старца этого отец Филарет посещал в его келье тайно, ночью, так как держался монашеской скрытности во всём.
Восьмого февраля 1803 года Филарет был рукоположен в сан иеродиакона и стал ещё более заботиться о спасении своей души.
В Софрониевой пустыни были тогда нелады и смуты. Иноки находили, что богослужение слишком продолжительно, и хотели заменить его более лёгким. Но отец Филарет, который нёс тогда обязанности уставщика, воспротивился этому и сохранил в церкви то, что было при жизни покойного старца, который положил для этого устава много трудов и забот. Отец Филарет говаривал, что если дело касается до правил церкви, то нужно оказывать всяческое противодействие, даже до пролития крови.
На отца Филарета ко всем скорбям, которые он перенёс от лиц, желающих нарушить устав, напала ещё какая-то необъяснимая болезнь. На него находила такая спячка, что даже во время ектеньи, в ту секунду, что певчие пели после его возгласа, он начинал дремать, но всякий раз брал себя в руки и продолжал службу. Этот недуг, несмотря на все его усилия, продолжался пять лет, и подвижник всё терпел с упованием.
В 1806 году отец Филарет был представлен к рукоположению в иеромонаха и назначен на должность монастырского благочинного. Ещё раньше отец Филарет стал оберегать уставы от произвольного изменения и следил за поведением иноков. Конечно, и тут приходилось ему терпеть неприятности, так как всегда найдутся иноки, которые станут разрушать уставы и высказывать неудовольствие, когда им начнут в этом препятствовать. Но, мало-помалу, все привыкли покоряться строгому, но — вместе с тем — и очень справедливому отцу благочинному.
В то время отец Филарет сильно возрастал духом, ведя постоянную борьбу и не переставая благодарить мысленно старца Феодосия, который первый образовал в нём должную закваску.
Через двенадцать лет после его кончины, совершая на могиле его панихиды, отец Филарет не мог сдержать своих слёз о своём незабвенном наставнике. И теперь отец Филарет, по старому своему правилу и с детскою верой, повиновался своему старцу.
Отец Филарет всё это время жил в общем здании. Тут были частые встречи, лишние разговоры с братией, которые нарушали его любимое безмолвие. Когда освободилась келья в саду обители, в неё перешёл отец Филарет. Эта келья долгое время после смерти отца Филарета так и называлась «кельей уставщика Филарета». Из этого видно, что прохождение отцом Филаретом службы в должности уставщика осталось сильно в памяти глинской братии.
Эта келья была маленькая и скрыла из подвигов Филарета всё, кроме того, что он сам открыл своим ученикам. Здесь он возрастал в окончательной духовной силе, здесь на опыте проходил таинственное учение Симеона Нового Богослова, Григория Синаита и других наставников умной молитвы и созерцательной жизни в Боге, и тут он приобрёл дар не развлекаемой, неустанно действующей молитвы Иисусовой.
В этом уединении отцу Филарету было суждено приготовиться к ревностному прохождению должности настоятеля. Здесь ему пришлось и вынести борьбу, — ту великую борьбу на духов злобы, которой они ополчаются на подвижника, приближающегося к окончательной победе.
Сперва враг задумал склонить целомудренного Филарета к телесному падению. Однажды он остановил в церкви взор Филарета на одной женщине и стал склонять его к похотливым помыслам. Отец Филарет, чувствуя тяжёлую брань, усилил пост и молитву и — вышел победителем. Тогда враг вооружил против подвижника злых людей и являлся к нему в разных видениях, распаляющих чувственность, а также в виде всяких гадов, нагоняя на него страх и старался поколебать его. Когда же и этим искушениям Филарет не поддавался, — он стал наводить на него такое уныние, что Филарет бывал близок к отчаянию. Следы этого испытания можно видеть из одной надписи, которую сделал Филарет на одном переписанном им «Ирмологий». Там стоит латинскими буквами такое замечание: «Писал сей Ирмологий в великих бранех страдальчески. Да будет благословен Бог!» И он был готов на всякое страдание и подкреплял себя зовом: «Убогий Филарет, если приблизился ты к страданию, то будь готов и на крест».
После этой борьбы отец Филарет получил бесстрастие и дарован был ему дар духовного рассуждения. Великая опытность ясно показывала ему, где истина и где ложь. Будучи ещё лет совсем не старых, моложе сорока, отец Филарет был уже вполне духовным старцем. К нему приходили с сомнениями и вопросами люди старше его годами и слушались его с благодарностью. Таким образом, он уже старчествовал с благословения настоятеля и других старцев, которые духовно поддерживали его.
Когда умер архимандрит Феодосий, отец Филарет покорил себя руководству схимника Феодота, который, по совету отца Филарета, стал проходить молитву Иисусову.
Отец Филарет, при духовном восхождении своём, не забывал и внешнего труда. Имея с детства склонность к хозяйственным занятиям, он насадил множество плодовых деревьев как в саду, который окружал его уединённое жилище, так и в других монастырских садах. Летом он трудился на воздухе, а зимой — в келье, над перепиской нотных и других книг.
В 1815 году, при избрании нового настоятеля, отцу Филарету было предложено стать во главе обители, но он отклонил это предложение. Быть может, он предчувствовал, что ему суждено трудиться в другом месте.
III. Глинская пустынь
В шестнадцатом столетии в одной местности нынешнего Путивльского уезда, Курской губернии, в двенадцати вёрстах от города Глухова, явилась Пустынно-Глинская чудотворная икона Рождества Пресвятой Богородицы, и на этом месте возникла Глинская Рождество-Богородицкая пустынь.
В конце восемнадцатого века и в начале девятнадцатого эта пустынь была и бедна и запущена. Беспризорность её зависела, главным образом, от того, что настоятелями её числились экономы курского архиерейского дома, проживавшие при архиереях и потому не могшие следить за обителью ни в каком отношении. В таком несчастном положении пустынь пребывала более пятидесяти лет.
Лучшее время для неё пошло тогда, когда она получила постоянного настоятеля. Это сделано было по воле преосвященного Феоктиста, архиепископа Курского, в 1809 году.
Первый настоятель и обновитель Глинской пустыни, иеромонах Парфений, ввёл в пустыни общежитие, и обитель стала быстро улучшаться. Но против отца Парфения, заводившего новые порядки жизни, далеко не всем монахам угодные, была пущена в ход клевета, и он был вынужден отказаться от управления обителью. Назначенный вместо него настоятель, не знакомый с формой общежительного монашества, пробыл на своём новом месте только шесть недель, и обитель опять стала клониться к упадку.
В то время в Глинской пустыни жили два праведника, ради которых, быть может, Господь и помиловал её: старец Феодот и Василий Кишкин. Он собрал вокруг себя лучших иноков, и сначала все они признали, что необходимо назначить опытного энергичного монаха в настоятели. И, не зная, на ком остановиться, решили умолять Пресвятую Владычицу, во славу Которой посвящена обитель. После долгой молитвы старцу Василию Кишкину возвестилось просить в настоятели отца Филарета, подвизавшегося в том же Путивльском уезде, в Софрониевой обители.
Несмотря на некоторое противодействие, отец Филарет был назначен архиепископом в строители, одиннадцатого мая 1817 года. Этим сбылось предсказание старца Трифилия, которое он когда-то высказал молодому послушнику Фоме, что тот будет начальствовать над монахами.
С грустью простилась Софрониева пустынь с отцом Филаретом, чувствуя, кого она в нём лишается. Грустно было расстаться с обителью и отцу Филарету, который полагал в ней начало иночества, провёл в ней незабвенные первые дни отречения от себя во имя Христа, в которой он прожил пятнадцать лет.
При вступлении отца Филарета в Глинскую пустынь случилось необыкновенное событие. Как только он вышел из повозки, влетел в неё рой пчёл и разместился на его месте. Братия сочла это явление за добрый знак. Один из братьев Глинской пустыни, накануне вступления отца Филарета на настоятельство, видел во сне огненный столб, идущий от Софрониевой пустыни к Глинской.
Братии тогда было в Глинской пустыни всего до двадцати пяти человек. Внешне обитель находилась в большом беспорядке. Она состояла из нескольких деревянных, почерневших от времени келий, разбросанных без всякого порядка на полянке среди старого соснового леса, близ речки Обесты. Единственное каменное здание в обители была церковка о двух главах и под тесовой крышей, находившаяся тоже в плачевном состоянии. В общем, в небольшом здании было три алтаря. Внизу — небольшой алтарь Рождества Богородицы и зимний алтарь святителя Николая, устроенный в виде пещер, и вверху — небольшой храм Вознесения Господня. Редкие небольшие окна скупо пропускали свет. Ничтожество здания соответствовало бедности утвари. Так, в соборном храме одна хоругвь была сделана из шерстяной материи, а другая — из красного кумача. Главное паникадило имело всего пятнадцать свечей. Завеса у царских врат была составлена из трёх платков. В зимнем храме — паникадило всего о шести свечах, дарохранительница резная деревянная с жестяными бляхами, иконостас сильно внизу прогнил. Гнилой пол проваливался. На престоле — одежды сильно обветшалые. Пелена на престоле, в храме Вознесения, была ситцевая на холщовой подкладке. Всё казалось разрушенным и клонилось к совершенному упадку.
Отец Филарет не упал духом и с ревностью принялся за дело восстановления обители.
При вступлении в должность он принял триста семьдесят рублей ассигнациями, которые скоро были истрачены, так как хлебные запасы истощились, а число братии прибывало и прибывало.
Пришёл к настоятелю старший хлебопекарь и доложил, что закваска хлебная сделана, а замесить нечем. С твёрдой верой новый настоятель отвечал:
— Матерь Божия нас собрала. Она и попечётся о нас. Нам же до́лжно учиться терпению!
И тогда вместо хлеба в пустыни на столы стали подавать варёную свёклу. Это делалось в течение двух дней. Сперва братия терпела это лишение, а потом, на третий день, некоторые решились оставить убогую обитель и пришли к настоятелю за прощальным благословением. Отец Филарет, доселе бодрый духом, теперь разрыдался. Указывая желающим уйти инокам на чудотворную икону Пресвятой Богородицы, он увещевал их потерпеть ещё недолго, утверждая, что Божия Матерь, имени Которой посвящена обитель, окажет собранным во имя Её инокам Свою помощь. И, действительно, упование настоятеля не было посрамлено? Иноки решились обождать, а в ту же ночь пришло от неизвестного благотворителя двадцать восемь возов муки.
В другой раз, на праздник Рождества Христова, не оказалось ни денег, ни съестных припасов. Братия роптала, поколебался в своей вере и сам настоятель, для которого невозможность накормить братию в такой великий день представлялась, действительно, большим крестом. Но под вечер неизвестный приезжий передал отцу Филарету триста рублей ассигнациями, и праздничный обед был подан в таком составе, как всегда.
Тогда отец Филарет оказал братии:
— Стыдно грешить, но ещё стыднее, согрешив, не каяться! Воздадим хвалу Богу за то, что Он удвоил на нас щедроты Свои и покаемся в нашем маловерии.
И, вот, он в церкви положил с казначеем по сто поклонов, сам пред иконой Спасителя, а казначей пред иконой Богоматери, братии же в кельях велено было положить по пятьдесят поклонов.
Нередко, к отцу Филарету приходили должностные лица за деньгами для покупок, а денег вовсе не оказывалось. И отец Филарет просил потерпеть до вечера, так как Господь может явить милость Свою. И, обыкновенно, кто-нибудь тогда присылал настоятелю припасами или деньгами.
Такая осязательная и постоянная милость Божия укрепила веру отца Филарета, и он стал спокойно и неустанно работать над возрождением обители. Прежде всего, он позаботился о нравственной жизни своих подчинённых.
Он завёл строгий афонский устав, который обусловливал собой прекрасное, полное благолепия, богослужение и порядок в иноческом общежитии.
Отец Филарет удалил из монастыря тех женщин, которые жили на скотном дворе, смотря за рогатым скотом. Потом он воспретил без всякого исключения вход женщинам в иноческие кельи, хотя бы даже это была мать инока. Показывая личный пример, он возбранил вход и к себе в келью женщинам и внёс этот обычай в монастырский устав, доныне соблюдаемый. Конечно, это распоряжение сперва принято было с неудовольствием, но, мало-помалу, к нему привыкли.
Ученики отца Филарета, по любви к нему, переходили к нему из Софрониевой пустыни в Глинскую пустынь, а также из других обителей. От учеников своих отец Филарет требовал того же самого отказа от своей воли, каким он отличался сам в молодости по отношению к наставнику своему.
Людей способных, выдающихся, отец Филарет возвышал пред другими с большой быстротой. Так, один монах пострижен в год самого поступления, через месяц поставлен иеродиаконом, а на другой день — иеромонахом. Некоторые из выдающихся иноков были сделаны иеродиаконами на другой день по пострижению. Таким образом, старец обеспечил себе прекрасный подбор дельных, доброй жизни, выдающихся помощников.
Отец Филарет уделял особое внимание новоначальным. Для будущего инока чрезвычайно важно стать на истинный путь и укрепиться на нём. С первых же шагов от инока он требовал, прежде всего, полного отречения своей воли, как начала смирения. Тем, которые поступали в монастырь на испытание, отец Филарет приказывал открывать духовному отцу всю свою жизнь, — с тех пор, как он себя помнит до дня своего прихода в обитель, чтобы соответственно душевному их прошлому можно было вести их по иноческому пути. Он заботливо и твёрдо исправлял недостатки новоначальных, переходя от более трудной духовной жизни к более лёгкой. И среди разнообразия новоначальных его иноков, состоявших из рабов и господ, благородных и скромного положения, солдат и никогда не выезжавших из родного села крестьян, купцов, умников и глупых людей, он сумел примениться ко всякому, принимая во внимание его воспитание, понятия, ум и характер.
Послушания на своих иноков Филарет накладывал, сообразуясь с характером и способностями всякого. Пример того, как он выработал во вверенных его руководству иноках послушание, смирение, как выработал из них настоящих монахов, можно видеть из следующего.
Когда пришёл к нему проситься будущий известный настоятель Святогорской, Харьковской епархии, обители архимандрит Герман, — тогда Григорий Иванович, — отец Филарет сразу понял, что за человек к нему пришёл и ласково обещал принять его, указав только, что в убогой обители, при суровой пище и телесных трудах, трудно будет сперва ему, происходившему из богатого купеческого рода. Когда же Григорий Иванович обещался всё претерпеть, отец Филарет, ставши пред иконой Божией Матери, стал молиться с таким жаром и усердием, что пришелец чувствовал, как эта молитва вселяется и возносит куда-то его самого. Затем настоятель велел ему идти на пасеку и сказать старому пасечнику, что настоятель прислал его в послушники. Старый пасечник сейчас же поручил пришельцу сгребать в ульи пчёл. При этой непривычной работе пчелы порядочно искусали лицо новоначального и за этим делом застал их игумен Филарет. Об искусанном лице Григория он сказал:
— Доброе ты полагаешь начало. Теперь кусают тебя пчелы, а потом станут кусать бесы; и, как ты теперь терпишь, так и тогда терпи.
Затем он сказал несколько слов пасечнику, чтобы тот не обижал нового послушника, и затем, перекрестив их, медленно вернулся в обитель.
Старый пасечник был неграмотный, но усердный в подвигах человек и вёл жизнь подвижническую, пищу принимал раз в день, клал множество земных поклонов и молился по чёткам, тихо нашёптывая молитву Иисусову. Григорий Иванович стал подражать ему и тоже ничего не ел до вечера, вычитывал своему старцу келейное правило, а также из Псалтири, Евангелия и Житий святых.
Случилось, что, осматривая улей, Григорий Иванович опрокинул улей себе на голову, и пчелы искусали ему лицо и шею до того, что он не мог даже смотреть глазами. В этом положении застал его отец Филарет. Он сделал внушение пасечнику, что тот должен сам осматривать ульи, и прислал Григорию Ивановичу проволочную сетку, которой он был теперь застрахован от укусов лица.
Отец Филарет любил посещать пасеку и, сидя на скамье, наблюдать, как пчёлы носят свой мёд. Иногда, подзывая к себе Григория Ивановича, он наставлял его относительно духовной борьбы, побеждения помыслов и бодрствования над собой. Раз, как-то, принеся для промывки ульи, они стали носить воду из колодца, находившегося за изгородью пасеки, и поэтому отворили калитку, которую раньше всегда затворяли. По случаю сильного зноя они были в одних рубахах. Вошёл отец Филарет и стал выговаривать им, что могут посторонние соблазниться на недостаточность их одежды. Старец стал оправдываться, что, нося воду; всякий раз неудобно запирать калитку, а Григорий Иванович попросту сказал: «прости, отче». Игумен указал старому пасечнику на этот ответ, как на признак смирения, и с тех пор обратил на Григория Ивановича своё особое внимание.
Отец Филарет следил в поведении монахов решительно за всем. Если, например, он видел, что послушник слишком размахивает руками или идёт с гордо закинутой головой, — он сейчас же останавливал его и напоминал, что это неприлично для монаха. Всё это делалось для того, чтобы придать монаху тот внешний вид благочиния и смирения, какой соответствовал бы их внутреннему настроению.
Вот, ещё рассказ о воздействии отца Филарета на инока отца Арсения, который впоследствии был первым настоятелем Святых Гор.
Посланный в Курск, чтобы принять там рукоположение в иеродиакона, — он, не спросившись отца настоятеля, посетил свою мать и поэтому просрочил свою явку на семь дней. Явившись к настоятелю, он думал загладить свою вину тем, что вручил ему от своих родных несколько ценных вещей для ризницы. Отец Филарет благодарил его за вклад, но, прощаясь с отцом Арсением, тихо сказал ему:
— Всё это хорошо. А за то, что ты во время не явился, положи в церкви пред иконой Спасителя семьсот земных поклонов.
Иеродиакон с лёгким сердцем понёс эту епитимию, зная, что наказанием здесь отец Филарет хочет освободить душу человека от ответа в небе.
Как-то, в другой раз, этот же Арсений, собираясь служить с отцом Филаретом в праздничный день, облёкся в одну из красивых риз, подаренных обители его родными. Когда отец Филарет увидел его усердно кадящим в этой ризе, он сразу понял его тщеславие и, подозвав его, приказал надеть старое мишурное облачение. Иеродиакон, упав ему в ноги, умолял его избавить от этого, так как ему совестно кадить в таком облачении пред своими родными, находившимися в церкви. Но отец Филарет был непреклонен, так как для него душа его ученика была дороже удовлетворения его тщеславия. И, действительно, это приказание должно было сломить ложное тщеславие ученика. Тому же самому Арсению подарили раз прекрасный чайный прибор. И, в чистоте сердца, он усиленно приглашал отца Филарета прийти к нему взглянуть на подарок и обновить его. Посетив ученика, отец Филарет похвалил подарок, а потом вдруг бросил весь прибор на пол, так что тот вдребезги разбился. Отец Арсений невольно вскрикнул, а отец Филарет вразумительно отвечал ему:
— Я это сделал для того, чтобы ты не привязывался к земным вещам!
Отец Филарет знал, конечно, силы души своего ученика и заставлял его терпеть то, чего другие, при своей слабохарактерности, не могли бы понести. И впоследствии отец Арсений, будучи архимандритом и первым настоятелем возобновлённой Святогорской пустыни, сам пройдя суровую школу, и другими умел руководить.
Из прежней братии Глинской пустыни, которые были послабее и не могли ужиться при новых порядках, — мало-помалу, — оставили обитель и в ней образовалась новая закваска. Среди новых людей, как раньше в Софрониевой пустыни, отец Филарет ввёл в Глинской старчество с ежедневным откровением помыслов. Старцы наблюдали за учениками, учили их правилам монашеской жизни, разъясняли их недоумения. Каждый монах, кроме богослужения вечернего и обычного церковного правила, имел ещё назначенное ему старцем его особое келейное правило, которое состояло из молитв, земных и поясных поклонов, из чтения Псалтири, Евангелия и Апостола.
Старец Василий Кишкин немало помогал отцу Филарету в деле устройства обители. Он заменял отца Филарета во время его отсутствия по делам в Петроград, Киев и другие места. В течение десяти лет, от 1816 до 1826 года, которые он провёл в Глинской пустыни, он имел глубокое влияние на своих учеников. Но враг опасения воздвиг на него гонение, и ему пришлось перейти в Площанскую пустынь, Орловской епархии, где он и скончался в 1831 году.
Столь же замечателен, хотя в другом роде, был другой подвижник — простец, монах Феодот, отошедший к Богу в 1859 году. Его значение для обители выражали ясно слова отца Филарета: «Молитва старца Феодота привлекает нам, смиренным, благоволение Божие».
Этот человек изумительного терпения нёс подвиг на кухне. Не имея собственной кельи, он спал на грязном кирпичном полу или на куче углей, но больше проводил ночи, бодрствуя на молитве. Он принял на себя вид юродивого и за страстотерпческую жизнь свою имел дар прозрения. Блаженный скончался в самую минуту принятия Святых Таин.
Сам проходивший на опыте духовную жизнь, сам нёсший за свою чистоту и за приближение к Богу тяжёлую борьбу, отец Филарет был прекрасным советчиком в духовной жизни, и все оставшиеся после него советы и наставления монахам отличаются глубиной и исполнимостью своей.
Отцу Филарету удалось воспитать поколение истинных монахов, которые прославили, во всём русском православном мире, среди людей чутких к благочестию, имя Глинской пустыни.
Ученики отца Филарета отличались строгим воздержанием, боязнью взаимной вражды, прощением друг друга, если кто-нибудь пред другими прегрешил, взаимным миром, любовью к уединению, к духовному чтению, к благоговейному служению в храме, готовностью к послушанию. Честность и бескорыстие — были их общим достоинством. Одни вступали в обитель, ничего не имея в миру, другие же обладали в миру достатком и приносили, ради Бога, жертву полной нищеты. Среди них были такие люди, которые, не получив никакого образования, через очищение ума и сердца молитвой, достигли понимания Священного Писания и могли утешать и назидать друг друга и мирян поучительными и глубокими беседами.
Сам делатель умной молитвы, отец Филарет и способную братию приучал к этой молитве. Как все настоятели-подвижники, отец Филарет сам впереди других исполнял труды по послушанию. Ни у кого из глинских монахов при нём не было никакой собственности и ежедневно все исповедовали свои помыслы старцу.
Восьмеро из учеников отца Филарета были из Глинской пустыни взяты настоятелями в другие обители, а четверо из полагавших начало в Глинской пустыни были произведены в настоятели, уже расставшись с пустынью. Среди глинских монахов незабвенны имена схиархимандрита Илиодора (скончался в 1879 году), иеросхимонаха Антония, Амфилохия, Макария, знаменитого алтайского миссионера, другого Макария и святогорского затворника Иоанна.
Особенно замечательны отношения к отцу Филарету алтайского миссионера Макария. Он с отличием окончил курс духовной академии, и ему предстояло вскоре движение по ступеням духовных почестей. Хорошо зная языки греческий, латинский, немецкий и французский, имея звание магистра богословия, он занимал должность ректора Костромской духовной семинарии и одновременно — настоятеля Костромского Богоявленского монастыря, и в сане архимандрита он приходит в убогую и глухую Глинскую пустынь, чтобы стать учеником отца Филарета. По своему характеру отец Макарий чрезвычайно дорожил таким духовным руководителем и постоянно находился под таким руководством: сперва у своего родного отца, человека благочестивого, потом у ректора Петроградской духовной академии Филарета Дроздова, бывшего впоследствии митрополитом Московским. Наконец, в Екатеринославе, где он занимал должность ректора духовной семинарии, он имел руководителем своим старца Ливерия, который был учеником знаменитого Паисия Величковского.
Придя же в Кострому, он должен был руководить сам собой, что было для него чрезвычайно трудно. Его благочестивая душа рвалась под чьё-нибудь руководство, в уединение, к духовному подвигу, и в 1825 году он переселился в Киево-Печерскую лавру, где занялся переводом творений святых отцов. Тут он услыхал о Глинской пустыни и об отце Филарете и в тот же год переселился туда. В ней он нашёл то, что он искал, как это видно из слов его: «Это — школа Христова, это — одна из светлых точек всего земного мира, дабы войти в которую надлежит умалиться до Христова младенчества».
Здесь, в тишине пустынной обители, проходя духовную жизнь под руководством старца Филарета, упиваясь духовным счастьем, отец Макарий особенно усердно и жадно читал Священное Писание, вдумываясь и вникая в его смысл. И это Писание давало ему столько, что часто ему не хотелось писать в утешение своим добрым знакомым ничего, как только соответствующие их душевному состоянию слова Священного Писания. И чтение это так разогревало его душу, что образовывало в нём тёплую молитву и склоняло его к беспрестанному призыванию имени Спасителя.
Он промыслительно получил призыв на миссионерство в далёком Алтайском крае и провёл в этом подвиге пятнадцать лет, откуда вернулся с расстроенным здоровьем в Волховский Троицкий монастырь, Орловской губернии, где через три года блаженно и почил.
Насколько быстро пошло внешнее обновление Глинской пустыни при отце Филарете, видно из того, что оно стало заметно менее, чем через месяц по назначении отца Филарета. Посетивший тогда пустынь Курский преосвященный Феоктист, увидев произведённые перемены, воскликнул: «Радуется душа моя! Слава Господу, творящему чудеса; я вижу Лазаря, воскресшего из мёртвых». Почитатели отца Филарета, из усердия своего, приносили ему свои пожертвования, которые он очень умело употребил на внешнее восстановление монастыря.
Богатый помещик Бровцын, почитатель отца Филарета, привёл в порядок тёплый храм. Затем отец Филарет поставил большой одноэтажный деревянный корпус в шестнадцать келий, произвёл большие работы для уничтожения сырости в соборной церкви, возобновил иконостас и, вообще, всю внутренность соборного храма с починкой ветхой крыши. Видя успешность этих первых строительных работ, отец Филарет задумал перестроить пустынь по новому плану. Каменный трапезный корпус заменил ветхий одноэтажный разваливавшийся домишко. Прочная ограда заменила разрушавшуюся старую, низкую ограду, которая с одной стороны представляла даже деревянный частокол, так что зимой голодные волки забирались вовнутрь монастыря и выли вокруг келий.
Ветхие домики отец Филарет снёс на другую монастырскую землю, а на их месте заложил большой одноэтажный каменный корпус для трапезы, кухни и пекарни, с кельями на мезонине и с погребами под корпусом.
Для обширных построек своих отец Филарет построил на монастырской пасеке собственный кирпичный завод. Был возведён также и отдельный каменный флигель для просфорни.
Эта строительная деятельность была прервана поездкой отца Филарета по делам в Петроград. Но, заведя там новые знакомства, он получил новые пожертвования и с 1823 года его строительная деятельность вспыхнула с новой силой. Он возвёл несколько деревянных больших корпусов, и среди них — большой каменный корпус для священнослужителей. Здания расположились так, что образовали большую церковную площадь, среди которой стоит храм. Затем он устроил большую братскую больницу, каменную столярную и хозяйственные постройки — конюшни и скотный двор. Он расширил гостиный двор разными постройками, службами и сараями. Вскоре построил, на пожертвованной земле, в городе Глухове, пять лавок, дом и флигель с постоялым двором и монастырское подворье — дом с флигелем и часовней. На этом подворье принимались следовавшие в обитель богомольцы и странники.
Всюду при постройках отец Филарет, большой любитель зелени, сажал деревья, кустарники, разводил фруктовые сады, пчельники, огороды. Чтобы осушить прилегающее к обители болото, отец Филарет вырыл пруд с проточной водой.
Одновременно с тем, он украшал и церкви, крыл прежние церковные здания железом, вешал новые колокола и, в 1826 году, начал постройку храма во имя Иверской иконы Богоматери, которую докончил на свои средства московский богач Лобков.
На том месте, где произошло явление Глинской чудотворной иконы, в четверти версты от обители, отец Филарет (на средства господина Анненкова) поставил новую часовню, при которой поселился иеросхимонах и возникли другие кельи. Мало-помалу, образовался так называемый ближний скит, при котором возникло и братское кладбище. Преемник же отца Филарета построил на том месте церковь во имя святых богоотец Иоакима и Анны, родителей Пречистой Девы Марии.
Кроме этих построек — каменной церкви, двух часовен с кельями, двух каменных домов, отец Филарет поставил ещё восемнадцать деревянных домов, квасоварню, мельницу, две крупорушки, сукновальню, конюшни, ледник, амбар и много ещё других зданий — всё крытое тёсом и не штукатуренное, вследствие склонности отца Филарета к большой простоте.
Через десять лет по вступлении его в звание настоятеля во внешнем виде обители, корпусов, соборной церкви и колокольни не оставалось ничего прежнего. Эти старые постройки печально стояли на заднем дворе, переделанные и положенные на прочный фундамент. Отец Филарет значительно расширил боковыми притворами соборный храм, собираясь его совершенно перестроить, на что и собрал тридцать тысяч рублей, но эти работы были выполнены уже его преемником, игуменом Евстратием.
Необходимость иметь большие запасы строительного материала побудила отца Филарета съездить в Петроград, чтобы похлопотать о даровании обители леса. За Глинской пустынью числилось только тридцать шесть десятин земли. Без личных хлопот отца Филарета нельзя было ждать успеха в деле. И, отслужив молебен пред чудотворной иконой Божией Матери, отец Филарет в 1821 году отправился в известную уже ему северную столицу. Государь Александр Благословенный, прослышав о настоятеле-подвижнике дальней лесной пустыни, пожелал лично видеть его, милостиво и неспешно беседовал в своём кабинете с отцом Филаретом и согласился удовлетворить просьбу о даровании обители лесных угодий в количестве трёхсот десятин земли и об уплате монастырских долгов до трёх тысяч ассигнациями. Несмотря на противодействие министра финансов, который предлагал отрезать обители только сто десятин, — по непосредственной воле Государя обители было даровано полностью триста десятин.
Отец Филарет, несмотря на своё малое образование, имел ум просвещённый и мог легко разобраться в самых запутанных вопросах веры.
В то время в русском образованном обществе началось болезненное мистическое направление, которое находило главное выражение своё в журнале «Сионский Вестник», издававшемся мистиком Лабзиным. Ему покровительствовал заражённый этим учением тогдашний министр духовных дел и народного просвещения, князь Александр Николаевич Голицын. Он усердно распространял журнал по учебным заведениям и многочисленным лицам.
Православная церковь учит человека, прежде всего, побеждать страсти, затем приобрести добродетели и хранить плоды этих добродетелей и трудов. Всё это должно быть сделано в духе великого смирения. Таким образом, православие — прежде всего — требует от человека жизни и дел, согласных с учением Христа, хотя и не отрицает тех таинственных утешений, которые душа, достигши праведности, может испытывать в известные высочайшие минуты своей жизни.
Ложные же мистики, против которых приходилось восставать отцу Филарету, стали помимо всяких подвигов, помимо дел, достойных христианина, искать сверхъестественных благодатных утешений. Они впадали в самообольщение, искали каких-то высоких восторгов через самые странные пути, вроде скаканий и верчений, чем особенно отличался кружок известной болезненно направленной Татариновой.
Так как это болезненное направление находилось под защитой разделявшего его влиятельнейшего вельможи, князя Александра Николаевича Голицына, то немногие решались открыто выступать против этого зловредного учения.
Когда, в 1818 году, некий Станович издал книгу в обличение этого мистического болезненного направления, под заглавием: «Беседа над гробом младенца о бессмертии души», автор её в двадцать четыре часа был выслан из столицы. Когда, в 1820 году, в одной из своих проповедей резко стал обличать мистиков законоучитель кадетского корпуса иеромонах Фотий, сделавшийся особенно известным впоследствии в должности настоятеля Новгородского Юрьева монастыря, он в том же году был удалён из Петрограда. То, чего не могли сделать более образованные люди, то совершил малообразованный, но духовно опытный подвижник, затерянный в сельской пустыни.
В 1823 году отец Филарет, находясь в Петрограде, был многократно принимаем Московским архиепископом Филаретом, который был чрезвычайно занят вопросом, о том, чтобы избавить князя Голицына, человека верующей души, способного к глубоким религиозным переживаниям, от его заблуждения. Отец Филарет Глинский действовал на князя Голицына своей пламенной ревностью о спасении ближнего, и князь как-то непосредственно чувствовал какую-то внутреннюю силу, исходившую от подвижника и согревавшую его сердце. Вслед за князем Голицыным, отца Филарета стали приглашать и другие лица высшего столичного круга. Во многих знатных домах он вёл духовные беседы, при чём — ему приводилось вступать в состязание с неправомыслящими людьми, из которых он одних убеждал своими убеждениями, а других обращал на путь спасения.
Случилось однажды, в пасхальную неделю, отцу Филарету в одном высокопоставленном доме — в присутствии большего светского общества — слышать от одного из гостей грубое осуждение служителей церкви и затем неправое суждение об его умной молитве. Долго молча слушал отец Филарет; наконец, он был так возмущён слышанным, что не мог не сказать своего слова. Это слово выразилось у него с великой силой и властью. Он сокрушил, одно за другим, все положения неправомыслящих и, в заключение своей речи, изложил святоотеческое учение о внутреннем делании от начала до конца; противник его был совершенно побеждён его речью.
В столице стали много говорить об этой беседе. Стали особенно ревностно приглашать к себе отца Филарета, и всюду он сеял доброе семя, на какую бы почву оно ни должно было упасть.
Когда отец Филарет вернулся в Глинскую пустынь, ему прислали из Петрограда для отзыва печатные книги, которые были неправославного мистического направления. Отец Филарет вычеркнул все неправильности и отослал книги обратно. Между прочим, на слова мистиков о том, что сердечная молитва благодатно ощущается в правой стороне груди, отец Филарет весьма резонно возразил, что как же там может ощущаться действие молитвы, когда сердце находится у человека в левой стороне груди? В доказательство своих взглядов отец Филарет называл не только названия книг, из которых он приводил выдержки, но даже самых глав или страниц: такая блестящая у него была память.
Во свидетельство этого подвига опровержения направления мистиков сохранились собственноручные записки отца Филарета в его бумагах, помеченные 1833-м годом: «Лабзин побеждён, и ладья его погружена и адова врата церкви Божией не одолеют».
В 1822 году Лабзин был отставлен от должности президента Академии художеств и выслан в Симбирскую губернию, а через два года и князь Голицын уволен от своих высоких должностей.
Памятно то участие, которое принимал отец Филарет в начале царствования императора Николая Павловича в вопросе о сохранении монашества. В небольшом кружке петроградского высшего белого духовенства возникло движение против монашества, к которому примкнула и часть высшего общества. Государь пожелал немедленно решить вопрос о монашестве в своём присутствии, и, между прочим, был послан фельдъегерь, чтобы немедленно привезти в Петроград отца Филарета, славившегося в столице мудростью и своей праведною жизнью. В это же время был в Петрограде другой подвижник, Евгений, из Астраханской епархии. Оба они вместе были у государя и в его присутствии спорили с противниками монашества и своими простыми беседами опровергли все доводы противников монашества.
Знаток духовной жизни, сам восстановитель монашеских обителей, отец Филарет, конечно, более, чем кто-нибудь другой, мог быть прекрасным составителем общежительных иноческих уставов и, действительно, он составил их для женского общежития и способствовал благоустройству обителей Екатеринбургской, Новотихвинской, Борисовской и Уфимской. В Борисовской пустыни, Курской епархии, он сам и ввёл общежительный устав. Интересно, что эта очень многолюдная обитель находилась под влиянием одновременно двух духовных руководителей: часть её относилась к старцу Леониду Оптинскому, а другая — к старцу Филарету Глинскому.
От Уфимского Благовещенского женского монастыря, возникшего под духовным руководством отца Филарета, выросло шесть обителей: Одигитриевская Богородицкая в Челябинске; Оренбургской епархии — Казанская, в г. Троицке; в той же епархии — Успенская, в самом городе Оренбурге, Тихвино-Богородицкая — в г. Бузулуке, Самарской губернии; затем в Уфимской губернии: Пророко-Ильинская, в городе Мензелинске, и в городе Бирске — Троицкая.
В 1824 году в Петрограде была издана составленная отцом Филаретом книга: «Поучение к новопостриженным монахам». Эта книга разбирает важнейшие вопросы не только монашеской, но и, вообще, христианской жизни. Кроме того, отцом Филаретом составлены наставления о должности духовного служения для инокинь, брошюра о явлении Пустынно-Глинской чудотворной иконы и краткое описание Глинской пустыни.
Отец Филарет имел большое влечение к письменности, и в Софрониевой пустыни, где у него находилось свободное время от сложных, при продолжительности богослужения, обязанностей церковного уставщика и благочинного, а также и садовника, он принимался за переписку книг.
Тогда поучительные издания святоотеческих творений были редки и дороги, и отец Филарет с охотой переписывал эти творения, некоторые церковные службы и нотные книги. До сих пор в Глинской пустыни хранится переписанная рукой отца Филарета «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника, служба иконе Божией Матери Иверской и некоторые другие. Отец Филарет был великий искусник в переписке книг уставом, так что неопытный глаз еле отличит его работу от печатных книг. Он выводил красиво и сложно заглавные буквы, разрисованные киноварью, и надо изумляться тому терпению, с которым он — медленным уставным письмом — переписал сто шестьдесят шесть листов большего формата. Это показывает, до какой степени он привык доводить свои дела до конца. С какой быстротой он работал, видно по расчислению, что на всякий день приходилось не менее четырёх страниц, и, несомненно, он употреблял на эту работу значительную часть ночи. Переписчик книг, выводящий затейливые заглавные буквы, должен уметь рисовать, а отец Филарет рисовал искусно, — выучившись ещё мальчиком, — делая снимки с гравюр, эстампов и очень красиво отделывая тонким пером разные виды и даже лики святых.
Так же красиво переписывал отец Филарет и нотные книги. Он сам, как знаток пения, перелагал священные песнопения, особенно хорошо владея древним киево-печерским распевом.
Отец Филарет, как знаток пения, сам руководил клиромом и под его управлением братия пела так хорошо, что богомольцы умилялись до слёз. Он прекрасно понимал, сам усердный молитвенник, что только то пение, которое хорошо усвоено певцами, они могут петь с чувством и способствовать молитве народа. Поэтому, он хорошо разученное, простое, несложное пение предпочитал часто применяемым сложным композициям. Он справедливо полагал, что чем больше искусственности и вымысла в пении, тем более холодными оно оставляет душу и сердце, и он был против пения, в котором громовые раскаты чередуются с еле слышными звуками, и которое не может возвысить душу человеческую до Бога.
Он был сторонником и проводителем древне-церковных мелодий. Он особенно настаивал на том, чтобы слова песнопений произносились внятно, раздельно, понятно, и вследствие этого — богослужение Глинской пустыни, хотя и было весьма длительно, но легко выносилось слушающими. Так, праздничные бдения продолжались по пяти-шести часов, а утреннее будничное — с полуночи до восхода солнца. Ему удалось завести в своей пустыни величественное и торжественное богослужение, глубоко действовавшее на народ.
При установлении этого богослужения ему, конечно, пришлось вынести много трудов, а также и приложить очень много настойчивости.
Отец Филарет предвидел, что после его кончины явятся разные покушения на его устав, и поэтому — он почёл нужным составить письменный устав, утверждённый высшей церковной властью. Он написал Глинский устав из трёх отделов в тридцати шести главах. В первой отделе указан чин богослужения, повиновения и порядок в трапезе, во второй описаны послушания — общие и келейные, в третьем отделе — сложные обязанности настоятеля и старшие монастырские должности.
IV. Келейная жизнь о. Филарета
Как же жил сам отец Филарет?
Его помещение было тесно, состояло из трёх комнат с прихожей. Занимал он, собственно, только одну комнату, а другие служили для приёма посетителей. Его личная келья, служившая ему и спальней, и кабинетом и молельней, имела в длину шесть, а в ширину — три аршина. В ней было одно окно, выходившее на север, и оно было почти всегда закрыто простой занавеской. Только в летние долгие дни, перед заходом, сюда падало солнце. Деревянная скамья, с прибитыми сверху стенками, вроде гроба — служила ему ложем, на котором лежал вместо матраца мешок, набитый сеном, и такая же подушка. Тут он отдыхал, тут он и занимался письмом; к окну был, на двух подножках, приставлен деревянный стол. Два простых стула, один полушкафчик и несколько деревянных полочек в углу с книгами: вот, вся обстановка кельи отца Филарета. При этой бедности всё в ней было в высшей степени опрятно, всё он прибирал своими руками. Все вещи были самые простые: подсвечники из листового железа, сбитые монастырским кузнецом; деревянная, употреблявшаяся им, песочница была залеплена кое-где сургучом. Всё это служило отцу Филарету по нескольку десятков лет. Эта бедная, до убожества, келья была местом его постоянных трудов, его неустанных ночных молитв, его жестокой борьбы с врагом спасения.
Тут он однажды, при чтении акафиста Божией Матери, удостоился видеть Пречистую Деву. Тут он часто сидел за своими письменными занятиями или за беседой с братиями до полуночи, когда — после удара колокола — первым спешил в церковь.
Кроме тех письменных трудов, о которых было упомянуто выше, отцу Филарету приходилось вести значительную переписку по управлению монастырём, громадную переписку с разными благодетелями обители и почитателями старца, которые жили по разным местам России. Говорят, что ежегодно он писал до семисот пятидесяти писем, из которых большинство было важного содержания и служило ответом на важные духовные запросы. Это лишний раз доказывает, насколько отец Филарет считал себя не принадлежащим себе и жертвовал собой Богу и ближним. Двери его кельи были всегда, даже ночью, для всех открыты. Он был доступен, прост и добр в обращении и всех принимал с радостью.
Как-то монах, отец Иоиль, впоследствии ставший великим подвижником под именем иеросхимонаха Илиодора, рассказал ему о страхе ночном, который он испытал от врага спасения. Тогда отец Филарет поведал отцу Иоилю ужасное видение, которое было ему самому в прошедшую ночь, в виде страшного эфиопа с оскаленными зубами и огненными глазами. Отец Филарет не испугался этого страшного явления, но перекрестился и продолжал своё молитвенное ночное правило.
Если черты лица отражают внутреннее настроение души, то лик старца Филарета говорил о его праведной жизни. Какая-то девственная чистота, душевный мир и благорасположение отражались на этом лице. От постоянной борьбы с собой и строгого воздержания тело его имело вид костей, обтянутых кожей, и вся жизнь сосредоточена была в выразительных, искрящихся глазах. Келейник старца Филарета свидетельствует, что вместо утреннего чая, после поздней литургии, отец Филарет крошил в чашку чёрный хлеб, заливал этот хлеб водой или квасом и ел эту снедь, прибавив немного постного масла.
Отец Филарет, вследствие того, что ему приходилось часто быть занятым посетителями во время монастырской трапезы, а, может быть, главным образом из желания строжайшего поста, — вкушал, большей частью, пищу по вечерам. Последние же годы жизни он, ссылаясь на болезнь, питался одной ячневой кашей, без соли и масла.
Радушно встречаемый в миру многочисленными своими почитателями и приглашаемый ими к столу, отец Филарет только делал вид, что вкушает предлагаемые ему блюда и едва прикасался к ним, занимая лиц, сидевших за трапезой, духовной беседой.
Келейник его свидетельствует, что отец Филарет никогда не касался своей рукой какого-нибудь плода и принимал его только тогда, когда ему его предлагали. Всё же лучшее он оставлял для благодетелей Глинской пустыни или передавал на трапезу братии.
О том, как инокам надо держать себя в узде, старец говаривал так:
— Если тело твоё начинает резвиться, то немедленно накинь на него узду строгого воздержания; если же тело изнемогает, дай ему отдых и благоразумно подкрепляй его, ибо, если будешь понуждать тело своё выше меры, то приведёшь его в возмущение…
Относительно соблюдения поста на людях, напр., в гостях, старец заповедовал своим ученикам, что если в постные дни, кроме великого поста, будет предложена трапеза с маслом и рыбой, не отказываться от неё, но вкушать, укоряя себя, чтобы этим уничтожить в себе высокую мысль о своём постничестве. Если же кто спросит, что готовить, — то уже не отступать от правила постничества, соблюдаемого обычно в обители.
Отец Филарет знал на опыте, как важен для монаха телесный труд. Часто его можно было видеть трудящимся то с лопатой, то с топором в разных местах, при чём — он повторял слова старца Серафима: «томлю томящего меня». Любимым его делом была посадка деревьев и разведение фруктового сада. Это был один из способов выражения его склонности к созиданию, — той самой прекрасной и благородной работы, какую он неусыпно вёл над душами человеческими.
В пяти вёрстах от пустыни был хутор при деревне Заруцкой — вклад в Глинскую пустынь благодетеля обители и друга отца Филарета, помещика Димитрия Александровича Бровцына. Место это было болотистое, но отец Филарет окопал его канавой, просушил, насадил деревьев и сделал из него прекрасный уголок. Тут был у него и луг, испещрённый цветами, и густая рощица, в тени которой притаились ульи пчельника, и огород, и сад, а вблизи протекала светлая речка Клевень.
Часто — весной или летом — отец Филарет, забрав с собой в повозку все нужные инструменты, отправлялся на этот хутор и работал там весь день, один или с братиями. Руки отца Филарета были всегда в мозолях, свидетельствовавших о постоянных телесных трудах. Иногда он зарабатывался до того, что весь обливался потом. Возвращаясь из своей хуторской кельи, он — бывало — не в силах нести с собой обратно свои инструменты и просил кого-нибудь «принести сюда его утешение, орудия труда его». В телесном же труде отец Филарет видел лучшее средство для борьбы со страстями.
Отец Филарет знал весь вред праздности для иноков, особенно — для новоначальных. В некоторых обителях певцы, которыми монастырь, обыкновенно, очень дорожит, так как хорошее пение привлекает богомольцев, не несут кроме клиросного никакого другого послушания. Отец же Филарет заставлял их в свободное время переплетать книги, делать ложки, плести корзины.
Ежедневно отец Филарет бывал на всех послушаниях, — наблюдая, как они исполняются. При этом обходе иноков он любил подолгу с ними беседовать.
Было уже упомянуто, что отец Филарет был в духовном общении с великим подвижником, архиепископом Воронежским Антонием Смирницким, а также и с великим Московским митрополитом, известным Филаретом (Дроздовым).
Отец Филарет был также в общении, — по духу, через пространство, — и с дивным Саровским подвижником, отцом Серафимом. Иногда тех лиц, которые просили его благословения на поступление в обитель, отец Серафим посылал к отцу Филарету. Один послушник, Авксентий, живший в Глинской пустыни, стал унывать там и, оставив монастырь, пошёл в Саров к отцу Серафиму. Старец, никогда не видавший его, назвал его по имени и — прежде чем он успел что-нибудь сказать, велел ему вернуться в Глинскую пустынь. Тот подумал в себе, что он пойдёт в какую угодно обитель, кроме Глинской. Тогда старец Серафим настоятельно сказал ему:
— Нет на земле места, где бы тебя не посетил гнев Божий; иди, тебя примут!
Авксентий вернулся, был принят обратно, полгода пожил в подвиге и послушании и затем отошёл к Богу, предузнав сам свою кончину.
Другой послушник, Пётр Сипченко, прожив в Глинской пустыни два года, стал сомневаться: жить ему в монастыре или принять монашество? Так как Пётр думал, что глинские старцы будут пристрастно к своей пустыни разрешать его недоумение, то он решил идти за советом к отцу Серафиму. Он просил у преподобного совета, надо ли его брату поступить в монастырь? Старец Серафим сказал ему:
— Сам спасайся и брата своего спасай!
А потом напомнил ему событие из жизни преподобного Иоанникия Великого, который, странствуя по горам и стремнинам, нечаянно уронил жезл, упавший в пропасть. Жезл поднять было нельзя, а без него нельзя было продолжать путь, и Бог тогда вручил ему, через ангела, новый жезл. Рассказав это древнее событие, старец Серафим вложил в руку послушнику свою собственную палку и произнёс:
— Трудно управлять душами человеческими, но среди всех твоих напастей в управлении душами, брат, ангел Господень будет при тебе до конца, жизни.
Пётр вернулся в Глинскую пустынь и через несколько времени был пострижен отцом Филаретом, а в 1854 году был назначен настоятелем Чуркинской Николаевской пустыни, Астраханской епархии. Брат его был тоже иеромонах.
О том таинственном общении, которое связывало двух русских подвижников, Саровского старца Серафима с отцом Филаретом, свидетельствует то таинственное видение, которое было отцу Филарету в ночь кончины, в дальнем Сарове, старца Серафима.
После утрени, в ночь на второе января 1833 года, отец Филарет, стоя на крыльце своей кельи, увидел сияние на небе, и в этом сиянии чья-то душа с пением была возносима на небо. Старец Филарет долго смотрел на чудное видение. Потом он подозвал к себе некоторых из братьев, бывших неподалёку, и указал им на необыкновенный, сиявший в небе, свет.
— Вот, как возносятся души праведных, — промолвил при этом он задумчиво: — нынче в Сарове почил старец Серафим.
Величайшего из видений сподобилась чистая и правая душа подвижника: ему было явление Богоматери. Однажды, перед днём празднования Иверской иконы Пресвятой Богородицы, отец Филарет читал акафист этой иконе. Когда он стал петь последний кондак: «О, всепетая Мати, рождшая всех святых святейшее Слово, нынешнее приемши моление, от всякие избави напасти всех и будущие изми муки Тебе вопиющих: аллилуия», — он был сподоблен видения Пречистой Девы.
V. Кресты его жизни. Последние годы
Как большинству истинных подвижников, отцу Филарету не суждено было избежать скорбей и гонений. Особенно много потерпел он от клеветы людей, которые придавали его действиям дурные намерения. Один брат, вбежав в келью настоятеля, стал всячески поносить о. Филарета.
— Иди, — сказал тогда настоятель этому брату, — и поноси меня вслух всей братии.
Этими словами дерзость его была совершенно сломлена. В другой раз отцу Филарету было доставлено полицией написанное о нём одним из монахов письмо, полное брани. Старец ничем не выразил своего неудовольствия и сжёг тут же письмо.
Один молодой послушник был крайне недоволен тем, что отец Филарет делал ряску другому достойному послушнику, который был моложе его. Обладая хорошим голосом, первый думал, что им должны дорожить в обители, и поэтому — стал требовать рясофор для себя. Старец знал, что такое поощрение не послужит к пользе этому юноше, и увещевал его смириться и обождать. Тогда тот заявил, что уходит из обители, и однажды нарочно наступил на мантию шедшего перед ним отца Филарета, которая и разорвалась. Старец кротко сказал ему, что он был в Глинскую пустынь призван к спасению, а из неё стремится к погибели, и пусть на нём сбудется то, чего он заслуживает. Юноша вышел из обители и потом, после смерти отца Филарета, опять в неё поступил, но вместить монашеского жития не мог.
Некоторые-клеветы, возводимые на старца, были настолько несообразны со всеми его понятиями, что он отвечал на эти клеветы только молчанием. Так, однажды на него возвели поклёп, будто он прекратил молебны пред чудотворной иконой Рождества Богоматери. Отец же Филарет, в действительности, был самым горячим чтителем Пречистой Девы и с величайшим усердием отправлял Ей акафистное пение и в соборе, и у себя в келье.
Многие лица, привыкшие к прежней своенравной жизни в обители, были недовольны новыми порядками, заведёнными отцом Филаретом, и это смущало старца. Одно время он подумал снять даже с себя настоятельскую должность. Затем был на него сделан донос новому епископу Илиодору о том, что в скиту Глинской пустыни свободно разгуливают женщины, и что отец Филарет с ними проводит время.
Епископ пожелал лично проверить дело, и из курского собора неожиданно направился в Глинскую пустынь. Не останавливаясь в монастыре, он проехал в скит. В то время там был подвижник иеромонах Антоний и послушник Феодосий. Епископ прямо постучал в келью иеромонаха, который в то время совершал у себя правило. Антоний вышел к епископу в слезах, в мантии и в епитрахили, и епископ был поражён убогим, тесным помещением, в котором была только икона, простой стол и скамейка. Он мог на деле убедиться, что здесь место не гуляний, а молитвы и плача. Тогда проехал он в обитель, где шла вечерня. В ту минуту, когда он входил в храм, отец Филарет с братией пел слова песни Христу: «Достоин еси во вся времена пет быти гласы преподобными». Это совпадение поразило епископа. Когда кончилась служба, преосвященный посетил келью настоятеля, за ними, хотели войти три барыни, но отец Филарет запретил им вход. Тогда епископ открыл настоятелю цель своего приезда и кончил своё признание словами:
— В чём застал, в том и сужу.
Находились люди, которые клеветали на поведение отца Филарета и тогда, когда он был уже шестидесятилетним стариком. Особенно много клевет вынес он от тех лиц, которые были ссылаемы в монастырь для несения епитимии. В настоятельство отца Филарета их ссылалось в пустынь особенно много. Некоторые из них подчинялись его власти, а другие делали ему одни неприятности. Старец старался воздействовать на злобствующих на него своей великой кротостью. Одному брату отец Филарет несколько раз делал замечание, что он не соблюдает установленного порядка. Тот оправдывался, доходя до грубости. Наконец, отец Филарет, встретившись с ним, смиренно кланяясь ему, сказал:
— Прости меня, я оскорбил тебя, как человек.
Этим упорство брата было сломлено.
Когда один брат наотрез отказался положить, в виде наказания, в церкви несколько поклонов, — отец Филарет тут же положил за него сто земных поклонов и, обратившись к братии, просил прощения за того монаха. Как то, трудясь с послушниками при посадке огурцов, отец Филарет заметил, что те лениво помогают ему. Он тогда стал разбрасывать по грядам навоз, приговаривая слова псалмопевца: «виждь смирение мое и труд мой».
Такие прямые люди независимого характера, хотя и смиренные, как отец Филарет, — встречают, обыкновенно, мало сочувствия в своём начальстве. И мы видим, что отец Филарет, при всех своих громадных заслугах для своей обители и для всего духовного дела всей России, награждался чрезвычайно медленно, так что столь ничтожную награду, как посох, который, обыкновенно, присваивается строителям при возведении их в этот сан, он получил лишь после девятнадцати лет управления обителью, а в звание игумена был возведён ещё через четыре года. Так трудился старец не в сочувствии и одобрении людей, а в сознании верности своему призванию, без наград и поощрений.
За посохом в Курск он не поехал, а сам вырезал себе посох из клёна.
В начале настоятельского труда своего терпел он великие недостатки и убожество, а потом, при успехе дела — обвинения, клеветы, недовольство и глубоко равнодушное отношение начальства.
Духовная известность старца Филарета была настолько велика, что в Глинскую пустынь съезжались со всей России и простые, и знатные богомольцы.
Знаменитая своим благочестием и расположением к иночеству и крайнею щедростью, графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская, имевшая случай познакомиться с отцом Филаретом в столице, сделала несколько пожертвований в Глинскую пустынь. Графиня и сама впоследствии посетила Глинскую пустынь.
Особенно почитал отца Филарета простой народ, который толпился у его кельи с раннего утра. Всех старец принимал радостно, и в его беседах сияла его великая духовная опытность. Вот, как рассказывает одна старушка мирянка о том, каким запомнился ей старец Филарет. Она передавала свой рассказ с великой искренностью, с голосом, прерывающимся от волнения; со слезами, сверкавшими в её старых глазах:
— Отец Филарет, глинский игумен, старец святой жизни, отец мой духовный. Я его ещё уставщиком в Софрониевой пустыни знала: старец был такой смиренный, молитвенник. Потом и в Глинской я часто у него бывала, говела там, и многое на пользу души моей он говорил. Всё кротко да ласково, точно себя укоряя, а, между тем — так душу словами умилит, что наплачешься, слушая его. «Пора нам, Аринушка, домой, долго мы тут загостились, — говорит, бывало, старец. — Там лучше. Там вечная жизнь, вечная радость, там Отец наш небесный нас ждёт. А мы, бедные грешники, всё это забываем, мир да мирское всё любим, плоти своей угождаем. А умрём, всё оставим, ничего с собой не возьмём, да и сами в прах обратимся. Одни лишь дела с нами пойдут — ими или осудимся, или прославимся, смотря по тому, как кто на сем свете жил».
Некоторые случаи доказывали, что отец Филарет обладал силой действенной молитвы. Он сумел вымолить исцеление таким людям, которые щедро благотворили восстанавливаемой им обители.
У себя в имении Ахтырского уезда, Харьковской губернии, жил весьма богатый помещик Хрущов, к которому в болезни во сне был голос: «приедет монах, и ты исцелишься». Надо думать, что и отцу Филарету было какое-нибудь указание свыше, и он утром неожиданно отправился с келейником в имение Хрущова.
Явившись к нему, он сказал:
— Константин Димитриевич, позвольте отслужить у вас молебен с водоосвящением и потом побеседовать!
Больной согласился. Отец Филарет установил на столе привезённый с собой снимок с Глинской явленной иконы Рождества Богородицы и стал совершать молебен с акафистом. Больной был окроплён святой водой и — мгновенно выздоровел, присел к столу и долго беседовал со старцем. После того он часто посещал Глинскую пустынь и до самой кончины своей, последовавшей в 1876 году, считался её благодетелем. На его средствами месте явления чудотворной иконы — возведена каменная церковь и перестроена соборная колокольня. Он отличался особым усердием к иконе Богоматери. А впоследствии в своём имении он открыл Рясненский Димитриевский монастырь, на который подписал четыре тысячи пятьсот десятин земли и сто тысяч рублей деньгами. Он при отце Филарете принёс в дар Глинской пустыни напрестольное евангелие в ценных сребро-позлащённых досках, украшенное каменьями, и воздвиг каменный трапезный корпус.
Один крестьянин, сильно страдавший головными болями, приехал на монастырскую мельницу, где в то время находился отец Филарет. Он взял больного за голову двумя пальцами и болезнь прошла.
У одного села находилась монастырская мельница, укреплённая за обителью в конце восемнадцатого века. Крестьяне этого села раскопали плотину и выпустили из озера всю воду. Узнав об этом, отец Филарет сказал:
— Пусть поправят плотину, а мы помолимся Господу Богу о дожде.
Пошёл сильный дождь, который наполнил озеро водой в изобилии, так что мельница имела двойной помол.
В 1833 г. была эпидемия в городе Уфе. Очевидно, отец Филарет в эти дни духом был в хорошо известной ему Уфимской женской обители. Этого монастыря монахиня Евгения видела во сне старца Филарета, который кропил стены обители святой водой и говорил: «не бойтесь, Господь сохранит вашу обитель от губительной язвы». Все тогда больные выздоровели и вновь никто не заболел.
Несомненно также, что отец Филарет имел и дар прозорливости.
Один инок глинский часто отлучался из монастыря по своим делам. Зайдя, как-то, к старцу взять благословение на отъезд, он услыхал предостережение об опасности для инока отлучаться от обители, при чём — отец Филарет сказал о некоторых случаях, которые могли быть известны только тому монаху. Тут же он сказал, что дело, ради которого он отлучается, не будет иметь успеха. Всё это, действительно, и сбылось.
Однажды отец Филарет беседовал с многочисленными посетителями. Находившаяся тут монахиня Борисовского монастыря подумала: «может ли он угадать, кто и каков?» Вдруг, отец Филарет — на эту тайную мысль её — отвечает:
— Как в стакане видна чистая вода и мутная, так виден и человек!
Вот, свидетельство глуховского дворянина Нарбута: «Когда отец игумен Филарет, после многих трудов своих для Глинской обители, пришёл уже в слабость, братия обратилась к нему, желая знать, кого он после себя оставляет настоятелем. Он молчал. Братия просили узнать об этом глуховского купца Веринского, в доме которого прежде, по неимению в Глухове подворья, останавливались глинские иноки. Тот приехал, и на его вопрос старец ответил: „В монастыре нет, а пришлют из другого. Впрочем, хотя и есть, но не сюда готовится. Ты по выходе от меня встретишь его, он тебя будет просить к себе, зайди и увидишь обстановку, подобную моей келье, а на столе деревянный крест“». Действительно, игуменом в Глинскую пустынь был прислан глинский же монах Евстратий. А иеродиакон Арсений, которого Веринский встретил с десятью братьями, был переведён в Святогорский монастырь и там сделался архимандритом.
Для поминовения тех лиц, за которых богомольцы Глинской пустыни вносили пожертвования, у отца Филареуа был заведён строгий порядок. Кроме обычных заказанных церковных поминовений на проскомидии, ектеньи, литии, молебнах и панихидах, — отец Филарет установил чтение во время литургии в алтаре «Большего Синодика». Чреда старцев день и ночь творила неустанное бдение за живых и умерших, читала псалтирь, поминая монастырскую братию, благодетелей обители и родственников их, ежедневно поминая о здравии и за упокой, на проскомидии. Так же поминают о здравии на ежедневных акафистах, а в будние дни поминают умерших на литиях после утрени и вечерни. Такой тщательный обряд поминовения ещё более привлёк жертвователей в Глинскую пустынь.
На эти жертвы отец Филарет, между прочим, обновил и заменил новыми приобретениями всю скудную ризницу. Много вещей, утварь и ризы отец Филарет получил от богатых и знатных столичных жителей.
С 1826 года была утверждена в обители прежде не существовавшая в ней должность ризничего.
Радея о благоустроении и украшении пустыни, мог ли отец Филарет, ревностно чтивший Пресвятую Деву, оставить не украшенным Её чудотворный образ?
До отца Филарета чтимая Глинская святыня помещалась в нижнем ярусе иконостаса, против правого клироса. Отец Филарет поставил её над царскими вратами в серебряном, позлащённом кругу, откуда она была доступна взорам всех молящихся в храме.
Отец Филарет любил петь пред этой иконой акафисты, представляя себе, что он стоит воочию пред Пречистой Девой. Эти акафисты, совершаемые по субботам и в дни особых милостей, явленных обители через Пречистую Деву, он совершал соборно, посреди храма, прекрасным болгарским напевом. В эти минуты лицо старца озарялось каким-то особенным, неземным, сиянием.
До сих пор многие богомольцы не могут удержать своих слёз, когда, при совершении соборного акафиста Богоматери, икона опускается вниз с горящей пред нею лампадой и свечей, и сонм священноиноков и монашеский клир воспевает Пренепорочную Деву Марию, особенно в ту минуту, когда оба клироса, соединяясь вместе посредине храма, поют последний кондак, многократно повторяя слова его: «О, Всепетая Мати…»
Отец Филарет, видя на себе и на обители многократные опыты заступления Богоматери, учил братию всегда прибегать к всемощному заступничеству Пресвятой Девы. Он так говорил:
— Могут ли пестуны так пещись о детях, как печётся о них мать? Могут ли понимать болезненные вопли младенцев, когда и младенцы сами не знают, чего хотят? Только сердце матери разумеет вопли своего детища. Услышав плач, она успокаивает его млеком своим. Так поступает и Матерь Божия. Чада Её, младенцы о Христе Иисусе, скорбят, страдают, вопиют и плачут. Пестуны или не внимают им, или не могут попещись о каждом, не могут помочь им, или не могут познать нужд их. Что же делает благая Матерь благого Бога? То в том, то в ином месте и времени, то через сию (Глинскую), то через иную Свою икону, дарует чадам млеко благодати на всё полезной, и как бы так говорит им: «дети, сюда идите». Дети текут на сей глас, привлекаемые к чудотворной иконе Божией Матери, а икона возводит умы и сердца их на небо, к Самой Матери Божией, на небесах торжествующей; Царица Небесная приводит сих детей царствия Божия к Царю и Богу их, Иисусу Христу, и глаголет: «еже аще глаголет вам — сотворите» (Ин.2:5); и, наконец, Сын Божий приводит детей Своих уже достигших меры совершенного мужа, ко Отцу Своему и Отцу нашему, да будет всяческая во всех!
В 1838 году с отцом Филаретом, за два дня до праздника Рождества Христова, случился припадок, оставивший его в бесчувственном состоянии. Тогда кто-то из братии, после причастия старца, сказал ему, что после него обитель Глинская разорится. Он с уверенностью ответил:
— Не разорится, а созиждется, увеличится и процветёт!
И тут же добавил:
— Я проживу два года, да и ныне пропоём трипеснец, а после завтра — слава в вышних Богу…
Хотя старец продолжал служить, но он чувствовал сильную боль в груди, которая перешла в жестокую чахотку. Медицинской помощи он, никогда к ней не прибегавший, и теперь не желал. Несмотря на крайнюю потерю сил, он не изменял своему обычному образу жизни. И за шесть недель до кончины — на первой неделе великого поста 1841 года — бывал в церкви, где становился против клироса и пел. В последний раз он служил литургию в неделю православия. В крестопоклонную неделю он был в последний раз в церкви и подпевал певчим. Дел обители он не оставлял. И, по прежнему, к нему приходили должностные монастырские лица за распоряжениями, и миряне — за советами.
В страстной великий четверг, в Глинской пустыни, по киевскому обычаю, перед братией и богомольцами совершается таинство елеосвящения. Оно было предложено отцу Филарету, но он отложил его до субботы. Тут духовник, иеромонах Порфирий Мамчич, спросил у него, кого он назначит по себе преемником? Он ответил:
— Тебя бы, но ризы мои для тебя длинны, а Евстратию они годятся.
Старец тут испросил прощение у братии, всех благословил и просил больше себя не беспокоить. У него спросили, не чувствует ли он наступление немедленной смерти? Но он ответил, что он отпразднует праздник Пасху с братией, а там — видно будет. В ночь Пасхи подвижник как будто почувствовал прилив сил, казался бодрее, сам дал благословение ударить к пасхальной утрени, распорядился относительно риз и состава служащих. Когда была отслужена литургия, он съел два яйца и немного сметаны, и весь этот день провёл в великой радости.
В час по полуночи, под понедельник, он потребовал к себе духовника, причастился Святых Тайн и выслушал молитву на исход души. Тут он мог ещё иметь достаточно сил, чтобы благословить всякого подходившего. К рассвету заметили, что смерть надвигается, но старец сохранил память и беседовал до последней минуты. Он распорядился, что если тело его не будет разлагаться, ожидать для погребения его брата — офицера. Когда стали звонить к ранней обедне, отец Филарет, окружённый братией, сидя на своём ложе, преклонил свою голову на сложенные крестообразно на письменном столе руки, и несколько минут молился. Потом он без поддержки кого-нибудь — сел прямо, склонил голову на грудь и скончался, как будто уснул. Это было тридцать первого марта 1841 года, в половине седьмого часа утра. В храме совершалась проскомидия, и немедленно на ней помянули новопреставленного игумена отца Филарета.
Нельзя не заметить, что день кончины отца Филарета весьма знаменателен. Тридцать первого марта — испустил дух на кресте Господь наш Иисус Христос, носителем креста Которого был отец Филарет. В этот день совершается празднование Иверской иконе Богоматери, которой отец Филарет был благословлён в Софрониевой пустыни и которую особенно почитал. Памятником его благоговения к этой иконе осталась переписанная им «уставом» церковная служба и сказание об иконе. Во имя Иверской иконы им был устроен храм над вратами обители и можно думать, что Богоматерь умолила Сына Своего принять в этот день в небесные обители душу Своего искреннего чтителя. Верующие люди знают также, что смерть на пасхальной неделе является знаком милости Божией душе, так же, как приобщение незадолго до исхода души из тела.
Отец Филарет с телом, истощённым великим, постоянным постом, живой походил на мертвеца и поэтому — теперь мёртвый походил на спящего.
Велико было горе обители, которую он возвёл в славу из ничтожества. Но горе обители смягчалось тем, что великий старец лежал, как праведник, в гробу, и от его утруждённого подвигами тела источалось благоухание. Один послушник был так поражён этим благоуханием, что спрашивал, не было ли положено в гроб каких-нибудь благовоний? Этот послушник впоследствии был архимандрит Герман, известный настоятель знаменитой пустыни на Святых горах, в Харьковской епархии.
Так как тело сохранялось в нетлении, то с похоронами не спешили и, по завещанию старца, брат его успел приехать на погребение, которое было совершено на светлой неделе, в четверг.
Все служащие были в светлых ризах, раздавалось пение пасхальных победных песен и всё это являло вид не похорон, а духовного торжества. Плакали миряне, плакали монахи, и первенствующий иеродиакон, захлёбываясь слезами, долго не мог возгласить «вечную память». Тело отца Филарета было опущено в заранее приготовленный склеп, у южного входа в соборную церковь, которую с таким усердием, не жалея на неё жертв, воздвигал он сам. Место это выбрано им с той мыслью, чтобы поминали его все, входящие в храм Господень. Теперь оно вошло под внутреннюю церковь и находится у северных врат, у солеи правого соборного придела.
Сбылось предсказание старца, который умер через два года и три месяца после первого припадка. Последними словами его завещания обители были слова:
— Имейте, братие, мир и любовь между собой, — говорил он, — а я, если обрету у Господа дерзновение, то верую — обитель наша не оскудеет. Вы же сотворите любовь, поминайте меня отцом своим, аще аз и недостойный, и обрящете благодать от Бога.
Некоторые явления подтвердили упование, что старец стяжал у Бога благодать.
Один киево-печерский монах, который полагал начало монашеского жития в Глинской пустыни при старце Филарете, долго болел и как-то горячо молился чудотворцам печерским о своём исцелении. И однажды, ночью, он видит сонм святых и среди них — старца Филарета и слышит голос: «ты глинский — молись Филарету, яко да исцелишися!» Тут же, во сне, он начал молиться и, проснувшись, выздоровел совершенно.
Монахиня Белгородского монастыря, бывшая духовной дочерью старца, вскоре после его смерти написала брату своему, глинскому монаху:
«Батюшка недавно во сне так утешил меня, — радость влил в сердце моё, что целый день, как на Светлое Христово Воскресение, торжествовала душа моя, особенное какое-то утешение чувствовала. Если бы хотя и такая, грешной мне, радость была в будущем веке, то я не желала бы и минуты жить на земле. Я батюшку поминаю и верую, что его святые молитвы защитят нас во всех случаях».
Когда, по мысли Татьяны Борисовны Потёмкиной, была возобновлена древняя пустынь в имении Потёмкиных «Святые горы», — туда настоятелем был назначен глинский казначей иеромонах Арсений. Взяв с собой нескольких монахов, он отправился. По пути в Святые горы, на первом же ночлеге, двое из братии утешены были одинаковым сном. Они видели блаженного старца, игумена Филарета, который сказал им: «И я, дети, еду с вами в Святые горы, чтобы там помотать в трудах».
Знаменитый затворник святогорский, Иоанн, в день своей кончины, видел своего старца Филарета с его святогорскими, прежде его отошедшими, учениками, соборно совершавших молебен святителю Николаю и призывавших Иоанна к себе.
Отец Филарет являлся в разные времена разным людям, исполняя их просьбы, предостерегая от ожидающих искушений и преподавая им наставления. Доселе старец Филарет, живя духом в своей обители, является многим из её братии.
Вот участие отца Филарета в судьбе одной монахолюбивой души, которой обстоятельства её жизни не позволили принять монашества. Одна дворянская девица Мария должна была жить у сестры, чтобы нянчить её детей. Эти обязанности не позволили ей исполнить её заветное желание — принять постриг. Но Господу было угодно переселить её в вечность из обители. Она умерла, приехав в Глинскую пустынь на богомолье. В ночь кончины её отец Филарет явился во сне настоятелю Иннокентию и сказал ему: «похорони Марию». Мария была с торжеством погребена в самой ограде Глинского скита.
Один иеромонах Глинской пустыни помышлял уйти из монастыря. Ему явился отец Филарет со словами: «Уйдёшь, сгорит душа твоя, не оставляй моего жилища и благо тебе будет».
Часто подвижники из братии видели отца Филарета поющим на клиросе с братией. Схимонах Илиодор, думая об участи душ глинской братии, видел храм и алтарь, уставленный большими и малыми светильниками. А в другой раз видел во сне каменный монастырский храм, полный крылатыми монахами, блиставшими небесным светом, и среди них, как солнце среди звёзд, стоял великий игумен Филарет с лицом столь светлым, что на него нельзя было даже смотреть.
Прост надгробный памятник старца Филарета. С левой стороны от места его погребения на колонне помещено изображение святого Филарета Милостивого, имя которого он носил, и под ним небольшая медная доска, гласящая о главных событиях жизни старца. Но главным памятником по нём является сама восстановленная им Глинская пустынь, над которой сбылось слово старца: «не разрушится и распространится». В ней теперь много церквей, со многими алтарями, при ней два скита: Ближний и Спасо-Илиодоровский.
По-прежнему, славится Глинская пустынь строгостью жизни иноков, благолепным богослужением и трогающим сердце пением. И всюду почиет дух смиренного старца Филарета. Братия живёт в мире и согласии, с любовью блюдя завещанный ей отцом Филаретом устав, и всё в обители гласит о нём.
Послушания несутся по уставу и преданиям отца Филарета. Певчие поют по «Ирмологию» отца Филарета. Здания соборной площади воздвигнуты Филаретом. План расположения обители начертан Филаретом. Ризница богата священными сосудами, крестами и евангелиями времён Филарета. Настоятельский дом воздвигнут Филаретом. Здесь он видел дивное знамение, душу великого, единонравного ему Серафима Саровского чудотворца, во славе возносимую ангелами на небо, к Богу.
Хранится келья отца Филарета на месте его ночных молитв и трудов, где он сподобился видеть Пресвятую Богородицу. В ней стоит большая икона Спасителя, взятая из церковного иконостаса его времени, от которой были благодатные знамения.
В обители Глинской вы постоянно услышите слова: «старец Филарет говорил», «батюшка Филарет установил!» И жива память его не только в обители Глинской, но и среди тех людей, которым дороги подвиги исконного русского благочестия.
Подвижница Елизавета
(монахиня Кашинского Сретенского женского монастыря).
Сретенский женский монастырь в Кашине принадлежит к числу тех тихих и уединённых обителей, которые способствуют духовной жизни, самоуглублению, подвигу.
Кроме незабвенной подвижницы, монахини Дорофеи Лодыгиной, одной из жертв великих несчастий России в смутное время, на высотах духа и в строгом самоотречении нашедшей себе утешение и окружённой ныне всё более и более возрастающем почитанием, — Кашинский Сретенский монастырь славен памятью ещё нескольких подвижниц. К числу их принадлежит и монахиня Елизавета.
Монахиня Елизавета, в миру Екатерина Алексеевна Головачёва, происходила из старого дворянского рода, родилась в 1764 году и была дочерью помещика Ржевского уезда, Тверской губернии, отставного бригадира Алексея Ивановича Головачёва и жены его, Прасковьи Васильевны.
Для того, чтобы представить себе ту обстановку, в которой проходило детство барышни Головачёвой, надо восстановить перед собой быт того времени.
Обеспеченные трудами и потом крепостных крестьян, пользуясь довольством, обилием, которое доставалось им без всякого труда и усилий, помещики жили тогда широкой и праздной жизнью. И эта жизнь была самым верным путём к отдалению их от духовных запросов. Мужчины щеголяли распущенностью нравов, считали хорошим тоном придерживаться различных вольнодумств. Зачастую раздавались насмешки над всем священным.
Недалеко от мужчин ушли тогда и женщины. Легкомысленно относясь к обязанностям супруг, матерей, они проводили жизнь свою в лени, легкомыслии, легко отдавались чувственности, были беспечны, если не жестоки относительно крепостных своих крестьян. И лишь в виде исключения, в некоторых лучших мужчинах и женщинах, переданные по наследству от отцов и дедов, таились робкие религиозные чувства, сохранялись от старины благочестивые, православные обычаи и предания.
Встречались такие семьи среднего дворянства, в которых дух модного воспитания и современного легкомыслия не мог вытравить крепких родных устоев. К таким семьям принадлежали и Головачёвы.
Поэтому, Екатерина Алексеевна ещё в доме родителей получила задатки того благочестия, которое впоследствии расцвело в ней таким пышным цветом.
В молодых летах она была выдана замуж в Курской губернии, за поручика Голофеева и была привезена им на его родину.
В браке она не была счастлива, но жила в нём не долго: умер муж её, умерла и любимая её дочь, на которой она сосредоточила всю нежность своего сердца, искавшего горячей привязанности, и которая была единственным утешением в её несчастной жизни.
Впоследствии монахиня Елизавета часто прославляла Бога за то, что Он, рано взяв к Себе её дочь, поставил её тем на путь духовный и научил её искать счастья в одной любви Божественной.
В монастырь Екатерина Алексеевна, как и многие другие подвижницы высшего круга, была приведена особенным путём Промысла Божия. Раз, как-то, будучи вдовой, Екатерина Алексеевна поехала в Москву, чтобы там немного рассеяться. По дороге её застигла страшная вьюга и от этой вьюги она решилась искать приюта в усадьбе своих родных, Чудиновых, куда раньше не располагала заехать. Родственники её были люди благочестивые; они ласково приняли у себя Екатерину Алексеевну. Имея обыкновение перед сном что-нибудь читать, она попросила у родных книжки. Так как их библиотека состояла почти исключительно из книг духовного содержания, то они и принесли одну из таких книг, под заглавием: «Путь к Царствию Небесному». Книга эта так увлекла Екатерину Алексеевну, что она провела над чтением её почти всю ночь:
И в эту ночь с ней произошёл перелом: то, что было с ней раньше в жизни, показалось ей страшной вьюгой, и духовная жизнь представлялась её измученному сердцу, как тихое и верное пристанище.
В эту ночь обильно излилась над нею та благодать Божия, которая ставит людей, избранных Богом, на новые пути жизни, образует в них, так сказать, новый порядок чувств и мыслей.
Екатерина Алексеевна в слезах долго молилась перед иконами, и происшедший в ней перелом был настолько бесповоротен, что поутру она объявила своим родственникам, что в Москву веселиться больше не едет, а вернётся домой, так как ей надо молиться и молиться.
Пробыв некоторое время дома, она поехала в Кашинский Сретенский монастырь, куда и вступила в 1788 году — двадцати трёх лет от роду.
Многострадальной Кашинской обители, пережившей немало тяжких годов, Господь послал усердных жертвователей. Так, вскоре после вступления в обитель Екатерины Алексеевны, помещик Опочинин поставил на собственные средства каменную колокольню и, близ летнего храма и в связи с ним, воздвигнул холодную двухпрестольную церковь. Это было в 1790 году.
Пример такой щедрости и усердия подействовал и на Екатерину Алексеевну Головачёву. Она пожертвовала всё своё имущество на построение в обители храма во имя Пресвятой Троицы над святыми вратами, пригласив для участия в этом деле некоторых своих родственников.
Замышляя это дело, Екатерина Алексеевна произнесла обет, что, если Господь поможет ей довершить этот храм, — она посвятит жизнь свою Богу и немедленно, по освящении храма, примет постриг.
Троицкий храм освящён был в 1794 году, и тут Екатерина Алексеевна приняла постриг с именем Елизаветы. По преданию, хранящемуся в обители, кроме этого храма, Екатерина Алексеевна пожертвовала в обитель серебряные ризы на местные иконы Спасителя и Божией Матери в главном иконостасе Сретенского храма, на Смоленскую икону Богоматери и на находящиеся в приделах храмовые иконы Рождества Предтечи и преп. мученицы Анастасии Римляныни.
Строгость тех подвигов, которым Екатерина Алексеевна, ныне монахиня Елизавета, предалась с первых дней вступления своего в обитель, снискала ей уважение монастыря, и вскоре по пострижении она стала считаться намеченной, для избрания в игуменьи. Но от этого звания, по смирению своему, она уклонилась.
Предвидя избрание в игуменьи, монахиня Елизавета отпросилась на богомолье в Киев, дорогой заболела и была переводима в монастыри Орловский и Курский. Только, когда она узнала, что в Кашине избрана новая игуменья, она перепросилась опять в Кашин. Вернулась она сюда двадцать второго мая 1798 года и стала проводить жизнь в строгих подвигах. Древняя монастырская старица Александра передавала свои воспоминания о монахине Елизавете.
Келья её была на юго-западной стороне монастыря, и старица Александра была в то время при матушке Елизавете келейницей. Часто она водила её из церкви, и старушка за эту услугу — жалко ей бывало девочку, — пожалует ей денежку и, бывало — скажет: «помолишься ли ты за меня?» Девочка была так мала, что едва доставала до её руки.
Монахиня Елизавета была среднего роста и, несмотря на свои старые годы, не очень согбенна. Лицо её от постоянных подвигов было, как восковое. Она, очевидно, имела высокий дар слёз и, стоя в церкви на богослужении, около тогдашней игуменьи, она всегда плакала.
Матушка Елизавета любила читать во время «правил» акафист Иисусу Сладчайшему, и читала она его с таким чувством, точно воочию стояла перед лицом Спасителя. Это чтение производило на слушающих такое впечатление, что многие сёстры плакали.
Девочка-послушница, будущая старица Александра, должна была, стоя на клиросе, подпевать к акафисту одна своим детским голосом. За это пение матушка Елизавета часто жертвовала девочке серебряный пятачок, заранее ею приготовленный для этого.
Вид матушки Елизаветы, читающей акафист, был неземной, какой-то особенный.
Когда девочке пришлось в первый раз читать «правило» в церкви, и она читала его очень скоро, торопясь, полагая, что так лучше, монахиня Елизавета после чтения позвала девочку к себе и сказала:
— Ты очень твёрдо читала, только слишком уж скоро. Никогда так не торопись, а читай со страхом Божиим и помни, что все молятся!
Впоследствии, когда девочка стала подрастать, матушка Елизавета присылала за нею и приказывала петь вместе с её келейницей, которая была клиросной певчей, и другой ещё старицею песнь: «Иисусе мой прелюбезный сердцу сладосте», «О, горе мне грешному сущему».
Монахиня Елизавета глубоко верила в силу крестного знамения и постоянно им пользовалась. Многие, видя перед собой её пример, старались подражать ей в частом осенении себя крестным знамением.
Её благоговейное стояние в храме, частое крестное знамение, совершаемые ею поклоны и истекавший из неё поток слёз — всем этим невольно она стяжала себе этот страх Божий, который от неё никогда не отступал.
Как-то пришлось её келейной громко смеяться. Она подошла к ней и, крестя её, сказала:
— Христос с тобою, Аннушка; не хорошо, друг мой, так смеяться, да и нездорово.
Матушка Елизавета не могла слышать чьей-нибудь просьбы без того, чтобы не помочь человеку. Никого не отталкивала от себя без утешения и милости, и когда келейная девочка, бывало, ведёт её, она наставляет её:
— Саша, любишь ли ты Господа Иисуса Христа?
— Люблю, матушка.
— Как же ты молишься Ему?
— Иисусе Сладчайший, спаси мя!
— А, вот, как молись, — скажет матушка Елизавета: — Иисусе Сладчайший, помилуй мя!
Так наставляла она девочку в том, чтобы приучить её к молитве о помиловании.
Не отказываясь от трапезы, монахиня Елизавета принимала всё то, что полагается в трапезе, но всегда с воздержанием и с самоукорением.
Одна из духовных дочерей матушки Елизаветы часто страдала тоской. Утешая её, монахиня Елизавета говаривала:
— Тоска означает то, что душа желает беседовать с Богом.
Тогда они обе запирались у себя в келье и очень долго молились Богу.
Жизнь монахини Елизаветы проходила в постоянном, совершенном нестяжании. Она решительно ничего для себя не прикапливала и не сберегала. Родственники её, жившие в Москве, присылали ей подаяния, но она и это присланное, большей частью, раздавала, оставаясь не при чём.
Вера в Бога укрепляла её в презрении к земным вещам и к деньгам. Как-то не случилось у неё больше провизии, денег в запасе не было, и не из чего было приготовить пищу. Келейница матушки была сильно обеспокоена. Она же сохраняла мирный дух и говорила, что Господь пошлёт, чем им пропитаться. Мирно пошла она в церковь к обедне, и в отсутствие её принесли ей пакет с деньгами. Было немало поразительных случаев в последнее время жизни монахини Елизаветы, которые показывали, насколько ей было открыто будущее и как действенны были её молитвы.
Как-то приехала монахиня Елизавета в Петроград и посетила своих родственников в их отсутствие. Дети в это время резвились, играя в зале. Когда же она вошла в залу, и они увидели незнакомое им лицо, одетое по-монашески, то все они разбежались. Только один больной ребёнок лежал в креслице, издавая жалобные стоны.
Матушка Елизавета подошла к нему, утешила его, утёрла его слёзы своим платком, осенила его со всех сторон крестным знамением и ребёнок совершенно успокоился. Она отошла от него, и вскоре приехали хозяева дома. Обыкновенно, она оставалась у них долго, а тут — вдруг — заторопилась и уехала.
Между тем — больной ребёнок, перенесённый няней на кровать, крепко заснул и проснулся только утром и — совершенно здоровым.
Таким незаметным ни для кого образом исцелила его смиренная подвижница.
Как-то, бывши в Ильине, у своих родственников, она вместе с ними посетила Ильинского священника Иоанна Степанова и предсказала ему близкую кончину.
Другой раз она спросила себе воды и, открыв окно, стала плескать из него воду.
— Что делаете вы, матушка? — спросили её в изумлении.
— Я заливаю Казино, — спокойно ответила она.
Казино была Головачёвская деревня, в Кашинском уезде. Оказалось, что — действительно, — в это время деревня горела, именно — в ту минуту, когда матушка Елизавета лила за окно воду. Пожар, вдруг, по необъяснимым причинам, совершенно прекратился.
Такое же необыкновенное дело видим мы в жизни святого Василия Блаженного, знаменитого московского юродивого.
Однажды, в праздник, он сидел за царским пиром у Царя Иоанна Грозного и, когда в кубок ему налили вина, он через плечо выплеснул вино на пол.
— Что ты делаешь? — спросил его с изумлением царь.
— А я, Иванушка, пожар в Новгороде заливаю.
Потом, действительно, оказалось, что в этот час в Новгороде вспыхнул сильный пожар, вдруг необъяснимо прекратившийся.
Ведя жизнь подвижническую, утруждая плоть свою и возвышая дух, сподобляясь тайных озарений, монахиня Елизавета не могла со страхом смотреть на смерть. После тридцатипятилетнего подвига переход в вечность представлялся ей желанным и милым.
Предсмертная болезнь её была — горловая чахотка. Задолго до смерти гортань её была поражена так, что она не могла принимать не только твёрдой пищи, но и никаких жидкостей, даже воды. Но и тут не оставляли её не изменявшие ей никогда терпение и упование на милость Божию.
Заветным и всегдашним её желанием было перед смертью принять Святых Тайн, и Господь, вопреки естественным законам, дал сбыться этому её желанию: она сподобилась приобщиться.
По местному преданию, перед самой кончиной своей, монахиня Елизавета просила засветить огня. Прежде чем его разожгли, она увидела необыкновенный свет, услышала райское пение и раздавшиеся в душе её чудные слова Христа Спасителя, слышанные, когда-то тайновидцем Иоанном Богословом и записанные им в его Апокалипсисе:
— «Вниду и свечеряю».
По кончине её, тело монахини Елизаветы оставалось непогребённым девять дней. Оно не только не подверглось заметному изменению и не разлагалось, но становилось всё лучше. С чудным, разлитым по лицу выражением, мирно и глубоко радостная лежала она, как восковая…
Схимонах Зосима Верховский
Одним из любимейших сказаний русского народа в житиях святых является повесть об Алексии — Человеке Божием.
Алексий, Человек Божий, сын знаменитейшего и приближённейшего ко двору византийского боярина Евфимиана, в день свадьбы своей оставил дом родительский и обвенчанную с ним невесту и, отплыв тайно во Святую Землю, вёл там жизнь нищего, отдавая всё своё время молитве и, затем, никем не узнанный, вернулся в Царьград и дожил свою жизнь в бедной убогой хижине, в саду при отцовском дворце.
И, не раз, среда русских молодых людей богатых и знатных семей возобновлялся, как, — можно наблюдать в истории, с изменением тех или других подробностей, подвиг Алексия — Человека Божия. Они оставляли значительное положение в миру и возможность широкой и привольной жизни, чтобы в земном уничижении служить уничижившемуся для спасения людей Христу.
I. Детство и юность старца
Старец Зосима Верховский происходил из состоятельной и знатной семьи. Отец его, Василий Данилович Верховский, занимал место воеводы в Смоленской области, а мать, Анна Ивановна, происходила из благородной и богатой семьи Моневских. Выдаваясь происхождением своим, Верховские ещё более выдавались своими душевными качествами. Они были благочестивы и усердны к церквам, любили странноприимство и были щедры в отношении к бедным, заботливо и милостиво обращались со своими крестьянами, не обременяя их большими оброками. Семейство у них было большое, именно — шесть дочерей и три сына. Но они не думали о том, чтобы оставить детям большое наследство и тратили легко и охотно свои средства на добрые дела.
В одном из поместий своих, в трёх вёрстах от усадьбы, Василий Данилович выстроил большую церковь. Так как имение было близко к большой дороге, то часто заходили к нему в усадьбу странники и нищие, которые получали у них пристанище и пропитание. Сводим собственным крестьянам Верховские легко прощали всякие недоимки и поддерживали их во время нужды. Даже бедные крестьяне других помещиков в своих бедствиях: падеже коровы и лошади, недостаточности хлеба — шли к Верховским. Шли к ним и бедные мелкие местные дворяне. И за свои благодеяния они требовали одной только цены: хранения их в тайне.
Усердные к церковным богослужениям и к домашней молитве, преданные чтению святых книг, они — вместе с тем — ревностно относились к своим житейским обязанностям. По увольнении Василия Даниловича в отставку они, живя в поместье, всеми силами заботились о воспитании своих детей.
Старец Зосима был младшим в семье и родился в 1767 году. Отцу его в это время было уже около шестидесяти лет, а жене — около сорока. Однажды, во время ночной молитвы, Василий Данилович услышал голос, говоривший ему:
— У тебя родится сын. Не научи его светским наукам, но лишь закону Божию!
В радости упал Василий Данилович на колени, благодаря Господа, и открыл эту тайну своей супруге.
Младенец родился двадцать четвёртого марта, накануне дня Благовещения Пресвятой Богородицы. Так как в этот день празднуется память преподобного Захарии, то родители и назвали новорождённого мальчика Закарией.
С юных лет Захария носил в себе задатки, обещавшие в нём праведника. Он был добр и прямодушен, чувствителен сердцем, но при своей тихой кротости и молчаливости, когда сердце его было затронуто, бывал горяч. Как младший в семье, он безотлучно был при родителях, стоял всегда у колен отца или матери.
Замечательно следующее обстоятельство: когда у родителей его бывали гости и разговор шёл о мирских предметах, то мальчик не вслушивался в разговор и не старался понять его. Он до такой степени не понимал ничего, как будто перед ним говорили на неизвестном, чужом языке. Но когда его мать брала книгу житий святых и читала её вслух, то всё вдруг становилось ему понятно. Особенно привлекали его жития пустынников, и та жизнь казалась ему венцом жизни, и его влекло подражать им.
Иногда он, до обеда, убегал один в сад или огород и молился там, как умел. После молитвы он ел плоды и овощи, чтобы за обедом ему не захотелось мяса и даже хлеба. Когда, однажды, родители заметили, что он ничего не ест, и спросили его, почему он лишает себя пищи, — он с прямодушием своим ответил:
— Вы сегодня, кажется, читали житие святого пустынника: он в пустыне питался только травами и овощами. Я тоже хочу быть пустынником, хочу привыкать к посту.
Родители огорчались этим и заставляли его употреблять всякую предлагаемую пищу, и он, хотя с горечью, но подчинялся этому требованию, утешая себя тем, что исполняет в этом заповедь Христову о повиновении родителям.
Когда Захарии исполнилось восемь лет, родители решили начать его обучение. Они не решались отдать его в какое-нибудь училище, боясь дурного влияния товарищей. Как и других своих сыновей, они обучали его дома. Брату его Филиппу было уже тринадцать, а Илии — одиннадцать лет. Уроки преподавали им: священник — закон Божий, учитель — русскую словесность и два иностранца — латинский, французский и немецкий языки. Старшие братья учились хорошо, а Захарию отец, помнивший таинственные слова, ничему не учил, кроме Закона Божия.
Однако, это решение было поколеблено: к отцу его всё приставала жена, которая непременно желала, чтобы Захария обучался всему, как и старшие братья. Она говорила даже мужу, что впоследствии, увидев братьев своих образованными, а себя нет, — он будет роптать на родителей. Но и тут проявилась воля Божия, чтобы Захария от детства шёл не общими путями.
При послушании, кротости и робости своей, Захария прилежно старался постичь всё, что ему преподавал тот или другой учитель, но из его стараний ничего не выходило. Особенно же трудно было ему справиться с французским языком, которого он совсем не мог понять, тогда как немецкий изучил недурно.
Эти неудачи повлекли то, что мальчик считал себя неспособным и глупее не только родных братьев, но и всяких простых людей. Он научился терпению. В тихой, не жалующейся тоске и в тайне оплакивал он, что ничего не может выучить, и огорчался наказаний, которые на него налагали. Единственной его отрадой были уроки Закона Божия, которые он хорошо понимал. Тут родители и учителя хвалили его за успехи.
Наконец, по долгом размышлении, родители его увидели, что Бог словно оберегает мальчика от всяких мирских знаний. Тем не менее, они просили учителей продолжать своё дело, не взыскивать с Захарии вины за его непонятливость в мирских науках.
Между тем, Василий Даниилович чувствовал, что жизнь его склоняется к закату. Только три дочери его были выданы замуж. При родителях находились ещё три дочери-девицы и три сына. Так как у старика в столице и при дворе были влиятельные знакомые и родные, то он отправил всех троих сыновей разом в Петербург, на царскую службу. Захарии было тогда не более пятнадцати лет.
Из тихой деревни и тихой семьи с благочестивоё жизнью молодые Верховские были посланы в большую, шумную столицу и должны были вращаться среди товарищества богатого и обеспеченного и часто нравственно испорченного. Надо было иметь большую силу воли, чтобы молодым людям остаться тем, чем они были в родительском доме.
Все трое Верховских были определены в гвардию, в один полк. Они жили все вместе, на одной квартире, имея всё общее, и были чрезвычайно дружны между собой. За их простоту и ласковость товарищи и знакомые любили их. Но тут же сказалось и слабоволие старших братьев. Они увлеклись карточной игрой и проигрывали деньги, присылаемые им отцом на прожитие. С этими деньгами, весьма достаточными, имея — кроме того — из деревни всякую провизию, Верховские могли жить зажиточно, но все деньги поглощались бездонной пропастью карточной игры. Младший брат, стоя в стороне от этого развлечения, не показывал старшим, как ему тяжело из-за них терпеть лишения и только в минуты раскаяния братьев умолял их оставить их гибельное занятие.
В этих волнениях бурной молодости — братьев Верховских неожиданно застала весть о кончине отца. Эта весть причинила им искреннее и глубокое горе. Всё в жизни казалось им опостылевшим. Они рвались душой к отцу на могилу, но не смели ехать домой без зова матери. Наконец, пришло её распоряжение, которым она предписывала им взять продолжительный отпуск и ехать домой.
Когда они приехали к матери, она сказала им, что не надеется долго жить, и хотела бы, чтобы дети при её жизни, на её глазах, разделили имение во избежание будущих раздоров. Родного брата своего она предложила в посредники при дележе наследства, но дети просили её, чтобы их братская любовь и материнское благословение были единственными посредниками в этом деле.
Три замужних дочери были выделены отцом при жизни. Трём девицам были предоставлены равные с ними части. Оставалось делить движимое и недвижимое имение между тремя братьями. Разговор о разделе происходил в большой комнате, которую лишь перегородка отделяла от комнаты старушки Верховской. Мать, слушая беседу сыновей, радостно крестилась и в слезах прославляла Бога, что дело между сыновьями устраивается так мирно. Всё уже было почти кончено, как начался между делившимися какой-то спор.
— Я старший, —с возвышением голоса сказал брат Филипп, — и хочу взять всё это на себя один.
— А я не уступлю тебе, — говорил второй. — Половина принадлежит мне, а меньшему не дадим ничего.
— А я разве не сын? — противоречил Захария. — И не такой же наследник, как вы?
Испуганная этим спором мать поспешно вошла в комнату и предложила позвать для примирения спорящих братьев их дядю.
— Нет, матушка, — кричал старший брат Филипп, поспешно вставая перед матерью, — вы будете между нами посредницей. Я, как старший брат, один хочу взять на себя долги батюшки. Они для меня не будут тяжелы.
— Они будут ещё легче, если мы их разделим пополам, — говорил второй.
— А зачем вы хотите лишить меня участия в них? — продолжал настаивать Захария.
Радостная мать бросилась перед образом на колени, благодаря Бога, что у неё такие великодушные сыновья. Она решила, что сыновья должны заплатить отцовский долг все трое, поровну.
Вот — дети, которые перессорились только из-за того, кому из них должна принадлежать обязанность и честь уплаты отцовского долга.
Когда стали делить последнее имущество: большое количество столового и чайного серебра и несколько больших кадок мёда, Захария уговорил братьев серебро оставить им, а отдать ему весь мёд. Братья согласились с тем, чтобы, по первому его требованию, если он изменит своё намерение, — выдать причитающееся ему количество серебра. Захария же радовался, что получил столько мёду, говоря себе, что мёд был главной пищей великого пророка, предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Одно время Захария останавливался на мысли о женитьбе, он колебался. Когда он напоминал себе, что ему придётся заботиться о жене и детях; что жена может оказаться с дурным характером, и дети выйдут неудачными; что надо будет вести хозяйство и держать в руках крепостных, а иногда — и наказывать их; что придётся иметь неудовольствия с родными и соседями, — то он впадал в тоску. Но потом снова мечта разделить жизнь с особой, которая ему очень нравилась, привлекала его, и он не мог прийти ни к какому окончательному решению.
Однажды, на новый год, видя, что молодёжь гадает, он пошёл в свою комнату и наедине горячо помолился, чтобы Бог открыл ему Свою волю. Помолившись, он перекрестил окно и двери и свою постель, лёг и уснул.
Господь, взирая на высоту намерения людей, не поставил ему в грех его желания — узнать будущее. Как только Захария забылся, он увидел у кровати своей девицу совсем другую, чем ту, которая составляла предмет его мыслей. Она была одета в длинное белое платье и скромно опоясана; голова её была окутана белым покрывалом, очень тонким и прозрачным, сквозь которое сияло небесной красотой её лицо. Хотя её глаза были опущены вниз, на лице её было выражение ласковое, любезное и умилённое, и юноша смотрел на неё в каком-то священном восхищении.
Когда он пробудился, он почувствовал себя духовно обновлённым. Уже не было никаких помыслов о девице, к которой только что недавно стремилась его мысль. Не было в нём и тоски. Все прежние его чувства были словно вытеснены новой любовью к небесной, мелькнувшей перед душою его, деве. Душа его стремилась куда-то за пределы видимого мира, и он в великом мире и спокойствии отдался воле Божией.
Такие же видения были в юности и многим святым Церкви, которые тоже видели прекрасных дев, являвшихся для них олицетворением Христовой истины и добродетелей христианства.
Передавая впоследствии этот необыкновенный случай из своей жизни, отец Зосима изумлялся милосердию Божьему, которое даже через земные привязанности привлекает иногда человека к небу.
Мудрецы волхвы занимались звездочётством, и звездой были приведены ко Христу; Пётр любил ловить рыбу, и чудесным умножением ловитвы был уловлен сам; Евстафий Плакида любил ловить зверей, и Господь, сидящий на херувимах, не возгнушался явиться ему на рогах оленя.
Так Господь чрез возвышенную любовь к земному существу привлёк будущего великого старца Зосиму в горнюю любовь к Себе.
Только год пожила боярыня Анна Верховская после кончины своего супруга. Так как последняя болезнь её казалась не опасной, то при смерти её не было никого из её детей, кроме Захарии. Она исповедалась и приобщилась святых Тайн, крепко прижала к своей груди икону Божией Матери и, обняв спокойно младшего сына, предала дух.
Долго сын не мог оторваться от груди умершей матери, заключённый в последнем её объятии вместе с иконой Владычицы мира, заступлению Которой поручила его отошедшая. Когда он высвободился из этих смертных объятий, то взял икону, поставил её на стол, со слезами помолился за душу матери и в заключение воскликнул:
— Теперь Ты, Царица небесная, будь моей Матерью, Тебе вручаю всю жизнь мою!
По смерти матери порвались для молодого Захарии последние связи с миром. Только её жизнь держала его в миру, так как она просила его не покидать её до смерти. Ему хотелось тут же умереть и переселиться за родными своими в небо. Зрелище смерти сделало его сердце мёртвым ко всему в земной жизни.
Прежде чем расстаться с семьёй Верховских и сосредоточить своё внимание на одном Захарии, опишем судьбу его двух братьев.
Бывают люди, которым, при всей духовности их, Господь попускает впасть в один какой-нибудь тяжкий грех, который составляет тяжёлый крест всей их жизни, или путает всю их жизнь.
Можно думать, что попущение это происходит для того, чтобы спасти человека высокой добродетели от опаснейшего греха — гордости, которая могла бы развиться в нём, если бы жизнь его шла совершенно безупречно.
Эту мысль провёл великий старец Серафим Саровский в своей беседе с одним молодым человеком. Попечительница старца Серафима, княгиня Грузинская, привезла однажды к старцу на благословение своего племянника, молодого офицера, человека прекрасных правил и. идеальных взглядов на жизнь. Благословляя его, старец, между прочим, предсказал ему, что он некоторое время будет горьким пьяницей.
Благородно настроенный юноша ужаснулся ожидавшего его позора. Но старец успокоил его и объяснил, что Господь для того, чтобы людей, которым угрожает искушение гордости, держать в настроении смирения, — попускает искушаться тяжкими грехами, которые держат их в состоянии самоуничижения, и которые потом эти люди искупают искренним покаянием. Такова же была и судьба великодушного Филиппа Верховского, старшего брата.
Единственным его пороком была страсть к картёжной игре. Он был уже женатым, когда получил наследство от отца. Но вскоре он так запутал свои дела картёжной игрой, что был принуждён продать и то поместье, где жили его родители, и всю родительскую усадьбу.
Оставшись почти ни с чем, он поступил на службу в Москву, где получил место частного пристава. В то время полиция сплошь жила взятками, и тем ярче выразилось на этой службе бескорыстие Верховского. Всякий год в день Воскресения Христова от утрени он шёл к людям, содержавшимся в заключении в его части, и говорил им:
— Христос воскресе, братья! Господь сошёл во ад и всех освободил от уз. Всем нужно радоваться в этот святой день, и я вас всех выпускаю, но прошу за добро моё не заплатить мне злом. Вечером в Фомино воскресенье возвращайтесь все сюда. Если кто не вернётся, я от этого сильно пострадаю, но буду утешаться мыслью, что терплю это для любви к воскресшему Господу и к вам несчастным. Тот человек, за которого я пострадаю, будет сам наказан и в этой и в будущей жизни.
Во всё время жизни своей частный пристав Верховский прибегал к этой мере. И — чудное дело — ни один узник не нарушил данное ему слово.
Из Москвы, повысившись в чинах, Верховский перешёл на службу в северную столицу, ко двору. Его отличала милостями своими императрица Мария Феодоровна и была восприемницей его детей.
Но и тут бедность была спутницей его жизни. Он гнушался мздоимства, а всё, что оставалось от необходимейших расходов, уходило на карты и на милостыню.
Замечательна была кончина его. Почувствовав приближение смерти, он отправил жену и дочь в гости. Потом сам умылся, оделся во всё чистое. Не имея сил стоять на ногах, сел в кресло, послал звать священника, исповедался у него, принял святые Тайны, затем велел подать себе Евангелие и, во время чтения этой заветной книги, склонил на неё голову и отошёл…
Второй брат Верховский, Илья, был человек пылкий, остроумный, чувствительный и любвеобильный, очень переменчивый в своих настроениях. Смерть родителей произвела на него сильнейшее впечатление. Он охладел к миру и думал посвятить жизнь свою приготовлению к вечности. Он навязывал старшему брату своё имение, говоря, что ему самому не надо более ничего, так как он идёт в монахи, и угрожал, что, если брат не возьмёт себе его имение, то он раздаст всё нищим.
— Могу ли я лишить нищих этой милостыни? — отвечал Филипп. — Пусть лучше сам буду нищим, чем воспользуюсь их частью.
Тогда Илья отдал младшему брату Захарии в полное его владение всё имение, взяв себе только три тысячи рублей взаймы у мужа сестры, которому Захария обязался выплатить эти деньги. Илье было двадцать два года, когда он, освободившись от мирских попечений, поступил в Авраамиевский монастырь в Смоленске. Но так как родные и знакомые не давали ему здесь покоя, то он скоро же решил уйти из этого монастыря.
Бывший тогда епископом Смоленским, преосвященный Парфений, одобрил его намерение искать себе уединения вдали от родины. Но преосвященный за сим произнёс пророческие слова, которые вполне сбылись над его жизнью:
«В мире скорбни будете, но дерзайте, Аз победих мир».
Трогательны были часы, когда Верховский увидал в последний раз оставленное им отцовское имение Лобково, в котором отец его выстроил церковь. Илья не приблизился к бывшему своему дому, и не зашёл к родным, но остался переночевать вдали от дома, в густой роще. Он сидел на траве под деревом и, при свете полной луны, любовался, в последний раз, на сиявший над селом крест родного храма, на видимый издали дом, на большое озеро и дома, и здесь начертал он несколько чувствительных стихотворных строк. Он поплакал, проводя ночь в воспоминаниях своего счастливого детства.
При восходе солнца он поспешил идти далее, чтобы не встретить никого из прежних своих крепостных, которые должны были сейчас выходить на работу. Он боялся растрогаться, если они станут плакать и умолять его остаться, так как за его ласку и незлобивость все его очень любили. Он завидел вдали стадо. Пастухи на свирелях наигрывали свои песни. Уже собаки почувствовали чужого человека и начали лаять. Он поспешно вышел на большую дорогу и быстро зашагал по направлению к Рославлю и Брянску.
В лесах, лежащих в уездах этих городов, он посещал многих старцев, живших жизнью пустынников, видел знаменитого старца Василиска, дивился жизни этих старцев, много использовался от их наставлений, но остаться с ними надолго не мог. Его пылкий ум не находил в этой жизни достаточно для себя пищи, и простые эти старцы не могли разрешить всех его недоразумений, ответить на все его запросы.
И снова пошёл он искать себе человека-руководителя, который вполне бы его удовлетворил.
В городе Брянске он был задержан, так как его письменные документы, в которых он значился капитаном гвардии, не соответствовали его наружному виду и бедной страннической одежде. Его продержали в мрачном, нечистом остроге до выяснения его личности.
Илия стал обходить пустыни и монастыри. Долго живя в Киеве, он научился резной работе, именно — вырезывал в малом виде из дерева иконы и этим промыслом впоследствии себя содержал.
Тут опять, за свою простоту, ему пришлось попробовать тюремного заключения. Он как-то сказал, указывая на нож, которым резал по дереву:
— Я этим ножом делаю себе деньги и ими содержусь.
За эти подозрительные слова его заключили. А при допросе он объяснил:
— Этим ножом я вырабатываю себе деньги. Нужно мне пять рублей, вырезываю небольшой, простенький образок; нужны пятьдесят рублей, я делаю лучшую и высшую работу.
Он вёл обширный журнал своего путешествия, из которого видно, что в течение десятилетнего странствования он прошёл пешком около двенадцати тысяч вёрст, и не оставил без посещения ни одного, кажется, монастыря во всей России.
Наконец, он пришёл в северную столицу и, наняв себе в захолустной части города, под видом вольноотпущенного человека, небольшую квартирку, занимался резьбой по дереву, сбывая свои произведения в богатые дома.
Раз пришёл он со своей работой к генералу-аншефу Шувалову, который, приняв от своих людей его резьбу, потребовал к себе самого мастера.
Когда Илья явился к нему, тот был поражён его благородной наружностью, Глубокая задумчивость выражалась в его привлекательных чертах. Он был высок, молод, статен, хотя — вместе с тем — худ и бледен. Поговорив с ним, Шувалов предложил молодому человеку остаться жить у себя и работать, совершенствуясь в своём искусстве.
Только тогда Илья открыл ему своё настоящее звание.
Илья около года жил у Шувалова, который мечтал выдать за него свою племянницу и оставить ему всё своё имение, так как не имел детей. Внезапная смерть Шувалова лишила его возможности осуществить эти планы, и Илье пришлось вернуться опять к прежнему скромному образу жизни, на прежнюю свою квартиру.
Как-то пришлось ему поднести сделанный им образ всех ангелов царской фамилии Государыне Императрице. Его искусство было оценено, и он был сделан членом Академии Художеств с одновременной значительной денежной наградой.
Внезапная болезнь его помешала получить ему эту награду, и за него обманным образом получил её один его дальний родственник. Пострадавший Илья не захотел судиться с ним и решил вернуться на свою родину. Там он женился на небогатой дворянской девице, кроткой и благочестивой, Екатерине Ивановне Рачинской.
Ему удалось выкупить деревню, принадлежавшую его сестре, у которой без вести пропал в военных походах её муж.
Мало-помалу, дела его устроились. Он жил христианской жизнью, помогая нищим и странным, благотворя, чем мог, опоражнивая свои карманы или отвязывая с шеи платок для бедного, если у него не было денег.
Насколько он был милостив, покажет следующий случай. Как-то пришёл к нему зимой нищий, однорукий солдат, дрожавший от стужи в худой своей одежде. Увидев этого солдата, он послал узнать от дворовых людей, не даст ли ему кто лишнего тулупа, обещаясь владельцу купить новый. Дворовый на это ответил, что лишнего тулупа ни у кого нет.
— У меня грешного две шубы, — объявил тогда Верховский, — а Господь сказал: «имеяй две ризы, да подаст неимущему». Но какую из шуб отдать ему: — старую? Но могу ли надеть свои обноски на Христа? — Надо отдать для Христа новую шубу.
И он не пожалел для старого солдата новой своей шубы. Солдат сбыл её за бесценок в питейном доме, откуда шуба была выкуплена женой Верховского и возвращена мужу, причём — жена заметила, что надобно давать с разбором.
— Я отдал мою шубу Христу, — ответил Илья. — Господь её принял от меня, хотя при твоей заботе она и возвращена опять мне.
К крепостным людям своим Верховский относился с любовью и заботой, очень любил своих детей, но всегда был печален и задумчив: его грызла тоска, что он не сумел устоять в монашеской жизни. Имея много знакомых, всеми любимый и уважаемый, он избегал людей, любил сидеть дома; то читал духовные книги, то упражнялся в сложении духовных стихотворений, так как был большой любитель поэзии.
Он сам обучал своих детей и любил, когда на душе его бывало тяжело, играть на скрипке унылые пьесы и петь печальные песни, которые сам слагал.
Часто ночи напролёт он проводил в молитве и в горьких слезах. Летом, взяв с собой Псалтирь или ещё какую-нибудь священную книгу, а также карандаш с клочком бумаги, проводил, уединяясь, целый день в лесу.
Дом его родителей стоял у большой дороги, и он часто выходил на неё, чтобы созвать к себе странников и бедных. Часто бывал в церкви и твёрдо исполнял все её уставы. Особенно строго, по-монашески, соблюдал он посты, упрекая себя, как преступник, в том, что не провёл свою жизнь в одиночестве.
Пятнадцать лет жил он такой жизнью в браке, и скончался на пятидесятом году, оставив вдову и пятерых малолетних детей. Жена его прожила после него семь лет, не снимая траурного платья. Умирая, отец и мать поручили сирот своих покрову Царицы небесной.
* * *
Мы оставили Захарию Верховского в его имении только что принявшим от брата Ильи его часть наследства.
Первое время он радовался тому сознанию, что он стал помещиком. Но внутренний голос постоянно упрекал его, что он забывает о духовных стремлениях, и образ загадочной, прекрасной Девы-христианки, пленивший его в том знаменательном видении, вставал в его памяти, смотря на него с укором.
Временами, он старался оправдать себя, говорил, что будет добрым господином для своих крепостных и составит их счастье, что им будет тяжело, если он продаст их другим господам, что Господь не отвергнет его за то, что он из любви к Нему останется в миру.
Как-то раз, когда он катался верхом на прекрасной лошади, принадлежавшей прежде брату его Илье, и поравнялся с церковью села Лобкова, полученного им от брата, вдруг чья-то невидимая рука толкнула его в грудь с такой силой, что он еле удержался на лошади. Тут он услышал внятно произнесённые, кем-то невидимым, слова:
— Ты сам уйдёшь в монахи!
Эти слова поразили молодого человека. В великой задумчивости вернулся он домой. Замечательно, что в колебании, которое тогда произошло в нём, ему помог человек, живший сам совершенно мирской и даже развратною жизнью — его зять.
Зять этот был человек совершенно невежественный и, постоянно изменяя своей жене, любимой сестре Захарии, делал жизнь её несчастной. Он был, впрочем, человек не злой и хорошо обходился со своими крепостными. Видя задумчивость Верховского, зять сказал ему:
— Что ты, брат, всё колеблешься? Вероятно, думаешь идти в монахи, да решиться не можешь. А подумай сам, что ты потеряешь? Если вечной жизни нет, то ты одно только и потеряешь, что не будешь жить той развратной жизнью, как живу я, и мы по смерти будем равны с тобой. Но, если правда то, что будут и вечные муки, и вечное блаженство, и царствие небесное, то, уйдя из мира, ты — ведь — много передо мной выиграешь.
Эти слова склонили молодого Верховского приняться за подвиги духовные. Имение своё он отдал сестре своей — жене этого самого зятя, потребовав у них для себя только четыре тысячи рублей.
Захарии Верховскому в это время было девятнадцать лет, а происходило это в 1786 году. Добрый совет, поданный зятем Захарии, не остался без награды у Бога. В старости и в болезнях этот человек сознал все свои былые грехи и пороки, и отошёл к Богу в чистом раскаянии, истинным христианином…
II. Первые подвиги
Пустыня всегда имела и будет иметь великую силу над душой, которая хочет служить Богу ничем не развлекаемой службой. Тот величественный храм, какой представляет собой для верующего человека природа, таинственный шёпот деревьев, голоса птиц на утренней и вечерней заре, журчание студёного лесного ручья — всё сливается для слуха их в один великий неумолкаемый гимн, какой вся тварь Господня воспевает своему Творцу и Промыслителю…
Ничто не стоит между душой человеческой и её Богом. Ничем не сдерживаемые, возносятся к небу пламенные молитвы забытого миром и мир забывшего отшельника. И душа доходит, порой, до столь ясного ощущения близости Божества, что человек прислушивается: не приближается ли к нему Сущий, как некогда — во дни рая — слыхал шаги приближающегося Божества блаженствовавший в раю Адам…
Захария Верховский принадлежал к числу тех людей, которые являются прирождёнными подвижниками. Именно, люди такого склада особенно тяготеют к пустыне. Понятно поэтому, что, получив свободу к духовной жизни, он — прежде всего — о пустыне и подумал.
В то время в Брянских лесах нынешней Орловской губернии спасалось уединённым подвигом несколько подвижников, во главе которых находился старец-иеромонах, отец Адриан.
Впоследствии отец Зосима так вспоминал о своих первых впечатлениях в этих лесах: «Отец Адриан встретил меня с великой радостью и благоприятством: один взор на него привёл меня в изумление, ибо он был в худом и разодранном одеянии, лицом худ и бледен, тонок и сух телом и высок ростом. Я пробыл у них несколько времени, смотря с удивлением на все поступки их, на все вещи и дела их. Всё у них было бедное и простое, только нужду их удовлетворяющее: пища самая постная и убогая. Сверх всех положенных правил молитвенных, они ещё вставали ночью и возбуждали друг друга на молитву. Какого рода была жизнь их, такие были и преуспеяния. Как сам отец Адриан, так и все живущие с ним были кротки, молчаливы и послушны. И всё, что только я видел в них и у них, приводило меня в удивление и благоговение; но более всего удивило меня ещё то, что отец Адриан не взял от меня денег, которые я от усердия жертвовал. Сие столь безмерно изумило мой мирской младой разум, что я, не вытерпев, воскликнул: „О, чудо! Есть же такие люди на земле, коим не нужно денег, ибо они презрели всё временное…?“ Мир и тишина жизни их, удивительное простосердечие и благоговение в обхождении друг с другом, духовная взаимная любовь и дружество между ними, также и дивное послушание и нелицемерная преданность и уважение их к начальствующему отцу Адриану, равно и его усерднейшее попечение о поддержании жизни их, а более об их спасении: всё сие казалось мне жизнью ангельской и привлекало всю душу мою. Я размышлял сам в себе: как счастлив буду я, если сподобит меня Бог, подобно им, провождать такую же безмятежную жизнь в беспрепятственном служении и угождении единому лишь Богу».
Для устройства своих дел Захарии надо было съездить в Петербург. При отъезде его отец Адриан дал ему письмо к своему духовному сыну, находившемуся в Петербурге, наместнику Киево-Печерской лавры. В нём отец Адриан описывал, как тяжело ему живётся из-за зависти местных батюшек. Так как многие помещики избрали его своим духовником, сельское духовенство завидовало ему и распространяло молву, что у него много золота. Привлечённые этой молвой, однажды на отца Адриана напали разбойники, сильно его исколотили, а другого монаха, отца Варнаву, убили до смерти.
В пустыни Брянских старцев Захария Верховский особенно расположился душой к отцу Василиску. Он был кроток и тих нравом, ласков и приятен в. обхождении и благоразумен в суждениях своих.
Окончив в Петербурге свои дела, Захария, как птица на крыльях, радостно поспешил в дорогие для него уже леса. Отца Адриана он там уже не застал. Но перед отъездом отец Адриан распорядился предоставить юному пустыннику свою келью.
Товарищи-пустынники говорили Захарии, что лучше всего было бы для него, если бы отец Василиск принял его к себе в ученики, и что многие уже просились к нему под начало, но он всем отказывал, говоря, что он сам невежда и не может никого наставлять. С горячей просьбой приступил Захария к отцу Василиску, так как чувствовал к нему чрезвычайное расположение. Но отец Василиск долго колебался.
С одной стороны, он сам чувствовал большое расположение к Захарии, который с таким рвением, с такими светлыми мечтами приступал к духовной жизни. С другой стороны — боялся взять на себя руководство им, чтобы не лишить себя совершенного безмолвия. Некоторое время он не давал ему решительного ответа.
Между прочим, Захария тут узнал, что отец Василиск был родом государственный крестьянин Калязинского уезда, Тверской губернии, и что ему следовало бы, по случаю истечения срока его увольнения, явиться домой, а это было для него тяжело, так как он боялся встречи со своими родными.
В ту пору была весенняя распутица. И — тем не менее — Захария, чтобы послужить старцу, с величайшею радостью взялся совершить за него это путешествие. Вследствие разлития вод и распустившихся дорог, Захария почти не мог ехать, и бо́льшую часть пути прошёл пешком, промокая телом в холодной воде, но радостный душой. Но крайне изнурившись телесно, Захария вернулся с новым паспортом для отца Василиска.
Видя такую привязанность к себе со стороны Захарии, отец Василиск не смел больше противиться его желанию жить под его руководством. Он, прежде всего, посоветовал ему испытать себя в жизни монастырской. Он откровенно рассказал юноше, сколько в пустынном одиночестве приходится отшельнику терпеть страшных искушений и мечтаний бесовских, как бывает велика тоска уныния, и страх, нападающий на душу отшельника, как труден и скорбен пустынный путь, недоступный неопытным людям.
По этому совету отца Василиска Захария решил отправиться в Коневскую обитель.
Всё в том же 1786 году отец Адриан принял Захарию Верховского в число братии Коневской обители. По желанию новоначального, на него были возложены самые трудные послушания. От них юноша, не привыкший к телесному труду, уставал более других. Тогда отец Адриан ограничил послушания Захарии печением просфор и пономарничеством при церкви. Эти послушания пришлись очень по вкусу юноше. При печении просфор он всегда говорил себе, что изготовленный им хлеб назначается в жертву Богу, что из него будет вынут Агнец, и что на этот Агнец сойдёт Дух Святой, претворяя его в тело Христово. Поэтому он пёк просфоры с великим трепетом и благоговением и утешался, что Господь поставил его на столь важное послушание.
Когда же, по пономарскому служению своему, он входил в алтарь и приближался к жертвеннику, ему казалось тогда, что он входит в самое небо. О нём можно было сказать словами псалма: «Работайте Господеви со страхом и радуйтеся Ему с трепетом».
От природы тихий, кроткий и смиренный, Захария преуспевал ещё более в этих свойствах: он искренне считал себя ниже всех, на всех смотрел, как на святых отцов, а на себя — как на грешного мирянина. Таким поведением он настолько расположил к себе пустынников, что никто не мог, встретив его, не сказать ему ласкового слова.
Привязчивый Захария полюбил и Коневец, и отца Адриана. Но этот старец для него не мог, всё же, заменить того Василиска, которому он отдал всю полноту своего молодого чувства. Он часто вспоминал Брянские леса и отца Василиска, и часто тосковал по ним.
Между прочим, ему в Коневце пришлось пережить тяжкое искушение ненависти к одному старому монаху. Этот человек из простолюдинов, весьма незатейливый и грубый в обращении, но опытный в своём пономарском послушании, принялся учить знатного дворянского молодого человека, как будто это был деревенский мальчишка. Когда тот делал что-нибудь хорошо — гладил его при всех по голове, а когда тот ошибался, то при всех выговаривал ему. Этот человек надоел юноше до омерзения, так что и смотреть на него ему было противно.
Чувствуя в этом вражье искушение, Захария решил преодолеть его и стал силой принуждать себя оказывать старцу всяческое внимание. Например, пономарь — по обычаю — всегда получал просфору. Эту просфору Захария с низким поклоном приносил старому монаху, и — с помощью Божией — он подавил в себе это чувство ненависти.
Он не знал ещё в те дни одного из сильнейших и вернейших орудий в борьбе с помыслами и всякими искушениями, именно — постоянного чистосердечного откровения помыслов своему старцу. Прочтя об этом в святоотеческих книгах, он поспешил без утайки открыть свою душу отцу Адриану, и почувствовал в этом для себя великую пользу. Видя подвиги его, доброе настроение и дар рассуждения, действовавший в нём не по летам его, отец Адриан решился постричь Захарию Верховского и назвал его Зосимой.
Отцу Адриану, по делам, приходилось бывать в Петербурге. Он тогда брал всегда с собой отца Зосиму. Эти поездки были сопряжены для юного монаха с новыми искушениями. То, что было высоко и, может быть, даже поэтично в пустыне, то казалось тяжким и неприличным в нарядной и изысканной столице.
Отец Адриан, будучи настоятелем, ходил в толстой и худой одежде и обуви, не любил ездить, передвигался по столице пешком, и отец Зосима должен был носить за ним старую сумку с заплатами из разных лоскутьев. В этой сумке лежали нужные для старца вещи и также пожертвования, которые ему делали. Можно себе представить смущение отца Зосимы, когда он шёл в таком виде за старцем по знакомым петербургским улицам — он, выросший в довольстве старинного и богатого дворянского дома, бывший гвардейский офицер, у которого Петербург был наполнен знакомыми и сослуживцами! Смущение овладевало душой его от этого унижения в такой степени, что он стал ненавидеть отца Адриана и, чтобы победить эти гибельные помыслы, — решил чистосердечно открыться ему.
Однажды он упал в ноги к отцу Адриану и откровенно сказал ему:
— Прости меня, отче! Недостоин я называть тебя отцом моим, недостоин ходить за тобою. Ты достиг бесстрастия, а меня мучают страсти самолюбия и тщеславия. Я стыжусь рубища моего, стыжусь нести за тобой старую сумку. Если же встречаю кого из прежних моих знакомых, то не вижу уже и пути пред собой.
Старец понял смущение юноши, открыл ему, что эти помыслы возникают не в нём самом, а внушаются ему врагом, объяснил ему, что монах должен быть, как мертвец среди мира, не обращать внимания, хвалят ли, или осуждают, почитают или с презрением смотрят на него. Он пояснил, что нечего гнаться за тем, чтобы иметь в столице тот изящный вид, как большинство её жителей, так как инок дал обет нестяжательности, который не вяжется со стремлением к изяществу.
Этой исповедью пред старцем юный инок совершенно оградил себя от этого искушения.
Один из коневских монахов, отец Сильвестр, часто беседовал с отцом Зосимой. От него услыхал юноша о сердечной молитве. Отец Сильвестр объяснил ему, что именем Иисуса Христа и непрестанным призыванием этого имени можно лучше всякого оружия победить все вражеские искушения и набежавшие помыслы. Смиренно, по благословению отца Адриана, отец Зосима стал проходить молитву Иисусову и читать те отеческие книги, в которых преемственно изложено учение об умной молитве.
Всё это возбудило в нём ещё большую жажду к уединению, которое необходимо для прохождения молитвы Иисусовой. И всё чаще и чаще стали вспоминаться ему Брянские леса и тот отец Василиск, которого он не мог никогда забыть. Он стал усиленно проситься у отца Адриана в Брянские леса. Отец Адриан не возражал ему ничего против этого стремления стать учеником отца Василиска. Он открыл ему своё намерение убедить отца Василиска переселиться к ним на Коневец, так как на острове было достаточно места для уединённой пустынной жизни.
Вскоре, действительно, отец Адриан собрался за сбором в Смоленск и в Брянск. Он взял с собой, среди других учеников, и Зосиму.
Сбор шёл успешно. Все подавали отцу Адриану охотно, так как знали, что когда он жил один, то для себя не принимал ничего, — ни денег, ни каких-либо лишних вещей из утвари и одежды, а только самое необходимое для пищи и для прикрытия себя. Теперь все понимали, что он собирает не на себя, а на порученную ему обитель.
Можно представить себе радость отца Василиска, когда он увидел отца Адриана и отца Зосиму. Не мог он насмотреться на старца Адриана, у которого был игуменский жезл в руке и наперсный крест на груди, и на отца Зосиму в монашеском одеянии.
После первых излияний взаимной радости отец Адриан стал уговаривать отца Василиска перейти к нему на Коневец. Он говорил ему об удобстве этого уединённого острова для жизни пустыннической, и обещал устроить в лесу келью для старца, а другую — неподалёку — для отца Зосимы, так как тот тоже хотел приступить к безмолвной жизни. По праздникам оба они являлись бы в монастырь для присутствования при всенощной и литургии и, после братской трапезы, удалялись бы к себе в уединение, не имея никакой заботы о внешних нуждах.
Отец Василиск согласился не сразу. Он говорил, что нет причин ему оставлять его лесное уединение, так как он к нему привык и чувствовал в нём себя хорошо. Окрестные жители доставляли ему всё необходимое, пустынники-соседи поддерживали в нём духовный жар, лишних же людей он совсем не видит. Отец Зосима во время слов отца Василиска был сильно смущён: он боялся, что отец Василиск не согласится ехать с ними из Брянских лесов на Коневец.
Но тут властно возвысил голос старец Адриан. Он напомнил Василиску мнение великих отцов, что всего полезнее жить близ отца своего духовного и зависеть от него, и грозил Василиску, что он, в случае непослушания, перестанет считать его своим духовным сыном. Тут отец Василиск сдался и упал к ногам отца Адриана.
По промышлению Божьему, в то время не оказалось дома владельца той лесной дачи, где жил пустынник, так как впоследствии он сам говорил: «Если бы я был тогда дома, то взял бы этого святого старца к себе, и до тех пор не выпустил бы его из своего дома, пока Адриан и все ученики его не уехали бы в Коневец».
Все окрестности были опечалены отъездом отца Василиска, особенно же трогательно расставались с ним пустынники. Они все собрались провожать его и так плакали и рыдали, обмениваясь последними словами, что плакал и Зосима, забыв радость, какую вселяла в него мысль, что, наконец, он больше не расстанется с любимым наставником. Долго провожали они его по дубравам и долинам, прося его не забывать их б своих святых молитвах, и всё это время слёзы текли из их глаз, и вопли их оглашали всю пустыню. Казалось, что и деревья под напором ветра, пригибая к земле ветви и листья, откланивались своим хозяевам, а ветер шорохом листвы производил какой-то унылый шум.
Когда, наконец, надо было разойтись в разные стороны, иноки много раз падали друг другу в ноги, и Василиск с Зосимой далеко отошли от них, а вопли их всё были ещё слышны.
Столь же сильное чувство пережито было при встрече отца Адриана и его братии с пустынником Василиском и отцом Зосимой. Особенную радость переживал отец Зосима. Он всей душой радовался, что Господь внял его мольбе и дал ему пожить под руководством любимого старца. Он не знал, как благодарить Бога за такую милость.
Тут отец Василиск открыл Зосиме свою душу. Он говорил ему:
— Всегда просил я Господа, чтобы послал мне друга духовного, искреннего, сердечного, единодушного, ибо и в безмолвии трудно жить одному. Сказано: «брат от брата помогаем — яко Град тверд» и «горе единому». Итак, я просил Бога, а сам не решался никого принимать, ожидая, пока Сам Господь, имиже весть судьбами, явит мне такового. И, вот, с первого моего с тобою свидания, хотя ты был ещё тогда совсем юн летами и в светском ещё одеянии, но душа моя прилепилась к тебе столь сильной любовью, что как будто известился я, что в тебе даёт мне Господь просимого мной. Не полагаясь, однако же, на свои чувства, я ожидал, что Господь устроит о нас. Но когда увидел я, как жертвовал ты собой для меня недостойного, и приметив в тебе постоянное и усердное желание жизни пустынной и подвижнической, — я, всё ещё не уверенный в своём сердце, сделал последнее испытание, отправив тебя в Коневец. Наконец, и твоё безответное послушание и не ослабевшая в трёхлетней разлуке твоя истинная ко мне грешному любовь, и воля отца духовного, — всё сие теперь вполне уверило меня в том, что на это есть воля Божия, и утвердило в уповании, что Господь соединит нас вечной святой любовью. Видя же исполнение Божьего назначения и взаимной святой любви нашей, мог ли я воспротивиться сему? Благословен Бог, благоволивый тако…
Тут отец Зосима решил до конца жизни своей или до смерти старца Василиска никогда не разлучаться с ним и быть у него в совершенном повиновении, чтобы никогда и ничего не делать без его воли и благословения.
III. Отшельничество на Коневце
Отец Адриан, исполняя данное им слово, выстроил в трёх вёрстах от монастыря на уединённом месте две кельи — одну близ другой — и благословил двух иноков на пустынную жизнь, поручив отцу Василиску отца Зосиму.
Отец Зосима находился в это время на такой степени духовной жизни, что его многие звали «молодым старцем». Многими понятиями он превышал самого отца Василиска; он был более его образован, отличался блестящими умственными способностями. И от отца Зосимы пришлось Василиску узнать великое духовное сокровище — учение об «умной молитве».
Всеми силами души своей устремился старец Василиск к этому сокровищу, вскоре овладел им и стал получать великие благодатные утешения, и тогда ещё более умножалась в отце Василиске та благодать, которую давно чувствовал в нём его ученик.
Отец Зосима не только не завидовал своему учителю, но любил и почитал его, как отца и наставника. Он никогда и ничего не делал без его воли и благословения. И не было тени мысли, которую бы он утаил от старца.
Об образе жизни пустынников могут дать понятие отрывки из исторического описания Коневской обители:
«Пища пустынника постная и самая умеренная, одежда нищенская; всё нужное пустыннику доставляется из обители, а потому и он, в свободное время, как для себя, так и для обители, трудится. Дела его идут так, что молитве, псалмопению, чтению и рукоделию определено своё время и часы. Но как жизнь сия в единоборстве требует особливого мужества и терпения, то в оную вступать позволяется только инокам, которые имеют ум, благодатью просвещённый, страстьми сердце не порабощённое, а наипаче — гневом, завистью, унынием, тщеславием и гордостью; которые любовью к Богу воспламенены, и ещё большего желают с Богом соединения, от коего проистекает неизреченное благодатное в душах услаждение. Вот, сокращённое описание жизни уединённой. Любитель безмолвия в довольном расстоянии от обители пребывает один в пустыне, в уединённой своей келье».
К какому совершенству монашеского подвига стремился отец Зосима, видно из следующего его собственного свидетельства: «Живя так тихо, спокойно и утешительно, я сам не понимал, отчего тяготит что-то душу мою, и не мирна совесть? Думал я, думал, и потом сказал старцу: „Не то ли возмущает мир мой душевный, что у меня есть собственные, мирские мои деньги, хотя я об них никогда и не помышляю?“ Но, видно, от того такая и самому мне непонятная тягость на совести, что монах пустынник не должен иметь стяжания: не от сей ли причины не утверждается полное спокойствие моей совести? Я решился уже отдать все деньги нашему начальнику, благословишь ли мне сие, отче? Старец Василиск с умилением отвечал мне: „Сам Господь вразумляет душу твою. Благословен Бог!“ — И так я немедленно с горячим усердием поверг их все до копейки к ногам отца Адриана, отдав их совершенно в его волю и распоряжение, чтобы я и не знал, куда он употребит их: и тогда точно свет увидел в душе моей и мир помыслов и спокойствие совести».
Несмотря на пустынный образ жизни, отец Зосима должен был иногда исполнять некоторые послушания, требовавшие от него возвращения в мир. Именно, однажды в год, по воле отца Адриана, он ездил в Петербург, где должен был обойти всех благодетелей и знакомых обители и закупить для монастыря годовую провизию для братской трапезы, а также — и весь нужный для одеяния иночествующих материал.
Отец Адриан к этому времени уже сильно ослабел и потому поручал эти поездки отцу Зосиме.
Для двадцатипятилетнего монаха такое пребывание в шумной столице, которое продолжалось не менее месяца, было не безопасно. Юному подвижнику приходилось жестоко бороться с собой и держать себя строго в руках.
С благословения отца Василиска он положил обет пред Богом до тех пор не видать женского лица, пока не перестанет ощущать хотя малейшее страстное движение, пока не будет для него всё равно, — что мужской пол, что женский.
Чтобы смирять беспорядочные движения души, он в течение трёх лет носил тайно от всех, кроме старцев Адриана и Василиска, острую власяницу по голому телу, которая была соткана из лошадиных грив и хвостов, и от этого имел не заживавшие раны на теле. Кроме того, он бодрствовал ночью и утомлял себя дней трудной работой, чтобы умертвить плоть.
Восемь лет смирял он так себя, и после этого срока вдруг ощутил, что борьба кончена, что он достиг бесстрастия. Так, в тридцатилетнем возрасте познал он уже состояние духовное, почти бесплотное.
Жизнь пустынников проходила так, что по пяти дней они оставались в своём уединении, а в субботу шли в обитель, к всенощной. В воскресенье, после литургии, они садились с братией за трапезу, и затем, взяв у настоятеля на пять дней всё нужное для пищи и работы, а также и книги для чтения, к вечеру воскресенья шли в своё уединение.
Известно, как полезно для монаха какое-нибудь рукоделие. Отец Зосима трудился в переплетении книг и уставном письме. Он также хорошо выдалбливал деревянные чашки и ложки. Отец Василиск умел делать глиняную посуду и горшки. Ода плели ещё корзины, лапти, делали из берёзовой коры лукошки и бурачки, до устали собирали ягоды и грибы, и всё то, что они за эти пять дней сработали и всё то, что набирали ягод и грибов, приносили всё с собой в обитель.
Переплётное мастерство было дорого отцу Зосиме по одному важному для него соображению. Он был великий любитель почитать хорошие книги, и всякую книгу, которую ему отдавали в переплёт, он предварительно читал. Так как он был переплётчик хороший, научившись этому ремеслу в Петербурге, то ему охотно давали переплетать книги. Таким образом, у него всегда был их большой запас. Но книги он брал в переплёт исключительно духовные и никогда — мирские.
Читая книги, он иногда делал из них выписки тех мест, которые производили на него впечатление. Вообще, у него была счастливая и богатая память, так что духовное чтение чрезвычайно обогащало его душу.
Некнижный отец Василиск в это время предавался «умной молитве», и держал себя в смирении.
Отцу Зосиме, который боролся в юном теле своём с плотскими движениями, предстояла ещё тяжёлая брань с помыслами тщеславия.
Одно время он стал убеждать отца Василиска, что они слишком много занимаются рукоделием и собиранием ягод. Он доказывал, что, как отшельники, они должны заниматься больше молитвой, чтением и богомыслием, что братия и без них проживйт в довольстве, и что другие иноки и без них насобирают для трапезы достаточно ягод и грибов.
Отец Василиск объяснял, что их труды по сбору ягод и грибов являются малой благодарностью монастырю, который обеспечивает их тихую и спокойную жизнь, и что братские молитвы за них, как людей трудящихся для братии, полезны их душе.
И в простоте сердца Василиск продолжал собирать ягоды и грибы, относя их с собой в монастырь.
Отец Зосима, не сочувствуя этому, стал — наконец — укорять отца Василиска, что он не достаточно сосредоточивается и нарушает своё безмолвие из-за этих ягод.
Отец Василиск объяснял юному отшельнику, что и собирая ягоды можно пребывать в молитве, что заниматься богомыслием можно не только в келье, но и в поле, и в лесу, и что прерывать эту работу можно отдыхом, посвящённым упражнению в молитве. Объяснял ученику своему и то, что надо жить в смирении, не надеясь на себя, но на молитвы отцов и братий, и не нарушать устава. И раз Коневский монастырь — общежительный, то надо сообща с братиями трудиться и служить им пустынными трудами.
— Посмотри, — говорил он кротко, — сколько вокруг нас ягод! Братии ходить сюда за ними далеко, и если мы сами не будем собирать их, то они, ведь, пропадут.
Но отец Зосима не был с ним согласен и, бросив Сам ходить с ним за ягодами, начал ещё больше поститься, ещё больше и дольше молился, и ещё больше занимался чтением.
Постепенно он стал чувствовать в молитве какой-то холод, расстройство в мыслях, испытывал досаду и какой- то разлад со старцем. Совесть мучила его, ему было тяжело и, мало-помалу, он стал приходить в отчаяние. И если бы отец Василиск не следил за ним и не молился за него, то ему грозило бы впасть в прелесть и погибнуть.
Как-то вошёл к нему старец и отец Зосима бросился к нему в ноги. Тот принял его в раскрытые объятия, как заблудшего сына. И, как только старец стал говорить слова утешения, всё то тяжёлое, что донимало до сих пор отца Зосиму, — улетучилось. Ему стало легко и радостно, и с тех пор ничто больше не нарушало их тихой жизни.
В Коневской обители они были так дороги братии, что, когда в субботу приближались к обители, то вся братия бросала свои дела, с радостью бежала к ним, кидалась в ноги и обнимала их. Каждый старался поговорить с ними наедине, открывая им свою душу. Отец Адриан приглашал их ночевать у себя в келье, и вечер и утро проходило у них в духовной беседе.
Коневские пустынники стали так известны по всей округе, что к острову приплывало, именно — на воскресенье и субботу, много богомольцев. Все хотели слышать от них хоть одно слово, и народ стал ходить к ним в их пустыню. Иные просили молитв и благословения, другие советов, третьи помощи в искушениях. Им носили подарки и деньги, съестные припасы и холст. Они сами ничего не принимали, советуя отдавать всё в обитель, и некоторые из посетителей потихоньку оставляли свои приношения у дверей. И всё это отшельники передавали в монастырь.
Такая известность не только не утешала отшельников, но тяготила их, и они стали проситься у отца Адриана, чтобы он отпустил их на Афон. Отец Адриан просил их не оставлять Коневца и дождаться, пока он отойдёт из этого грешного мира.
Вскоре, приняв на себя схиму, отец Адриан, наречённый Алексием, удалился на покой в Москву и поселился в Симоновом монастыре, где и скончался в 1812 году. Пред отъездом из Коневца, он благословил пустынников Василиска и Зосиму идти куда-нибудь в дальние места и прибавил, что много мест ненарушимой пустыни в Сибири.
Перед отъездом он вернул Зосиме половину тех денег, что тот добровольно отдал ему, так как теперь эти деньги могли им в пути понадобиться.
Любителя монашества, митрополита Гавриила Петербургского и Новогородского, отец Адриан предварил о намерениях отшельников, хлопотал об исключении их из числа Коневской братии, и отдал им обоим их светские паспорта. Он советовал им идти в мирском платье, так как в монашеском звании и одежде странствовать неудобно. Ещё он дал им совет и заповедь: везде и после всех молитвенных правил петь или читать тропарь в честь Казанской Богоматери — «Заступница усердная». Это было в 1796 году.
По разлучении с отцом Адрианом, отцу Зосиме пришлось вынести некое искушение. Братия коневская, глубоко его уважая и зная его духовные дарования и заботы о братии, желала видеть о. Зосиму своим настоятелем. Они убедительно уговаривали его принять священство и стать начальником обители. Было уже решено послать с просьбой о том нескольких монахов к митрополиту Гавриилу. Но отец Зосима, поддержанный в этом отцом Василиском, безусловно отрекался от этого избрания. Братия должна была проститься с мыслью видеть отца Зосиму своим настоятелем, но они умолили его с отцом Василиском не покидать их так скоро, и те остались. Настоятелем был выбран некий инок Варфоломей.
Неизвестно почему, но новый настоятель пожелал проявить над Зосимой свою власть и, без всякой вины со стороны Зосимы, не приведя никаких объяснений, приказал ему стать в трапезной на колени. Смирился Зосима и без всякого противоречия опустился на колени. Расчёт нового настоятеля не удался. Он ожидал, что отец Зосима ему не покорится и что он пред всеми обличит его в непослушании. Теперь же вся братия возроптала на вздорного настоятеля, тем более что оскорбление кроткого Зосимы все чувствовали так, как будто оскорбили всякого из них лично. С того дня настоятель стал оказывать отцу Зосиме всяческие знаки внимания.
Прожив десять лет на Коневце, Василиск и Зосима решили искать того совершенного уединения, той истинной пустыни, по которой так давно томилась их душа. Они обратились с прошением об увольнении из Коневца к митрополиту Гавриилу. Этот праведный муж сам знал их и был предуведомлен об их намерении отцом Адрианом, которого он чрезвычайно уважал. Поэтому митрополит не поставил им никаких препятствий.
И вот — они, простившись с коневской братией, пустились в странствования, наметив себе, прежде всего, гору Афон, с её монастырями. Но до Афона они не дошли. Трижды были они на русской границе и трижды должны были возвратиться назад. То шла война с турками, то был карантин из-за свирепствовавшей тогда заразы, то была закрыта русская граница по каким-то государственным соображениям. Московский состоятельный житель, Долгов, по сочувствию своему двум странникам, снабдил их всем нужным для путешествия на Афон, и по своей добросовестности, оба они, возвращаясь, отдали вручённые им деньги обратно. Отказались они от своего намерения только тогда, когда получили отказ на выход из России по своему прошению, направленному к царствовавшему тогда императору Павлу Петровичу.
Тогда они обратились с просьбой к некоторым купцам, посылавшим в дальние страны свои корабли, чтобы их завезли на какой-нибудь необитаемый остров и там оставили. Но купцы возражали им: «А вдруг какие-нибудь варвары пристанут к тому же острову, найдут вас, возьмут вас в плен, и вы, вместо того, чтобы наслаждаться пустынножительством, останетесь на всю жизнь у них невольниками!»
Наконец, они обратили свои мысли в ту сторону, на которую им раньше указал уже отец Адриан, именно — на далёкую Сибирь.
В те давние времена — почти век с четвертью назад — Сибирь была очень мало заселена, в ней было множество таких мест, где едва ли ступала нога человеческая.
Перед ними были некоторые сомнения… Холодный климат Сибири, который представляется страшным для лиц, там никогда не бывших, хотя — при ближайшем знакомстве с ним — он оказывается далеко не столь тяжёлым. Дремучие леса, где бродят дикие звери и где лишь изредка, кое-где, видны люди — охотники, поселенцы из ссыльных, каторжников и бродячие инородцы: всё это их пугало.
И вот, они — прежде всего — решили поискать себе приюта где-нибудь в более тёплой стране, и начали своё странствование с Малороссии. Два месяца прожили они в лавре, где были ласково приняты тогдашним митрополитом Киевским Иерофеем. Оттуда они пробрались в Крым, обошли там многие горные места, но не захотели там поселиться, так как им пришлось бы быть окружёнными иноплеменниками и иноверцами, не христианами. Потом они стали присматривать уединённые места у Моздока на Кавказе, но опасались остаться там из-за часто случавшихся набегов горцев. Были они и в Таганроге, и в Астрахани, и в Казанских пределах, заглянули и в Азию в Барабинские степи, прошли Уральские горы и, наконец, остановились они на решении поискать себе приют, всё-таки, в Сибири. Они хотели путешествовать тихо с молитвой, избегая того рассеяния, которое вносят шумные спутники в виде обозов, к которым часто приставали тогда люди в дальних странствованиях, и другие попутчики. Поэтому — они приобрели себе лошадь и, не спеша, странствовали одни.
Несколько раз встречали они затруднения в виде недоумения, куда повернуть на распутье. Однажды, когда они сворачивали с большой дороги на просёлок, многие отсоветовали им ехать одним, так как в этих местах «пошаливали». Они не знали, на что решиться, но хозяева одного обоза, встретившись с ними на постоялом дворе, почувствовали к ним большую жалость и усердие и предложили проводить их, при чём — говорили: «может, если мы проводим этих Божьих людей, то Господь даст нам с выгодой продать наш товар там, куда мы с ними доедем?»
И на протяжении целых двухсот вёрст они провожали и питали их.
Вскоре после того, оставшись одни, они под вечер очутились на распутье. Вокруг не было ни одной живой души, ни одного селения. Внезапно подъехал человек и указал им, куда ехать. Едва успели они сесть и оглянулись, чтобы поблагодарить его, как этого указчика уже не оказалось. С каким чувством прославили они Бога, Который послал им в помощь ангела.
В Тобольске был тогда архиепископ Варлаам, родной брат митрополита Новгородского Гавриила. К этому благочестивому иерарху они явились с письмом от владыки Гавриила, в котором он просил брата принять и успокоить путников. Преосвященный Варлаам ласково принял их, дал им покойный приют в Ивановском монастыре, и они провели тут остальную часть зимы.
С весной преосвященный Варлаам дал им свободу жить, где они захотят в его епархии, и выхлопотал им от губернатора документ для свободного пропуска по всей Тобольской губернии, с предписанием доставлять им нужных проводников.
Весну и лето провели они в разъездах в округах: Ишимском, Каинском, Томском, Енисейском, Красноярском и Кузнецком. В этом последнем их застигла зима. Они удалились в глушь, за сорок вёрст от деревни. В дремучем лесу выкопали они себе землянку, и один набожный крестьянин обещался доставлять им нужный — для их пропитания — провиант, и когда наступит весна, — вывести их из леса.
IV. В Сибирских лесах
И, вот, сбылась мечта двух прирождённых отшельников, — та мечта, которая светила им, может быть, ещё в детские годы, когда в неокрепшем мозгу неизвестным чудом возникает картина той жизни, которой человеку придётся жить, когда начинающее, Бог знает — как, складываться призвание рисует вдалеке те картины жизни, которые впоследствии силой этого призвания осуществляются…
Одни, без друзей, родных и знакомых, без всяких средств, с одним лишь сокровищем упования в душе, странники поселились в необъятном сибирском лесу, в жалкой холодной землянке.
Сибирские метели холодным дыханием своим проникали в это ничтожное убежище. Ветер и вихрь вели свою своеобразную музыку, но их грел огонь любви к Богу, который завёл этих людей так далеко от мест, где они родились, и где могли бы жить в довольстве.
Запасов сделали они себе крайне мало. Вскоре оказалось, что ржаная мука у них на исходе, — им пришлось примешивать к муке кору из ильмового дерева. Пока не настали сильные холода, они старались ловить рыбу в некоторых речных заливах, но при холодах она вовсе перестала ловиться, уйдя ко дну. Они доедали уже последние запасы муки с корой. Положение казалось безвыходным. Приближался голод, а их от всего мира отделяли непроходимые снежные сугробы. Тот крестьянин, который обещался привозить им припасы, с великими усилиями повёз им некоторый запас, но вследствие снежных завалов и ужасных сугробов не решился дотянуть воз до их хижины. Потом он сложил весь запас в довольно далёком расстоянии от них, добрался до их землянки, описал им место, где был сложен запас, и затем уехал.
И, вот, чувствуя расслабление от скудной пищи, кое-как добрались они до своего запаса, которым они на месте и подкрепиться не могли. Всё, что он привёз, было: мука, крупа, соль и лук. Они надеялись, что крестьянин привёз им печёный хлеб, но посовестились его об этом вовремя спросить. С ними не было никакой посуды, и они не знали, как им быть, потому что, не поев, они решительно не могли идти обратно.
Но тут Василиск нашёлся. Он снял с себя балахон, разостлал его на снегу и перемешал на нём снег с мукой. Затем они развели огонь и на этом жару напекли себе, лепёшек, которыми и закусили. Привезённого запаса хватило им до конца зимы. В это время они стали поджидать к себе того же крестьянина, который обещался вывести их из леса, прежде чем начнётся разлитие вод, которое вследствие громадного скопления снегов бывало в тех местах чрезвычайно значительно. Но собственные заботы удержали крестьянина дома, и пустынники оказались в трудном положении. Они начинали думать, что болезнь или смерть помешали ему в исполнении доброго намерения, а ждать, пока земля просохнет в этом лесу, для них было невозможно уже потому, что им не хватило бы пропитания. И, вот, они сами решили выйти из леса и добраться до ближайшего селения в сорока вёрстах от них. Пищи у них оставалось на три дня. Они взяли с собой свои книги, иконы, посуду, топор, кремни и огниво, а также и остатки своего убогого съестного припаса.
Выйдя из кельи, они зажгли её, чтобы в ней не поселился какой-нибудь беглый и чтобы впоследствии из-за этого не началось расследование о том, кто эту хижину поставил здесь.
Опасаясь попасть по ту сторону хребта, где на расстоянии двухсот вёрст не было жилья человеческого, они забрали слишком в сторону и шли вдоль гор, нависших над долиной реки Томи. После трёх или четырёх дней странствования, не видя пред собой ничего, кроме непроходимых лесов и высоких гор, они поняли, что заблудились, и тотчас же уменьшили ежедневную порцию скудной пищи, чтобы не остаться вовсе без хлеба.
По целым дням им приходилось идти не евши и вечером, изнемогши от усталости, они, собрав дров и разведя огонь, скудно закусывали несчастными обоими лепёшками. В таком скитании они провели целую неделю и окончательно заблудились.
Несколько дней не было видно солнца. Небо было в тучах. Ветер выл, и среди этих ужасных обстоятельств они поддерживали бодрость свою молитвой. Единственно, что позволяло им держаться одного направления, была кора деревьев, так как осиновые деревья с севера всегда имеют вид почерневший, а с юга — светлый и чистый. Муки и сухарей оставалось у них всё меньше. К вечеру они растворяли этот запас в воде и ели это месиво, как похлёбку без хлеба. Но и эту похлёбку употребляли они однажды в день, перед ночлегом. Отец Василиск старался есть меньше, чтобы больше оставлять отцу Зосиме. Отец Зосима старался набрать засохшей и гнилой рябины, которая казалась им вкусной, но и её находили они мало.
Отец Зосима, имевший лыжи с подволоками, тащил санки, на которых было наложено их имущество и съестные припасы. А отцу Василиску на его лыжах было очень трудно подниматься в гору. Бедный отец Зосима, видя старца своего ослабевшим без пищи и изнурённым трудным путём по горам, плакал и о нём и о себе. Его смущала мысль о том, что он, получив от Бога познание жизни духовной и дары, которыми он мог бы послужить людям, в случае голодной смерти в пустыне, уподобится рабу неключимому, зарывшему талант свой в землю. Но отец Василиск с твёрдостью говорил спутнику своему, что Бог не попустит умереть им с голоду, что если Бог прокормил в пустыне неблагодарный народ израильский, то неужели не пропитает их двоих? В этих обстоятельствах отец Зосима дал Богу обет, что если он останется в живых, то будет служить духовной пользе тех людей, которые станут искать его советов. И на этом обете он успокоился.
И, вот, однажды поднялся сильный ветер — с большим снегом и морозом. Среди этой метели путники еле могли двигаться. Положение их было тем хуже, что они были в безлесной местности, и негде было нарубить дров. Силу ветра не ослабляли высокие деревья. С горы они оглядывались вокруг, где бы выбрать место потише, чтобы заночевать. Вдруг? у отца Василиска перервались путцы на лыжах. Не было никакой возможности идти дальше ни шагу, не было возможности и исправить в такую бурю лыжи. Между тем, настала совершенная темнота. Добравшись к мелким кустам ельника, путники принуждены были расположиться под ними на ночь, и едва могли набрать немного хвороста, чтобы развести огонь. Не евши со вчерашнего вечера, они решили и тут не есть, так как им хотелось поскорей уснуть. Но сильный ветер тушил огонь, их постоянно засыпало снегом, и уснуть они не могли. Проведя беспокойную ночь, они при восходе солнца отправились далее. Дорогу им пресекла река. Разлившаяся её вода стояла в уровень с берегами, но от сильного мороза она казалась крепко замёрзшей. Отец Василиск пошёл вперёд и, так как он был мал ростом и сух телом, то благополучно перешёл реку. Отец же Зосима, перейдя почти всю реку, вдруг — почувствовал, что лёд под ним проломился, и он опустился в воду по самую грудь. Положение его было тем ужаснее, что ноги его были привязаны путцами к лыжам, а лыжи увязли в реке, в воде и в снегу. Достать ноги рукой и вынуть их из лыж было невозможно, так как до этого не допускал лёд. Пришёл, казалось, его последний час. И в эту, именно, минуту вера его верующего сердца выразилась в такой молитве, которая стрелой подымается в небеса и вызывает чудо.
Утопая в холодной воде, отец Зосима с отцом Василиском разом воскликнули:
— Теперь Тебе, Владычице Пресвятая Богородице, нам помогать!
Отец Василиск подал утопающему руку, а отец Зосима произнёс:
— Быть может, твоей рукой Матерь Божия помилует меня. Если же нет, я пущу твою руку, не втяну тебя за собой, но умру здесь один.
«И — о, чудо Божией Матери! — рассказывал впоследствии сам отец Зосима: — вышел на берег так неожиданно, легко и скоро, как бы точно и не был погрузившимся. И не понимаю, как вдруг освободились из лыж ноги мои, привязанные ремёнными путцами. Только Господь Бог, ради Матери Своей пресвятой, премилосердной Владычицы нашей, восхотел ещё даровать мне жизнь и явить мне, сколь облагодатствован мой старец: иначе, какую можно иметь помощь увязшему по грудь во льду и в воде с привязанными к ногам лыжами, от руки слабого и изнурённого старца? И лыжи были так глубоко погружены и увязли, что после едва могли вытащить их крюком, и то одна переломилась».
В таких простых, но потрясающих силой и значением своим словах, вылилась в ту минуту их молитва. Именно — там, где всё кажется погибшим, — там часто и разгорается, вызывая чудо, необоримая вера в силу милосердной Царицы Небесной. И как часто — часто в жизни и нам, сломленным горем, под гнётом несчастий безысходно тяжких, надо восклицать: «Теперь Тебе, Владычице Пресвятая Богородице, помогать»!..
* * *
Однако, если отец Зосима и избег смертельной опасности, то этим приключением путники были измучены ещё более и не могли двигаться. На их счастье трут и огниво нёс с собой отец Василиск, а то на санках, которые влёк отец Зосима, они измокли бы со всей поклажей. На берегу были сухие деревья, но окончательно изнемогший отец Василиск не мог поднять топора, а отцу Зосиме было их трудно рубить в мокрой обмёрзлой одежде. Сняв её, бегая и согреваясь в одной свитке, он нарубил дров, развёл большой огонь, у которого они оба обогрелись, обсушились и исправили лыжи. На этом месте они провели около суток, подкрепляясь сухарной похлёбкой.
На следующий день они чувствовали такую слабость, что сами еле могли двигаться, а тащить за собой санки уже не могли. Поэтому, они оставили их со всеми своими вещами под приметным деревом, чтобы им можно было вернуться за ними, если бы они вышли в какое-нибудь населённое место. Они захватили с собой, по общему совету, только евангелие маленького формата и книгу преподобного Исаака Сирина, как крайне нужную для отшельников, и немного сухарей. Эти вещи в сумочке понёс на себе отец Зосима.
Еле передвигая ноги, путники шли вперёд, но не видели никакого следа, никакой тропинки. Снова отчаялись они в своей жизни, и вдруг — блеснула им мысль дать обет, что если они останутся живы, то никогда — во всю свою жизнь — не будут вкушать молочной пищи, кроме тех дней, в которые эта пища разрешается Церковью в честь божественных праздников.
В тот же день они вышли на лесную дорогу. Это их очень обрадовало, но они от слабости не могли идти далее и сели отдохнуть. Отец Василиск стал тогда уговаривать отца Зосиму оставить его тут:
— Добредёшь ты этим путём до какого-нибудь селения и пришлёшь за мною лошадь, сухари бери себе — дня на три тебе их хватит. Ты будешь идти, тебе нужна пища, а я буду сидеть здесь без дела, буду греться и могу умереть, не евши.
Каково было любящему сердцу отца Зосимы от таких речей дорогого старца!
— Лучше умру с тобой, а тебя одного не оставлю. Зачем мне жить без тебя!
И, вот, кое-как они побрели дальше. Вскоре увидали они след собаки. Надо блуждать, как они, долгие дни в безвестной местности, привыкши к мысли о голодной смерти, для того, чтобы понять, что значило для них увидать след жилья. Когда они вышли к реке Томи, то различили человеческие следы. Удостоверившись, в какую сторону обращены эти следы, они продолжали свой путь и, наконец, вышли на торную летнюю дорогу. И, надеясь добрести вскоре до селения, закусили последними остатками запаса.
Эта летняя дорога ещё не протаяла, и часто они теряли её под снегом, сбивались в стороны, снова её находили и, пространствовав так, с великим утомлением, несколько вёрст, завидели — наконец — вдали деревню.
Не описать их радости. Слёзы потекли из глаз их ручьём. На устах их слагались умилённые и благодарные слова к Господу Богу, сохранившему их среди таких опасностей. Более всего радовало их то, что они были свободны во время этого страшного испытания от всякого чувства ропота и, если бы им пришлось умереть в пустыне, умерли бы спокойно, прославляя волю Божию.
Еле дыша, достигли они деревни, жители которой уже слыхали о них. Когда же они увидели их пред собой, живых мертвецов, бледных, иссохших, в истрёпанной одежде, то от всего сердца оказали им гостеприимство, давали им хорошую пищу и питье. Но они, из предосторожности, употребляли её очень мало, так как за это время отвыкли есть. Через два дня, на подводах, покрыв их шубами, крестьяне отправили их в волость. Там встретили они знакомого писаря, который отправил их, на подводах же, в город Кузнецк. Горожане были потрясены их прибытием и все о них заботились наперерыв.
Около двух месяцев они были так слабы, что не могли употреблять обыкновенной пищи; употребляли самую лёгкую и в весьма малом количестве. Они не могли ничем заняться и не имели силы ходить. Нервы их были так потрясены, что они часто плакали, и всё случившееся с ними представлялось им столь ужасным, что наводило на душу их глубокую тоску.
Трёхмесячное пребывание в городе Кузнецке их, однако, совершенно выправило. Всё, ими перенесённое, свойства их характера, их простота, доброта, бескорыстие — привлекли к ним сердца всех жителей. Им было так хорошо, и окрестности Кузнецка представлялись им столь удобными для жительства, что они решили утвердиться там. Их привлекало к Кузнецку и то, что во всём его округе не было ни раскольников, ни иноверцев, а население было добродушное, простосердечное и усердное.
Помолившись, они стали искать места для нового жительства, и нашли такое место за проливами, по имени Трикурые. Это место расположено в пятидесяти вёрстах от Кузнецка и в тридцати от деревни Сидоровки. Ближайшие же другие населённые местности лежали в двухстах, пятистах и более вёрстах.
Место это было окружено большим пихтовым и кедровым лесом и крупными озёрами, в которых кишела рыба. Земля хорошо произрастала овощи и была богата ягодами. Тут выстроили они две кельи, одну против другой, и в них поселились.
V. Райская жизнь
Внутреннее своё настроение во время пустынной жизни отец Зосима передаёт в следующих своих восторженных строках:
Как можно (говорит отец Зосима в житии старца Василиска) в точности описать все те внутренние, духовные чувствования, которые до такой степени усладительны, что никакое благополучное царствование не порадует так и не успокоит, как пустынное житие, ибо когда не видишь и не слышишь и не водишься с миром заблудшим, то и спокойствие находишь, и ум естественно устремляется весь к единому Богу. Нет в пустынном пребывании ничего такого, что препятствовало бы или отвлекало от богослужения, или мешало заниматься чтением Священного Писания и питаться углублением в богомыслие. Напротив, всякий случай и всякий предмет побуждает здесь простираться к Богу. Кругом — дремучий лес, за которым весь мир скрылся; только к небу чистейший и незаграждаемый путь, привлекающий взоры и желания сподобиться переселения в тамошнее блаженство. Но если взоры сии обратятся и на землю, рассматривая всю тварь, всю природу, то не менее восхищается сердце сладкой любовью к Творцу всяческих, удивлением Его премудрости, благодарением Его благости: даже приятное пение птиц возбуждает к славословию и песнопению молитвенному. Вся тварь содействует бессмертному духу нашему соединяться с Творцом своим. А от соединения души с Богом какая бывает радость, какой страх, какая любовь, сладость, утешение, просвещение, трепет, умиление, слёзы и совершенное забвение самого себя и всего земного, — того и описать невозможно, ибо оказано: «пустынным непрестанное божественное желание бывает, мира сущих суетного кроме».
Вот, плоды пустынного безмолвия. Но могут ли расти и созревать плоды на дереве, не покрытом зеленеющими листьями! А посему — и сия жизнь их внутренняя была облечена во внешнюю, ей сообразную. Кельи их были простые, деревянные, убогие: одежда рубищная, пища самая постная, суровая и скудная, Но Господь так всё облегчал и услаждал им, что иногда они с чувством страха и умиления говорили между собой:
— За что нам ожидать блаженства вечного, если мы здесь так блаженствуем, — совершенно покойны и довольны всем, от всего свободны: ибо по милости Божией в такое устроены мы положение, что не имеем нужды заботиться ни о хорошей одежде, ни об убранстве келейном, ни о приуготовлении хорошей пищи, поелику — не должно умолчать и сего, что бывает, благословением Божиим, некое чудное изменение в простой суровой пище, — точно прелагается она в иное качество, вовсе не свойственное ей, в какое-то приятное и усладительное…
И сладость, какую чувствовали они в молитве, была им так дорога, что им не хотелось отнять и часа времени от тех занятий на хлопоты по своей трапезе. Поэтому — они решили с глубокой осени неделю или долее заготовлять съестные припасы, чтобы всю зиму затем проводить в полном отречении от всего житейского. За это время они убирали произведения своего небольшого огорода. Брюкву, свёклу и картофель они отваривали, а капусту оставляли сырой. Тут же на всю зиму пекли они травяной хлеб, так как во все дни своей пустынной жизни не признавали для себя хлеба из чистой муки, а всегда смешивали её с травой.
Сделав тесто в большом количестве и наварив какой-нибудь похлёбки, они всё это замораживали и впоследствии им нечего было приготовлять себе пищи; они только разогревали состряпанное раньше.
Странный вид являли эти отшельники. Когда им приходилось затопить печь для разогревания своих припасов, они в это время или стояли на молитве или сосредоточивались, сидя, в сердечной молитве. Смотря временами пристальным взглядом в пылающий огонь, они размышляли об огне вечном, иногда плакали и горевали о грехах своих, иногда же разгорались горячей любовью божественной.
К трём часам пополудни они оканчивали свои молитвенные правила. Тогда они отрубали топором куски мёрзлого хлеба и мёрзлой похлёбки и, разогрев свою трапезу в печи, принимали пищу. Потом они до позднего вечера занимались рукоделием. Совершив вечернее правило, они снова погружались в сердечную молитву. Иногда ненадолго засыпали, чтобы снова разбудить друг друга к полночи. Иногда до полночи не склоняли головы на жёсткие ложа, которые состояли лишь из деревянной скамьи и деревянной же колодки в головах.
Они жили в разных кельях, но трапеза была у них общая, также — и труды, и молитва, и скудное их имущество. Если же, в жажде совершенного безмолвия, им приходилось по несколько дней не сходиться, то они стуком палочки подавали друг другу весть и о молитве, и о трапезе. Иногда же ночью будили друг друга, и так жили одним духом в двух телах.
В зимнее время им случалось не видаться, иногда, дней по пяти до субботы. Так приносили они в жертву Богу самую для них дорогую земную радость, своё неразлучное единение. И много видели они себе душевной пользы от такого полнейшего уединения.
Летом им приходилось быть более вместе. Однажды в год, надо думать в начале великого поста, до разлития весенних вод они ходили на несколько дней в город Кузнецк, слушали там божественную литургию, исповедовались и причащались. В остальное время года к ним трижды приезжал священник со святыми Дарами. Можно ли описать ту радость, восторг, благоговение, счастье, умиление, ликование, трепет, смирение, надежду, с которыми они встречали грядущего к ним Христа: «хотящего заклатися и датися в снедь верным»!
Многие набожные люди посещали кое-когда пустынных старцев, кое-что им приносили. Но отшельники не брали никогда ни от кого ни копейки и принимали лишь то, что было совершенно необходимо для их питания или одеяния, и за то они старались отдарить жертвователей: отец Василиск делал глиняную посуду, отец Зосима — деревянную. Они налавливали также достаточное количество рыбы в озёрах близ своих келий, для себя удерживали немного, остальным отдаривали людей, приносивших им свои жертвы, так как они желали, сколько хватит сил, питаться и содержаться своими трудами. Когда же в большие праздники усердствовавшие приносили им что-либо для розговенья: яйца, сыр, масло — всё это они принимали с благодарностью, и ничем не вознаграждали принёсших, считая, что это Бог посылает им для великого праздника.
Пост их, вообще, был так велик, что во время великих постов они часто по три и по пяти дней ничего не ели, находясь — при этом — в глубоком безмолвии и уединении. Особенно строго проводили они время святой Четыредесятницы. Тут они словно сраспинались Распятому, и чудно праздновали Воскресение Христово.
Вся ночь Пасхи проходила у них в чтении и молитве сердечной. Потом, отпев светлую утреню и часы, при недолгом отдыхе, они подкреплялись праздничной пищей и затем, взяв с собой Цветную Триодь, Евангелие, какую-нибудь духовную книгу, часть праздничной еды, топор, котелок и огниво, — они отправлялись недели на две, на три походить по пустыне, оставляя за собой незапертые кельи.
Удивительно духовно-прекрасна была самая мысль, которая выводила их из своих келий к весеннему празднику природы. Этим обходом своим они словно эту природу, покорную Творцу, цветущую в Его славу, по Его воле, приобщали к своей радости и наполняли дебри, долины, леса и луга пасхальными песнопениями, словно всю вселенную вовлекали в ликование своего обрадованного Пасхой сердца.
Они ходили по лесам и долинам, по холмам и перелескам, по начинающим зеленеть лугам и по берегам сладкозвучных ручьев, не переставая повторять священные слова:
<…>[1]
Старец Феодот
(подвижник Глинской пустыни)
«Исповедаюся Отче, Господи небесе и земли, яко утаил еси сия от премудрых и разумных и открыл еси та младенцем» — эти слова из уст Христовых к Его Божественному Отцу вспоминаются часто, когда читаешь или слышишь о людях без всякого образования, которые — в простоте своей веры — достигали величайших духовных озарений, и которым еще в земном тле открывались величайшие духовные тайны, до каких не возвысится никогда объюродившаяся мудрость мирских мудрецов.
Вот, сейчас станет перед нами такой тихий, кроткий, всепрощающий образ одного тишайшего подвижника, которого гнали люди, но который самое тяжкое гонение в своей жизни принял от близкого к себе существа:
«Томлю томящего мя», — отвечал старец Серафим, когда его спрашивали, зачем он даже в свои старые годы носит на своих плечах тяжелую котомку с каменьями.
«Томлю томящего мя», — имел право повторить о себе и блаженный старец Феодот. Его подвиг был тем более велик, что был мало заметен, не привлекал к себе любопытствующего взора, между тем подвиг этот на самом деле был чрезвычаен.
Уже одно то в нем показывало человека высшей самоотверженности, что он во все время пребывания своего в монастыре не имел отдельной кельи и ютился, где придется, на грязной кухне.
В знаменитых записках «Мертвого дома» великого русского психолога Достоевского есть яркое место, когда человек, водворяясь на каторге, приходит в ужас от того, что он долгие годы ни на минуту не останется один, а все эти годы проведет на людях.
Так, вот, эту именно «каторгу» и выбрал себе вольной волей отец Феодот — эта «каторга» была для него тем тяжелее, что по самому складу своего характера люди аскетического направления непременно нуждаются в полном, ненарушаемом уединении.
Старец Феодот, поступивший в Глинскую пустынь во время ее глубокого упадка, имел счастье пережить годы ее возобновления и ее полного процветания под главенством достопамятного ее возобновителя, замечательного подвижника и мудрого руководителя иночества, архимандрита Филарета.
Он имел утешение видеть вокруг себя в родной пустыни таких же смиренных, как он сам, и угодных Богу подвижников.
* * *
Старец Феодот был уроженец села Черторич, Глуховского уезда, Черниговской губернии, назывался он в миру Феодосий Левченко и происходил из простых казаков.
До конца жизни своей он был неграмотен. Выросши в родном селе, он стал помогать своему отцу в его крестьянских работах.
В юности Феодосия было одно событие, о котором он вспоминал впоследствии, и в котором выразилась сила, уже тогда охранявшая юношу — благодатный покров Божий.
Как-то отец послал Феодота на поле боронить. Пока он работал, поднялся в стороне от него жестокий ураган и понесся прямо на него. Лошадь в страхе помчалась по полям, а ураган подхватил юношу на значительную высоту, — как он вспоминал, выше колокольни, — и сбросил на землю. И, тем не менее, Феодосий не получил никакого повреждения.
— Когда я поднялся и стал на ноги, — рассказывал старец Феодот, — увидел я перед собой страшного, черного человека громадного роста. Оскалив зубы, он весь трясся. Я оградил себя крестным знамением, и он исчез.
Слушатели спрашивали старца:
— Не испугался ли он этого страшилища?
— Если бы я испугался, — отвечал он, — то я бы трясся.
Видно, что он испугался, если ему пришлось трястись.
Родители воспитали Феодосия в страхе Божием. И, в молодых летах почувствовав призвание к монашеству, он вытребовал себе по простоте своей крайне простой документ, подписанный сотским (впоследствии из-за этого документа над Феодосием стряслась большая беда). Он поступил в Глинскую пустынь.
Братства в Глинской пустыни было тогда мало, и пустынь вообще находилась в упадке. Это было приблизительно в 1789 году. Всего же прожил Феодот в обители не менее семидесяти лет, при одиннадцати настоятелях.
В те дни настоятели менялись часто. Они, по большей части, находились при архиерейских домах в качестве экономов — почему обитель оставалась без надлежащего надзора и руководства. Но дух подвижничества был очень крепок в Глинской пустыни. И что там были люди высокой жизни, — свидетельствует следующий памятный случай.
Когда в Глинской пустыни ставили теплую Успенскую церковь, то надо было делать большую выемку земли для дымовой печи. Оказалось, что церковь стоит на древнем иноческом кладбище.
При копании открыли несколько гробов прежних монахов и перенесли их с подобающим обрядом на новое кладбище.
Из этих гробов в трех лежали совершенно нетленные тела. На двух телах были схимы, а одно было одето в одежду послушника.
Старец Феодот узнал покойников, и особенно послушника, выразившись о нем, что он жил свято.
В глубокой старости старец Феодот указывал на могилы прежних монахов, которые подвижничали при нем в его молодости, и говорил, что они несомненно жизнью своею угодили Богу.
Таким образом, и в первое время своей жизни в обители старец Феодот встречал людей, в которых мог находить поддержку своим духовным стремлениям. Особенно же много пользы душе его принесли беседы и наставления ставшего впоследствии игуменом Филарета.
Филарет умел сосредоточить всю любовь, все мысли монахов на монастыре и на монашеской жизни, так что весь мир для учеников Филарета казался каким-то истаявшим. Увещевая братию держать сердце свое в чистоте, быть в молчании, усердно нести послушания и совершать неустанную молитву, — старец говорил:
— Пот, проливаемый монахами на послушании, при усердном труде имеет в очах Божиих такое же спасительное значение, как кровь, проливаемая мучениками.
Назначенный к кухонному послушанию, Феодосий стал ревностно исполнять все, что там требовалось: рубил дрова, носил чистую воду, выносил помои, мыл пол кухни, держал в порядке посуду. С усердием доброго работника, он исполнял все, что ему приказывали.
Всякий истинный монах, какое бы дело ему ни поручали, относится к этому делу с величайшим вниманием, как будто это дело поручено ему Самим Богом.
Во все время своей монастырской жизни, даже проходя послушание старшего повара, Феодосий не имел отдельной кельи, а жил всегда на кухне, где не было решительно никакого удобства, чтобы жить. Пол был кирпичный, постоянно покрытый сыростью и грязью.
Такими же грязными были и подмостки, на которые приходилось постоянно становиться грязными ногами, чтобы ставить котлы на чугунную плиту. Воздух был испорчен дымом и испарениями от кипящих котлов с борщом и щами и жженного масла, падавшего, по небрежности, на раскаленную плиту.
Феодосий отдыхал или прямо на кирпичном полу или на куче угля, припасенного поварами. Когда же все, после окончания трапезы и мытья посуды, расходились по кельям, Феодосий не сразу давал себе отдых. Сперва он совершал свое правило, а потом принимался чистить картофель для следующего дня, хотя к этому делу было приставлено семь или восемь других послушников. И этою жизнью он прожил семьдесят лет.
Мы уже говорили выше о том, как ужасно для человека-аскета не иметь своего угла. И вот, от этого, столь естественного для истинного монаха, столь необходимого условия жизни он отказался.
Молитвы его были неустанные. Некоторые спрашивали себя, как он, будучи безграмотен, может молиться? Несколько молодых послушников, по любопытству своему, захотели в этом удостовериться.
В трапезе Глинской пустыни есть прорезанное на высоте груди окошечко, которое отворяется в кухню так, чтобы непосредственно из окошечка подавать блюда из кухни в трапезу. Недалеко от того окошечка висела большая икона Спасителя. Перед ней-то Феодосий и молился.
Досужие и любознательные послушники, подкравшись к этому окошечку со стороны трапезы, стали прислушиваться к молитвам Феодота. Феодот клал много поклонов, молясь то Богоматери, то Спасителю, взывая:
— Пресвятая Богородица, спаси нас! «Иисусе Сыне Божий, помилуй мя»!
Он так привык к земным поклонам, что очевидцы рассказывают, будто никто из молодых послушников не мог класть поклонов земных так легко и так скоро, как клал их в своей старости Феодот.
По смирению своему и безответственности Феодоту пришлось натерпеться на кухне немало бед. Прежде всего, досаждали ему повара из мирских людей. Они обращались с ним презрительно и часто даже били его.
— Доставалось, — рассказывал он впоследствии, — тогда мне и в зубы, и в спину, по щекам и по голове, всюду доставалось…
Например, заставить Феодосия повар толочь в ступе мак. Исполнил приказание Феодосий, позовет повара посмотреть, а тот начнет придираться. Надает бедному труженику толчков или даже, схватив пестик, начнет колотить им Феодосия.
Феодосий не гневался на все эти притеснения и служил своим мучителям, сколько мог. Чтобы не прославилось его столь чрезвычайное терпение, Феодот прикидывался малоумным, приняв на себя подвиг юродства.
Его не видали печальным, гневающимся или с кем-нибудь ссорящимся. Как доверчивый, незлобивый младенец, подходил он ко всем с лаской и радостью. Когда же его обижали, то спокойно он принимал ругань, побои, насмешки и укоризны.
Феодоту, как всякому истинному подвижнику, пришлось вынести тяжкую борьбу с врагом спасения. Иногда враг нападал на него, принимая образ различных чудовищ или хищных зверей. Иногда старался направить его мысли к уходу из обители.
Впоследствии некоторые из иноков спрашивали его, видел ли он наяву бесов. Он отвечал утвердительно и сказал, что они мерзки на вид. Он хорошо знал всю изворотливость, озлобленность, ухищрения, настойчивость врага спасения и говорил впоследствии братьям:
— Ох! Если бы вы увидели, с каким усилием враг увивается около искушаемого человека и старается быть как можно ближе к нему, то вы изумились бы! Когда человек идет, ступая по земле ногами, и еще не успевает принять ногу с места, на котором она стояла, а преследующий его диавол уже старается на его след поставить гнусную лапу, не сводя глаз с преследуемого им человека. Как хитрые птицы, как лукавые лисицы, окружают нас богомерзкие демоны и жадно похищают в душе нашей всякое доброе расположение и ослепляют наши духовные очи.
Обыкновенно, на кухонном послушании в обители остаются недолго и переходят на другие, более легкие. Старец Феодот провел на этом послушании всю свою жизнь и мимо него прошло поэтому, за его многолетнюю жизнь, много сотрудников. Таким образом, многие могли быть свидетелями тех благодатных даров, которые снискал ему его подвиг, его смирение.
Монах Иоанникий, оклеветанный перед игуменом Филаретом, был изгнан из обители, и когда просился опять в пустынь, то был принят обратно лишь с тем условием, что начнет с кухонного послушания.
Чувствуя его полную невинность, Феодот постоянно утешал Иоанникия и, между прочим, сказал ему:
— Вот, видишь, Иоанникий; теперь поноси воду ушатами, а будет время, когда будешь золотую шапку носить.
Тогда эти слова были совершенно непонятны, и подтвердились со временем, так как Иоанникий стал впоследствии архимандритом.
Иоанникий, в схиме Илиодор, принадлежал тоже к числу великих подвижников Глинской пустыни. Замечательно одно высокое духовное видение, которого были удостоены одновременно Иоанникий и Феодот. Замечательно и то, что это высокое видение видел в то самое время, когда один из монастырских поваров гнался за ним по монастырю, замахиваясь на него вдвое сложенной веревкой.
Вот, как повествует отец Илиодор об этом дивном видении:
— Представилось мне, будто я вышел из кельи и направился в восточную сторону монастыря. Дойдя до места, где в настоящее время цветник, я вдруг очутился в каком-то прекрасном саду, рассматривая поистине чудную его красоту. Природа всего, что я там встречал, была мне совсем незнакома и на земную природу не похожа. Там стояли в дивном порядке какие-то деревья, украшенные различными, как бы златоблестящими, листьями и цветами и изобиловали различными прекрасными плодами. На них гнездилось бесчисленное множество разнородных пернатых, которых красота, приятное пение и порхание привлекали взор и услаждали душу. Внизу расстилалась зелень, испещренная различными цветами удивительной красоты. Веяние тонкого ветра, тихо колеблющегося различного растения, разносило неземное благоухание; словом — все там было не от мира сего. Удивляясь невиданным красотам, я ходил и наслаждался созерцанием. Не рай ли это Божий, — думал я, — о котором вествует нам слово Божие?
Но, вот, мой взор обратился в восточную сторону, и я вдруг вижу старца Феодота, идущего навстречу в своем всегдашнем одеянии, в замасленном коротком подряснике. Подойдя ко мне, он с улыбкою обратился ко мне: «А, ты здесь?» Я спросил его о том, чей это сад. «Мой», — ответил он. Как бы не доверяя ему, я сказал: «Если сад твой, то не можешь ли ты дать мне каких-либо плодов?» Подойдя к ближайшему дереву, он снял с него три яблока и подал мне.
— «Где же это ты был?» — спрашиваю я его. Указывая на юго-восточную сторону сада, он сказал: «Был, вот, там, видел покойного своего отца; место, где он находился, очень хорошее. Я видел его стоящим в белой одежде. Заметив меня, он поклонился мне в пояс. Оттуда я пошел далее — при этом Феодот указал по направлению к юго-западу, — и видел там мою мать. Ох, место, где она находится, до того ужасное, что и высказать невозможно. Увидев меня, она начала с плачем кричать мне: «помоги мне, помоги». Так вот я, — продолжал он, — хочу идти к настоятелю просить его благословения, чтобы мне затвориться на год и помолиться о матери. Я, вот, и тебя пригласил сюда для того, чтобы вместе помолиться». Говоря это, он был очень печален. Я слушал его рассказ с участием, вполне понимая и разделяя его скорбь. В таком душевном настроении я почему-то положил данные мне три яблока под дерево и на этом проснулся.
Удивленный столь необычайным сновидением, я бросился из кельи и стал искать старца. Я скоро нашел его на экономическом дворе, где эконом бил его веревкою, как выше сказано. И мы оба пошли пить чай.
Успокоившись несколько, я обратился к нему с вопросом: «Умоляю тебя Богом, не скрой от меня, где ты был в это время»… Взглянув на меня, он сказал: «Что же ты спрашиваешь? Сам ты видел меня в саду, где я давал тебе яблоки». Удивляясь его прозорливости, я хотел было расспросить его подробнее, но он не отвечал мне и, напившись чаю, молча вышел из кельи.
Настоятель Филарет почитал Феодота и говаривал братии, что благосостояние, которым стала пользоваться запущенная некогда обитель, посылается Богом за молитвы старца Феодота.
В сказаниях о древних великих иноках рассказывается, что одни из подвижников во время молитвы были объяты пламенем. У иных из уст была видна огненная вервь, подымавшаяся к небу, или светлый луч из уст упирался в небеса.
Видели явления того же порядка и относительно старца Феодота. А старец Макарий, сам подвижник, во время утреннего богослужения увидел над братскою кухнею столп света. Взойдя в кухонный коридор, он взглянул внутрь кухни, через щель двери, и увидел старца Феодота, который стоял на коленях перед иконой и молился, воздев руки кверху. Из уст его выходил пучок пламенного света, который освещал всю икону.
Другие видали Феодота на молитве приподнятым от земли или освещенным небесным светом. У стены, за кухонной печью, висел деревянный крест Феодота. Этот крест сиял, когда Феодот молился перед ним.
Сильную скорбь пережил Феодот, когда ему пришлось на время покинуть обитель. Дело в том, что в 1845 году была по России большая ревизия — всенародная перепись, и повсюду проверялись паспорта. Между тем, свыше пятидесяти лет Феодот проживал в обители по крайне странному и недостаточному документу. Этот документ был истертый клочок бумаги со следующими словами:
«Села Черторич казак Феодосий Левченко увольняется во все места, куда захочет идти и где захочет жить, за ним дел никаких не имеется. Сотский Семен Кравченко».
Не являясь больше на родине, Феодосий был вычеркнут из числа ее жителей, как умерший.
Настоятель, опасаясь себе неприятностей, потребовал ухода Феодота из обители и посоветовал ему идти в Петропавловский монастырь, где в то время настоятельствовал архимандрит Иоанникий, когда-то несший послушание на кухне Глинской пустыни. Архимандрит Иоанникий принял в старце участие, и он был снова приписан в свое общество, а затем ему было выдано увольнительное свидетельство.
Когда все документы были, таким образом, приведены в порядок, — Феодот мог опять вернуться в дорогую Глинскую пустынь.
И снова стал сиять — на поучение братии — его подвиг. Братия любила звать Феодота пить к себе чай, и он неизменно являлся со своей рукавицей. Рукавица эта была сделана для топки печей, чтобы не чувствовать жар в руке, вкладывая дрова в раскалённую печь, или мешая кипящие котлы с варящейся пищей.
Эту рукавицу, замазанную сажей и землёй и пропитанную кислотами щей и борща, он и употреблял при чаепитии. Придя к брату, Феодот, положив три поклона, избегал садиться на стул, а, сняв засаленный подрясник и расстелив его на земле, садился на нём и пил чай из полоскательной чашки, поставленной перед ним на стуле. Наклоняя к себе чашку рукою в рукавице, чтобы не обварить руки горячею полоскательницею, он начинал хлебать из неё чай.
Можно думать, что в этом старец подражал тому великому учителю смирения, Арсению — знатнейшему и ближайшему к императору вельможе Царьграда, которому при начале его монашества мудрый старец Иоанн Колов кинул однажды с трапезы сухарь, который Арсений стал есть, стоя руками и ногами на земле, как четвероногое животное.
Старец иногда являлся к братии незваный, в ночное время, чтобы предупредить их о грозящей им духовной опасности, помочь бороться с помыслами или отклонить их от каких-нибудь ошибочных намерений.
Так, когда один послушник задумал уйти из Глинской пустыни и потихоньку собрался, чтобы утром отправиться в путь, неожиданно ночью пришёл к нему Феодот и уговорил его остаться.
Не раз старец Феодот делал предсказания, совершенно несогласные с естественным ходом вещей, и предсказания его оправдывались.
Так, послушник Иаков Нестеренко считал себя застрахованным от военной службы, так как отец его был богат и собирался купить для него рекрутскую квитанцию.
Между тем, старец Феодот объявил Иакову, что ему надо готовиться носить красную шапку.
Когда юноша был вызван на призыв из Глинской пустыни тянуть жребий, по дороге он получил известие от отца, что отец разорён в пух и прах пожаром и не может купить для него рекрутской квитанции и поставить наёмщика. Так ему и пришлось служить в солдатах.
Другой послушник тоже считал себя не подлежащим рекрутской повинности, а Феодот, встретившись с ним в кухне, сказал ему, что его скоро возьмут в солдаты, что и случилось.
Одно время думали снять со старца Феодота портрет, и для этого, когда он возвращался со службы, зазвали его в больницу. Старец зашёл. Но он, который обыкновенно сидел на месте спокойно, всё время тут вертелся; то снимал камилавку с головы, то опять надевал ее, переходил с места на место и, спрятанный в комнате живописец, который должен был наскоро набросать черты его лица, не мог ничего сделать.
Старец Илиодор рассказывал, что бывали случаи, когда ангел Божий возбуждал Феодота на молитву.
Достигши преклонных лет, Феодот все еще несет свое послушание на кухне. Но ослабление сил побудило его просить настоятеля, чтобы ему не править должности главного повара. Очевидно, он желал теперь жить в полной сосредоточенности.
Главные поварские обязанности были переданы его помощнику, а старец Феодот сохранил за собою приятную для него обязанность брать огонь от неугасимой лампады перед чудотворной иконой Божией Матери, чтобы этим огнем разводить ночью дрова в печи на братской кухне.
Весною 1859 года, вследствие крайнего изнеможения своего, старец Феодот перепросился на монастырскую пасеку. В тесной келье на соломе оканчивал он свою трудовую и скорбную жизнь. Почитавшие его иноки часто ходили к нему.
Когда, седьмого июля, один из числа братии, вслух при нем говоривший о близости его конца, спросил его, когда он умрет, — старец, посчитав по пальцам, ответил, что в следующий четверг. Это было за десять дней до его действительной кончины. Указанный им четверг приходился на шестнадцатое июля.
Старец был особорован, несколько раз приобщен и пострижен в схиму, сменив монашеское имя Феодота, нареченное ему при пострижении его, когда он вернулся в пустынь с родины с новыми документами — на первое мирское его имя, Феодосий.
Тихо и спокойно лежал старец шестнадцатого июля в назначенный им четверг на полу, смотря на икону Спасителя. С ним было несколько человек братии. В четыре часа утра он с трудом поднял руку, перекрестился и с радостным лицом, уснув, как невинный младенец, предал свой чистый и правый дух Господу своему.
В это время монах доброй жизни, пономарь Досифей, запирал после утрени церковь. Вдруг послышалось чудное пение. Он стал прислушиваться. Пение разливалось в воздухе над пасекой и, медленно подымаясь поверх леса к небу, постепенно затихало и, наконец, совсем истаяло.
Медленно шел восхищенный Досифей в свою келью, еще продолжая прислушиваться в уме своем к замолкшим звукам. Ему встретилось несколько человек братии, и он рассказал им о слышанном им пении. Его стали расспрашивать, откуда он слышал его.
— С пасеки. Верно, что Игумен сам отходную пел по старце Феодоте, а пение то поверх леса разлилось…
Но это было не так. Отходная была отпета в восемь часов, а Феодот скончался в четыре.
Досифею слышалось небесное пение.
Иаков, архиепископ Нижегородский, родился четвертого апреля 1792 года. В крещении он наречен Иосифом, в честь преподобного Иосифа-песнописца. Отец его, Иван Афанасьевич Вечерков, был диаконом Владимирской церкви в слободе Серебрянке, Новооскольского уезда, Курской епархии. Он скончался в преклонных летах, когда сын его, Иосиф, кончил курс учения в семинарии и был учителем.
Диакон Иосиф был человек жизни воздержной и трезвой. Хмельных напитков он никогда не брал и в рот, и пищу принимал в меру, по-иночески. Вместе с суровой жизнью он отличался чрезвычайной деятельностью: никогда без крайней нужды — он не опускал ни службе, ни церковных треб; письменную церковную отчетность он вел с чрезвычайною тщательностью и за себя, и за других.
Эти добрые качества: трудолюбие, добросовестность и исполнительность в труде — перешли и к сыну диакона, Иосифу. Иосиф был старший. После него следовали два брата, из которых один, Василий, был священником в городе Новом Осколе и умер в 1845 году, а другой — Феодор — жил при старшем своем брате и умер в Екатеринославе, при окончании семинарского курса.
Мальчик Иосиф получал первоначальное домашнее воспитание в духе христианского благочестия, под присмотром отца и матери своей, Матроны Петровны. Он всегда с сочувствием вспоминал о своем детстве и благодарил Бога за то, что родился от таких добрых и благочестивых родителей, «примером своей богобоязненной жизни много сделавших ему пользы».
Способности его к учению обнаружились рано. На двенадцатом году он был записан обучаться в белгородскую семинарию. Десять лет учился он тут и все время был в числе лучших учеников. Отличаясь любовью к занятиям, он всегда избегал общества праздных товарищей, даже когда ездил на вакационное время к отцу, домой. Тогда уже он отличался также наклонностью к постничеству и принимал пищу сообразно монастырскому уставу.
Начальство обратило внимание на этого способного, прилежного и скромного ученика. Особенно отличал его местный архиепископ Феоктист (архиепископ Феоктист, управлявший Курской епархией с 1787 до 1814 года). По окончании, в 1814 году, семинарских наук, Иосиф Вечерков определен был преосвященным Феоктистом учителем сперва математики и немецкого языка, а затем — в класс поэзии и риторики. Необходимость заместить преподавателя этих предметов послужила причиною тому, что он, при своих редких способностях и блестящем окончании курса, не был послан в духовную академию и оставлен на несколько времени учителем.
Но жажда познаний была в нем так велика, что, похоронив своих родителей, он, в двадцатичетырехлетнем возрасте, на свой собственный счет, отправился в Петербург и поступил в духовную академию. Время в академии было, кроме усиленных занятий, посвящено им также и приготовлению к монашеству.
Тут началась в нем внутренняя духовная жизнь. Он сам вспоминал впоследствии:
«В 1816 году я поехал в Петербург с познаниями школьными, естественными, но без познаний духовных, облагодатствованных. Знакомство с одним из слушавших науки в петербургской духовной академии, по имени Яковом Дмитриевичем Поповым, впоследствии архиепископом Иринархом, познакомило меня с вещами духовными. Его строгая жизнь, занятия постоянные, но без напряжения, молчание, сопровождаемое признаками глубокомыслия, целомудрие во взорах, скромность в словах, смирение в походке, благочестие без лицемерия, назидательность в разговорах — возбудили во мне душевное расположение к сему человеку… Достоинство его беседы увеличивалось в очах моих, когда я стал внимательнее читать Священное Писание и сочинения духовные. Скоро я удостоверился, что знакомец мой все, что ни говорил, говорил с основанием. Сладко было читать мне Священное Писание, сладко было молиться, сладко было предаваться богомыслию. Святейшее имя Иисуса Христа свободно было произносимо внутри сердца, возбуждало слезы умиления и сожаления о грехах. Не хотелось и тягостно было читать книги не духовного содержания; разговоры светские были не по сердцу, а духовные восхищали душу и даже просветляли лицо. Воздержание много сему помогало. Я чувствовал всю цену трезвости. Но сим я не восхищался, зная, что одни чувствования и мысли благочестивые не составляют еще христианства. Дел же у себя никаких добрых не находил; об искушениях или испытаниях на пути духовной жизни и понятия не имел. Мне тогда был двадцать восьмой год. До тридцать второго года мне было хорошо; только по разлуке с означенным знакомцем я чувствовал нужду в собеседнике единодушном. Я встречал людей, любящих духовное, но не мог сладить с ними дух мой. Знающие духовное, не примечая во мне твердых оснований дела Божия, были для меня скрытны и тяготили меня сим; незнающие обнаруживали часто излишнее удовольствие слушать меня и тем возбуждали во мне самолюбие и гордость. Неприметно я получил вкус говорить более всех, и мне было скучно, когда не я учил, а замечал, что меня учат. Впрочем, мне всегда желательно было иметь собеседника о духовных вещах. Много помогали книги, каковы сочинения Димитрия Ростовского, Иоанна Златоустого, Фенелона[2] и другие. Но всегда обещал себе более успехов и в житии и в ведении духовном от собеседования. И, действительно, когда встречались случаи поговорить с кем-либо, тогда было мне весело, и путь духовный казался сладостным, легким».
Этот отрывок замечателен тем, что с большою ясностью рисует начало духовной жизни молодой души, созданной для переживания религиозных восторгов. Несмотря на внутреннее свое расположение к иноческой жизни, Иосиф не решался еще принять иноческий сан и испытывал себя.
Только когда он кончил полный курс академического учения и стал кандидатом с правом получения через два года степени магистра, только тогда он подал прошение о пострижении в монашество, которое и было совершено в Александро-Невской лавре, двадцать второго августа 1819 года. Ему шел тогда двадцать восьмой год. На другой день он был рукоположен в иеродиаконы. Имя в постриге он получил Иакова, в честь апостола Иакова брата Господня.
Вслед за тем, он был назначен в Орловскую семинарию, находившуюся тогда в городе Севске, инспектором и учителем церковной истории и еврейского языка.
Предшественником его по этой должности был его духовный собеседник, бывший студент Попов, теперь отец Иринарх. Через три года отец Иаков переведен из Севска в Екатеринослав, на должность ректора семинарии.
Пятилетнее пребывание отца Иакова в городе Севске не осталось для него бесплодным. Здесь явным образом начала развиваться в нем благочестивая духовная настроенность. Он часто вел беседы о духовных вопросах и о сокровенной внутренней жизни с наставниками семинарии.
Главным удовольствием его были тихие прогулки, наслаждения красотами природы, ночною тишиною и звездным ясным небом.
Его внутреннему настроению соответствовало, как нельзя больше, самое пустынное местоположение севской семинарии, окруженной рощами. Как это обыкновенно бывает с людьми, расположенными к подвижничеству, — от красоты земной, пораженный ею дух отца Иакова возносился к красоте небесной. В красоте и мудром настроении природы он чувствовал руку Создателя и прославлял Его. Часто он уединялся в какую-нибудь из окрестных обителей, а одно лето посетил Киево-Печерскую лавру.
В Екатеринославе, кроме обязанностей по семинарии, он был настоятелем Григорьевского Бизюкова монастыря, находящегося при Днепре, в пятнадцати верстах от заштатного города Бериславля.
Время в Екатеринославе не было счастливым для него. За эти девять лет он видел много неприятностей: в семинарии были большие неустройства и скудость в содержании. Несмотря на сочувствие местного архиепископа Гавриила, он не мог привести в исполнение всех своих предположений об улучшении семинарии. И опять главным утешением его служили красоты природы. Всегда занятый чем-нибудь серьезным, он не оставлял вниманием ни одного встречавшегося ему памятника, сколько-нибудь важного в истории или археологии, ни одного замечательного события. Когда им овладевала душевная тоска, он читал беседы святых отцов, особенно беседы Макария Египетского. Вот — пример того, как этот великий аскет действовал на тоскующего инока. Под декабрь 1825 года он пишет в своем дневнике:
«Развлечение мыслей усилилось, уныние начало появляться в душе, несмотря на то, что читаемы были сочинения Макария Египетского. Надобно было оставить чтение и заняться легким размышлением, веселящим душу. По появлении различных мыслей неутешительных, вдруг представилась в мыслях птичка, безмолвно сидящая на ветви в тени, но с веселием взирающая на тихий весенний свет, освещающий вокруг находящиеся предметы. Птичка не в свете, но радуется о других, находящихся в свете. Сладко и из-под собственной душевной тени взирать на тихий свет благодати, сияющий в сердцах других избранных Божиих. Чтение Макариевых сочинений не предотвратило уныния и расслабления; но мысленный взор на свет благодати, постоянно сиявший в сердце Макария, развеселил мою душу и укрепил мысль. Господи, слава Тебе»
Пребывание отца Иакова в Екатеринославе завершилось вызовом на 1832 год в Петербург, на череду священнослужения и проповеди слова Божия. В то время этот вызов считался непосредственной ступенью к архиерейству.
Действительно, в этом году первый из архиереев недавно учрежденной Саратовской кафедры был переведен в экзархи Грузии, и на его место назначен архимандрит Иаков.
Рукоположен он был двадцать седьмого марта, в Казанском соборе. Саратовской епархией преосвященный Иаков управлял пятнадцать лет, причем — главное его внимание было обращено на искоренение раскола.
Преосвященный, при обозрении епархии, особенно прилежно посещал те места, где гнездились раскольники. Ознакомившись с их духом, он к одним ездил сам и входил с ними в собеседование, а к другим посылал опытных миссионеров.
Некоторых ему удалось склонить к единоверию, и он исходатайствовал разрешение строить в своей епархии единоверческие храмы. Для того, чтобы поражать раскольников их собственным оружием, он выписывал и собирал и в других епархиях древние старопечатные книги, различные записи и снимки с древних вещей. Он, увещая раскольников и наедине и в собраниях, писал и письменные увещания и собирал в ближайшую свою заботу тех, кто обращался в православие.
В деятельности своей он имел поддержку в лице великого московского подвижника, митрополита Филарета, который никогда не оставлял его без совета и наставления. Московский Филарет то утешал епископа в его неприятностях, то разделял с ним чувства духовной радости.
В обращении своем с раскольниками епископ Иаков был ласков и любообилен, всегда старался найти в мыслях их что-нибудь доброе, согласное с учением Церкви. Между прочим — он знал, как много ценят старообрядцы наружное, строгое поведение и, идя в этом отношении им навстречу, вел себя так, что они были им удивлены и видели в нем истинного представителя Церкви Христовой.
Епископ Иаков много заботился о семинарии, постоянно посещал ее, часто беседовал с учениками. В семинарскую библиотеку он передавал за своею подписью каждую почти из книг, которые он выписывал и которые ему присылали. А уезжая из Саратова, оставил в семинарии всю свою богатую библиотеку.
При преосвященном Иакове, под его непосредственным присмотром, был возведен в Саратове новый величественный архиерейский дом с крестовою церковью, а под кафедральным собором устроен трехпрестольный храм в напоминание римских катакомб, в которых утвердилась первенствующая Церковь Христова.
При его участии обновлено много раньше выстроенных храмов. Он любил располагать лиц своей паствы к жертве на храмы. Из храмов, при нем воздвигнутых, особенным великолепием отличается Покровская церковь в городе Вольске, построенная гражданином Сапожниковым.
Глубокое взаимное сочувствие связывало преосвященного Иакова с его паствою. Его любили в Саратове все, от мала до велика, и к нему приходили за духовными советами, наслаждаясь его искренней и любообильной беседой. Даже раскольники были расположены к нему, и готовы были слушать его наставления, посещали его и в Саратове и — впоследствии — в Нижнем-Новгороде.
Пятнадцатого января 1847 года последовал приказ о перемещении преосвященного Иакова в Нижний-Новгород. В день последнего служения преосвященного в соборе набралось столько народу, что городское духовенство с трудом могло выйти на середину церкви для совершения молебствия.
Добрая, ясная душа епископа Иакова вылилась в его прощальной трогательной речи к пастве:
«С сожалением разлучаюсь с вами, возлюбленные. Но разлучаюсь телом, а не духом. Пастыри, буду с любовью воспоминать о вашем ревностном служении алтарю Господню, о вашем достойном внимании, братском согласии между собою, о вашей степенной жизни, делающей честь православному духовенству, и о вашей любви ко мне, доказанной на деле.
Пасомые, буду помнить и ставить другим в пример ваше твердое благочестие, ваше усердие к посещению храмов Божиих, вашу благоговейную молитву при церковном богослужении, ваше внимание к проповедыванию слова Божия и ваше христианское радушие и уважение ко мне недостойному. Не забуду всех вас до гроба и за гробом. Буду молиться всемогущему Богу, да процветает между вами православие, да возрастают на нивах сердец ваших богатые плоды добродетели, да будут дни жизни вашей и долги и радостны, да венцы блаженства и вечная слава покроют главы ваши по ту сторону гроба».
Во время этого прощального слова все плакали. После благодарной речи кафедрального протоиерея архиерейский хор умилительно запел песнь старца Симеона: «Ныне отпущаеши раба Твоего», и повторял ее до тех пор, пока последний из богомольцев не получил благословения архипастыря.
По совершении им первой литургии в Нижнем-Новгороде он отслужил литию об упокоении погребенного в соборе думного дворянина Козьмы Минина и сына его Нефедия, чем он утешил нижегородцев, которые глубоко почитают память своего великого гражданина.
Добрая молва предшествовала прибытию преосвященного Иакова в Нижний-Новгород. Всякий надеялся встретить в нем любимые черты. Одни ожидали в нем любителя археологии, другие — поборника православия, третьи — ревнителя о благолепии храмов Божиих, а еще некоторые — ревностного покровителя наук.
В Нижнем-Новгороде внутренняя болезнь, которой страдал еще в Саратове преосвященный, усилилась, и он не мог показать здесь своей прежней неутомимой деятельности. Он как-то писал о себе:
«Я сделался стариком, опираясь на посох, смотрю в землю, приготовляюсь к вечности, выбираю место для могилы, посещаю кладбища и, при содействии Божией благодати, ознакамливаюсь со сладкою надеждою — найти по ту сторону гроба более жизни, более света, более спокойствия, более радости, нежели нахожу и находил по сию сторону могилы».
В Нижнем он составил скромное духовное завещание, которое подписано было двадцатым мая 1847 года, — день в день за три года до его смерти. К сожалению, это завещание не было оформлено и осталось без исполнения. Но и в Нижнем преосвященный потрудил. Осмотрел все нижегородские церкви с их древними памятниками. Если где находил рукописи или древние книги, брал к себе в дом для прочтения и рассмотрения. В древнем Печерском монастыре он открыл до тысячи столбцов, то есть древних письменных свитков, роздал их для переписки, а подлинники затем отослал в Петербург, в археографическую комиссию.
Со всех сторон, по его распоряжению, ему были присылаемы нижегородские древности. Он вызывал людей, способных справиться с задачей составления описания достопримечательностей Нижегородского края. Раньше он выслал Географическому обществу много сведений о Саратовской епархии; теперь продолжал посылать их из Нижегородской. Часто преосвященный из отрывочных сведений сам составлял более подробные сведения и описания для этого общества. В знак благодарности к его деятельности, он был избран почетным членом Географического общества. Им была составлена программа и разослана всем протоиереям уездных городов Нижегородской епархии, чтобы они составили описание каждого города и уезда по числу церквей, с отметками местных достопримечательностей. При жизни архипастыря была приведена к окончанию история Нижегородской епархии. Так же ревностно, как и в Саратове, заботился преосвященный о раскольниках. Он посетил в Балахнинском и Семеновском уездах раскольничьи скиты, единоверческие церкви и часовни — твердыни Заволжского раскольничества.
Он входил в дома раскольников, заводил с ними беседы, причем раскольники, ценя его любвеобильное обращение, охотно слушали его и сами приходили к нему в Нижний за советами. Иногда на месте убеждения они обращались к православию и целыми тысячами присоединялись к единоверческой церкви. Так были присоединены разом целые скиты — мужской Керженский, Благовещенский и женский Осиновский. В селе Кетроси после беседы, длившейся всю ночь, с бурмистром Брызгиным, главою раскольников, преосвященный Иаков на другой же день присоединил к единоверию свыше двух с половиною тысяч душ.
Так же, как и в Саратове, сияла в преосвященном Иакове забота о храмоздательстве. Преосвященный получил настоятельство в Нижегородском Печерском монастыре и за три года управления его блестяще обновил храмы и другие монастырские здание и иконы.
Можно было удивляться, как за короткое время много сделал преосвященный Иаков для монастырей без всякого казенного пособия. Страшно крутой съезд в Печерскую обитель, представлявший немало неудобств, он заменил благоустроенным шоссе. В этом монастыре он надеялся провести на покое остающиеся дни жизни.
Столь же много заботы прилагал он к благолепию кафедрального собора. Подобно Саратову, и тут устроил он под собором, где находится гробница великих князей, нижегородских иерархов и гражданина Козьмы Минина, трехпрестольную церковь, чтобы в ней совершались моления об упокоении почивших. Он установил двадцать второго октября крестный ход из собора к памятнику Пожарского и Минина, для совершения торжественной литургии по этим приснопамятным народным вождям.
Он возобновил и украсил надгробный памятник над Мининым и устроил среди собора киот для древней византийской иконы Богоматери–Одигитрии, привезенной из Царьграда Дионисием, архиепископом Суздальским, в 1381 году и деталь хранившейся в ризнице. Чтобы расположить людей к пожертвованиям на храмы, он первый клал деньги в основание сбора, наставлял, одобрял, просил, усердно молился за храмоздателей.
Любя просвещение, епископ Иаков повсюду выискивал способных людей, давал им — сообразно с их способностями — разные поучения, награждал деньгами и другими подарками. От его усердного взора не укрывался ни один талант в обширной епархии.
Так, о деятельности крестьянина Самарина из села Катунок, Балахнинского уезда, образцово выделывавшего дубленые овчины, преосвященный сообщил в Петербург Вольноэкономическому обществу, и мастер был награжден серебряною медалью.
Стараясь в учащейся молодежи развить способности к самостоятельному мышлению, он устраивал диспуты — такие собрания, в которых ученики должны были читать свои сочинения и отвечать на возражения против них. Семинаристы при нем, даже в среднем отделении, должны были писать по три проповеди в год и учиться в классе произносить их вслух.
Помимо того, что преосвященный жертвовал в семинарию все решительно книги, которые он покупал, и которые ему присылали, он пожертвовал в библиотеку большое количество монет и камней, легших в основание нумизматического и минералогического кабинетов. Кроме того, он располагал к пожертвованию вещами и инструментами в семинарию состоятельных людей.
Проповедь его лилась так же неустанно, как и в Саратове. Он проповедовал и в соборе, и в тюремном замке, и в приходских церквах, и особенно — в крестовой церкви. Но значительная доля влияния его на паству состояла в его домашних беседах. Как у святителя Тихона Задонского, у епископа Иакова каждый встретившийся предмет служил для назидания, давал повод духовной беседе.
Например, при обозрении епархии в 1849 году, — в селе Вельдеманове, Княгининского уезда, где родился патриарх Никон, преосвященный Иаков сначала совершил панихиду по знаменитом патриархе и потом сказал краткое поучение о том, что всякий, где бы он ни родился, и из какого бы состояния ни происходил, может быть полезен церкви и отечеству.
По совершении литургии в приходских церквах, когда он заезжал в дом к церковному старосте или к другому кому из прихожан, — часто можно было слышать наставления хозяину о благотворительности, благодеяниях Божиих дому его и о том, например, что «в церкви вашей украшены иконы для того, чтобы мы украшали душу свою благолепною красотою, — в церкви вашей горело много свечей для того, чтобы мы ярче горели любовью к Создателю нашему и Искупителю Богу».
В 1849 году, приехавши в Оленинский женский скит, Семеновского уезда, преосвященный Иаков начал говорить предстоявшим старицам:
— Приближаясь к вашему месту, я видел на небе светлую радугу, и почитаю это за лучшее предвещание. Радуга — знамение примирения Бога с человеком и соединения неба с землею. Надеюсь, что это небесное явление, столь радостно сияющее в настоящее время, предвещает ваше соединение с православием, ваше примирение и согласие во всех правилах и уставах святой Церкви. Да будет…
Исполняя завет апостола: «Настой благовременно и безвременно» — епископ Иаков беседовал при посещении церквей, монастырей, общественных заведений, частных домов, и всякому человеку, думающему о спасении души, были невыразимо приятны эти беседы.
Третьего апреля 1849 года преосвященный Иаков был возведен в сан архиепископа, и девятнадцатого ноября того же года вызван на полгода в Петербург, для присутствия в Святейшем Синоде. В нем было видно предчувствие того, что он более в Нижний не вернется.
Прощаясь с братиею Печерского монастыря, он сказал:
— Благодарю вас за молитвы о моем здравии, и прошу молиться обо мне и по смерти моей. Может быть, в последний раз ныне я беседовал с вами.
Прощальную же беседу к пастве своей в кафедральном соборе он закончил словами:
— Любовь моя к вам, где бы я ни находился, неизменна; она всегда и всюду будет сопутствовать мне и услаждать меня; она сойдет со мной в самую могилу.
В пути, как и всегда, преосвященный Иаков нисколько не заботился о себе, ни о пище, ни об удобном ночлеге. Он только спрашивал, хорошо ли устроена его свита и особенно малолетние певчие?
В Москве, остановившись у Московского митрополита Филарета, он объехал московские святыни, поклоняясь мощам угодников и чудотворным иконам. В Петербурге преосвященный Иаков остановился в Малоярославском подворье, и сразу стал чувствовать ослабление своих сил. В лавре, показывая своим спутникам храмы, он говорил:
— В этом храме меня постригали в мантию, а в этом посвящали во иеродиакона и иеромонаха. Да как бы Бог не привел здесь и кости положить.
С марта 1850 года преосвященный, дотоле отправлявший рачительно синодальные и епархиальные дела, стал сильно слабеть. Несмотря на требования докторов, он не хотел нарушить Великого поста. Часто он приобщался. Пока мог стоять на ногах, молился на коленях и лежал ничком на ковре, воздыхая пред Богом.
В первый день Пасхи, не совершая сам утрени, он через силу отслужил в крестовой церкви последнюю литургию, но евангелие читать не мог.
С Пасхи жизнь его стала быстро угасать. Многие, наслышавшись об его подвижнической жизни, посещали его. Он часто повторял окружающим:
— Умру я здесь, — и прибавлял:
— Конечно, я не боюсь смерти.
Еще двадцать лет назад, в болезни, он набросал такие строки:
«Вот, начинается болезнь — слава Тебе, Господи! Вот, болезнь усиливается — слава Тебе, Господи! Вот, может постигнуть смерть — слава Тебе, Господи! Мне еже жити Христос, а еже умрети — приобретение».
Он подал прошение об увольнении от присутствования в Святейшем Синоде и располагал выехать в Новгород и остановиться, для поправления своего здоровья, в Юрьевской обители.
Отпустив большую часть свиты в Нижний, за неделю до кончины он был особорован ночью и затем приобщен. Перед самым концом, когда все уже было готово к отъезду, он пожелал снова исповедаться и приобщиться. Со слезами он просил прощения у всех близких и дальних. Он все повторял никогда не оставляемую им молитву Иисусову. Обратив очи к иконе Богоматери, со словами: «Господи, помилуй», он скончался двадцатого мая 1850 года, в два часа пополудни, на пятьдесят девятом году жизни.
Архиепископ Иаков похоронен в Петербурге, в лаврской Феодоровской церкви, на левой стороне от царских врат, против местной иконы Богоматери. Весть о кончине преосвященного вызвала в епархии его искреннее сожаление.
Преосвященный Иаков является, прежде всего, человеком горячего, искреннего сердца. Некоторые не находили в его беседах письменных и словесных строгого логического порядка. Зато, изливаясь от сердца, он увлекал всех людей с сердцем.
В словах его видна назидательность, ясность, необыкновенно доступные выражения, сравнения и уподобления. Истины, самые отвлеченные, под его пером оказывались доступными людям образованным и необразованным.
Природа перед его светлым взором была зеркалом Провидения, и каждый предмет природы представлял ему соотношение с внутренней жизнью человека. Он не только учил свою паству. Он в жизни своей изображал то, чему учил других. Он так говорит об этом:
«Не каждый, прекрасно описывающий вид нив, покрытых богатою жатвою, может почесться земледельцем. Не каждый, прекрасно говорящий или пишущий о плодах духовной жизни может назваться человеком духовной жизни. Иное дело — описывать труды земледельца, иное дело — производить работы земледельческие. Часто встречаются такие прекрасные описатели земледельческих занятий, которые никогда не несли трудов земледельческой жизни. Нередко лучшие, трудолюбивейшие земледельцы не умеют дельно рассказать о своих занятиях. Нередко трудолюбивейшие и многоуспевшие подвижники духовной жизни не умеют изъяснить дел духовной жизни. Царство Божие не в словесе, но в силе. Духовная жизнь не в слове, но в деле, в трудах, в подвигах тяжких, особенно по началу.
Главными чертами его внутренней жизни была непрестающая память о Боге, постоянное сознание Его великих благодеяний, преданность воле Божией, терпение, кротость и воздержание. Он, можно сказать, не расставался с сладчайшим именем Иисуса Христа, которое у него было и в сердце и на языке всегда.
«Господи Иисусе Христе, — писал он однажды в своих заметках, — Ты все для меня, Ты мой Бог и Благодетель, Ты мой законодатель и сила, исполняющая закон, Ты мой судия и заступник»…
В его внутреннем мире была постоянно нова и чувствительна крестная жертва Господа Иисуса Христа, и память о ней возбуждала в нем чувство смирения и благодарности. Этой благодарностью к Богу он светился неугасимо.
«Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за дарование мне бытия, за рождение меня в христианской вере, за благочестивых родителей, примером своей богобоязненной жизни много мне сделавших пользы, за пречистую Деву Марию, Ходатаицу о спасении рода нашего, за святых угодников Твоих, молящихся за нас, за ангела-хранителя, за общественное богослужение, поддерживающее в нас веру и добродетель, за Св. Писание, за назидательные сочинения, за побуждение к покаянию, за врагов, много нам в жизни делающих пользы, за прикрытие, по многой Твоей милости и премудрости, моих беззаконий и непотребств, за святые таинства, в особенности — за Тело и Кровь Твою, за таинственные благодатные утешения, за надежду получить Царствие небесное и за все блага, Тобою мне дарованные».
Что-то непосредственное, как у ребенка, было в отношениях к Богу:
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, даждь мне дух молитвы. Молиться хочу, но не могу собрать мыслей, не могу сосредоточить внимания на едином предмете молитвы, не могу успокоить возмущающуюся душу, не могу ослабить напряженных и непрестанно в большее напряжение приходящих греховных представлений. Чувствую темноту в душе, тягость на сердце; нет умиления, нет радости, нет слез. Суетные предметы житейских обязанностей и грехи, как стена, стоят под очами моими и препятствуют свободно беседовать с Господом… Вседержителю Боже, пославший некогда Ангела отвалить камень, лежавший на гробе Спасителя Бога нашего, пошли того же Ангела, да отвалит тягость, лежащую на сердце моем… Воскрес Спаситель от гроба, да воскреснут и силы, сокровенные в душе моей, составляющие образ Твой, да воскреснет Сам Христос в нас и поживет. О, Господи, паки повторяю: даждь мне и побуждения, и средства, и силы в молитве, и самую молитву».
С глубокою верою, с сокрушенным сердцем, с благоговением безграничным приступая к совершению литургии, он так мыслил о том высшем счастье священнослужителя в высочайшую минуту, какую переживает на земле человеческая душа:
«Что мы делаем, когда совершаем Божественную литургию? Мы вспоминаем, олицетворяем уничиженное и прославленное состояние Иисуса Христа, то есть Его воплощение, Его рождение, Его многотрудные подвиги, подъятые в проповедании Евангелия, Его страдания, Его смерть, Его воскресение и вознесение на небо. Совершая литургию, вспоминая о глубочайшем смирении Иисуса Христа, прилично ли носить в душе гордые помышления и терзаться самолюбием? Имея в виду тихий свет закланного Христа на жертвеннике, прилично ли омрачаться тоскою честолюбия? Бог уничижен; а ничтожная тварь дышит гордостью и мечтает о средствах, утучняющих самолюбие. Где нет смирения, там литургия для литургисающего в грех, а не в спасение».
На другой раз он пишет так:
«Приступаю к воспоминанию рождения, жизни, страданий, смерти, воскресения и вознесения на небо Господа Иисуса Христа; приступаю, по милости Божией, к совершению Божественной литургии; приступаю к причастию пречистых и животворящих Тайн Тела и Крови Христовых. Страшная минута! Теперь мне должно иметь в мыслях одно святое, одно небесное. Теперь мне должно мыслить о Вифлееме, о Иерусалиме, о Голгофе. Теперь преимущественно мне должно идти по следам Христа, слушать Его учение, видеть Его дела. Теперь мне должно и память, и воображение, и рассудок сосредоточить в одном Христе Спасителе. Теперь мне должно погрузить во Христа ум мой и сердце мое. Теперь мне должно жить Христом, мыслить Христом, желать Христом и, так сказать, преобразиться во Христа».
Он был одним из тех людей, которые учат паству свою, как можно чаще приступать к совершению святых Тайн и к приобщению. Он сравнивает силу причастия с Божественным углем, который тем больше будет согревать внутренний сосуд духа нашего, чем чаще будем раздувать его.
Ревность о славе Божией внушала преосвященному Иакову его заботу о постройке и украшении храмов. Но особенно ярко проявлялась она в обращении иноверцев и других отпавших детей церкви. Он радовался неизреченно, когда узнавал о присоединении их и о распространении Церкви Христовой.
Сохранилась его речь, говоренная им графу Потоцкому по случаю присоединения его из католичества в православие.
Преосвященный Иаков отличался глубокой преданностью воле Божией. Благодушествовал ли он в мире, терпел ли искушения, — всюду он ясно чувствовал Божию Десницу, которая все устраивает к лучшему. В страданиях последних лет своей жизни, во всяких случавшихся неприятностях постоянно говорил: «Так Богу угодно» — и на этой мысли успокаивалось его сердце.
И эта преданность воле Божией выработала в нем его великое терпение. Любимым обращением его к мирянам и к каждому было слово: «Спасайся» или «спасайтесь».
Кроток преосвященный Иаков был до такой степени, что всякое оскорбление, даже от подчиненных, он переносил спокойно и никогда не чувствовал обид, ему причиненных. Его великое спокойствие и кротость выработали в нем его суровость к себе и воздержание. Он даже не пил чаю, и употреблял вместо чая иногда чашку, другую сушеной малины у себя и в людях, а вечернюю жажду утолял зимой и летом яблоками.
Трапеза его была скудна. По средам и пятницам он довольствовался сухоядением, а в первую и страстную неделю поста, а также одну неделю поста Успенского — он вовсе не принимал пищи, ударяясь на это время в монастырь. Вот, с какими чувствами проводил он посты:
«Наступило время святого поста. Отдохни, успокойся, душа моя, не только от дел сатанинских, и от дел, страстями производимых, но и от дел невинноземных. Успокойся, утихни, войди в себя, собери в недра свои твои мысли и чувствования, затворись в себе и попусти единому страшному и возлюбленному, грозному и благому, правосудному и милосердному Богу действовать в тебе, очищать тебя, освящать и вдыхать в тебя Божественные силы, могущие укрепить на будущие богоугодные подвиги. Успокойся, отдохни. Земля, отдыхая от рала, по естеству втягивает в себя и накопляет растительные силы; а душа успокоенная привлекает к себе благодать через молитву».
О достоинстве же поста который он называл духовным хлебом он рассуждал так:
«Душа со смирением и с благодарением ко Господу, насытившись сим хлебом, обрадованная входит мысленно в сообщество с ангелами, с Самим Богом, охотно, свободно воспевает там внутреннюю молитву и, как веселая птица, реет по таинственному вертограду Господню. Господи Иисусе Христе, постившийся сорок дней и сорок нощей, научи нас поститься святым постом!»
Но с этим постом преосвященный Иаков соединял и воздержание душевное, то есть величайшее смирение. То, чем полна была его душа, что скрашивало его жизнь, что давало ему эти мысли, эти одушевлявшие его чувства, он старался перелить в свою паству, пользуясь всяким случаем, чтобы в воодушевленном потоке беседы своей наставить лиц, с которыми говорил лицом к лицу или с которыми говорил письменно.
Он учил их о счастье духовной жизни, он давал им расположение к той клети духовного самоуглубления, ко внутренней жизни во Христе, которую он повел с сознательных лет своих, и которая ему самому дала такое счастье. Только человек, живший самою высокою духовною жизнью, только человек, на деле ощущавший приход к душе его возлюбленного Христа, мог начертать такие строки:
«Вы теперь в уединении; поздравляю вас; пользуйтесь благами уединения. Среди тишины уединения потихоньку, исподволь, приближайтесь к Богу, ищите Христа Спасителя умом и сердцем, преклоняйтесь пред Ним, плачьте, говорите Ему, что без Его помощи вы не можете ничего доброго ни сделать, ни сказать, ни помыслить, что с Ним-то уединение и благотворно и чудотворно. Спаситель любит уединение и живущих в уединении. Он скоро услышит ваше прошение, посетит вас и даст вам почувствовать пользу уединения. Христос с вами. Матерь Божия, особенная ваша Покровительница, да будет к вам всегда такова, какова была. — Вы дочь Ее, а Она ваша Мать».
Так жил он сам. К этому он вел и свою паству.
Игумен Антоний
(настоятель Малоярославецкого Николаевского монастыря)
Глава I
Бывают иногда люди, в присутствии которых вы чувствуете какое-то удивительное успокоение духа, какой-то мир душевный. Даже если вы не слышите от них никаких слов, но самое то, что они присутствуют тут, рядом с вами, вам доставляет великую отраду.
Иногда эти люди во многом уступают в дарованиях своих другим вашим знакомым, которые — однако — не производят в вас ни малой доли того духовного, высокого впечатления, как те, с которыми вам так хорошо. В этих отрадных людях есть одна тайна, — тайна души, нашедшей Бога, содержащей Господню благодать и разливающей вокруг себя эти лучи.
Таким отрадным человеком был тихий старец Антоний, игумен Малоярославецкого монастыря, Калужской епархии, ставший более известным среди лиц, дорожащих подвижничеством, в те годы, когда он жил на покое в Оптиной пустыни, где брат его, незабвенный архимандрит Моисей, был настоятелем.
Игумен Антоний, кажется, не имел тех организаторских способностей, какие бы были даны его брату, первоначальнику знаменитого скита Оптиной пустыни. Но в нем была та же задушевность и то же великое смирение. В Оптиной пустыни имеют основание думать, что игумен Антоний, как и брат его, архимандрит Моисей, почивает нетленно. И если поучительна жизнь старца в эпоху его подвижничества, то не менее интересны и годы его детства и юности, как яркий пример того, чем была жизнь благочестивой молодежи в начале прошлого века, в грамотных и более или менее состоятельных слоях русского простонародья.
Подробности детства игумена Антония известны благодаря оставшимся его собственноручным воспоминаниям, которые им озаглавлены так: «Келейные записки игумена Антония для памяти о минувшем своем житье-бытье, младенчестве и отрочестве, то есть когда, в каком месте родился, кто были его родители и предки и где учились и чему учились и прочее, и прочее».
Отец Антоний, в миру Александр Иванович Путилов, родился в городе Романове, Ярославской губернии, девятого марта 1795 года, на память свв. четыредесяти великомучеников, пострадавших в Севастии, в пятницу крестопоклонной недели Великого поста, во время литургии преждеосвященных даров.
Родителями его были серпуховский гражданин Иван Григорьевич Путилов и жена его, Анна Ивановна. Восприемниками от купели младенца был родной его одиннадцатилетний брат, Кирилл Иванович, и родная сестра, шестнадцатилетняя девица, Анисья Ивановна. Родился он болезненным. Отец его был записан в купцы города Серпухова, Московской губернии. А дед и прадед его были монастырскими крестьянами того же Серпуховского уезда, принадлежавшими к Высоцко-Серпуховскому монастырю, и — при всей честности своей — жили весьма скудно.
Отец его, представлявший собою тип цельного и набожного русского человека прежнего старого времени, с крепким характером, который часто болезненно ощущался окружающими, остался сиротою десяти лет от роду с сестрою, на десять лет его старшею, младшим братом и матерью. Платить ему за учение свое было нечем, и он немного поучился бесплатно в Высоцком монастыре, у слепого старца иеродиакона Иоиля. Писать научился он самоучкою уже взрослым, на свободе от дела, или урывками между делом. Сирота был отдан матерью на полотняную фабрику к фабриканту Кишкину в работники, разматывать пряжу. Дешево ценился такой труд. Мальчик получал по три деньги в неделю или по полушке в день. (Теперь нищий станет вас ругать, если вы ему протянете в милостыню полушку). Но, говоря об этой плате, отец игумен Антоний замечает, что, несмотря на ее ничтожность, она имела в то время значение, так как все припасы и продукты отличались неимоверною дешевизною и деньги тогда считались не рублями, а алтынами (нынешние три копейки). Однако — и при тогдашней дешевизне мальчику приходилось так тяжело от своей скудости, что в один праздничный день он уединился в загородную монастырскую рощу и в мыслях о своем горьком сиротстве, скудости и беспомощности долго плакал, молясь Богу и со слезами прося Его о помощи, заступлении, вразумлении и утешении. И после этой долгой и слезной молитвы он почувствовал на душе мир; его судьба представилась ему не в таком уже мрачном виде, и он стал терпеливо переносить свой жребий.
На полотняной фабрике, за очень ничтожную плату, он работал год или полтора. Потом он перешел в услужение по питейным сборам и при этом деле находился в разных городах до самой своей кончины, повышаясь постепенно по службе и соответственно получая больше жалованья. Сперва он служил в этом деле бесплатно, получая только платье, обувь и харчи, потом ему стали платить сперва по полтине в месяц, далее — по рублю, по полтора, по три, по десяти и т. д.
При рождении у него сына Александра отец его получал — будучи сорока трех лет от роду, по двести рублей в год. И денег этих хватало ему на содержание всего семейства, которое состояло из шести человек детей, бабушки и других разных лиц.
Так называемыми «безгрешными» доходами Путилов никогда не пользовался, считая это для себя, — как говорить его сын, — «низостью и воровством». Поэтому, за свои пятьдесят лет работы капитала он себе не составил, а приобрел только имя честного бескорыстного человека. За его добрую службу хозяева постепенно продолжали возвышать ему жалованье до трехсот, пятисот, семисот и, наконец, возвысили до тысячи девятисот рублей в год — последний оклад его жалованья в жизни.
Женился Путилов двадцати трех лет на Анне Ивановне, на полтора месяца его старшей, происходившей из высоцкой же монастырской слободы. Вскоре после свадьбы молодые переехали жить в Воронеж. И тут Путилов, однажды, удостоился быть в келье у великого святителя Тихона, епископа Воронежского, чтобы принять от него благословение.
Всех детей у Путилова было десятеро, из которых четыре умерли в младенчестве. Пять сыновей достигли старости, а старшая дочь, Анисья, скончалась в молодости.
Путилов был — в истинном слове — православный христианин. Он соблюдал все правила святой Христовой Церкви, хранил строго все святые посты, в среды и пятницы всего года он постничал. И во все воскресенья и праздничные дни ходил к литургии и водил всегда с собою детей.
По древнему обычаю, он своим новорожденным детям давал имя, согласно с правилами Церкви, — имя святого, празднуемого в восьмой день по рождении, которое случится. Когда всякому из его детей исполнялось семь лет, он начинал учить ребенка самолично грамоте, — чтению и письму. В училище он ни одного сына не отдавал, не потому, что не желал видеть их образованными, но опасался, что от недосмотра учителей и от дурного товарищества не привилось бы к детям его чего-нибудь дурного и не испортилась бы их нравственность. И когда он уходил из дому на службу, то говорил своей жене:
— Смотри, мать, за детьми, чтобы они учились, а не резвились бы попусту!
Отправляясь в праздники и в воскресные дни в церковь, отец брал всегда с собою всех своих пятерых сыновей. Дети шли все вместе впереди его скромно, не смея оглядываться, и в церкви стояли перед ним таким же образом. Отец требовал от детей, чтобы они внимательно слушали чтение Апостола и Евангелия, и по возвращении домой — они должны были пересказать ему слышанное. Во время служб отец становился на клирос и пел, так как хорошо знал все церковные напевы и имел приятный голос. Становились на клиросе и его дети, стройно подпевая.
У себя дома Путилов тоже, нередко, занимался церковным пением, в особенности же — в праздничные дни. В эти дни, после обеда и отдыха, он любил петь духовные псалмы, — например, на слова: «Господи, кто обитает в живущ Твоем», «О, горе мне — грешному сущу, горе-благих дел не имущу», «Иисусе прелюбезный, сердцу сладосте», и другие. Пение у Путилова с детьми выходило стройное, одушевленное. Многие проходившие останавливались у дома, под окнами, и слушали. А прохожих бывало немало, так как Путиловы жили на главной улице. Светских песен отец детям в своем присутствии не дозволял петь.
Отраден был вид этого русского человека с почтенною наружностью; хорошего роста, с открытым благородным лицом, с почтительным и приветливым со всеми людьми обхождением, с какой-то привлекательностью во всем существе. Он был умен и начитан в Священном Писании, в церковной истории и житиях святых и во многих исторических сочинениях.
Он имел отличную память и умел со всеми приятно и кстати поговорить. С духовными лицами он рассуждал о духовных предметах, с купцами — о купеческих делах, с отставными военными — о походах и сражениях Суворова, с мужиками — о сельских работах. С отцами он говорил о воспитании детей в страхе Божием, с молодежью — об опасности разгульной жизни, с женами толковал о взаимном согласии в семье. Все его разговоры были назидательны и приятны.
Он часто, для подтверждения своей речи, приводил места из Священного Писания. При серьезности своей, он любил невинные шуточки и знал много скромных анекдотов. Был, вообще, характера веселого, но не позволял себе ни над кем смеяться. При всем том, он отличался радушием и гостеприимством и был хлебосолен. Кто бы ни постил его за обедом, он всякого убеждал присесть за собой за стол простого мужичка, солдата или даже дворового человека.
За все эти качества в тех городах, где он живал, его все любили. Сам же он особенно искал общества духовных лиц, которые чаще всего посещали его дом.
Таким же отрадным явлением несложной тогдашней русской жизни была супруга его, Анна Ивановна. До замужества она воспитывалась в доме родителей, занималась по домашнему быту: стряпней и шитьем белья и носильного платья. Грамоте она не знала, но была благочестива и усердна к молитве, и с семилетнего возраста она почти ежедневно ходила к обедне в Высоцкий монастырь, который стоял близко от их дома.
Тут жил в то время ее родной дедушка, иеромонах Иоиль, глубокий старец праведной жизни, отец ее матери. Отправляясь к обедне, она часто заходила в келью к дедушке и приносила ему от ее матери когда — ломтик мягкого хлеба, когда — печеное яйцо, когда — молочка и небольшую булочку. Дедушка, благодаря девочку, обещал всякий раз ее наградить.
— Чем вы меня наградите? — опрашивает ребенок.
— У меня, — отвечал дедушка, — приготовлено очень много сокровищ».
— Где сокровища ваши? — спрашивает она. — «Ведь, у вас в келье и сундучка нет!»
А дедушка отвечает, что сокровище его лежит под сопрестолом Божиим. Так намекал на даяние в вечной жизни, где и за чашу студеной воды обещана обильная награда. А может быть старец предрекал ей этими словами ее счастливую брачную жизнь и то, что из числа ее детей три сына ее поступят в монашество и будут настоятелями монастырей.
За все тридцатипятилетие брачной жизни Анна Ивановна показала себя — в полном смысле слова — усердной помощницей и послушной женой своему мужу. Они жили так согласно, ни в чем ни разу не расходясь, что хотя, вообще, в то время узы брака были очень крепки, — многие на них удивлялись.
С самого начала вступления своего в брачную жизнь и до кончины Анна Ивановна занималась в доме хозяйством. И тогда, когда она имела наемную прислугу, она лично стряпала, пекла хлебы, приготовляла вкусные квасы и бражки, всегда сама покупала все до мелочных припасов, а годовые запасы для ее дома всегда делал ее муж.
При всех этих занятиях и смотрении за детьми, Анна Ивановна почти ежедневно ходила к обедне, а по ночам дома всегда усердно и продолжительно молилась. Дети в свое время заметили это, и позже оценили и стали подражать ей. Так, без слов, она пробудила в них рвение к ночной, угодной Богу, молитве.
Анна Ивановна от юности до старости любила бедных, — как говорили тогда «нищую братию Христову». По возможности, она всегда благотворила им и явно, и тайно, и от покупок для дома оставляла по нескольку гривен, а иногда и рублей, с согласия мужа, и этими деньгами оделяла нищих и убогих.
Она была скромна и не увлекалась похвалами, которые слышала себе. Как-то раз стали при ней хвалить ее за воспитание детей, что она им привила такую вежливость и скромность, а она в ответ:
— Слава Богу, дети у меня ничего себе; но, к сожалению, до хороших далече еще не дошли.
Когда Александру было два года, отец его из Романова перебрался с семьей в Пошехонье и здесь схоронил свою мать, безграмотную и очень добрую старушку. Внуки во всю жизнь свою вспоминали с благодарностью, как она нянчилась с ними и занимала их своими разговорами и рассказами, среди которых были басни и сказочки собственного сочинения, например, о птичках: что они делают утром, что днем и что вечером. Утром, проснувшись рано, все они поют и прославляют Бога. После того все они разлетаются на промысел, кто куда. И когда что заметит одна, другой пересказывает. Например, одна птичка говорит:
— Я была в такой-то деревне и видела одну мать, которая плеткой наказывала шаловливого сына.
А другая в ответ:
— А я в таком-то селе видела, как мать своего умненького сынка ласкала, лакомила пряничками и обещала ему сшить обновку.
К этим рассказам птички бабушка, бывало, прибавить:
— Вот, вы, детки, должны встать утром рано, молиться Богу, быть послушными и умными, и тогда вас будут ласкать и лакомить. А будете вы упрямы и плохо себя вести, то мать попотчует вас плеткой до слез.
Из Пошехонья семья переехала снова в Романов, и среди впечатлений этих годов отец Антоний вспоминал впоследствии:
«Я в то время имел необыкновенно тонкий слух, так что каждую ночь просыпался при первом ударе в колокол к утрени, и будил к оной родителей и братьев своих, говоря: «дон-дон. Ангелы поют, вставай молиться», — что продолжалось несколько месяцев. Но когда увидел, что некоторые братья стали сердиться на меня за сие и не стали вставать, — то и я, смотря на них, стал пренебрегать и, подобно им, погружаться в сон и спать без просыпу всю ночь. А с первого дня святой Пасхи Христовой стал я ходить всегда к обедне, когда бывала служба, без проводника, и всегда становился во святом алтаре, где священник меня ласкал и, чтобы я не устал, сажал меня на окошко, и давал мне — когда антидор, когда просфору, и тем приучил меня всегда приходить к службе.
И если замечал я, когда кто подходил к приобщению Св. Таин, то и я тогда подходил, и он меня приобщал. А однажды случилось, что когда я подошел к священнику и стал просить себе просфоры, священник вздумал меня просить:
— Что, брат, не позавтракал ли ты?
И я таковым вопросом его обиделся и ушел из церкви домой и, пришедши, жаловался родителю своему на обиду священника:
— Тятенька, я стал просить у попа: пожалуйте мне просфорочку, а он мне сказал: «что, брат, не позавтракал ли ты?» Какая ему нужда спрашивать о сем? Когда просят, должен он давать, а не спрашивать! (И только что окончил я жалобу свою, как и священник приходит к нам в дом с просфорой мириться со мной. Из этого случая открылись во мне в первый раз капризы, от которых в следующее время сохрани меня, Господи!»
Александр рос ребенком бледным, болезненным и до тринадцатилeтнего возраста вынес столько недугов, что впоследствии говорил:
— Другой и в сто лет столько не бывал болен, как я в тринадцать. То, что он, при простоте тогдашней медицинской помощи в провинции, остался жить, — показывает, что он был отмечен уже Божиим перстом, как показывают это также и многочисленные опасности, из которых он выходил невредимым.
Так, маленьким мальчиком, он однажды, на берегу реки, увязавшись за матерью, стал собирать и класть в подол себе маленькие камешки и раковинки. Потом, нагнувшись, хотел достать камешки из воды и упал головою в воду. Мать, бывшая на берегу, успела схватить его за рубашку и вытащить.
Другой раз мальчики его возраста и немного постарше завели его на пустырь, где росла крапива, репейник и белена и накормили его беленой, приговаривая:
— Ешь, брат, это мак!
Он от отравы заболел, и его еле отпоили парным молоком. В пять лет мальчику пришлось высказать свое намерение быть духовным. Во время литургии он всегда становился в алтаре. Как-то вспоминает он:
«Приласкавши меня, родитель мой спрашивал: «К чему мне тебя готовить? То есть к какому занятию: к торговле, или к художеству какому, или к службе?» Я отвечаю: «Я, тятенька, хочу в попы». А родитель мне на сие сказал: «В попы, не учась, не ставят; а ты у меня глупенький, ничего не знаешь». А я возразил: «Тятенька, попы в алтаре ничего не делают, только сидят; а читают и поют лишь одни дьячки да диакон».
«Через этот разговор в первый раз открылось во мне желание поступить в духовное звание. И после сего, когда я дома у себя играл с детьми, сверстниками мне, то наряжался попом, то есть вместо епитрахили надевал на шею полотенце, а на плечи платок вросыпь — вместо риз. А вместо кадила я брал мячик, и привязывал к нему шнурок и кадил всех. А когда давали мне пряничек или яблочко, то я разрезывал оные на мелкие кусочки и, положа на тарелочку, раздавал вместо антидора — и благословлял рукою.
В этом возрасте ему пришлось в первый раз сказать неправду. Священник послал его с мешочком пред обедней из церкви к попадье за просфорами. Он, идя дорогой, съел одну теплую просфорку; остальные принес в церковь и подал священнику. Священник выложил просфоры на тарелочку, увидал, что одной недоставало, и сказал ему:
— Ты, брат, одну просфорку, видно, дорогой скушал?
Но мальчик сказал:
— Право, я не кушал.
Всю свою жизнь потом отец Антоний с сокрушением вспоминал об этой первой своей лжи.
Вскоре семья перебралась на жительство в город Углич, и среди детских воспоминаний отец Антоний вспоминает о Пасхе в Угличе.
«В этом году Святая Пасха была очень рано, то есть марта двадцать четвертого дня, и было много снега и очень холодно; потому из зимних теплых церквей в летние холодные церкви не переходили. Мне к празднику этому сшили новый кафтанчик голубого цвета; и я в то время, хотя еще и грамоте не знал, но на клиросе становился, и пел самым тоненьким детским голоском: «Господи, помилуй». Более же всего любил прислуживать причетникам, что подать или куда сходить. И, вот, на мироносицкой неделе начали из теплой церкви переноситься в холодную; и я помогал переносить книги, свечи и кадила. И дали мне нести лампадку с маслом; и я от поспешности за что-то запнулся, упал на пол, и масло все на себя опрокинул и залил свой голубой кафтанчик, и с грустью пошел домой, где родитель за неосторожность меня побранил, и сказал: «Экой ты глупый пономарь, свечи поломал, и масло опрокинул на себя; вот, теперь и ходи в запачканном кафтане». Но родительница меня утешила, сказав, что она залитое вымоет и перешьет, что вскоре и сделала».
«В городе Угличе всех церквей до пятнадцати. Я в храмовые праздники хаживал к святой литургии; ибо очень любил торжественное служение, пение, освещение храма многими свечами, парчевое облачение на священнослужителях. И при каждом крестном ходе, бываемом из собора в приходские храмовые праздники, а равно в крестном ходе и кругом города, всегда хаживал я, не чувствуя усталости».
Саше было восемь лет, когда умерла его старшая сестра Анисья. Она с юности чувствовала явно выраженное духовное настроение, стремилась с сознательных лет в монастырь и почти насильно была выдана замуж. Всего в замужестве она прожила менее четырех лет. Муж же ее после ее смерти отрекся от мира и ушел в Саровскую пустынь.
Через два года совершилось событие, которое должно было произвести сильное впечатление на Сашу.
Его старшие братья, находившиеся в Москве на службе у откупщика, написали отцу письмо. Там они говорили, что отошли от хозяев за невозможностью жить у них, по их строгости и несправедливости. Они говорили, что у них есть на примете хозяин, человек весьма хороший и благочестивых правил. Ему они дали слово поступить к нему в услужение, но прежде решили проехаться в Киев, для поклонения угодникам.
В Москве они сказали родственникам, что едут к отцу, но вместо того они очутились в другом месте. Уже втайне решили они посвятить себя Господу Богу и жить уединенной монашеской жизнью.
Они направили свой путь в Саровскую пустынь и были там приняты послушниками.
Полгода не было от них никакого известия, так что дома сомневались, живы ли они? Наконец, они написали отцу длинное письмо, в котором просили у него прощения в том, что ушли из мира, не спросясь у него, просили также благословения на монашескую жизнь. Отец дал им прощение, но не сразу.
В двенадцатилетнем возрасте, сопровождая своего отца в кочевой его жизни, Александр побывал с ним в Москве и в Троице-Сергиевой лавре, где видел знаменитого митрополита Платона.
«Куда я ни обращал взор в Москве, — рассказывал впоследствии в своих воспоминаниях отец Антоний, — везде встречал новость, в разных видах представлявшуюся». И все-то молодого и неопытного провинциала заставляло удивляться и многому смеяться.
Здоровье старого Путилова умалялось. Чувствуя себя плохо, он, однажды, собрал к себе всех детей и начал говорить им свое завещание, как им жить. Речь свою повел он со слов премудрого Соломона: «Приидите, чада, послушайте мене, страху Господню научу вас».
Отец говорил детям об их обязанностях к Богу, к обществу, к родителям, к себе самим. Уговаривал избегать пороков и зла, любить друг друга и носить взаимно тяготы друг друга.
— Если так будете поступать, — говорил он, — то исполните закон Христов. Худою и порочною жизнью возведете на себя в этой жизни неблагополучие, а в будущей — вечную муку. Смотрите, — говорил он, — на пример отца своего, насколько я был в жизни порочен. За это правосудный Бог наказал болезнью, отнял у меня свободное движение тела, произнесение слов и дыхание.
После этой речи Путилов стал благословлять каждого сына отдельно, возлагая свои руки на их головы и всех перекрестил иконами святых. Сыну своему Кириллу Ивановичу он поручал Александра и брата его Василия и велел во всем его слушаться и любить его, как отца.
От этой болезни отец оправился, но через полгода, на пятьдесят седьмом году жизни, скончался в чувствах покаяния, приобщенный Святых Тайн. Он преставился в самую литургию, когда диакон провозглашал: «Станем добре, станем со страхом, вонмем святое возношение в мире приносить».
На городском кладбище города Мологи, у церкви Всех Святых, близко от алтаря стоит скромный памятник над Иваном Григорьевичем Путиловым. На этом памятнике написаны краткие и выразительные слова о том, что воздвигли памятник Путилова дети: Моисей, архимандрит Оптиной пустыни, Исаия, игумен Саровской пустыни, и Антоний, игумен Малоярославецкого монастыря…
«Се аз и дети мои», — может с дерзновением сказать Путилов на Страшном Суде Христовом и этими своими детьми оправдаться…
Итак, Александр остался после отца четырнадцатилетним. Но сколь уже тогда было в нем глубоко расположение к монашеству, — видно из того, что, распоряжаясь на похоронах отца, Александр утешался тем, что одели покойника в одно черное платье, как бы монаха. Еще в тринадцатилетнем возрасте Александр писал, как-то, братьям своим в Саров:
«Мне очень показалась (то есть понравилась) одна из присланных вами книг, и я одного примера (правила) хочу держаться по этой книге, то есть: презирать мир и идти к небесному царствию есть высочайшая премудрость; в безмолвии и тишине много успевает душа благоговейная, и разумеет тайны Писания. Итак, кто удаляется от мира, к тому приходит Бог со святыми Своими ангелами. Так и я хочу, и желаю быть таковым, как вы теперь находитесь; но не знаю, что делать, а желательно быть таковым же, как вы».
После смерти отца в Мологe, Александр со старшим братом Кириллом переехали в Москву, где он определился в должность комиссионера к откупщику Карпышеву, у которого прежде служили его старшие братья.
Любимым времяпрепровождением Александра в Москве было посещение монастырей. Всего-навсего три года провел он в Москве, но прекрасно изучил за это время московские святыни и даже помнил в старости, где какой храм или чудотворная икона.
Когда настал двенадцатый год, и французы стали подступать к Москве, хозяин Александра выехал из Москвы и оставил братьев Путиловых караулить дом. Александру пришлось пережить все ужасы этого времени в Москве. Неприятельские солдаты отняли у него часы, сняли платье и полунагого погнали за собой. Десять дней он был в плену у французов; должен был переносить с места на место тяжелые ноши из награбленных французами по домам и по лавкам вещей. Хлеба у пленных не было, они питались тухлой рыбой и ели ее, зажимая нос, так как не было иначе возможности ее проглотить. Жизнь им казалась столь тяжела, что и в аду легче.
Наконец, Александр решился бежать. Скрылся ночью из Москвы, спрятался под каким-то мостом и набрел на партию соотечественников, скрывавшихся, подобно ему, от неприятеля… Болотами и оврагами, днем укрываясь в лесах, они пробрались на рязанскую дорогу… И, наконец, Александр явился к родным своим в Ростов в лаптях, лишившись решительно всего, что нажил своими трудами в Москве.
Занесенный таким образом судьбою в Ростов, Александр тут и оставался. Он любил храмы и монастыри этого древнего города. Особенно часто ходил в Яковлевский монастырь, и тут помогал гробовому старцу отцу Амфилохию, мужу высокой подвижнической жизни, поднимать тяжелую крышку от раки святителя Димитрия Ростовского, весившую несколько пудов.
Александр был так осмотрителен в своем поведении, что если встречал женщину, то обходил другой дорогой, чтобы не сталкиваться с ней. Несмотря на укоры родных, он одевался очень просто — хуже, чем мог. Когда по делам службы он объезжал села и деревни, то, куда ни приедет, бывало, сейчас принимался выведывать у народа о благочестивых старушках и богомолках, собирал их и беседовал с ними о духовных предметах. Много лет спустя после того — одна старушка вспоминала поучительные беседы двадцатилетнего юноши.
Так, мало-помалу, приготовлял себя Александр к полному отречению от мира. Сперва он выбрал для старшего брата Василия благочестивую невесту. На свадьбе родные стали уговаривать Александра, что пора зажить семейной жизнью и ему. Он отвечал, что и сам находить нужным избрать другой род жизни, но прежде съездить в Москву, где жила тогда их мать.
Он купил себе лошадь, по вечерам объезжал ростовские монастыри и, останавливаясь у ворот их, усердно молился Господу, Богоматери и святым угодникам, чтобы намерения его исполнились.
Приехавши в Москву, он остановился в отдаленной части города, на Таганке, чтобы не встречаться ни с кем из родных, а по вечерам опять объезжал храмы и монастыри и у входа их усердно молился.
Из Москвы, никем не замеченный, он пробрался в Калугу и, отслужив там благодарственный молебен Богу о благополучном избавлении от тенет мира, направился в рославльские леса, где уже пятый год подвизался его старший брат. Один, без проводников, въехал он в густой дремучий лес. Запутанных лесных дорог он не знал и отдался на волю Божию. После горячей молитвы он опустил вожжи, и лошадь сама подвезла его к пустынной келье его старшего брата.
Глава II
Жизнь рославльских отшельников в первой четверти этого века представляет собою знаменательную и значительную страницу в истории русского подвижничества. Имена их: Варнава, Никита, Иаков, Василиск, Зосима, Адриан, Афанасий и многие другие.
Жили эти подвижники в лесах рославльского помещика Демьяна Михайловича Броневского, в сорока верстах от города Рославля и в пяти верстах от сельца Якимовского, принадлежавшего Броневскому.
С 1811 года в эту отшельническую семью вступил и старший брат Александра Путилова, Тимофей, будущий архимандрит Оптиной пустыни Моисей.
Александр приехал к брату не для того, чтобы остаться у него, а для того, чтобы посоветоваться с ним насчет поступления в ту Саровскую пустынь, где и Тимофей полагал начало иноческой жизни. Но ему так понравилось в лесу, что он решился остаться с братом.
Пятнадцатого января 1816 года его облекли в послушническое платье. Весь запятнанный и заплатанный, короткий подрясник плохой крашенины казался ему драгоценнее порфиры. Осенью, собрав овощи с огорода, оба брата поехали в Киев на богомолье. На возвратном пути были ими посещены известные духовною жизнью иноков и старцами своими Софрониева, Глинская и Площанская пустыни. Ни в одной из этих обителей Александру не захотелось остаться, и он вернулся из Киева на прежнее место.
Так впоследствии вспоминал он: «Приехал я к брату погостить, а прожил у него двадцать четыре года».
Несмотря на то, что ему пришлось вынести в детстве много болезней, он был очень крепок и принял на себя такие подвиги, которые могут показаться невероятными. Поднявшись в полночь, он с братом ежедневно читал вдвоем всю церковную службу по богослужебным книгам, ничего не опуская. Любитель церковного богослужения с детства, он хорошо знал порядок церковной службы, имел особые способности к церковному уставу. Теперь он еще усовершенствовал свои знания, и равного ему уставщика найти было трудно.
Он трудился, переписывая уставы, святоотеческие книги и помог брату составить несколько рукописных сборников, которые содержали в себе в порядке правила монашеской жизни. Сборники эти показывают, как внимательно и разумно братья пользовались творениями святых отцов. Оба они до поздней старости любили духовное чтение, но читали книги и по разным отраслям человеческого знания. Духовные же книги Александр, как и Тимофей, читали всегда по уважению к их содержанию — стоя.
Таким образом, Александр проводил на ногах в сутки около восемнадцати часов, и через несколько лет от этого стояния нажил очень мучительную болезнь, не оставлявшую его до смерти. Сверх этих занятий, Александр с усердием нес и другие послушания. Он исполнял обязанность будильника, для чего должен был вставать раньше других, рубил дрова в лесу и переносил их в келью, занимался и огородом, на котором, вследствие плохой почвы, не выращивалось ничего, кроме репы.
При самой скудной пище, после долгой молитвы со многими поклонами, он так трудился изо дня в день. Рыба появлялась только в великие праздники и даже масло постное полагалось на трапезе очень редко. Хлеб казался недоедавшим инокам сладким и вкусным. А когда один крестьянин, проезжавший по лесу, оставил пустынникам мешок с горохом, они приняли этот мешок с такой радостью, как бы Сам Бог подал им горох.
В большие праздники старцы собирались в келью к отцу Афанасию, на общее келейное богослужение; потом вместе обедали, и иногда подкрепляли силы свои чаем или какой-нибудь сушеною травкою. Но Александр, как самый молодой, и чая не получал. Иногда только позволялось ему допивать жидкий спитой чай, почти одну воду. И эта вода казалась ему слаще, чем другим дорогие цветочные чаи.
На Пасху, на Рождество и на другие великие праздники из ближайшего села, Луги, отстоявшего от них верстах в семи, приходил старый священник, чтобы их приобщать.
В этой суровой жизни они пользовались ненарушимым спокойствием духа. Вокруг келий их всю зиму выли волки, но к этому вою они были так же привычны, как к вою ветра. Случалось, что медведи производили опустошения в их огороде. Но никогда не трогали их самих. Собирался посетить их рославльский исправник, чтобы чем-нибудь от них поживиться, так как они считались богатыми московскими купцами, но, целый день проездив близ них, исправник не мог найти их келий и отъехал от них.
Поступая под руководство своего брата, Александр решился подчиниться ему во всем до конца безусловно. Он так вспоминает об этом своем подчинении:
«Когда разгорелся огонь Божественной любви в моем сердце, тогда все суеты мирские омерзели и богатство опостылело, и так, как птица из сети, или как олень, томимый жаждою, удалился я из Ростова, бегая, и водворился в непроходимой пустыне, с чаянием себе от Господа спасения от малодушия и от обуревания многих грехов. Себя самого отдал я в полное и безвозвратное распоряжение батюшке отцу Моисею, о чем, благодарение Господу Богу, после ни разу не скорбел».
Он так почитал брата, что в его присутствии не позволял себе открывать рта. Однажды при нем старцы беседовали о чем-то, что он знал, и он позволил себе в увлечении произнести несколько слов, но сейчас же опомнился, укорил себя внутренно за свое дерзновение, покраснел и замолчал. Вообще, он за эти годы приобрел великую для монаха способность молчания.
Даже когда он вышел из лесов и жил с братом в Оптиной пустыни, он никогда не разговаривал со странниками, приходившими в монастырь; а когда его кто-нибудь спрашивал о чьей-нибудь келье, то он указывал пальцем, не раскрывая рта. Но эта аскетическая сдержанность не уменьшала любви его к людям.
«Живя в рославльских лесах, бывало, встретишь человека, — рассказывал впоследствии о себе отец Антоний, — как ангелу Божию ему обрадуешься; а ныне, как ни хорошо мне, а того уже нет. Уже нет».
Отец Моисей обходился с братом строго. Проспать, бывало, Александр и не во время разбудить других к полунощнице. Тогда о. Моисей Александра ставил на поклоны. И он так к этому привык, что, — как сам впоследствии рассказывал, — ему приходилось скучать, если подолгу он не слыхал привычного возгласа:
— Ну, братец, становись на поклоны!
Больше всего начало его смирению положила обязанность по нескольку раз в год очищать отхожие места. Кроме того, для удобрения огородов, его часто посылали собирать по проезжим дорогам конский и скотский помет. Сперва это занятие казалось ему крайне унизительным. Как-то раз он стал говорить себе: «сверстники мои теперь считают капиталы, а я, вот, чем должен заниматься». — Но тут же он опомнился и укорил себя за эти мысли.
— Без смирения, — говаривал он впоследствии, — спастись нельзя, а смирению нельзя научиться от одних слов: надо, чтобы кто-нибудь трепал нас и мял.
А все эти лишения были тем труднее, что с молодости Путиловы привыкли к сытой жизни. Об этом отец Антоний вспоминал так:
«Бывало еще спишь, мать уже зовет: «вставай, уже завтрак готов», и пойдешь, одно за другим, разные удовольствия. А тут приходилось питаться одними огородными овощами, или, лучше сказать, одной репой, потому что другого ничего и не росло. Редко когда кто из помещиков пришлет хлеба, то его уже берегли как просфору, чтобы и крошка не пропала».
Однажды им пришлось встретить Пасху так скудно, что у них ничего не было, но они не упали духом. Отпели утреню; с иконами, какие у них были, обошли крестным ходом вокруг кельи, воспевая радостное «Христос воскресе», и утешаясь и радуясь о Господе душою. Когда же пришел час трапезы, то о. Моисей в похлебку из той же репы влил несколько маслица из лампады, и благословил разговляться. Но этим Господь хотел испытать их терпение, потому что на другой же день от соседнего помещика была прислана им провизия.
В этой суровой жизни бывали у молодого отшельника невыразимо высокие, благодатные утешения.
Однажды, в темноте осенней ночи, отец Моисей будит брата и говорит ему:
— Встань-ка, брат; надо посмотреть, нет ли рыбки в неретах. А река была не близко. С словом: «благослови, батюшка» — смиренный послушник встает и отправляется в глухой дремучий лес. Осенняя дождливая полночь, шум деревьев, крик сов — все это сначала наводило на него страх и смущало его. Но послушание превозмогло. Ободрившись, он понудил себя идти вперед, уповая, что молитвами старца будет огражден от всего неприязненного. С молитвою на устах он пошел почти ощупью или по памяти, дошел до назначенного места; в неретах, конечно, ничего не нашел, и пошел обратно в келью. Но уже вместо страха он чувствовал в сердце великую отраду, — и, вдруг, стало пред ним светлеть все более и более. Темная ночь обратилась как бы в ясный день. Потом, через несколько времени, опять потемнело. Но сердце Александра исполнилось такой неизъяснимой радости, какую редко и редкий человек испытывает на земле. В духовном восторге возвратился он к старцу, и поведал ему о виденном, и всю ночь не мог заснуть: ему казалось, что он в раю, — так радовалась его душа.
В другой раз на святую Пасху, когда пропели светлую утреню и часы, послали его одного прогуляться в лесу, — и он в лесном безмолвии, в этот знаменательный день ощущал такое сладостное утешение и духовный восторг, что как будто был не на земле, а на небе.
Однако, от этой суровой жизни несколько раз его тянуло бежать. Раз он даже надел на себя котомку и отошел недалеко от кельи, но вернулся снова. Его твердо удерживали слова Христовы:
«Никтоже возложь руку свою на рало, и зряй вспять, управлен будет в царствие небесное».
В 1819 году на руках Александра скончался оптинский монах, о. Феофан, часто посещавший отшельников. Он был такой подвижник, что однажды провел целый Великий пост, не принимая пищи и неся еще и другие подвиги.
У старца этого при жизни лицо так ярко сияло благодатью, что недоставало духа смотреть ему прямо в глаза, а смотрели на него, обыкновенно, украдкой со стороны.
С этой кончиной было соединено для Александра знаменательное откровение. Пред смертью о. Феофана Александр явился просить помолиться за него, и в сороковой день по смерти он видит его во сне и ему говорит:
— Батюшка, я хотел было попросить вас помолиться обо мне, когда будете пред престолом Божиим, да не попросил.
— Я и так за тебя молюсь Богу, — отвечал о. Феофан. — Василий Великий говорит: «кто за других молится, тот за себя молится».
Двадцати пяти лет, на праздник Сретения Господня, второго февраля 1820 года, Александр пострижен с именем Антония. Пострижение совершил старец иеросхимонах Афанасий; восприемником его от Евангелия был о. Моисей. Люди, искренно принимающие монашество, чувствуют некоторое время в сердце какое-то особое действие благодати. Впоследствии духовные дети о. Антония спрашивали его — долго ли в нем продолжалось это благодатное ощущение? Он открыл им, что это продолжалось год.
Вообще, о. Антоний всю жизнь вспоминал об этом времени своей жизни с величайшим сочувствием и, при этих воспоминаниях, лицо его как-то особенно сияло, и он весь воодушевлялся.
После пятилетней жизни в лесу, в судьбе о. Антония наступила перемена.
В то время Калужским архиереем был епископ Филарет, впоследствии митрополит Киевский. Это была с детства избранная от Бога душа, истинный аскет, покровитель монашества.
С особой любовью посещая монастыри своей епархии, он полюбил Оптину пустынь, которая была восстановлена в конце восемнадцатого века попечением митрополита Московского Платона. Он любовался местоположением ее, прильнувшей — с одной стороны — к дремучему лесному бору и отделенной — с другой стороны — от мира многоводной рекой, Жиздрой. Леса, окружающие Оптину, представляют особое удобство для пустынного жития.
В епископе Филарете сложилась мечта основать при Оптиной пустыни скит, в котором могли бы подвижничать люди, нуждающиеся в особом уединении. И этот скит духовно навсегда укрепил обитель.
Чутко прислушиваясь к рассказам о разных подвижниках, епископ Филарет обратил свое внимание на рославльских отшельников и задумал поручить дело устройства скита им. В конце 1820 года о. Моисей случайно заехал в Оптину, и здесь был представлен епископу Филарету. Преосвященный долго беседовал с ним и сделал ему предложение поселиться с его сподвижниками в Оптином бору, чтобы основать и устроить в нем скит.
О. Моисею нравилась эта мысль и с полномочиями от епископа Филарета к старцу Афанасию он вернулся в свой лес. Старец решил принять предложение — тем более, что безмолвие их стало нарушаться притеснением окружного начальства.
Шестого июня 1821 года о. Антоний с о. Моисеем уехали из рославльских лесов в Оптину пустынь. Место для скита было выбрано в ста семидесяти саженях от обители, в густом лесу.
Прежде всего, было очищено для скита место из-под огромных сосен. Из этих сосен устроили небольшую келью, в которой и поселились пять отшельников. Затем была сооружена церковь во имя первого пустынножителя христианства — Иоанна Предтечи Господня. Потом стали воздвигать и другие корпуса. Первым скитоначальником был назначен о. Моисей.
Много пришлось телесно потрудиться о. Антонию. Наравне с наемными рабочими, он подпиливал и подрубал вековые сосны, выкорчевывал их огромные пни.
В 1823 году о. Антоний был посвящен в иеродиаконы; в 1825 — в иеромонахи. В 1827 году он был назначен скитоначальником и провел в этой должности четырнадцать лет. А о. Моисей, бывший раньше о. Антония скитоначальником, стал настоятелем Оптиной пустыни.
Слава о мудром и крепком настоятеле привлекла в Оптинский скит многих мудрых старцев подвижников. В 1829 году из Александро-Свирского монастыря перебрался сюда знаменитый старец о. Леонид с пятью учениками. А через пять лет после него — Площанской пустыни духовник о. Макарий. Эти люди завели в Оптиной пустыни столь спасительное для иноков учреждение — путь старческого окормления, и от. Антоний не только сочувствовал старчеству, но и сам подавал пример глубочайшей преданности и повиновения старцам.
Эти стаи истинных подвижников, слетевшихся в скит Оптиной пустыни из разных мест России, представляли собою чудное зрелище. Эти двенадцать старцев, сиявших непорочной сединой, высоко опытных в духовной жизни, собравшихся из разных местностей и разного звания, с разными дарованиями и качествами, объединялись одним общим стремлением к высшей духовной жизни.
Вот, как вспоминает об этом благодатном времени Оптинского скита одно лицо, помнившее это время.
«Величественный порядок и отражение какой-то неземной красоты во всей скитской обители часто привлекали детское мое сердце к духовному наслаждению, о котором вспоминаю и теперь с благоговением, и считаю это время лучшим временем моей жизни. Простота и смирение в братиях, везде строгий порядок и чистота, изобилие самых разнообразных цветов и благоухание их, и вообще — какое-то чувство присутствия благодати невольно заставляло забывать все, что есть вне обители этой. В церкви скитской мне случалось бывать преимущественно во время обедни. Здесь уже при самом вступлении, бывало, чувствуешь себя вне мира и превратностей его. С каким умилительным благоговением совершалось священнослужение! И это благоговение отражалось на всех предстоящих до такой степени, что слышался каждый шелест, каждое движение в церкви. Клиросное пение, в котором часто участвовал сам начальник скита, отец Антоний, было тихое, стройное и, вместе с тем, величественное и правильное, подобного которому после того я нигде уже не слыхал, за всем тем, что мне очень часто приходилось слышать самых образованнейших певчих в столицах и известнейших певцов Европы. В пении скитском слышались кротость, смирение, страх Божий и благоговение молитвенное, — между тем как в мирском пении часто отражается мир и его страсти, — а это уже так обыкновенно. Что же сказать о тех вожделеннейших днях, когда священнодействие совершалось самим начальником скита, о. Антонием? В каждом его движении, в каждом слове и возгласе видны были девственность, кротость, благоговение и, вместе с тем, святое чувство величия. Подобного священнослужения после того я нигде не встречал, хотя бывал в очень многих обителях и церквах».
Вследствие малочисленности братии, начальству приходилось самому исполнять много братских послушаний.
«Как самый бедный бобыль, — писал о. Антоний в 1832 году одному родственнику, — живу в келии один: сам и по воду, сам и по дрова… Чином священства почтенных теперь у нас в скиту собралось пять человек; но все они престарели и многонемощны, почему и тяготу служения за всех несу один».
Как только была построена скитская церковь, в ней заведено было непрерываемое чтение Псалтири, и о. Антоний отбывал, обыкновенно, по две очереди самые трудные: днем, во время отдыха братии, и ночью — от десяти до полуночи. Вообще, он в сутки проводил на ногах до восемнадцати часов. В то время в Оптинский скит допускали женщин для служения молебнов, и о. Антоний совершал их с особым усердием. Бывало, кто-нибудь скажет: «молебен Иоанну Предтече», а он присоединит от себя и молебен Божией Матери с акафистом.
Помещался он в тесной келье при церкви, где потом стал жить пономарь. Пища была самая скудная, но голод от больших трудов сдабривал ее.
Вдоль каждой стороны скитской ограды идет дорожка, а во всякой стороне ограды длины по семьдесят пять сажен. Часто, по окончании утренних правил, о. Антоний железной лопатой и граблями чистил дорожки — все четыре стороны разом, и после такой работы блюдо простых постных щей казалось лакомством. Случалось, что и в праздники довольствовались черным хлебом, а белый бывал только, если кто-нибудь из козельских граждан присылал пшеничных булок.
Все добровольные труды и подвиги о. Антония, никогда не пользовавшегося крепким здоровьем, довели его до неисцелимой болезни. Сперва от продолжительного стояния на молитве у него заболели ноги. После облегчения этой болезни он стал страдать головокружением. Временами, к глазам приступала темная вода, так что он лишался зрения — страдание для него, при его чрезвычайной любви к чтению, особенно тяжкое. Когда зрение восстановилось, началась снова болезнь в ногах, сопровождавшаяся водяной. С Пасхи 1836 г. открылась новая болезнь.
В пасхальную ночь, спеша из скита в монастырь к заутрени, о. Антоний ушиб себе правую ногу о дубовый пенек. И от этого ушиба открылась рожа на ноге, которая была неопытными лекарями расправлена разными примочками. Образовалось воспаление, обратившееся в скорбь. Более полгода больной не мог выходить из кельи, и затем страдал этою болезнью около тридцати лет, до смерти. Сила терпения его была совершенно необычайна. Сам он смотрел на свою неисцелимую болезнь так:
— Известно мне от учения святых отцов, что всякое искушение и болезнь, яко врачевство, от Бога попускается нам для исцеления немоществующей души нашей; ибо чрез злострадание телесное дарует Господь и прежде бывших и настоящих грехов оставление, и от будущих зол возбранение. А посему Господа Бога, яко богатого в милости к нам, и всем полезная устрояющего, одолжены мы от всея души благодарить, что удостоил нас в числе хворых быть, а не роптать.
С конца 1839 года на болезненного о. Антония, которому было тогда сорок четыре года, было наложено новое тяжкое бремя — настоятельство в Малоярославецком Николаевском Черноостровском монастыре. Это назначение было, может быть, самым тяжким крестом в жизни о. Антония: он так сжился душой со своим братом, настоятелем Оптиной, о. Моисеем, с которым делил труды отшельничества в рославльских лесах; он чувствовал такую близость к Оптину скиту, которого он был начальником, и в основании которого участвовал, что, расставаясь со скитом, он переживал такое чувство, как бы из его сердца вырвали громадный кусок живого мяса.
После пяти лет лесной глуши и восемнадцати лет скитской жизни и Малоярославец показался о. Антонию, по его словам — «великою, шумною столицею». Обитель составилась из присоединения двенадцати вакансий упраздненного штатного монастыря к бывшему общежительному на семь человек братии.
По болезни ног о. Антоний не всегда мог выходить из кельи и обозреть все, что считал необходимым. Предшественник его много потрудился по внешнему восстановлению и обновлению обители. Теперь же надо было водворить и утвердить внутреннее устройство по духу веры и благочестия. К счастью для о. Антония, он имел духовное ободрение. Когда, в первые дни настоятельства, он сильно уныл, то в тонком сне увидел святых отцов. Один из них, архиерейского сана, благословляя его, сказал: «Ведь, ты был в раю, знаешь его, а теперь молись, трудись и не ленись». Он проснулся успокоенный.
Оптинский старец о. Леонид объяснил ему, что виденный им угодник был святитель Митрофан Воронежский, который — вообще — оказал ему много благодеяний. По совету старца о. Антоний решил в сердце своем съездить на богомолье в Воронеж, на поклонение мощам угодника, что впоследствии и исполнил.
В 1843 году, в день Бородинской битвы, 26 августа происходило торжественное освящение строившегося пятнадцать лет монастырского собора. Но о. Антонию не пришлось участвовать в этом торжестве, так как он тяжко заболел.
В первые же годы его настоятельства Малоярославецкую обитель посетил покровитель русского иночества и сам инок высокой жизни, митрополит киевский Филарет. Он помнил еще о. Антония, когда тот жил в рославльских лесах. С сердечной простотой о. Антоний жаловался митрополиту на свою неспособность в управлении обителью и скудоумие свое. Митрополит, зная смирение старца, с улыбкой ему ответил:
— Что делать! Хотя ты не умен, да игумен!
Об игуменстве своем он воздыхал неустанно и писал одной скорбящей монахине: «Живу в светлых, теплых и пространных кельях. Но, кажется, перешел бы в темное некое и сырое подполье, лишь бы получить свободу от мучительных игуменских вериг».
В то время было решено устроить у найденных пещер древних подвижников, в чудной местности Харьковской губернии, над Донцом — обитель, которая известна теперь по всей России под именем «Святых Гор». Одно время имелось в виду пригласить в настоятели о. Антония. Это предположение испугало о. Антония, и он решил проситься у калужского архиерея на покой. Брату своему, о. Моисею, он писал, что хочет посвятить остаток дней своих приготовлению к смерти: «прожил я век свой хотя по-скотски, но умереть по-скотски, то есть без размышления о смерти и без приготовления ко исходу, устрашает иногда меня». Но архиерей отказал ему наотрез в отставке. Тогда о. Антоний решился сказать архиерею:
— Если постигнет меня смерть, то святительское ваше сердце будет одержимо печалью о том, что, имевши волю и возможность уволить меня от этой должности, не оказали сей милости.
— Пусть этот грех останется на моей душе, — отвечал ему архиерей.
Все письма к брату о. Антония за это время полны великой горести. В 1844 году о. Антоний снова просился на покой. Когда стали устраивать, недалеко от Троице-Сергиевой лавры, Гефсиманский скит, о. Антоний получил приглашение перейти туда, и одно время он склонялся к этой мысли, но о. Моисей написал брату упрек:
«Не я поставил тебя на степень, занимаемую теперь тобою: Господь поставил тебя полномочной властью архиерейскою и вверил тебе святую обитель, и подтвердил тебе быть на деле Божием до смерти. Решительно тебе говорю, возлюбленный, и именем Самого Господа Иисуса подтверждаю: умолкни отсель отзывами ропотливыми на должность».
Отвечая брату, о. Антоний писал:
«Вы приговор сделали мне страдать без конца. Что делать! Хоть это определение горько моему сердцу, но должен страдать и мучиться. Да будет со мною воля Божия и ваша!»
Но вся внутренняя борьба о. Антония не отражалась во внешнем его спокойствии. Беседы его с посетителями были всегда оживленными. Всей душой он входил в положение открывавшихся ему лиц. Его внутренние душевные волнения знали немногие.
В 1849 году, в феврале, в Малоярославце произошла сильная буря: шпиль, упавший с монастырской колокольни на церковь, проломил железную крышу и стропила, и раздробил каменные своды. Буря эта принесла убытки обители на пять тысяч рублей. Надо было ехать по сбору в Москву, как того требовал преосвященный. О. Антонию это было тем тяжелее, что он был плохой сборщик. Он не только не умел выпрашивать что-нибудь, но иногда даже отказывался от того, что ему предлагали. Если ему казалось, что человек по усердию дает больше, чем может, он убеждал часть пожертвованного принять обратно.
Когда в обители совершилось торжество освящения устроенного отцом Антонием Преображенского придельного храма, во время праздничной трапезы о. игумен рядом с собою посадил известного юродивого малоярославецкого Емелю, и потом говорил сам: «два дурака рядом сидели».
Преосвященный Николай думал представить в Синод о возведении о. Антония в сан архимандрита, но о. Антоний просил его не делать этого и сказал:
— Вот, если бы архимандритство защищало от тления или от смерти, или суда, тогда стоило бы желать онаго.
В кресте настоятельства главным утешением для о. Антония было постоянное участие о. Моисея. Из Оптиной пустыни не раз посылались, в виде послушания, нужные люди в Малоярославецкую обитель. Братья постоянно переписывались и, кроме того, о. Моисей ежегодно навещал о. Антония в Малоярославце. Это были самые счастливые дни для о. Антония.
Еще два раза ездил о. Антоний в Москву, для сбора пожертвований на окончание монастырских построек, и виделся здесь со своими родными братьями–мирянином Василием, с которым не видался двадцать один год, и с саровским игуменом — Исаиею, с которым не видался тридцать три года. В Москве о. Антоний пользовался вниманием великого митрополита Филарета, который часто приглашал его служить с собою, подолгу беседовал с ним. И, именно, через предстательство митрополита Филарета состоялось, наконец, столь вожделенное для о. Антония увольнение его от должности, в 1853 году.
О. Антоний приехал в Оптину двенадцатого февраля 1853 года, с гривенником в кармане. Оптинцы, во главе с о. Моисеем, радушно встретили своего старого оптинца. Он писал:
«Батюшка пожаловал мне близ себя келейку теплую, из которой, кроме неба, некуда более смотреть, куда я и взираю».
О. Антоний мог теперь предаться своей любимой сознательной, молитвенной жизни. Он ходил ко всем службам, выстаивая их с начала до конца. Ежедневно ходил и в братскую трапезу и говорил:
«Каждый трапезный простой кусок кажется мне сахаром. А в келье своей ничего не держу, кроме водицы святой, так что не только людям, но и бедным мышам полакомиться около меня нечем, и никто не жалует ко мне, я живу совершенно, как в пустыне. Даруй, Боже, чтобы и впредь было так. Одно только тревожит душу, что весьма больные ноги мои не соответствуют желанию моему — быть всегда в труде».
Но та безмятежная радость, в которой мог бы жить в Оптиной пустыни о. Антоний, была нарушена тяжкими страданиями ног. Болезнь ног его обострилась до такой степени, что однажды, во время всенощной, из ног вытекло так много материи, что новые кожаные сапоги промокли насквозь, точно о. Антоний по колено стоял в воде… Раны тогда закрылись, но общее состояние ухудшилось, так как раны служили естественным выходом, бросилось внутрь. О. Антония нашли раз лежащим без памяти, на полу, в крови открывшихся ран.
Эту болезнь старцу было суждено терпеть до конца. Ежедневно в ногах испытывалась невыразимая боль, точно их одновременно резали ножами, жгли огнем, драли жесткими щетками и кололи. Всякому даже смотреть на ноги было страданием. Они были тверды, как дерево, и более походили на круглые бревна в диаметре до пяти вершков. Из ран, глубиной до кости, сочилась всегда кровяная сукровица. Один доктор, перевязывавший ноги о. Антония, видел в ранах червей. Иногда некоторые пособия приносили временное облегчение. Старец мог прикасаться при перевязке к ногам. Обыкновенно же — и легкое прикосновение приносило невыразимое раздражение.
То благодушие, с которым он переносил эту постоянную пытку, видно из следующего случая. Известный писатель, помещик Иван Васильевич Киреевский, посещавший часто Оптину и в ней впоследствии похороненный, сказал ему:
— Вот, батюшка, на вас сбывается слово Писания, что «многи скорби праведным».
— То-то и есть, — возразил старец, — что праведным скорби, а у меня-то все раны по слову отца Давида: «многи раны грешному».
В таком же расположении духа он писал одному своему духовному сыну:
«Позавидовал я вам о том, сколь крепко любить вас Господь. Ибо за каждый толчок, за каждый болезненный вздох сколь много готовит вам наград и неотъемлемых утешений. А я, бедный калека, не много имею ран, да и те подчас бывают невыносимы; а посему горе моему окаянству, — останусь я с полыми руками».
Но всего удивительнее в терпении старца было то, что в этих страданиях он был светел лицом, весел и оживлен в беседе. И люди, не знавшие его, не могли догадаться, что пред ними великий страдалец, и по его наружной полноте предполагали, что он здоров.
Один посетитель Оптиной выразился про о. Антония, что он человек «здоровенный». А другой сказал ему в глаза:
— Таких святых, как вы, пол-Москвы!
Как бы тяжело старцу ни было, — он спешил выходить навстречу гостям, принимая их с радушным, веселым видом; выслушивал то, что ни им, ни ему не было нужно и отпускал всех приветливо.
«Трогательно было видеть, как болезненный старец, с трудом переступая с ноги на ногу, и опираясь на палку, при первом ударе колокола направлялся в церковь, пребывал на службе до конца, то стоя, пока мог, а в случае изнеможения и сидя, и потом опять с великим трудом и болезненными стенаниями возвращался в свою келью».
Когда в ногах делался воспалительный процесс, и старец не мог уже двигаться, то он заменял церковную службу длинным келейным молитвословием. Когда братия шла к заутрени, всегда было заметно в келье о. Антония сильное освещение. Как бы болен он ни был — он исполнял одновременно с братией у себя молитвенные правила.
Сокровенные его келейные подвиги остались известны одному Богу, но по дарам, которые он приобрел, можно заключить, что они были велики. Он оставил о молитве замечательный, краткий совет: «На молитву должно вставать поспешно, как на пожар». Это значит, что когда молитва разгорится в сердце, нужно бросать все остальные занятия и ловить этот молитвенный жар, пока он не охладел. Тот же совет дал и великий знаток духовной жизни, затворник епископ Феофан.
Все, кто видели о. игумена Антония совершающим богослужение, помнят необыкновенное выражение лица его, особенно во время божественной литургии, когда он выходил с потиром. Это было лицо человека, преисполненного благодати. Случалось, что от одного взгляда на него в это время у некоторых происходил в душе нравственный переворот. Были основательные причины утверждать, что о. Антоний имел великое дерзновение в молитве Богу, и сподоблялся духовных видений и других благодатных посвящений Божиих.
Послушник Оптиной пустыни П…, духовный сын о. игумена Антония, рассказывает: «восьмого ноября 1862 года, на память св. архистратига Михаила перед самою утреней слышал я во сне неизвестно чей голос, говоривший мне: «старец твой о. Антоний человек святой жизни и великий старец Божий». Вслед за тем раздался звонок будильника, и потому все слова таинственного голоса ясно запечатлелись в моей памяти. Размышляя о слышанном, пошел я к утрени. Не доходя до корпуса, где жил старец и мимо которого надобно мне было идти, вижу: над молитвенною его кельей, неизвестно откуда, явилось светлое белое огненное облако, длиною около сажени, шириною аршина в два. Тихо и медленно поднималось оно от самой крыши, шло кверху и скрылось в небесном пространстве воздуха. Явление это меня поразило; и потому, пришедший от утрени, я пожелал записать о сем себе для памяти. Объявить же о сем видении старцу не осмелился, а счел оно за вразумление мне недостойному иметь веру, преданность и послушание к своему старцу, и за явное свидетельство его чистой, пламенной и богоприятной молитвы».
О. Антоний имел такое пламенное усердие и благоговейную любовь к Матери Божией, что — особенно в последние годы своей жизни — когда начинал рассказывать что-либо из жития Ее — при одном имени преблагословенной Девы Марии голос его изменялся от обильных слез, и он не мог окончить рассказа.
Но от всех о. Антоний тщательно скрывал тайны своей духовной жизни. Если кто-нибудь предлагал ему вопрос об этих тайнах, он отвечал, что и не понимает ничего такого. Он старался направлять людей к деятельным добродетелям.
Вслед за молитвою, которой он был столь усердным деятелем, о. Антоний безгранично любил чтение. Он постоянно читал Священное Писание, святоотеческие творения и другие духовные книги, но не обходил также и книг ученого содержания, особенно исторических. Он был одним из тех прирожденных любителей книг, какие иногда встречаются и в миру. Он следил за объявлениями книгопродавцев, выписывал заглавия у сочинений, его интересовавших, и при случае приобретал их. Его духовные дети знали, что его ничем нельзя больше утешить, как подарить ему хорошую книгу.
Если, изредка, он брал от кого деньги в подарок, то сейчас употреблял их на приобретение книг. Ему случалось иногда отыскивать желательную ему книгу по двадцати лет. При такой любви к книгам, у него составилась обширная библиотека, и при жизни своей он сдал в оптинскую библиотеку, помещающуюся в скиту, до двух тысяч томов, предварительно озаботившись, чтобы все книги были переплетены. Из этой библиотеки не было ни одной книги, им не прочитанной.
Он читал не только много: он читал внимательно. С молодости он любил делать из книг выписки, а книги, которые были редки, он переписывал сам или давал их переписывать духовным детям. В рославльских лесах он с братом своим, о. Моисеем, составил рукописную историю, но после него осталось еще до шестидесяти рукописей, составленных из святоотеческих писаний, житий святых, замечательный сборник редких молитв и служб, который он тщательно собирал и переписывал уставом. Всех этих вещей нельзя было найти в печати. Одних акафистов у него было до сорока, и он читал их ежегодно в дни памяти святых. По кончине его найдено было в келье также множество списков книг, которые он намеревался еще приобрести.
О. Антоний имел дар необыкновенной памяти. Он до последних мелочей мог рассказать, час за часом, дни своей жизни за последние пять лет. То же, что читал, хотя за тридцать лет назад, он мог пересказать с изумительною подробностью. Но, не ограничиваясь чтением, о. Антоний еще более любил исполнять прочитанное.
Обладая великой совестливостью, о. Антоний всюду искал себе вразумления, и найденный после него дневник представляет собою трогательный след его постоянной борьбы с собою. Вот, отрывок из 1824 года:
«Три дня сряду претерпел я от диавола искушение унынием, разленением и нерадением; и в это время совершенно был я без узды, со всеми празднословил, сколько хотел. Вечером, пришедши в келию к брату Григорию, без всякой нужды, уклонился в празднословие, и послужил ему препятствием к занятию келейному. Между прочим, сказал ему: «мне теперь охота напиться, а старца нет, без благословения его не смею». А он мне на это сказал: «отче, лучше без благословения напиться, нежели празднословить».
«Батюшке объяснивши о своем празднословии и о ненужном вопрошении, услышал от него: «ненужное вопросишь, ненужное и услышишь».
При любви к молитве и к чтению для о. Антония не было ничего дороже, как сидеть в своей келье. Он говаривал, что когда остается один в келье, тогда у него бывает праздник на душе. Больше всего ему хотелось считаться частным человеком, живущим в обители на действительном покое, и так, чтобы к нему никто не обращался. Но когда люди приходили к нему, он помня слова: «Грядущего ко мне не иждену вон» — не отказывал от беседы, он только решительно уклонялся от исповедников. В обращении с людьми он был необыкновенно приветлив, радушен и даже почтителен. Он оказывал даже юноше и ребенку такую честь, которой люди других взглядов не оказывали бы и старшим себя. Один послушник открылся ему:
— Когда я встречаюсь с младшим, то не могу без понуждения себя первый поклониться ему; в особенности, если встретившийся не ответит поклоном, мне становится как-то стыдно.
— Это так, по новоначалию, от мирской привычки, — ответил о. Антоний, — а я, вот, теперь среди Красной Площади в Москве поклонюсь кому угодно в ноги, хоть нищему, и нисколько не сконфужусь.
Рано, с молодости, о. Антоний был строг к ближнему, но под влиянием своего брата он изменился. Сохранилась интересная запись в его дневнике 1823 года об о. Моисее:
«Батюшкою замечен я очень жестоким, касательно ношения немощей братских и благонадежности в их исправлении на лучшее. В заключение он сказал мне: «в каком бы кого в порочном положении видел, не должно тому удивляться и сомневаться в его исправлении; ибо многие, наконец, из пьяниц сделались трезвыми, из буйных — кроткими, из блудников — целомудренными и прочее. А св. Златоуст сказал: о исправлении того только должно сомневаться, который во аде находится с бесами».
Старец, как это бывает только с людьми великой веры и совершенно духовного устроения, не отчаивался в исправлении и умел выправлять людей падших. Старец усвоил себе важное и мудрое положение святого Исаака Сирина, что надо с людьми обходиться, как с больными, и успокаивать их наиболее, а не обличать; ибо это больше их расстраивает, нежели приносить им пользы. Больному, — говорит старец, — надо говорить: «не хочется ли тебе какой похлебки, или чего другого?» А не следует говорить так: «я тебе дам такую микстуру, что глаза выпучишь».
Многие случаи обнаружили в о. Антонии его прозорливость, но он ее скрывал. Он избегал таких вопросов, разрешение которых возлагало на него ответственность, как на наставника и руководителя. Но он отвечал тайно на мысль людей, рассказывая, как будто про себя или про кого другого, и в это время отвечая бывало, что лишь выйдя от старца то или другое слово старца сказано именно для него. Без вопросов старец своих советов никому не предлагал. И относительно того, какую кто получает пользу от советов старца, он рассказывал из своей собственной жизни:
«Случалось и мне в начале спрашивать старца, как бы искушая, — что-то он на это скажет? Ну, уж и ответы такие выходили! А если положишь на сердце, что услышишь от старца ответ Бога Самого, то и Бог возвестит, и совсем человек другой станет, и услышишь такое, чего и не ожидаешь».
В беседах своих с преданными ему людьми, в которых он видел искренность, старец любил, чтобы все их прошлое было ими открываемо без утайки, и говорил, когда уже все было открыто: «всю скорлупку покажешь, самого же зернышка не покажешь».
Он напоминал своим духовным детям о происшествиях, совершенно ими забытых, учил их молиться о каком-нибудь совершенном грехе, которого они раньше в себе не сознавали, и даже вовсе не считали за грех. Речь старца была необыкновенно увлекательна и сладка. В ней крылась какая-то великая духовная сила, состоявшая в том, что, во-первых, старец учил не от слов, а от дел своих, что всякое слово, сказанное им, было выстрадано им в его подвижнической жизни, во-вторых, эта сила проистекала от того великого благожелательства, с которым он относился к собеседнику.
Пред ним люди с железным характером чувствовали, что их упорство падало, и в сердце вступали другие, новые чувства. Речь его была своеобразна, коротка, что можно заключить из многих приведенных отрывков, из его записи и переписки. Ярославский уроженец, о. Антоний до конца дней своих сохранил некоторую особенность ярославского говора с ударением на о. Его православная ревность была непоколебима. Никто не мог убедить его изменить каноническим правилам. Единственным ответом тогда бывало: «Нам дана власть разрешать грехи, а не разрешать на грехи». От лиц, которые вручили себя ему, он требовал полного послушания и, раз сказав что-нибудь, не терпел, чтобы его переспрашивали два или три раза.
Душевное состояние, которое он считал особо опасным, был ропот по пустым причинам. Он многократно говорил, повторяя слова Исаака Сирина: «Сам Бог всякие немощи человеческие сносит, человека же, всегда ропщущего, не терпит и не оставляет без наказания».
Переписка старца была так обширна, что после его смерти собрали писем гораздо больше, чем ожидали. Как и устные его беседы, они — своеобразны, красноречивы, дышали какой-то сладостью и назидательностью. Отрадна была для духовных детей старца встреча с ним. Все, что было на душе грустного и темного — все это отлетало при первых его словах. Это благодатное ощущение наполняло людей, его знавших, как только они вступали на порог его кельи, как только видели его лицо, с отпечатком духовного мира и благодати. Один из его духовных сыновей вспоминал:
«Когда приедем в Оптину и придем к нему, угощает нас чаем, и при его болезни сам иногда подает и просит покушать, подчует всем, что ему подарят; сам не кушает, а все расподчует. Нальет в стаканы бутылочного меду, угощает нас и говорит: «кушайте, это питье холодное, но от согретого любовью сердца». Подлинно, какое вкусное, приятное у него было это питье, и чай такой вкусный за его благословением! Когда, бывало, отъезжаем домой, при прощании он всегда одарит все семейство разными вещицами: кому образок, кому подсвечничек, кому книжечку, и что-нибудь всякому даст на память; потом благословит и проводит, иногда сойдет с крыльца, и с больными ногами провожает нас до калитки и все благословляет: иногда появлялись у него на глазах слезы, так он любил нас».
И сколько помощи духовной получали люди от общения с ним, как часто от одного его совета облегчалась жизнь.
Один человек пришел к нему в великом горе. Его сына, на которого он возлагал все свои надежды, исключили из учебного заведения.
— Да молитесь ли вы о сыне? — неожиданно спросил его старец.
— Иногда молюсь, — отвечал тот нерешительно, — иногда и не молюсь.
— Непременно молитесь о сыне, молитесь о нем усердно, неотступно. Велика, ведь, сила родительской молитвы о детях.
Отец исполнил этот совет и увидел в самом скором времени пользу его. Мальчик был принят в заведение, благополучно окончил курс. И этот отец, который только однажды в жизни и получил совет от отца Антония, до конца дней своих помнил и прославлял его, говоря, что одно слово отца Антония сняло с его жизни всякую тяготу.
Одна духовная дочь о. Антония под проницательным взором его сказала, что боится этого взора, так как он различает все ее грехи.
— Напрасно вы так думаете, — возразил старец: — о чем я помолюсь, и что Бог мне откроет, то я и знаю, а если Бог мне не откроет, то я ничего не знаю.
Однажды послушник, занимавшийся у о. Антония письмоводством, присутствовал при перевязке его больных ног, на что нельзя было смотреть без содрогания. Сердце его разгорелось великим усердием и жалостью к старцу, и он подумал, что вот, старец и не знает, как он его любит. Тут о. Антоний сказал:
— Я вот знаю, что ты меня любишь… Верно ли я это говорю?
Тот послушник, по неопытности своей, рассказал кому-то о виденном им случае прозорливости старца. Это дошло до самого старца. Он послал за послушником своего келейника. Послушник застал о. Антония в самом тревожном состоянии. Лицо его было бледно и выражало сильное волнение.
— Вот что я тебе скажу, — сказал он: — если ты желаешь пользоваться моими советами, то прошу тебя, никому не передавай моих слов и разговоров с тобою, но храни их только в своем сердце.
Одно лицо, бывшее директором гимназии, ветеран русского флота, познакомился с о. Антонием уже в старых годах, при великом расстройстве своих дел. С тех пор, как он стал пользоваться советами старца, дела его наладились. Призывая уместно помощь о. Антония, он дважды избавлялся от гибели в жестокой метели, раз был чудесно спасен от разбойников. Имение его, которое он давно хотел продать, было продано в самый день смерти о. Антония и за ту цену, на которую о. Антоний советовал ему согласиться, как ни бился продавец, чтобы взять дороже.
Существует замечательный рассказ о том, какую власть имел о. Антоний над нечистыми духами. Событие это подтверждено письмом самого о. Антония. Одна благочестивая девица Р., впоследствии монахиня, потерпела то же искушение, как некогда святая мученица Иустина. Ее преследовал человек, который, видя, что все его усилия добиться ее взаимности тщетны, обратился к чародею и стал наводить на нее волхвование. Ее предупредила об его мерах служанка. Кроме Бога, она не могла нигде найти себе помощи. У нее не было знакомства с лицами духовной жизни. В одну ночь эта служанка видела во сне, что высокий монах, войдя в комнату ее барышни, влечет ее из дому в монашеской одежде. Вскоре случилось, что о. Антоний, который слышал о желании родных этой барышни видеть его, посетил их дом. Вот, как вспоминает он об этом посещении в письме своем:
«Когда пришел час воли Божией быть мне у вас, то в начале целую толпу бесов встретил я, с бранью воспрещавших вход, но Господь разогнал их. И хотя я сам многогрешен есмь, и несмь достоин спасать других, но Господь Бог, по велицей милости Своей к вам, избрал меня недостойного орудием к тому быть, чтобы поспешить ко изведению вас из глубокой пропасти (что было предварительно открыто во сне служанке вашей). И когда бы отсрочили исход ваш еще до году и более, то Бог весть чего бы ни встретили. Мне история ваша последних двух лет пребывания вашего в родительском доме столь много и ясно раскрыта, что без сердечного содрогания вообразить не могу. Не зная прежде оной, не напрасно советовал я вам молиться св. мученице Иустине девице; ибо тогдашнее положение ваше много было похоже на ее, о чем недавно я узнал, и от всей души благодарил Бога со слезами, что святая душа ваша избавилась от сети ловящих ее».
Старец тогда призывал с верою имя Божие, и бесы исчезли. Но при входе его все заметили, что он мертвенно бледен. Служанка точно узнала в нем виденного ею во сне монаха. Почувствовав к о. Антонию полное доверие, девица решилась раскрыть всю свою жизнь к нему в письме. Старец понял, что одно ей спасение — монастырь, но родные об этом и слышать не хотели. Он неотступно молился о ней, укрепляя ее в борьбе с невидимыми силами, которые наводил на нее чародей.
Вскоре, по совету о. Антония, вся семья отправилась в монастырь на пострижение в монашество нескольких лиц, и обряд этот произвел такое сильное впечатление на мать девицы, что она выразила согласие на поступление своей дочери в монастырь.
Она вступила в обитель, но чародей хвалился, что вытащит ее из обители. Она, действительно, продолжала ощущать на себе воздействие вражьих сил, не имея покоя ни днем, ни ночью. О. Антоний продолжал поддерживать ее. Совершенное же избавление она получила от великого московского митрополита Филарета.
Однажды он явился ей в сонном видении и стал читать псалом шестидесятый: «Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей… от конца земли к Тебе воззвах, внегда уны сердце мое». Читая в этом таинственном явлении своем псалом, митрополит велел девице повторять вслед за ним все его слова, и заповедал ей ежедневно этот псалом читать самой. Проснувшись, она почувствовала, что искушение, которое мучило ее много лет, совершенно от нее отпало.
Самая большая привязанность в жизни о. Антония был брат его, архимандрит Моисей. Будучи младше на двенадцать лет и в молодости начал духовную жизнь в лесу под его руководством, о. Антоний считал о. Моисея за своего отца и наставника. Он относился к нему не то чтобы только почтительно, но с каким-то благоговением. В старые годы в присутствии старшего брата о. Антоний хранил глубокое молчание. Слова его принимал как волю Божию. Когда он приходил к нему в настоятельские покои, то никогда без приглашения не шел во внутреннюю келью, а стоял в передней и терпеливо дожидал пока о. Моисей его заметит и позовет; и, войдя в комнату, не садился, а перемогался на своих больных ногах, пока брат не велит ему сесть.
О. Моисей, конечно, внутри себя удивлялся этому смирению брата и говорил о нем: «он настоящий монах, а я не монах». Но, вместе с тем, он не оставлял случая доставлять ему духовные венцы смирения и обращался с ним, как с послушником.
На покое о. Антоний не брал ни у кого денег в свою пользу, а принимал только книги или деньги с условием, что их употребит на книги. Не отказывался он также принимать свечи и масло для лампады, так как часто не мог ходить в церковь и при свечах, теплящихся пред иконами, вычитывал церковные службы. Все же, что он получал, он раздавал другим.
У младшей братии обители был обычай в день именин ходить за благословением к о. Антонию и, при этом, он всегда делал какой-нибудь подарочек: кому платочек, кому книжечку, кому чаю и сахару, так что случалось, что, раздав все, о. Антоний сам оставался без сахара. Он твердо помнил именины всех иноков и, встретившись с именинником, поздравлял его, будь он новоначальный или даже мальчик — так был он внимателен ко всем даже и в самых мелочах.
* * *
Поминая о. Антония, достойно вспомнить здесь его ученицу, на которую он имел большое влияние, и которая — под его руководством — из светской барышни сделалась истинной подвижницей.
Происходившая из знатной дворянской семьи, принадлежавшей к высшему обществу, Екатерина Александровна Путилова с молодости чувствовала призвание к духовной жизни, но, нигде не видя себе поддержки, вела образ жизни, свойственный своему кругу; как выражался впоследствии отец Антоний — «в шуме празднующих».
Когда же Бог привел ее к старцу Антонию, это ее настроение, как бы долго таившееся под спудом, развернулось с неудержимой силой. Еще не покидая мирскую среду, она проводила жизнь в благочестии, и утешение видела себе в посещении Оптиной, где живала в гостинице. Прежде, в Петербурге, она не вставала ранее десяти часов. Теперь же к часу полуночи, пред тем, как ударяли в колокол к утрени, была уже одета и спешила в церковь. Вообще, всякий благовест заставал ее или уже готовой или по пути в храм Божий.
Подобно тому, как о. Моисей вел сурово брата своего о. Антония, так и о. Антоний вел сурово Екатерину Александровну. Больше всего она стремилась слушать старца, а он иногда позволял ей, находясь в Оптиной, бывать у него только по разу в неделю, а остальные дни, не говоря с ним, принимать от него только благословение в церкви. Иногда она самовольно приходила к старцу и в другие дни, но сама говорила, что тогда лишалась сна и спокойствия. Повинуясь же старцу, она ощущала в душе тишину и мир.
Всего четыре года находилась она под руководством о. Антония и скончалась тридцати лет от роду, причем кончина ее показала, какой высокой духовной степени она успела достичь.
Кончина ее описана самим о. Антонием
С весны и все лето Екатерина Александровна таяла, как свеча. Любимый ее разговор был о переходе в вечность. Конца своего она ждала, как невеста ждет брака с любимым женихом. Оборованная святым елеем, она через каждые два дня стала приобщаться; последнюю же неделю жизни приобщалась ежедневно. Тогда же она была пострижена келейно в монашеский образ. К старцу ее сперва водили под руки, потом носили на стуле, а потом старец ходил к ней в гостиницу по несколько раз в день.
После ее пострижения с именем Евфросинии, обозначающим «добрую радость», старец спросил ее
— Как, сестра, имя твое во ангельском чине?
— Многогрешная монахиня Евфросиния, — отвечала она.
— Что означает новое имя твое? — спросил старец.
— Веселие и радость, — отвечала она.
— Дай тебе Господи, — говорил ей на это старец, — вечное веселие и радость со святыми в небесном царствии.
И этот вопрос, по желанию Евфросинии, повторялся всякий день, так как ей было радостно принимать его, как пророчество о своем будущем блаженстве.
Необыкновенный мир наполнил эту избранную душу. Со дня соборования ее, сердце ее дышало любовью ко всем: она всех жалела, и лично и заочно у всех просила прощения. Четки не выпадали из рук ее. Она в этих молитвах неустанно, неусыпно призывала помощь Божию и говорила:
— Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Пресвятая Богородица, Царица Небесная, Матушка моя, возьми меня к Себе! Святой архангел Михаил, св. архангел Гавриил, св. архангел Рафаил, возьмите душу мою. Святителю Николае, великий угодник Божий, сохрани душу мою!
Все свое имущество она раздала, говоря:
— Как я в мир родилась, ничего не имея, так и от мира отходя, желаю, чтобы ничего у меня не было.
А когда все раздала, радостно сказала:
— Вот, я и теперь ничего у себя не имею, кроме единой надежды на спасение Божие.
За две недели до кончины был у нее приготовлен гроб, а за два дня до смерти она просила о. Антония, чтобы ее живую вынесли в церковь, чтобы ей в церкви умереть, но о. Антоний не взял этого на себя. Около десяти раз был над нею прочитан канон на исход души от тела. Она оканчивала его сама и говорила:
— Возлюбленные отцы мои и братия, и сестры, и все знаемые, помяните мою любовь и дружбу, и молите Христа всех Бога милостиву быти ко мне в час кончины моей и по кончине!
Скончалась она на праздник Усекновения главы честного славного пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, после бдения в полночь, в первом часу.
О. Антония печалило, что она скончалась не днем, но о. Моисей успокоил его словами:
— Ну, что ж, ведь — сказано: «Се Жених грядет во полунощи».
За полчаса до кончины она просила засветить свечи у всех образов своей гостиной, и говорила:
— Как теперь весело на моей душе, будто какой большой праздник…
Три дня во гробе она лежала, как спящая, нисколько не изменившись в лице, и когда, прочтя над ней разрешительную молитву, о. Антоний стал вкладывать ее в руки, то руки оказались не окостенелыми, а мягкими.
После похорон ее о. Антоний посещал ежедневно ее могилу, просиживая у нее по часу и более, любуясь на ее усыпальницу, которая была лучше, чем келья, занимаемая ею в Оптиной.
Эта гробовая келья имела два больших светлых окна, была украшена многими иконами, а пред гробом, в стене, изображено положение во гроб Спасителя, с неугасимой пред иконой лампадой.
Спустя год по смерти Екатерины Александровны о. Антоний так писал о ней ее родной сестре:
«Екатерина Александровна молится за всех нас, ибо жива душа ее. Некоторые из числа братий наших, а также и из посторонних лиц, видали сестрицу вашу во сне, в приятном виде. И я на светлый день Пасхи видел ее во сне, как наяву, во святом храме во время службы, в необыкновенной одежде златотканной, с распущенными власами, с золотым кадилом в руках, кадящую всех. Кадило с фимиамом означает молитвы, приносимые ею ко Господу за всех. «Вот, какова ныне ваша возлюбленная Катинька, которая и об нашем спасении молится ныне Богу!»
Вот — ученица, вполне достойная своего великого учителя-подвижника!
* * *
Кончина, в 1862 году, восьмидесятилетнего старца отца Моисея была тяжелым ударом для о. Антония. Его скорбь была невыразима. Первые сорок дней по его смерти он провел в совершенном уединении. Затем в течение целого года, сколько было возможно, уклонялся от людей. Все время вспоминая о брате, он постоянно читал Псалтирь по нем, и упоминание в разговоре об усопшем вызывало в нем слезы столь обильные, что разговор должен был даже прекращаться.
Несколько раз предлагали ему, чтобы он, близкий свидетель духовных подвигов о. Моисея и доверенный его человек, составил записки о его жизни, но старец отказывался, ссылаясь на то, что беседы о нем заставляют его плакать и лишают возможности нужного для такого дела спокойствия. Жаль, что тайна, одному ему известная о сокровенной духовной жизни о. Моисея, унесена о. Антонием с собою в могилу.
О. Антоний постоянно ощущал около себя присутствие и близость брата. Не проходило дня, чтобы покойный во сне не являлся о. игумену, и их души постоянно между собою беседовали. Замечательно смирение, проявленное о. Антонием относительно нового настоятеля о. Исаакия, который был гораздо моложе его. Он и пред ним смирялся, как последний послушник, и у него в настоятельской передней стаивал, пока его не заметят.
Как-то, в двунадесятый праздник, новый настоятель, зная, что после обедни о. игумен пойдет к трапезе, велел поставить около своего места стул для о. Антония. Когда, утомленный продолжительною службою и страдающий ногами, старец пришел и увидал приготовленное ему место, он просил настоятеля позволить ему во время братской трапезы почитать с кафедры поучение. Таким образом, он избег чести сидеть рядом с настоятелем, а обедал потом с новоначальными и несшими трапезное послушание.
На другой год по смерти брата о. Антоний исполнил давнюю свою мечту, побывал на богомолье в Воронеже, у мощей святителя Митрофана, и в Задонске, у мощей новоявленного святителя Тихона. В семидесятилетнем возрасте о. Антоний был келейно пострижен в схиму. Он прекратил тогда прием мирских лиц, а братию стал принимать изредка и на короткое время. Очевидцы передают, что вид его стал теперь еще благолепнее. От постоянной молитвы, высоких чувств, переполнявших его душу, его лицо просветлело и сияло высокой радостью. Ясно было усугубление в нем благодати. Теперь исчез в нем страх смерти, к которой он относился прежде с трепетом. Он думал о смерти теперь с великой радостью и открыто о ней говорил.
Лицам, посещавшим его в 1864 году, некоторым он предсказал, что более с ними не увидится. Другим сказал, что они увидятся пред смертью еще раз. И все это сбылось. В том же ноябре он написал собственной рукой одной духовной дочери молитву за новопреставленного духовного отца:
«Призри благосердием, всепетая Богородица, на душу усопшего раба твоего, здесь лежащего новопреставленного (имя рек), и моли Сына Твоего и Бога нашего, грехов юности и неведения его не помянути, и святыми твоими и всесильными молитвами сподоби его со святыми в вечной славе царствовать: ибо Ты еси спасение рода христианского, и Тебе дана благодать молиться о сем».
Приготовление его к смерти особенно ясно обнаружилось в нем тем, что он с начала 1865 года совершенно перестал списывать книги и отказывался от тех, которые ему предлагали, говоря, что ему теперь уже ничего не нужно. Для понуждения себя он велел написать крупными буквами на бумаге: «не теряй времени», и эту записку укрепил над своею кроватью.
Всякий день остающейся жизни ему хотелось употребить на приготовление себя к вечности, и он говорил:
— Ведь, я теперь новоначальный. Он стал труды прилагать к трудам и подвизаться, как бы молодой и здоровый человек.
Страдание ног его все усиливалось. Но он перемогался и ходил в церковь. Брат, служивший ему, старался поддерживать его, видя его муки, но он терпеливо говорил: «Ну, уж прости, Бога ради», — шел в церковь, с трудом передвигая ноги и испуская стоны.
Седьмого июля, накануне праздника Казанской иконе Божией Матери, в нем открылась предсмертная болезнь, припадки тифозной горячки от закрытия застарелых цынготных язв на ногах, и значительное расстройство пищеварения.
Одной из духовных дочерей своих, которой он говорил о своей смерти и которая расплакалась, он заметил:
— Что делать, хотя жаль, а надо батьку на погост нести.
Казалось, он довольно был очищен страданием за всю свою жизнь, за которую он принял на себя столько вольной муки, явив в терпении своем крепость древних изумительных отцов, о которых мы запоминаем с ужасом и изумлением. Но к этой чаше прибавлялись новые и новые тяжелые капли.
Он был лишен сна и забывался лишь на короткое время, пищи почти не принимал и немногими глотками холодной воды утолял нестерпимый внутренний жар. Но и в этом состоянии он более заботился о других, чем о себе. Он не отказывал в приеме никому из приходивших к нему, и теперь, в эти последние дни, не скрывал уже дальше действовавшего в нем дара прозорливости. Он словно читал в душе каждого и говорил человеку то наставление, которое, как ярким пламенем, обнимало и освещало всю жизнь этого человека.
Когда одна из его духовных дочерей подумала о том, не оскорбила ли она в чем старца, и поэтому не решалась ни о чем его спрашивать, — тогда он, в прозорливости своей, ответил ей:
— Будь совершенно спокойна, ни о чем не думай! Вручаю тебя покрову и заступлению Царицы небесной. Ей тебя вручаю.
В последние дни жизни старец благословлял всех образками, которых роздал более тысячи и говорил:
— Примите от умирающего на вечную память.
Людям, просившим его помолиться о них за гробом, он отвечал просто:
— «Хорошо», или «помолюсь».
О духовном своем состоянии он признавался:
— Не искушение ли это со мною? Другие перед смертью имеют страхование и боязнь, а я — грешный человек, но страха не имею, нисколько не боюсь. Напротив, ощущаю какую-то радость и спокойствие, и ожидаю исхода своего, как великого праздника.
Его должна была поддерживать радость близкого свидания с братом и память о том, как тяжко пред смертью страдал его брат.
В начале болезни о. игумен видел во сне о. архимандрита Моисея, который, напомнив ему о своей лютой предсмертной болезни, увещевал и его с мужеством претерпеть до конца, чтобы получить от Господа великую милость.
Он ежедневно приобщался и, кроме постоянной молитвы, искал облегчения в окроплении святой богоявленской водой, причем — просил, чтобы окропляли его самого, его смертное ложе, и все его кельи, читал стихи псалма покаянного от слов: «окропиши меня исопом», до слов: «Духом владычним утверди меня».
— О, как нужно это кропление! Какая в нем благодать Божия! — говорил он.
Всегда занятый мыслью о смерти, он незадолго до того собрал сборник молений о тяжко больных, с каноном на исход души. В состав этого сборника вошли некоторые неизданные в печати молитвы из рукописного сборника, принадлежащего Флорищевой пустыни. Одну из этих молитв он постоянно просил читать над собою. Вот, ее утешительные для больных слова:
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, заступи, спаси, помилуй и сохрани, Боже, Твоею благодатью душу раба Твоего, брата нашего (или отца) инока (или священника) имя рек, и грехов юности и неведения его не помяни, и даруй ему кончину христианскую, непостыдную и мирную. И да не узрит душа его мрачного взора лукавых демонов, но да приимут ангелы Твои светлые, и на страшном суде Твоем милостив ему буди: ибо Твое есть единого Господа, еже миловать и спасать нас».
Было что-то высокое и изумительное в этом безбоязненном и усердном приготовлении к смерти, как к великому торжеству. Ибо какое торжество для христианских душ в отозвании на небо! Когда ему не хватало сил, он часто напевал своей душе: «Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже нет болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная».
Часто он восклицал:
— Желал бы я разлучиться, и со Христом быть!
За неделю до конца он велел отложить в особое место свою схиму и все одеяние, в котором желал быть положенным в гроб.
— Засуетятся тогда, — говорил он, — пожалуй, не то надеть еще!
За два дня до конца велел приготовить пред собою на стол свечи, ладан и кадильницу для совершения панихид, вспомнил об иноке, который сколотил ему гроб, и выбрал для него подарок, говоря:
— Это тому брату, что мне дом делал.
Когда один инок просил себе вещь, уже назначенную другому, старец сказал:
— Я ничего не жалею; и всех желал бы утешить, и если бы можно было, самого себя растерзал бы и роздал бы всем по кусочку.
В другой раз, говоря об отсутствующих своих духовных детях, он, разводя в стороны свои руки, сказал:
— Так бы всех собрал и обнял разом.
Одну из икон своих он поручил передать любимому и чтимому им калужскому архиерею Григорию, а четки — митрополиту Филарету Московскому.
Настал день седьмого августа 1865 года — суббота, последний день жизни о. Антония. Он просил, чтобы на него надели все облачение схимы. По его слабости, не могли над ним этого исполнить, и схиму наложили сверху. Это его успокоило. Когда же начали служить воскресное бдение, умирающий просил придти к себе настоятеля, и сказал, что хочет принять у него благословение на смерть. Потом он велел трижды ударить в колокол. Обыкновенно, такими ударами извещают братию о чьей-нибудь кончине. Но в сборнике, с которым выше упоминалось, сказано:
«Абие… ударяют в кампан трижды или множае… во еже вестно быти братиям о тогда преставляющемся брате больном, яко да молятся о нем Богу».
Согласно этой записи, старец просил братию возносить молитвы об отходящем. Он начал сам читать канон на исход души, и сам произнес слабым голосом, но отчетливо его начало: «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков».
Когда канон был прочитан, он сперва лежал молча, потом грозно взглянул в левую сторону и, подняв руку, сжал ее. Все присутствующие затрепетали. Стоявший у смертного ложа один из духовников обители с крестом в руке трижды осенил крестом подвижника, и о. Антоний тихо и мирно дважды вздохнул и с третьим, едва заметным вздохом, мирно отошел.
О. Антоний просил схоронить себя на новом кладбище, где была схоронена его духовная дочь, Екатерина Александровна Путилова, в монашестве Евфросиния, и где, по ее завещанию, на ее средства была воздвигнута усыпальница, а потом и кладбищенская церковь. Но по сношению настоятеля обители с Калужским преосвященным было решено схоронить о. Антония в Казанском Оптинском соборе, рядом с архимандритом Моисеем. Погребение состоялось десятого августа, при громадном стечении народа.
В обители известно, что тела о. Моисея и о. Антония почивают нетленными.
Таков был жизненный путь о. Антония, последнего из русских пустынножителей.
С какой ревностью, оставив мир, поднял он на себя благое иго Христово! С каким усердием и терпением несет он крест жизни более тягостной, чем у многих других подвижников!
И голос веры говорит, что имя смиренного игумена Антония рядом с именем брата его, архимандрита Моисея, когда-нибудь пронесется по святой Руси во славе и в святыне.
Близко знавший о. Антония архимандрит Антоний, в письме своем дает сжатую и меткую его характеристику:
«Письмо ваше порадовало меня, хотя в нем была смертная весть. А я сегодня спрашивал письменно о вас Н. П.; все ли живы оптинские? И на утренний вопрос получаю к вечеру ваш ответ, за который премного благодарю. Скажу несколько слов о новопреставленном о. игумене Антонии, с которым жил я в скиту около года в одном с ним скитском корпусе.
О. Антоний был истинный сын матери нашей православной церкви, строгий исполнитель всех ее заповедей и даже советов, глубокий знаток и хранитель ее уставов и преданий. Он всею жизнью доказал, что монашество возможно и в наше время, и что заповеди Христовы тяжки не суть. От пустынножительства, от стояний и поклонов, и частью от болезни, которая также привилась к нему, от глухих и болотных лесов Смоленской губернии, ноги его превратились в одну язву, невольно напоминающую язвы Христовы.
В юности он испытан был Господом необычайным испытанием, вложен был яко злато в горнило. Это великое горнило была горевшая Москва в 1812 году. В ней о. Антоний с немногими соотечественниками оставался, как бы преданный в жертву вместе с древнею нашею столицею, Иерусалимом России. В этой Вавилонской пещи девственный юноша, достойный по чистоте быть причтенным к отрокам Халдейским, укрепился верою в Промысл Божий, изводящий возлюбленных своих из нечаяния в желанный покой безмолвия. Он, как пленник, носил на раменах своих тяжелый параман — неприятельские ноши, и смиренно преклонял выю свою под тяжелое иго, наложенное временно десницею Вышнего на всю Россию. Потом перешел к пустынножительству, потом — в ваши леса, где с братом своим они были первыми пчелами вашей скитской пасеки, собирателями и делателями того благоухающего меда и сота, который впоследствии усладил и наши иссохшие гортани. С того времени прекрасные цветы монашества возросли в обители вашей, и доселе ее украшают. Потом, после краткого настоятельского послушания, перешел к страдальческому, болезненному покою, который увенчался, как пишете вы, монашескою радостною кончиною его.
Покойный о. Антоний был истинный бескровный мученик послушания. Повинуясь старшему брату — старцу и настоятелю во всем, уничижая себя и свою личность, будучи токмо исполнителем приказаний отца — брата, он, однако же, невольно блистал и сам собою Богом данными и усугубленными талантами. Превосходный чтец и певец, один из лучших уставщиков всего монашества, — он был первым украшением Оптинской, особенно скитской церкви, которая стала для него любимым, единственным местом духовной отрады, его первою мыслью, его жизнью. Он соблюдал в ней порядок, ее священный чин, возлюбил ее красоту, чистоту; готов был устами отвевать малейшую пылинку, замеченную им на лице возлюбленного его малого храма, воскосившего при нем постепенно в свое благолепие, и срубленного в начале его секирою. Служение девственного старца было истинным богослужением. Весь отдаваясь Духу утешителю, с первого воздействия рук он до исхода из храма не принадлежал себе, а, кажется, перерождался и соединялся с херувимами, которых изображал втайне пламенным и стройным служением своим.
Исходя из церкви для келейной тихой жизни, он становился опять первым рабом старшего брата, безмолвником по любви и по благословению отца. Послушание заставило его противу природы своей принять на время настоятельство Малоярославецкое. Но, вырванный из улья скитского, и аскет по влечению сердца, он только томился на своем послушании (не стану говорить, сколь тяжко оно); и потом с радостью возвратился в родной монастырь и, конечно, оградил себя, как и в мое время, целыми стенами отечеческих книг от всяких искушений, кроме болезни. Я не знал такого любителя чтения, как покойный о. Антоний. Беседа с почившими святыми была для него всегда препровождением того времени, которое для многих течет как-то тяжко и долго, а для него, при его природной веселости, шло незаметно при однообразной скитской жизни моего времени. Скажу, что при строгости к самому себе, при внимании уст, он иногда легкою, милою шуткою изредка вызывал улыбку ближайших к нему. Она, эта шутка, как нечаянная искорка или блестка на темной монашеской мантии, тотчас потухала».
Закончим очерк этот упоминанием о замечательном случае, бывшем по смерти о. игумена Антония:
Двадцать шестого октября 1866 года одна духовная дочь о. игумена Антония, помещица Е. С., возвращаясь из гостей домой и переезжая глубокую реку Протву, почти возле самого дома упала с экипажем, кучером и лошадьми с парома в воду. Коляска пошла с помещицей ко дну. Кучер, стоя на козлах, только головою был выше воды; лошади то погружались, то выплывали, а помещица Е. С. с экипажем с самого падения в воду не показывалась. Находясь под водою и сознавая свое ужасное положение, Е. С., закрыв лицо муфтою, обратилась к молитве; но помощи долго до времени не было, вода все более и более душила ее. Стала цепенеть от холода, и открылась сильнейшая боль в груди. Вода через рот устремилась во внутренность. При этом, представились ей в воображении все ее дети. Она сочла все это предвестниками близкой своей кончины, и уже отчаялась в жизни. Но у нее оставалось еще несколько сознания. Она вспомнила об о. игумене Антонии, и подумала: «Батюшка, я тебя всегда просила о христианской кончине, а теперь я умираю без покаяния». В то же мгновение ей представилось, что кто-то закрыл ей рот чем-то теплым, и затем она потеряла сознание.
Когда разнеслась весть по деревне, что барыня утонула, и вытащить ее никто не решался, один добрый крестьянин, крывший в то время свой дом, оставил работу и поспешил на помощь утопавшим. Отыскав доскою в воде экипаж, и не найдя в нем своей барыни, он стал искать ее на дне багром, отыскал и вытащил без всяких признаков жизни: сердце не билось и пульса не было слышно… Почерневшую ее отнесли в ее дом. Одежда на ней вся обледенела, и как изрезав на части. Призван был священник и два доктора из ближайшего города.
Спустя несколько времени, священник, хотя и не надеялся получить от видимо умершей ответа, однако, — спросил:
— Не желаете ли, Е. С., приобщиться св. Таин?
К удивлению всех, она открыла глаза и сказала:
— Желаю.
Тотчас же она была исповедана и приобщена св. Таин. При пособии докторов, она несколько оправилась: а с течением времени и совсем укрепилась и жила еще долго.
Преосвященный Феодотий, архиепископ Симбирский и Сызранский
Есть тихие уголки, которые особенно располагают к тихой созерцательной жизни. За отсутствием мирских развлечений люди с особенною охотою предаются там духовной жизни, особенно крепко прилепляются душой к храму, к его богослужению, особо ревностно чтут своих пастырей.
К числу таких благословенных городов принадлежит тихий Симбирск, старое дворянское гнездо.
На людей чутких такие места действуют особенно отрадно при первом знакомстве с ними. И один из таких людей, епископ Феодотий, о котором надлежит нам речь, при первом знакомстве своем с Симбирском произнес в сердце своем объять: «Се покой мой: зде вселюся», и этот объять он исполнил.
Несмотря на предлагавшиеся ему повышения, он не изменил своему Симбирску, и здесь трудился, здесь и опочил, оставив память о себе, как об иерархе ревностном, человеке высоких духовных стремлений и подвижнической жизни.
Архиепископ Феодотий, в миру Феодор Адрианович Иванов, был сыном священника села Косиц, Верейского уезда, Московской губернии, и родился в 1797 году. Образование он получил в Московской семинарии, состоявшей тогда при Николо-Перервинском монастыре, в окрестностях Москвы, и затем — в Петербургской духовной академии, где получил степень магистра богословия.
Приняв монашество, он был назначен на должность инспектора и профессора Вифанской семинарии, затем — в течение девяти лет — был ректором Уфимской и Рязанской семинарий и, сорока лет от роду, поставлен епископом Старорусским и викарием Новгородской митрополии. Сорока пяти лет от роду, в 1842 году, он назначен епископом Симбирским и управлял Симбирской епархией шестнадцать лет. За два года до кончины он был возведен в звание архиепископа, скончался двадцать восьмого августа 1858 года и был погребен в симбирском кафедральном Никольском соборе.
Преосвященный Феодотий очень любил храмоздательство, и — по его заботе — при нем в епархии было возведено много новых и украшено много старых храмов. Он великолепно украсил симбирский кафедральный собор, восстановил сызранский Вознесенский монастырь, при котором завел богадельню для престарелых и одиноких духовных, причем — монастырь был возведен из третьего класса в первый. Он открыл сызранский женский Сретенский монастырь, восстановил опустевшую Жадовскую пустынь и установил ежегодное принесение в Симбирск из Жадовска чудотворной иконы Казанской Божией Матери. Он обновил духовную семинарию, открыл общежитие для призрения сирот при Алатырском и Сызранском духовных училищах, открыл училище для девиц духовного звания при симбирском Спасском монастыре. Он также заботился о распространении православия среди евреев, язычников и магометан и, идя навстречу раскольникам, устроил для них единоверческую церковь. Проповедник, трогавший своими беседами, исходившими из сердца, он — в последнее время своей жизни — собрал некоторые из писаний своих, которые издал под заглавием: «Утро священнослужителя».
Любимый и чтимый всеми сословиями губернии, он остался в памяти жителей Симбирска, как архипастырь благообразный, набожный, сильный и увлекательный в слове, с твердою волею и широкими начинаниями, с постоянною заботою об обеспечении духовенства, о духовных нуждах паствы, проникнутый трепетным благоговением перед словом Божиим, усердный чтитель Богоматери, пастырь неустанной ревности в богослужении.
Высота жизни человека, обыкновенно, отражается в его смерти, так как образ смерти человека бывает часто зеркалом его жизни. В предсмертной болезни преосвященного Феодотия проявились все высокие качества его души.
Нося имя, означающее — по переводу с греческого — «Богом дарованный», преосвященный Феодотий являл в себе образ архипастыря то величественного, то приветливо нежного, как отец, а быстрый и проницательный взор его как бы проникал в толщу жизни его пасомых.
Богатый множеством разнородных сведений, почерпнутых им из постоянного чтения, расположенный ко всему доброму и прекрасному, с благороднейшим вкусом, с приятною и приветливою речью, преосвященный Феодотий невольно привлекал к себе общую любовь. В отношении же чина церковного он казался красою своей церкви. От души любя храмы, он особенно тяготел к Никольскому собору, в котором и погребен, и украсил его так, что называл его «небоподобным».
На украшение этого собора он жертвовал много сам и умел расположить к тому свою паству, которая охотно давала свои пожертвования на эту высокую цель. Он любил служить, и не только в большие праздники, но и в дни малых праздников. Когда ему возражали, что стоит ли служить при отсутствии молящихся, — он с трогательною, присущею ему, верою говорил: «Если не будет богомольцев, то придут ангелы, — для них будем служить».
Он отправлял богослужение с великой ревностью, в строгом порядке и, помимо набожного благолепия, в этом богослужении его чувствовалось такое внутреннее воодушевление, что часто у молящихся навертывались слезы; так рвавшаяся к Богу святая душа архипастыря увлекала за собою сердца паствы.
Воздевал ли он молитвенно руки к Богу, призывал ли он трепетно Святого Духа на предлежащие Дары, прикладывался ли он к местным святыням, в его действиях всякое священное таинство, всякий обряд приобретали особый духовный смысл, особую выразительность, особую внешнюю красоту, — именно потому, что во всяком из этих обрядов сквозило глубокое усердие и пламенная вера архипастыря. Архиепископ Феодотий принадлежал к числу тех немногих архиереев, которые заключают союз свой с паствою неразрушимым союзом.
Как чистой души девушка остается всю жизнь верна своей первой любви, так и епископ Феодотий, получив самостоятельную кафедру, одного только и желал: не нарушить союз свой с этою паствою до конца своих дней.
Какою-то нежною, неразрывною любовью прилепился преосвященный Феодотий к Симбирску с самого первого вступления в этот тихий и богобоязненный город.
В первый же день произнес он в душе своей слова псалма, которые стали для него священным объятом: «Се покой мой; здесь вселюся!»
И верность своей пастве он соблюл до конца. Ему было предложение перейти на более видные кафедры, но от этого жребия он отрекался.
Скорбь при опасении разлуки с симбирскою паствою была одна из сильнейших скорбей его во всю его жизнь. Человек совестливый — он страдал и болезнь за свою паству и, страдая за нее, часто не спал ночей, чем значительно сократилась его жизнь.
В последнее время своей жизни архиепископ Феодотий провел целые два года в Петербурге, присутствуя в Святейшем Синоде. По возвращении своем он казался пастве своей утомленным, часто жаловался на болезнь в правом боку и общее оскудение в силах. Он словно спешил закончить свои дела, собрал и издал все свои поучения под названием: «Утро священнослужителя», и этой книгой благословлял всех. Он спешно доканчивал дело благоустроения теплого кафедрального Никольского собора, в который завещал положить свои останки, и при этом пророчески часто приговаривал:
— Нет, не долго мне жить!.. Вот, в августе месяце исполнится уже тридцать пять лет и моей службе.
Месяц август и был месяцем его смерти.
Первый приступ болезни, по отзыву врачей давней и хронической, обнаружился в архипастыре при обозрении епархии, на пути из благоустроенного им Сызрано-Вознесенского Покровского монастыря в воссозданную его трудами Жадовскую пустынь.
В Троицын день предполагалось перенесение чудотворной Жадовской иконы в торжественном, установленном им крестном ходе в Симбирск.
Страшная болезнь в боку и в груди заставила опасаться даже за жизнь преосвященного. Но пособия из походной аптечки с помощью ближайшего сельского лекаря несколько облегчили его и он с великим трудом, все-таки, совершил — при огромном стечении богомольцев — торжественную литургию и проводил икону в Симбирск. 21 мая он совершал в последний раз богослужение в кафедральном соборе и крестный ход вокруг бывших стен кремля с чудотворной Жадовской иконой Богоматери в день избавления Симбирска от нападения воровской шайки атамана Разина.
Одиннадцатого июня отслужил в последний раз литургию в возобновленной им крестовой архиерейской церкви, и с чувством умиления и горячими слезами произнес архипастырскую молитву: «Призри с небес, Боже, и виждь, и посети виноград сей, егоже насади десница Твоя».
Вскоре доктора строжайше запретили ему заниматься епархиальными делами, и паства с трепетом стала следить за ходом болезни.
С восьмого июля болезнь приняла такой решительный оборот, что врачи потеряли надежду, и преосвященный Феодотий стал заботливо приготовляться к великому переходу.
Тут открылась во всем размере горячая любовь к нему симбирской паствы. С утра до вечера и родовитые люди, и простолюдины толпились в дом архиерейском и вокруг него, спрашивая о состоянии здоровья. Не только жители Симбирска, но и далекие иногородние жители, особенно дворяне и духовные, постоянно приезжали в дом узнавать о здоровье.
Семнадцатого июля преосвященный, во исполнение своего давнего желания, особоровался после исповеди и благословлял пришедших к нему иконами из своей молельни.
Он со слезами простился и благословил горько плакавших воспитанниц учрежденного его заботами епархиального училища, подписал духовное завещание о небольшом, благоприобретенном своем имуществе, приготовил в одной из комнат архиерейского дома для себя облачение, определил место для своего погребения и просил по его кончине съездить в Казань для приглашения преосвященного викария Никодима, с которым его связывала давняя приязнь, звать на погребение.
Отдав все эти распоряжения, покончив с земными расчетами, преосвященный предал себя в руки Божии. Он велел поставить перед глазами своими образ Спасителя, завещая — после смерти своей — утвердить этот образ на своей будущей могиле.
Он старался эти дни оставаться один, приказывая затворять двери кабинета, в котором лежал и постоянно молился, повторяя или покаянный псалом Давида или другие молитвы и набожно крестясь.
Приходили к нему посетители, спешившие принять от него последнее благословение. Он всех удовлетворял, у всех просил прощения и молитвы. Когда же, временами, в нем вспыхивала жизнь, он возвращался мыслью к епархиальным делам, подписывал некоторые бумаги, которые должны были по смерти говорить о его благодеяниях духовенству. Слабевшей рукой ему пришлось возложить на духовенство пожалованные им награды, и было умилительно видеть этих пастырей, принимавших с этими наградами последний завет своего архипастыря.
Десятого августа он приказал отслужить раннюю литургию в малой крестовой церкви, которую строил своим иждивением и из которой одна дверь выходила в его опальню. На кровати его поднесли к полуотворенной двери, из которой он слышал божественную литургию.
Во время, определенное для причастия духовенства, он встал и, при поддержке иподиакона, вошел в церковь, облачился в мантию, омофор и, павши на колени перед отверстыми царскими дверями, со слезами приобщился Христовых Таин. В этот день он казался ожившим. И когда одно духовное лицо высказало ему, что надеется на продолжение его жизни, — он с уверенностью сказал:
— Да, Бог силен воскресить и мертвого, но я чувствую, что мне не пережить и недели.
Когда его спрашивали, как он чувствует себя, он обыкновенно отвечал:
— Слава Богу, хорошо.
Часто он повторял слова Иова:
«Аще благая приях от руки Господни, злых ли не стерпим?» (Иов.2:10).
И, по принятии святых Таин, произнес однажды:
— Теперь и самая смерть не так страшна!
Господь послал ему такую болезнь, во время которой до последней минуты, обладая полным сознанием, он постепенно отрешался от всего земного и видимого и, как свеча, поставленная на свещницу, тихо догорал перед иконами Спасителя и Божией Матери, которые окружали одр его болезни.
Семнадцатого августа стало для всех очевидным, что смерть приближается.
Окружающие его день и ночь бодрствовали. А он все продолжал быть в сознании, непрестанно молился, тихо произносил краткие молитвы и набожно изображал на себе крестное знамение.
Ровно за сутки до своей смерти, уже потеряв употребление языка, он еще раз околодевшей рукой преподал благословение всем окружавшим его, посадил возле себя на кровати своего маленького племянника Федю, подержал его за руку и погладил по головке.
Когда, в одиннадцатом часу ночи, один из приближенных священнослужителей стал в ногах архипастыря, чтобы в последний раз насмотреться на него живого, — архиепископ Феодотий дал ему знак, что кончина его близка.
Вся ночь с девятнадцатого на двадцатое была проведена окружающими в молитвах. Казалось, что больной спит, но когда подошло к нему одно близкое лицо, он пожал руку.
Когда раздались стоны предсмертного страдания, духовник прочел канон и молитвы на исход души, и — двадцатого августа, в десять часов десять минут утра, архипастырь преставился.
Это было в тот самый день, в который за шестнадцать лет назад симбирская паства впервые услышала весть о назначении преосвященнейшего Феодотия на кафедру архиепископа симбирского.
Народ как бы силой какого-то электрического удара бежал со всех сторон к архиерейскому дому и мгновенно наполнил дом, двор и улицу, на которую выходит дом.
Архиепископ был вынесен в зал, и в последний раз был торжественно облачен на своей архиерейской кафедре при унылом пении хора: «Да возрадуется душа твоя о Господе». Когда его облачили и, приподняв с кафедры, вложили, как живому, дикирий и трикирий для осенения, а протодиакон голосом дрожащим и прерывающимся от слез возгласил: «тако да просветится свет твой пред человеки», все зало сотряслось от громкого плача.
На другой день тело архиепископа Феодотия было положено в гроб и вынесено в крестовую церковь. Вокруг гроба, по его завещанию, было положено много серебряных и вызолоченных крестиков. Народ жадно спешил получить это последнее благословение архипастыря.
Похороны были назначены на воскресенье двадцать четвертого числа.
Величественно было последнее усопшего из его архиерейского дома в кафедральный собор. Он шел теперь среди священников, величественно окруженный святынями церкви, встречаемый и сопровождаемый собравшейся вокруг него паствой, по тем самым улицам, по которым совершал все торжественные крестные ходы — по Сенной, через Карамзинскую площадь, по Дворцовой улице, по Большой и Московской.
Два священника несли иконы Спасителя, из которых одну архипастырь завещал поставить над своей могилой, а другою благословил посмертно свою паству. Затем шли воспитанники и служащие гимназии, семинарии, духовного училища и консистории, певчие, духовенство. Один из диаконов нес на блюде митру с омофором, посошник — посох и лампадчик — лампаду. Народ собрался со всех опустевших концов города к месту шествия. Не только улицы, по которым был несен гроб на всем протяжении, но и окна и многие крыши, все возвышенные места и даже колени, были унизаны народом.
Когда крестный ход приблизился к собору, то вокруг него и на всей огромной соборной площади народу собралось такое множество, что гроб с трудом был пронесен в собор, тоже переполненный народом. На это плачевное торжество почившего стеклись даже раскольники и лица инославных исповеданий.
Перед окончанием отпевания один из архимандритов с амвона, от лица архиепископа, как будто почивший, снова возвысивший из гроба свой голос, — прочел из его духовного завещания последнее его обращение к пастве:
«Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Услыши молитву мою, Господи, и моление мое внуши, слез моих не премолчи: яко пресельник есмь аз у Тебе и пришелец, яко же все отцы мои. Ослаби ми, да почию, прежде даже не отыду и ктому не буду. Благодарю Тебя, Господи, за все Твои милости, которыми Ты по премногу и не по достоинству моему ущедрял меня, во все продолжение моей жизни. Умоляю Тебя, Господи, прибави милости Твои ко мне и, даровавши мне прежде конца покаяться Тебе, прости мне все согрешения мои. Отцы, братия и чада мои во Христе, всех вас прошу и умоляю, простите меня Христа ради во всем, чем кого из вас я оскорбил или опечалил. И я грешный всех вас и за все сделанное противу меня прощаю. Аминь». Древнею иконою Христа Спасителя в серебряной вызолоченной ризе благословляю боголюбезную мою симбирскую паству».
Жить духовною жизнью, с юности гореть священным огнем, чувствовать в душе божественный призыв, отдаться Христу и идти навстречу к Нему, быть пастырем добрым, душу свою полагающим за овцы своя, медленно изгореть в духовных прекрасных подвигах, и оставить по себе яркий след кроткой, милующей, заботливой, к Богу стремящейся души: таков был жизненный удел архиепископа Феодотия, образ которого все будет обновляться в новых лучах.
Тамбовский подвижник Илья немой
(чтец Казанской церкви города Ливень).
Подвижник Илья, в миру Иоанн Петрович Богоявленский, родился приблизительно в 1794 году в семье священника села Крутого, Ливенского уезда, Орловской губернии, и был одним из шести детей своего отца. Во всех позднейших поступках его было видно великое его уважение к родителям.
Научившись дома грамоте, мальчик был отдан в Севское духовное училище и тут вместо отцовской фамилии, Шубин, получил фамилию Богоявленского. Как известно, нередко при поступлении детей духовенства в учебные заведения начальники по произволу давали им имена.
Успевал он в учении хорошо, учился охотно, но, по слабому здоровью, не мог пройти полного курса семинарии и, с первых шагов учения, ему пришлось отказаться от науки.
В скором времени Иоанн Петрович поступил в келейники к орловскому архиерею Досифею, и на этой должности он выказал большую расторопность, точность, честность, сметливость и услужливость.
Но на этой должности ему пришлось пробыть недолго: он так сильно зашиб себе руку, играя с другим келейником, что должен был уехать для поправки на родину к отцу.
Хотя он там прожил целый год, но вполне не оправился, и рука его на всю жизнь осталась немного согбенной. Ему казалось неудобным оставаться в таком положении у архиерея и он спросил себе увольнение.
Семнадцати лет от роду, в 1811 году, Иван Петрович был определён причетником при Казанской церкви в городе Ливнах. Ещё раньше, в службе своей при преосвященном Досифее, Иван Петрович просил у него благословения, как он выразился «ради спасения души» и для удовлетворения своей наклонности, избрать странническую жизнь, чтобы обойти все святые места Русской Земли.
Архиерей тогда не согласился на это, но Иван Петрович не отложил совсем своего намерения, и в 1813 году из города Ливен тайно прошёл в Коренную пустынь, Курской епархии, славящуюся своей чудотворной иконой Знамения Богоматери. Тут он даже думал устроиться совсем и иночествовать, но в Ливнах у него оставалась мать вдова, которую надо было содержать.
Забота о матери взяла перевес над стремлением к иночеству, и он вернулся в Ливны.
Мать, чрезвычайно обеспокоенная внезапным уходом сына, обрадовалась его возвращению и, желая на будущее время предупредить такие неожиданности, поспешила уговорить его жениться.
Она высватала ему небогатую девушку из ливенской семьи, Марию Ивановну. В это время Ивану Петровичу было двадцать три года. В браке он был счастлив. Через два с половиной года после свадьбы родился у него сын. Молодой отец очень любил мальчика, и когда тому исполнилось три года, стал лично обучать его грамоте: возраст исключительно молодой для начала учения; но, вероятно, отец уже тогда предчувствовал, что недолго останется с сыном и не хотел терять времени.
Из бесед Ивана Петровича со знакомыми видно было, что он не утратил и после женитьбы наклонности к уединению. Все свободное время от своей службы по церкви и по приходу он читал Священное Писание и жития святых, и иногда за этим чтением просиживал напролёт целую ночь.
Эти книги были как бы топливом, поддерживавшим в душе его огонь ревности Божественной, и этот огонь тайно для людей разгорался в нём все жарче и жарче. Замечательно отношение Ивана Петровича к своей службе. Он отправлял её весьма тщательно и усердно. Видно было, что он придавал ей большое значение.
У нас многие смотрят пренебрежительно на службу причетника и не придают ей никакого значения. Между тем, хороший причетник для торжественности богослужения не менее, если не более важен, чем хороший диакон или священник.
Сколько назидательных чтений, установленных Церковью для храма, пропускается верующими мимо ушей, не оказывая на них никакого впечатления, именно — потому, что причетник, вместо того, чтобы выразительно и с благоговением прочитывать священные слова — «отбарабанивает» их без всякого смысла, толка и чувства.
Иван Петрович и совне держал себя достойно своего звания. Он был чрезвычайно опрятен, одет не только что чисто, но даже щеголевато, и в обращении его с другими, несмотря на его молодость, была некоторая важность и солидность. Он сумел найти ту драгоценную ступень в обращении с людьми, которая одинаково далека как от заносчивости, так и от низкопоклонства.
Всякая неправда глубоко возмущала его чистую и горячую душу. Он, нередко, пламенными речами смело обличал людей, допустивших какую-нибудь неправду, несмотря на высокое положение этих лиц. В приходе Иван Петрович пользовался большим уважением. Он был один из тех людей, у которых дело спорится в руках, за какое бы дело они ни принялись.
И по даровитости своей он одинаково успешно делал различные поделки, прекрасно зная столярное, слесарное, портняжническое, сапожное и малярное ремесла, — так много было у него талантов.
Он не принадлежал, таким образом, к числу тех людей, которые являются какими-то непригодными и неприспособленными к жизни. Наоборот, он был переполнен дарованиями, которые могли ему открыть в жизни более широкий путь и сделать его жизнь обеспеченной и приятной. И от всех обещаний жизни он отказывался для того, чтобы вступить на путь труднейшего подвижничества — путь ежедневной вольной пытки.
Мир готов осуждать людей, которые ради полной отдачи себя Господу оставляют свои семьи. Но для кого же, как не для этих людей, столько же в призыве им, сколько в оправдание их перед другими, не вникающими людьми, не чувствующими в себе этого стремления полного посвящения себя Богу, — прозвучали слова Христовы:
«Иже оставит дом или братию, или сестры, или отца, или матерь, или жену, или чада, или села имени Моего ради, сторицею приимет и живот вечный наследит».
В этих словах звучал для Ивана Петровича постоянный призыв, и он этому призыву внял и осудил себя на изгнание, одиночество, уничижение и юродство.
Ему было двадцать семь лет, когда он решительно и бесповоротно вступил на новый путь.
Семнадцатого сентября 1822 года, в ночь с субботы на воскресенье, Иван Петрович потихоньку остриг волосы, снял с себя и спрятал причетническую свою одежду, обулся в худую обувь, прикрыл себя рубищем и незаметно выскользнул из дома.
За ним дома оставалась без всякого обеспечения двадцатитрехлетняя жена и пятилетний сын, имущество которых заключалось только в небольшом количестве необходимого носильного платья.
Но, решаясь лишиться всего ради обнищавшего для нас Христа, Иван Петрович знал, что Бог обилен милостью, что Тот, у Кого не забыт ни один воробей, чирикающий на улице, не погубит и не оставит без пропитания его беззащитную семью.
И можно думать, что Иван Петрович был так же уверен в том, что семья его не останется без куска хлеба, как если бы он, скрываясь из мира, оставлял эту свою семью на руках поручившегося за них какого-нибудь сильного человека.
Можно себе представить тот переполох, который поднялся в доме молодой беззащитной женщины, когда муж ее не являлся, когда день бесплодного ожидания сменял такой же день и когда, наконец, из некоторых, быть может, вскользь брошенных слов Ивана Петровича, из прежних его исчезновений можно было заключить, что он ушел из дому навсегда.
В то время орловским архиепископом был преосвященный Гавриил, которому и было доложено об уходе казанского причетника.
Преосвященный поступил весьма заботливо: место причетника было зачислено за пятилетним сыном Ивана Петровича, и доход шел ему до окончания им семинарского курса. Впоследствии сын Ивана Петровича был протоиереем в городе Кромах, Орловской епархии.
Расставшись с семьей и родиной, одетый в нищенское рубище, Иван Петрович прошел на восток через города: Елец, Липецк, Козлов и Тамбов. В Тамбове он и остался навсегда.
Иван Петрович прикинулся юродивым, глухим, немым и глупым. Его стали звать в Тамбове Ильей — вот, по какому поводу. Как-то стали его расспрашивать об его имени, и он указал тогда на икону пророка Илии. Поэтому и подумали, что таково его имя.
Быть может, указывая на икону пророка, блаженный хотел показать, что он стремится подражать Илии в ревности о Боге и что, как Илия пророк, он из родной страны укрылся на чужбине, ища покоя своему духу.
Так как Иван Петрович принял на себя подвиг молчальничества и не раскрывал уст своих, то его стали звать: «Илья немой».
И вот началась новая жизнь. Большую часть дня блаженный проводил в церквах и около церквей. Первая церковь, при которой он начал привитаться, была Знамения. Достав себе несколько листов Следованной Псалтири, он стал ежедневно читать по этим листам молитвы.
Вечером блаженный уходил из города и ночевал в Петропавловской кладбищенской церкви, которая тогда строилась. Таким образом, он был в церкви или у церкви и днем и ночью. С начала зимы блаженный перешел в Казанский мужской монастырь.
Он старался не быть праздным, прислуживал братии в храме и в кельях. Он силился поступить в число братии и знаками умолял об этом казанских иноков.
Ему написали на бумаге, что он должен удостоверить личность свою паспортом, но паспорта не оказалось. И иноки стали думать, что он какой-нибудь опасный бродяга. В виду этого его не стали вовсе пускать в монастырь.
Оставшись без пристанища, блаженный перешел к Покровской церкви города Тамбова, ожидая здесь лучшей участи.
Сперва он жил здесь без беды: он топил печи, мел церковь и прибирал ее, всячески прислуживая священникам и причетникам. Он мечтал устроиться на службу при церкви, но просьбы его не удовлетворялись, а на последнее его домогательство причт ответил тем, что донес на него, как на беспаспортного, полиции.
Полиция, прежде всего, произвела о нем дознание, стала его допрашивать, но он на все вопросы отвечал полным молчанием, прикидываясь немым или глупым. Тогда полиция признала его за бродягу и осудила на заключение в тюрьму.
Эти дни были одними из самых тяжелых в жизни подвижника. Ему было страшным лишением оставаться без храма. А кроме того, в обществе отверженных с их пороками, руганью, непристойными словами и богохульством — могло ли быть легко необыкновенному человеку, который для подвига духовного оставил даже службу при церкви?
Вместе с прочими арестованными подвижника посылали на городские работы. От жизни в тюрьме здоровье Ивана Петровича до такой степени расшаталось, что он подумывал открыть своему начальству о себе всю истину, чтобы только прекратить этим невыносимую жизнь.
Но тут Господь послал ему духовную поддержку. В тюрьме сидели три невинные женщины, которые Христа ради приняли на себя подвиг темничного заключения. Они поняли невинность Илии и, в простоте своей сильной веры, стали убеждать его терпеть до конца, указывая на то, что Христос терпел еще больше его.
Через год пребывания подвижника в тюрьме — здоровье его стало лучше и легче стало у него на душе. Из числа бродяг его перечислили к рабочим сумасшедшего дома, которые ходили на работы в присутственные места. Теперь он стал считаться не за бродягу, а за слабоумного.
Смотритель приказа решил добиться от немого объяснения его имени и звания. Запугивая его, смотритель объявил, что трижды в день будет его бить палками, пока он о себе не откроет всю истину.
Эти угрозы сильно напугали Ивана Петровича, но они не были приведены в исполнение, так как смотритель был удален от службы. Его заместитель был из духовного звания и относился лучше к блаженному.
Он подметил особое усердие и добросовестность в его работе и, желая облегчить ему жизнь, дал ему право жить в приказе с караульными солдатами. В первый раз со дня ухода из Ливень выпала блаженному такая радость.
И вот он может опять в свободные от работ часы ходить в церкви, он может исповедоваться и приобщаться — чего ему в Тамбове раньше не удалось.
Он стал ходить в церковь женского Вознесенского монастыря, ближайшую к тому приказу, где он служил. По своему обычаю делать другим приятное и полезное, он трудился для монастыря: возил и носил дрова для топки церковных печей, мел и убирал церковь после службы, помогал в алтаре.
Один из монастырских священников стал ему духовником. Это был отец Иоанн Андреев, к которому он, бывая в монастыре, почувствовал любовь и доверие. Блаженный открыл, как-то, отцу Иоанну всю правду о себе. Тот обещал все держать втайне до его смерти. Это слово отец Иоанн сдержал.
Обратимся к личному рассказу отца Иоанна Андреева о своем духовном сыне.
«Однажды, — пишет отец Иоанн, — возвращаясь от заутрени, я оглянулся назад и увидел идущего позади меня Илью. Он не отставал от меня и тогда, когда я сходил в сени и покои.
«— Что тебе надобно? — спросил я.
Вместо ответа старался он объяснить мне знаками, что желает остаться со мной наедине. Я понял его желание и, хотя живу совершенно одиноким, однако — принял его в отдаленной комнате, где Илья, поклонившись мне в ноги, просил меня усильно соблюсти по смерть его тайну, которую он объявить. В это время он исповедался и, совершенно ознакомившись со мною, говорил, что он знает меня уже третий год, тогда как я, равно и прочие в монастыре, видели в нем немого Илью.
С этого случая, приходя ко мне тайно, он получал от меня то чернильницу, перо, ножичек и бумагу, то книги для чтения и занимался ими в своем приказе. Причисленный наконец, к сумасшедшим, он под видом нищего просил меня взять его под расписку, и я, в намерении приспособить его к нашему ближайшему от города монастырю, доставил ему псалтирь самого малого формата, чтобы он изучил ее на память. Изучив псалтирь, он возвратил ее мне, — был и в монастыре, но монастырь ему не понравился; он удалился снова в свою казарму и продолжал жить среди солдат за печью.
Получив от своего начальства хорошее о себе мнение, он имел совершенную свободу ходить в церковь на службу, и монашествующие любили его, брали в свои кельи для обедов, иногда дарили ему платочки, утирочки и прочее. Но однажды, рано поутру, отнес он все это в семинарию и отдал при записке сиротам-бурсакам. Кроме же нашего монастыря и церквей, он никуда не хаживал, да и не позволялось; стаивал всегда с нищими у двери и принимал милостыню, которою питал своих сумасшедших; покупал им тайно булки, ягоды, яблоки и прочее.
В последние годы я хотел было взять его из приказа к себе и построить ему внутри моего сада келью. Илья на это соглашался, но потом мы нашли сообща, что покой, который он получит, послужит ему, по его молодости, во вред. Вверив себя совершенно Промыслу Вышнего, он решился навсегда оставаться в приказе и потому, посвятив себя работе за поварней сумасшедших, за вареньем квасов и прочего иногда пропускал и службы Божии.
Я еще в начале сшил ему верхнее платье, в котором он хаживал только в церковь, домашняя же его одежда оставалась под верхней и была такого качества, столь ветха и древня, равно как и рубашка, что висела отрепьями и своею чернотою походила на черную овчину. Так как в комнате живу я один, то он — нередко — ходил ко мне тайно, но в баню не хаживал, рубах от меня не принимал; умел вязать чулки и потому собирал по комнатам приказа чулочные оттирки, чем моют полы, вымывал их, распускал и из этих ниток вязал тайно чулки, которыми наделял сумасшедших.
Ему давалось на год по одним котам. Чтобы они дольше послужили ему, я покупал для него подошвы, равно и сапожный инструмент, и он подшивал свои коты тайно на чердаке, при свете луны. Но всего, — замечает отец Иоанн, — не опишешь.
В текущем 1829 году, на масленице под четверг Илья ночевал у меня и своим больным просил рыбы. Я отпустил. Поутру оба мы пошли со двора — я к заутрене, а он — в свой приказ. Ночевал он у меня в неделю православия. Я имел в нем духовного друга. Иногда ему нужно было попросить меня о чем-нибудь тайно, духовно. Тогда, ища руки священнической, будто хотел принять от меня милостыню или благословение, он передавал мне зажатую в его ладони записку.
Такую-то записку подал он мне на второй неделе великого поста в среду или четверг; а на третьей — в обители сказывают, что приходили солдаты и объявили, что Илья помер. Я тотчас побежал в приказ, и оказалось, что говорили правду. Тогда я все относительно его открыл смотрителю, от которого и получил позволение взять его тело и похоронить на мой счет. В то же время донес я о нем и своему преосвященному Афанасию. Для усопшего сшили новое приличное платье и облачили в стихарь. Монашествующие несли его в свою церковь на плечах. Отпето погребение торжественно. Стечение народа было великое. На кладбище тело несено было самими монашествующими… При сем, — заключает свое письмо отец Иоанн благочинному г. Ливену, — посылаю одну книжицу собственной его руки с картинами. Книжица написана в приказе, а картины изготовлены ему мною наймом. Прошу отдать это сыну его, в благословение родительское. Также засвидетельствую мое глубокое почтение и его супруге».
Такую тяжелую жизнь провел этот подвижник, которому можно было пройти эту жизнь не в вечном томлении и лишениях, а в довольстве и в тихом благоденствии.
Из немногих преданий, сохранившихся о блаженном, есть рассказ о блеснувшей в нем прозорливости.
В Тамбовском женском монастыре был обычай, что знакомые игумении в прощеное воскресенье ее чем-нибудь дарили. Кто-то принес игумении в этот день большой пряник, и она передала его для хранения одной монахине.
Маленькая девочка, находившаяся тогда в келье монахини, подошла к прянику и разломала его. Монахиня, боясь, что игумения строго взыщет с нее за несохранение подарка, была в большом горе.
В это время вошел в келью Илья немой и руками успокоил ее, показывая, что игумения не только что не рассердится на нее и на девочку, а, наоборот — будет рада за ребенка.
Все это в точности сбылось.
То, как отнесся Тамбов к смерти блаженного — показывает, что уже при жизни его люди отдавали себе отчет в духовной силе подвижника. По той же самой причине не мог он быть забыт и при смерти.
Его могила была оберегаема и весной покрываема цветами. На Крестовоздвиженском тамбовском кладбище, к северу от кладбищенской церкви, по прямой дорожке от нее, под двумя высокими ветвистыми вязами, находится скромная могила с деревянным — простым и белым — над нею крестом. Надпись на кресте гласит:
«Здесь покоится прах раба Божия Иоанна, певца Казанской города Ливен церкви, скончавшегося в 1829 году в Тамбове под именем Ильи Немого. Упокой, Боже, раба Твоего во царствии Твоем!»
И этот, гнавший себя и гонимый судьбою при жизни человек, является одним из тех праведников, которых Бог посылает в благословение городам и за которых милует эти города, несмотря на бесчисленные грехи жителей.
Московский юродивый Семен Дмитриевич
Сохранилось немного сведений о личности московского юродивого Семена Дмитриевича, который — в свое время — был очень известен в Москве среди лиц, чутких к подвигу духовному.
В молодости Семен Дмитриевич имел башмачную торговлю, на Смоленском рынке.
В 1804 году произошел страшный пожар, истребивший часть города около Новинского бульвара и Смоленского рынка. С достоверностью можно думать, что тогда у Семена Дмитриевича Троицкого сгорела его лавка со всем товаром. Можно себе представить то впечатление, которое должна была произвести на него потеря всех средств к жизни.
Человек с менее религиозным настроением, конечно, постарался бы оправиться от тяжелого удара, нанесенного ему судьбою и поступив в другую сапожную торговлю служащим, постарался бы скопить денег, чтобы вновь завести самостоятельную торговлю. Но этот удар с особой яркостью осветил в глазах Семена Дмитриевича всю тщету земных человеческих стремлений. Он решил остаться на всю жизнь нищим и подвижничать.
Семен Дмитриевич на паперти у Троицкой церкви и в этой церкви правил должность чтеца и певца. Он провел в Москве страшные месяцы французского нашествия, так как не оставил города и бродил по обгорелым развалинам столицы, не имея постоянного пристанища.
С 1816 года он жил на Арбатской улице, в доме купца Дронова. В 1820 году он встретился на улице с московским обер-полициймейстером Шульгиным и, очевидно, вид у него был столь необыкновенный, что полициймейстер обратил на него внимание и велел схватить его, чтобы представить, для освидетельствования умственных его способностей, в дом умалишенных.
После производства испытания он был признан владеющим своим разумом в полной мере и выпущен на свободу.
Тогда Семен Дмитриевич сперва вырыл себе землянку во дворе купца Ильина, но затем снова перебрался на Арбат, к тому же купцу Дронову.
Наконец, он выбрал себе постоянное местожительство в доме купца Чамова, в приходе святителя Николая, что на Щепах.
Единственное место, куда он ходил, да и то не часто, был храм. Затем шестнадцать лет, с 1836 до 1852 года, он почти безысходно пребывал в саду.
Последние восемь лет своей жизни до самого конца он лежал, не вставая с одра болезни. При нем была одна благочестивая старушка, которая посвятила свою жизнь уходу за блаженным.
Семен Дмитриевич ходил всегда босиком, не боясь никакой погоды. Шел ли снег, была ли гололедица, морозы, которые в то время были лютей, чем теперь, ростепели, или раскалявший тротуары зной — он был всегда босым. Голову он тоже никогда не покрывал, а единственной одеждой его была длинная рубаха. Он переходил от церкви в церковь и ни от кого ничего не принимал, ничего не просил, не пускался ни с кем в длинные разговоры. Всегда он вслух напевал псалмы и молитвы.
О себе Семен Дмитриевич говорил всегда в третьем лице. Вообще, надо было привыкнуть к нему, чтобы понять его слова. Много ходило рассказов о его прозорливости.
За несколько дней до конца своего он приобщился Святых Таин, накануне смерти особоровался и скончался тридцать первого декабря 1860 года, на девяностом году своей подвижнической жизни.
К усопшему, проститься с ним, потянулось много народа. Многие заказывали отдельные панихиды. При отпевании собравшийся народ не мог поместиться в церкви, и очень многие стояли наруже, ожидая выноса гроба.
Прощание с усопшим продолжалось около часу. Многие, приходившие прощаться, плакали, а при выносе тела из церкви раздались громкие рыдания. Надо было удивляться силе привязанности к этому человеку, которая собрала по страшному двадцатиградусному морозу со всех концов Москвы народ всевозможных сословий, так как кроме людей, пришедших пешком, было очень много богатой знати, съехавшейся в нарядных экипажах.
И к кому шел этот народ? К безвестному человеку, который жил в лачуге и, по-видимому, не сотворил никаких славных дел. А между тем, к нему, при жестоком и резком ветре с метелью и вьюгой, сошлась такая громадная толпа и, несмотря на эту погоду, вся она провожала покойника до Ваганьковского кладбища, где он и схоронен.
Одно лицо, бывшее после кончины Семена Дмитриевича в первый же день у его гроба, рассказывало, что тогда он мог еще протиснуться сквозь толпу, постоянно прибывавшую ко гробу, у которого стоял священник, служивший, не переставая, одну за другую, заказываемые панихиды.
Но в другой раз, когда это же лицо приехало поклониться усопшему, не было никакой возможности пробраться в этой густой толпе, теснившейся в сенях и избе. Когда этот почитатель памяти старца пришел в церковь, то был поражен множеством собравшегося народа и почетом, который воздавали этому нищему мертвецу, который не был ни поэтом, ни артистом, о котором никогда не обмолвились в печати, а между тем — это бренное тело уходило в мать-землю при таких почестях, при таком народном участии, какое не всегда видели к себе и знаменитые люди.
По-видимому, в настоящее время могила юродивого Семена Дмитриевича забыта.
— Сохранилась ли могила Семена Димитриевича, и происходит ли при ней служение заказываемых усердствующими панихид? — запрашивал пишущий эти строки управление московского Ваганьковского кладбища.
В полученном ответе было сказано, что могила Семена Дмитриевича известна и имеет на себе надпись, но особенно незаметно, чтобы по Семене Дмитриевиче служились панихиды.
Мне известен один замечательный случай прозорливости Семена Дмитриевича. По его слову одна посвященная Богу жизнь получила себе великое, ответственное послушание в виде заботы о двух бесприютных особах высшего круга, оставшихся в нищете. И чудным образом, вопреки всяких расчетов человеческих, эти жизни были до последних дней обеспечены послушанием, которое этот человек оказал старцу.
В последние годы жизни Семена Дмитриевича был в Москве человек сапожного цеха, которого звали Козьмой Ефремовичем Ефремовым.
Мне пришлось знать его в последнее время его жизни. Это был старичок небольшого роста с молодыми глазами, в которых была какая-то пронзительная сила.
Отличаясь сильным религиозным настроением, Козьма Ефремович с молодых лет своих, ведя жизнь чисто монашескую, любил ходить по московским святыням, постоянно бывал в церквах за богослужением и во время молитвы получил дар глубоких молитвенных вздохов, потрясавших все существо его.
В нем появилась какая-то внутренняя сила, которая — очевидно — искала себе исхода, и как раз исход этой силе и дал ему старец Семен Дмитриевич, в возложенном на него испытании.
В то время в Москве томилась одна страждущая душа, Клеопатра Владимировна Мессинг, рожденная Каблукова, дочь заслуженного генерала — героя войны двенадцатого года.
Происходя из богатой и родовитой семьи, она была выдана замуж за помещика Мессинг, который растратил все ее приданое картежной игрой и оставил ее без средств, с дочерью-младенцем на руках.
Сам он вел впоследствии жизнь пьяного, шатающегося. Время от времени — появлялся на горизонте, чтобы, получив денежную помощь, скрыться опять в тех низинах, где люди проматывают свою совесть, силы и честь.
Госпожа Мессинг жила еще в довольно большой квартире, право жительства в которой было ею уплачено по контракту, имела кое-какие остатки роскоши, например — прекрасные, большие фамильные портреты масляными красками. И вся эта обстановка была ширмой, за которой сияла настоящая бедность, угрожавшая оставить бедную женщину в полном смысле слова без куска хлеба.
С родными своими госпожа Мессинг порвала, так как брак ее был им не угоден. Она почти никого не знала в своем сиротстве, несчастии и бедности. Ей не на кого было опереться. И вот — однажды, когда Козьма Ефремович Ефремов был у Семена Дмитриевича, тот задержал его до прихода к нему плачущей госпожи Мессинг, познакомил их а заповедал Ефремову заботиться об этих двух жизнях, брошенной и обобранной женщины и ее беззащитного младенца-дочери, сказав об этом ему словами псалма:
«Нищий Богу оставлен, сиру ты буди помощник», причем — чрезвычайно веское ударение сделал на слове ты.
И вот, Семен Дмитриевич давно уже лежал в могиле на Ваганьковском кладбище, а Козьма Ефремович продолжал совершать возложенное на него послушание.
Он сумел разобраться в делах госпожи Мессинг, которые в них ничего не понимала. Один долг, который казался совершенно безнадежным, был переведен на надежный документ, и по этому долгу они получали капитал и проценты в течение нескольких десятилетий.
Когда этот источник закрылся, Козьма Ефремович заинтересовался в судьбе несчастного одного племянника госпожи Мессинг — сына блестевшей в свете своей красотой княгини Олимпиады Александровны Барятинской, генерал-адъютанта князя Барятинского, который стал выдавать тетке и двоюродной сестре ежегодно щедрую поддержку.
Одним словом, не имея в сущности ничего и угрожаемые много десятилетий тому назад голодною смертью, — эти две беззащитные женщины, получив себе попечителя в лице Козьмы Ефремовича, прожили не только безбедно, но и с некоторым достатком всю свою долгую жизнь.
У них была собственная квартира, своя старая обстановка, кое-какая бронза, фарфор и картины. У них было двое прислуг: кухарка и горничная, и сытый и здоровый стол.
Для тех, кто знал этих трех людей, жизнь их казалась чудом.
Замечательно и то, как Господь призвал их к Себе, одного за другим. Сперва умерла старушка. Через несколько дней после нее — престарелая уже дочь, а через несколько дней позже — и сам Козьма Ефремович.
Так разом пресечена жизнь этого попечителя беззащитных и самих, — им опекаемых. Когда пресеклась их жизнь, которую он сумел оберечь до конца, тогда Бог охозвал к Себе и его, столь честно и свято исполнившего завет старца Семена Дмитриевича.
Эти нищие, прожившие — однако — весь свой век барынями и явившие на себе исполнение истины, псаломскими словами возвышенной в том заветном их соединении старцем Семеном Дмитриевичем — «Нищий Богу оставлен, сиру ты буди помощник», — схоронены рядом в последнем приюте московской знати, в московском Донском монастыре. И место последнего упокоения их покрывает один общий зеленый холм.
Раба Божия Анна Ивановна
(почивающая на Смоленском кладбище Петрограда).
Трогательное почитание окружает память рабы Божией блаженной Ксении юродивой, почивающей в Петрограде, на Смоленском кладбище.
Я помню еще в конце прошлого века небольшую, низкую часовенку, которая стояла над надгробием блаженной Ксении и которая ныне сменилась громадной, высокой, прекрасной часовней. Однако, и эта часовня часто не вмещает уже всех собравшихся к этой могиле богомольцев.
Почитание блаженной Ксении во всех решительно слоях петроградского общества так велико, что, как мне говорили, количество отдельных панихид, заказывавшихся по блаженной в дни ближайшие ко дню ее памяти — двадцать четвертого января — достигали до трех и четырехсот ежедневно.
В последние годы многие лица, приходящие на поклонение к могиле блаженной Ксении, заходят еще и на другую могилу, находящуюся недалеко от кладбищенских ворот, влево, на Дворянской дорожке, — на могилу подвижницы Анны Ивановны.
Анна Ивановна происходила из дворянской семьи Лукашевых и воспитывалась в одном из петроградских институтов. По окончании курса она стала выезжать, как говорится, в свет, и встретилась здесь с одним гвардейским офицером, к которому привязалась со всем глубоким чувством свежей, искренней молодости.
Девушке хотелось получить от него брачное предложение, и в воображении ее рисовалась картина будущей семейной жизни с дорогим и любимым мужем.
Но все повернулось иначе. Офицер этот совершенно неожиданно перенес свое внимание на другую девушку и на ней женился.
Анна Ивановна осталась одна, с сердцем навсегда разбитым, потому что она была из числа тех избранных, которые любят в жизни только один раз и никогда не заменять первой привязанности последующими.
Оставаться более в том городе, который видел ее юное счастье, счастье разделенное, как она вверила тогда, любви, слышать имя человека, который продолжал оставаться для нее все так же дорог, может быть, еще дороже, теперь, когда она его навсегда потеряла, встречать, быть может, этого молодого человека с его женой — все это было выше ее сил.
Она решила покинуть столицу, отрезать от себя совсем всю свою прежнюю жизнь, порвать с родными, друзьями и знакомыми.
Где провела последующие годы своей жизни Анна Ивановна — неизвестно. В Петрограде она появилась снова уже в совершенно измененном виде, в виде юродивой.
Жалкое рубище служило ей одеждой. На голове ее был белый чепец, закрытый ситцевым платком с завязанным спереди узлом. В одной руке у нее была палка, другая рука придерживала громадный мешок, до полна набитый, в который она сваливала все подаяния добрых людей.
Анна Ивановна не имела постоянного пристанища и бродила по городу. Ее можно было встретить на Сенной площади, в Гостином ряду, в Периной линии и в других людных местах города.
Вид старой, оборванной, изморенной женщины возбуждал сожаление. Многие подавали ей милостыню; а знавшие ее купцы и приказчики сваливали ей остатки ситца, лент, платки и башмаки.
Все это она молча забирала в свой мешок и потом все эти вещи раздавала бедным. Когда же мешок опорожнялся, Анна Ивановна, для того чтобы томить себя, накладывала в него камней и продолжала таскать его на себе.
Ее иногда видали в женских учебных заведениях, и войдя в пансионы или институты, она разговаривала с воспитанницами на правильном французском и немецком языке.
Часто ночевала она у домовладельца Петухова на Сенной площади и крестила у него его детей. Часто ночевала тоже в квартире Спасо-Сенновского священника.
Многочисленный народ Сенной площади видел в Анне Ивановне не нищенку, а подвижницу, принявшую на себя тяжкий подвиг ради Христа. Они не оскорбляли ее, и охотно давали ей милостыню, зная, что эта милостыня будет подана Анной Ивановной действительно нуждающемуся человеку.
Когда она шла по улице, извозчики один перед другим наперерыв подкатывали к ней и умоляли, чтобы она позволила им провезти себя хоть несколько шагов, так как в тот день, как Анна Ивановна посидит в пролетке, не будет отбоя от съедоков.
Анна Ивановна начинала шуметь и ссориться с извозчиками, грозила им палкой, и, наконец, садилась на того, которого считала самым лучшим по нравственным качествам. За езду Анна Ивановна давала пятиалтынный, но извозчики предпочитали иметь от нее копеечку, так как именно копеечка Анны Ивановны — это было замечено — ручалась за удачу этого дня.
Приходя в знакомые дома, Анна Ивановна требовала, чтобы дочери в семье кроили и шили из пожертвованной ей материи какие-нибудь носильные вещи и платья для тех, кому она распределяла свою милостыню.
Когда она бывала в семьях, то как-то невольно сиял ее дар прозорливости. Многие люди, впервые встречавшие Анну Ивановну и не ведавшие ничего о ее жизни, соблазнялись ее грязным и рваным платьем, ее странным криком, ворчливостью: они не знали, что таким докучливым и странным поведением Анна Ивановна старалась уменьшить то уважение, с которым относились к ней люди.
Как-то на дворе Невской лавры Анне Ивановне встретился очень молодой архимандрит, имевший ученую степень. Подойдя к нему под благословение, юродивая сказала ему, что он вскоре будет епископом.
Предсказание ее казалось странным и несбыточным, так как епископского сана, по обычаю, этому молодому человеку приходилось ждать долго. Но, действительно, он вскоре был сделан петроградским викарием.
Тут и вспомнились ему слова Анны Ивановны. Он разыскал ее, и чтобы освободить ее от неприятностей, которые она могла иметь от полиции по своей беспаспортности, чтобы дать ей некоторый покой, он устроил ее в кладбищенскую богадельню на Большой Охте.
Но в богадельне Анна Ивановна чувствовала себя не важно. Богаделки проводили часто день в пустых пересудах, и Анна Ивановна, часто вмешиваясь в эти ссоры, шумела и кричала на богаделок, говорила им резкости.
Он, со своей стороны, выражали свое презрение к грубой и грязно одетой Анне Ивановне и старались досадить ей.
Встретила однажды Анна Ивановна семинариста, только что окончившего курс, дала ему палку и промолвила:
— Возьми себе эту палку, она тебе пригодится.
Тот долго не понимал, что значат слова Анны Ивановны. Через долгое время он был назначен полковым священником, и когда ему пришлось со своим полком вести полукочевую жизнь, он понял, что под словами «возьми себе палку» Анна Ивановна предсказывала ему кочевую и походную жизнь.
Как-то раз на поминках, после похорон зажиточного купца, протоиерей Покровской Сенной церкви, о. Михайлов, стал выспрашивать у Анны Ивановны, достаточно ли она приготовилась к смерти, и говорил ей, что смерть ее не далека.
— Батюшка, — отвечала Анна Ивановна, — нет часа, когда бы я не была готова умереть. Я готовилась к этому часу всю свою жизнь. А ты, вот, после моей смерти не проживешь больше недели. Жаль мне твою семью… — Это предсказание юродивая повторила еще раз… и оно сбылось.
Анна Ивановна скончалась первого июля 1853 года, а священник Гавриил занемог холерой первого июля и скончался через три дня.
Однажды, придя к священнику Спасо-Сенновской церкви Листову, Анна Ивановна сказала ему в разговоре:
— Ну, батюшка, ты скоро будешь большим священником: видишь все бугорки да кресты, горки да горки, кресты да кресты — так там и будешь большим священником.
И, действительно, отец Листов был назначен, с возведением в протоиереи, настоятелем на Больше-Охтенском кладбище.
Как-то раз, придя в дом к тому же священнику, Анна Ивановна сунула ему розовой парчи и проговорила:
— Храни эти куски, они пригодятся тебе к свадьбе.
Отец Александр недоумевал, о какой свадьбе говорит юродивая, между тем, как в скорости две дочери его были просватаны.
Собирались крестить ребенка у диакона Спасо-Сенновской церкви Васильева. Человек он был небогатый, поэтому гостей звали немногих.
Перед самым крещением у парадного хода появилась Анна Ивановна, и диакон выразил жене своей досаду, не зная, куда ее деть.
Диакониса предложила провести ее на кухню.
Пока этот разговор происходил в квартире, Анна Ивановна на дворе внезапно направилась к черному ходу, и, войдя в кухню, повторила точь-в-точь слова диакона:
— Ах, эта Анна — опять притащилась! Ну, куда вы ее денете! Придет батюшка, кум, кума, куда же ее деть, разве в кухню? Да нет, я уйду из кухни. А вот возьми копейку в руки; ты бедная, так вот тебе пригодится, первый подарок новорожденному от меня.
И смиренная раба Божия, которую встретили так неласково, побрела из дому. Но копейка ее оказалась тароватой. Пришли многие люди, которых на крестины и не звали, и в общем ребенок получил очень много хороших подарков.
Много случаев прозорливости Анны Ивановны сохранилось в воспоминаниях семьи настоятеля Спасо-Сынновской церкви и профессора петроградской духовной академии, протоиерея Иванова.
Брат его был бездетен, о чем он с женою часто горевал. Раз как-то Анна Ивановна говорит ему:
— Полно, батюшка, Бога-то гневить! Он, ведь, знает, кому что нужно. Скоро тебе ребенка пошлет, и какая девочка будет хорошая!
В скором же времени Ивановым подкинули новорожденного ребенка. Они окрестили его в честь Анны Ивановны «Анной».
Девочка росла красивой, здоровой. Анна Ивановна часто приходила полюбоваться на свою любимицу и не раз заставляла ее шить юбки и кофты для бедных из приносимого ею ситца. Когда девушке исполнилось восемнадцать лет, Анна Ивановна, в одно из своих посещений, вынула из своего громадного мешка узел с пряниками и орехами и стала говорить, что вскоре придется ей угощать множество гостей. Затем подала ей кусок розового коленкора и проговорила при этом:
— Сокол-то твой с каким полетом! Ты с ним далеко улетишь, тебя и не увидим.
Вскоре девушка познакомилась с молодым академистом, который получил назначение в одну посольскую церковь за границей. Уехав с мужем в чужие края, молодая Анна Ивановна при жизни родителей не возвращалась уже в Петербург, и они умерли, не повидавшись с ней.
На свадьбе у Ивановых была и Анна Ивановна. Она подошла к племяннице хозяина, молодой девушке Клавдии.
Михайловне Ивановой, и, тщательно повязав голову ее розовой лентой, промолвила:
— На всю жизнь будешь розовым бутоном.
Барышня эта никогда не вышла замуж.
Однажды зимой, в саду того же протоиерея Иванова, Анна Ивановна стала махать руками и причитать:
— Сколько уродилось яблок-то, и кричала, чтобы сучья подпирали кольями.
На следующее лето на этих яблонях получился необыкновенный урожай, так что многие ветви поломались от тяжести плодов.
Незадолго до смерти Анна Ивановна пошла на Смоленское кладбище, пригласила кладбищенского священника на то место, где ее потом схоронили и, разостлав по земле принесенный ею покров, просила отслужить панихиду по рабе Божией Анне. Покров она отдала в церковь, чтобы им покрывали бедных покойников. А себя просила схоронить на указанном ею месте.
Скончалась Анна Ивановна первого июля 1853 года в тесной квартирке неких Березайских. Тело ее по тесноте квартиры было вынесено в храм Спаса на Сенной. Приток народа все увеличивался, и был особенно велик в день отпевания — пятого июля.
Десятки тысяч народа сопровождали погребальное шествие на Смоленское кладбище. По словам духовенства, участвовавшего в погребении, народа в этот день было не менее, чем в день празднования Смоленской иконы Богоматери, когда на кладбище собирается до сорока тысяч.
В «Погребальных ведомостях» кладбища покойница была записана неправильно под именем дочери умершего работника медицинского ведомства, Ивана Ложкина.
Под этой вымышленной фамилией и званием она была очевидно определена в Охтенскую богадельню, и доныне некоторые думают, что ее фамилия была Лошкина или Ложкина, тогда как в действительности она происходила из дворянской семьи Лукашевых.
Долгое время могила Анны Ивановны представляла из себя насыпь, покрытую дерном, с простою цокольною плитою, на которой было отмечено об ее юродстве, в головах стоял дубовый крест с теплящеюся лампадою.
Лет десять тому назад, по почину одной почитательницы Анны Ивановны, на могиле устроена часовня. Часовня эта отперта обыкновенно часов до трех, у нее бывает не малое количество посетителей.
Некоторые из этих посетителей сообщают, что они видали рабу Божию Анну во сне, причем она давала им советы или просила отслужить по себе панихиду. Рассказывают и о многих необыкновенных случаях получения от нее помощи…
Схимонах Филипп
(основатель Киновской пустыни и пещер при Гефсиманском ските).
Подобно тому, как от большого старого дерева идут многочисленные отростки, так часто одна знаменитая обитель бывает окружаема как бы молодой порослью взявших от неё своё основание маленьких обителей.
Как-то преподобный Сергий Радонежский, молясь у себя в келье, услыхал необычайно сладкое пение снаружи. Открыв окно, он увидал воздух, наполненный множеством птиц, и услыхал, вместе с тем, таинственный голос. Голос этот говорил, что подобно тому как умножилось число этих птиц, так же умножится и число его учеников, которые оснуют собственные монастыри.
И, действительно, птенцы великого гнезда преподобного Сергия разлетелись по всему свету и основали множество обителей.
Но и в последнее время близь Троице-Сергиевой лавры возникло несколько обителей, которые окружают её, как многопудовую свечу окружают тонкие, но тем же усердием горящие свечи.
Вот устроенный знаменитым митрополитом Платоном, блестящие дарования которого равнялись искренности и простоте его веры — Вифанский монастырь. Вот там, в лесах, скит Параклит. Вот основанный монашеским духом великого митрополита Филарета Гефсиманский скит. Вот около него начатый трудами схимонаха Филиппа пещерный монастырек. Этот же схимонах Филипп положил начало Киновской пустынек.
Если вы, взойдя из Троице-Сергиевой лавры, пойдёте по Вифанской улице и свернете вправо по блестящему зеленому лугу, вы дойдете, наконец, до глубокого оврага, над которым перекинут мостик, и по этому мостику вы зайдете в небольшую обитель. В середине ее стоит храм, в нижней части которого под землей находится могила основателя, схимонаха Филиппа. На могиле лежат его вериги.
Все так мирно и тихо тут, в этом последнем приюте души, искавшей одного Бога, рвавшейся во имя Его на подвиги и познавшей тут, на земле, как ту радость, какую дает Господь Своим истинным последователям, так и те дары великие, которые Господь посылает верным слугам Своим — и в награду им, и в доказательство того, что вверен был избранный ими путь.
Яркий представитель подвижников русского крестьянства, схимонах Филипп был родом крестьянин Владимирской губернии, Вязниковского уезда, деревни Стряпковой. Звали его Филипп Андреевич Хорев. Он был крепостной богатой помещицы Бажановой и родился второго ноября 1802 года. У родителей его, кроме него, было еще двое сыновей.
Семья Хоревых была набожная, но и среди той набожности особенно выделялся младший сын Филипп. Он был чрезвычайно кроткий, почтительный к старшим, а церковь любил до такой степени, что не пропускал ни одной службы.
Грамотность была в то время редким явлением в русской земле, и Филиппушка грамоте не учился; но с какой-то особой жаждой он вслушивался во всякое слово, которое читалось в церкви.
И, если на поле во время работ заставал его звон их сельского колокола, он бросал работу и спешил в церковь. Такие поступки вызывали раздражение родственников. Они хотели, чтобы он работал без перерыва и называли его дармоедом и ленивцем. Ему приходилось даже переносить побои, но он все терпел и не оставлял своей любви к храму.
Вот Филипп подрос, и родители стали ему искать невесту, так как в дом нужна была лишняя работница, а мать Филиппа по старости работала уже не так, как прежде. Филипп по своему благочестивому настроению и думать не хотел о женитьбе. Однако, его в двадцатидвухлетнем возрасте женили почти силой. Более десяти лет Филипп прожил мирно и тихо с женой, и она умерла, оставив ему трех сыновей, которые впоследствии были сподвижниками своего отца.
Горе Филиппа при потере жены было тем больше, что среднего его сына помещик отдал в числе приданого за дочерью в другую семью.
И при жизни жены Филипп не оставлял своих благочестивых навыков, а теперь стал вести жизнь чисто монашескую. Он уклонялся от всякого сношения с родными и другими крестьянами. Никогда улыбка не освещала его строгого всегда лица.
Родители думали, что он станет веселее и будет чувствовать себя лучше, когда женится, и опять уговорили его жениться. Он же думал, главным образом, о том, как бы приобрести хорошую мать для своих детей. И жена попалась ему заботливая и попечительная, но он все больше и больше уходил в подвиги.
Он постился по несколько дней, спал на голой земле, постоянно ходил с открытой головой, босой, одетый в одну холщевую длинную рубаху. И, очевидно, желая привлечь на себя, как на юродивого, всяческие насмешки, все переносил молча, и на брань отвечал изумительным терпением. Он ходил даже неумытым и иногда марал себе лицо грязью или дегтем.
Случалось, что он исчезал по несколько дней, и эти дни проводил в странствовании по монастырям или где-нибудь в чаще леса, где искал полного безмолвия. После таких отлучек его иногда сажали под замок в холодную избу или телесно наказывали. Когда его спрашивали, где он был, он ничего не отвечал, и никто из окружающих не понимал Филиппа.
Родные, считая его порченым или лишенным ума, силой его одевали и обували, но он все с себя снимал и отдавал первому попавшемуся нищему или страннику. Его возили к священнику, чтобы тот читал над ним молитву, как над порченым. Все это, конечно, докучало Филиппу, и в нем образовалась решимость совершенно расстаться с родными ему местами.
И вот он ушел и в течение десяти лет скитался из города в город, из монастыря в монастырь. В это время можно было встретить в разных русских обителях высокого, голодного, с исхудалым и загорелым лицом, босого странника. Приходилось ему узнать и тоску душной тюрьмы, быть пересылаемым по этапу с разбойниками, как беспаспортному бродяге, причем — лиц, которые истязали его, он изумлял иногда необычайными ответами. Так, когда в Ардатове надзиратель ударил его палкой, с которой он обыкновенно ходил, и появилась кровь, надзиратель спросил, что это такое.
— А это красная водка, которая меня греет, — сказал ему Филипп.
В другой раз в городе Арзамасе чиновник накинулся на него, говоря, что той дубиной, которую он с собою носит, можно убить человека.
— Нет, брат, — кротко ответил ему Филипп, — тем легким перышком, которое у тебя за ухом, ты легче убьешь несколько человек, чем я моей дубиной.
Однажды в праздничный день Филипп был арестован в Москве на соборной площади полицейским чиновником, который обратил внимание на его странную одежду. Он был в длинном подряснике с непокрытой головой, в босовиках на ногах и держал в руке тяжелую палку с медным голубком. Когда надзиратель спросил Филиппа, куда он идет, он ответил — «к царю обедать». На языке Филиппа «идти к царю» значило идти к обедне.
Полицейский велел посадить Филиппа в частный дом, а старший сын его, шедший за отцом, отправился рассказать об этом знакомой купчихе, которая немедленно отправилась к одной графине, уважавшей Филиппа. Та немедленно съездила к обер-полициймейстеру и добилась его освобождения. Когда графиня сама приехала в часть за Филиппом и спросила его, хорошо ли ему здесь, он ответил:
— Ничего, молодушка, хорошо, все лучше ада кромешного, а вот в аду куда нехорошо!
В Филиппушке, несомненно, уже в те годы действовал дар прозорливости.
Однажды, игуменья женского Муромского монастыря рассказывала Филиппушке, что богатый купец-благодетель пожертвовал их монастырю большой колокол. Но она совсем не знает, когда этот колокол привезут к ним в монастырь.
— А недель через двенадцать вода привезет, — ответил с уверенностью Филиппушка. Игуменья не хотела верить этим словам. Колокол должен был к ней прийти на лошадях, но слова Филиппушки сбылись: вследствие дурной дороги жертвователь не решился отправить колокол на лошадях, и он пришел в Муром по Оке на барже, и как раз в то время, о котором говорил Филипп.
В городе Вязниках Филиппушка посещал знакомое семейство, и, как-то раз придя к ним, спросил красный платок и стал вытирать этим платком стены и дуть на них. Через несколько дней этот дом сгорел в пожаре, и тогда поняли, что значил красный платок, которым Филиппушка вытирал стены.
Однажды, в городе Муроме, шло свадебное пиршество. Изнутри на улицу доносился гомон праздника, и посмотреть через окно на пляски и песни собралось много народа. Филиппушка с трудом протеснился через толпу, положил на окно восковую свечку с пачкой глины. Оказалось, что через несколько дней после свадьбы молодой жестоко простудился, заболел и умер.
Пишущему эти строки пришлось слышать рассказ от жены одного московского протоиерея, которая молодой барышней была со своей теткой на богомолье в Троицкой лавре.
В окрестностях ее она встретилась с Филиппушкой, который, посмотрев на нее, уверенно сказал: «В этом году замуж выйдешь». В то время она еще и не знала своего жениха, так что о свадьбе не могло быть и речи. А между тем, по словам Филиппушки, ее свадьба случилась в тот же год.
Было замечено, что появление Филиппушки в чьем-нибудь доме приносило этому дому счастье. Господь награждал тех, кто от чистого сердца относился ласково к этому человеку, оставившему для Бога мир, семью и земные радости.
Многие любили говорить с Филиппушкой, давали ему деньги. Все поступавшие к нему приношения он распределял между бедными, которые толпились вокруг него.
В то время сиял в Москве всему православному миру незабвенный митрополит Филарет.
Человек гениально одаренный, он — тем не менее — с великой снисходительностью относился к меньшей братии. Ему был дан дар различать людей, и многих подвижников, к которым современники относились с недоверием, он поддерживал своим доверием. К числу их относился и Филиппушка. Многие миряне его осуждали, над ним глумились и считали его пустосвятом и дармоедом, а Филарет знал, какого он духа, и его поддерживал.
В 1847 году митрополит Филарет дал Филиппушке благословение пожить в Троицкой лавре и предупредил об этом наместника лавры, архимандрита Антония, искренно им любимого и уважаемого своего духовника, следующими словами: «Бог благословит раба Своего Филиппа и да сотворит благое душе его».
Но Филипп недолго оставался в Троице-Сергиевой лавре. В лавре было слишком многолюдно для такого человека, как Филипп. Его тянуло куда-нибудь подальше.
В то время только что возник в окрестностях Троице-Сергиевой лавры Гефсиманский скит, в который время от времени удалялся митрополит Филарет, чтобы уединенным подвигом удовлетворять ту жажду истинного монашества, которая смолоду жгла его душу и которую ему, погруженному в дела епархии, проповедничества и в ученые труды, пришлось за всю свою жизнь удовлетворять так мало.
Между лаврой и Гефсиманским скитом, охваченная с двух сторон привольным старым сосновым бором, в густой лесной чаще за прудом стояла ветхая лесная сторожка. В этой сторожке, с благословения архимандрита Антония, наместника лавры, и поселился Филиппушка.
Приютно было это место. Летом здесь расстилался широкий луговой ковер из сочной травы и пестрых цветов, зимой в защите леса здесь было тихо, и деревья задумчиво свешивали свои ветви, отягченные белым непорочным снегом, и порою луна лила на них свой синий серебристый свет.
Филиппушка удалился в это место для уединения, но народ сыскал его и здесь и стал толпами к нему стекаться.
Нечего было делать: приходилось принимать народ, и с искренней лаской встречал своих гостей Филиппушка, говоря почти каждому:
— С ангелом, с ангелом, Христовым вестником.
Богатая, деятельная природа Филиппушки требовала усиленной деятельности и тогда, когда он оставался на постоянном месте. И вот, он обратился к наместнику лавры, архимандриту Антонию, с просьбой позволить ему выкопать обширный погреб.
Получив это разрешение, Филиппушка со своим послушником Митрофаном принялся за рытье глубокой ямы. Вырыв эту яму, он стал вести из нее коридоры в глубь земли, вроде пещер Киево-Печерской лавры. За трудом копания пещер Филиппушка со своим послушником проводил все время, свободное от богослужения. Труд этот был не из легких, так как землю приходилось выносить мешками на себе; стены постоянно обваливались, и отшельники должны были досками и подпорками поддерживать вырытую ими землю.
Двое из послушников, рывших пещеры, Митрофан и Андрей, во время этой работы видели однажды как бы тень ангела, который пролетел над ними с двумя венцами. Они рассказали об этом видении Филиппушке, который кротко отвечал им: «Воля Божия, молитесь!» А на другой день оба эти послушника были во время работы на смерть засыпаны обвалившейся землей.
Один из старцев скита, недруг Филиппушки, набросился с упреками на Филиппушку и стал грозить ему, что пещеры его будут засыпаны и закрыты. И, будь в Москве другой митрополит, иначе смотрящий на духовную жизнь, — быть может, так бы и случилось. Но, дивный мудростью и духовностью своею, митрополит Филарет судил иначе об этом деле.
Прежде всего, наместник лавры Антоний успокоил Филиппушку в том, что вины его в этом происшедшем несчастии нет никакой, а затем митрополит Филарет писал об этом деле своему духовнику, наместнику лавры Антонию, следующее:
«Не без слез пропелось мне: «со святыми упокой, Христе, души раб Твоих Митрофана и Андрея»».
«Можно верить, что Господь принял доброе начало их подвига, как совершение его. Но печален случай кончины по отношению к другим, которые, не зная, что Господь уготовал их к представлению, смутятся в помыслах о подвижничестве (то есть, что лицо, шедшее монашеским путем, было похищено смертью без напутствования таинств). Господь даст слышащим о сем доброе разумение подвига и наставление содержать себя в готовности к смерти неожиданной и близкой».
В вырытой им небольшой подземной пещере отец Филипп стал совершать молитвы и чтения правил. Митрополит Филарет ничего не возражал против заведенных пещер и писал относительно Филиппушки: «Господь да просвещает ищущих Его в темноте пещерной».
Пещеры понемногу расширялись, в них стало совершаться богослужение — утреня и полунощница, постепенно собирались монахи, желавшие особого уединения. От большой пещеры проводились все дальние ходы, и в этих коридорах вырывали отдельные пещерки для келий.
Богослужение в пещерах совершалось продолжительно, а псалмопение велось по правилу святого Пахомия Великого.
Три года уже обитал Филиппушка в своих пещерах, как к нему пришли двое его сыновей, Игнатий и Василий. Им очень хотелось разделить подвиги отца. Старший из них, Игнатий, был женат и жена его была жива, но она вступила послушницей в Зосимовскую пустынь, Подольского уезда. Через год к Филиппушке пришел и его третий сын, Порфирий. Так как все они крепостные, то Филиппушке стоило много хлопот добыть им вольные. Наконец, в 1850 году Филиппушка с тремя сыновьями были приукажены к Гефсиманскому скиту.
И все они жили в ископанной их трудами пещерке. Всякая из этих пещер имела в ширину и длину не более сажени, печей в них не было, и зимой он нагревался от дыхания и свечей лампад, горевших в этих подземных их кельях.
Филиппушка читать не умел. Архимандрит Антоний не раз убеждал его учиться грамоте, но он на это отвечал уклончиво, что наукой заниматься ему поздно. Некоторые предполагали, что он не желает учиться грамоте для того, чтобы не подумали рукоположить его в иеромонахи. Сыновья же его обучились грамоте, уже живя в пещерах.
Те послушники, которые ютились вместе с ними в пещерах, предварительно должны были ископать сами себе пещерки: на иных основаниях Филиппушка народ к себе не принимал. Вот как образовалось при пещерах у Гефсиманского скита небольшое братство.
В 1851 году митрополит Филарет освятил среднюю большую пещерную церковь во имя Михаила Архангела.
Часто Филиппушке приходилось из своих пещер приходить в лавру.
По дороге в лавру, а также на обширной площади пред лаврой, у самых ворот, Филиппушку окружал народ. Богомольцы много слыхали про подвиги Филиппушки и любили рассказывать ему свои нужды и спрашивать у него советы.
Неизгладимое впечатление на встречавшихся с ним производил этот человек с ярко выраженным в нем русским типом, с длинной и широкой бородой, с мягким, добрым взглядом проницательных глаз. В руках у него обыкновенно бывал тудовый посох с прикрепленным на верху его литым медным голубем. С этим посохом Филиппушка никогда не расставался, и он был одним из тех жестоких орудий, которыми смирял свою плоть.
Любимым обращением Филиппушки ко всякому встречавшемуся с ним человеку были слова: «С ангелом, с Божиим вестником».
Он любил толковать в образных выражениях о разных духовных предметах, о жизни и смерти, об ответе пред Богом.
Однажды приехали к старцу из Петрограда люди светского круга. Ласково приняв их, старец спросил:
Вы в пятницу и среду-то варите ли? — и улыбаясь, прибавил: «среда горяча, а пятница еще горячее».
Посетители не поняли, о чем говорить старец, и тогда он прямо спросил их, соблюдают ли они пост по средам и пятницам.
Тогда они отвечали, что не видят греха в том, чтобы в среду и пятницу есть скоромное. Филиппушка дал им спасительный совет хранить в эти дни пост из послушания православной церкви.
Временами Филиппушка из своего уединения уходил в Москву и здесь, по странности своей одежды и поведения, не раз был под арестом. Все время за ним зорко следил сочувствующий глаз митрополита Филарета, и эта забота видна в таких строках митрополита:
«Спрашивал я крестовского протоиерея, не он ли, и как отправил в тюрьму странника. Он сказал, что странник пред всенощною явился в церковь с жезлом, увешанным лентами, и стоял в углу, окруженный народом. На другой день странник опять пришел, сел на паперти, что-то ел и народ опять окружил его. Отсюда взяли его в частный дом. Кажется, надобно посоветовать Филиппу удерживаться от таких поступков, которыми он как бы сам себя выставлял на зрелище. Надобно терпеть искушение, когда оно найдет, а не вводить самого себя в искушение, и с тем вместе — других, когда нам заповедано молиться: «не введи нас во искушение».
Некоторой ласковой насмешливости к постоянным столкновениям странника с полицией полны те слова митрополита, в которых он предостерегает Филиппушку от новых историй: «Филиппа Бог благословит совершить путешествие. Но поговорите ему, чтобы не домогался быть взятым под арест. А, если это ему нравится, сказал бы он, и мы арестовали бы его с любовию, а не с гневом, как полиция».
Народ приставал к Филиппушке с вопросами довольно пустыми, как к какому-то гадальщику. Так, деревенская баба его спрашивает, как живут дома ее дети, которых она не видала уже два месяца. Другая, дама, спрашивала его рецепт против своей постоянной болтовни.
Избегая таких пустых совопросников, Филиппушка там, где от него ждали совета, обнаруживал несомненный дар прозорливости.
Как-то в скит зашел восемнадцатилетний гимназист Леонид Гофман, сын очень известного в Москве врача. Встретившись с этим юношей, Филиппушка произнес:
— Монах будешь, будешь монах.
По окончании курса этот гимназист, действительно, поступил в скит и впоследствии был иеромонахом.
Крепкое здоровье Филиппушки постоянно подтачивала подвижническая жизнь, малопитательная постная пища, сырость и тяжелый воздух пещер; усилия, которые он должен был употреблять для ношения на себе вериг и в руках тяжелого посоха. Филиппушка часто начал прихварывать, и это озабочивало митрополита Филарета, который, зная старца, давно был искренно к нему расположен. Митрополит в таких строках писал о его недуге наместнику лавры Антонию: «рабу Филиппу и сопребывающим Божие благословение призываю, а ему — облегчение от болезни».
Архимандрит Антоний присоветовал старцу принять монашество, на что Филиппушка с радостью согласился.
Он почти умирал, когда над ним было совершено пострижение. Имя ему было дано Филарет, в честь его великого благодетеля митрополита Филарета, которого он всегда называл «белым ангелом». В день своего пострига Филиппушка лежал в своей пещере. Он был недвижим. Глаза его были закрыты. Все видели, что он умирает. В комнате был полумрак…
Сыновья Филиппушки стояли около него, плача, когда вошел архимандрит Антоний и за ним — монахи, несшие все нужное для совершения обряда пострижения. Умирающий Филиппушка вдруг открыл глаза, совершенно внятно отвечал на все вопросы, которые задаются при пострижении, твердо прочел все молитвы, и твердо произнес все монашеские обеты. Когда обряд был совершен, он немедленно впал в беспамятство.
Об этом необыкновенном событии Филиппушка — так продолжали звать его монаха, несмотря на новое монашеское его имя Филарет, — рассказывал следующее:
«В ту самую минуту, когда входил в пещеру для моего пострига отец Антоний, я ничего не помнил, а видел себя в глубоком снежном сугробе. Сколько я ни старался выбраться из него, никак не мог. Тут к самому краю сугроба подошел отец наместник, протянул мне руку и стал вытаскивать из сугроба. Когда я очнулся, то увидал пред собою батюшку отца Антония, который пришел меня постригать».
С тех пор Филиппушка совершенно оставил юродство. Благословляя его на новую жизнь, митрополит Филарет запретил ему ходить босым. На это запрещение старец добродушно ответил:
— Владыко святой, обуваться-то я больно ленив.
Клеветники и завистники, бывшие у Филиппушки в немалом числе, особенно ополчились на него после его пострижения. Один из них, дурно настроенный послушник, стал рассказывать отцу Антонию про Филиппушку разные клеветы, и, между прочим, он говорил, что народ, который во множестве стекается в пещеры, нарушает безмолвие самих монахов пещерников. Небезынтересно заметить, что этот клеветник скоро неожиданно умер; он по ошибке принял отравленную лепешку, которая была его товарищем припасена с мышьяком для мышей.
Братия скита во главе с игуменом, в свою очередь, не сочувствовала Филиппушке и, сколько архимандрит Антоний, наместник лавры, ни старался установить добрые отношения, — но скитские монахи и пещерники упорно просили его взять от них отца Филарета.
Это, наконец, было сделано. Наместник лавры посоветовал старцу покинуть пещеры и пока приютиться в лавре, а там он обещал ему в окрестностях лавры построить одинокую келью.
Филиппушке, конечно, была дорога вырытая им пещера и все эти заветные места. Он смиренно повиновался и ушел из пещер, уведя с собою и сыновей.
Когда впоследствии его спрашивали лица, не знакомые с этими обстоятельствами, зачем он ушел из пещеры, — он говорил иносказательно:
— С землею не ужился, разбранился.
В эту пору у отца Филарета возникло сильное желание сходить пешком на богомолье в Киев, но ему препятствием послужила сильная боль в ногах, и он примирился с неисполнением своего заветного желания.
Несколько месяцев Филиппушка провел в лавре. Постоянное оживление этого места со значительным притоком богомольцев претило душе его, жаждущей смолоду уединения, и он мечтал о более пустынном месте.
Недалеко от вырытой им пещеры, там, где скитский пруд разделяется на два залива мысцом пригорка, было уютное место. На нем решил поселиться Филиппушка со своими сыновьями. По распоряжению архимандрита Антония, наместника лавры, была выстроена небольшая келья на берегу пруда, у мостика, который был приделан для пешеходов из пещер в лавру.
Местом моления новых поселенцев был чердак кельи. Там они совершали свое обычное правило или церковную службу, вычитывали утреню, часы и вечерню. Впоследствии был поставлен новый деревянный сарай, в одной половине которого была устроена часовня, а в другой складывали дрова.
Почитатели Филиппушки и тут, на новом месте, нашли его, и продолжали его посещать.
Одна из почитательниц старца, московская купчиха Логинова, пожелала поставить на этом месте каменную церковь, а до получения разрешения на постройку церкви была поставлена каменная часовня.
Митрополит Филарет не очень склонялся к разрешению церкви, так как полагал, что это вызовет взрыв недоброжелательства к Филиппушке со стороны скита. Филиппушка не настаивал и не просил, предоставляя это дело всецело решению Божию. Наконец, само собою не без некоторого необыкновенного совпадения, случилось, что митрополит Филарет дал разрешение на постройку храма.
В то время митрополит пребывал в скиту. Был канун празднования чудотворной иконы Богоматери Боголюбской, а как раз в честь этой иконы старец и мечтал строить храм.
Воспользовавшись пребыванием митрополита в ските, Филиппушка отправился к нему просить разрешения отправить у себя в часовне всенощную.
— А какой же завтра праздник? — спросил митрополит.
— Боголюбския иконы, — отвечал старец.
— Как же это я забыл? Разве мне память изменяет? Так пойте, пойте всенощную, я вас благословляю.
И тут же, точно этот вопрос подсказал ему какой-то внутренний голос, владыка прибавил:
— В чью честь хотел ты поставить храм?
— Если благословишь, владыко святый, — отвечал, кланяясь, Филиппушка, — во имя Боголюбской иконы Богоматери.
Митрополит несколько минут подумал, затем тихо прибавил:
— Начинай, благословляю.
С необыкновенною радостью, с земным поклоном, Филиппушка благодарил митрополита и, ликуя, возвратился в свою маленькую пустынь.
Храм был освящен 21-го сентября 1859 года в честь иконы Боголюбской, и в ту же осень был освящен нижний храм, посвящённый преподобной Матроне и мученице Капитолине, которых имена носили храмоздательница и её дочь.
Постепенно при церкви возникли кельи, и вот начало «Киновии» или Боголюбивой пустыни. Впоследствии в Киновии было заведено кладбище для лаврской братии.
Когда новая пустынь получила твёрдое основание, все три сына Филиппушки приняли монашество с именами Прокопия, Галактиона и Лазаря. Старший из братьев был пострижен в один день со своей женою.
Когда в 1855 году государь император Александр Николаевич посетил лавру и скит с пещерами, он пожелал видеть отца Филарета, и, увидев его одетым по-монашески, сказал ему:
— Да ты уже теперь монах?
— Не знаю, — отвечал подвижник, — монах ли я, великий государь: хотелось бы монахом побыть хоть один часок.
Сильно донимали отца Филарета постоянные болезни. Руки у него ломило от тяжёлого посоха, от вериг болела грудь, а сырость подземной кельи образовала постоянную водянку, и новое лучшее помещение не вернуло ему утраченные в подвигах силы.
Зимой 1863 года ему стало так плохо, что, в предчувствии близкой кончины, он принял схиму. Ему было возвращено прежнее имя Филипп. Благодать Божия поддерживала его, он выздоровел и должен был нести свой тяжкий крест, так как на него начались новые гонения.
В 1867 году прошёл слух, что в Киновии делают фальшивые денежные знаки, и у него был произведён обыск, который, конечно, ничего не обнаружил. Митрополит ни одной минуты не поверил этой клевете, но чувствовал, что Филиппу она послана, как новый крест.
Тем не менее, чтобы рассеять неблагоприятные слухи, митрополит дал совет старцу перейти на время в какую-нибудь другую обитель.
Филиппушка с сыновьями перешёл в Московский Симоновский монастырь, потом в Тульский Богородичный и, наконец, в Введенскую пустынь у города Покрова, Владимирской губернии. Здесь они были встречены радушно, и им было отведено уединённое место на острове, где он думал основать скиток. Но не прожил тут и года и вернулся в свою любезную Киновию.
В мае 1868 года Филиппушка смертельно заболел, и восемнадцатого мая, под утро, приобщившись из рук своего
Сына, иеромонаха Прокопия, Христовых Таин, он в полдень скончался на руках сыновей.
Просторный храм Киновии не вместил и половины народа, собравшегося на погребение. Он погребен в Киновийском нижнем храме за правым клиросом. На гробнице лежать вериги, которые он носил при жизни,
Инокиня Алипия Маркова
(старица Кашинского Сретенского монастыря)
Незабвенная для всех знавших ее, матушка Алипия родилась в Тверской губ. Кашинского уезда, села Коя, деревни Колачево в 1805 году 25 октября. Отец ее был крестьянин деревни Колачево Василий Марков, а мать Ефросиния Самойловна. При рождении матушка Алипия названа была Анною (пр. 9 декабря).
Матушке было семь лет, когда в их деревню приходили неприятели, она помнила, как все укрывались от них. Когда ей было девять лет, то отец ее, бывший крепостной крестьянин помещика Николая Ивановича Пономарева, был отпущен своими господами по оброку в Петербург. Он был музыкант и отличный мастер лепной работы: брал хорошие подряды, вызывал к себе жену в Петербург; но жена не хотела расстаться с деревенскою жизнью, к которой так привыкла, боялась Петербурга и не поехала! Года через четыре Ефросиния Самойловна получила известие, что муж ее пропал без вести; впоследствии времени его видели на Валааме монахом.
У него в деревне Колачеве оставался родной брат Павел, который был женат два раза и имел многочисленное семейство. Он был барский садовник; в его-то дом и жила сноха Ефросиния Самойловна, жена пропавшего Василия с тремя детьми, так как у нее, кроме Анны Васильевны, еще были два сына, Иван и Григорий.
Ефросиния Самойловна воспитывала своих детей в страхе Божием, ибо сама была очень богобоязливая, сострадательная и умная женщина. Единственная у нее была отрада ходить в храм Божий, где она всегда становилась перед чудотворной иконой Царицы Небесной Казанской, и молилась со слезами вслух, иногда в простоте сердца от избытка чувств говоря: «Милостивая Матушка, неужто я к Тебе по второму звону пришла бы, кабы я не стряпуха была! Ненаглядная Ты моя банточница, ленточница, кисточница, Матушка!» (На иконе были украшения из бантов, лент и кистей золотых). Евфросиния Самойловна деверю и снохе во всем угождала и рабски служила, а детей их берегла больше своих; она никого никогда не осуждала. Анне дядя Павел был крестный отец, которого она до конца жизни любила сердечно и уважала, и всегда и в обители с любовью молилась о упокоении его души.
У дяди Павла в доме бедность была ужасная. Несмотря на это, Евфросиния Самойловна никогда не роптала, усердно молилась Богу, сердечно любила господ своих, называла их: «отцы наши батюшки».
Анна от колыбели испытала скорби, неразлучные с убожеством. Избранная с детства быть сосудом молитвы: к Богу, юная Анна в труженической жизни своей почерпала уроки: терпения, трудолюбия и совершенного презрения к земным благам. И это-то презрение ко всему вещественному было в последствии отличительною чертою ее характера. Она до смерти искала одного: молиться и молилась беспрепятственно до последнего вздоха. Сердце ее, обещавшее быть храмом Святого Духа, от младенчества горело любовью к Богу-Утешителю, и еще в отроческих летах сподобилась она видимо благодатных Божиих дарований.
Когда ей было тринадцать лет, она как-то, по неосторожности, перелезая через забор летом, обеими босыми ногами наступила на лезвие косы и перерезала себе обе подошвы ноге, так что ее домой свезли на лошади, сама она не могла ступить. Господский лекарь немец, услыхав об этом происшествии, с примочкой пришел полечить ее. В рабочее время все семейство уходило на работы барские и свои, и целый день Анна лежала одна на дворе на соломе, где на ночь становилась скотина, так как в доме была ужасная жара. Если бы не благодатная помощь Божия и Святых Его, ноги у Анны должны были бы сгнить, как она сама часто рассказывала про это неизреченное к ней милосердие Божие, говоря:
«Я чувствовала сильный жар во всем теле и часто впадала в забытье. И мне виделось, что приходили ко мне две красивые девушки — я думала, что они с барского двора. Одна назвалась Варварой, другая Екатериной. Они принесли мне буквы, написанные на большом листе, учили меня азбуке, и скоро я научилась у них читать; потом они принесли мне ноты и учили меня по нотам петь, когда ноги мои горели, как в огне, они мочили мне их водой. После уборки хлеба ноги мои зажили, и я стала ходить свободно, и рассказала дяде Павлу, что девушки Варвара и Екатерина научили меня читать. Оказалось, что на барском дворе их никогда не было, и в жизни своей я их более не встречала. Села Коя священник, благочиннейший отец Феодор, не имевший детей, знал, что у нас в доме никаких книг нет, бедность была страшная, — даже заборы были соломенные. Батюшка обратил милостивое свое внимание на меня и взялся выучить меня хорошенько читать и писать, сходил к господам и все рассказал им, — «говорила матушка Алипия. — Впоследствии он был моим учителем и руководителем на пути ко спасению, до самой кончины».
Когда было Анне Васильевне пятнадцать лет, то она прекрасно знала русскую грамматику и свободно, четко, со смыслом читала по-славянски. От природы она имела хорошие способности и училась охотно и легко, занималась немного живописью и охотно читала Четьи-Минеи, книги Ефрема Сирина, св. Димитрия Ростовского и др.
Помещик Коя, Николай Иванович Пономарев, женился на дочери генерала, Надежде Антоновне. Они переделали церковный хор певчих девушек, и поручили Анне Васильевне, которую очень любили, учить больших и маленьких девочек. Даже берейтор, наездник англичанин, и два лакея выучились у нее русской грамоте. Из числа ее учениц одна была в Рыбинске, в девичьем монастыре казначеею — матушка Таисия.
В церкви Анна Васильевна стояла на клиросе, читала часы и Апостол. Ей поручили господа чистить церковные подсвечники и паникадило и смотреть за ризницей. Она часто ходила на барский двор и дружилась с экономкиной дочерью, которая впоследствии ушла в Ярославский монастырь. На барском дворе ей сшили черный шугай с черным бархатным воротником, на подобие ряс харьковских монашенок, и она на голове носила черный гарнитуровый платок, который ей подарили ее ученицы. В этом наряде она являлась в церковь, дома же не любила хорошо одеваться, за что родные били ее иногда.
Домашняя жизнь их изменилась с тех пор, как Анна Васильевна завела школу, впрочем, она сама не распоряжалась ни в чем. Отец крестный и мать ее, как хотели, так и вели дела: что отнимут, что дадут — за все она была им благодарна и послушна. Затем — за высокую рассудительность, какую она являла в юном возрасте, она была не только любима, но и все уважали ее и обращались к ней за советом. Слова ее отличались необыкновенной простотой, но, вместе с тем, и силою рассуждения.
Какой-то крестьянин, Андриан, смутил ее, рассказывая что-то неподобное о Св. Троице; она горячо молилась, чтобы Господь ей открыл об этом. И действительно, Господь по милосердию Своему сподобил ее, как она сама рассказывала, неизреченного видения, в котором она ясно увидела Св. Троицу и удостоилась чудесного неизреченного озарения свыше. У нее до конца жизни сохранилось радостное, неизъяснимо живейшее воспоминание, хотя объяснить и высказать она не была в состоянии об этом определенно. С этой поры запало ей в душу желание чего-то неземного, и она уже ничем мирским не прельщалась, уходила в ближайший лес или к овцам, и там, в свободное от уроков время, упражнялась в богомыслии и молитве.
Со дня на день возгоралась в молодой Анне Васильевне жажда божественного; поэтому ей очень захотелось сходить на богомолье в Киев. Она выпросила у господ своих паспорт. Добрые господа, Николай Иванович и Надежда Антоновна, дали ей денег на дорогу, и ее родные благословили ее на это доброе дело. И вот, в сопровождении старой деревенской девицы, Анна Васильевна отправилась пешком в Киев, чтобы поклониться свв. угодникам, там нетленно почивающим.
Неизъяснима была та радость, которую она ощутила при входе во врата св. лавры и во все время пребывания там. Возвратясь домой, Анна Васильевна только и думала, как бы ей поступить в девичий монастырь, чтобы никто ей не мешал там молиться. И вот, когда ей исполнилось двадцать пять лет, родные ее, видя в ней давно уже избранницу Божию и ходатайницу за себя перед Богом, благословили ее проситься в Кашинский Сретенский девичий монастырь у господ. Тогда Анна Васильевна стала просить господ своих уволить ее в монастырь.
Николай Иванович и слышать об этом не хотел.
— Молись дома, — говорил он. — Мы и домик при церкви поставим, у тебя будет свой монастырь. Я лучше дам тебе денег, съезди в Старый Иерусалим, там постригись и живи у нас при церкви, а в монастырь не пущу; ты нам дома очень нужна.
Но Анна Васильевна всеми мерами желала избавиться от суетной жизни и почета; поэтому неотступно, со слезами, умоляла Господь отпустить ее в монастырь. Добрейшая барыня, Надежда Антоновна, уговорила мужа дать вольную Анне Васильевне и отпустить ее. «Молись там за нас, — сказали они ей, отпуская ее. Вот, тебе и на келейку триста рублей ассигнациями». Со слезами и сердечным сокрушением все проводили Анну Васильевну в монастырь.
В это время управляла Кашинским Сретенским монастырем добрейшая матушка-игумения, Назарета Петровна Давыдова. Она приняла Анну Васильевну в монастырь с любовию и дала ей послушание читать в церкви. Впоследствии игумения полюбила сердечно Анну Васильевну за ее подвижническую жизнь и звала ее к себе жить. Благодаря добрым наставлениям койского священника, отца Феодора, Анне Васильевне не пришлось раздумывать, как начать подвиг монастырской жизни: она давно себя приучила к воздержанию, трудолюбию, бдению, молитве и послушанию. Начальнице она повиновалась, как Самому Богу, старалась никого не оскорбить и не осудить. Да и некогда было ей смотреть за поступками других. Она только знала себя; презирая телесный покой, переписывала книги, занималась живописью и еще ходила в келью к больной матери-игумении вычитывать все службы и правила с сердечным усердием. Но чтобы перейти жить в игуменскую келью — боялась многолюдства, рассеянности, боялась отвлечься от молитв, которым она хотела посвящать каждую минуту.
Строгая жизнь ее и ревность к послушанию не укрылись от внимания большой подвижницы, Антонии Павловны Мезенцовой, бывшей тогда еще в рясофоре и жившей очень уединенно (впоследствии кашинской игумении). Она уговорила Анну Васильевну идти к ней жить в келью. Четырнадцать лет игуменствовала добрейшая Назарета Петровна и после ушла на покой. На ее место прислали строгую игумению Серафиму, из Твери, но и та была очень милостива к Анне Васильевне, доверяла ей получать деньги с почты и заставляла ее писать письма и рапорты. Серафима недолго игуменствовала; на ее место выбрали высокочтимую Антонию Павловну Мезенцову, которая постригла Анну Васильевну в рясофор, дав ей имя в честь Алипия Печерского. Впоследствии игумения предлагала ей постричься в мантию, но матушка Алипия по смирению своему отказалась, считая себя недостойною. Матушку Алипию начали посылать за сбором, а в её отсутствие давали её келью другим, так что в непродолжительном времени она пребывала в 17 кельях.
Такая жизнь ей была не по духу. Она впала в уныние, думая, что ей здесь невозможно спастись, хотела перейти в другой монастырь. Тут пришла ей мысль посоветоваться со старцем священником, отцом Петром, жившим в Угличе на покое, в Иерусалимской слободе, тем более, что и матушка игумения Антония всё делала с его совета. Койский священник, отец Феодор, благотворитель матушки Алипии, давно скончался. Когда матушку Алипию послали за сбором, она зашла к отцу Петру просить его благословения уйти в другую обитель. При этой просьбе о. Пётр погрозил на неё кулаком, говоря: «на что, на что; сиди крепче дома, делай, как я, да вычитывай всё — так и здесь хорошо будет. Солнышко твоё в Кашине зайдёт». При этом дал ей большую просфору и велел ей юродствовать.
В это время матушку Алипию перевели в новый каменный корпус в подвальный этаж, где она 14 лет, не топивши печь, прожила. Она по-прежнему молилась и читала, но в разговоре с людьми старалась показать себя помешанной: нарочно говорила несвязные речи, вследствие чего её освободили от сбора, и она с большею ревностью принялась за молитвенные подвиги, по мере которых, при Божией помощи, она преуспевала в совершенстве духовном и удостаивалась по временам благодатных осенений, о чём сама рассказывала, что много раз Сама Царица Небесная приходила помогать ей и утешала её в скорбях. Господь ей открыл о кончине матушки игумении Антонии Мезенцовой. В 1875 году, 25-го июля (повествует жизнеописательница м. Алипии), я во второй раз приехала в Кашинский Сретенский девичий монастырь и, по Промыслу Божию, за неимением средств купить себе келью, с благословения матушки игумении Иннокентий — я наняла себе келью у инокини Павлы. Её келья как раз была над той кельей, где жила матушка Алипия, в подвальном этаже, в каменном корпусе.
Келья матушки Алипии была похожа на пещеру: единственное окно и то заставлено было двумя иконами: благословляющего Спасителя и Царицы Небесной, изображённой с семью стрелами в груди, написанной ею самой. У матушки Алипии ничего не было в келье, голые стены, небольшой стол, на котором лежали евангелие и следованная псалтирь; широкая скамья без всякого покрова, охапка дров сосновых в изголовье, и это была её постель для успокоения. Деревянная чашка и жестяная кружка: вот — всё, что в течение стольких лет удовлетворяло всем ее потребностям. Обедать она приходила в трапезу по окончании второй общей монастырской трапезы.
В продолжение многих лет, от стояния на молитве не разуваясь, у матушки Алипии на ногах срослись ногти один с другим кольцами; боль в ногах была ужасная, как она сама нам говорила: «Я думаю — крысы забрались в сапоги ко мне и грызут мои ноги». От большого поста, молитвы и поклонов у матушки Алипии сделался паралич мочевого пузыря, несмотря на все это, матушка Алипия благодушно продолжала свои подвиги и не позволяла успокаивать ее.
Уединение и безмолвие были ее потребностью, и что могло ее отвлекать от любви Божией! Взыскав от юности единого на потребу, ни к чему земному не прилагала она сердца. Никогда не искала она чести, была чужда наималейшего пристрастия к вещам. Часто она изумляла некоторых своею прозорливостью и меткостью своих замечаний, которые как раз соответствовали внутреннему состоянию спрашивающих, приходящих к ней за наставлениями. Характер она имела приветливый и кроткий, который, впрочем, она покрывала юродством.
Всегда ходила в ватнике или заячьей шубке, на голове носила остроконечную шапочку с опушкой, на плечи надевала большой черный платок, в руках носила сосновый кол и жестяную кружку; колом иногда махала и стучала.
Она никого не пускала к себе в келью, а многим хотелось ее наставлений; поэтому добрая монахиня Анатолия Запенина брала ее к себе чай пить. Другие монахини давали ей одежду, если видели, что ее одежда очень износилась, брали ее к себе в гости, и у них собирались желающие слышать ее предсказания. Силы матушки Алипии стали значительно ослабевать, и она тяготилась ходить далеко от своей кельи, в трапезу и к монахиням. Поэтому стала меня посещать ежедневно, обращалась со мною как бы с своею ученицею: спрашивала, как я молюсь, читаю и, вообще, провожу время; давала мне наставления, посылала меня в трапезу принести ей кушанье и всегда обращалась ко мне с просьбою, что ей требовалось. Я считала за величайшее счастье послужить ей.
Сестра матушки игумении, матушка Феодосия Ошанина, по любвеобилию своему к ближним принимала большое участие во мне, она сердечно любила матушку Алипию и в затруднительных обстоятельствах прибегала к ней за советом. Матушка Алипия ее тоже очень любила и уважала, и ее сестру, матушку игумению Иннокентию, уважала за ее миролюбивый характер. «Мы ее, — говорит она, — выпросили у Самой Царицы Небесной в игумении — ей худой нельзя бы быть; а у ней разбору нет: «и кисло и пресно кладет в одно место».
Матушка Феодосия заметила, что ослабевшие силы матушки Алипии требовали более удобной жизни; поэтому она на свой счет поправила ей ее прежнюю деревянную старую келью. Когда же келья была устроена, то матушку Алипию спросили, кого она желает взять к себе прислуживать ей, так как в монастыре были ее две племянницы послушницами. Но не здоровые, а болящие требуют врача, поэтому матушка Алипия взяла меня недостойную ей послужить. Полтора года она ходила ко мне почти каждый день и привыкла ко мне, как к своей, и я полюбила ее, как мать родную. За особый дар Божий сочла я позволение ее послужить ей и успокоить ее старость, при Божией помощи.
«Приучайся все делать сама, — говорила мне матушка Алипия, — молодых надо озабочивать, чтобы некогда было пустяками заниматься: поэтому у тебя будет пятеро детей: всяк Тарас, кто во что горазд, так едва ножки будешь передвигать. Не сердись, людей не обижай, все в царство небесное идут, кто в 30, кто в 60, а кто и в 80 лет. Зелен виноград не вкусен, молод человек не искусен. Коли Господь все терпит, а нам тем более надо прощать, терпеть, надо помнить, что за спасением сюда пришли; надо, чтобы одна простота в душе была. Бог дорожит неосуждением. Без труда нет спасения. От блудника ли, разбойника или вора Господь отведет — только молись и их не осуждай. Отдала сердце Богу в заклад, не бери его назад. Кто себя за человека не считает, того Господь прощает. Благодушествуй, в Бога веруй, добро делай и полно, больше с тебя Царица Небесная не потребует. Надо помолиться и поступиться, всего Бог посылает, можно в чувство придти, Бога благодарить. Кто Бога любит, тот и чужих любит. Ничего бы не надо, только Богу молиться. Всем жертвуй для Бога: спокойствием и здравием, и все терпи для Него, а злое благим побеждай. Добрые дела трудом снискиваются и болезнью исправляются. Аще обрящешь и мудрость. Знайте, что худо, что добро; приходите в церковь — не оглядывайтесь, молитесь: „батюшка архангел Михаил, тебе себя препоручаю. Пресвятая Богородица, сохрани меня под кровом Твоим! Господи, не остави меня!“»
«Сам себе человек честь доставляет, если добро делает. Под белым камнем, белым Царем богатство обретено будет, и вся Россия обогатится, нищих не будет».
Матушка Алипия глубоко понимала самые высокие таинства, наученная не школьными науками, а непрерывной молитвой и созерцанием Бога.
— Бедняга душенька, что маяты то потерпела,— говорила она мне,— идольские наставники были, отцу-то не нужна, и матери также. Кто у вас отец?» — спросила она меня.
Я назвала отца по имени.
Не сказывай, не сказывай, это не отец, а приставень; у тебя отец монах Феодор. Мое житье слезами, а твое кровью надо писать. Что бережно, то не должно. Здоровье — дар Божий, им надо дорожить, а ты не дорожишь.
В ноябре месяце мы перешли на новую жизнь: матушка Алипия в ее бывшую деревянную келейку, переделанную матушкой Феодосией, а я поместилась через сени от нее, в старенькую, оставленную за ветхостью сборщицами келейку, которую я обила тесом внутри для тепла. Матушка Алипия просила меня, чтобы я взяла к себе ее племянницу Александру Суханову, которая жила в келье у монахинь послушницей. С благословения матушки игумении — я тотчас же ее желание исполнила. Потом, по благословению матушки Алипии, взяты были две девочки ко мне из деревни Борисова: Евдокия и Наталия, двоюродные меж собой; за Евдокией матушка Алипия нарочно послала. Одна была 12 лет, другая 6 лет; и кроме этого, по благословению матушки Алипии, три Анны, городские девочки, ходили ко мне учиться, и юродивая старушка, Екатерина Васильевна Виноградова, у меня жила.
Всечестнейший отец архимандрит Исаия, настоятель Новгородского Юрьевского монастыря, по моей покорнейшей просьбе и желанию моего отца, взял его жить в свою обитель, а я взяла Екатерину Васильевну Виноградову, которую никто не держал, потому что она дралась и рвала вещи свои и чужие. 12 лет я при Божией помощи ухаживала за ней, чему свидетели все в нашей обители.
В это время нам пришлось жить в большой тесноте; вот и пятеро детей, которых послал мне Господь.
По неизреченным судьбам Божиим, слава о прозорливости матушки Алипии распространилась далеко. Ежедневно к нам стекался народ разного звания и состояния со всех сторон. Любя безмолвие и скучая посетителями, матушка Алипия стала жить, как бы в затворе. Раз в сутки, в час пополудни, она отворяла только ко мне дверь; а после, если слышала голоса других, то никак не хотела никого к себе пускать и даже отвечать. В это время я приносила ей обед и большую чашку чая, которым она голову мочила и редко его пила. Все приносимое ей она разделяла на три части: одну часть давала мне, для отдачи бедным, другую клала в большой медный таз для птиц и мышей, а третью оставляла себе. Когда приходили желающие слышать ее наставления, становились у ее двери, где хорошо слышны были ее слова, и спрашивали через меня, что желали, у матушки Алипии.
Голос у нее был очень звучный, сильный, и она всегда отвечала на вопросы громко, стараясь всех успокоить и дать добрый совет.
— Турки придут в Кашин, — говорила матушка Алипия.
— Как же это случится? Война, что ли, будет? — спрашивали у меня.
— Никакой войны не будет у нас в Кашине, — отвечала матушка Алипия, — привезут турок, напоят и накормить, обуют и оденут и в свою сторону отправят их опять!
Так и случилось все, что говорила матушка Алипия, в свое время.
Имея от Бога дар прозорливости, матушка Алипия изведывала иногда всю глубину испорченного человеческого сердца, и это не возмущало ее чистого и смиренного сердца, охраняемого благодатью, а только сокрушало ее часто до изнеможения. Никакого греха она не приписывала злобе человеческой и намерению согрешить, а все это приписывала врагу спасения нашего — диаволу.
«Батюшка мой, Царица Небесная, — говорила она, — не отступись Ты от нас. Ты мне грешников-то, Батюшка мой, спаси, а праведники-то к Тебе сами лезом лезут. Бедняги душеньки по неведению так делают: учителей хороших не было, а то бы может лучше всех были. Надо Господа просить — Ему вся суть возможна».
Редко кого она резко обличала, разве доведенная неправдою, жестокосердием и злобою людскою. Тогда уж не глядела ни на какую личность и не щадила ни сана, ни звания, а отвечала, как рабу, оскорбляющему величие Божие. Но как только замечала раскаяние, она опять изменялась: делалась доброй по-прежнему, простой и смиренной, и вся была любовь, готовая положить душу свою за ближнего.
По благословению схимника, отца Александра, батюшка отец Феодор Гофман, монах, а впоследствии иеромонах Троице-Сергиевой лавры, подготовлял меня грешную к монастырской жизни; впоследствии со мною переписывался, но об житейских делах совсем не имел понятия, что выводило меня, грешную, из терпения, и делал мне наставления, и много насмешек терпел, и обид, и клевет от благочинного; все это огорчало меня до глубины души, поэтому я решилась просить матушку Алипию, чтобы она позволила мне не беспокоить более батюшку отца Феодора и благословила мне, в случае каких недоразумений, относиться к другому, отцу Аполлинарию, но матушка сказала:
— Нет, нет, это не ладно будет.
Я сказала ей: «Вот вы, дорогая матушка, назвали батюшку, отца Феодора, истинным моим отцом, а он часто тяготится мною, мне это очень больно, он, точно маленький, судит как-то необыкновенно, что его тяготит!»
— Нет, нет, — сказала матушка Алипия, — я дело знаю. Господь велел быть младенцами, отец Феодор — истинный монах и твой отец о Господе и благодетель; он выходил тебя из земли: если бы не его молитвы и попечение о тебе, в преисподней была бы твоя душа. До конца жизни люби, уважай и советуйся со своим отцом и благодетелем твоим, помни это. Я сама, — сказала матушка, — его сердечно уважаю за благочестие, смирение и добродетель. Потерпи, если что придется от него, у всякого человека своего рода слабости и недостатки — что делать! Не обижайся и не слушай, что говорят: пусть люди его называют бесхарактерным; а что высоко у людей, то мерзость перед Богом. В простом сердце Бог живет. Смиренным только дается благодать от Бога, он не стыдится признавать своих недостатков, не верит своим чувствам и своему рассуждению, а укоряет сам себя, и незлобивый, как дитя. При Божией помощи он понуждает себя ко всякой добродетели; приказывает и тебе стараться всегда призывать имя Божие. Отец Феодор часто бывает пленяем любовью к Богу, — сказала мне матушка. — Теперь ты окружена вниманием, попечением и ласками добрых твоих наставников, благотворителей и друзей; а вот, действительно, придет время, когда всех ты схоронишь и останешься одна. Тогда слезы крупные у тебя польются, и тяжело тебе покажется на свете жить. — Уважай же ты отца Феодора Гофмана.
Никаких насекомых матушка Алипия никогда не убивала; много раз мухи ей лицо около глаз до крови летом разъедали, она терпит и не отгонит их; и мне запрещала, говоря: «Зачем сгоняешь, бедняги душеньки, пускай попитаются, благо не брезгуют».
Печку она позволяла мне у нее протапливать, только трубы не приказывала закрывать. На деревянную кроватку ее мы вдвое сложили ватное одеяло и покрыли его кожей, которую жена кожевенного сапожника Потапенкова ей прислала, и подушку мы ей сделали, обшили такой же кожей (из которой шьют рукавицы); все это мы едва уговорили ее дозволить нам положить. Несмотря на ее слабое здоровье, она никак не дозволяла ее успокоить, как бы следовало, и ревностно продолжала свой подвиг. Без помощи и благодати Божией никакой человек, конечно, не в силах был исполнить того, что она исполняла.
В келье, где она помещалась, в перегородке устроена была небольшая дверка (или, вернее, окошечко) – одна голова проходила; в это окошко нам видно было, что она делала. Она вставала в полночь и до самого рассвета клала земные поклоны с Иисусовой и Богородичной молитвой, потом ежедневно прочитывала весь псалтирь, три главы из Евангелия и Апостол, часы, обедницу, вечернюю с правилом, заутреню с дневным каноном, и читала в промежутках непрестанно следующую молитву: «О, Владыко человеколюбче, Господи, Отец, Сын и Святой Дух, Троице Святая! Благодарю Тебя за великие Твои благодеяния и многое терпение. Если не Ты, Господи, и не Твоя благость покрыла меня грешную по вся дни и нощи в часы согрешающую, то уже погибла окаянная, аки прах перед лицом ветра, за все свои преестественные грехи, ибо не престаю и не пребуду часа того, в ниже что не согрешил. А, когда восхотел прийти ко отцу духовному на покаяние: отча лица стыдился и грехи таил, а иные забыл, не мог исповедать срама ради множества грехов, но Ты, Господь, сведущий тайная сердца моего, прости и просвети мою грешную душу, как благословен еси во веки веков, аминь».
А летом, когда дни большие, прочитывала тропари за весь год ежедневно праздникам и святым; читала четьи-минеи или цветник духовный святителя Тихона Задонского, молитвы утренняя и на сон грядущий всегда читала и ложилась в 9 часов, но мало спала, а, лежа, все по четкам молилась. Носила на себе ветхий коленкоровый подрясник и сверху одевала большой теплый платок, на голову ничего не одевала, ходила босая в келье, а большею частью – в теплых сапогах; приобщаться надевала апостольник на голову и шапочку с опушкой. В церковь не ходила по болезни (у нее был паралич мочевого пузыря) и все говорила, что за грехи свои лишилась храма Божия.
«Что значит моя молитва? – говорила она, – слабый стон, в церкви молитвы, как звон вселенной!» Келейка и здесь была у нее в одно окошко, которое было почти на земле. Она не позволяла всегда теплиться лампадке: «На что мне свет чувственный, – говорила она, – Владычица – свет очей души моей!» Матушка Алипия, сама, как неугасимая лампада, стояла на молитве.
Денег она никогда не имела; если по неотступной просьбе приходящих к ней и принимала что, то отдавала мне, приказывала ставить в церкви свечи или отдать бедным, всегда приходящим к ней. Дорогие вещи для неё не имели никакой ценности. Кроме самого необходимого ей, она считала всё прочее сором, который спешила выкинуть за порог своей кельи.
Матушку Алипию любила углицкая настоятельница Богоявленского девичьего монастыря игумения Измарагда, и матушка уважала её, говоря ей: «В одно число с моей маменькой Евфросинией Самойловной именинницей бываете, да и ум-то точно её, всех бережёте, ласкаете и успокаиваете. Моя-то маленькая праведница была: звон на небеси слышала, всегда молилась со слезами».
Матушка игумения Измарагда имела большое расположение к матушке Алипии, обо многом советовалась с ней и верила её святым молитвам; сама приезжала к ней и много раз милостиво присылала ей и нам, недостойным, гостинчиков.
Раз матушка игумения Измарагда изволила прислать матушке Алипии шапочку бархатную свою с опушкой, которую она радостно приняла, поцеловала её, надевала её только приобщаться, бережно вешала её и закрывала платком, говоря о матушке: «Я как бы виделась с ней». В этой шапочке мы матушку Алипию и схоронили.
Матушка Алипия приобщалась только раз в год, а другим советовала чаще приобщаться, чем многие соблазнялись. Казначей Клобуковского кашинского мужского монастыря, бывший наш духовный отец I, подавал жалобу преосвященному на матушку Алипию, за что много неприятностей она терпела; нарочно, как я думаю, чтобы не ублажали её, ибо многие за святую считали матушку Алипию, чем она очень тяготилась. Однако, действительно, многие по её святым молитвам тотчас же получали выздоровление и благопоспешество в делах своих. Многие и заочно, письменно, относились к матушке Алипии — она с любовью давала ответы, но не всем: приказывала мне писать и отсылать им.
Недалеко от родины матушки Алипии, в селе Шестакове, есть чудотворная икона Шестаковской Царицы Небесной. В этом селе при церкви давно жили девицы, посвятившие себя на служение Богу. Он часто ходили за наставлениями к матушке Алипии. Она утешала их и предсказывала, что скоро в селе их устроится община — девичий монастырь. Он плакали от радости и просили матушку Алипию отпустить меня устроить им монастырь; матушка не согласилась, говоря: «нет, нет, не пущу, она еще молода, в свое время она по своему вкусу при Божией помощи устроит обитель, а теперь молода, и ваше место ей не понравится». Когда же они продолжали просить и кланяться ей, она сказала им: «Просите харьковскую игумению премудрую Софию, она устроит вам монастырь; тогда и она приедет в вашу обитель поглядеть на все устройство, и ее привезут добрые помещики Шубинские в карете к вам четвериком, вот и повидаетесь, тогда с нею, а теперь пускай при мне будет!» И это предсказание сбылось в свое время. Матушка София Бежецкая устроила, действительно, в селе Шолтомеси девичью общину, послав туда свою сборщицу, очень ловкую мать Леониду, которая в скором времени и учредила общину.
После кончины матушки Алипии, для поправления здоровья, я гостила в усадьбе Павла Васильевича Шубинского, в десяти верстах от с. Шолтомеси, и, действительно, добрейший Павел Васильевич предложил мне съездить помолиться в Шолтомесь, и, к моему удивлению, подали, по старинному, карету, запряженную четверкой лошадей. Я и вспомнила слова матушки Алипии.
Матушка Алипия много раз предсказывала мне разные события в моей жизни, и ее предсказания всегда в точности сбывались; некоторые из ее предсказаний опишу здесь.
Задолго еще до кончины моего мужа, матушка Алипия предсказала мне, что от безызвестного мне человека я получу после смерти моего мужа синенькую бумажку в семьдесят рублей, которую снесу в казначейство, где разменяют мне ее белым золотом. Предсказание это сбылось: 1879 года, 15-го мая, скончался мой муж в запасном батальоне 18-го пехотного Вологодского полка в гор. Могилеве, куда, незадолго до своей смерти, мой муж перешел из драгунского полка, о смерти его (т. е. моего мужа) меня известили мои знакомые. Не зная никого в запасном батальоне, я решилась написать самому командиру полка г. Алексеевскому, которого также лично, не знала, просила его сделать мне милость, уведомить меня в монастырь подробнее о кончине моего мужа, а также переслать мне оставшиеся после моего мужа вещи. Прошло 6 месяцев, ответа я не получала и не знала, где должна была хлопотать о выдаче мне вдовьего свидетельства. Дела шли медленно. Командир полка почти не успел хорошо узнать моего мужа, и не мог ничего подробного мне сообщить. Знали только, что муж мой умер болезнию рака в желудке, вещи же его после смерти растащили.
Христолюбивый и добрейший командир полка, Алексеевский, хотя и не знал меня, так как я, грешная, еще при жизни мужа моего ушла в монастырь (по благословению святых старцев, за семь лет до его кончины), однако, как видно из его действий сострадательный и добрейший человек, хотел чем-нибудь утешить меня, поэтому прислал мне талон к ассигновке на синенькой бумажке в семьдесят рублей, с тем, чтобы из кашинского казначейства выдали мне серебряными полтинниками. Вот неожиданно сбылось предсказанье матушки Алипии вполне, над которым многие смеялись и не верили.
Потом говорила мне матушка Алипия, что любимец покойного государя Александра II, генерал с своею женою будут принимать во мне участие, как родные; при этом назвала даже генерала по имени: его Михаилом, а супругу его Еленою Феодоровною, даже имя экономки их, Татьяны, назвала. Сказала еще, что этот генерал выхлопочет мне маленькую пенсию; очень хвалила его добрый характер, говоря: «Где он появится, везде милость и мир окажет; у него не только родители, и прадеды-то все святые были. За их святые молитвы впереди его (т. е. генерала) всегда архангел Михаил с огнем и мечом ходит, охраняя его». Я грешница слушала это так себе, думая, что матушка Алипия, утешая меня в скорбной моей жизни, что-нибудь про будущую жизнь говорит. Откуда может быть такое знакомство, когда я никуда не хожу и не езжу, а живу в такой лачужке, что и нам негде повернуться! Но когда я долго не могла выхлопотать себе вдовьего паспорта, матушка Алипия однажды сказала мне: «Тебе надо съездить за 9 верст отсюда, в усадьбу к генералу Тучкову, проси его милостей, чтобы похлопотал тебе пенсию», — «Я боюсь, матушка, — отговаривалась я, и, действительно, я одичала, боялась, отвыкла от общества и светских людей, а тем более боялась ехать к вельможам: «Зачем боишься, — говорила матушка Алипия, — поезжай, они никого не осудят, всех приветят, это ангелы земные, небесные человеки; отслужи молебен сперва: Святой Троице, милостивой Царице Небесной и святому архистратигу Михаилу». Я оказала об этом нашему отцу протоиерею Петру А. Р., прося его отслужить мне молебен и по какой причине.
Он рассмеялся, говоря: «Как это вы верите юродивой старице? Мало ли что она говорит, у них много непонятного». Я сказала, что верю свято ее словами, ибо они на деле всегда сбываются. «Поезжайте, поезжайте, — прибавил он,— проложите и нам дорожку; только смотрите, не пожалейте, если на вас не обратят внимания».
Отслужив молебен, я спросила позволения у матушки игумении и в сопровождении одной старицы сборщицы поехала в поместье «Троицкое» к г.г. Тучковым. Хотя я и свято верила дорогой моей матушке Алипии, но сердце невольно замирало, и я готова была вернуться от страха. Добрейшие и высокопочитаемые Михаил Павлович и Елена Феодоровна приняли меня, недостойную, очень милостиво, обещали похлопотать мне пенсию. В тот же год, благодаря их попечительности, и за святые молитвы матушки Алипии я получила единовременное пособие после смерти моего мужа, и из эмеритальной кассы пенсию по восьми рублей в месяц. До конца своей жизни (а я десять лет имела счастье быть с ними знакомой) добрейший Михаил Павлович, генерал Тучков, был милостив ко мне, как родной, за что я не умею надлежащим образом молиться за них Господу Богу, а их моих бесценнейших благотворителей, благодарить. И теперь дорогая супруга покойного Михаила Павловича продолжает мне грешной щедро благодетельствовать, по предсказанию матушки Алипии.
Матушка Алипия любила кашинских горожан и торговцев. Многие из их жен и детей приходили к ней за советом, прося благословения на разные дела свои; глубоко веровали в силу ее молитвы. Верещагины, Пименовы, Ушаковы, Охановы, Парасковия Феодоровна Кортева, Калашниковы, Запенин, Пуговичниковы, Водолеевы и многие другие с разных сторон и сословий приходили спрашивать ее советов и святых молитв, и до самой смерти матушки Алипии любили ее и носили ей разных гостинцев. Семейство Пуговичникова по ее предсказанию — выстроило дом, а сыну их — Виктору Ильичу, матушка Алипия сама выбрала и назначила невесту, и по ее святым молитвам они живут счастливо. Ник. Ник. 3. дочери ходили к матушке Алипии. Старшей она советовала идти замуж, а второй сама предсказала замужество. Однажды она пришла к своей родственнице, мон. Анатолии; от нее Варвара Николаевна пришла к нам; матушка Алипия весело на нее взглянула, сказав: «А какая большая ты выросла! А счастье-то больше тебя еще». В непродолжительном времени посватался к ней очень хороший и богатый купец, за которого Варвара Николаевна и вышла замуж и живут теперь, слава Богу, счастливо.
К монахине нашей Сергии, которую матушка Алипия очень любила за ее подвижническую жизнь и кроткий характер, пришла ее племянница купчиха, молодая девушка Павла Блинова; с тем, чтобы спросить матушку Алипию, за которого жениха идти ей замуж, так как к ней в одно время сватались два жениха. «Пускай месяц один погостит у тетки в монастыре, — сказала матушка Алипия, — а там, что Богу угодно». Блинова и слышать не хотела про монастырь и объявила, что и дня одного не хочет в монастыре быть, а просила благословить ее замуж. Матушка Алипия тяжело вздохнула, сказав: «Только один месяц». Я начала уверять ее, что Блинова не хочет слышать об этом. «Греха нет выходить замуж, — сказала матушка Алипия, — а только бы месяц здесь погостить; впрочем, дело ее. Пускай за любого выходит». После чего Блинова вышла замуж за Пименова, жила только один месяц и умерла горячкой.
За семь лет до своей кончины матушка Алипия сделалась немного нездорова, монахиня Анатолия, очень добрая старица, любила матушку Алипию и приходила к ней от себя спрашивать о своих делах, а иногда и по поручению родных и знакомых. Однажды, придя к матушке Алипии и увидя ее бледною, подумала, что она скоро умрет, и стала уговаривать ее пособороваться. «Успокойся, — сказала матушка Алипия, — я еще не скоро умру, меня будет священник, отец Василий, молодой, хороший соборовать, он еще теперь не живет у нас».
Матери Анатолии почему-то вообразилось, что матушка Алипия не желает собороваться у наших священников, а хочет, чтобы пустынный наш старец отец Василий ее соборовал; ничего нам не сказавши, она выпросила у добрейшей матушки игумении привезти из пустыни отца Василия. Вдруг являются к нам в келью отец протоиерей П. А. Р., пустынный отец Василий и мать Анатолия. Увидя вошедших, матушка Алипия улыбнулась матушке Анатолии: «Что это вам, матушка, не сидится, что насуетили? Легко ли, даром обеспокоили старца. Я вам говорила, что меня перед смертью будет соборовать отец Василий, высокий, молодой, хороший священник, его теперь еще здесь нет». — «Разве тебе не все равно, — сказал, шутя, батюшка отец протоиерей матушке Алипии, — что молодой, что старый, я или кто другой будет тебя соборовать?» — «Мне Царица Небесная сказала, — ответила отцу протоиерею матушка Алипия, — чтобы я тебя в духовники взяла, а соборовать ты меня не будешь, а молодой, хороший отец Василий меня будет соборовать».
Впоследствии так и сбылось: перед смертью матушки Алипии отец протоиерей ее приобщил утром, а после вечерни хотел прийти ее пособоровать, но неожиданно приехал из Твери инспектор училищ, и отец протоиерей должен был отправиться к нему, как преподаватель. Матушка Алипия казалась очень слабою; поэтому мы не стали дожидаться отца протоиерея, послали за очередным священником; в это время у нас был новый священник — черный, зять о. Павла; он перешел к нам из села, молодой о. Василий. Он и соборовал матушку Алипию, как она за семь лет это провидела.
Тверская купчиха София Алексеевна Нечаева, имевшая большое расположение к матушке Алипии, не раз с детьми приезжала к ней. Однажды матушка Алипия пристально поглядела на ее детей и сказала, чтобы она в страхе Божием их воспитывала, и, указывая руками на малолетнего тогда сына ее Илью, сказала: «Вот этот у тебя будет всех счастливее, без хлопот твоих найдет себе богатую невесту, войдет к ней в дом и будет счастливо жить», что и сбылось в свое время.
Жена кашинского чиновника, Николаевская, не верила прозорливости матушки Алипии, с дерзкою насмешкою говорила о ней и захотела взойти поглядеть ее из любопытства, но не решалась, а подошла к двери и из двери хотела взглянуть на нее. Матушке Алипии, верно, Бог открыл об ней. Она сама подошла к двери, чтобы Николаевская могла лучше слышать ее, и сказала громко: «Сама ты живешь по твоим похотям и нас пришла испытывать. Как ты смела войти во святую обитель с твоим скверным хвостом?» Николаевская до слез испугалась и раскаялась в своем поступке; с тех пор она считала матушку Алипию, действительно, праведницею.
По вражию искушению матушка Феодосия под конец восстала на нее, а потом о. Иоанникий духовник подал архиерею прошение на матушку Алипию, но после испугался и оставил это дело. Матушка игумения не позволила это описывать, как было дело.
Матушка Алипия предсказывала, что случится, иногда прозревая за несколько лет вперед, и слова ее, как я уже писала, сбывались в точности, как будто она читала в книге судеб Божиих будущие определения людям.
Так, например, за два года до нашего пожара она предсказала, что у нас в монастыре, потом в городе и в окрестных деревнях будут ужасные пожары, что и сбылось: действительно, почти три года были пожары.
Накануне 30-го августа 1882 года, матушка Алипия дала мне поданные приходящими к ней тридцать копеек и велела поставить свечу образу Неопалимой купины Царицы Небесной. Я передала деньги свечнице, сказав приказание матушки Алипии. Послушница, Александра Суханова, пришла с послушания перед всенощной, чувствовала себя нездоровой, поэтому и не ходила ко всенощной; и, когда я вернулась из церкви, она сказала мне, что, проходя мимо окон матушки Алипии, она видела, что матушка Алипия, развязав веревочки у задвижки окна, глядела из него, как будто осматривая, хорошо ли из него выйти. Я думала, что матушка хочет проветрить комнату, прочла акафист Скорбящей и за ним подремала. Меня разбудил набат. Выскочив в сени с разбуженной мною Сашей, мы увидели зарево пожара в самом нашем монастыре. Дверь матушки Алипии была заперта; когда дверь сильно рванули, она оказалась совсем одетою, в ваточнике и закутанною поверх шапочки большою шалью, а в руках большой узел с образами и книгами. Она приказала просунуть себя через окно, так как сени была ветхи… Очевидно, она предчувствовала даром прозорливости опасность пожара.
Ее приглашали к себе почетные горожане и священники. Но она просила отвезти себя к бедной своей землячке Дарье Васильевне, жившей в ветхой лачужке. Ветхую же келью матери Алипии в это время подправили и на средства купца Дорогутина обили войлоком. В течение полутора года не было в монастыре трапез, но матушка Алипия питалась от добрых людей.
Как-то монастырские сборщицы в Москве познакомились с Екатериной Петровной М. У нее дочь была сговорена за полковника. Мать послала три рубля матери Алипии, прося прислать образок в благословение дочери. На это письмо старица сказала: «Они земные ангелы и небесные человеки», а потом, приняв грозный вид, произнесла: «Вон, вон буйковского мужика. Не надо, не смейте отдавать этого ангела за буйковского мужика». Действительно, он оказался человеком неблагонадежным, и ему отказали.
Матушка Алипия предсказала, что Вера Дмитриевна выйдет замуж за доктора, что и случилось:
В 1885 году она стала слабеть и просила никого не принимать к ней, говоря:
— Я скоро домой уйду: пора в Кой на покой.
Слегла она в мае, две последние недели провела вовсе без пищи, соборовалась и приобщилась и скончалась в полдень, 6 сентября 1885 года.
Тело ее стояло в тесной келье четверо суток с открытыми настежь дверями, в духоте, вследствие множества приходящего народа, но не издавало мертвенного запаха. Выражение лица было благостное и радостное.
Ее положили в саду на кладбище, между двух часовен, против Казанского собора.
Петр Савельевич Прохоров (в схиме Пантелеймон)
(основатель Костычевской Смоленской общины)
Схимонах Пантелеймон своей жизнью лишний раз доказывает глубину духовных стремлений русского крестьянского мира, лишний раз свидетельствует о той духовной жажде, которая распаляет русский народ, заставляет его мечтать о подвигах и дает ему силу приступить к этим подвигам среди самых, казалось бы, неблагоприятных условий, когда мир по рукам и ногам связывает человека.
Нравственная победа, осуществление своей мечты, устройство, несмотря ни на что, своей жизни так, как эта жизнь рисовалась ему в самые святые минуты: вот то, чем был жизненный путь этого крепкого русского подвижника.
В 1811 году родился в семье крестьянина Симбирской губернии, Сызранского уезда, села Старых Костычей, Савелия Антонова Прохорова, сын Петр.
С первых лет его стало заметно, что мальчик с большою радостью ходит в церковь и жадно учится со слов матери и других людей молитвам. Он любил читать священные книги, особенно же жития святых, тех святых, которые спасли душу свою уединенным подвигом, которые углублялись в пустыни, скрывались в пещерах, угнетали себя голодом и жаждой, восходили для окончательной победы на высокие столпы, как Никита Столпник, Симеон Столпник. Ближе были известны мальчику жития преподобных Киево-Печерских, отцов русского монашества — Антония и Феодосия.
Очень любил он Лествицу преподобного Иоанна и, не умея сам читать, заставлял других прочитывать ему отрывки из этой книги вслух.
Конечно, прямой путь такому мальчику был бы — послушание в монастыре. Но, не спрашиваясь с его желаниями и мечтаниями, его отец женил сына, как только ему минуло семнадцать с половиной лет.
Как часто в крестьянских семьях, особенно в прежнее время, молодой парень женится помимо всякого своего желания, только потому, что отец находит нужным завести в доме лишнюю работницу.
С женой Петр жил хорошо, имел он от нее и детей: мальчиков и девочек. Трезвый, трудолюбивый, хозяйственный, он вел свои дела исправно, и дом его считался одним из самых состоятельных. Уже в то время в нем ясно обозначалось стремление к подвигам. По крайней мере, вот что рассказывают об этом времени два его товарища: «Как-то ранней весной мы с Прохоровым пахали в степи за Волгой, и после четырехдневной работы случился праздник. Вечером накануне праздника, мы собрались у костра поужинать, разговорились. Один из нас на утро в праздник предложил было продолжать пашню, но Прохоров восстал против подобного нарушения праздничных дней и начал говорить, что в праздники работать не следует, что праздничной работой мы оскорбляем Бога и святых Его, что Бог повелел человеку работать шесть дней и проч., и, таким образом, убедил нас всех утром идти в Обшаровку к утренней службе. Так как было весеннее время, то все мы шли в одних рубашках, дул довольно сильный ветер и ветром подняло край рубашки Прохорова, и мы увидали, что под рубахой он носит железный пояс. На теле около пояса (от трения железного обруча во время работы) виднелись следы крови. И, когда мы настойчиво его расспрашивали, зачем он носит железный пояс, то Прохоров, не объясняя причины, с неохотой сказал, что «пояс сначала носить было трудно, а теперь, слава Богу, попривык. Вот только жена сердится за то, что рубашки рву». Вскоре после этого, не более как через год, Прохоров ушел на Афон молиться Богу, и мы с ними уже больше не пахали».
Только десять лет прожил Прохоров в браке с женой, и, так как он рано женился, он был еще совсем молодой — двадцати семи с половиной дети, когда он решительно повернул на тот путь, на котором провел остальные сорок лет своей жизни. Побуждением для него оставить жену было следующее необыкновенное обстоятельство.
Еще при жизни с женой, он очень любил вставать в полночь на молитву. Это не нравилось его жене, которая всячески над ними за это издевалась, и он, чтобы не беспокоить ее и не возбуждать ее насмешек, отказался от своего обычая.
Однажды в полночь он был поднят с постели какой-то особой сверхъестественной силой и отброшен на пол довольно далеко от постели, при этом он получил сильный ушиб в бок. Он увидел тогда в этом наказание Божие за то, что он из угоды жене отказался от благочестивого обычая. Когда он снова из слабости пред женой стал уклоняться от ночной молитвы, припадки с ним возобновились.
Как-то раз во время жатвы ему пришлось без сознания пролежать в поле более часа. Когда он пришел в себя, то стал молить жену, чтобы она не мешала ему идти в Киев на богомолье. Она же возражала ему, говоря, что тогда некому будет смотреть за детьми и вести хозяйство. По возвращении с поля домой припадок возобновился, и в этом припадке он чуть не задавил свою младшую дочь; он пролежал без признаков жизни два часа и все думали, что он умер. Тут он проболел две недели горячкою. Ему стало лучше после того, как по просьбе жены его особоровали. Когда он стал оправляться, он стал опять просить жену отпустить его, но она опять отказывала. Тогда кто-то из ее родственников и волостной старшина доказали ей, что, все равно, Петр, столь ослабевший от болезни, для нее сейчас не работник, и она отпустила его.
Первое его богомолье в Киев было непродолжительно. Можно предполагать, что киевские старцы вложили в него мысль идти на Афон.
Вернувшись домой, он стал быстро приводить в порядок свои дела. У деревенских купцов он заказал для ношения на теле тяжесть, в роде вериг, и на дорогу — железную палку.
— Вот, — сказал он жене, — и посох я припас себе на дорогу, отпусти меня на Афон молиться Богу, дома я уже не работник.
Тут, от отчаяния, с Анной случился припадок. Она билась об пол, отчаянно плакала, рвала на себе волосы, и уговаривала мужа отказаться от своего намерения.
Тогда муж подал ей свою крепкую железную палку и предложил жене переломить эту палку.
— Так и меня не отговаривай, — сказал он ей, — не осилишь меня.
— Дом на кого покидаешь? — спросила Анна мужа.
— Нечего тебе о доме беспокоится, — отвечал Петр, — за то благодари, если утром в нем позавтракаешь.
— А с детьми что делать?
— Бог милостив, — отвечал он, — Он найдет всем им место.
Действительно, дом на следующий день сгорел, а двое детей через неделю умерли.
И он, как птица, освободившаяся из тенет, быстро вышел из родного места. В тот же день дошел он до Сызрани, здесь ночевал и здесь получил ту Смоленскую икону Богоматери, которая составляла для него при жизни его великую святыню, и которую он по своей смерти завещал новой обители.
Эта икона принадлежала сызранской купчихе Сопляковой. Она была раскольница, и Прохоров часто навещал ее. Когда он собрался на Афон и зашел к купчихе проститься, то в ее молельной стал просить ее дать икону на дорогу. И на предложение хозяйки выбрать себе икону по желанию, остановил свой выбор на иконе Смоленской. Соплякова уверяла, что не решается отдать ему эту святыню, так как икона эта старинная и чудотворная. Прохоров тогда вовсе отказался от иконы, и пошел из комнаты. Вдруг в ней раздался стук и, оглянувшись, хозяйка увидала, что икона упала на пол. Подняв ее, она поставила икону на место, а Прохоров, прощаясь с нею, обещал побывать на завтра, так как Господь укажет, что делать.
Ночью и утром икона упала во второй и в третий раз. Купчиха заплакала и отдала икону Прохорову, как он о том ее просил.
И с тех пор Прохоров никогда не расставался с этой дорогой для себя святыней. Странствуя по святым местами, он носил ее у себя в ранце на спине. Когда он приходил куда-нибудь или начинал новый путь, он вынимал икону из ранца, ставил пред собою, и начало и конец всякого дела ознаменовывал молитвою пред этой иконою. Он завещал ее основанной им общине, и теперь икона, богато украшенная жемчугом и тремя алмазными звездами на челе и оплечьях, стоит в иконостасе Смоленского храма Костычевского монастыря.
Уходя от Сопляковой, Прохоров просил ее позаботиться об его жене, если она заболеет.
В скором времени костычевский нарочный нагнал Прохорова с вестью о том, что его дом и имущество сгорели. Жена, спасая детей, подверглась ужасным ожогам и находилась при смерти. Она была увезена в сызранскую больницу.
Прохоров имел в себе настолько силы воли, чтобы показать, как решительно порвал он со всем мирским, что не вернулся в Сызрань, как просила его о том жена, и, сказав: «Да будет во всем воля Господня», — пошел дальше.
Когда до Сопляковой дошла весть, что в Сызрань привезена страдающая жена Прохорова, она вспомнила его слова, ухаживала за больной и затем, когда та выписалась из больницы, помогла ей деньгами.
В родном селе осуждали Прохорова, считали его ханжой и говорили: «Угодно ли Богу его богомолье? Можно ли было забыть ему жену и своих детей!»
Прежде чем побывать на Афоне, Петр вторично отправился в Киев, куда стремится всякий набожный человек. Беседы благоговейных монастырских старцев, красота богослужения и вдохновенность лаврских напевов, воспоминание жизни и подвигов преподобных Антония и Феодосия с их последователями, наконец, та благодать, которая носится в воздухе Киево-Печерской лавры, — все это окончательно укрепило монашеское настроение Петра. Но на Афон ему попасть скоро не удалось. В то время была задержка в выдаче паспортов в турецкие владения русским паломникам, и Петр прожил около трех лет на Одесском Афонском подворье, причем нес послушание по сбору пожертвований на Афонский Пантелеймонов монастырь. Тут он был пострижен в рясофор с именем Пахомия.
Когда он, наконец, очутился на Афоне, то стал вести самую строгую жизнь. Первый он вставал к ночной службе, начинающейся на Афоне в час пополуночи, первый приходил в церковь и последний уходил из нее. Стеснял себя в трапезной еде, и больше вникал в происходившее за трапезой чтение житий, чем занимался едой. По окончании трапезы, ни с кем не разговаривая, он молча уходил к себе в келью.
Как-то он заметил, что несколько старцев являются откуда-то накануне праздников с кувшинами и сумками и, выстояв ночное бдение и обедню, на другой день, то есть, в самый праздник, уходят перед вечером куда-то опять. Он узнал, что это пустынники, которые проводят по шести дней в пустыне, среди безмолвия упражняясь в молитве.
Тогда Петру захотелось самому посмотреть на жизнь отшельников и, дождавшись свободного времени, он отправился посмотреть на их труды и был поражен их подвигами, какие увидел.
Были иноки, которые простаивали на молитве и в пении псалмов целые ночи. Другие стояли днем неподвижно с открытой головой, босыми ногами на солнце, муча себя зноем и жаждой. Иные налагали на себя тягчайший пост. Некоторые стояли на камнях на коленях, избитых до крови, оцепеневших от несчетных поклонов. Петр запомнил эти подвиги и впоследствии наложил их на самого себя.
Он однажды простоял сто двадцать ночей, не передвигая ног, у гроба Господня; в Иосафатовой долине у Иерусалима и в Палестине в пустыне Синайской мучил себя зноем, повторяя молитву мытареву, как потом мучил себя холодом в Соловецком Анзерском скиту. Затем, когда он, вернувшись на родину, стал подвижничать в родном селе, то ровно полгода, с первого октября до двадцать пятого марта — с Покрова Богородицы до Благовещения жил безвыходно в затворе у себя в келье, стоя на камне, подобно столпнику в железных веригах и в железном наголовнике. Он всегда с благодарностью вспоминал о тех учителях, у которых он научился этим подвигам.
Насмотревшись на этих старцев, отец Пахомий, вернувшись в монастырь, стал сейчас же просить настоятеля, чтобы он позволил ему разделить их труды. Но настоятель нашел его слишком молодым и мало подготовленным, и только после восьми лет жизни на Афоне он мог вступить в семью отшельников.
После праздников, имея с собою несколько пресных хлебов, молодой подвижник радостно шел в скит, и там переносил всяческие подвиги, не давая себе ослабеть, так что удивлял опытных, привычных подвижников.
На Афоне Пахомий был пострижен в мантию с именем Пантелеймона. После пострига он получил совет идти в Россию и обращать там раскольников. Ему было также предсказано, что место, где он поселится, будет ему и другим во спасение, что там он воздвигнет иноческую обитель и там кончит свои дни.
Без особой радости возвращался новый инок к себе домой. На Афоне он не только не встречал никаких препятствий к духовной жизни, но видел вокруг себя возбуждающие его ревность примеры. Здесь же в России ему предстояло встретиться с женой и вынести борьбу с ней. Его ждало также издевательство родственников и сельчан и неизвестность, чем он будет кормиться. Мало того, афонские старцы наказывали ему еще присылать пожертвования им, на Афон.
Печальное положение застал он у себя дома. Сгоревший дом его не был восстановлен, не было также и скота. Жена, увидя его монахом с длинными волосами, подняла громкий плач, оплакивая его, как покойника. Собравшиеся родственники стали спрашивать его, кто будет кормить его детей, так как, кроме двоих умерших сыновей, у него осталось в живых три дочери.
Пантелеймон отвечал им словами Спасителя о том, что тот, кто оставит дом, или братию, или сестер, или детей, или села ради имени Христова, «сторицею приимет и живот вечный наследит». На эти слова раздался только смех. К положению, и без того тяжелому, прибавились еще заимодавцы, которые давали жене его деньги взаймы и требовали уплаты. Отец Пантелеймон, в виде уплаты, дал в аренду заимодавцам на несколько лет свою землю и затем принялся строить себе келью.
Вдали от села, на своем отцовском наделе, неподалеку от сельского кладбища, он поставил врытую в землю крошечную келью. Она вмещала только одну печку. Келья была так мала, что поставить в ней кровать не представлялось возможности. Прежде она служила сторожевой будкой на бирже, и все стены ее были в сквозных дырах, так что Пантелеймону пришлось забить их деревянными гвоздями. Тут он поселился, стал заниматься молитвой, совершая правило по своему афонскому обычаю. Но какая была тут разница с его афонскою жизнью!
Как только жена его узнала, что он никого к себе в затвор не пускает, она явилась к келье, стала шуметь и кричала в единственное окно, требуя, чтобы муж вышел к ней. Он выдержал характер и не выходил. Она решила тогда поставить на своем. С раннего утра пришла она раз к землянке и, всунув голову в оконце, выла по нескольку часов подряд, не переставая.
Эта выходка собрала любопытных и праздных людей. Стали раздаваться шутки и остроты.
В конце концов Пантелеймону пришлось выйти к жене, и ему удалось убедить ее оставить его в покое, и искать себе утешения в странствовании по святым местам. Он вызвался сам провести жену в Киев и Москву. И они, действительно, отправились в путь, присоединив к себе жену местного священника с дочерью. Вот, как вспоминала об этом богомолье священническая жена.
«Всех нас путешественников было четверо: Петр Савельич с женой и я с дочерью. Петр Савельич был нашим путеводителем. Он сказывал и предупреждал нас, в какой город или село мы придем, где будем останавливаться. На нем была монашеская одежда, и, благодаря этому обстоятельству, мы часто останавливались на ночлег в монастырях. По приходе на какое-нибудь место Петр Савельич, прежде всего, вынимал из ранца икону Смоленской Божией Матери, клал несколько земных поклонов и затем отправлялся просить дозволения, чтобы нас поместить куда-нибудь на ночлег. Устроивши нас, он брал с собою икону и уходил ночевать в церковный притвор, где опять становился на молитву. В Москве Пантелеймон водил нас по всем монастырям и храмам, где есть святые мощи или чудотворные иконы, к которым мы прикладывались или слушали молебны; водил нас смотреть на Ивана Великого, царь-пушку, царь-колокол, дворец и прочее. Во все время нашего пребывания (около месяца) в Москве, Троицкой лавре и Новом Иерусалиме — нам было как-то особенно хорошо и легко; время шло незаметно, и мы ни разу не скучали и не вспоминали о своих домах, а до того времени по пути в Москву моя спутница Прохорова частенько таки плакала и шла как-то неохотно. Из Москвы до Киева путь для нас был гораздо легче. Помолившись перед мощами святых московских, мы получили душевное успокоение и подкрепление для наших слабых сил и шли теперь, не так утомляясь, как прежде. В Киеве Пантелеймон, показав нам все пещеры и святыни, долго убеждал нас, чтобы мы прожили здесь в лавре не менее шести недель и не выходили бы отсюда, ничему полезному не научившись. Пожелав нам душевной пользы и душевного спасения, он расстался с нами и отправился в Иepyсалим ко Гробу Господню».
Можно представить себе то благоговейное чувство, которое во Святой Земле охватило душу Пантелеймона. В Иерусалиме особенно был поражен он, когда вошел в храм Воскресения, в котором собраны два священнейших по воспоминаниям для всего человечества места: Голгофа, на которой был распят Христос, камень миропомазания, на котором было произведено умащение благовониями тела Божественного Страдальца, и пещера Гроба Господня.
Когда вы вступаете в дверь великого святилища и сделаете несколько шагов, пред вами открывается вид громадной, лежащей на земле мраморной высокой плиты, вокруг которой теплятся неугасаемые лампады: это и есть камень миропомазания.
Пантелеймон подошел к святилищу, когда двери его были заперты, и через оконце в дверях он мог слышать отрывки богослужения. Он видел огни лампад, теплящиеся над священным камнем миропомазания и мерцающие, как огненные глаза.
Многочисленные богомольцы терялись среди обширного темного пространства. Совершенно пустая пещера Гроба Господня, сверкая серебром и мрамором, вся светилась горевшими в ней огнями.
На следующий день Пантелеймон, отдохнув, пошел на всю ночь молиться на Голгофу. Это лучшее время для молитвы, для сосредоточения, для беседы со Христом, так как ничто не развлекает молящегося и нет тех шмыгающих повсюду любопытных путешественников, которые приносят в священнейшее место много любопытства и мало благоговения.
Тут одиноко, припав головой к холодному мрамору пола, в слезах русской паломник молился, чтобы Господь дал мир его душе, чтобы Он примирил с ее участью жену мужа, оставившего все и последовавшего за Христом, чтобы Он дал ему вернуться домой и посвятить родине остающиеся в нем силы и молитвы…
От мольбы в этом священнейшем месте земли он вынес великое успокоение духа и решимость безропотно нести свой крест до конца.
Он молился и в Гефсимании, там, где было положено пречистое тело Богоматери, у тел Ее родителей. В Гефсимании он приобрел искусно исполненную икону Богоматери, которая хранится, как святыня, в основанной им Костычевской общине.
Отпраздновав праздник Пасхи в Иерусалиме, Пантелеймон пошел по другим местам Палестины. Он был у колодца Иакова близ Сихема и, напившись воды из него, вспоминал, как Христос беседовал тут с женой-самарянкой и пил воду из этого самого колодца.
Он был в Назарете и своими стопами измерял дорогу от дома Иосифа до колодца, откуда Богоматерь приносила воду для домашних нужд. Он поднимал на себя те водоносы, с которыми арабские женщины ходят за водой и которые, вероятно, остались неизменными от тех заветных дней. Потом, в Сирии, он осматривал гору Кармил, имя которой соединено с памятью великих пророков Илии и Елисея. Из Сирии вернулся он снова в Иерусалим. Тут он провел сто двадцать ночей босой на плитах храма Воскресения. Он был тут почти один, так как русские богомольцы обыкновенно после Пасхи возвращаются домой. Ему казалось, что никто не подсматривает за ним, что его молитва никому неведома.
Между тем, иноки Святогробского греческого братства следили за ночным богомольцем и знали об его подвигах, об иконе, которую он носит в ранце, и о веригах. Однажды извещенный о нем патриарх пред самым началом литургии позвал Пантелеймона к себе в алтарь и велел ему достать Смоленскую икону Богоматери и поставить ее близ горнего места. Патриарх предсказал при этом: «эта икона прославится на твоей родине, а твои труды приняты пред престолом Господним».
В великом смущении стоял перед патриархом русский богомолец, а патриарх велел дать ему отрезок цепи, которая протягивалась на страстной седмице от Гроба Господня, чтобы сдерживать народ, и велел носить этот конец цепи вместе с веригами и так как впоследствии от цепи нельзя было больше ничего отрезать, то свою святыню Пантелеймон считал единственной.
Из Иерусалима Пантелеймон снова отправился в новое странствование. Он был в Иерихоне и на Иордане. Тут, в монастыре святого Иоанна Предтечи, он прожил несколько дней и получил там икону, писанную на круглом камне с двусторонним изображением главы Иоанна Предтечи.
Потом он побывал в обители Саввы Освященного. Жизнь в ней тяжела, при изнурительном жарком климате и пустынной безжизненной местности. Тут Пантелеймон провел немало времени, молился и делил труды монахов. Потом он побывал с караваном в Аравийской пустыне и пробрался на Синай.
Это был тяжкий путь, — днем стоял нестерпимый жар, а ночью он дрожал от холода, так как была зима. Путь до самого Синая лишен колодцев и источников, так что в течение шести недель приходилось пить дурную воду из бурдюков, которые везли на верблюдах. А взятый с собою кукурузный хлеб до того зачерствел, что надо было разбивать его камнем и размачивать в воде, подогретой на кострах из верблюжьего помета.
Не доходя несколько станций до Синая — на караван напали бедуины и начали грабить. Пантелеймон вынул из ранца икону, отошел немного в сторону и начал усердно молиться Божией Матери, Заступнице всех христиан. И бедуины, ограбив караван и всех проводников, его не тронули, и все вещи, какие он вез с востока на родину, остались целы. Он всегда приписывал свое спасение, именно, заступлению Божией Матери.
Местность около Синая такая же безжизненная, как и окружающая Синай пустыня. С Синайских гор текут несколько источников, около которых приютились поселения и монастыри.
Во все время своего пребывания на Синае (около пяти недель) Пантелеймон мало жил в общежительных монастырях, а уходил в горы, где наблюдал жизнь тамошних отшельников, которые живут в пещерах гор, неподалеку от какого-нибудь источника.
Отшельники четыре часа стоят на молитве, столько же времени употребляют на работу, обтесывая камни для продажи в Суэц и Александрию; четыре часа стоят на пении, столько же времени спят, затем опять работают. На ночь укрываются в пещерах, дно которых устилают мхом или сухими листьями, и там спят. Здесь русский подвижник также, по образцу этих отшельников, упражнялся в молитве и делании, но не нашел для себя подходящего образца отшельнической жизни.
Путешествуя по горам, он собрал здесь много окаменелых грибов и окаменелых растений самой причудливой формы и все это привез с собою на родину: они в особом ящике с надписями до сих пор сохраняются в его келье.
В Египте (в городе Александрии) Пантелеймон пробыл не долго, потому что не нашел там удовлетворения своим духовным запросам и оттуда направился в Россию. Мимоездом он побывал опять на святой горе Афонской, где вторично получил новое подтверждение старцев подвизаться на родине и обращать там раскольников. Побывав на обратном пути в Киеве и в Москве и поклонившись мощам святых чудотворцев печерских и святителей московских, любознательный подвижник захотел осмотреть и Соловецкие острова.
Здесь, задержавшись позднею осенью для подробного изучения жизни Соловецких и анзерских монахов, путник и не заметил, как последний пароход ушел к устью Двины, и он принужден был остаться на островах зимовать. В сущности, он был рад этой невольной остановке.
Здесь ему нравилось. Монахи сами везде работали: они работали в кузницах, верфях, доках, сами плели канаты, сами делали и обжигали кирпичи; в речках и озерах островов ловили рыбу. Во всех этих работах Пантелеймон принимал участие, а когда настала суровая полярная зима, он поселился в Анзерском ските, где ему больше всего нравилась продолжительная служба и подвижническая жизнь иноков, похожая на афонскую. Только на третий год путешественник прибыл на родину, и монах Пантелеймон начал спокойно, ни для кого не заметно, продолжать свои аскетические труды.
Жена его уже больше не беспокоила; побегав в Киеве и в других святых местах, она, видимо, успокоилась.
Из далеких странствований своих, из той земли, где совершал дело нашего спасения Господь Иисус Христос, Пантелеймон явился домой с еще более закаленным духом. Ему хотелось новых подвигов, новых трудов.
Он поселяется в той же убогой келье близ кладбища, и, чтобы наложить на себя страдания телесные, надевает тяжелые железные вериги, решается стоять подолгу на гранитном камне и обрекает себя на молчание.
Вериги, которые он надел на себя, были найдены случайно одним из крестьян села Костычей, который вытащил их своей лейкой, черпая в бочку воду из Волги. Он думал употребить вытащенную цепь для домашнего хозяйства, как, рассматривая ее, увидал скрепляющий ее восьмиконечный крест, на котором была вырезана надпись: «Аз язвы Господа моего ношу на теле». Узнав об этой цепи, местный диакон посоветовал передать находку затворнику.
Кроме вериг, затворник носил еще два железных креста, общим весом восемь фунтов, и железный обруч на голове. Всего весу в веригах, крестах и обруче было тридцать пять фунтов. Всем этим томил он себя от первого октября до двадцать пятого марта. И во все это время он никого не принимал и никому не отвечал, делая исключение для своего духовника, который пред днем Рождества Христова приходил к нему, чтобы отъисповедовать и причастить его Святых Тайн. Питался он пресным хлебом и кувшином воды. Сперва хлеб для него пекла священническая жена Сокольская, а затем мало-помалу вошло в обычай посетителей приносить хлеб затворнику и класть через маленькое оконце в сени на полку.
Почти безвыходно двадцать лет труженик подвизался в убогой келье, оставляя свой затвор лишь весной, ко дню праздника Благовещения, когда он приходил в храм для исповеди и причастия.
Тот гранитный камень, на котором он обыкновенно стоял на молитве, от продолжительного стояния и частого коленопреклонения сделался черным, как будто полированным. На нем он до утрени стоял на молитве, кладя земные поклоны.
В течение сорока лет у затворника не было постели. Он, по-видимому, никогда не ложился даже на полу. Но видали, как он около полуночи дремлет стоя, опершись на костыль и прислонившись спиной к печке. Только в последние четыре года своей жизни он стал ложиться на кровать из голых досок, с камнем в изголовье. На этот камень он вместо подушки укладывал кожаный ранец, с которым он обыкновенно ходил по святым местам.
Суров и немилостив был его пост. Среду и пятницу он проводил совсем без пищи, а в остальные дни он питался пресным хлебом и колодезной водой. Он считал чай роскошью, не позволительной даже и мирянам. И при начале общины, когда некоторые пили чай, он восставал против этого, считая чаепитие лишь вредною для здоровья потерею времени.
Много пришлось перенести ему искушений, которые обыкновенно красною нитью проходят через жизнь подвижников в годы их окончательного духовного роста. По ночам он слышал у своей кельи шум, гром и выстрелы. Однажды буря снесла крышу кельи, так что во внутренность ее натекла вода. Раз ему почудилось, что вся келья его объята пламенем. Раз призраки явились в виде солдат, которые понуждали его выйти из кельи и стали быстро разбрасывать и крышу, и даже стены.
Священническая жена Е. Сокольская так рассказывает об этом случае: «Однажды, около полуночи, Пантелеймон стоял на молитве. Раздался стук в дверь и крики: «Отпирай, старик, благочинный приехал предъявить тебе указ»… Старик молчит, не отпирает. «Отпирай, говорят тебе», — раздается уже голос благочинного… Голос благочинного он знал, и этот голос был, действительно, весьма похож на благочинного. «Отпирай, а не то велю солдатам разломать твою кельенку». Старец опять не отвечает. Тогда раздается команда, и мерным шагом идут солдаты, слышится бряцание ружей. Сени разломаны, потолок раскидан быстро. Когда стены кельи были на половину разбросаны, подул ветер. Волосы на голове у старца стали шевелиться. Наконец, раздается грозный голос: «Вот — он, ребята, берите его!» Старец испугался и упал без чувств. Когда он очнулся, первым движением его было схватиться за снурок, который был проведен к колокольчику из его кельи в недавно отстроенное одним благодетелем помещение жены его. Она тотчас же пришла и опросила, что ему нужно. Старец через окно сказал ей, чтобы она позвала матушку Сокольскую с дочерью: там-де она знает, зачем (15-летняя Ольга Сокольская была у него читальщицею). Сокольская наскоро собралась, разбудила дочь и велела ей захватить с собою акафистник. По приходе они увидели подвижника бледным и измученным. Он велел Ольге читать акафист Божией Матери и потом святителю Митрофану, и во все время до утра со слезами молился; а утром отпустил их домой и на прощанье рассказал о происшествии этой ужасной ночи и о своей слабости».
Мало-помалу народ прослышал про костычевского отшельника, и отовсюду стали стекаться к нему люди, ищущие прозорливого совета, помощи душе, вразумления, благодати.
Протрудившись двадцать лет в затворе, отец Пантелеймон, наконец, раскрыл всем жаждущим двери своей кельи. Он принимал к себе всякого с удивительным детским незлобием, простотою и кротостью. Множество больных, бесноватых и падучих получали от него облегчение в своих страданиях. Он любил мазать недужных маслом из лампады у Смоленской иконы Богоматери или давал пить святой воды, и больные исцелялись.
К тому времени относится великий перелом в народной жизни, связанный с освобождением крестьян. Между прочим, некоторые крестьяне выражали дарованную им волю тем, что переходили в раскол. Из раскольников отцу Пантелеймону посчастливилось вернуть в лоно православной церкви до двух тысяч душ.
Крестьянский парень Степан Васильевич Сергеев страдал болью левой ноги и ломотой всего тела, продолжавшейся четыре месяца, Сергеев не мог даже ходить. Его родственники посоветовали ему съездить в Костычев. Прибыв туда и отстояв обедню, он отправился к старцу, который из лампады пред Смоленскою иконой помазал больные части тела Сергеева и промолвил: «Нет, ты теперь здоров, и еще в солдаты годишься». По прибытии домой он совершенно выздоровел. Через два года был принят в военную службу и, пробыв в ней около семи лет, возвратился обратно совершенно здоровым.
Самарской губернии ставропольский мещанин, Тимофей Алексеевич Жаринов, до встречи своей с отцом Пантелеймоном много пил вина и страдал запоем, причем был во хмелю чрезвычайно буйный. Но убеждения старца, его молитвы имели на больного такое влияние, что он бросил не только пить, но и курить, тогда как раньше не выпускал трубку изо рта. Он выстроил отдельную от семейства келью и повел трезвую, благочестивую жизнь.
Вот, рассказ исцеленного старцем от запоя сызранского мещанина Ермолая Никифоровича Жигарева. «После молебствия с водосвящением старец позвал меня к себе в келью, с сочувствием и расположением посадил меня на стул, так как руки и ноги у меня тряслись, и стоять я не мог. Потом дал выпить чашку святой воды. Когда я пил, то чувствовал, что у меня внутри как будто что-то отдирается, отстает, и, как только выпил первую чашку святой воды, тоска прекратилась. Потом старец приказал мне пить святую воду по утрам и по наступлении тоски в течение шести недель, и я в точности исполнял его повеление. И вот, с тех пор в течение девяти лет уже больше не пил. Было у меня после этого в семье несколько веселых свадеб, но меня к вину не тянуло, хотя гости назойливо приставали ко мне, чтобы я выпил, но я устоял против соблазнов. Другой же мой товарищ, который тоже страдал от запоя, при поездке к старцу не получил облегчения от болезни, потому что не исполнял того, что приказывал делать старец: продолжал понемногу выпивать водки, вместо воды, и за это теперь страдает по-прежнему».
Старец исцелил также кузнеца села Елшанки, Сызранского уезда, Василия Васильева. Он как-то в чахотке приехал к старцу в Костычи и получил исцеление. В благодарность он сделал иконостас для иконы Смоленской Божией Матери из больших медных листов, которые высеребрил на свой счет.
Один мальчик Василий был глух от рождения, из ушей у него вытекал гной. В девятилетнем возрасте мальчика отвезли в училище, к родственнику, учителю Расторгуеву. Тот пробился с ним два года, и, наконец, признал дальнейшее учение невозможным. Тогда бабушка мальчика повезла его в Костычи осенью 1882 года. Старец помолился Богу, помазал ухо маслом из лампады от Смоленской иконы. По приезде домой мальчику стало лучше, и он стал слышать. Исцеленный был приготовлен тем же учителем в первый класс духовного училища, а затем проходил курс семинарии.
У матери — священнической вдовы — была горбатая дочь Анастасия, не способная ни к какому труду. Когда матери исполнилось семьдесят лет, обе стали тужить, что мать скоро умрет, и больная дочь останется без всякой поддержки. Обе они в печальных думах отправились искать помощи от отца Пантелеймона. Он утешил их, и в заключение сказал дочери: «не печалься, мать тебя похоронит», и, действительно, через год дочь умерла раньше матери, которая ее схоронила, а сама умерла еще через год.
Многие лица, сочувствующие старцу, приносили ему в жертву свечи, масло, иконы, деньги и даже драгоценности. Деньги он препровождал по почте афонским старцам, которые его о том просили, а драгоценности, сукно и холст он часто посылал с хорошим своим знакомым, Мартыновым, в Иерусалим и в разные другие места Палестины.
Как-то, около 1866 года, несмотря на то, что он щедро, отправлял в разные места приносимые ему пожертвования, у него в келье случился такой завал всевозможных жертв, что он не знал, что ему с ними делать. Тут вспомнились ему слова афонских старцев, что он положит основание новой обители и в ней скончает свои дни. И в эти именно дни и зародилась в нем мысль устроить монастырь.
Он поплыл в третий раз на Афон, чтобы получить благословение старцев на устройство обители. Старцы одобрили это намерение и посоветовали ему взяться за устройство монастыря. Но дело было сложное, трудное и сомнительное, и силы для нового подвига он решил искать в Иерусалиме.
Он девять месяцев молился у Гроба Господня днем и ночью. В последнюю ночь перед утром он в легкой дремоте видел, будто ангелы Господни спустились к нему и дали ему ветку винограда с тремя крупными продолговатыми ягодами.
Это сновидение сильно укрепило его, и он стал хлопотать об устройстве общины. Теперь ничто не могло сломить его настойчивости. Семь раз ему пришлось ездить по делу общины в Петербург, причем в один из своих приездов он имел счастье быть представленным государю императору Александру Второму.
Возвращаясь на родину из Иерусалима, старец заехал в Саров. Он уже не раз побывал там и подражал своею жизнью некоторым подвигам старца Серафима. Теперь он приехал для того, чтобы посмотреть поближе находящуюся в пятнадцати верстах от Сарова женскую Дивеевскую обитель, являющуюся любимым детищем великого старца подвижника Серафима.
Ему понравилось в обители радостное настроение монахинь и их постоянные труды, соединенные с молитвою. Он увидал тут, как сами они пряли и жали хлеб и косили сено. Ему нравилось, что повсюду в храмах горели неугасимые лампады и в келье первоначальницы обители, болярыни Агафии Симеоновны Мельгуновой читали непрерывно псалтирь об упокоении строителей и благодетелей обители. Эту знаменитую обитель отец Пантелеймон и взял за образец для будущей своей общины.
Прежде всего, по возвращении домой, отец Пантелеймон задумал поставить церковь. Но у него не было письменного свидетельства на владение им восемью десятинами земли, которую он предполагал сделать основным участком для обители. Поэтому духовенство не позволяло ему ставить храм, а крестьяне не давали ему этого документа, так как постройка храма должна была потребовать с их стороны больших расходов, и вот — они не давали ему ни приговора на владение землей, ни выделяли его из общества.
В этих недоразумениях прошло несколько лет, и с горя отец Пантелеймон отправился, было, опять на богомолье вопреки слову афонских старцев, которые как раз сказали ему никогда больше по богомольям не ходить. За нарушение послушания он потерпел кару, так как в дороге ослеп и должен был вернуться обратно. Он не видел еще в продолжение сорока дней.
Кто-то надоумил его подать прошение, чтобы ему разрешили строить церковь как бы кладбищенскую, на его наделе, который как раз соприкасался с кладбищем. Эта просьба была уважена; в 1869 году была освящена деревянная церковь, и по воскресным и праздничным дням в ней стала совершаться служба. Приток пожертвований не прекращался. Жертвовали книги и предметы ризницы и иконы.
Тогда воодушевленный построением и благоустройством храма, подвижник стал хлопотать у крестьян, чтобы они выделили ему надел. Долго пришлось ему хлопотать, но, наконец, в конце села у станции железной дороги крестьяне отвели ему землю и закрепили ее за отцом Пантелеймоном своим приговором. Несмотря на то, что было далеко переносить церковь и другие постройки, схимник был этому рад, так как на собственной земле его никто не смел беспокоить. Каково же было его горе, когда он узнал, что в течение ночи его место кто-то обвел забором и собирается на нем что-то строить. Волостное правление ему сказало, что один богатый крестьянин, числящийся за Костычами и еще никогда там не живший, выправил у старшины документ на то, что это место принадлежит ему, и задумал устроить тут винный склад.
Пришлось снова хлопотать, выпрашивать, и по окончании года дело кончилось тем, что место осталось за обидчиком, а Пантелеймону приходилось искать себе другого места. Но этого было мало.
На Пантелеймона посылались доносы, что он задумал какую-то противоправительственную и враждебную секту, что у него собираются люди, которые не имеют паспортов. Действительно, к о. Пантелеймону собиралось много девиц и вдов, привлеченных слухом, что у него устраивается монашеская община. Около нового храма было поставлено несколько домов, которые эти пришлые и заселили.
Те, которые были способные и грамотные — их старец приучал петь и читать в храме. Остальные занимались уходом за садом, за пчельником и огородом. В неоткрытой еще общине устав и порядок был заведен такой, как бывает в монастырях.
К счастью, местная полиция давала о Пантелеймоне отзывы, что он человек хороший и религиозный и что все собранные им люди молятся Богу.
Местный становой пристав, служивший когда-то в военной службе, вследствие контузии и происшедшей отсюда болезни перевелся по неспособности к военной службе в службу гражданскую. Он должен был содержать многочисленное бедное семейство, вдову-мать, младших братьев и сестер. Мать его вдова часто искала у старца утешения, и он всегда ее успокаивал. По рассказам матери, пристав почитал отца Пантелеймона и поэтому давал о нем хорошие всегда отзывы.
Но, в конце концов, постоянные доносы, поступавшие к исправнику, и необходимость отписываться об отце Пантелеймоне, не спросясь начальства, сильно ему надоели, и он велел разогнать всех собравшихся у Пантелеймона.
Когда исправник приехал в Костычи и вошел в храм, то застал в нем старца, стоящим коленопреклоненным на камне и окруженным молящеюся паствою. Раздраженный исправник мгновенно стих, но, тем не менее, он строго спросил его: «Что ты тут, старик, делаешь?»
Старец поднялся на ноги и, ласково посмотрев на исправника, не ответил ему на вопрос, а сам сказал ему: «Помолись ты сперва Богородице, да приложись вот к святыне… Она, Царица Небесная, милостива ко всем нам… Икона эта у меня с Афона со святыми мощами».
Что-то удержало исправника от возражения. Он кротко приложился к иконе, быстро посмотрел на всю толпу, окружавшую старца, и сказал ему: «Ну, старик, как живешь, так и живи». И тотчас же исправник уехал. С тех пор доносы более не возобновлялись.
Однако, дела монастыря не двигались вперед. И только через пятнадцать лет после устройства храма отцу Пантелеймону удалось получить приговор на выделение двух десятин для общины у сельского кладбища и шести десятин пахоты за селом. К этому же времени на стекшиеся к нему пожертвования ему удалось купить около двухсот десятин земли в Николаевском уезде. А соседняя помещица Агеева пожертвовала в той же местности пятьдесят десятин. Все это было достаточное обеспечение для насущных расходов обители. Тем не менее, препятствия не прекращались: двести пятьдесят десятин были расположены за Волгой в Самарской губернии и в шестидесяти верстах от места устройства самой общины.
Ходатайство старца в Святейшем Синоде не подвинуло дела вперед, пока он в Петербурге не встретился с одним вельможей, который познакомил его с известным строителем храма Воскресения, архимандритом Игнатием. При поддержке этих лиц было, наконец, разрешено открыть общину. Известие об этом старец прочел в газетах 15-го октября 1883 года.
Таким образом, только перед смертью старец увидел сбывшимся то обетование, с которым его посылали в Россию дорогие ему афонские старцы.
Но во все время борьбы, которую они вынес, ничто не могло лишить его христианского терпения и удивительного его чистого детского незлобия. Когда до него дошло столь долгожданное известие об открытии общины, он воскликнул: «Ну, слава Богу! Теперь я могу уйти на спокой в затвор и удалиться от вас».
Вскоре он почувствовал, что смерть близка. За две недели до кончины он стал говорить: «Я скоро уйду от вас»… Он стал обходить все кельи общины, наставлял монашествующих, как надо жить по-монашески, искореняя в себе дурные привычки и страсти. Сестры нуждались в этих наставлениях, так как большинство из них были не привычны к монашеской жизни и, быть может, не понимали всей высоты монашеских обетов.
Одна из инокинь так рассказывает о последних днях старца: «За две недели до своей смерти батюшка-старец обходил кельи всех сестер, прощаясь со всеми, и говорил, что он уходит от нас. Мы все думали, что он уходит от нас в затвор и нисколько не предполагали, что скоро настанет его конец. Между прочим, он зашел и ко мне в келью и долго беседовал со мною. Из всей беседы я хорошо запомнила только следующее: «Ах, Катерина, Катерина! Какое ты имя-то хорошее носишь! Твой ангел — святая великомученица Екатерина… Смотри, какой она имеет пресветлый венец (при этом он указал рукою на икону святой великомученицы Екатерины, стоящую у меня в киоте); ты вот слишком ленива Богу-то молиться, а то и ты могла бы приобрести такой же венец. Как было прежде, так и ныне. Прежние мученицы страдали явно, а нынешние тайно, сердечными скорбями, и мзда ими будет такая же».
За две недели до кончины старец обходил кельи сестер общины, прощался и объявлял, что скоро уйдет от них. Они думали, что он удалится на Афон или в затвор. Зайдя в избу, где жила скотница, старец наставлял ее, как надо молиться, сколько часов работать, и показывал, как надо делать свечи из своего воска. Старец рассказывал ей, что в Сергиевой пустыни под Петербургом есть до тысячи ульев и монахи сами делают свечи для обихода своих церквей. Прозорливость его высказалась над этой девушкой, когда он через два дня встретил ее на дороге.
— Что ты несешь? — спросил старец.
— Пирог работникам, — отвечала та.
— А зачем ты сама наелась так рано? Ты должна подавать пример младшим, а не соблазнять их!
При этом старец сердито ткнул палкой в скотницу и затем сказал ей:
— На пятом году моего затвора увидишь, что тебе будет худо.
Действительно, через четыре года по кончине старца скотница сделалась сильно больна и даже говорила своему духовнику, что умрет, так как старец предсказал, что ей будет худо. Но она выздоровела и тут на пятом году понесла тяжкое гонение. Ее оклеветали, удалили из кельи старца, где она в последние годы жила, в скотную избу, потом за грубость изгнали совсем из общины, и только после многих бедствий и скитаний она была принята в Костычи обратно.
Самарская мещанка Поляева была в келье старца за несколько месяцев до его кончины. Он советовал ей заехать к нему еще раз, причем сказал:
— На зиму я уйду на покой.
— Монастырь-то кто будет достраивать? — спросила его посетительница.
— А Царица-то Небесная! — с верой произнес старец. Церковь у нас будет большая каменная.
Показывая план храма, старец говорил, что храм будет двухэтажный каменный, и что после его ухода пять лет будет мятеж в общине.
Слыхали это предсказание от старца и другие сестры, и, действительно, все сбылось по словам его. Через несколько месяцев по его кончине, в общине начались разные неурядицы, раздоры. Сестры понемногу разбрелись в разные стороны, и через три года из тридцати пяти начальных сестер оставалась в Костычах только настоятельница и девочка-сиротка, послушница.
Еще до разрешения общины старец радостно говорил: «монастырь скоро здесь будет, и монастырь богатый». Когда многим передавали эти слова старца, эти люди сомневались и замечали: «Ему во всех просьбах отказывают, а он все свое о монастыре твердит, да еще о каком-то корпусе на десяти головах»… Между тем, когда в общине были устроен прекрасный корпус на десяти саженях, вспомнили, что говорил старец о корпусе на десяти головах.
Первого января 1884 года, перед полуднем, старец позвонил в колокольчик. Дежурная послушница, войдя к нему, нашла его лежащим на полу. Было заметно, что он перед тем хотел затопить у себя печку, отворил ее, вынул крышку из трубы и тут, почувствовав себя дурно, упал, не успев дернуть за шнурок. Руки и ноги у него были без движения, и язык произносил плохо, так что еле можно было разобрать его слова. К шести часами вечера ему стало легче. Лежа на постели, он крестился и просил привести священников. Один из батюшек исповедовал его и причастил святых Христовых Таин. Затем уже два Священника вместе совершили таинство Елеосвящения. Несмотря на слабость, с искренней верой и благоговением приступил старец к таинству и в слезах прислушивался к молитвам св. Елеосвящения, причем — поручал обитель свою Царице Небесной.
Силы разом оставили старца, который так долго напрягался и телом и духом, ведя заветное дело устройства общины. Он был на вид крайне слаб, дыхание становилось все реже и реже. К нему приходил народ за последним благословением. Он знаками показал, чтобы всем приходившим выдавали маленькие крестики и иконки, которые он незадолго до того привез из Сергиевой пустыни. Третьего числа он стал еще слабее и почти не мог говорить. К вечеру он впал в забытье, но дух его бодрствовал. Надо думать, что в эти последние минуты жизни он неотступно, душой еще находившейся в теле, молился Богу и Пречистой Матери о судьбе основанной им общины.
Он еще очнулся и громко сказал: «Отгребите снег от святых ворот, новотульские едут, везут четыре воза пшеницы, надо их встретить».
Некоторые подумали, что старец бредит, и не двинулись исполнять его приказание, и только две сестры пошли отгребать снег.
Между тем, новотульские крестьяне, действительно, привезли в это время пшеницу в жертву обители и въехали во двор уже после кончины старца.
После этих последних слов старец стал учащенно креститься. Рука его все ослабевала. Наконец, произведя в последний раз крестное знамение, рука бессильно упала, а он тотчас же безмятежно почил. Это было вечером с третьего на четвертое января, в одиннадцать часов.
Быстро со всех сторон стал сходиться народ к почившему. Сперва пришли соседние крестьяне, потом стал сходиться народ из более далеких мест. Пять дней гроб старца оставался в доме, и все это время служили панихиды. Народ съезжался из Сызрани, Кузнецка, Сенгилея, Ставрополя, Самары и Николаевского уезда.
Один из николаевских крестьян, Козьма Казаков из села Вязового Гая, рассказал, что в ночь кончины старца он дважды видел сон, в котором одна из сестер общины и сам старец звали его к себе и дали ему бумажный билетик на дорогу. Он во сне отговаривался, что он не грамотен и не понимает, что написано в бумажке.
— Приезжай, — сказал старец, там увидишь, что нужно тебе делать.
Так как сон повторился два раза, то он не смел не откликнуться на зов, быстро собрался и приехал.
Козьма Казаков были облагодетельствован старцем, который однажды исцелил его чашкой святой воды от страсти пьянства, и в другой раз, когда тот упал с палатей с переломом ребра, исцелил его священным елеем, привезенным из Иерусалима. Всей душой почитая старца, он не поленился выехать к нему за сто двадцать верст.
Четвертого и пятого января прошли сильные бури, а затем настал канун Богоявления и самый праздник Богоявления, и похороны были отложены до восьмого числа.
Окрестным духовенством было совершено торжественное отпевание тела и произнесено несколько надгробных слов, в которых выяснено значение старца для окрестного населения. Тут же из уст священников было сообщено о сверхъестественной помощи старца, оказанной им больным. В два часа пополудни, после долгого прощания народа с останками подвижника, гроб был вынесен из храма и опущен в могилу близ алтаря с северной стороны. Над могилой был водружен черный крест с простыми словами:
«Здесь погребен схимонах Пантелеймон, подвизавшийся с 1840 года».
Старица Параскева Ивановна Ковригина
Очень многие из лиц, приверженных к великому пастырю и молитвеннику русской земли, незабвенному о. Иоанну Кронштадтскому при его жизни и чтущих память его по его кончине, никогда не слыхали о женщине, скромной по житейскому положению своему, но богатой верою и умудренной ревностью о славе Божественной и усердием к этому выдающемуся пастырю, благодаря которому узнало об отце Иоанне множество людей, до тех пор о нем не слыхавших: эта женщина много содействовала стечению к отцу Иоанну, мало известному в столице, всяких страждущих, больных и томящихся духом.
Пишущий эти строки жил в Москве и был мальчиком, когда в «Новом Времени», получавшемся у них дома, он прочел совершенно из ряда вон выходящее заявление кружка лиц о той молитвенной помощи, которую они получали от отца Иоанна Ильича Сергиева, священствовавшего в кронштадтском Андреевском соборе, уже тогда имя его, почти совершенно неизвестное до той газетной статьи, запомнилось. Конечно, это газетное заявление произвело гораздо еще более сильное впечатление и получило гораздо более широкую огласку в том Петербурге, который так близок географически к Кронштадту, и который скоро явился таким широким полем для деятельности этого великого пастыря.
Крестьянка Параскева Ивановна Ковригина родилась четырнадцатого октября 1816 года в двенадцати верстах от города Галича, Костромской губернии, в деревне Фалашно, Воскресенского прихода, Глазуново-Бушневской волости, Чухломского уезда.
Семья Ковригиных, числившаяся крепостными князя Долгорукова, состояла из отца, матери, четырех сыновей и двух дочерей. Параскева Ивановна принадлежала к числу тех непритязательных, скромных, работящих, умных и даровитых женщин, на которых держится русская жизнь.
Она не отличалась счастливою наружностью, но была богата красотою душевною. В смирении и кротости своей она была молчалива и раскрывала уста или тогда, когда говорили о религии, или когда надо было кого-нибудь утешать в доме. Покорная, заботливая дочь, — она дорожила родительским благословением. С восемнадцати лет ей пришлось принять на руки все домашнее хозяйство. Этим она воспользовалась для того, чтобы удовлетворить свое душевное усердие в приеме странников и странниц. Родные на это поварчивали, но она без споров продолжала свое дело, и никто не уходил из их дома без того, чтобы она его чем-нибудь да не наделила.
Ее большая рассудительность, уживчивый, кроткий и добрый характер доставили ей уважение всего околотка, но она этим не величалась, и все ее старания были направлены к тому, чтобы не быть замеченной.
Ее за себя многие сватали. И так как в то время крепостных девиц выдавали замуж, часто не спрашивая их согласия, и так как отец Параскевы, Иван Иванович, страшился для дочери брака по принуждению, то он выкупил ее на волю. И благодаря этому поступку отца, Параскева Ивановна получила возможность беспрепятственно служить Христу.
Многое из духовной жизни узнала она из бесед с призреваемыми ею странниками и странницами. Хотя среди этих людей встречаются просто и пустосвяты, выдумщики, но есть немало тайных и подчас, быть может, и великих рабов Божиих.
Параскева любила читать духовные книги. Особенно же нравились ей жития святых. По уважению ее к церкви, ее огорчало, если кто-нибудь говорил неуважительно о религии или осуждал духовенство.
Село их лежало от деревни в расстоянии семи верст. Несмотря на свои хлопоты по хозяйству, Параскева не пропускала ни одного праздничного или воскресного дня без того, чтобы посетить свою приходскую церковь. Посещение храма или какого-нибудь недалекого монастыря часто было для нее настоящим подвигом, так как сопровождалось опасностями; темною ночью и ненастною погодою ей приходилось пробираться одной к месту своего моления.
Мало-помалу, Параскева, не покидая семьи, которая разрослась уже до двадцати человек, стала временами отлучаться в более дальние монастыри. Особенно часто она ходила в расположенный на Волге Решемский монастырь, в котором в те годы жил старец иеромонах Иларион, находившийся в свое время под руководством великого Саровского старца Серафима.
Отец Иларион поддерживал духовное настроение Параскевы. Он обладал даром прозорливости и направил ее жизнь по новому руслу, когда сказал ей в своем последнем с нею свидании:
— В Кронштадте есть великий светильник церкви Христовой, священник отец Иоанн. Иди туда, Параскева, и служи при нем.
Параскева Ивановна была в это время уже в летах — около пятидесяти шести лет. Жизнь ее, казалось, окончательно определилась, разделяемая между работою в родной семье в качестве опытной хозяйки и хождением по церквам и святынями. Но, имея добродетель послушания, она доверилась без рассуждения предсмертной воле своего старца, и поехала после его смерти в Кронштадт.
Там уже давно жили два ее брата. Один имел средства, но был скуп; а другой был беден, но зато радушен и гостеприимен. У него больше всего Параскева Ивановна и останавливалась.
На людей, впервые встречавшихся с отцом Иоанном, самый внешний вид его производил необычайно сильное впечатление. Эта отрывистая, властная речь, высоко поднятая, даже несколько закидывающаяся назад голова, этот пронзительный взгляд смелых, ясных, сильных и, в то же время, добрых глаз и несомненная сила, чувствовавшаяся в нем — все сразу охватывало человека.
Особенно же сильное впечатление производил он, когда видали его в первый раз там, где он был сильнее всего, на народе среди молящейся толпы — той самой толпы, которую он увлекал к Богу своими пламенным молитвенным восторгом.
Можно же себе представить, какое сильное впечатление произвел он на Параскеву Ивановну, которая, еще не зная его, и никогда его не видав, получила от своего старца послушание служить ему, которая услышала от этого старца пророчественные слова;
— В Кронштадте есть великий светильник церкви Христовой, отец Иоанн.
Она сразу сочувствовала какую-то глубокую духовную связь с отцом Иоанном, и сказала себе, что в этом человеке ее судьба. Тут, в это первое посещение кронштадтского собора, Параскева Ивановна принимает благословение от отца Иоанна, тут уговаривается с ним насчет будущей своей исповеди у него и получает его согласие раньше исповеди в откровенной беседе раскрыть ему свою душу.
В первое время отец Иоанн поселил Параскеву у одной бедной женщины, находившейся под его заботой, и просил эту женщину обращаться со старушкой, как с родной своей матерью.
Тут же, с первой поры пребывания в Кронштадте, как-то незаметно, сама собою, началась благотворительная деятельность Параскевы Ивановны по утешению людей скорбных и выправлению людей павших, свернувших с истинного пути.
У той Шляпниковой, которая приютила у себя Параскеву Ивановну, было тяжелое горе, состоявшее в нетрезвости мужа. Временами он в пьяном виде даже буйствовал. Раздраженная, измученная, несчастная жена в этих случаях обыкновенно начинала с ним ругаться, что, конечно, пьяного не только не успокаивало, но приводило его в еще большее неистовство.
Параскева Ивановна посоветовала бедной женщине, вместо того, чтобы руганью еще больше разогорчать мужа, молчать, читая про себя молитвы. И это средство помогло.
Как только напившийся муж начинал кричать, его жена начинала в себе тайную молитву, и буйство мужа немедленно падало, и это сделалось, в конце концов, залогом его совершенного исправления.
В то время отец Иоанн был почти совершенно неизвестен. В Кронштадте его знали по несколько особенным формам, в который облекалось у него богослужение: резкая, отрывистая, как бы требующая от Бога того, о чем он молится, форма, в которой он произносил за богослужением возгласы и молитвы.
Люди, чуткие духовно, удивлялись и чтили его пастырскую ревность, которая побуждала его разыскивать, поддерживать и стремиться к исправлению всяких слабых, порочных людей, делить горе с плачущими, лишать себя последнего, чтобы помочь нуждающемуся.
Но, в общем, о нем еще не знали, мало говорили и не понимали, какого великого пастыря имеет в отце Иоанн православный мир.
Значение Параскевы Ивановны Ковригиной в том, что она первая, — правда, по слову своего отходящего старца, — заметила и поняла всю великую силу и выдающееся значение для России отца Иоанна. Своей сожительнице Параскева Ивановна тогда же сказала:
— Запоминай все батюшкины слова, ибо он великий светильник.
В этот свой приезд в Кронштадт ей удалось пожить там недолго, так как производившиеся дома постройки требовали ее возвращения. У себя на родине она прожила почти три с половиной года, но все это время думала, главным образом, о Кронштадте.
С декабря 1872 года ей удалось устроить свои дела так, что она перебралась в Кронштадт окончательно и прожила в нем все четырнадцать лет своей остальной жизни.
По переселении ее в Кронштадт, можно было видеть Параскеву Ивановну подолгу прогуливающуюся по городским улицам с отцом Иоанном, также всюду сопровождающую его, с жаждою его расспрашивавшую и внимательно внимавшую его словам и поучениям. И, при простоте нравов небольшого города, много любопытствующих, знавших и не знавших Параскеву Ивановну, тут же на улице просили ее объяснить им, что особого она видит в отце Иоанне. И ей приходилось постоянно объяснять этим людям, как благотворно действуют на душу ее советы этого пастыря, как обновляется душа в беседе с ним, какой прилив сил чувствуется у нее после исповеди перед ним.
Нашлись люди, которые случайные беседы с Параскевой Ивановной хотели продлить и, время от времени, возобновлять, стали советоваться с нею о своих делах, через нее спрашивали советов у отца Иоанна.
Считая себя совершенно недостаточной для такого руководства людьми, Параскева Ивановна упросила отца Иоанна назначить частные духовные беседы в домах некоторых набожных людей и оповещала об этих беседах желающих, но только из верующего населения города.
Сперва эти беседы, по тому самому, что дело было новое, вызвали некоторые недоумения и осуждения в тех случаях, когда отец Иоанн обличал пороки. Многие считали себя обиженными такими обличениями.
То, что не было понято слушающими, Параскева Ивановна поясняла потом яснее после беседы и удивляла отца Иоанна, так как она хорошо, знала Священное Писание и была начитана в творениях святых отцов. Через Параскеву Ивановну имя отца Иоанна начинало приобретать все большую и большую известность.
По смиренно своему отец Иоанн, как человек чрезвычайно откровенный, строго журил Параскеву Ивановну, так как знал, что слава человеческая часто бывает во вред душе и боялся за себя. Но Параскева Ивановна была уверена в том, что делает доброе и нужное дело и нисколько не оскорблялась такой журьбой.
Приближался памятный для отца Иоанна день двадцатипятилетнего юбилея его священства.
Параскева Ивановна захотела ознаменовать этот день чем-нибудь особенным, и она принялась собирать деньги на поднесение батюшке подарка.
Надо заметить, что в то время священники не имели на груди серебряного креста, что было введено к коронации императора Николая II, а носили лишь кресты золотые, жалованные от Синода.
Отец Иоанн был чрезвычайно смущен, когда услыхал о предполагавшемся чествовании и поднесении ему креста и долго ни за что не хотел соглашаться принять этот крест. Потребовались долгие уговоры, чтобы он, наконец, на это согласился…
Когда отец Иоанн стал известен, к нему текли пожертвования не тысячами, а сотнями тысяч. Но тут, при малой его известности, больших трудов и хлопот стоило Параскеве Ивановне собрать восемьсот рублей, которые были употреблены на покупку креста.
Вот слова, в которых вылились чувства отца Иоанна при поднесении этого креста:
«Вы приносите мне в дар, как выражение вашей любви, вашей веры и благочестия, этот драгоценный крест. Но как я возложу его на перси, когда Пастыреначальник Господь Иисус нес деревянный крест на раменах Своих для принятия неправедной казни за нас, изнемогая под тяжестью его! Как я буду носить его, когда я не научился еще у Него полагать душу свою за овцы стада Его; когда я не научился еще распинать плоть свою с ее страстями и похотями; когда не научился еще жить не себе, а Ему, ради нас умершему и воскресшему, когда еще богопротивное самолюбие в разных видах живет во мне и не редко омрачает душу мою? Разве для обличения себе буду я носить его на своих персях, в которых еще не горит постоянным пламенем любовь к Распятому и к тем, за кого Он распят? Простите мне мое недоумение и мое колебание. Мы готовы на получение наград, но не всегда готовы на самоотвержение».
С последовательною деловитою настойчивостью и убежденностью женщины, преследующей светлую идею, Параскева Ивановна продолжала свое дело ознакомления русского мира с отцом Иоанном. Недовольная известностью, которую она доставила ему в Кронштадте, она стала распространять его имя в столице: с помощью некоего К. О. Кудрявцева, в квартире которого велись сперва беседы отца Иоанна, Параскева Ивановна знакомит с отцом Иоанном многие семейства, сперва принадлежащие к трудовому населению столицы, главным образом, к обитателям Сенной, и молитвы отца Иоанна производят среди этих людей, несомненно, чудеса: исцеляются недуги, между враждующими членами семьи водворяется мир: люди, изменявшие женам, возвращаются к супружеской верности, и непокорные дети приходят в повиновение родителям.
Тогда Параскева Ивановна делает новый ход для того, чтобы имя отца Иоанна получило известность и среди образованных и состоятельных кругов столицы, и по ее почину в самой распространенной уже и в то время газете «Новое Время», в номере от двадцатого декабря 1883 года, за номером две тысячи восемьсот семь, появляется следующая статья, через которую громадное количество лиц узнало об отце Иоанне и стало обращаться к нему. Вот — текст ее, озаглавленный: «Благодарственное заявление».
«Мы, нижеподписавшиеся, считаем своим нравственным долгом засвидетельствовать искреннюю, душевную благодарность протоиерею Андреевского собора, что в городе Кронштадте, отцу Иоанну Ильичу Сергиеву, за оказанное нам исцеление от многообразных и тяжких болезней, которыми мы страдали и от которых ранее не могла нас исцелить медицинская помощь, хотя некоторые из нас подолгу лежали в больницах и лечились у докторов. Но там, где слабые человеческие усилия являлись тщетными, оказалась спасительною теплая вера во Всемогущего Целителя всех зол и болезней, ниспославшего нам грешным помощь и исцеление чрез посредство достойного пред Господом, благочестивого отца протоиерея. Святыми и благотворными молитвами сего, так много заслужившего пред Верховным Зиждителем всех благ, подвижника, все мы не только получили полное избавление от угнетавших нас недугов телесных, но некоторые из нас чудесно исцелились и от немощей нравственных, бесповоротно увлекавших их на путь порока и погибели, и теперь, укрепленные столь явным знаком Божьего к нами милосердия, почувствовали силу оставить прежнюю греховную жизнь и пребывать более твердыми на стези честного труда и богобоязненного поведения. Считая особенно полезным, для назидания многих в наше маловерное время, заявить во всеобщее сведение о таковом видимом проявлении неустанно пекущегося о греховном человечестве всеблагого Промысла Божия, признаем неуклонным долгом пред лицом всех заявить свою глубокую благодарность столь много помогшему преподобному отцу протоиерею, прося его и на будущее время не забывать нас грешных в своих молитвах. Вместе с тем, стараясь твердо памятовать сами, сообщаем и для других единственный, преподанный нам многодостойным пастырем-исцелителем, при наших к нему обращениях, высоковрачующий спасительный совет жить по Божьей правде и, как можно чаще, приступать ко святому причастию».
Можно оказать, что с помещением этой статьи земное призвание Параскевы Ивановны было исполнено.
Россия узнала отца Иоанна, пошла к нему, и с тех пор началась деятельность этого пастыря, беспримерная по своей широте — тот труд по всей России отца Иоанна, по которому можно назвать его всероссийским пастырем.
При праздновании в 1884 году тридцатилетия священства отца Иоанна, по почину Параскевы Ивановны, ему был поднесен второй наперсный крест, и в произнесенной при этом речи была произведена следующая оценка его деятельности, в которой, быть может, впервые он признан чудотворцем:
«Не тайна, что Вам, добрейший отец наш, по вере Вашей, дается благодать целити недуг и язву в людях. Не тайна, что по Вашим молитвам расслабленные укрепляются, болезни проходят, бесы прогоняются, унылые утешаются, семейства умиротворяются, благоденствие в жизни иных водворяется, грешники закоснелые вразумляются; оставившие храмы, забывшие покаяние, надолго погрязшие в бездне беззаконий, со слезами блудного сына возвращены Вашими влиянием в лоно матери-церкви православной и ведут благочестивую жизнь. Ведомо нам, что Вы неустанно трудитесь во славу Божию, что притекающие к Вам с верою в Бога и надеждою на Его помощь, при Вашем священном участии и действии, удостаиваются Божия благословения. И Вы сами спешите на помощь всюду, по мере Ваших сил. И убогая хижина, и большие, богатые дворцы видят Вас воздевающим преподобные руки Ваши на молитве о болящих. Вы желаете быть «всем вся, дабы всяко некия спасти», — и по вере Вашей бывает Вам. Чрез Вас вера в православие крепнет, неверие обличается, честь священства возобновляется, слава Богу устами маловерных возвещается, и вся церковь Христова радуется, что не оскудевает преподобный на земле, что Вы, любя Бога и ближнего всей душой, не ищете своих си».
Последние два года жизни своей Параскева Ивановна провела в тихой, постоянной радости при виде возрастающей славы отца Иоанна. Но она предвидела еще большую славу, и говорила незадолго до смерти:
— Хотелось бы мне прожить на земле еще два года, чтобы видеть, как тысячи людей станут подходить к нему и огромными толпами будут его встречать и провожать.
В этих словах ее было одно из проявлений того духа прозорливости, который был в ней несомненен, и вследствие которого часто предупреждались великие несчастья.
Когда задумаешься над жизнью Параскевы Ивановны, — без которой великий кронштадтский светильник еще долгое время горел бы под спудом и, может быть, никогда не получил бы столь широкой общерусской известности, тогда невольно вспоминаешь о той доброй жене самарянке, о которой повествует Евангелие. Когда эта самарянка услыхала беседу Христа и ощутила в ней благодатную силу, первым движением души ее было не утаивать того сокровища, которое открылось ей по милости Божией. Но, открыв это сокровище своим согражданам, она оставляет свой водонос и спешит в город, чтобы рассказать там обо всем, что услыхала из уст Христовых.
Она убедила своих сограждан идти слушать речи Христовы, и те стали приглашать Его к себе на дом. И, по ревности этой благородной женщины, которая выпавшим на долю ей счастьем поспешила сейчас же поделиться с другими, — была утверждена в этом городе вера во Христа.
Тот же подвиг, но проведенный с большими препятствиями и требовавший большей веры и больших трудов, видим мы и в жизни Параскевы Ивановны Ковригиной.
Тихо и мирно приближалась она к великому переходу. Отец Иоанн ежедневно навещал ее слабеющую, когда она не могла уже выходить, и беседы их были о покаянии и о судьбе души, о Боге, о вечности и загробном мире.
Отходящая от мира старица услаждала свою душу чтением и пением псалмов, часто приобщалась и непостыдно почила двадцать четвертого сентября 1886 года.
Отец Иоанн, приходя на панихиду к Ковригиной, всякий раз громко восклицал в лицо покойнице:
— Здравствуй!
И вспоминались, при этом слова Христовы над, умершей девицей: «Не умре девица, но спит».
Множество народа из Кронштадта и Петрограда собралось на похороны ее. Прощаясь с образом этой замечательной женщины, приведем описание ее личного знакомого, псаломщика. М. Д. Матисона, который в таких выражениях вспоминает о ней:
«Будучи лично знаком с в Бозе почившею и приснопамятною старицею Параскевою Ивановною Ковригиною, я считаю для себя недобросовестным пройти молчанием о том необыкновенном впечатлении, которое усопшая навсегда оставила в моей душе. Неоднократно посещая меня по своим богоугодным делам, она с первого же раза буквально приковала все мое к ней внимание, и надо было иметь слепые душевные очи, и окаменелое сердце, чтобы, не ощутить чего-то особенного, всмотревшись в эту почтенную старицу попристальнее, почему, не взирая на полное отсутствие свободного времени, я с величайшим и радостным удовольствием, жертвовал ей несколько хотя и занятых часов, дабы продлить ее присутствие у меня и побеседовать с ней попросту, по душе, раскрывая свои сердечные больные язвы, и ожидая от ее бесхитростных, но преисполненных духовности, советов врачевания. Да и нельзя было не прилепиться всем сердцем к этой благочестивой старушке, с какой стороны ни рассматривать ее. Так, например, во всех движениях, манерах, походке — замечалось невозмутимое спокойствие и степенность.
Все существо ее проникнуто было глубоким, нелицемерным смирением; но отнюдь без малейшей тени ханжества. Старческое, благообразное и в высшей степени симпатичное лицо ее, именно лицо милой девственницы, резко бросалось в глаза и неопытного наблюдателя своим отпечатком долголетних, нравственно-душевных и сердечных страданий, великого горя и житейских невзгод. Взор, несмотря и на то обстоятельство, что усопшая носила большие темно-синие круглые очки, выражал полнейшую покорность и преданность своей судьбы воле Того, Ими же и цари царствуют и владыки владычествуют. Речь — самая безыскусственная, простая, но плавная, ровная, проникнутая духом любви, смирения, терпения и краткословия, — так и лилась величественной и, в то же время, тихой рекой, пронизывала глубину души и облаготворяла сердце, вызывая чувства умиления и греховного сокрушения и оставляя в уме неизгладимое убеждение суетности и тлетворности житейской. Словом, говоря короче, проще и яснее, — это был человек не от мира сего, человек по плоти и ангел по духу, каждое посещение которого для не закостенелой души и сердца — надолго оставляло слишком благотворное, сладостное и невыразимое во многом настроение. Если же ко всему этому прибавить истинно христианскую, мирную кончину усопшей старицы Параскевы и умилительно трогательное стечение многочисленной публики, наполнившей Кронштадт для отдания ей последнего христианского, братского долга при отпевании и погребении, на котором удостоился присутствовать и я, то для каждого станет очевидным, насколько жизнь старицы Параскевы была и трудна, и полезна, и горька, и благочестива, и преисполнена любви к ближним, которые платили ей обоюдною любовию. В заключение не могу умолчать и о том, что усопшая старица Параскева послужила именно путеводным указателем такого великого светила в духовном мире, каков глубокоуважаемый и достопочтеннейший Иоанн Ильич Сергиев».
Игумения Досифея (основательница Вышневолоцкого Казанского монастыря)
Бедная крестьянская девушка, которая по избранию Божьему стала основательницей многочисленной, благолепно выстроенной женской обители и за короткое время молитвами и слезами вымолила у Бога то, что доныне кажется чудом: такова была жизнь смиренной подвижницы Досифеи.
Досифея родилась четырнадцатого апреля 1826 года, в деревне Медведеве Пошехонского уезда, Ярославской губернии, среди того ярославского народа, который так выгодно отличается своею сметливостью, предприимчивостью и настойчивостью. Во святом крещении она названа была Александрой.
Отец семьи, Василий Салтыков, был крепостной крестьянин. Он копил целую жизнь трудовые свои деньги, чтобы выкупить себя и семью свою на волю. Когда же выкупился, вскоре умер.
После него остались без всяких средств к жизни вдова его и четверо детей. Младшая шестилетняя была Александра. Кроткая, тихая, задумчивая девочка самоучкой выучилась читать и любила молиться.
Матери ее было очень горько, что ей не на что было заказать в церкви сорокоуст по мужу и творить милостыню за упокой его души. Она говорила об этой скорби своим детям и уговаривала их эту церковную молитву заменять усердной детской молитвой, доходчивой до Бога. Сама она целый день хлопотала по хозяйству, а ночи проводила в горячей молитве об упокоении души своего мужа.
Все эти обстоятельства произвели сильное впечатление на впечатлительную маленькую Сашу. Она полагала все силы своей души на молитвы за душу своего отца. Как-то раз, оставшись у себя дома одна, она приставила скамеечку к высокому столу, на котором лежала Псалтирь, открыла эту Псалтирь и стала читать ее вслух, думая о родителе.
Во время усердной молитвы видит она вдруг: перед нею стоит, нагнувшись над священной книгой, со скрещенными на груди руками, какая-то девочка, одетая вся в белом.
Сперва Саша смотрела на нее с изумлением, потом испугалась и вскрикнула. Тогда прибежала мать, но видения уже не было больше.
Еще другое благодатное озарение посетило девочку уже на двенадцатом году ее жизни. Она в тонком сне видела Господа на престоле. Направо от Него стояли души праведных, а налево души грешных. Ей были открыты уготованные для них муки.
Этот сон произвел на нее такое впечатление, что она стала молить Господа избавить ее от муки и наставить ее на путь правды.
Духовные стремления Салтыковой были так определенны, что ей надобно было иметь опытного руководителя в духовной жизни. Господь послал ей такого руководителя в лице иеромонаха Адриана, праведного старца и подвижника, который жил в сороковых годах прошлого столетия в Адриановом монастыре, у города Пошехонья, Ярославской губернии.
Тут же жила, занимаясь печением просфор, старица-подвижница Матрона Ивановна Гулина. Отец Адриан поручил этой старице ближайшее руководство Александрою, и десять лет ее юности протекли под заботой этих двух добрых людей.
Приближаясь к своей кончине, отец Адриан в 1853 г. посоветовал Гулиной обратиться к заштатному священнику Иерусалимской слободы, близи города Углича, отцу Петру Томаницкому, пользовавшемуся уважением нескольких окрестных губерний и прикрывавшему свое величайшее духовное «устроение» жизнью юродственною.
Когда отец Адриан скончался, Гулина переехала в Углич. Ее сопровождали несколько благочестивых девиц, которые жили под ее руководством, составляя как бы маленькую общину.
Все они проводили жизнь монастырскую, строго подвижническую. Постоянные молитвы и отречение воли были главными их подвигами.
К этим девушкам принадлежала и Александра Васильевна Салтыкова. Таким образом, вся ее юность и зрелые годы прошли под руководством выдающихся духовных людей.
Ей было тридцать два года, когда, по совету отца Петра, она поступила в Рыбинский Софийский монастырь, который вновь устраивался с благословения отца Петра.
В этом монастыре она прожила тринадцать лет, пока Промысл Божий не вручил ей большое дело устройства новой Казанской общины в Вышнем Волочке.
Таким образом, отцу Петру Томаницкому обязаны возникновением в Ярославской епархии Софийский Рыбинский женский монастырь и в Тверской — Казанский Вышневолоцкий.
После восьмилетнего пребывания в Рыбинске мать Досифея получила от отца Петра благословение съездить на богомолье с двумя хорошими знакомыми.
Она прежде всего проехала в Вышний Волочек для поклонения чудотворной иконе Казанской Божией Матери, находившейся постоянно на месте Ее явления, в церкви, в полутра верстах от города, и приносимой ежегодно к 1-му августа в городской собор.
Когда мать Досифея очутилась перед этой иконой, она преисполнилась величайшей радостью. В этой самой иконе она узнала ту икону, которую видела в своей молодости во сне, живя еще дома.
Ей снилось тогда, будто она идет по большому лугу, и перед нею много рабочих. Она спрашивает их — куда они идут. Они отвечают, что по благословению старцев Адриана и Петра они строят монастырь. Видит она потом уже готовую церковь. В церковь эту опускается большая икона Казанской Божией Матери.
Здесь, перед этой иконой, мать Досифея вспомнила во всех подробностях тот знаменательный сон. По благоговению ко святыне матери Досифее захотелось посетить и место явления иконы в полутора верстах от Вышнего Волочка, и тут зародилась в ней мысль, что было бы прилично ознаменовать это место основанием обители.
Из Волочка паломницы проехали в лавру, к преподобному Сергию, и в окрестностях лавры, в пещерах при Гефсиманском ските, мать Досифея поведала одному старцу свои мысли о том, что следовало бы учредить обитель на месте явления Казанской Вышневолоцкой иконы.
Старец отправил их к митрополиту Филарету, который принял их на другой же день, и на вопрос их, благословит ли он их намерение, подумав, отвечал:
— Доброе дело; да будет с вами благословение Божие.
Из лавры мать Досифея со спутницами поехала к отцу Петру в Углич, рассказала отцу Петру все подробности своего путешествия, и одна из спутниц матери Досифеи, Мария Ивановна Короткова, стала проситься в Рыбинский монастырь:
— Строй дом с церковью, — был ответ старца.
— Да где же, батюшка, строить? — спросила она.
— Там, где были у Казанской, там и живите.
— Да как же там можно жить? На чистом поле, ведь, не заживешь.
— Будет монастырь, будет, — решительно сказал старец, — найдутся и строители свои.
Чтобы возбудить веру женщин в свои слова, старец показал им небесное знамение. Он дал им железный костыль и велел опустить его в Волгу и потом вынуть. Множество маленьких рыб приплывали со всех сторон к этому железному костылю и как будто клевали его.
Слова старца должны были произвести на мать Досифею особо сильное впечатление, так как это свидание с ним было последним.
В начале сентября отец Петр скончался.
В 1867 году пещерный старец, которому год тому назад мать Досифея поверила свою мечту о постройке Казанской обители, теперь через ее подругу, бывшую на богомолье у преподобного Сергия и в пещерах, передал ей послушание пробрести землю, для будущего женского монастыря, у Вышнего Волочка.
Так как матери Досифее было назначено ехать по сбору на обитель в Петроград, она считала это поручение неисполнимым. Но к ее изумлению игумения согласилась возложить это поручение на другую, а пещерный старец требовал, чтобы она сама купила землю, и при этом — назвал ее игумениею Казанского монастыря.
Мать Досифея поехала в Петроград и просила своего брата, торговца, съездить в Волочек для покупки земли при часовне явления иконы.
Он вернулся с известием, что за небольшой клочок земли просят не менее тысячи рублей.
Мать Досифея просила тогда тверского набожного помещика, князя Путятина, позволить приобрести ей землю на его имя. Князь согласился. Тогда потребовалось достать тысячу рублей и, словно озаряемая каким-то внушением свыше, мать Досифея решила просить эти деньги у одной своей знакомой, которая с охотой их дала. Таким образом, состоялось приобретение первоначальной пяди земли под будущий монастырь на имя князя Путятина, и мать Досифея вернулась в Рыбинск, надеясь отдохнуть от всех волнений.
Между тем, две ее спутницы постоянно звали ее ехать к себе. В условиях покупки этой земли, которая раньше принадлежала городу, было сказано, что, если в течение двух лет на ней не будет возведено построек, то земля отойдет городу. Наконец, эти две личности сами приехали просить рыбинскую игумению, чтобы она отпустила мать Досифею.
Игумения раздражилась и резко объявила:
— Куда тебе, слабенькой, ехать без капитала!
Она почти выгнала из монастыря ее подруг. В 1868 году, при новой игумении, мать Досифея была пострижена в мантию. После пострига она решила оставаться в Рыбинском монастыре, но смертельно заболела, и тогда дала обет Царице Небесной: «Владычица, я страшусь ехать на пустое место. Боюсь умереть, потому что не готова. Если Ты оставишь мне время для покаяния, то я приму это знамение, как Твою волю, что я должна ехать на новое место».
После этой молитвы она, не спавшая одиннадцать ночей подряд, заснула крепким сном.
Ей снилось, что в облаках несется Владычица мира на престоле, как изображается на Печерской иконе, и остановилась против окна кельи, выходившей в лес.
Мать Досифея припала к Ней, прося помилования и, проснувшись, она почувствовала значительное облегчение от болезни. Скоро она выздоровела, однако, еще не решалась ехать.
Но скоро князь Путятин написал новой игумении письмо, настоятельно прося отпустить мать Досифею.
Тогда игумения благословила ее образом преподобного Сергея, и мать Досифея навсегда покинула Рыбинский Софийский монастырь.
Когда она, первого января 1871 года, явилась в Вышний Волочек на купленный участок, то увидела на нем обнесенный забором очень небольшой деревянный дом.
Вот, каково было начало обители, устройство которой было на нее возложено старцами.
Надо было прежде всего позаботиться о церкви. В Петрограде исполнялись уже иконы и иконостас, но платить было нечем. Надо было ехать в Петроград собирать по знакомым деньги, надо было обнести забором все приобретенное место, так как, прослышавши об основании новой обители, являлось много сестер, и они просили неотступно принять их.
Мать Досифея предупреждала их, что лишения будут страшные, так как капитала нет, но они все обещали стерпеть. И вскоре первоначальное ядро будущей обители достигло тридцати человек.
По ночам, с одиннадцати часов вечера до четырех утра, сестры проводили в молитвенном бдении, боясь нападения разбойников. Чтение приходилось совершать при свете одной лампады, так как восковых свечей не на что было им купить.
Когда сестры просили купить хотя огарочек, мать Досифея говорила им, что у преподобного Серия Радонежского в его первоначальной обители читали при свете лучины, тогда как у них есть лампадки.
Когда сестры были удручены лишениями, матушка напоминала им, что они шли на страдание ради душевного спасения.
Однажды, в самых стесненных обстоятельствах, мать Досифея в пять часов утра пришла в часовню явления чудотворной иконы, зажгла последнюю, оставшуюся в доме, трехкопеечную свечку и стала говорить Богоматери, как будто стояла перед родной земной матерью:
— Ты знаешь, Владычица, что у нас нет ни муки, ни крупы, ни соли, ни деревянного масла, ни копейки денег; а сестер набрано много. Как нам быть? Помоги, Кормилица, изнемогаю. Сомневаюсь теперь, угодно ли Тебе дело, мною начатое так. Поняла ли я слова отца Петра? Может, я ошиблась, и по гордости принялась за непосильное дело. Вразуми меня, Владычица, укрепи мою веру! И — если Тебе угодно, чтобы тут строился монастырь, то внуши приехавшей к нам купчихе сотворить нам милостыню. Это будет для меня знамение, что я действую по Твоей воле.
Купчиха находилась в этой часовне. Внезапно она подошла к матери Досифее и сунула ей в руку крупную денежную бумажку.
Это обстоятельство послужило матери Досифее знамением того, что ее дело угодно Богоматери. Тут же при выходе из часовни сторож подал ей письмо со вложением трех рублей. В письме просили помолиться за некую болящую Евдокию.
В благодарность Богу, матушка сейчас же собрала сестер и стала читать акафист Богоматери.
На другой день две добрые старушки принесли по пятнадцати рублей. Один родственник матери Досифеи привез провизии и дал деньгами сотню.
Такова была сила искренней молитвы.
В январе 1872 года было подано прошение в Святейший Синод об утверждении Вышневолоцкой Казанской общины, но дело в канцелярии потонуло в массе других дел.
Наконец, митрополит Петербургский и Новгородский Исидор, близко принявший к сердцу судьбу общины, дал настоятельный приказ, чтобы дело было отыскано и представлено ему.
Накануне дня Казанской иконы, митрополит срочно подписал резолюцию об утверждении общины.
В этот самый день матушка с сестрами усердно молились Богоматери об исполнении их желания, и весть об утверждении общины пришла в самый день праздника.
Вскоре случилось обстоятельство, которое заставило матушку задумать постройку каменной церкви. Именно, владыке Тверскому Филофею при встрече с мат. Дооифеею показалось, будто мать Досифея просила у него разрешения на каменную церковь. Разгоревшись вдруг верою, мать Досифея сказала:
— Благословите, владыка, Царица небесная укажет нам благодетелей.
В Москве она набрала около тысячи рублей и перед отъездом пошла в Кремль поклониться святыням. Долгий путь так утомил ее, что она еле шла, на извозчика не было денег, и по дороге она решилась зайти к одной неизвестной ей богатой купчихе, которая слыла жертвовательницей на храмы.
Купчиха посмотрела, как она плохо одета, и поразилась, проговорив:
— Вот, какие начальницы в провинции!
Когда же она узнала, что в обители девяносто сестер и лишь одна домовая, деревянная церковь, она словно под каким-то наитием произнесла:
— Какой это монастырь, если нет отдельной церкви! Вот, вам десять тысяч. Начинайте каменный храм.
Тут же матушка в слезах стала на молитву перед иконою Царицы небесной «Достойно». А купчиха проводила ее словами, что хотя этих денег и мало на каменную церковь, но она советует с верою приступать к делу.
Расходы на церковь были большие: по топкости места потребовалось забить три тысячи свай по пяти с полтиною всякая. Рабочих для этого дела было до ста пятидесяти человек, которым уплачивалось в неделю до шестисот рублей. Лес взяли в долг. Когда забили уже половину свай, явился подрядчик и объявил, что если не будет произведена оплата за сделанные работы, то работа должна быть приостановлена.
Тогда снова матушка обратилась к своей единственной помощнице — Владычице — и гостившая в это время в обители купчиха Попова заявила желание пожертвовать пять тысяч. Работы по укладке бута, стоившие до двадцати четырех тысяч, были закончены уже через год после закладки.
Когда же потребовался кирпич и цоколь для церкви, опять не на что было купить, и тут снова явились два неожиданных благодетеля: Сивохин из Петербурга и Германов из Москвы, из которых один пожертвовал до двух тысяч рублей деньгами, нужное количество цемента и полмиллиона кирпича, также и железа. При дальнейших жертвах, работа шла, не переставая, и седьмого июля 1880 года на новый собор, законченный вчерне, были водружены все девятнадцать крестов.
Что переживала храмоздательница, строившая в молитвенных воплях и слезах, когда засиял на высоте тридцати сажен большой двадцатипудовый крест!
Бог привел также в обитель брата матушки, петербургского семидесятилетнего купца Никифора Васильевича Салтыкова, который, желая кончить жизнь в обители, был привезен в нее всего за шесть недель до смерти и оставил сестре на монастырь двенадцать тысяч.
На шестой день после его смерти мать Досифея, садясь от его могилы в сани, разбила себе колено, оттого что лошадь неожиданно дернула. Начались страшные боли, в которых доктора не могли помочь ей.
Когда она окончательно занемогла ночью, она услыхала голос у своего изголовья: «вставай».
Так как дверь была заперта, она резко ответила:
— Кто тут? Не боитесь вы Бога! Сами знаете, в каком я положении.
На эти слова ответа не было, а через несколько времени снова раздалось слово: «вставай».
Когда она, лежавшая лицом к стене, обернулась, то увидела, что у ее кровати стоит женщина с покрывалом на голове, и она стала просить женщину открыть свое имя.
Вдруг она видит перед собою на дверях Казанскую икону в невыразимом сиянии, явившаяся ей Жена, подняв свое покрывало до половины, указала на икону со словами:
— Вот, кто Я! Смотри на икону.
— Который час? — опросила матушка.
— Два часа, — ответила Жена.
Тут матушка забылась, но вскоре опомнилась и в первую минуту, забыв о видении, пожалела, что не может подняться, так как должна была по утру приобщиться.
Понемногу она стала припоминать только что бывшее ей видение, перекрестилась, попробовала двинуть больной ногой и не ощутила никакой боли. Тогда она встала, ступила на ушибленную ногу и без палочки пошла в моленную. Тут вспомнила все подробности своего видения. Более часу медленно читала она в слезах акафист Богоматери, потом созвала сестер и поделилась с ними радостью чудного посещения и исцеления своего.
Это было восьмого марта 1880 года.
* * *
В конце 1881 года последовал приказ Святейшего Синода о преобразовании общины в монастырь.
Первого января 1882 года в Твери мать Досифея была торжественно возведена в кафедральном соборе преосвященным Саввою, архиепископом Тверским и Кашинским, в звание игумении.
Речь, которую произнес преосвященный Савва, вручая матери Досифее игуменский посох, прекрасно изобразила все перенесенные матерью Досифеею великие труды ее по устройству обители.
«Преподобная матерь игумения Досифея. Дивные судьбы промышления Божия видятся над юною обителью, вверенною твоему начальственному управлению. Едва совершилось одно десятилетие с тех пор, как среди пустынного, необитаемого поля, не без борьбы и скорбей, зачалась под сению благоговейно чтимой святыни малая обитель для ищущих уединенного жития и молитвенных подвигов. И что же видим ныне? Там, где была вначале одна малая деревянная молитвенная храмина для небольшого числа молящихся, — видим другой обширный, благолепный храм, — такой храм, каких немного можно видеть и среди знатных, многолюдных городов. Там, где было несколько лишь небольших и самых скромных жилищ, для малого числа сестер, — там ныне воздвигнуты новые, обширные, пространные строения, не только для обитания здоровых и врачевания немощных, но и для производства разных хозяйственных и даже художественных занятий.
Не исполнилось еще десятилетия, как тебе вверена новосозданная обитель, в которой на первый раз водворилось с тобою менее тридесяти душ, а что видим ныне? — Ныне, под твоим добрым, назидательным руководством, подвизаются о спасении душевном уже более трехсот сестер.
Не должно ли все сие возбуждать в нас чувство благоговейного удивления пред чудными судьбами Божиими о вверенной тебе обители? Поистине, обитель сия может быть уподоблена оному приточному «горушному зерну», которое хотя менее всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так, что прилетают птицы небесные, и укрываются в ветвях его. Но по мере распространения обители и по мере умножения числа обитательниц в ней, естественно, должны были более и более возрастать и умножаться для тебя, как начальницы, труды и заботы. Между тем, мы видим, что ты, несмотря на свою немощь телесную и преклонность уже лет, не ослабеваешь в своей душевной ревности о большем и большем благоустроении вверенной тебе обители и о вящшем преуспеянии твоих сестер в добром христианском житии.
Воистину, в твоей немощи сила Божия совершается! Господь Иисус Христос и Его Пречистая Матерь, имени Коей посвящена управляемая тобою обитель, да дарует тебе крепость телесную и бодрость душевную к совершению дальнейших подвигов на пользу обители, и вручаемый тебе сей жезл да будет не только знаменем твоей власти над преобразованною, по благословению высшего священноначалия, обителью, но и залогом новой благодатной силы, которую Господь, — по Своей бесконечной благости, — уповаем, будет ниспосылать на тебя от Своего горнего Сиона».
По возвращении в обитель мать Досифея трудилась над внутренней отделкой большого собора, который был торжественно освящен архиепископом Саввою восьмого августа.
В ту самую зиму скончался тверской помещик, князь Путятин, с самого начала поддерживавший мать Досифею. Перед кончиной своею, которая произошла в обители, он спрашивал игумению:
— О тебе, матушка, думаю: как ты жить будешь, или без тебя как жить будут, чем будут содержаться? Ведь на содержание сестер в течение года требуется тридцать тысяч: если ты умрешь, где возьмут-то?
— Царица Небесная не оставит: на Нее вся надежда. Если Владычица устроила монастырь на том пустом месте, то неужели Она оставит их потом Своею милостью!
Приближаясь сама к последним годам, мать Досифея хоронила постепенно благодетелей обители. Первым схоронила она Германова. Для него монастырь был родным по той заботе, которую он к обители прилагал. Он привозил сюда всего, что нужно сестрам на трапезу: к праздникам Казанской иконы — восьмого июля и двадцать второго октября, и все просил, чтобы по смерти сестры не забывали его своими усердными молитвами.
Через два года после него скончался и другой великий благодетель монастыря — Сивохин. Он скончался тихо, приготовившись к смерти, глядя на поставленную перед ним икону Казанской Божией Матери, обители Которой он так усердно служил.
Он и схоронен в монастыре. Последними его дарами обители была прекрасная каменная, вышиною в тридцать пять сажен, колокольня с теплым храмом в ней во имя преподобного Ефрема и мученицы Неониллы — имена Сивохина и его жены, двухэтажный корпус для монастырской больницы и чудный, бесценный дар древней, чудотворной иконы Божией Матери, именуемой «Андрониковой».
История поступления в обитель этой святыни такова. Как-то в 1885 году, при посещении в Петербурге Сивохина монастырской казначеей Макарией, Сивохин ей, между прочим, сказал:
— Хорошо бы вам в обитель древнюю икону Царицы Небесной. Она писана евангелистом Лукою и стоит у Федорова. Я ее выкуплю; риза-то с нее заложена.
В тот же день Макария с женой Сивохина поехали на Васильевский остров к владельцу иконы, небогатому чиновнику Федорову.
Федоров за передачу иконы поставил совершенно невозможные условия. Так мать Макария и уехала в монастырь без иконы.
Но вскоре Сивохин вызвал ее в Петербург телеграммой и объявил ей, что он желает пробрести икону и поставить ее в монастыре.
Это намерение так запало в сердце Сивохину, что он за выкуп иконы заплатил Федорову семнадцать тысяч и тут же передал икону матери Макарии.
Прибытие иконы в Вышневолоцкий монастырь было обставлено с большой торжественностью. К этому торжеству собрались, кроме архиепископа Тверского Саввы и двух архимандритов, губернские и уездные власти, и множество народа. Икону несли со станции торжественным ходом в киоте на особых носилках.
Сперва она была принесена в городской собор, а затем из города перенесена в монастырь.
В память этого события, по ходатайству матери Досифеи, установлен ежегодно, в первый день мая, крестный торжественный ход из всех церквей Вышнего-Волочка в Казанскую обитель.
От юной еще Казанской обители при матери Досифее выросло несколько разветвлений. Так, по просьбе жителей, при станции Спирово, Николаевской железной дороги, на земле, пожертвованной монастырю княгиней Эристовой, был основан храм с отделением монастыря, в котором впоследствии стало жить более ста сестер.
Затем возникло отделение обители в пяти верстах от Вышневолоцкого Казанского монастыря и верстах в трех от города Волочка, на земле, пожертвованной купцом Пожарским. Так, у обители был устроен скотный двор с хозяйственными постройками и жилым помещением, и для хозяйственных работ проживало зимой до пятидесяти, а летом сто пятьдесят сестер. Близ обители был устроен для их духовных нужд храм Божий и образовался еще новый монастырский поселок.
В последние годы жизни матери Досифеи ей удалось выстроить еще теплый собор в честь чудотворной иконы «Андрониковой».
Приближаясь к концу жизни, мать Досифея всеми мыслями своими стремилась к Господу, Которому она с такою верою и самоотвержением служила всю свою жизнь. Келейные молитвы занимали все ее дневное время. Две послушницы — чтицы, сменяя одна другую, вычитывали ежедневно все церковные службы, каждое правило и многочисленные акафисты.
Ночи этого года мать Досифея спала мало. Она молилась в эти ночные часы о судьбе своей обители, о спасении живущих в ней сестер, о благотворителях монастыря. Она молилась и о тех больных и нуждавшихся в молитвенной помощи, которые обращались к ней за молитвою. Часто бывало, что Господь этим людям посылал исцеление и облегчение в их тяжелых обстоятельствах.
Перед смертною болезнию своею мать Досифея заболела в конце Великого поста 1906 года. Эта болезнь была старческое воспаление обоих легких.
Об обители она говорила:
Я оставляю Владычице обитель, и Ей вручаю всех вас. Она Сама вас наставит и спасет, а я дольше жить уже не могу.
В последний раз она приобщалась в Великий Четверг, накануне смерти, и в этот же день была соборована. Она простилась со всеми монахинями и с двумя жертвователями, которые с семействами своими приехали в обитель поговеть и встретить светлый праздник. Она просила благодетелей не оставлять после нее ее обитель.
Вечером, накануне ее смерти, все сестры обители по очереди были допускаемы к смертному ложу отходящей и, поклонившись ей в ноги, получали от нее благословение, икону или крестик.
Всю последнюю ночь ее жизни сестры беспрерывно читали в смертном покое акафисты, и, слушая любимые слова, игумения временами осеняла себя крестным знамением.
В пятом часу утра игумения тихим, но внятным голосом произнесла знаменательные слова апостола Павла:
«Аще бо живем, — Господеви живем; аще же умираем, Господеви умираем!»
Это были последние слова, произнесенный ею на земле. Ее беспрестанно осеняли крестом, а перед самым концом ее тогдашняя казначея, теперешняя игумения Досифея, поднесла к ней икону Успения Богоматери с произнесением слов:
«В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородице».
Умирающая пристально смотрела на икону смертного часа Пресвятой Владычицы, и губы ее шептали молитву.
Вдруг ее взор поднялся к небу и в нем заблистала радость. Лицо ее озарилось улыбкой и, подняв руки, она протянула их кверху, как бы в духовном восторге перед каким-то чудным видением, и в этом восторге, переполнившем все ее существо, душа ее безболезненно отделилась от тела…
Отпевание произошло на второй день Пасхи.
Основательница Вышневолоцкого женского монастыря, многотрудная игумения Досифея, положена в пещере под теплым собором рядом с ее сотрудницами, умершими раньше ее, схимонахиней Пелагией и казначеей Макарией.
Подвижницы Вышневолоцкого монастыря, схимонахиня Пелагия и схимонахиня Мария
Схимонахиня Пелагия принадлежала к числу тех женщин, которым пришлось перенести все тягостные испытания, все горчайшее унижение, какое иногда испытывала при господстве крепостного права человеческая личность, и особенно личность беззащитной девушки.
Но, сильная духом, эта крепостная безвольная раба не озлобилась и не отчаялась и вступила на путь великого духовного подвига, приведшего ее к работе в Боге и к той праведности заблиставшей, которой она служила широко людям.
С тех пор, как она себя помнила, девушка распалялась духовным желанием служить Христу-Богу. Но она была крепостная, а в то время господа, желавшие размножения своих крепостных, не любили, чтобы подвластные им девушки не выходили замуж. Желали выдать замуж и ее — будущую схимницу. Так как она отказывалась от брака, ее шесть раз подвергали тяжелому истязанию, и в последний раз засекли почти на смерть.
Тогда же разгневанный ее упорством помещик велел сослать ее пасти свиней и гусей, причем запретил давать ей даже хлеба.
Живет бедная девушка с порученными ей птицами, радуется, что никто ее больше не истязует, сидит на берегу пруда, в котором плавают утки и гуси и смотрит в ясное небо и говорит:
— Господи, Ты все видишь. Радуюсь, что видимы Тебе и страдания мои.
И в этой ссылке между своими гусями и утками она довольна была своей судьбой.
Так как хлеба ей не давали, то ей приходилось изловчаться, чтобы питать себя. Она, бывало, намешает в корыто, из которого кормила гусей и уток, муки с высевками и ест одновременно с птицами, ласково приговаривая:
— Простите меня, ради Бога, пташечки, что я вас объедаю.
Когда ключница узнала о том, как кормится девушка, она сжалилась над ней, и стала давать ей хлеб. И была девушка своей судьбой совсем довольна.
Между тем, дочь ее помещика, барышня, решила поступить в Тихвинский монастырь и взяла девушку со скотного с собой в обитель. Там она с усердием послужила своей барышне. Барышня жила недолго, умерла, и ее раба была отпущена на волю.
Вернувшись к родителям, она ушла жить в лес, так как хотелось ей, не видя лица человеческого, служить Богу в неразвлекаемой духовной жизни.
Из всего имущества был при ней только один топорик. Далеко углубясь в лес, она остановилась, наконец, у большой ели и стала жить тут, как бы в раю, питаясь сырыми грибами и ягодами и всей душой уходя в молитву.
Когда пришла осень, она стала изнемогать и просила Владычицу мира указать ей — угодно ли Владычице, чтобы она оставалась в лесу, или чтобы шла в мир. И получила она знамение идти к людям.
Из глубины этого леса, из которого она не могла найти себе дороги, она была выведена также некоторым чудным знамением.
Несколько лет посвятила она странствованию по святым местам, побывала и у соловецких угодников и в далеком Киеве.
В течение семнадцати лет странница служила благочестивой девице хорошего рода, Маринушке, которая приняла постриг с именем монахини Филареты. По ночам она ходила с топориком — где увидит, что у крестьян упала изгородь — поправит. Если узнавала днем, что бедные семейства ушли на работу на барщину, то обмоет и обошьет детей и все в доме приберет.
Подаяний никаких не принимала, а всем старалась своим трудом услужить. Во время ее мирской жизни к ней шло много народа за советом и утешением. Затем она получила от Божией Матери внушение, чтобы шла в монастырь.
Когда Казанская община была утверждена, странница явилась к матери Досифее со словами:
— Вот, теперь Матерь Божия благословила сюда жить. У меня нет ничего, один только топорик.
Мать Досифея была довольна ее появлением. Так как по вере подвижницы исцелялись больные, она поила их святою водою — народу ходило к ней много с утра до вечера. Так что келья ее была обыкновенно полна, и посетители поручали от нее большое духовное утешение.
Как-то привезли в монастырь больную девицу со связанными полотенцами ногами и положили ее в церковь. Мать Пелагия велела развязать ее, хотя родственники говорили, что она дерется и всех прибьет.
— Так и скота не связывают, — отвечала подвижница.
Когда больную по ее приказанию развязали, она только топала ногами. Мать Пелагия дала ей богоявленской воды, вспрыснула ее, прикрыла пеленой иконы Казанской Божией Матери. Во время «Херувимской» больная немного покричала. Мать Пелагия перекрестила ее, она заснула, и на другой день встала тише, и так день ото дня все лучше. Ее благословили поговеть и приобщиться, и она пошла домой совсем здоровою.
Поступила она в обитель в октябре 1872 года и прожила двенадцать лет. В первое время жизни в обители она сделалась тяжко больна, и Маринушка, которой она служила вместе с восьмилетней ее крестницей Дунюшкой, теперешней игуменией Досифеей, сильно плакала. Но она сказала им:
— Не плачь, не умру, а поживу здесь двенадцать годов.
Перед смертной болезнью своею она не давала себе покоя, и, когда ей советовали отдохнуть, отвечала:
— Сон моей лености ходатайствует душе моей муку.
Во время болезни ее возили на салазках в церковь весь великий пост. Когда же и быть передвигаемой ей казалось не под силу, она часто приобщалась у себя в келье. Пищи во время болезни никакой не принимала, кроме двух ложечек воды в день; и раньше она держала весьма строгий пост; с принятием же схимы не принимала ни молочного, ни масляного, и ела одну только крупяночку без постного масла. Все ночи она проводила без сна, в непрестанной молитве, и любила говорить к приходившим к ней сестрам:
— Кайся повсечасно, молись непрестанно, люби всякого человека и согрешить будет некогда.
А перед концом дала игумении совет:
— Построже веди детей, построже… Бог поможет, молись, спасайтесь, молитесь Богу усердно.
Она скончалась двадцать девятого мая 1884 года.
* * *
Вышневолоцкая купчиха Акулина Егоровна Гагарина была первой благодетельницей обители, так как оказала матери Досифее гостеприимство, когда она с первыми насельницами, никому еще неизвестная, явилась на пустое место с пустым домом.
Она верила, что Богоматерь благословит эту местность и служила будущей обители, чем могла. Вдова, она имела единственного сына, который пошел в доктора и умер где-то заграницей.
Потеряв сына, она переехала в обитель, и первая из сестер была пострижена в мантию, с именем Марии.
Поставив ее на путь скорбей, Господь держал ее на этом пути до конца. В течение девяти лет она была в параличе. Сидя на своей кроватке, она погружалась в чтение духовных книг. Когда слышала о каком-нибудь болящем или страждущем человеке, плакала о нем горькими слезами, хотя бы никогда его раньше не видала, и усердно молилась об облегчении его скорби.
Господь послал ей тихую кончину. Когда священники читали отходную молитву, она воскликнула, словно воочию увидав Пречистую деву:
— Матерь Божья, Матерь Божья! — и, уже ничего более не говоря, она тихо предала свой страждущий и правый дух в руки Божии.
Схимонах Вассиан (подвижник Алатырского Свято-Троицкого монастыря)
В городе Алатыре, Симбирской губернии, есть Свято-Троицкий мужской монастырь, начало которого предание относит ко второй половине шестнадцатого века, к царствованию Иоанна Васильевича Грозного. В 1615 году он был приписан к Троице-Сергиеву монастырю, что ныне лавра.
Монастырь, ныне трехклассный, расположен в северной части города Алатыря, по отлогому берегу реки Алатыря, недалеко от впадения этой реки в реку Суру.
Святыню его представляет чудотворный образ Спаса Нерукотворенного, издревле находившийся на деревянной башне, устроенной над крепостными воротами. Когда в 1754 году сильный пожар истребил южную часть города и стены с башнями, то через несколько лет на месте пожарища, под пеплом и мусором, был найден образ Нерукотворенного Спаса в полной сохранности.
Образ этот прославлен многими чудесами. Так, во время холерной эпидемии целые семьи почти мгновенно получали выздоровление, прибегая к благодати иконы.
* * *
Алатырь со своим монастырем дорог почитателям русского благочестия по памяти великого подвижника, в нем покоящегося.
Под приделом, в честь Казанской иконы Богоматери, в Алатырском-Троицком монастыре устроено подвальное помещение-склеп. В нем, на каменном возвышении, стоит деревянная гробница, покрытая парчей.
В этой гробнице покоится нетленное тело схимонаха Вассиана. Об обретении мощей этого безвестного подвижника известно следующее:
Двадцать шестого августа 1748 года, в царствование императрицы Елизаветы Петровны, в монастыре производились работы по очищению места под нижний Троицкий собор. Во время этих работ был обретен гроб с мощами схимонаха Вассиана. Целую неделю вынутые из земли мощи стояли открытыми. Затем были перенесены в бывшую в то время в монастыре теплую церковь преподобных Зосимы и Савватия и тут оставались совершенно открытыми всю зиму. И, когда стали свидетельствовать тело подвижника, то как самое тело, так и одежды на нем и гроб оказались совершенно неповрежденными.
Вследствие уничтожения пожаром монастырского архива нет никакой возможности установить время жизни схимонаха Вассиана. В списках настоятелей и строителей Троицкого монастыря значится: настоятель Вассиан с 1697 по 1698 года. Но был ли подвижник, которого мощи сохранились нетленными, упоминаемый этими словами строитель или был он простым рядовым монахом — неизвестно. Известно только, что в монастыре был схимонах Вассиан, который за подвижническую свою жизнь пользуется великим почитанием всех горожан.
Когда его нетленное тело свидетельствовали, то были еще лица, помнившие его живым. Они-то и установили, что обретенные мощи принадлежат схимонаху Вассиану.
Сохранность тела и одежды на подвижнике были так велики, что ясно сохранились вышитые на схиме слова Священного Писания. Народ с усердием стекался к гробнице подвижника, постоянно совершалось над нею много панихид. Больные отламывали от гроба щепочки и многие получали исцеление болезней. К сожалению, эти исцеления никогда не записывались.
Наконец, было предписано от Святейшего Синода епископу нижегородскому и алатырскому Вениамину, в епархии которого тогда находился Алатырь, предать нетленное тело схимонаха Вассиана земле.
Очень жаль, что современники не записывали исцелений, получавшихся у могилы подвижника, и при вторичном свидетельстве мощей они не могли быть подтверждены. Но усердие народное к памяти схимонаха Вассиана не ослабело.
Оно и по сию пору собирает много народа; и у скромного надгробия подвижника часто совершаются панихиды усердствующими к его памяти.
Общие монастырские панихиды с торжественною всенощною накануне совершаются двадцать шестого августа, в день обретения мощей схимонаха Вассиана, и десятого октября, в день ангела подвижника.
Несколько лет тому назад на могиле схимонаха Вассиана совершилось знамение, которое стало привлекать к его могиле еще большее количество богомольцев.
Чудодейственная сила мощей схимонаха Вассиана давно была известна алатырцам, но чтим он был как-то плохо, мало заметно в пределах Алатыря. А это новое событие заставило о нем говорить широкие круги верующего общества.
Четвертого июля 1906 года Алатырь был подожжен с нескольких сторон. В этом страшном пожаре погорел весь до остатка монастырь. Жар был так велик, что плавились от огня железные скрепы храма.
Когда, на следующий день после пожара, могли войти в Троицкий монастырь, то убедились, что огонь, который разрушил решительно все в монастыре, не смел коснуться только лишь одной гробницы подвижника, остановленный невидимою силою.
Даже ветхая пелена, покрывавшая гробницу, не истлела, точно в этом страшном раздолье огня каким-то непроницаемым для него футляром накрыли надгробие тихого подвижника Вассиана.
Весть об этом необыкновенном обстоятельстве быстро облетела город, и со всех сторон стал стекаться народ; чтобы на развалинах и пожарище монастыря своими глазами убедиться в неприкосновенности гробницы алатырского подвижника. Стали, вместе с тем, истекать от этой гробницы новые исцеления.
И монастырю, и городу желательно, конечно, чтобы несомненно чудотворящий схимонах Вассиан был вчинен в лик святых и чтобы мощи его, уже двукратно свидетельствованные и бывшие на поверхности земли, были изъяты из-под спуда для общего народного поклонения. Но пока дело еще не начато, так как нет никаких документов относительно жизни преподобного.
Край, когда-то бывший окраинным, терпел слишком много для того, чтобы могли, как в других, более счастливых местах, уцелеть столь легко разрушающееся памятники, как какая-нибудь письменная запись о житии и подвигах схимонаха Вассиана.
Между тем, тот верный показатель, каким является многовековое усердие к могиле подвижника, чудесное уцеление гробницы его в пожаре и продолжающие истекать от этой гробницы исцеления — достаточно свидетельствуют о том, что жизнь, схимонаха Вассиана была высока и что ею он угодил Богу.
И, при возрастающем неверии, — как не обратить внимание на бедную пещеру—склеп, откуда льется на верующих исцеляющая благодать угодившего Богу безвестного старца, в котором одно ведомо и ясно, — его святая жизнь, его чудодействующая, загробная сила.
Андрей Ильич Огородников, симбирский блаженный
Долговременная память, которую оставляют по себе в населении, среди которого они жили и действовали, те или другие подвижники, показывает то глубокое впечатление, которое произвела на это население их жизнь.
Часто, в дни земного века своего, эти люди подвергались насмешкам, осуждениям, пересудами, гонениям. Но справедливая рука времени снимает с их памяти все те несправедливые укоры, которые при жизни низводили на них не понимавшие их люди, не умевшие возвыситься до них и проникнуть в тайну их высокой жизни.
И, освобожденные от всего пререкаемого, что было возведено на них из-за немощи людской, из-за ошибочности мирских взглядов — эти люди стоят перед потомками в лучах своего тяжкого, святого подвига, во имя Христа подъятого… Так, все светлеет и нравственный облик замечательного подвижника города Симбирска, юродивого Андрея Ильича Огородникова.
Три четверти века отделяет нас от его кончины, а память о нем неизменно сохраняется среди населения Симбирска. Жители Симбирска постоянно поминают его на проскомидии, у могилы его ежедневно бывают посетители, не только из числа горожан, но и из числа населения ближайших к Симбирску местностей. В редком заупокойном помяннике вы не встретите имя Андрея Ильича.
Андрей Ильич Огородников родился в Симбирске четвертого июля 1763 года и при крещении назван Андреем в честь святителя Андрея, архиепископа Критского. Имена родителей его: Илья Иванович и Анна Осиповна. Они были потомственными симбирскими мещанами и жили в подгорной части города Симбирска. Родители Андрея Ильича были люди благочестивые, и особенною набожностью отличалась его мать. Всю молодость свою Андрей Ильич провел с родителями в их доме под горой, на берегу Волги.
Когда родители умерли, об Андрее стал заботиться старший брат его Фаддей, умерший в 1813 году. Тогда Андрей поступил на попечение своей сестры, вдовы Натальи. Пред тем она поступила в Симбирский женский монастырь и нарочно покинула обитель, чтобы служить брату. Это она и исполняла при помощи некоторых благодетелей.
Одна из симбирских помещиц, Е. А. Мельгунова, выстроила для беспомощного Андрея с его сестрой хижинку на дворе у Андреевой племянницы Агафьи, и по смерти Фаддея Ильича ежегодно давала на его нужды по шестьдесят рублей ассигнациями.
Андрей был бедным страдальцем от своего рождения. До трех лет он не мог ходить быстро и ел из чужих рук, потом стал двигаться, но говорить ничего не умел, кроме слов: «мама Анна», или просто «Анна». Это было имя его матери. Этими словами и ограничивалась его речь. До семилетнего возраста он ходил в обычной простонародной одежде, а с семи лет он перестал надавать верхнее платье и обувь. Зимой при самых свирепых морозах, не обращая никогда внимания на погоду, он бегал по улицам Симбирска босой, одетый в длинную рубаху.
Странность такой одежды, наряду с другими странностями, в нем обнаружившимися, привлекала к нему общее внимание. Одни стали его почитать, другие осуждать и глумиться над ним. Этот несчастный человек, который казался глупеньким и бессмысленным, который не мог объясняться на человеческом языке, был глубоко сознательный подвижник и умом своим обнимал всю широту жизни человеческой.
Он не мог говорить, но на предлагаемые ему вопросы отвечал совершенно ясными звуками, движением рук или головы, утвердительными или отрицательными. Были даже люди, которые утверждали, что молчание он возложил на себя с детских лет, как великий подвиг. Это предположение может быть близко к истине, так как Андрей Ильич хорошо слышал и не был лишен никаких органов произношения. Во всех действиях Андрея Ильича для наблюдательного и понятливого в духовной жизни человека было ясное стремление постоянно мучить себя.
Он, например, часто ползал по земле, целуя ее, то передразнивал движениями своими окружающих и иногда мешал им. Было видно, что он старается не давать своему телу никогда покоя. Быстро перейдя или перебежав из одной части города в другую, он, бывало, станет на одном месте, по целым часам перекачивается с ноги на ногу, словно маятник, в одну сторону, и твердит при этом: «бум, бум, бум». А взор его в это время на что-нибудь устремлен неподвижно. Временами он скрывался на сутки или более из дома в какое-нибудь тайное место. Если же его убежище, в конце концов, открывали, он туда уже более не ходил.
Чаще всего стаивал он на углу большой Панской улицы, где прежде были деревянные постройки с торговыми помещениями. Только в гробу увидали Андрея Ильича совершенно спокойным и неподвижным. Спать он себе позволял лишь очень мало и ложился для этого на голых досках или на земле. Видали иногда, что он сам ляжет на лавку, а голову держит на весу, ни к чему не прикасаясь, ни на что не опираясь ею.
Ходил он в рубахе, и рубаху эту шили обыкновенно с сумкой на груди. В эту сумку многие клали ему милостыню, большею частью насильно, так как он сам брать ее не хотел. Эту милостыню он или раздавал сам, или кто-нибудь из желающих подходил к нему и самовольно ее от него брал. Наблюдали, что иногда он выбрасывал насильно положенную ему милостыню, причем было знаменательно то, что в числе других всыпанных ему в эту сумку монет он сразу находил монету того лица, милость от которого брать не желал. От одних он принимал подаяние самое ничтожное и, в то же время, откидывал прочь ценное подаяние других. Он не употреблял ни вина, ни масла, а любил чай с намазанным медом черным хлебом. Любил он также, и сухие ягоды, и они разваривались для него в особом горшочке. Возвращаясь домой, он, бывало, начинает стучать по столу, приговаривая: «мама». Это значило, что он просит сестру или племянницу покормить его. При его чрезвычайном воздержании его тело было необычайно легко и сухо.
Андрей Ильич никогда не смеялся. Нрава он был кротчайшего. Его незлобие было поразительно. Люди грубые, дерзкие по характеру позволяли себе смеяться над ним, бить его, всячески унижать его. Иногда он приходил домой избитый, выпачканный в муке или смоле. Злые невоспитанные дети, встретясь с ним на улице, щипали ему тело или дергали его за рубаху. Он никогда не защищался от них, не проявлял при этом волнения и тихо отходил от своих мучителей. Не раз, однако, обнаруживалось, что, вступаясь за беззащитного юродивого, Господь Сам наказывал таких его оскорбителей.
Когда блаженного хоронили, к его гробу подбежал на улице один двенадцатилетний мальчик, который при жизни всегда докучал и бил его. Вероятно, он и теперь желал выкинуть над умершим праведником какую-нибудь штуку, но, подбежав ко гробу, он тут же упал в страшных конвульсиях.
Рассказывали также, что незадолго до смерти своей блаженный забежал в лавку к одному купцу и стал к нему приставать. Купец был человек крутой, избил блаженного и выгнал его из лавки. В этот же вечер, когда купец закрывал окно в верхнем этаже своего дома, он потерял равновесие, выпал на улицу и едва остался жив. Он понял, за что он терпит наказание, и тут же послал просить у обиженного им Андрея Ильича прощение.
Незлобивый блаженный от всего сердца простил ему, и купец скоро поправился. Эти неприличные выходки против Андрея Ильича были лишь исключением, так как в общем он пользовался большим уважением людей, понимающих духовную жизнь. Люди вдумчивые, слышавшие о его подвижнической жизни, видя его незлобие и беззащитность, не могли не чувствовать к нему уважения.
Все шире расходилась молва о его подвижничестве, и о нем стали высокого мнения многие люди, которые раньше относились к нему с предубеждением. Общее уважение к Андрею Ильичу особенно возросло после отечественной войны.
Эта война, когда враг вторгся в те русские пределы, которые были неприкосновенны в последние века пред тем, все то тяжелое, что пришлось испытать русским и что вызвало из глубин русских душ лучшие, самоотверженнейшие, святейшие чувства — эта война оставила глубокий след в русской душе и обновила русскую религиозность. Усилилось тогда паломничество к русским подвижникам, в особенности — к подвизавшемуся тогда в Саровской пустыни старцу Серафиму.
Передают, что великий старец не раз говорил своим посетителям, которые приезжали к нему из Симбирска:
— Зачем ко мне убогому вы потрудились придти? У вас есть лучше меня человек, ваш Андрей Ильич.
С тем же уважением отозвалась об Андрее Ильиче и замечательная подвижница, жившая в Арзамасской женской …[3]
[1] Пропущен текст 2-х выпусков издания (4-го и 5-го), стр. 225-352. — Редакция Азбуки веры.
[2] Знаменитый Французский проповедник и богослов.
[3] Изд. незаконченное. Вышло только 8 вып. — Редакция Азбуки веры.
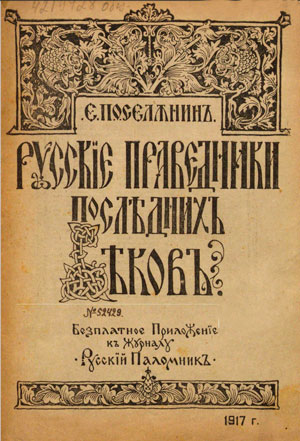
Комментировать