- [Предисловие составителей]
- I. Детство
- 1. Наша родословная
- 2. Впечатления детства
- 3. Братья и сестры
- 4. Прежняя Москва
- 5. Война
- II. Юность
- 1. Московская церковная жизнь
- 2. Студенческие годы
- 3. Святейший Патриарх Алексий и его окружение
- 4. Богословский институт
- 5. Лавра
- 6. Годы преподавания в семинарии и Академии
- 7. Академические и лаврские предания
- III. Зрелость
- 1. О. Севастиан (Фомин)
- 2. Увлечение фотографией
- 3. Последние годы Патриарха
- 4. Церковные деятели 60–х — 80–х гг.
- 5. Издательский отдел
- 6. Волоколамская кафедра
- 7. Международная работа
- 8. Русская эмиграция
- 9. Ориентальные Церкви
- 10. Замечательные личности
- 11. Паломничества
- 12. Брюсовский храм
- 13. Афганский вопрос
- 14. Новые времена
- IV. «Како подобает в дому Божием жити…»
- 1. О духовной сосредоточенности
- 2. О служении священника
- 3. Об иконе
- 4. О церковном пении
- 5. О чудесах
- Именной указатель
I. Детство
1. Наша родословная
По рождению я тамбовец — в Тамбове находилось наше родовое гнездо. Дома Нечаевых и Быстровых (семья моей матери) стояли на одной улице. Точнее, перекресток расходился буквой Т, и дома помещались как бы на краях верхней перекладины, — иными словами, через переулок.
Сам я родился в городе Козлове, позднее переименованном в Мичуринск, — где служил отец. Прожил я там всего четыре первых года своей жизни, а в Тамбове еще полтора года был в эвакуации (с осени 1941 по весну 1943), а впоследствии полгода временно управлял тамбовской епархией. знаю, что народ в этом крае интересный: очень упрямый и довольно консервативный. Тамбовцы шутят: «Мы последними Советскую власть приняли, последними от нее и отказываемся». Там до сих пор существуют колхозы. Называются они по–новому: ТОО, ООО, — но по сути как были колхозы, так и есть, и им такая организация по душе. Как когда–то говорила одна наша знакомая старушка: «Воробей — птица артельная». Мама, Ольга Васильевна, считала, что «люди делятся на тамбовских — и всех остальных».
Сейчас говорят, что наши климатические условия тяжелы для земледелия, однако до революции, года до 1915, Россия всю Европу кормила хлебом. Тамбовская, Воронежская, Липецкая области — самый центр Черноземной полосы России, переходящей далее на Украину. Земля здесь такая, что, по образному выражению наших классиков, можно сунуть в нее оглоблю и вырастет яблоня, а согласно специфической тамбовской поговорке, земля «от нового сапога подошву отрывает» — настолько клейкая эта черноземная масса.
То, что у меня осталось в памяти от Тамбова: в каждом доме пианино, велосипед и лодка. Там протекает река Цна, изобилующая рыбой. В ней водятся огромные сомы — меня ими в детстве пугали: говорят, они даже бросаются на человека. рыбалка в этих краях является одним из основных видов отдыха. Брат моей матери был хирургом и большую часть времени проводил в операционной. И бывало, что прямо после операции он, не заходя домой, садился в лодку и на несколько дней уплывал на рыбалку. Потом, вернувшись, через кого–то передавал жене улов и снова работал — так он дома почти и не бывал.
Есть в окрестностях Тамбова озеро, называемое Святым. С ним связана следующая легенда. Жил некогда на свете старичок–священник со своими сыновьями. Служил в церкви, но вот, пришло время — назначили на его место нового священника, а его отправили на покой. Сказал он тогда своим сыновьям: «Не хочу вас связывать, не хочу удерживать при себе. Ступайте, идите в жизни своей дорогой. Новый священник меня не обидит». И сыновья отправились в путь. Ушли — и не было от них никаких вестей. Прошли годы. Старичку захотелось узнать, что сталось с его детьми. Собрался он и пустился в путь. Шел, шел по проезжей дороге, заходил в селения, — но нигде ничего не слышал о своих детях. Однажды увидел: в сторону от дороги уходят две узких колеи, — как будто одна телега проехала. «Дай — думает, — сверну!». И пошел по этому следу. Пришел в деревню. Смотрит — деревня богатая, избы крепкие, а людей на улице нет. Постучался в одно окно, выглянула хозяйка, посмотрела тревожно. Он попросил воды напиться. Хозяйка вынесла воды. Разговорились. «А где же — спросил старичок, — ваши мужчины?» — «В отъезде. — ответила хозяйка. — Кто в город поехал, кто на промысел». Дело было уже к вечеру, и старичок попросился переночевать. Лег, заснул, а среди ночи проснулся от какого–то шума. Смотрит — хозяева вернулись. И узнал он в хозяевах своих сыновей. Открылся им, да так и остался у них жить, а заодно и стал присматриваться к жизни этой деревни. И что–то ему казалось странным. Живут богато — но никто не сеет и не пашет. И нет ни церкви, ни священника. «Что же вы так плохо живете? Как же так — без храма? — удивляется старичок. — Постройте церковь, давайте я буду у вас служить». Те согласились. Построили ему церковь, украсили богато. Стал старичок служить, а в церковь никто не ходит. Тогда и понял он, что село–то разбойничье! Вот какую, оказывается, дорогу в жизни выбрали его дети! И стал старичок–священник денно и нощно молиться за них. И однажды, когда шумной ватагой вернулись его дети с разбоя, хлынула с неба вода и затопила деревню, — возникло на месте деревни озеро: вода в нем серебристая, и озеро называется Святым. И если кто с чистой душой подойдет к нему на рассвете, — то увидит, что в воде отражается церковь, горит в ней лампадка, и старичок–священник Богу молится.
В озере этом никто никогда не купается, — даже в самую страшную жару, — и белье не полощут, и ни для каких грязных нужд воду оттуда не берут, и рыбу не ловят, и на лодках не плавают. Так было всегда, даже в самые «советские» времена.
Я происхожу из старинной священнической семьи. Откуда идет мой корень, я не знаю, но с 1685 г. мой род обосновывается в Тамбове, потому что епископ Питирим, назначенный на Тамбовскую кафедру из вяземских архимандритов, привез с собой родную сестру, духовника и небольшую группу священников–миссионеров для того, чтобы просветить мордву. В числе этих миссионеров были и мои предки, — таким образом, с конца XVII в. по епархиальным спискам прослеживается непрерывный большой перечень моих дедов и прадедов. Мой дядя, брат отца, Александр Андреевич, бывший инспектором Тамбовской семинарии, писал об этом диссертацию, но его в двадцатые годы убили, а диссертация, хранившаяся в Тамбовском архиве, погибла вместе с другими документами в 1942 г., когда враг подходил к Воронежу, и в страхе уничтожались все архивы. Так что, к сожалению, остались только семейные предания.
К нашему роду принадлежал, в частности, епископ Николай (Доброхотов). В его жизни была драма, после которой он и пошел в монахи. Его собирались женить. В те времена жених часто видел невесту только в церкви, — все решали родители. Правда, в нашей семье порядки были довольно либеральные. Как было в этом случае — неизвестно, но в самый день свадьбы случилось несчастье: на паперти храма невесту убили. А жених вместо венца, прямо как был, во фраке с белой манишкой, пошел в Киев, в Лавру. Там он некоторое время был послушником, его заметили и послали в Петербург: «Здесь тебе делать нечего. Езжай туда учиться». Потом он стал епископом Тамбовским.
Говорили, что Лесков немало выражений позаимствовал у него. Действительно, сказать он умел. Однажды, например, подошла к нему дама в лайковых перчатках и, не снимая их, сложила руки, чтобы взять благословение. «Лайку не благословляю», — сказал епископ. Дама очень обиделась, приняв слово «лайка» на свой счет.
Другой раз владыка заметил, что один из губернских чинов не был на службе, — а ведь службы были протокольные. «Что же вы, ваше превосходительство, в храм не пожаловали?» — спросил он его при первой встрече. «Храм у меня в сердце». — ответил тот. — «В сердце у вас, ваше превосходительство, храм, а в голове–то, что же, — колокольня?»
В конце концов он рассорился с властями и ушел в монастырь.[1]
О жизни дореволюционного духовенства говорят по–разному; кто–то видит хорошее, кто–то — плохое. Таковы сами люди — один скажет: «Ведро наполовину пустое» — другой: «Наполовину полное». В нашей семье воспоминания сохранялись только светлые.
Оба моих деда были сельские священники. Один служил в селе под названием Селезни, другой — в селе Космодемьяново. По рассказам о них я и сужу о жизни сельского батюшки, который вместе со своими прихожанами пахал, сеял, доил корову, водил лошадь, на праздниках позволял себе и повеселиться, а прихожане могли к нему запросто подойти, — он был свой в среде своих.
Есть у нас такое домашнее предание. Дед мой Андрей Илларионович был человек физически очень сильный. Как–то раз приехал он в одну деревню служить молебен о дожде. Смотрит — на улице никого нет, все попрятались. Он спрашивает, в чем дело. «Бычок — говорят, — в возраст вошел и разбушевался. И никак поймать его не могут, и все боятся». Дедушка вышел на улицу, прошел немного и действительно столкнулся с бычком. Схватил за рога и стал осторожно клонить его голову к земле. Тот какое–то время склонялся, а потом вдруг оставил свои рожки в руках дедушки и от такого конфуза убежал в лес.
Священник и прихожане составляли одну семью, круг людей, спаянных одной общей жизненной функцией — работой. Но работа священника на земле кончалась порогом храма, и когда он переступал этот порог, то становился уже именно священником, иереем Божиим и отношение к нему было совсем другое: это уже был не односельчанин, а совершитель Бого–служения. В той деревне, где служил Андрей Илларионович, был староста, который, когда приходил к деду подписывать бумаги, садился у стола сбоку и говорил: «Андрей! Поставь чернильницу отсюда — сюда!» Выполняя функции сельского старосты, он чувствовал себя властью, но сидеть в дедовом кресле не мог. И о. Андрей брал чернильницу и ставил ее на угол. А в остальном дед и бабушка были в той среде своими. К бабушке все шли за советом. Приходил, к примеру, крестьянин и говорил: «Матушка, я, вот грамотку нашел», — обрывок газеты: «Почитай — может, что важное». Это был XIX век, крестьяне были неграмотны, но отношение к бумаге было трепетное, как к «государеву делу».
У нашей бабушки была работница Василиса, которая все время причитала — по разным поводам: «Ой, матушка, холод–то какой! Все руки отморозила! И хóчем жить!» Или: «Ой, война! И хóчем жить!» У нее была странная манера: когда она приходила за дровами, обязательно вытаскивала полено снизу. Соответственно, сверху полено тут же сваливалось и стукало ее по затылку. «Ой, матушка, убили! — причитала она, — Ой, убили! И хóчем жить!» «Василиса, — говорили ей, — ну что ж ты не возьмешь, — вот рядом–то лежат дрова?» Но она была неисправима. Так в нашей семье и осталась эта присказка: «И хóчем жить!»
Отец, Владимир Андреевич, служил в Ильинском храме г. Козлова. Храм был разностильный, из–за того, что неоднократно делались ремонты, росписи в нем сохранились только XIX века. При отце тоже делался ремонт, и в реставрации росписей принимал участие молодой художник Герасимов. Кто бы мог тогда подумать, что со временем он станет президентом Академии художеств! А он, будучи еще студентом, подрабатывал на реставрации церквей.
В нашем семейном предании есть такой эпизод. Приехал о. Владимир с матушкой Ольгой и первенцем, сыном Мишей, на место служения — первое и единственное. Пошел отметиться к благочинному, а матушка дома разбирает баулы, корзинки. Приходит какой–то золоторотец, люмпен. Начинает просить: «Матушка, вот я пообносился, нет ли чего старенького?» — «Да чего же? Мы только приехали!» Мама всегда говорила: если хочешь что–то отдать — отдавай лучшее, новое. Себе купишь, а бедному человеку и уважение надо оказать, и купить ему труднее. Достала новые отцовы брюки, отдала. Вскоре приходит о. Владимир, смеется: «Ну, мать, ты мне и рекламу создала! Иду по площади, а там ходит какой–то оборванец и кричит: «Кому штаны о. Владимира, нашего нового батюшки?» — Душа–то горит, выпить хочется…
В 1914 г. было прославление святителя Питирима Тамбовского. Царское правительство очень долго этому сопротивлялось, но когда началась первая мировая война, спохватились и канонизировали. Отец тогда устроил крестный ход из Козлова в Тамбов. Вся подготовка была на нем: он сам заранее проехал по всему маршруту, определил, где останавливаться на ночлег, даже проследил, чтобы везде заготовили кипяченую воду.
У отца был очень тяжелый приход — на плане города он выглядел как вытянутый треугольник, вершина которого упиралась в базарную площадь, один из углов доходил до вокзала, а другой — до ремонтных мастерских. В приход входили так называемые «ямы» — лачуги и землянки, где жили всякие люмпены типа бомжей.
Такой приход ему достался потому, что он состоял под надзором полиции. А получилось вот что. Отец с другом только кончили семинарию и были поставлены в низший чин церковной службы — певчими и псаломщиками. В один из табельных императорских дней — вроде «победы над свеями» — отец стоял в храме в сюртуке, потому что была не его седмичная чреда, а служил его друг. Тот вышел читать Апостол, но вдруг закашлялся, задохнулся и не смог начать чтение. В службе произошла заминка. Отец не растерялся, подошел, взял книгу и прочитал Апостол. А на другой день его вызвали в полицию. Оказывается, то, что он читал Апостол в сюртуке, а не в стихаре, было воспринято как неуважение к Императорскому Величеству. Так мой отец попал под надзор полиции еще в 1900 г., задолго до двадцатых и тридцатых. Вскоре его, правда, рукоположили, но приход дали самый трудный в городе.
Впрочем, прихожане были разные. В частности, его прихожанином был знаменитый Мичурин. Он жил в Козлове всю жизнь, отчего и город потом переименовали в его честь. Вопреки распространенному представлению, он был очень верующим и очень скромным человеком. После его смерти о нем сняли какой–то фильм, где он был выставлен как безбожник, и священник, о. Христофор, обличал его за это. Все это неправда. А вместо о. Христофора гораздо с большим основанием мог быть изображен мой отец. О. Христофор был очень хороший батюшка. В фильме же он выведен, очевидно, потому, что в то время проходил по какому–то делу.
По месту жительства Мичурин должен был бы относиться к другому приходу, но он работал часовщиком на вокзале, и поэтому оказался прихожанином отца. Они очень дружили. Отец брал у него саженцы и делился с ним наблюдениями. Никаким ботаником Мичурин не был — это был просто увлеченный, знающий и умелый садовод.
Был у отца еще один интересный прихожанин — немец–кондитер. Когда ему заказывали какой–то особый торт, он всегда говорил, что «здесь нужны девичьи пальчики». Сам он был небольшого роста, тоненький, и пальцы его были едва ли не тоньше женских.
Помимо служения в храме и работы на приходе отец преподавал закон Божий в гимназии. Мои старшие братья и сестры вспоминали бестолковых учеников, которые приходили к нему для дополнительных занятий. Один мальчик рассказывал историю Иакова: «Иаков пошел искать себе невесту. По пути лег спать, положил голову под камень и увидел сон». — «Милый мой! — сказал отец, — Подумай сам, что говоришь: если бы он положил голову под камень, то и не проснулся бы!»
В православных семьях было принято на ночь слушать какой–нибудь нравственный рассказ. Когда отец, утомленный долгой службой, работой на приходе, помощью бедным и прочими священническими делами, возвращался домой и в изнеможении ложился, на него сразу же наседала детвора и требовала рассказа, кого он встретил днем. Отец, преодолевая усталость, говорил: «Да нет, никого я не встретил! Так — зайчишка мимо бежал…» — А потом от зайца начинался рассказ, обязательно завершавшийся каким–нибудь нравственным выводом. Наши старшие вспоминали эти вечера с отцом как минуты райского блаженства. Потом дети уходили в детскую, а взрослые оставались подводить итоги трудно прожитого дня. В нашей семейной, домашней традиции прививался ежевечерний самоанализ: как прошел день.
Отец, как и дед, обладал незаурядной физической силой. После революции надо было куда–то ездить за продуктами на лошади, запряженной в телегу или, зимой, в сани. Однажды — дело было к весне — отец ехал на санях; когда подъехал к речке, лошадка заупрямилась и не хотела идти на слабый лед. Тогда Владимир Андреевич выпряг ее, положил на сани и в толчки перевез через речку.
После окончания семинарии отец с другом, о котором уже было сказано, жили вместе на квартире. Когда они заметили, что вес переваливает за восемьдесят килограммов — это в двадцать–то с небольшим лет! — решили, что нужно срочно худеть. Худели следующим способом: вместо ужина на двоих выпивали четверть молока и десяток сырых яиц — это считалось ни во что. Совсем другие какие–то были люди, не то, что современные!
В прежнее время у духовенства всегда был принят чай с молоком. Отец всегда пил его из огромной кружки. Считалось, что чай, особенно с молоком, вещь очень полезная и продлевает жизнь[2].
Родители вспоминали, как однажды в Тамбов приехал митрополит Антоний (Храповицкий). Встречать его отрядили отборных, дюжих семинаристов. Владыка посмотрел на них и сказал: «О благословенная земля Тамбовская! Великих малых рождаешь ты!»
Часто говорят о том, что в среде духовенства было очень распространено пьянство[3]. Это действительно так, но наш отец, когда еще был семинаристом, дал своим товарищам клятву: дома не иметь спиртного. И родители выдержали ее, пронеся это правило через всю жизнь. У нас дома слово «водка» считалось неприличным.
О. Владимир был в своей семье старшим из детей. У него были еще три сестры и два брата, об одном из которых уже упоминалось. Одна из сестер была замужем за священником. Муж ее, Митрофан Федорович Умнов, после революции был арестован, какое–то время работал бухгалтером, потом, в 40–е годы стал работать в епархии и снова служил. Его дочь, Елена, впоследствии была личным секретарем архиерея. Это была женщина отважная. По характеру ее напоминали две мои родственницы со стороны матери: София, одна из моих теток, и Ольга, ее племянница. Обе прошли всю войну — с 1941–1945, одна медсестрой на передовой, другая — полевым хирургом. Об Ольге бабушка как–то сказала: «Ну разве это девка? Это же какой–то Колчак!» Так «Колчаком» ее в семье и звали, — при этом она всегда была очень церковным человеком.
Муж другой моей тетки, о. Михаил Кронидович Сперанский, отбыв заключение, вначале не мог найти себе лучшей работы, кроме как в какой–то мастерской. Потом, когда в Тамбов был назначен архиепископ Лука (Войно–Ясенецкий), в городе не было ни одного служащего священника. Тогда о. Михаила отыскали и он стал служить. Позднее, в 50–60–е гг., он был ректором Ленинградской Духовной Академии и пользовался особенной любовью студентов не столько за свои лекции (хотя читал он хорошо), сколько за то, что пел романсы. Кстати сказать, хотя жизнь священника до революции была строго регламентирована уставом, гитара была почти в каждом священническом доме. С о. Михаилом у нас бывали разногласия по поводу учебных программ и преподавания. Он был убежденным сторонником серьезного преподавания латыни. «Как же так! — возмущался он, — они же esse[4] проспрягать не могут!». Он, как и все выпускники дореволюционной духовной школы, прекрасно знал древние языки. Мой отец тоже в свое время писал стихи по–гречески, хотя кончил только семинарию, правда «студентом первого ранга». О. Михаил Сперанский умер уже в 80–е годы.
Преподавание греческого в Тамбовской семинарии в целом было на высоте. Правда, одно время, по словам отца, преподавал его турок по имени «Хабиб Хананеич». Греческий он знал, может быть, и неплохо, но вот с русским у него были проблемы: слово «корова» переводил как «бúкова жена».
В семье моей двоюродной бабушки, Александры Ивановны, было человек 16 детей — и почти все девчонки! Но Александра Ивановна относились к этому философски, говоря: «Господь милостив, они вперемëржечку шли». Система воспитания у нее была интересная: обычно в многодетных семьях старшие все делают для младших и страшно от них устают. А она с самого раннего возраста внушала младшим: «Ты младшая, она — старшая, она тебе как мать. Ты должна заботиться о ней и во всем помогать». Помню, когда я впервые увидел ее, она болела и лежала в постели вся укрытая, так что видно было только одно лицо на подушках. Она сказала мне какие–то ласковые слова, но голос у нее был очень низкий, так что я даже испугался. Александра Ивановна была сестрой моей родной бабушки со стороны матери, Анны Ивановны, у которой мы жили в Тамбове во время эвакуации.
Кстати сказать, в Тамбове церкви не было и, живя в эвакуации мы никуда не ходили. Митрофан Федорович служил потихоньку дома. Помню, что освятить воду на крещение возможности не было, и мы просто наливали ее из–под крана и она потом, как и освященная, стояла в бутылках годами, не портясь, а только постепенно высыхая, оставляя на стенках бутылки известковые кольца.
В палисаднике у бабушки рос декоративный кустарник, который к осени покрывается белыми ягодами. С тех пор это мое любимое растение — только ни от кого не мог добиться, как называется.[5]
Тогда, в войну, в Тамбове собралось много наших родственников: кто–то там жил, а кто–то, как и мы, приехал туда в эвакуацию. Эвакуированные жили на квартирах, все старались держаться поближе друг к другу. Наш дядя, брат матери, Владимир Васильевич, как–то шутя сказал: «Отчего бы Сталину не построить дом и не собрать нас всех в него?». — «Кажется, он именно это и делает, — ответил ему кто–то, — только дом что–то не слишком хорош». Понятно, что имелось в виду.
Я вырос в Москве и Подмосковье, люблю лес, наши тихие лесные речки. Будучи московским мальчиком, в городе я ориентировался прекрасно: мог вскочить на ходу в трамвай или соскочить с него, мог, опаздывая на уроки, перебежать улицу под носом автомобиля, но, видя ломового извозчика, останавливался за два квартала и пережидал, пока лошадь, цокая тяжелыми копытами, пройдет мимо. Но когда я попал в тамбовские пространства, просторы, степи, я поразился самому себе, потому что во мне проснулся степняк, и я понял, что я все–таки принадлежу к той старой породе русских людей, для которых ветер в гриве ближе, чем земля под ногами. Откуда это? В каком поколении? Конечно, мои братья очень любили лошадей и сами прекрасно ездили верхом, и вообще семья священника исторически всегда была связана с сельским хозяйством, но все же у меня не было никаких объективных данных для того, чтобы испытать это совершенно непонятное чувство.
В нашей семье было одиннадцать детей, среди которых я был младшим. С датой моего рождения получилась путаница. Родился я уже при Советской власти, по новому летоисчислению — 8 января 1926 года. А если считать по церковному календарю — то 26 декабря 1925. Выходит, я на год старше, чем я есть. На свет я появился без нескольких минут 12 ночи, а в церкви записали, конечно, только утром. Ну и, видимо, не вдавались в подробности, сказали: «У о. Владимира сын родился», — вот и записали на 9–е число. А потом, когда мне нужно было получать паспорт, в войну, пришла повестка из загса, и там почему–то значилось 13–е число. Так я до сих пор каждый раз и думаю, в каких документах мне что писать, и родился ли я вообще. А все же — просто взял и родился — по воле моих родителей. И прямо сразу — в Церкви. Назвали меня в честь равноапостольного Константина, но потом выяснилось, что 8–го января празднуется еще и память Константина Синадского, малоизвестного святого.
Кем быть в Церкви — передо мной и вопроса не стояло: отец мой был священник, дед и прадед — тоже. По материнской линии тоже была старинная священническая семья. Да и самые первые детские впечатления были тоже от церкви, от службы. Правда, еще и от обысков, от визитов налоговых инспекторов, от ареста отца. Я помню его до четырехлетнего своего возраста достаточно ясно. Его арестовывали несколько раз — первый раз в 20–е годы, во время обновленческого раскола, потом — уже на моей памяти — в 1930–м году. Я запомнил, что пришли за ним ночью, и что небо было звездное. Тогда, в четыре с половиной года, я твердо решил, что буду монахом. Это решение было моим ответом на случившееся. Я понял тогда, что тоже буду священником, как папа, но мне не хотелось кого–то за собой тащить и заставлять переживать те трудности, которые выпали на долю нашей семьи.
Воспитывался я все же в основном под женским влиянием — матери и старших сестер. Мама, Ольга Васильевна, после ареста отца ежедневно вычитывала его иерейское правило, три канона, т. к. в тюрьме у него не было канонника; впоследствии она каждый день прочитывала всю псалтирь. Еще в нашей семье был обычай: во время невзгод читать псалом 34–й: «Суди, Господи, обидящия мя, побори борющия мя…» Пока мама была жива, дома молиться было легко, после ее смерти стало труднее.
После ареста отца жить в Козлове стало невозможно — из нашего дома нас выселили, и никто даже не хотел пускать на квартиру. В конце концов мы сняли комнатку у двух старушек–сестер. Избушка их была крохотная, низенькая и глубоко вросшая в землю. И комнатка, в которой ютились мы, была совсем маленькая. Когда однажды к нам приехал муж старшей сестры Веры, Сергей Александрович, его пришлось уложить спать по диагонали, так что ноги оказались уже в другой комнате.
На второй квартире у нас было две комнатки. Мне было шесть лет, к тому времени я уже научился бегло читать, и у меня появилось хорошее «книжное убежище»: в комнате стоял большой стол с перекладиной внизу, стягивавшей его ножки. Я входил под него, почти не нагибаясь, и устраивался на этой перекладине. Стол был покрыт скатертью, которую я мог опустить со стороны двери, чтобы меня не было видно, и поднять со стороны окна, чтобы было светло. Там я мог читать, сколько душе угодно. Иногда меня ловили на том, что я читаю что–то, что, по мнению старших, мне читать еще рано. Я тогда отвечал, что то, что мне рано, я пропускаю.
Помню, попались мне в руки записки Владимира Ивановича Даля. Это была красная книга с золотым тиснением из серии «Золотая библиотека». Из всего, что там было, я запомнил воспоминания о его учителе–немце, который считал русские учебники плохими и сам для своих воспитанников сочинял нравоучительные истории. Две из них я запомнил почти дословно: «Молодой козел вышел прогуляться. Он идет и видит полицейский. Полицейский спрашивает: «Молодой козел! Вы есть пьян?» — «Нет, я не есть пьян, я только прогуляться». Так один превзошел другой великодушием». Или еще одна: «Маленький собачка с страшный злость грыз кость. Большой собак увидел маленькая собачка и спросил: «Маленький собачка! Почему ты грызешь кость с такой злость?» Маленький собачка отвечал: «Мне ее давал мой хозяин»». Книга показалась мне скучной, и я не стал ее читать дальше. Она еще долго хранилась у нас, но потом исчезла. Сейчас бы я с удовольствием перечитал ее.
Старшие — Михаил, вера, иван, Анна и Николай — к этому времени уже жили в Москве. Они уехали туда учиться. Время было очень тяжелое, но все выучились. Братья стали потом крупными инженерами. Кончив ученье, они остались в Москве. У них была своя студенческая компания, и жили они на Маросейке.
мы решили переезжать к ним, и переехали, кажется, в 1932 г. Прожив некоторое время в Москве, снова вернулись в Козлов (уже в Мичуринск), где пробыли около полугода (о. Владимира тогда ненадолго выпустили). Тогда, в Козлове, отец как–то вместе со мной навестил епископа Вассиана (Пятницкого). Мы зашли к нему в алтарь, а я в алтаре никогда раньше не бывал: отец не допускал туда детей, — чтобы не охладевали — поэтому я, направляясь к владыке, прошел прямо перед престолом. Отец смутился, а тот сказал: «Ничего, значит — будет священником!»[6]
Кстати, присутствие маленьких детей в алтаре действительно далеко не всегда им на пользу. Как, к примеру, объяснить малышу, что такое восьмая песнь канона? Вот и говорят: «Когда про печь запоют («Отроцы благочестивии в пещи…», значит) — неси кадило!» С этим знанием они и остаются, так и не пытаясь понять смысл того, что совершается.
Наша семья была очень религиозная. в церковь я ходил постоянно и даже пел на клиросе — не знаю, что уж я мог там петь; помогал маме печь просфоры. Я помню, что в детстве меня всегда водили в церковь за руку — но не носили на руках (вообще вне дома я себя на руках не помню, да и дома носили только из ванны в постель). Церковь с детства была для меня родным домом и я не помню, чтобы у меня когда–то было от нее чувство усталости или скуки. При этом играть в церковь мне дома не позволяли — как бывало в некоторых семьях, где мастерили из бумаги фелони или саккосы и приделывали бубенцы, чтобы звенело. Когда я раз попробовал устроить колокольный звон, приладив к столбу какие–то жестянки, мне сказали что так делать нельзя, потому что это бывает только в церкви.
Потом мы снова приехали в Москву и снимали дом у станции Абрамцево, в маленькой деревне на границе «поселка художников». Там с горки открывался широкий вид и когда где–то вдали шел дождь, были видны тающие космы туч, истекающие водой. Меня всегда поражало это зрелище. А как–то вечером я с биноклем ушел смотреть на луну. До того досмотрелся, что совсем стемнело и домой идти было страшно.
Бывало, когда старшие должны были вернуться с работы, младшие высматривали в бинокль, не идут ли — чтобы бежать помогать нести сумки. Возили все — и соль, и спички, и керосин, и морковку — зимой. Летом, конечно, был свой огород. Потом одну зиму (кажется, 1934–1935 гг.) снимали дом в Загорске, на Козьей горке. В Загорске была тогда одна действующая церковь — Ильинская. Сохранялась еще Петропавловская, но она была закрыта. В ней я был году в 32–м. Помню, на стене висела икона князя Владимира, — она и до сих пор сохранилась в этом храме. Была еще деревянная Казанская церковь — ее сожгли в 1957 г., перед фестивалем молодежи и студентов. А вот в Лавру меня никогда не водили — считали, что вид запустения на святом месте может травмировать детскую душу. Так что в Лавре я впервые побывал уже после ее открытия в 1947 г.
В 1935 г., отец уже должен был вернуться и мы искали возможность поселиться рядом с Москвой — в самом городе ему жить было нельзя. После его возвращения мы переехали в село Троице–Голенищево. Там мы снимали полдома у самой церкви за алтарем. Сама церковь к тому времени была уже закрыта. рядом с нею было четыре дома (место называлось «Попов переулок»), в одном из них жила семья к тому времени уже покойного настоятеля: жена, сын, дочь, и с ними — бывшая няня дочери. По имени ее никто не называл — просто «няня». Она целыми днями пасла корову, гоняла ее по кустам и оврагам, и с утра до вечера пела Херувимскую. К корове она относилась очень нежно, звала ее не то «Дочкой», не то «Зайчиком». Чудесная была старушка. Местность выглядела совсем не так как сейчас: университета и парковой зоны не было, стояли деревеньки, окруженные фруктовыми садами.
О. Владимир, в силу своего положения, не мог служить самостоятельно и обычно сослужил либо митрополиту Сергию в Дорогомиловском соборе, либо о. Михаилу Морозову — настоятелю церкви Троицы на Воробьевых горах. Иногда на большие праздники мы ходили в Елоховский собор. Отец никогда не рассказывал о своем заключении, которое он отбывал в «Дальлаге» под Владивостоком. насколько оно было тяжело, можно судить хотя бы по тому, что старший брат, поехавший навестить его во время заключения, увидев его, не узнал. Вообще за всю свою жизнь я не слышал ни от одного священника, ни от одной монахини, которые провели в концлагерях, в тюрьмах по двадцать пять и более лет, чтобы кто–нибудь из них сказал хоть одно раздраженное слово о том, что они там вынесли. таково было церковное понимание тех мучений, которые вынесла Церковь.
2. Впечатления детства
Рассказы Владыки о своем детстве полны трогательных подробностей и дышат любовью ко всем, кто его окружал.
В детстве я страшно боялся темноты, особенно с тех пор, как стал читать и начитался всяких сказок. Когда мне было лет семь, я решил с этим бороться и себя закалять. И вот, приняв такое решение — а было это летом, когда мы жили на даче, — поздно вечером я один пошел гулять. Иду храбро и думаю: «Я не боюсь!». Самому жутко — «нет, не боюсь», иду дальше, — ну совсем весь дрожу, а все равно «не боюсь». Вдруг за деревьями вспыхнуло что–то багровистое. У меня в сознании сразу всплыли какие–то строчки: «Пролетела со ступою Баба Яга, в тишине заплескались русалки…». И тут же я услышал как будто противный старческий не то кашель, не то смех. От ужаса я остолбенел так, что дыхание остановилось и я какое–то время не мог продохнуть. А затем через какое–то мгновение услышал вблизи нежное «ку–ку». Это вернуло меня к реальности, я выдохнул и стрельнул оттуда бежать, что было сил.
Потом, много лет спустя, я спрашивал у разных людей, знакомых с биологией, что бы это могло быть. И наконец мне объяснили, что кукует не кукушка, а ее самец, так сказать, «кукуй». А кукушка призывает его как раз таким противным хихиканьем. Вот что это, оказывается, было.
Первыми книгами для детей должны быть книги о природе. Наше поколение в самом раннем возрасте воспитывалось в основном на русских сказках, где героем был зайчик. И вообще преобладала русская литература. Но были и иностранные. Помню, распространены были «Сказки дядюшки Римуса»; показывались диснеевские фильмы — «Бемби», «Белоснежка». Потом, конечно, Том Сойер и т. д.
Когда я прочитал в Библии рассказ о Елисее и медведице, то был потрясен. А старшие объяснили: «Не делай другому того, чего не пожелал бы себе. Будешь так делать — станешь бандитом. А уж если так, то лучше бы тебя медведица разорвала». Я и сейчас считаю, что Елисей был прав, потому что «вырастет из сына свин, если сын — свиненок».
В детстве у меня был чудесный плюшевый мишка, который замечательно рычал, когда я его укладывал спать. Им потом играли три поколения нашей семьи…
Как–то раз мы с сестрой Надеждой оставались дома одни, кажется, ждали маму. Мыли посуду, и Надежда требовала от меня, чтобы на стаканах не оставалось ни ворсинки от полотенца. Я старался изо всех сил, и каково же было мое разочарование, когда вечером никто не заметил, как хорошо вымыты стаканы! Уж семьдесят лет прошло с тех пор, а я все это помню…
В детстве, когда я говорил, что чего–то не могу, мне всегда говорили: для мальчика нет слова «не могу», есть только «не хочу». Если мальчик чего–то хочет — он своего добьется.
Когда мне рассказывали о рае, я всегда думал: неужели там не будет Кремля? И пускать–то тогда туда никого не пускали, а вот мне почему–то без него рай раем не представлялся.
Была у нас знакомая — Евдокия Федоровна. Пожилая женщина, медсестра со стажем. Она еще работала и очень уставала. Жаловалась: «Вечером приду домой — поперек кровати и ноги кверху». Я понял это буквально, попробовал сам так лечь и потом все думал: зачем же она так неудобно ложиться?
Когда я прочитал о том, что князь Святослав, сын княгини Ольги, спал, положив голову на седло, меня это вдохновило, и я тоже так попробовал, но это было очень неудобно.
В детстве, лет до пятнадцати, я неплохо сочинял разные истории. Моим коронным номером был рассказ о гномиках. Что–то такое я о них выдумывал: гномик в красном колпачке, гномик в синем колпачке. А потом я сразу стал взрослым и некоммуникабельным. И сейчас уже ничего сочинить не могу.
В Москве всегда росли тополя и всегда тополиный пух был настоящим бедствием. Но мне в детстве нравилось играть с ним — правда, это было еще когда мы жили за городом. Пора тополиного пуха совпадала со временем бурного роста лопухов, я брал лист лопуха, складывал, сшивал травинкой и набивал тополиным пухом. Получалась довольно толстая подушка — сантиметров десять, прохладная и очень приятно пахнущая травой.
Троице–Голенищево уже считалось территорией сельсовета, а школа там же, на Потылихе, была московская — это было важно, потому что из сельской школы в московскую принимали тогда с потерей года. туда меня и отдали в третий класс. Со школой у меня, кстати, тоже сложилось не совсем обычно. Мы, тамбовцы, отличаемся некоторой особой самостоятельностью. Поэтому в первый класс я вообще не пошел, — дома считали, что мне нечего там делать. Во второй класс в первый день меня привели в школу. Я отсидел уроки, а на второй день сказал, что пойду один. Пошел, пришел в класс, смотрю — на моем месте сидит мальчик. Я говорю: «Уходи. Это мое место!». Он не уходит: «Нет, мое! Я вчера здесь сидел». — «И я вчера здесь сидел!». Учительница вступила в разъяснение — выяснилось, что я просто пришел не в ту школу. А на третий день я просто больше туда не пошел, потому что если школа не на месте, то нечего мне туда ходить. Таким образом, в школу я пошел только в третий класс.
В тот же год, когда я начал учиться на Потылихе, пришла к нам в класс девочка из сельской школы — значит, она была на год старше нас. Звали ее Анна Быкова. Рослая была, плечистая. Подбородок квадратный, как у Маяковского. Ее так и прозвали — «Маяковский». Когда сидела за партой, сзади свисали две косички, а впереди на парте лежали два кулака. Мальчишки попробовали к ней задираться, но она им быстро ответила. Тогда, в детстве, наши пути быстро разошлись, но много лет спустя, в 1964 г. я впервые приехал в село Спас. Там служил тогда священник — хороший, но очень пьющий, и жила монахиня, мать Сергия. Мне и ночевать было негде. Я им тогда сказал: «Постройте мне какой–нибудь шалаш во дворе». Они построили, в нем я и переночевал. А наутро разговариваем, я матушку спрашиваю: «В миру–то тебя как звали?» — «Анна Быкова». — «Была, — говорю, — в моей жизни одна Анна Быкова — в школе на Потылихе». оказалось, она и есть. Выяснилось, что мы с ней могли встретиться еще в 40–е гг. Она тогда ходила в Новодевичий, где доживали век монашки, и ей очень нравилось пение студентов. Но встретились мы только в Спасе. А сейчас я на нее смотрю: маленькая старушка и подбородок остренький.
Еще одно яркое воспоминание о Потылихе — рыжий кот, который драл собак. Он, как леопард, прятался на дереве над помойкой, куда собаки приходили кормиться, и прыгал на них сверху, вцепляясь в загривок и царапая им морду.
В Троице–Голенищеве мы пробыли три зимы и два лета. Жили хорошо, дружно, вся семья вместе. Зимой только было очень холодно, по дому все ходили в валенках.
В марте 1937 года у о. Владимира случился инсульт. Летом ему стало лучше — казалось, пойдет на поправку, но 17 декабря, в день памяти великомученицы Варвары, он умер. Помню, что когда его хоронили, был лютый мороз. Отпевали его в Богоявленском соборе — о. Михаил Морозов тогда очень обиделся, что не у него. А почему мы именно так сделали, я уже не помню. Горе, конечно, было большое, но со временем мы поняли, что это была милость Божия: останься он в живых, его бы опять арестовали, а те, кого забирали в 37–м году, назад уже не возвращались — «10 лет без права переписки» — и все. случилось так, что в это время все братья потеряли работу — кто сам ушел, кого уволили, — так что период был тяжелый, и хотя в Троице–Голенищеве жить было неплохо, мы вынуждены были оттуда уехать. переехали мы в Москву на Чистые пруды. Тогда мне пришлось опять сменить школу. Сначала я пошел в 29–ю, которая находилась в здании Исторической библиотеки в Старосадском переулке — это было совсем недалеко от места, где мы тогда жили, а затем, на второе полугодие 1938 г. поступил в только что открывшуюся 617–ю, в Спасо–Глинищевском переулке (неподалеку от синагоги). В 1941 г. ее закрыли под госпиталь. Директором в ней был замечательный человек — Афанасий Трофимович мостовой. Это была школа–новостройка, поэтому ученики в нее собрались самые отпетые. Помню, бывало, сидим мы на уроках, вдруг за дверью раздается щелчок каблука и слышно, как Афанасий Трофимович кого–то распекает. Но мы все равно его любили.
Помню, как я в первый раз получил тройку по истории. Мне тогда казалось, что жизнь кончилась и дальше уже ничего не будет. Были у меня, конечно, нелюбимые предметы, но история и литература всегда меня интересовали. И вдруг — тройка. А потом всякое бывало. Получал и двойки, — и ничего, — привык. Наш учитель истории, Вячеслав Михайлович Шарманкевич, был человек старой закалки, учился еще в дореволюционных университетах. Он очень тонко чувствовал и, ведя урок, сам увлекался рассказом до самозабвения. Рассказывает, бывало, сядет на парту, обопрется на указку. А потом — «Так что же сделал Иван IV, ответьте вы, прелестная Смолькова,» — обращается он к девчонке на последней парте. А та только невнятно мычит в ответ, ничего толком сказать не может. Он машет рукой и говорит с нескрываемой досадой: «Эх, пропал заряд даром!» Потом он умер и его хоронили. От учащихся речь поручили говорить, кажется, той же Смольковой. Она затараторила: «Умер Вячеслав Михайлович Мо… Шарманкевич…» Имя Молотова у всех было на слуху.
Напротив нашей школы находилась синагога. Как–то из любопытства мы решили зайти в нее. При входе я, как православный мальчик, снял шапку: все–таки храм, — и меня не пустили. А приятели мои таких тонкостей не знали — и прошли.
Вспоминаю нашего военрука. Он был воспитанник старой дореволюционной военной школы и говорил, что русская армия была сильна в штыковом бою, потому что он сродни привычному умению орудовать вилами и прочими орудиями. Он терпеть не мог автоматического оружия и считал, что нет ничего лучше трехлинейной винтовки Мосина.[7]
Время, конечно, было непростое. Имя Достоевского в школе вообще не упоминалось. За переписанные в тетрадку стихи Есенина девочек, моих подруг, вызывали к директору, потому что Есенин был «певец кулачества». До 1935 г. и елку под Рождество нельзя было в дом внести — старшие братья под пальто приносили мне, маленькому мальчику, еловую веточку. Тем не менее мое поколение пережило очень интересные метаморфозы. В 1937 г. вдруг решили праздновать юбилей Пушкина, и это было для всех сенсацией: то считали, что он дворянский прихвостень, певец отжившего класса и вообще нехороший человек, а тут вдруг даже школьные тетрадки выпустили с иллюстрацией к «Песни о вещем Олеге» на лицевой стороне обложки.
В школе ко мне относились хорошо. Что я верующий — понимали, но делали вид, что не знают. Вообще эта тема публично не обсуждалась. Дети из верующих семей догадывались друг о друге, но никогда об этом не говорили. Ни в пионеры, ни в комсомол я не вступал. Насчет пионеров пробовали уговорить, стали допытываться, почему не вступаю. А я ответил: «Что пристали? Не хочу — и все. Понимаете: не хо–чу!» Больше не приставали.[8] Однако в стороне от классных дел я не оставался, редактировал школьную газету. Газета наша называлась «Комар» и была довольно острой. В седьмом классе я выпустил свою собственную стенгазету — и какой же был скандал! К счастью, Афанасий Трофимович, как умный человек, не дал хода этому делу. Всегда его поминаю.
Вообще советская действительность была во многих отношениях парадоксальна. Во–первых, многое из того, что явно запрещалось, на самом деле делать было можно. При этом, несмотря на все тяжкие испытания, которые несло в себе то время, сохранялись и даже культивировались какие–то глубинные основы нашего национального духа: общинность, отзывчивость, бескорыстие. В последнее время удару подверглись именно эти стороны и стали насаждаться противоположные качества: индивидуализм, эгоизм, расчетливость…
Доучиться вместе нашему классу не пришлось. Война повела нас разными путями, но мы, «мостовики», и до сих пор встречаемся каждый год в первую субботу февраля. Пока Афанасий Трофимович был жив, собирались у него в 330–й школе, а теперь нас все меньше и меньше, и мы встречаемся обычно у кого–нибудь дома.
Перед войной у нас появилось тимуровское движение — оно не было пионерским, хотя строилось на базе пионерской организации. В Абрамцеве, где мы снимали дачу, был колодец глубиной метров сорок — мы, мальчишки, таскали оттуда воду для старушек. Защищали девчонок, если кто–то их обижал. Самое страшное наказание называлось «сухарики». Провинившегося мальчишку приглашали на расследование — куда–нибудь в кусты на окраине деревни. Выносили ему приговор, а потом снимали с него штаны, мочили в воде и завязывали их узлом у него на шее — и он вынужден был сидеть в кустах до вечера, потому что не мог ни выйти, ни развязать узел, пока не высохнет. Такова была наша рыцарская, благородная деятельность.
В детстве старшие трунили надо мной, что у меня «писчебумажная» душа. Я очень любил бумагу, карандаши, все что–то рисовал, писал, — в тридцатые годы с этим было трудно, приходилось искать, где есть клочок свободной бумаги в старой тетрадке, — может быть, именно это детство задержалось во мне и доныне, потому что я люблю магазины канцтоваров, где сейчас большое разнообразие.
3. Братья и сестры
Братьев и сестер Владыка не просто любил — они были для него образцом для подражания…
Сохранилась фотография 1928 г., на которой изображена вся наша семья: отец, мать, братья и сестры: Михаил, Вера и ее муж, иван с женой, Анна, Николай, Александра, Мария, Ольга, Надежда и я. Брата Виктора тогда уже не было в живых. Он был предпоследним и умер трехлетним ребенком. Все были красивые, Ольга же была просто необыкновенной красоты. Братья были инженерами, и видными, с именем — притом, что они, как дети священника, были «лишенцами», и до 1935 года не имели даже паспортов, а в 20–е гг. не могли учиться в государственных вузах — только в частных. Меня это не коснулось — проскочил по малолетству. Брат Иван был человек принципиальный и тогда все заявлял, что хочет служить в армии — из принципа. Талантливые были люди. В том, что они стали инженерами, было желание отца. Он не хотел, чтобы они шли в семинарию, хотя, казалось бы, три сына учились до революции — мог бы хоть один стать священником. Но отец сам направлял детей учиться не в епархиальное училище, а в реальное или в гимназию.
Мама, Ольга Васильевна, в 1946 г. получила из рук Калинина золотую звезду «Мать–героиня». Воспитательницей она была великой. У нас в семье вообще очень бережно относились и к детству, и к материнству. С детьми никогда не говорили на «детском» языке, никогда не сюсюкали. Помню, мама говорила: «Если ребенок два раза стукнулся об один угол, то это уже безнадежно».
Брат Михаил был старше меня на 25 лет. Он закончил институт землеустройства и в 20–е годы работал в экспедициях в Средней Азии. Оттуда он нам прислал свою фотографию — с теодолитом. Обстановка там была неспокойная, но его никто никогда не трогал. А секрет был прост. Прибыв на место назначения, он отправился не в ревком и не в райком, а попросил созвать стариков и пришел к ним засвидетельствовать свое почтение. Самому старшему он подарил фотографию своего отца–священника — почтенного, с бородой (что было очень близко местным старикам), и свою студенческую фуражку. Эффект от этого деяния был потрясающий. На одно имя «инженер Нечаев» открывались все двери, и все стремились его одарить. Больше всего докучало то, что ему наперебой предлагали целые кибитки жен. Естественно, он, как сын священника и человек православный, воспользоваться этим щедрым даром не мог.
Из детства братьев вспоминали следующее. У Михаила был мягкий характер. Отдали его в гимназию — стал учиться, все в порядке. У следующего брата, Ивана, характер был гораздо более боевой. Когда он пошел учиться, не проучившись и двух недель, пришел домой со сломанным козырьком фуражки. Оказывается, у гимназистов это было своего рода шиком и показателем мужественности.
Николай Владимирович был инженер–строитель, участвовал в строительстве московских высоток. Они строили МИД, «Украину». Николай отвечал за участок отопления и вентиляции. Тогда в строительстве был отдан приказ: ни одной детали из–за рубежа, все только отечественное, и гарантия — минимум на триста лет. В московской строительной среде говорили: «Ну, Сталин заскучал по храмам, как старый семинарист. Поставил по всей Москве колокольни».
Все братья и сестры остались верующими, хотя это и было нелегко. Труднее всех приходилось Анне — она заведовала кафедрой в МАМИ.[9] На службу ей приходилось ездить в Ленинград — чтобы никто не видел. А ее коллеги из Ленинграда приезжали в Москву.
Александра Владимировна в 30–е гг. училась в Тимирязевке, а когда нельзя было жить в Москве, жила в Можайске рядом с Никольским собором, и каждый день ездила оттуда на занятия.
Ольга, по специальности — архитектор–реставратор, начинала свою работу в мастерской братьев Весниных, затем работала в Росреставрации. Она автор проекта восстановления памятника на Куликовом поле.
За чистоту своей русской крови я могу поручиться — но в нашей семье все были брюнеты. (я, правда, родился совсем белый). А глядя на Надежду Владимировну, люди обычно даже не верили, что она русская. «Но кто же вы? Не гречанка? Не грузинка? Не еврейка?» Она часто бывала со мной на службах и по Москве ходили сплетни: «У Питирима женщина! Еврейка! Он ей шляпу покупал!» — Случилось как–то раз, что мы вместе ходили покупать шляпу мне.
Надежда была старшим преподавателем в том же институте, что и Анна, а преподавала французский язык. обе они были в числе организаторов первого втуза на Зиле. Надежда рассказывала, как однажды там на занятии она объясняла правила перевода с французского на русский: «При переводе нужно руководствоваться правилами родного языка. Например, если по–французски «стол» женского рода, а по–русски — мужского, то переводить надо мужским родом, а на артикль обращать внимания не надо. Это понятно?» Тут поднялась мускулистая, натруженная рука: «Надежда Владимировна, скажите: но французы–то сами понимают, что «стол» мужского рода?». Еще один забавный случай. Надежда объясняет множественное число. Говорит: «Женщина по–французски — la femme. Как будет множественное число?» Тот, к кому относился вопрос, думает и отвечает: «Множественное число — babiоn».
Было время, когда мы с Надеждой оба преподавали и оба страшно уставали от этого преподавания. Возвращались домой часов в девять, садились на диван, прислонившись спиной к стенке, и часов до двенадцати ужинали. Заходила мама и спрашивала: «Что же вы спать не идете?» А мы отвечали, что сил нет. Любимым блюдом Надежды была картошка, а моим — гречневая каша. Эти два блюда всегда и готовились на ужин, а Надежда каждый раз спрашивала меня, что я буду есть. Вообще я ем быстро, а за стол садились вместе, и сестры всегда на меня ругались: «Ты хоть бы книжку читал, если медленнее не можешь».
Мы получали много разной периодики, и Надежда Владимировна регулярно всю ее просматривала, ножницами вырезала слово «Бог» везде, где оно встречалось, и потом эти вырезки сжигала, — как сжигают, например, обертки от просфор или скорлупу от освященных пасхальных яиц, чтобы избежать их осквернения. И так много лет. Это действие может показаться немного смешным, но для нее оно было глубокой душевной потребностью.
Будучи филологом, Надежда не любила технику и не умела с ней обращаться. Говорила, что из всех технических изобретений признает только телефон.
Сестер было шесть и все были весьма искусны в кулинарии (только Надежду, как и меня, до кухни не допускали). Мама, Ольга Васильевна, умела все, а у каждой из сестер был особенный талант. Специальностью Александры были пироги и пончики, Ольги — ржаной хлеб, печенье и «наполеоны», Анны — селедка. Готовила она ее прекрасно: солила, мариновала, — а сама есть не могла, как и я. Я с детства не могу есть рыбу.[10] Пытались меня когда–то поить рыбьим жиром (а в войну почему–то студентам он полагался) — я об этом и сейчас вспоминаю с содроганием.
Когда мы жили все вместе, брату Михаилу очень захотелось собаку. И завели добермана, замечательного пса; назвали его Айзан. Правда, когда я потом стал заниматься историей Церкви, то узнал, что Айзан это первый эфиопский святой, но тогда мы этого не знали. Пес был очень воспитанный и было только две вещи, в отношении которых он никак не мог с собой справиться: кошки и ноги сестры Марии Владимировны, которая впоследствии сорок лет пролежала с полиартритом, в страшных болях, — но тогда она еще ходила. Кошек он настигал и рвал на части, а за ногами Марии Владимировны по–настоящему охотился. Она была небольшого роста, пухленькая и ходила, очень быстро переставляя ноги. Айзан бросался и хватал ее за щиколотки, не кусая, но просто забирая себе в пасть — а пасть у него была огромная, как у крокодила. Братья даже били его за это, но отучить не могли. Однажды ждали гостей. Фирменным блюдом нашим были маленькие пирожки, жареные в масле, пончики. И вот Мария Владимировна отнесла в комнату большое блюдо с пирожками, потом пошла за следующей порцией, вернулась — и увидела, что Айзан стоит передними лапами на столе и смотрит на нее масляными глазами. «Айзан, что ты сделал?» И вдруг этот пес весь сгорбился, поджал свой короткий хвост и со стыдом поплелся на свое место. Съел он всего один или два пирожка, но до вечера не показывался никому на глаза — даже когда уже надо было идти с ним гулять. Вскоре после этого Мария Владимировна снова шла по коридору, и Айзан, как всегда, бросился на ее ноги. «Айзан, а кто съел пирожок?» — спросила она. И тут пес снова сгорбился и, опустив голову, отошел. Так она с ним дальше и разбиралась, правда продолжалось это недолго: братья скоро от нас уехали, жить с ними нам было уже невозможно, и пса пришлось отдать: удержать его на поводке было трудно — ростом он был с меня тогдашнего, хоть я и был довольно большой. А Мария Владимировна вскоре ходить перестала…
Брат Иван Владимирович по работе часто бывал в Сибири. В Москве он жил на Бронной, а работал на Курской. Домой ходил всегда пешком и часто заглядывал к нам на Чистые пруды. Зимой, придя, он сразу, в прихожей раздевался, и даже снимал пиджак, — эту манеру он усвоил в Сибири, там это называлось «стряхнуть с себя мороз».
Когда старшие сестры вышли замуж, а братья разъехались по разным местам работы, все они писали нам письма, начиная их словами: «Здравствуйте, дорогие мама и девочки». Меня при этом в расчет никогда не брали и за отдельного человека не считали. Дети моих старших братьев и сестер были почти моими ровесниками, «братиками» и «сестричками».
С замужеством сестры Ольги была особая история. С Николаем Стратоновичем Череватым они поженились в 1945 году. Венчались в храме Иоанна Воина, ночью. Жених к этому времени был уже генералом, но сказал, что не снимет своего мундира и пойдет под венец в том звании, в каком он есть. Генеральское звание Николай Стратонович получил в войну. Он занимался вопросами железнодорожной тяги и, когда наступали немцы, эвакуировал с Северного Кавказа подвижной состав — под обстрелами и бомбежками, чуть ли не сам сцеплял поезда. Ему удалось вывезти практически все, и за это он получил орден Ленина. Впоследствии он был ответственным работником Министерства путей сообщения.
Свадьба, и даже сам обряд венчания на меня почему–то всегда производили тяжелое впечатление. Я и на свадьбе–то был всего два раза в жизни: у ольги и у Алексея Буевского, однокурсника по семинарии.
Бывает, что сбываются приметы. Когда Александру Владимировну последний раз увезли в больницу, к нам в окно залетела птичка. И я подумал: все, бесполезно, она не вернется. Так и вышло. Еще, незадолго до ее смерти у нас в доме откуда–то появился сверчок и это тоже, как казалось, было не к добру. Кстати, где–то в конце восьмидесятых сверчок поселился и в Издательском отделе и подавал голос ровно в семь вечера. Впрочем, о сверчках говорят по–разному — к добру они или к худу.
4. Прежняя Москва
Будучи тамбовцем по корням, по воспитанию Владыка был москвич. Часто он вспоминал Москву довоенную…
Я очень хорошо помню довоенное время. Москва в те годы сохраняла еще многие старые традиции и обычаи. Уклад, который формировался веками на основе строгого соблюдения церковного устава, перешел в быт и трансформировался в радушие, приветливость, столь характерные для старых москвичей. И эта атмосфера приветливости еще сохранялась, несмотря на очень сложные, трудные времена, несмотря на голод тридцатого года и тяжелые тридцать седьмой и тридцать восьмой. Не было, к примеру, ничего удивительного, если в одиннадцать часов ночи раздавался звонок или стук в дверь — и приходили хорошие знакомые: «А мы шли мимо…» — или — «А мы сидели–сидели, и вдруг вспомнили, что давно у вас в гостях не были».[11] Газ тогда был не во всех домах, электричество тоже экономили — ставили на керосинку чайник, доставали из шкафа банку варенья, сушки или ванильные сухарики, и сидели, говорили до часу ночи, до последнего трамвая (тогда были и ночные трамваи). Утренний звонок — часа в четыре утра, — конечно, ничего хорошего не предвещал, а до полуночи ходить в гости было в порядке вещей.
Среди наших друзей была замечательная семья профессора института землеустройства Александра Филипповича Каракулина — старая профессорская, настоящая интеллигенция. Собирались у них ученые, профессура. Однажды испекла Софья Сергеевна торт бисквит и пропитала его чем–то вкусным. А одна гостья, профессорисса, спрашивает: «Чем это он у вас продиффузирован?»
По дворам в 30–е годы еще ходили шарманщики. Старшие рассказывали, что шарманка на меня произвела огромное впечатление, и когда я обижался, то говорил: «Вот, куплю шарманку и уйду далеко!»
Если вы подходили к прохожему с вопросом, как пройти, к примеру, в Кривоколенный переулок, вам начинали объяснять: «Пойдете прямо, потом свернете налево, а потом направо». «Что? — недоумевает спросивший. — Почему направо, надо налево!» Между ними возникал спор и в конце концов объяснявший говорил: «Пойдемте, я вас провожу». Свой район, конечно, знали прекрасно. Я вырос на Чистых прудах и знал там все проходные дворы и подворотни.
Помню Хитров рынок у Яузских ворот. На него можно было попасть, если идти вниз по Старосадскому и Спасоглинищевскому переулкам. В мое время это было, конечно, уже не горьковское «дно», и название было уже не Хитров, а «Колхозный», но понятие «Хитровка» оставалось. Торговали там морковкой, зеленью и прочими подобными вещами.
Были на моей памяти и очень хорошие дисциплинарные традиции. В 11 часов вечера, как правило, выходил к воротам дворник — в белом фартуке, с бляхой. Мы жили в шестиэтажном доме, построенном перед первой мировой войной. Под лестницей была отдельная комнатка, где жила дворницкая семья. Семьи эти менялись, но обычно они были из татар, большие, многодетные. В доме все жили душа в душу, друг другу помогали. Дворников мальчонка, Степка, выбегал рано утром и оглашал двор — глубокий колодец — своей песней. Раз Степка проснулся — ему можно дать записочку, он пойдет и принесет старушке, которой трудно спуститься вниз, булку, масла или что–нибудь еще.
До сих пор у меня стоит в ушах: между четырьмя и пятью утра зимой слышится скребок — это дворник вышел и скребет тротуар. Тротуары были чистые, хотя машинами снег не убирали — я еще помню ломовых извозчиков с большими мохнатыми лошадьми и полкú[12] на мягкой резине. Снег свозили на ручных саночках во двор, а там стояли снеготаялки в виде металлического домика. Были такие «жалюзи», туда бросали дрова, а сверху в ящик — снег. Снег таял и стекал в канализационный люк.
Дворник был представитель семейного, домашнего коллектива, но — облеченный властью. Были еще квартальные уполномоченные — на эту должность жители определенного квартала, блока, выбирали уважаемого человека. Одно из моих первых детских воспоминаний — еще в Козлове, когда мне было четыре года: наш квартальный, по фамилии Кочергин, которого все звали «Кочерга». К вечеру он обычно изрядно напивался и начинал ораторствовать. «Я — Кочерга, — говорил он, слегка запинаясь, — Я — Сократ и Демосфен». Ораторствовал он исключительно приличными словами, и все относились к нему с уважением, — все знали, что с утра он строг и справедлив и не допускает никакого безобразия.
Холодильников в квартирах не было и под Новый год за каждой форточкой висела авоська с разными вкусностями. Рассказывали даже такой анекдот: два приятеля решили снять с чужого окна авоську со снедью. Подходит к ним милиционер и спрашивает, что они делают. «А мы хотим приятелю на Новый год подарок сделать, вот только не знаем, вешать ли, боимся, что снимут» «Конечно, снимут!» — сказал милиционер и воры благополучно удалились.
Были еще в Москве сапожники, чинившие обувь, которых называли «холодными сапожниками». Они имели свое рабочее место, состоявшее из сундучка, в котором лежал инструмент: необходимые гвозди (причем деревянные), молоток, обрезки кожи. Это были люди с достоинством, обстоятельные. Помню, уже в войну, в 1944 г., мне нужно было подбить башмаки, я пошел на рынок, где сидел такой «холодный сапожник». Он говорит: «Слушайте, такие башмаки чинить — все равно, что в тесто гвозди заколачивать». Я говорю: «Ну сделайте как–нибудь». — «Как–нибудь?!! Я — сапожник, ты понимаешь?! Я «как–нибудь» не умею!». Я был воспитанный мальчик, студент, и потому не мог назвать его «сапожником». «Простите, — сказал я. — Может быть, здесь какой–нибудь ваш коллега есть, который согласится мне их починить?» «Я — калека?! — возмутился он, — Ты что думаешь? Ты не смотри, что у меня ноги нет! Я тебе не калека!..»
Вообще достоинство в нашем русском обществе всегда хранили свято — Боже упаси уронить его хотя бы в какой–то детали поведения: в манерах, в осанке — согнуть перед кем–то спину. Так, помню, в Патриаршем Елоховском соборе были два старичка, никогда не снимавшие своих георгиевских крестов. Георгий, как орден за личное мужество, был признан во время Великой Отечественной войны (по существу, наш орден Славы является его прямым наследником и даже в чем–то повторяет его в оформлении), и тогда многие стали доставать их из коробочек, но эти носили свои ордена и в тридцать пятом, и в тридцать седьмом, и в любом другом году. Один из старичков был совершенно согбенный, с палочкой, видимо, тяжело раненый, получивший какие–то костные повреждения. Другой — чрезвычайно бравый, с усами, ходил всегда в сапогах, защитного цвета шинели и — полный банк, четыре георгиевских креста. Представлялся он: «Лейб–гвардии уланского полка ее императорского величества императрицы Марии Федоровны…» — дальше следовало его звание и имя, которых я не помню, но он всем этим очень гордился и это достоинство пронес через все те страшные годы, и никто его не трогал — настолько он был утвержден в своем солдатском мужестве.[13]
Общественный порядок до войны в целом поддерживался. Нелитературных выражений я в детстве не слышал. За бранное слово полагалась санкция — «трояк». Когда меня первый раз вывезли на дачу, в деревню, я услыхал на улице какое–то незнакомое слово и, придя, спросил у старшей сестры, что оно значит. Сестра чуть посуду из рук не выронила. Это сейчас, я смотрю, маленькие ребятишки уже свободно владеют всем «богатством» русского языка…[14] Впрочем, все это — лишь анатомия и эмоции, на мой взгляд, гораздо хуже привычка к «черному слову». Мне в детстве говорили, что от такого слова сотрясается земля, и я всегда боялся, что рядом со мной появится трещина, в которую я провалюсь. Раньше люди вообще знали это правило: не вызывай.[15]
Было в те годы то, что называли «эффектом метро». Великолепно украшенные станции, построенные «для народа» поражали воображение и заставляли вести себя совсем по–другому, не так, как на улице. В метро, например, не пускали с мороженым. Помню, какая неприятность случилась с одним моим приятелем, который, собираясь встретиться с девушкой, купил две порции мороженого (это было уже в войну, в 1943 году, когда только что начали вновь продавать мороженое, пачка стоила 30 рублей). В метро его не пустили, выбросить мороженое было жалко — это были голодные годы, — а пока он через силу одолел две порции (к тому же, это был ноябрь), девушка, не дождавшись, ушла. На следующий день пришел он в институт — надутый, недовольный. Но ничего не поделаешь!
Нам и в голову не приходило, что можно оставить какую–то надпись в подъезде[16] или перейти улицу в неположенном месте, хотя, конечно, мы, мальчишки, озорничали. У меня, например, был такой прием, очень хороший: я подходил к постовому и спрашивал, как будто не знаю, как найти улицу, которая напротив. Добродушный служивый обычно говорил: «Да вон — иди прямо!» Блюстители порядка во многих случаях проявляли снисходительность.[17] Но бывало и по–другому. Однажды был сильный дождь. Я вышел из метро на площади Дзержинского и мне очень захотелось сократить путь. На посту стояла девушка. Я подошел и, по обыкновению, спросил: «Скажите, как мне пройти на улицу Кирова?» Я пошел было, но девушка меня окликнула: «Нет–нет, вернитесь и обойдите кругом!» Что ж — я не возражал: закон есть закон! В результате получил двойную порцию дождя.
Дом наш стоял на углу Харитоньевского и Машкова переулков, там, где сейчас находится театр Олега Табакова «Табакерка», в подъезде с «грустными» кариатидами. Тот дом, что сейчас стоит на углу — поздняя постройка. По соседству с нами жили солидные люди: ученые, профессора.[18] На четвертом этаже, над нами, жил участник челюскинской экспедиции Кренкель. Швейцаром в подъезде был очень живописного вида старик с гусарскими усами — бывший староста Харитоньевской церкви. Когда он умер, жена его стала монахиней. Их дочь была не замужем, манеры у нее были особенно утонченные: воспитание она получила не дома, а в какой–то благородной семье. Позднее тоже приняла постриг. У них была большая Казанская икона Божией Матери, которую они потом подарили мне.
Харитоньевский переулок известен всем из «Евгения Онегина» — и я еще застал одну старушку в «усадьбе Лариных». Усадьбу вскоре снесли и на ее месте построили новые дома. Там же стоит величественное здание, которое занимает Министерство военно–морского флота — а ведь это всего–навсего девичье епархиальное училище! На месте Харитоньевской церкви сейчас стоит школа. Харитон исповедник имел какую–то особую связь с Троице–Сергиевой Лаврой. когда строился Гефсиманский скит, его строитель не рассчитал, и у него внезапно кончился кирпич, когда рабочие были уже наняты. Деваться было некуда: денег, чтобы купить — нет, не купить тоже нельзя — иначе рабочим неустойку платить придется. И когда он оказался в таком безвыходном положении, ночью во сне ему явился Харитон исповедник и сказал: «Да ты посмотри, что у тебя за церковью делается!» Утром он пошел посмотреть, что же там, и нашел зарытый в землю кирпич — как раз сколько было нужно для строительства. У нас тоже был подобный случай. Когда стали восстанавливать академическую церковь, в ней не было иконостаса. Нужно было из чего–то делать, хоть из фанеры. Решили поискать, нет ли в музейных запасниках чего подходящего — и нашли в Донском монастыре. Оказалось — иконостас из церкви Харитона исповедника. И очень хорошо подошел, только пришлось его слегка сузить, потому что та церковь была шире.
Церковь Успения на Покровке была одной из красивейших в Москве. Она была построена в стиле московского барокко и производила, пожалуй, большее впечатление, чем известная церковь Покрова в Филях. Рассказывали, что Наполеон, войдя в Москву, был поражен ее красотой и хотел даже разобрать ее и перенести в Париж. Мои собственные воспоминания о ней, конечно, весьма смутные. Отчетливо помню только то, как иду по крутой лестнице.
От храма Христа Спасителя осталось в моей памяти впечатление громады, но меня к нему и близко не подпускали. Храм был занят обновленцами и мы туда не ходили. Старший брат зашел однажды посмотреть. Там проповедовал Введенский, но народу было мало — несколько человек по углам. Храм был темный, запущенный, опустевший.
Маросейка, ее окрестные переулки — Златоустьинский, Петроверигский, Старосадский и другие — это целая история. Храм святителя Николая в Кленниках, где служил великий старец, праведный Алексий Мечев… В Старосадском переулке — церковь святого Владимира в Старых Садех, напротив — Иоанновский монастырь. В годы моего детства в нем была школа НКВД — что–то наподобие современного спецназа. Весной открывали огромные сырые подвалы монастырских зданий — для просушки, и мы ребятишками по этим подвалам лазили, — у кого докуда смелости хватит. Очевидно, подвалы с внутренней территорией не сообщались, потому их и открывали, но самые отважные забирались по ним очень глубоко…
Таким я запомнил предвоенное время. Тогда в наших коммунальных квартирах, в условиях чрезвычайно трудных социальных, политических перемен, ломок, оставались непререкаемыми основные ценности: достоинство личности, которая в скудности созидает свой духовный мир, и законы общежития, которые позволяли людям с разными характерами, разными способностями, но одухотворенным одной идеей совместного родового, племенного, семейного, просто человеческого со–выживания, сохранить Русь, — так же как и в погромном тринадцатом веке, и в Смутное время, и в переломный, страшный век двадцатый.
В 1939 г. был заключен пакт о ненападении с Германией. И тогда же вышел на экраны фильм «Александр Невский», где главный герой бьет «псов–рыцарей» на льду Чудского озера. Можно два эти факта не сопоставлять, но можно и сопоставить. И, конечно, Александр Невский прощается с павшим бойцом уже не по–комсомольски, — заломив фуражку на затылок, — а по русскому обычаю — преклонив одно колено и сняв шлем. А в следующем фильме — «Александр Суворов» — главный герой уже, не стесняясь, говорит: «Помилуй, Бог». А в третьем — «Богдан Хмельницкий» — представлен хотя и шаржированный, но очень симпатичный поп Гаврила, у которого за поясом с одной стороны крест, а с другой — пистолет. Так — поэтапно возвращалось к нам то, что было запрещено. Сейчас русскую культуру не запрещают, но тщательно размывают.
5. Война
Великую Отечественную войну Владыка вспоминал как событие судьбоносное…
Очень хорошо помню тот воскресный день, когда я вышел со службы около двенадцати часов. Накануне мы с Толей Алешиным договорились, что поедем к нам на дачу, я позвонил ему из автомата, чтобы уточнить, где и когда встречаемся, а в ответ услышал: «Куда? Когда? Война началась!» — «Да что ты! — удивился я. — Не сходи с ума. Какая война?» Тем не менее это действительно была война. С ее началом в какие–нибудь полтора–два часа лицо Москвы изменилось. В лицах прохожих появилось какое–то новое, трагичное выражение, — но это был трагизм не страха, а удивления. Я тогда, еще только выйдя из церкви, заметил это, но ничего не понял.
Сразу появился замечательный гимн: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой» — мы до сих пор его поем. Как у Гоголя, последние строки повести «Тарас Бульба»: «Нет такой силы, которая одолела бы русскую силу». Или у Толстого, при всем моем критическом отношении к нему, верно сказано: «Побеждает дух армии». Именно такой настрой был тогда. И первым, кто призвал к этому, был митрополит Сергий, будущий Патриарх. Голос Русской Православной Церкви прозвучал совершенно легально через московское центральное радио.
После первых объявлений о переходе нацистами границы и бомбардировке Киева Москва посуровела, улицы опустели, люди стали серьезнее. По улицам мчались на мотоциклах фельдкурьеры с полевыми сумками. В первую ночь была, как оказалось, ложная воздушная тревога, но москвичи рассказывали, что они видели сбитые нацистские самолеты. Потом с неба посыпались настоящие бомбы. Но и в эти первые, самые тяжелые месяцы войны Москва оставалась мужественной, спокойной, не было никакой паники.
В русском народе особое отношение к солдату и каждый русский человек в душе солдат. Перед глазами стоит картина: девушки — хрупкие, худенькие — несут по улице огромный аэростат. Их непременно должно было быть двенадцать. Если же хотя бы одной не доставало, их веса уже не хватало, чтобы удержать на земле эту конструкцию. Подует ветер сильнее, а они так и не выпускают из рук канатов, и уже аэростат волочит их по земле, того и гляди унесет неведомо куда. Мне очень хотелось на фронт, но меня туда не взяли. Осенью мы, школьники, принимали участие в строительстве укреплений — у меня с тех пор обморожены руки и ноги и поврежден позвоночник.
Трудно было 17 октября — тогда, казалось, началась некоторая нервозность, волнение, но и оно стабилизировалось, а когда 6 декабря пошли сибирские полки, тихоокеанская пехота — тут уже на улицах был праздник. Значимы были даты: 6 декабря — день памяти Александра Невского. Волоколамск освободили 19 декабря — на Николая Чудотворца. Тогда люди пошли в церковь.
Народ наш был не только с партбилетом в кармане, но и с тайной молитвой, вложенной в партбилет — об этом я, по прошествии 50 лет могу свидетельствовать, поскольку совершал таинства над многими старичками–генералами. В кругу моих знакомых было много замечательных людей. Вспоминаю знаменитого героя, летчика Маресьева. Он мне рассказывал в частной беседе, чтó им двигало, когда он полз по лесу, раненый, — патриотичность? воинский долг? — Вера в то, что он увидит свою мать, которая без него просто не выживет: он ее кормилец, он ее сын.
Наша армия–победительница была православной армией. Последний год призыва был 1926, а до 1930 г. крещение в русских семьях считалось обязательным. Прошли годы коллективизации, годы великого строительства социалистической индустрии, годы ликвидации безграмотности — и в то же время — годы концлагерей, миллионов жертв. Но 1945 г. — это был действительно всенародный праздник, когда любого солдата в гимнастерке подкидывали вверх, осыпали цветами, зацеловывали «вусмерть», как говорится, напаивали до полного бесчувствия — это было торжество единства, торжество русского национального подъема. Великая Отечественная война была тем оселком, тем критерием, которым было проверено наше национальное самосознание.
После войны Москва паниковала перед «Черной кошкой». Помню, люди боялись сесть в четвертый троллейбус, на замороженном стекле которого изнутри была нацарапана четверка. Думали, что это буква «ч» и троллейбус — меченый. «Пропустил четыре троллейбуса на морозе — говорил кто–то стоящих на остановке, — все думал, что «Черная кошка» там орудует».
Помню послевоенную Москву. Рушились балконы, падали капители, нависали огромные сосульки — были даже жертвы, когда что–то падало. Но, тем не менее, было чисто. За брошенный окурок брали штраф — трешку. За нехорошие слова — пятнадцать суток с метелкой. Снижение уровня началось в начале 60–х гг.
[1] Несколькими годами позже Тамбовскую кафедру занимал известный епископ Феофан (Говоров), который тоже после нескольких лет управления епархией ушел в затвор, чтобы всю свою духовную энергию воплотить в книгу. Он жил в Вышенской пустыни, на границе Рязанской и Тамбовской областей, в отдельном домике, причем даже на улицу не выходил, — прогулки совершал на террасе, загороженной от посторонних глаз деревянной решеткой, и все свое время отдавал литературным трудам: переводил с греческого и латыни, множество произведений написал и сам.
[2] Я в свое время был знаком с известным танцовщиком Большого театра — Юрием Ждановым, партнером Лепешинской. Он говорил, что они, танцовщики, уезжая на спектакль, уже заготавливают наломанный зеленый чай, а когда возвращаются — заваривают и выпивают его не меньше литра — с молоком. Только после этого они в состоянии пойти в ванную, привести себя в порядок, а потом поесть. Он же говорил, что для того, чтобы держать себя в форме, нужно всю жизнь есть капусту.
[3] Шутили, например, что в Москве есть два парадоксальных явления: непьющий извозчик и непьющий дьякон. Извозчик — тот, который стоит на Большом театре, а дьякон — первопечатник Иван Федоров. (Имелся в виду, разумеется, памятник).
[4] быть (лат). — Концевая сноска 1 на с. 384.
[5] Снежноягодник. — Концевая сноска 2 на с. 384.
[6] Епископ Вассиан (Пятницкий) в миру, еще до революции, был адвокатом. Слышал я о нем такой рассказ: когда его постригли в монашество (в строгом лаврском скиту, на первой седмице Великого Поста), к нему приехали его прежние московские друзья–юристы и привезли торт со сливочным кремом. Вассиан, не зная, что ему делать, пошел за советом к старцу, и тот сказал: «Друзей обижать нельзя». Так и пришлось Великим постом есть торт.
[7] Действительно, когда мы потом на военной кафедре, готовясь быть офицерами–путейцами, проходили военную подготовку, самые большие успехи у нас были в штыковом бою. «Длинным, с выпадом, коли!» — была фраза, всем нам знакомая. Вообще русский воин — человек труда. Штык для него был продолжением тех вил, которыми он метал стога или той косы, которой косил траву. Наш национальный герой — пахарь Микула Селянинович, который в бою оказывается сильнее «профессионального воина». Если мы говорим о профессиональной армии, то в определенном смысле не соответствуем нашему национальному менталитету.
[8] Относительно недавно, уже после перестройки один бывший партийный деятель мне говорил: «Константин Владимирович! Вы совершили в жизни большую ошибку: вы не были комсомольцем!» — «Знаете, — сказал я, — я совершил даже две ошибки: я и пионером тоже не был». — «Как же это было возможно? — удивился он. — В те годы!» — «А вот так, по тамбовскому упрямству».
[9] Московский автомеханический институт. — Концевая сноска 3 на с. 384.
[10] Кстати, с селедкой был у меня такой случай. Покойный Патриарх Пимен был большой любитель и ценитель соленой рыбы, в том числе селедки, и на приемах тарелку с ней специально ставили перед ним. Как–то раз я сидел на приеме возле него, и он стал мне ее предлагать: «Владыка, что же вы не кушаете селедочку?» — «Спасибо, Ваше Святейшество!» Потом опять: «Нет, но вы посмотрите, какая жирненькая!» — «Спасибо, Ваше Святейшество!» — «И совсем не сильно соленая!» — «Спасибо, Ваше Святейшество!» — «Но что же вы все–таки не берете?» — с этими словами он подцепил кусок своей вилкой и — ах! — положил его мне в тарелку. Что было делать? Пришлось есть — за послушание. Подобная неприятность случилась у меня однажды в монастыре. Вижу: лежит передо мной на блюде что–то очень красивое, на мимозу похожее. Я — вот любопытство–то! — положил себе на тарелку. Взял в рот — аж небо свело — селедка! Но по монастырскому правилу что взял на тарелку — ешь. Выдохнул, зажмурился — и проглотил.
[11] Телефоны были далеко не у всех, а чтобы позвонить по телефону, нужно было соединиться с телефонисткой и сказать: «Девушка, пожалуйста, Миусы–10» или «Арбат–4». А после войны уже были только буквы: так, Арбат был «Г–4».
[12] Телега с плоским настилом для перевозки тяжестей. — Концевая сноска 4 на с. 384.
[13] Прошли годы. Я уже молодой священник, в Елоховском бываю реже, — однажды встречаю его на улице. Он привык относиться ко мне как к мальчику, юноше, а теперь я уже в ином качестве, но он по–прежнему обращается со мной патронажно, и говорит: «Ты знаешь, какое дело: иду я тут как–то раз, вдруг слышу — кто–то за мной идет. Я остановился — никого. Иду дальше — кто–то снова идет, шаркает ногами. Огляделся — никого. Так это… я!! Я — шаркаю ногами!!! Ну, вспомнил я нашего ротного, который говорил: «Ешь солому, а вида не теряй». Скомандовал себе под левую ногу и пошел. И хожу».
[14] Нынешние дети вообще обо всем очень хорошо осведомлены: пригласили меня как–то в один детский сад, «в славянской традиции», я спрашиваю ребятишек: «А вы знаете, что такое «бабки»»? Они отвечают: «Знаем. Это деньги». «Нет, — говорю, — это игра! А еще она называется «казанкú»».
[15] Есть что–то, что вне нас, помимо нас, но мы не приобщаемся к черной силе зла. Приведу, кстати, такой эпизод. Один иеромонах Киево–Печерской лавры рассказывал, что у них в духовном соборе был эконом или келарь, иеродьякон, который во время заседаний всегда что–то рисовал на листочке бумаги. Это было вполне обычно — кто–то пишет, кто–то записывает — но он рисовал, и, как выяснилось, рисовал бесенят. «Отец, — сказали ему — этого не надо делать! Ты плохо кончишь!» Он ответил: «Знаете, братия, я очень люблю рисовать, но если я буду рисовать ангелов, получится кощунство. А этих — чем хуже, тем лучше». Тем не менее, по словам этого моего знакомого иеромонаха, о. Кифы, жизнь этого дьякона закончилась вне монашества и драматически.
[16] Это сейчас бывает, что в подъезд недавно построенного, хорошего дома зайти страшно. Мне рассказали забавную историю или, может быть, анекдот. Объявление в подъезде: «Товарищи! (зачеркнуто) Граждане! (зачеркнуто) Господа! Пожалуйста не гадьте в подъезде!»
[17] Помню, например, как–то на Рождество или на Пасху после ночной службы ехали в машине, набитой до отказа. Там была Надежда Владимировна и целая куча «якиманских» девочек — из храма Иоанна Воина. Милиционер остановил — уж слишком много народу. Открыл дверцу, заглянул. «Да сколько ж тут вас, гавриков? А ну, проезжайте, чтобы я вас больше не видел».
[18] В этом доме жили С.А. Чаплыгин, А.Е. Чичибабин, Ю.В. Готье, Н.Ф. Гамалея и другие. — Концевая сноска 5 на с. 384.
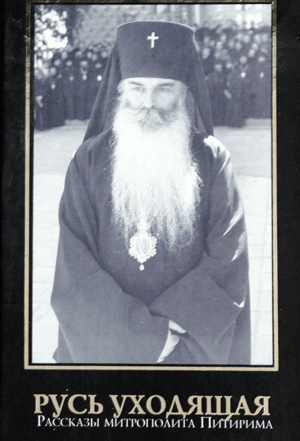
Комментировать