- [Предисловие составителей]
- I. Детство
- 1. Наша родословная
- 2. Впечатления детства
- 3. Братья и сестры
- 4. Прежняя Москва
- 5. Война
- II. Юность
- 1. Московская церковная жизнь
- 2. Студенческие годы
- 3. Святейший Патриарх Алексий и его окружение
- 4. Богословский институт
- 5. Лавра
- 6. Годы преподавания в семинарии и Академии
- 7. Академические и лаврские предания
- III. Зрелость
- 1. О. Севастиан (Фомин)
- 2. Увлечение фотографией
- 3. Последние годы Патриарха
- 4. Церковные деятели 60–х — 80–х гг.
- 5. Издательский отдел
- 6. Волоколамская кафедра
- 7. Международная работа
- 8. Русская эмиграция
- 9. Ориентальные Церкви
- 10. Замечательные личности
- 11. Паломничества
- 12. Брюсовский храм
- 13. Афганский вопрос
- 14. Новые времена
- IV. «Како подобает в дому Божием жити…»
- 1. О духовной сосредоточенности
- 2. О служении священника
- 3. Об иконе
- 4. О церковном пении
- 5. О чудесах
- Именной указатель
II. Юность
1. Московская церковная жизнь
Воспоминания Владыки о церковной жизни — это галерея портретов, ценные бытовые черточки и в то же время — обобщение…
Жизнь моя сложена из каких–то этапов: от одной вехи до другой. сначала наибольшее влияние на меня имел отец, а также архимандрит Севастиан (Фомин), затем — о. Федор Шебалин, настоятель храма Тихвинской Божией матери в селе Алексеевском. От него — без перерыва — о. Александр Воскресенский, настоятель храма Иоанна Воина на Якиманке, потом — Святейший Патриарх Алексий, с которым мы были оба под водительством о. Зосимы (Иджилова), старца Патриаршего Богоявленского собора, — в этом я и формировался. В свои довоенные годы я был прихожанином сначала Николо–Столпенской церкви на Маросейке (в церковь в Кленниках меня не водили: о. Алексия Мечева к тому времени в живых уже не было, и община перешла в разряд не поминающих Митрополита Сергия), потом — Успения на Покровке, потом делил между Елоховским храмом, тогда уже собором, и церковью Петра и Павла у Яузских ворот — по мере закрытия храмов, два года был прихожанином Дорогомиловского собора и церкви Троицы на Воробьевых горах.
Митрополит Трифон (Туркестанов)
Митрополит Трифон (Туркестанов) в послереволюцинные годы был подлинным духовным лидером Москвы благодаря своей интеллигентности, образованности и глубокой духовной жизни. В молодости он около двух лет провел в Оптиной пустыни под руководством старца Варсонофия, потом всю жизнь стремился к уединению, к молитве, но ему все время давали все новые и новые послушания. Во время первой мировой войны он пошел полковым священником в действующую армию, оставил очень интересные записки. После революции лишился всех своих церковных должностей и стал московским духовником. Несмотря на свою устремленность к молитве, он оставался человеком своей среды, прекрасно знал литературу, написал даже драму. В студенческие годы он отдал дань увлечению театром, а потом, будучи ректором Вифанской духовной семинарии, делал постановки на библейские темы. Умер он 1 июня 1934 года. Московский церковный народ его очень почитал, его смерть и похороны вылились в настоящую демонстрацию. Я, к сожалению, на похоронах не был, хотя мог бы быть, мне уже было восемь лет. Отпевали его на Сухаревке в церкви Адриана и Наталии[19] и до Немецкого кладбища огромная процессия шла за гробом. По Москве тогда религиозные процессии были запрещены — и все же масса людей под проливным дождем сопровождала его.[20]
О. Федор Шебалин
О. Федор Шебалин пригрел нас, когда мы вернулись в Москву в 1938 г. после арестации. Он был настоятелем храма Тихвинской иконы Божией Матери. В этом храме есть закуток, в котором стоит изразцовая печка. Этот уголок был моим любимым местом.
О. Федор был человек необыкновенной внутренней силы. Профессор–онколог Юдин, который в свое время его оперировал, говорил, что в жизни видел только одного человека, подобного ему по силе духа и воздействия на людей — Махатму Ганди. умер он в 1940 г. на Знаменье и похоронен на Алексеевском кладбище возле своего храма. Будучи тяжело болен, о. Федор попросил мою сестру Ольгу Владимировну привезти к нему его духовного отца, — настоятеля храма Иоанна Воина, о. Александра Воскресенского. При первой встрече о. Александр спросил Ольгу: «А не постесняетесь со мной ехать? Ведь я со «шлейфом»!» (Он не снимал рясу во все времена, хотя за это и плевали, и толкали, и бросали камни, а однажды в трамвае дали пять рублей). «Конечно, нет» — ответила Ольга. Хотя для нее это был большой риск.
О. Александр Воскресенский
От о. Федора мы без перерыва перешли к о. Александру. Это был благодатный батюшка, обладавший, я бы сказал, беспредельными духовными дарованиями. Жизненный путь его был нелегким. Он происходил из старинного священнического рода. Был старшим из детей в многодетной нуждающейся семье. Отец его, дьякон Георгий Воскресенский, был смертельно болен туберкулезом легких. О. Александр в конце жизни вспоминал живой образ отца: как в дождливый осенний день, страдая горловым кровотечением и кашляя, он отправляется на требу.
Будущий о. Александр — юноша, обладавший незаурядно красивой внешностью, общительный, с живым характером, — жадно стремился к духовным знаниям. Он поступил учиться в московскую духовную семинарию, в годы учебы был близким помощником за богослужением инспектора и ректора.
У него была очень интересная школа молитвы. в юности он ездил в Кронштадт, чтобы увидеть о. Иоанна Кронштадского, и тот научил его молиться: просто прочитал с ним вместе обычное правило и сказал: «Вот так и читай. А если так не получается — начинай сначала». Это было трудно, но постоянным самопринуждением он приучил себя молиться сосредоточенно, нерассеянно. О. Александр рассказывал это, не называя себя, — как бы о некоем молодом человеке.
Успешно окончив семинарию, он был направлен на казенный кошт в академию. Московская духовная академия в то время была учебным заведением очень высокого уровня. О. Александр рассказывал, что волнение на вступительных экзаменах было настолько велико, что его друг, заканчивая экзаменационное сочинение, вдруг спросил его: «Саша, а как моя фамилия, как мне подписать работу?» Сам он прошел этот рубеж успешно, однако учиться ему не пришлось: умер отец и надо было помогать матери поднимать других детей.
Вскоре он вступил в брак с Екатериной Вениаминовной Соколовой — девушкой, как и он, происходившей из потомственной семьи священнослужителя, тоже осиротевшей. Содержал семью дед, протоиерей Григорий Горетовский, который, уже будучи немощным, глубоким старцем, после смерти зятя вынужден был продолжить служение. О. Александр вспоминал его с необычайным благоговением. Рассказывал, в частности, что он никогда не садился за богослужением, и в старческом возрасте, уже изнемогая, стоял перед престолом, опираясь на легкую палочку. Скончался он почти на рубеже своего столетия.
О. Александр принял сан, получил приход и с воодушевлением отдался новым обязанностям. Он был неукоснителен в хранении тех обычаев, которые унаследовал от своих старших. Екатерина Вениаминовна вспоминала, как при первом приезде в Москву, проезжая на извозчике по улицам, он перед каждым храмом снимал шляпу и крестился. Матушка с напускной строгостью говорила: «Всю меня истолкал!» В этом, казалось бы, незначительном поступке уже проявляется его глубокая преданность однажды взятому на себя строгому священническому мышлению и действию.
Первое время он служил в селе Новлянском[21], затем в Павловом Посаде[22]. Помимо собственно священнической службы вел большую просветительскую работу: участвовал в строительстве новой церкви и богадельни, преподавал в школе закон Божий, открыл библиотеку духовного чтения и общество трезвости[23].
Надо сказать, что владельцы Павлово–Посадской фабрики отличались гуманностью и всегда неплохо обеспечивали своих рабочих — поэтому и революционное движение там проходило слабее, чем в других местах. Но пьянство и безобразия, к сожалению, были всегда. О. Александр проводил жизнь среди этого бедствующего люда. Прихожане сразу полюбили его как народного пастыря. Можно даже сказать, их любовь спасла его от смерти.
В то время у него обострился наследственный туберкулез легких.[24] Екатерина Вениаминовна вспоминала как однажды его, истекающего кровью, привезли домой и тут же отправили в земскую больницу. Он умирал. Как рассказывали очевидцы, врач держал пульс его руки, пульс угасал — и вдруг стал набирать силу. В это время весь приход в храме на коленях молился святителю и чудотворцу Николаю о продлении жизни любимого батюшки. И врач сказал: «Ну, отец! Видно, кто–то крепко в тебя вцепился!» Как вспоминал сам о. Александр, ему тогда явился священномученик Харлампий и сказал: «Я тебя возвращаю, но я же за тобой приду». Но случилось это значительно позже.
В послереволюционные годы он оказался в Москве. Этот период был сопряжен с большими трудностями и опасностями. О. Александр не избежал и кратковременного ареста, хотя вскоре был отпущен. Он вспоминал и другой драматический эпизод из своей жизни. Из–за тесноты комнатки, в которой жила его многодетная семья, и в силу других причин: дети его были гражданские, инженеры, — он не мог жить с ними и скитался по частным квартирам. Чаще всего жил он у бедных людей, где–нибудь в полуподвальном помещении, на окраине (в частности, на Воробьевых горах была у него очередная «площадь для ночевки»). Однажды туда пришли работники органов внутренних дел, и уже готовы были его арестовать, но потом один из них, подумав, посмотрев на его жилище, на отсыревшие, заплесневевшие стены, по которым стекала вода, сказал: «Знаешь, отец, у тебя здесь хуже, чем у нас. Оставайся!» Конечно, это были «гуманные» люди!
Сначала — с 1923 по 1930 г. — он служил в храме Марона Пустынника, потом, после его закрытия — в храме Иоанна Воина, который стал местом его многолетнего служения.[25] Можно считать чудом, каким образом о. Александр уцелел, когда священники пропадали бесследно — при том, насколько он не скрывал своей принадлежности к священному сану. Вспомнить хотя бы то, что за пятьдесят лет своей службы он ни разу не надел гражданского платья. В Москве было много хороших священников, но не снимал рясу, пожалуй, он один. Это было его зримым подвигом, но, конечно, не главным.
Главным был его подвиг пастырства, в котором он следовал словам апостола Павла: «Я хотел для всех быть всем, чтобы спасти хотя бы некоторых». Его отличало необыкновенно теплое, радостное, отеческое, благожелательное внимание к приходящим. Когда он, уже под конец жизни, изнемогая от множества посетителей, терял последние силы, и даже говорить было ему уже трудно, так что близкие уговаривали его не принимать больше людей, он сказал евангельские слова: «Грядущего ко мне не изжену вон». Помню другие батюшкины слова: «Когда я был мальчиком, мне хотелось построить большой–большой дом и собрать туда всех, кого знаю».
Тогда уже не могло быть активного посещения священника прихожанами — дома принимать ему было негде, а у чужих — опасно: можно было подвести хозяев, — но он все–таки находил способ принимать людей. Нередко он жил на колокольне, в маленькой комнатке для сторожа (откуда сторож должен был следить, чтобы не было пожара). Туда вела узкая винтовая лестница, подняться по которой было сложно даже молодому человеку.
Множество народу посещало его — и вовремя, и не вовремя. Постоянное общение с людьми утомляло его беспредельно. путь от алтаря до порога храма, да и в ограде (последних два года семья снимала маленький домик возле храма) — путь метров в семьдесят, — занимал у него иной раз до часа времени. Матушка, Екатерина Вениаминовна, бывало, выговаривала мальчикам, сопровождавшим его, что они недостаточно оберегают батюшку от просителей, — но тщетно. Шли к нему с самыми разными вопросами, различными нуждами. Во время войны, — что мне особенно памятно, — нередко подходили к нему женщины: «Батюшка! Муж–то у меня… Вот уже три месяца, как писем нет!» — или: «Уже год, как нет весточки!» Кому–то он отвечал: «Ну, давай молиться!» А кому–то: «Придет!» — и возвращались. Бывало, спрашивали: «Корову мне продавать или нет?» — и он давал нужный совет. Жаловались, что жить негде, и что жить не на что, что соседи или родственники обижают. Бывало, батюшка отстранял сопровождающих и отходил с просящим на клирос, — туда, где образ Димитрия Ростовского, — и там утешал. Ответы его бывали положительные или отрицательные, но конкретно точные. А было, что просто утешал, с улыбкой в больших усах. Но иногда он был и строг, тогда глаза его темнели и брови как бы собирались.
И внутренний мир, и внешний облик о. Александра, можно выразить одним словом: «устремленность». Он был высок, до последних лет жизни — строен, без свойственной возрасту полноты, хотя и не худощав. Вертикальную устремленность фигуры подчеркивали мягкие формы его одежды, фетровая шляпа или высокая остроконечная скуфья. У него были очень выразительные руки — исхудавшие, старческие, но необыкновенно живые, подвижные, с удлиненными пальцами, а все движения — четкие, с непередаваемым изяществом. При благословении он иногда пожимал протянутую руку, — этим выражалось какое–то особое сочувствие или отеческая ласка. У него была тонкая трость с загнутым концом, — он и на трость опирался с каким–то своеобразным изяществом. Если крестился, всегда снимал шляпу — в этом тоже была особая мера благородства.
Вспоминаю, как мы под руководством моей сестры Александры Владимировны сажали деревья в ограде храма. Земля была очень жесткой, забитой щебнем от каких–то разрушенных строений. Часть саженцев была привезена из Тимирязевской Академии, часть — просто из леса. Это было более полувека тому назад. Сейчас уже этих деревьев нет, после них выросло второе поколение. Александра Владимировна подошла к батюшке и сказала: «Батюшка, при посадке в землю надо под саженцы положить благовещенскую просфору». Действительно, был старый русский обычай класть в землю кусок освященного хлеба, — хотя все же не просфору. «Нет — возразил он, — святыню в землю класть не надо. Я молился об успехе».
О. Александр был очень внимателен к тому, чему многие не придают значения: встречам с людьми, казалось бы случайным сцеплениям событий. Это была традиция московского благочестия, которой стараюсь следовать и я: главное не пропустить, что посылает судьба, не пройти мимо.
помнится, как в 1945 году, в первых числах мая — кажется, это был день святого великомученика Георгия Победоносца — в середине литургии о. Александр вышел в открытые царские врата, и произнес взволнованно: «Дорогие мои, радость–то какая! Война кончилась!» И резко (может быть, от смущения) вернулся к престолу. Все сразу как–то не поняли, что произнесено, что сказано, — служба шла своим чередом. Что видел он, что воспринимала его душа, никому не ведомо.
умирала моя сестра Мария Владимировна… У нее была тяжелейшая форма инфекционного полиартрита. Ее лечили химическими препаратами, и в результате сожгли слизистую внутренних органов. несколько дней она не могла проглотить и чайной ложки воды. И вот она посылает меня сказать батюшке, что умирает, и чтобы он благословил. Бегу, тороплюсь, вхожу в его комнатку в сторожке в церковном дворе. Батюшка в подряснике, чем–то занят, встречает меня, дает маленькую, сухую как камень, просфорку: «Передайте Манечке, пусть поправляется»…
Можно приводить и другие примеры выздоровления по его молитвам, изменения трагических обстоятельств к лучшему, его ответов на вопросы о духовной, чаще же о материальной жизни, советов, делать или не делать то или иное дело. Но главное, что каждый мог подойти к нему в самое, казалось бы, неурочное время, и получить именно то, что ему было нужно, найти для себя поддержку в его молитве.
Дар молитвы его был тих и скрыт от посторонних глаз. Это был как бы внутренний его диалог с Богом. Изредка можно было наблюдать его в храме, — погруженным в себя, со взором, устремленным на образ Господа Иисуса Христа.
Вспоминаю его службы… В его служении, в его выражении богостояния не было никаких внешних эффектов. Этот особенный, я бы сказал, академический, стиль богослужения, свойственный не только о. Александру, очень трудно описать. Старые священники горели, но скрывали этот огонь. Высота и сила внутреннего духовного напряжения, сдерживаемого строгой дисциплиной поведения, проявлялась и в малых отдельных чертах и знаках. Можно было только догадываться о внутреннем состоянии батюшки — по его благоговению, по устремленности его взора, когда он сам совершал службу, или когда, стоя в алтаре, внимал богослужению, которое вел другой священник. Были и проявления внутреннего восторга — но кратковременные, — в частности, когда он произносил возглас: «Слава Тебе, показавшему нам свет». Как сейчас у меня перед глазами батюшка — в своей особенной восьмигранной зеленой митре, стоит перед престолом… «Слава Тебе, показавшему нам свет!» Голос у него был слабый, чувствовалось, что он напрягается, чтобы было громче. Вообще у батюшки за богослужением, когда надо было, чтобы возгласы произносились громко, бывало некоторое содрогание голоса. Но в этом было выражение не клинической слабости и не внутреннего напряжения; это было последствие переживания, исходившего из глубины его души. И тот возглас: «Слава Тебе…», — произносился именно с таким содроганием. Выражение его лица в тот момент передать невозможно, оно все было устремлено ввысь. Его взгляд, вся фигура даже руки (со сцепленными пальцами, опущенные, чуть отрывающиеся от епитрахили) выражали напряженное стремление. Характерны были мизинцы — отставленные, с сомкнутыми кончиками. По старому московскому обычаю, он не воздевал руки, а простирал к основанию креста и как бы стремился за ними к престолу, к запрестольному образу.
Вот он стоит на своем настоятельском месте справа от престола. Креслице такое скромное, без спинки, с двумя поручами… Служит второй священник. Батюшка молится. Вероятно, на запрестольный образ Господа Иисуса Христа, в те времена лучший в Москве по реставрации. Медленно осеняет себя крестным знамением и все более уходит в молитву. Клонится, крест наперсный постепенно начинает отходить от груди, повисает, начинает покачиваться от движения руки… Батюшка осеняет себя крестом, выпрямляется. Служба идет, молитва продолжается. Но кто может сказать, что во время той тайной молитвы переживал, чувствовал и видел отец Александр?
12 августа, на престольный праздник храма — память святого мученика Иоанна Воина в храм было не протиснуться. В ограде — полно народу. Это был «праздник гладиолусов». Кругом — сплошь — гладиолусы и радостные лица. После помазания из храма выходили мокрые насквозь, но никто не жаловался. Расходились в поздней вечерней темноте. Праздник этот был особый. Может быть, наш возраст обострял это ощущение, но, скорее всего, так чувствовали, переживали все. Это была общая радость, общее ликование. Потом нигде и никогда больше не слышал я такого пения хора. И певцы были незаурядные, и атмосфера неповторимая. Меня потрясало, как пели стих на величание. Первым, как положено, пело духовенство, а за ним и весь народ. Это была мощь, стихия. Затем бывала короткая пауза затишья, и вдруг — как ураган, нет — залп, хор fortissimo, всем составом: «Бог нам прибежище и сила». И величание. Нигде так не было. Не делал этого никто, только регент Юрий Александрович. Это был взлет победы и никто не чувствовал ни тесноты, ни духоты в храме — все это забывалось.
Потом 14 августа, бывал вынос креста. Крест был резной, деревянный, довольно тяжелый. Батюшка медленно, маленькими шагами продвигается из северных дверей. Это было сакральное, благоговейное крестоношение. Под крестом батюшка начинал клониться так, что приходилось приподнимать передние полы рясы, чтобы он на нее не наступил. Да он и всегда просил — особенно в плохую погоду — поддержать их, говоря: «Мне ведь чистить некому». Действительно, сколько толпилось около него людей, и сколько забот всегда оставалось за полем внимания. Вообще обычно круг почитателей не доходит до самых простых вещей: что нужно дать и покой, и просто обычную повседневную помощь.
Близких людей, которые бы его понимали, вокруг о. Александра, можно сказать, не было. Он никому не навязывал своего духовного руководства, а люди подходили к этому вопросу прагматически: да или нет. Я тогда был молодой, глупый, другие, кто был тогда возле него, были в основном еще моложе. Кроме того, мы слишком хорошо усвоили правила сдержанности и спрашивать о чем бы то ни было не решались, хотя, наверное, надо было это делать. Но в итоге можно сказать, что свой духовный мир о. Александр унес с собой.
Черта внутренней, если так можно сказать, духовной грации сопутствовала ему во всем. Вспоминается эпизод, когда один молодой человек пустился в рассуждения о богословии, еще о каких–то высоких материях, о. Александр, держа в левой руке чашку на блюдце, осторожно постучал по его краю и мягко сказал: «Отец, поменьше философии». А в другой подобной беседе зашла речь о беспорядке в многолюдной службе. «То ли дело — процессии в античное время!» — сказал кто–то. О. Александр мягко, но строго заметил: «Так можно говорить, потому что не знаем».
Никто не мог вспомнить ни одного резкого слова, которое сказал бы о. Александр своему собеседнику. Но вместе с тем он был неукоснительно строг, прежде всего, к себе, а затем к тому, кто заслуживал этого.
Служил при о. Александре Воскресенском протодьякон о. Александр Сахаров. Он был человек немного чудной, но необыкновенно симпатичный. На ектеньях возглашал сначала протяжно: «Ве–ли–кого гос–по–ди–на и от–ца на–ше–го» — а дальше быстро, как будто примечания: «Святейшего Патриарха» — и дальше опять: «Мос–ков–ско–го и Все–я Ру–си А–лек–си–я». Бывало, сидит в алтаре, задремлет. А потом, после службы, так и не разоблачившись, и идет домой.
В военные и послевоенные годы чтецом в храме Иоанна Воина был проректор Московского университета Юрий Алексеевич Салтанов. Как ему удавалось совмещать проректорскую должность с церковным служением — не знаю, но это продолжалось долгие годы, сначала у Иоанна Воина, потом, кажется в храме апостола Филиппа на Арбате. Салтанов написал очень интересную диссертацию об изменениях в немецком языке за два года второй мировой войны — 1939–1941 гг. (начал писать эту работу в 1942–м). В храм приходил после занятий или с заседания кафедры, в шинельке, чуть прихрамывая. Читал же так, что каждое слово, им прочитанное, было как зернышко — все было слышно и понятно каждому.
Для меня необыкновенно глубоким духовным уроком было присутствовать при совместном служении о. Александра с Патриархом Алексием, и вообще сознавать, что два этих выдающихся человека, с которыми меня свела судьба, духовно близки друг другу. Когда Святейший Патриарх служил в день пятидесятилетнего юбилея священства о. Александра, в конце своего благодарственного слова батюшка сказал: «Святейший Владыка! Когда Вы будете стоять у престола Божия в Царстве Небесном, сделайте так, чтобы все те, кто окружает Вас сегодня, были вместе». Слышавшие это вздрогнули — настолько дерзновенно были произнесены эти слова. Святейший Патриарх склонил голову… Эта сила внутреннего убеждения — без акцента, без подчеркивания — была свойственна о. Александру. Был эпизод, когда над ним нависли темные тучи, приведшие к тому, что его отстранили от настоятельства, отнюдь не по болезни, а по внешним обстоятельствам. У него были недоброжелатели в церковной среде. Помню, как он переживал, когда до него дошли сведения о том, что митрополит Николай (Ярушевич) плохо отозвался о нем в присутствии Патриарха. Это было недоразумение. Митрополит Николай был очень самолюбив. Когда он служил в храме Иоанна Воина, иподьяконы не сумели организовать толпу, началась давка, что несколько повредило эффектности служения митрополита. Это и вызвало неблагоприятный отзыв, который для о. Александра был настоящей трагедией.
Кончина его была естественной… Последние два месяца он уже не мог выходить из дома — от сердечной недостаточности. Умер он 23 февраля 1950 г. — в день памяти священномученика Харлампия, того самого, который некогда пообещал придти за ним. О смерти, несомненно, было ему еще что–то открыто. Как–то он вдруг спросил: «А когда умер Костин папа?» Со дня смерти моего отца прошло 13 лет, и день недели мы уже не помнили. Я бросился искать по старым календарям. Оказалось — пятница. Больше батюшка об этом ничего не говорил, но, очевидно, какой–то знак был ему дан. Сам он умер в четверг. Еще просил: «Когда будут меня отпевать, чтобы не сокращали ничего».
Отпевали его в неделю Православия. Патриарх, зная мою близость к батюшке, некоторое время колебался: «Как же нам соединить?… Вам надо быть там, на отпевании, но и служба сегодня особая…» И потом решил: «Мы сделаем так: Вы облачите меня и уедете на отпевание».
За несколько дней до смерти о. Александр, будучи в окружении близких людей вдруг со вспыхнувшим взглядом произнес, ни к кому не обращаясь: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Эти слова написаны на кресте над его могилой.
Потом, уже после кончины батюшки — пишу я диплом. Тема труднейшая — не по зубам. Руководитель сам запутался: меняет направление, объем. Я в полном отчаянии, тем более, что рассчитывать на снисхождение не могу. И вот вижу во сне, будто бы стою я у левого клироса, у Казанской, где на боковой стороне образ Александра Невского в рост. Жду выхода батюшки из алтаря. Он выходит, осторожно придерживается рукой за ограду. Вижу на ступеньках его старенький штиблет, осторожно нащупывающий ступеньку. Все как наяву, как много раз при жизни. Он благословляет меня и спокойно говорит: «Все будет хорошо!» — и целует меня. Просыпаюсь с чувством полной реальности слышанного и даже с ощущением прикосновения усов к моей щеке. Действительно: с трудностями, с осложнениями, но все прошло благополучно.
У о. Александра была замечательная семья. Младший его сын, Леонид Александрович, был спортсмен, казался очень современным молодым человеком, но оказался достойным сыном своих родителей. Помню — 1945 г. Вдруг Леонид Александрович появляется в полковничьих погонах. Оказывается, он был заместителем Королева по полетам! При этом он оставался верующим человеком. Потом он защитил диссертацию, приобрел известность, умер в звании генерал–полковника. Когда его хоронили на Новодевичьем кладбище, присутствовала высокая правительственная делегация, ждали Брежнева, были приняты повышенные меры безопасности… А я стоял возле его могилы в своей священнической одежде и читал — про себя, правда, — панихиду.
О. Вонифатий Соколов
о. Вонифатий Соколов был белорус. В 20–е гг. Владимир Андреевич принял его в Козлове, куда он приехал из Белоруссии вместе с беженцами. вскоре после ареста отца арестовали и его. Потом, выйдя из заключения, он переехал в Москву. Тогда его пригрел о. Александр Воскресенский, позволял ему служить с собой. Я в первый раз увидел его на патриаршей службе и страшно обрадовался. Подошел под благословение. Он меня благословил, и сразу ему сделали замечание, что в присутствии Патриарха священник не может благословлять. Я тогда огрызнулся: «Это не благословение, а приветствие. Мы давно дружим семьями». А он замахал руками: зачем я говорю, что знаю его. Он был на полулегальном положении, а люди тогда всего боялись[26].
Помню, о. Вонифатий все донимал меня, чтобы я сбрил усы: «Костя! Почему вы не сбреете ваши усы? Они расширяют ваше лицо!» Я отвечал, что меня о. Александр благословил. Как–то раз он даже Патриарху об этом сказал, на что тот шутливо ответил: «Это особый случай!»[27]
О. Аркадий Пономарев
Я вспоминаю о. Аркадия Пономарева, который служил в храме Петра и Павла у Яузских ворот. Это был очень энергичный человек. Он первым в годы войны отремонтировал свой храм. До войны наше духовенство, платя очень высокие налоги, вынуждено было собирать пожертвования на ремонт. Выходил батюшка в епитрахили и говорил: «Православные, помогите — кто сколько может!» — и шел по рядам, а прихожане клали — кто пятачок, кто какую другую монетку. О. Аркадий, выходя, всегда очень конкретно говорил: «Проповедь на праздничное чтение», — и, как только он начинал говорить, раздавалось щелканье кошельков, — тогда были распространены кошелечки с двумя шариками: все знали, что закончит он одной и той же фразой: «Други мои! Храм наш требует ремонта!» И — еще не кончилась война, как он уже отремонтировал церковь Петра и Павла.
Он страдал декомпенсацией,[28] был очень тучен и весь свой последний Великий пост не служил, а сидел дома на двух стульях, окруженный подушками и подвязанный связанными полотенцами, чтобы не упасть. когда я посетил его, он сетовал: «Как же так: уже Великий Пост идет, а я еще ни разу не прочитал канона в храме! Я же никогда не пропускал ни одной службы! Но к Пасхе я обязательно поеду! Бывало, ночью у меня голова кружится», — а жил он в подвале, — «всю ночь думаю, что я падаю, температура сорок, а утром — Бог помогает, встаю и иду служить». И действительно, в Великую пятницу он приехал в церковь. И вот, наступила великая Пасхальная ночь. Он надел одно из тогда еще сохранявшихся прекрасных парчевых облачений, совершил Пасхальную утреню, литургию. После службы сослужившие с ним священники говорят ему: «Ну, батюшка, отец настоятель! Пойдем — там разговенье внизу в погребе подготовили». Это была Пасха 48–го года. С помещениями в Церкви тогда было плохо, а спускаться в погреб по крутой лестнице было очень трудно. Он отвечает: «Хорошо, вы — идите, а я немножко посижу, отдохну, и к вам приду». Они ждут — его нет. Приходят в алтарь: он стоит у престола, положив на него руки — мертвый. Так мы его и хоронили — в том облачении, в котором он совершил последнюю службу…
Празднование Пасхи
Великий Пост — это вскрытие истоков собственной нравственности. Весной вся природа очищается — очищаются газоны, появляется молодая травка, подснежники. Точно так же в пост организм очищается от шлаков, а вместе с тем в душе открываются особые рецепторы, способные чутко сострадать Страстям Христовым в Великую Пятницу, а потом с восторгом встретить Светлое Христово Воскресение.
Перед Пасхой, как водится, прежде всего мыли окна. Я всегда с ужасом смотрел, как в высоком доме, где–нибудь на пятом–шестом этаже хозяйка, стоя на подоконнике и высунувшись из окна, вовсю намывает стекла. Дома перемывали посуду, вытирали всю пыль и грязь, — все, что за зиму накопилось. В Великий Четверг непременно брали огонь от «Двенадцати евангелий», приносили домой и старались сохранить весь год. Для этого в доме горело несколько лампад, — если в одной масло иссякнет или ветер огонек задует, то в других он сохранится.
Причащаться на Пасху в наше время было не принято. Разумеется, в том, чтобы приобщиться Святых Тайн в праздник, нет ничего плохого, но надо реально смотреть на вещи: все — и в том числе священнослужители — уже утомлены и думают в основном о том, как бы поскорей разговеться и отдохнуть. Для нас высшим благоговением было причаститься в Великий Четверг — вместе с учениками Христовыми. Слýжащие, те, кто в этот день никак не мог, причащались в Великую Субботу. Была даже особая постоянная «субботняя» публика: профессора и другие видные люди.
Конечно, есть люди, которые и в церковь–то заглядывают только на Пасху — для таких это единственная возможность. Такие были и до революции. Патриарх рассказывал, как одна чопорная петербургская дама говорила — с особым галликанским акцентом: «В церкви так скучно! Бог знает, что: как ни придешь, все — «Христос воскресе!»» Он же вспоминал, что в Петербурге в пасхальную ночь людей по домам развозили лодочники — по каналам. Были они в основном эстонцы или чухонцы, и вот, один из них жаловался: «В церкви отень плëхо! Больше не пойду! Я зашоль, а там поп дымом машет и кричит: «Крестовский остров!» А я вожу на Васильевский. Так я и крикнуль. Он опять: «Крестовский остров!» — а я: «Васильевский остров!» Дали по шея и выгнали. Больше не пойду!»
Был еще обычай: на Пасху все ходили другу в гости, пробовали пасхи и запоминали.[29] Пасху начинали готовить в Великий Четверг, а в Великую Пятницу пекли куличи. Печь куличи — технически очень сложный процесс, потому что настоящий кулич по–русски — это очень крутое сдобное тесто, которое обязательно должно быть выдержано по определенной технологии. Печь тоже сложно: берут металлическую форму, внутрь кладут бумагу, смазанную маслом; когда кулич испечется и взошедшее тесто сверху станет темно–желтым, коричневатым грибом, форму достают, кладут на подушку и начинают осторожно катать, чтобы кулич спокойно вышел. А то бывает так, как однажды случилось у нас в семье: зарумянившаяся крышка отломилась и вытекло сырое тесто. А это целая трагедия, потому что по куличу смотрят, какой будет год. У нас тем не менее тот год был счастливый, хотя тесто пришлось собирать в кастрюльку и ставить на допекание. Куличи были вкусные, но нетрадиционные.
Отец рассказывал случай, бывший еще до первой мировой войны. В день Пасхи они с городским полицмейстером обходили тюрьму. Заходят в камеру предварительного заключения и видят: сидит известный городской бродяга. Полицейский начальник спрашивает: «Ты, братец, как сюда попал?» — «А я, ваше благородие, «веселыми ногами!»» — А в пасхальном богослужении действительно есть слова, что мы будем праздновать Пасху, следуя за Христом «веселыми ногами». В праздник целый день звонили колокола, и вот, этот бродяга прямо на городской площади пустился в пляс, а городовой посчитал, что это неприлично, и отправил его в кутузку. «Ладно, — сказал полицмейстер, — получай рубль и уходи!».
С Красной горки начинали катать яйца. У меня в детстве тоже была специальная дощечка для этого, длиной, наверное, в полметра, с наклоном и с желобком внутри. На один конец яйцо клали, с другого — катили. Чье яйцо уцелеет — тот победил.
В послевоенные годы, когда особенно дороги стали могилы, народ пошел на кладбища не на Радоницу, как было принято раньше, а в первый день Пасхи. До революции такого явления не наблюдалось. Что ж — новые обычаи тоже рождаются. На Преображенском кладбище есть могила наших солдат, скончавшихся в госпиталях после Финской кампании. И вот, куртина от обелиска до ворот в прошлые годы была сплошь засыпана крашеными яйцами. Памятник — красная звезда на обелиске, а рядом стоят люди и поют пасхальные гимны.
По моим наблюдениям, такого пасхального ликования, как в России, нет нигде в мире. Однажды мне пришлось присутствовать в костеле — у нас в Москве, — на католическую Пасху, — и показалось очень уныло. К счастью, православная Пасха была позже и я, так сказать, получил компенсацию.
Обновленцы
Я застал только уже самый закат обновленчества. Кончилось же оно со смертью Введенского. Как–то он пришел на прием к Патриарху, но тот его не принял. Оскорбленный Введенский заявил: «Вы меня позовете, но ноги моей больше здесь не будет!!!» В тот же день его разбил паралич, вскоре он и умер. Для Патриарха же было очень тяжело воспоминание о том, как в 20–е годы его вынудили принять Введенского в общение, обещая за это сохранить жизнь митрополиту Вениамину. Об этой истории многие знали, но никогда не говорили; Патриарха же это жгло до самой смерти. Последним оплотом обновленцев был храм Пимена Великого в Новых Воротниках. Однажды ехал я в трамвае на площадь Борьбы[30] и, выходя с передней площадки, заметил, что с задней в трамвай входит какое–то духовное лицо — в синей или даже голубой полинявшей рясе, с крестом и панагией, — человек очень неприятного вида. Потом я спрашивал, кто бы это мог быть, — мне сказали только, что это кто–то из Пименовского храма. Там же служил сам Введенский с семейством. Периодически они устраивали в алтаре «разборки», — чему благоговейно внимали прихожане через алтарную преграду. Говорили, что однажды из алтаря вылетела митра и покатилась по храму. Оставалось только гадать, была ли она в кого–то пущена или сбита сыновней рукой с головы первоиерарха. Мне довелось лет пять держать у себя на приходе в Песках его сына, который был уволен туда за полную неспособность к ведению регулярной службы в городском храме. Это был сын от второго или третьего брака, всю блокаду проведший с матерью в Ленинграде, — что наложило на него свой отпечаток. По душе это был человек очень хороший, с глубоким покаянным духом (и во хмелю и после оного). Он, к тому же, был автомобилист, и я подарил ему генератор и ветряк для выработки электричества, а потом мне жаловались, что он одному себе лампочку провел и книжки читает, а другим электричества не дает. Тогда я просто провел электричество в храм, и это обошлось дешевле, чем прежние самодеятельные затеи.
2. Студенческие годы
Рассказы Владыки о МИИТе поражают обилием не только бытовых, но и технических подробностей, которые он хранил в памяти долгие годы…
МИИТ[31]
Осенью 1941–го года мы уехали в эвакуацию в Тамбовскую область. Эвакуированным было очень трудно, потому что уезжали мы в полной уверенности, что к зиме вернемся домой. Но когда немцы подошли к Смоленску, стало ясно, что возвращение будет не скоро. Провели мы там полтора года — так что в последних классах школы я учился в Тамбове. Аттестат, однако, получил в Москве, вернувшись в мае 1943–го. В том же году я поступил в Московский институт инженеров транспорта. В семинарию я, естественно, поступить не мог, потому что ее закрыли, когда мне было 4 года, а где–то учиться было надо. Я хотел быть и архитектором, и врачом, и педагогом, и даже танкистом; привлекала меня и география: учась в школе, я был членом юношеского географического общества, но в моем окончательном выборе на меня в значительной степени повлиял мой крестный — брат Иван. Он был одним из родоначальников нашей индустриализации в этой области, начинал разведку в Кузнецком бассейне, участвовал в строительстве первого БАМа.[32] Помню, как осенью 1941 г. со строительства укреплений на Валдайской возвышенности его перекинули на строительство дороги Салехард — Игарка. Тогда он забежал к нам — в белом полушубке, с кобурой на поясе — и сказал: «Не беспокойтесь, Валдай не возьмут — я строил». Так оно и вышло.
Институт находился на Бахметьевской улице, которая сейчас называется улицей академика Образцова, но занимал только три корпуса, построенных в конце девятнадцатого века. Потом, уже в 50–е годы, пристроили еще один корпус в том же стиле, что и старые.
Вспоминаю начало занятий — в ноябре 1943 г. Нас встречает «генерал–директор тяги», Дионисий Федорович Парфенов. Моложавый, худощавый генерал, невысокого роста, он обращается к студентам с большим уважением, пожимает каждому руку и вручает маленький традиционный значок–восьмиугольник с изображением на красном фоне надписи «МИИТ».
На первом курсе студенты — и только что окончившие среднюю школу, и уже отвоевавшие, с контузиями, ранениями. Были и те, кто ушел на фронт после второго–третьего года обучения, а после ранения вернулся. Среди них девушка–инвалид. У нее целой была только одна нога, вторая — по колено (она ходила на протезе), и не было обеих рук, примерно до локтей. Кем она была на фронте, я точно не знаю — то ли радистка, то ли санинструктор. Относились к ней рыцарственно, ее опекали и студенты–юноши, и взрослые. Ребята ждали ее, чтобы открыть дверь, чтобы в гардеробе снять с нее, прежде всего, полевую сумку, потом пальто, потом вновь одеть на нее эту сумку, и поодаль сопровождать ее по лестнице, — пока она, медленно — независимо от этажа здания, — тяжело переставляя протез, поднималась по ступенькам. Лекции она только слушала, писать не могла, — на руках у нее были неподвижные черные перчатки. Тем не менее она закончила МИИТ с красным дипломом. Где она потом работала, я не знаю, — она училась на курс старше нас, но заканчивала уже без меня.
По традиции первую неделю первокурсники слушали самых крупных ученых и профессоров, и только потом начинались обычные занятия — с заданиями, опросом, отметками и прочей атрибутикой воспитательной работы.[33]
Мне запомнилась одна из первых лекций академика Образцова. Добродушный, чуть полноватый человек в форме светлого цвета, представился так: «Ну, меня–то вы не знаете! Я Образцов, — некоторая пауза, — Академик. А вот сына моего все в Москве знают. Он до сих пор в куклы играет на Тверской. У меня два сына. Старший–то — умный. Он мне на самолете из Киева мешок картошки привез». Старший сын его был военный летчик, а младшего, и правда, знают все. Театр его существовал еще до войны, и действительно располагался тогда на Тверской. Помню еще парадоксальное замечание академика Образцова: на «путейском» языке слово «путь» — женского рода. С этого начиналось знакомство с курсом организации движения.
Еще одно воспоминание — из другого ознакомительного курса: «Железнодорожник прежде всего должен быть сообразительным. Надо уметь принимать решение в экстремальных ситуациях, — когда думать некогда». Мы пишем, пишем (конспекты мы вели исправно). «Записываем: состав большегрузный… Вагонов: двухосных, четырехосных — столько–то», — я уже не помню буквально. — «Грузоподъемность: 18 тонн — одних, 40 тонн — других. Локомотив. Колесная формула 1–5 — 2» — пауза: «Вопрос: сколько лет машинисту?» Все с недоумением смотрят на профессора. Начинают что–то вычислять. Потом робкий голос: «Но это же невозможно!» — «Что невозможно? Надо!!!» — «Но как?!» — «Подойти и спросить!»
Ведущие профессора, имена которых записаны в золотой летописи МИИТа, после первой недели были, конечно, для нас недоступны. Но мы слушали рассказы старших, которые оставили нам прозвища старых профессоров, и мы тоже потихонечку иногда повторяли их, в свою очередь передавая младшему поколению.
Многие профессора тогда казались мне старыми, хотя они были намного моложе меня нынешнего. Очень старым казался Иван Сергеевич Прокофьев, который читал еще в двадцатые годы, когда учились мои старшие. У него было прозвище «Ванька–Каин», данное ему за беспощадную требовательность, оно переходило от поколения к поколению. Больше всего боялись, что он придет на защиту диплома. Он имел обыкновение, выслушав дипломанта, просить его — «нарисовать на доске балочку» и «нагрузить» ее соответствующим образом — согласно курсу сопромата третьего семестра или теоретической механики. И — увы! — бывали иногда конфузы.
Вначале мы почему–то очень боялись нашего преподавателя математики. Это был старик огромного роста с мощным торсом, всегда в форменной железнодорожной тужурке. Он носил узкие брюки, не по моде тех лет, и от этого его фигура казалась странной, сужающейся книзу. У него был высокий лоб, коротко стриженные седые волосы и маленькие голубые глазки–буравчики. При этом голос у него был тонкий, что не соответствовало столь внушительному внешнему виду. Общие лекции он читал интересно, но в нашей группе вел и семинары, а на нас он наводил какой–то леденящий ужас, и мы сидели перед ним как кролики перед удавом. А он, в свою очередь, говорил: «Я вхожу, а на меня — как будто двенадцать фашистских танков!» (это про нас–то — двенадцать мальчишек и девчонок, которые сами его панически боялись). Когда он вызывал к доске, мы от ужаса переставали соображать и ничего не могли ответить. Однажды он вызвал меня решать уравнение, — он уже привык к тому, что я ничего не знаю, и даже не смотрел на доску. Тем не менее уравнение я решил и говорю: «Вот, все…» Он обернулся, увидел решенное уравнение и переспросил: «Нечаев, как, ты — решил?!». В глазах его отразилось неописуемое удивление. С этого момента начался перелом в наших с ним отношениях. На какой–то праздник мы, скинувшись, подарили ему коробку конфет. Вручать послали Мариночку — как самую общительную и смелую. У нее была роскошная коса и огромный бант, который был виден из–за плеч. Она протянула ему коробку, он стал было отнекиваться: «Да нет… да что вы…» — тем не менее, коробку взял и было видно, что он по–детски трогательно рад подарку. А потом мы еще ему и дрова носили…
Химию — а это был мой нелюбимый предмет — преподавал совсем старый человек, Петр Петрович Лебедев. Лекции он читал в большой аудитории — человек на 300, — которая всегда была заполнена дай Бог на треть. В начале лекции, окинув взглядом присутствующих, он обычно говорил: «Что–то маловато!» — «Да нет, как же, все здесь!» — отвечали ему. Он начинал перекличку: «Абрамов!» — «Здесь! — «Авдеев!» — «Здесь!» — И по списку получалось, что, действительно, все на месте. «Не может быть!» — удивлялся он и начинал считать по головам. Число не сходилось. На все это уходило минут двадцать — и так каждый раз. Но сам старик относился к этому весьма благодушно. Устраивали с ним и другие шутки. Он писал на движущейся доске, и писал много — какую–нибудь формулу смазки для шпал, например: креозота — столько–то и т. д. Вдруг кто–нибудь говорил: «Петр Петрович! А у меня не сходится!» — «Как не сходится?» — «Валентность не та!» — Он откручивал доску назад, а этого–то и добивались: туда была вставлена губка, которая стирала все написанное. Но на практических занятиях приходилось трудно: у Петра Петровича была ассистентка, беспощадная дама, которая спуску не давала ни в чем.
Зав. кафедрой гидравлики у нас был профессор А… На нашем потоке училась его дочка Наташа. И вот профессор иногда прерывал связную речь — о потоках, о струях, — и говорил: «Наташка, дура! Опять не слушаешь, как же ты экзамен сдавать будешь?!» — и продолжал дальше. Он был очень ученый человек, прекрасный лектор, но некоторые не могли его слушать. Был у меня товарищ, Коля, фронтовик, он однажды говорит: «Не могу А… слушать, он все время откашливается». Я прежде этого не замечал, но как Колька мне сказал, так и меня это стало отвлекать от содержания лекции, и я тоже стал считать, сколько раз он кашлянет. А что кашлял он, было не удивительно: внизу в лаборатории был страшный холод.
Электротехнику вел Отто Юльевич Венедикт — венгерский еврей по национальности. Он использовал забавные методические приемы. Например, задавая задачку на тяговую силу мотора, формулировал ее так: «Смотрите, я стою под грузом. Груз — две тонны. Ну, и что же вы делаете? Он же на меня упадет! Вон, уже падает!!!» Естественно, в жизни подобные задачки надо было решать очень быстро.
Курс физики читал профессор Зëрнов, долгое время живший в Англии. На лекциях он иногда допускал ремарки в наш адрес, что мы плохо себя ведем на улице. «Ну, как же так можно? — удивлялся он. — Переходят улицу там, где не положено! Висят на трамвае!! Прыгают на ходу!!! В Лондоне вы этого не увидите. Джентльмен себе ничего подобного не позволит, а того, кто позволит, полицейский вправе так стукнуть дубинкой, что больше ему этого не захочется».
Вообще многие старые профессора были немного с чудинкой, — таков уж был у них обычай. Фамилия одного была не то Ситников, не то Сотников — не помню. Читал он экономическую географию. В аудиторию врывался со звонком, поворачивал стул спинкой к слушателем, садился на него верхом, спиной к доске, и, рассказывая, показывал указкой на карте, — не оборачиваясь, но никогда и не ошибаясь. Заканчивал ровно со звонком, и в следующий раз начинал точно с того места, на котором кончил. Нас это забавляло, так что мы даже записывали, чтобы сверить.
В МИИТе тогда «гостил» ЛИИЖТ.[34] Профессура, вернувшаяся из Новосибирска, жила в 6–м корпусе. Среди профессоров ЛИИЖТа были лекторы, которых мы бегали слушать наряду со своими. Одним из них был Николай Михайлович Егоров. Он читал теорию механизмов и машин, — ТММ — что на студенческом языке называлось «ты моя могила». В конце семестра он делал обзорную лекцию по прочитанному курсу, блестяще все суммировал и сам с добрым юмором говорил: это обзорная лекция. Но мы называли ее «Как сдавать экзамен». Действительно, он перемежал теоретический материал с теми или иными рассказами о приготовлении «наглядных пособий», то есть шпаргалок, и вспоминал эпизод, когда он что–то спросил у одного из студентов по поводу хитро составленной шпаргалки, и тот ему ответил: «Профессор! Ведь вы знаете, в нашем деле без шпаргалки невозможно!» Сам Николай Михайлович говорил, что толковая шпаргалка означает, что человек проработал курс, — если смог вместить его на весьма ограниченной площади.
Он женился на студентке, и мы часто наблюдали, как он гуляет по двору с колясочкой.
Мы знали, что актовый зал был некогда домóвым храмом. Конечно, речи о его восстановлении не было. Но как–то негласно признавалось то, что возвышение, расположенное на месте алтаря — священное место, и оно ничем не было занято. Воинствующего атеизма не было. Преобладал общий дружеский тон. Кто–то бывал в церкви. Посещавшие храм не вызывали удивления или критики. Однажды один из студентов рассказал о своей озорной выходке в церкви. Его никто не поддержал и, тем более, никто не одобрил.
Одного из моих друзей вызвали в комитет комсомола. Стали расспрашивать, о том, о сем. Потом секретарь комитета спросил его: «А что–то фамилия у вас подозрительная: Рождественский» — «Конечно, — ответил тот, — как и ваша». Фамилия секретаря была Успенский.
Иногда мы узнавали в храмах наших профессоров, скромно стоящих где–то в уголочке, а нередко и военных, у которых под штатским пальто или плащом отчетливо прорисовывались погоны.[35]
Однажды в Великую Пятницу мы сдавали экзамен. Принимал его, как я помню, доцент Смирнов, и здорово меня мучил. Пока я сидел, готовился, он встал, повернулся ко мне спиной, и я увидел у него на пиджаке подтек воска. «Ах ты, — думаю, — меня терзаешь, а сам–то вчера где был?» Конечно, слушал «Двенадцать Евангелий»!
Естественно, все мы слушали курс исторического материализма, политэкономии, получали соответствующие баллы на зачетах и экзаменах, но среди нас были молодые люди, — особенно из фронтовиков, — глубоко чувствовавшие ту историческую духовную традицию, которая напрямую ассоциировалась с Церковью. Дискуссий, как правило, не вели. Но преобладало, как основное направление, бережное отношение к историческому прошлому Родины, что, кстати, и было общим настроением героизма и патриотизма.
Актовый зал сохранялся в первоначальном цветовом состоянии, но был забелен, закрашен, и никаких признаков храма не было видно. Президиум и, в случае необходимости, кулисы, были с южной стороны, там, где сейчас стоит рояль. Зал был заполнен стульями, но для особо популярного выступления мы приносили на последние ряды длинные черные столы на шесть человек из близлежащих аудиторий и создавали амфитеатр. Первые ряды занимали стулья, затем — стулья на столах, затем стол на стол — уже без стульев. Сооружение было прочным, но спускаться с последнего ряда — под потолком — было нелегко.
У нас была постоянная стенгазета, новая, профильного содержания. Наиболее ярко вспоминается репортаж «Новой стройке МИИТ посвящается». Переход в первый корпус с Новосущевской улицы первоначально был открытым. В 1944 г. для наведения порядка вдоль него по линии нынешнего железобетонного забора поставили металлический, высотой два с половиной — три метра, с острыми пиками. Таким образом, оставался только главный вход — с Бахметьевской. Прямо напротив ворот была трамвайная остановка и все — профессора и студенты, — с большими трудностями в часы пик ездили вместе. Студенты уступали место профессору на площадке или на подножке (трамваи были, конечно, старого образца, с неавтоматическими дверями, которые по причине многолюдства не закрывались). Сами же студенты висели снаружи, стоя на одной ноге на какой–нибудь детали и держась за другую, и поэтому профессор химии Петр Петрович Лебедев называл их «висунами». Так вот, те, кто шел с Новослободской от метро, не желая обходить квартал, перелезали через забор. Упомянутый выше репортаж был проиллюстрирован рисунком: забор и на его острых пиках висят студенты в самых акробатических позах. Я тоже через этот забор лазил и однажды даже брюки порвал.
Как заповедное место вспоминается библиотека с ее старинным интерьером, очередью за учебниками и выпрашиванием «на денек» серьезных отраслевых изданий.
Аудитории были нетопленые, писать — не на чем. Мы меняли свои продовольственные карточки на бумагу, знали на центральном рынке, у кого можно купить подешевле. Кроме того, нам давали талоны на табак и надо было курить: перекур — вещь обязательная к исполнению. Мы великолепнейшим образом умели закрутить кусок газетки, засыпать туда табак, скрутить, потом вынуть «катюшу» из кармана, высечь необходимую искру и потом обменяться — кто искрой, кто табачком. Это был целый ритуал, — как в армии, так и у нас. Пришлось курить и мне. Своей потребности в этом у меня не было — так что, как только кончилась война, я скрутил свою последнюю сигарету и больше уже к этому не прикасался.[36] Я тогда–то большую часть табачных карточек обменивал на бумагу. Помню, пожаловался старшему брату, Николаю Владимировичу: «Все бы ничего, но бумаги нет, очень трудно, она дорогая». А он рассмеялся и говорит: «Знаешь, когда мы учились, мы ходили по пустым вымершим квартирам, срезали обои и на них писали».
Самым теплым местом в институте были «чертежки» с еще сохранившимися старинными высокими столами–пюпитрами и липовыми досками. Они носили следы чертежных листов, были залиты тушью, исколоты кнопками, — что говорило об их необычайно долгом сроке службы обучению и науке.
В этих чертежках мы делали первые задания как тест для будущего инженера: рисовали поперечный разрез рельса с измерениями толщины головки, шейки и так далее. Чертить нужно было сосредоточенно и точно, но, вместе с тем, в «чертежке» постоянно были слышны разговоры, — стояла атмосфера доброго студенческого юмора.
Курс начертательной геометрии, естественно, для всех был новым открытием, как бы познанием мира, в его октагональных и аксонометрических проекциях, и потому задания, которые мы выполняли на дефицитном, редком материале, «ватмановской» чертежной бумаге, были для нас ответственны вдвойне и втройне. Требовалось быть внимательным и точным в миллиметрах. Несмотря на это развлекались так: брали пустой, уже сухой пузырек из–под чернил; из бумаги, залитой чернилами, вырезали кляксу и клали на чей–нибудь чертеж. Вот однажды так сделали, а тут входит хозяин чертежа, хватает настоящий пузырек с чернилами и кричит: «Я вам сейчас покажу!!!»
Кто–то что–то рассказывал из фронтовых будней или из повседневного быта. Тогда только–только проникал в наш обиход джаз, — с одним из известных фильмов, «Сто мужчин и одна девушка». Джазовые мелодии входили в студенческий быт, и один из однокурсников, Юрочка, в одиночку изображал целый оркестр. Но главным развлечением и удовольствием для нас было говорить. Каждый друг перед другом старался рассказать какую–нибудь забавную историю. И поздно вечером, возвращаясь домой, мы все продолжали говорить, — даже зимой, когда холодно и говорить не хочется. У каждого из нас, юношей, были свои маршруты, по которым мы разводили по домам однокурсниц. У меня было два маршрута: один мимо уголка Дурова и театра Российской Армии, а другой — на Новослободскую. Мы говорили и говорили, оттачивая свой язык — нам был интересен сам процесс, это было творчество. Когда я из МИИТа пришел в семинарию, оказалось, что говорить я умею, может быть, лучше некоторых наших преподавателей.
Бывало мы «со слезой» распевали доставшуюся нам от предшествующих поколений «Балладу о студенте» по мелодии и содержанию — «Раскинулось море широко…», к которой присоединялись новые импровизированные строфы:
Три дня в деканате покойник лежал,
В тужурку студента одетый,
В руках образец безголовый держал,
Продольной нагрузкой нагретый.
Раскинулась сессия грозно,
Зачеты бушуют вдали…
Где она сейчас, эта милая фольклорная поэзия?
На лекциях мы писали друг другу много записок. Однажды получаю я записку, написанную аккуратным женским почерком: «Разрешите задать Вам щекотливый вопрос?» Я разомлел, пишу ответную записку: «Пожалуйста!». Получаю ответ: «Вы боитесь щекотки?»
Нас предупреждали, чтобы мнимая свобода студентов распоряжаться своим временем без ежедневного опроса и получения отметок за успеваемость не послужила бы соблазном к тому, чтобы запустить наши задания. И некоторые, наученные своими старшими, вечером прорабатывали весь лекционный материал, правили наскоро записанные конспекты, потому что тогда была в ходу некая статистика удержания в памяти прослушанного материала: сколько процентов студент запоминает после лекции и забывает к вечеру первого дня, и какой ничтожно малый процент остается у него к концу недели.
Эти и другие правила подготовки, конечно, очень помогли нам, только что вступившим в студенческую среду. Кроме того и курс средней школы отличался от современного. В нем не было тех предметов, которые были введены уже в последние десятилетия: элементов дифференциального, интегрального исчисления.
Когда я, уже на студенческой скамье, впервые познакомился с началами математического анализа, у меня возникло желание вычертить кривую зависимости между техническим прогрессом и духовным состоянием общества. Бумага тогда была в дефиците, тем не менее я исчертил ее немало, прежде чем до меня дошло, что затея бессмысленна. Однако в целом я понял, что, чем выше уровень развития технологии, тем изменчивее внутренний мир человека.
Помнится, отсева не было. Мы очень дорожили нашей учебно–научной нагрузкой, и главное, тем ощущением товарищества, которое скреплялось высоким чувством долга и ответственности. Наряду с учебными занятиями активно действовало НСО — научно–студенческое общество. Входили туда далеко не все, но это была та лаборатория, в которой рождались творческие идеи, из которой выходили изобретатели и будущие ученые.
В МИИТе тогда было всего четыре факультета. Самый элитарный был «Мосты и тоннели», второй — «Строительный», где учился я, а потом шли «Служба движения» и экономический. В годы нашей учебы еще выделили факультет «Локомотивы».Одной из недосягаемых высот учебного Олимпа был для нас так называемый «факультет ПС». Мы все занимались четыре с половиной года, — девять семестров, десятый — диплом, а их курс был рассчитан на семь лет, там готовили референтов специально для руководящих постов Министерства путей сообщения.
При том, что я никогда не вступал ни в пионеры, ни в комсомол, я всю жизнь был на виду в плане общественной работы. В институте в первый же год меня, по непонятным мне причинам, назначили старостой курса — как тогда называли, «старшиной подразделений». На эту должность назначали на два семестра. Потом, на втором курсе, уже сами ребята избрали меня профоргом курса.
Мы рано взрослели.[37] Наша студенческая среда, как и вся страна, жила «всерьез». Сводки с фронта и тыловые будни были реальностью, как бы критерием личной ответственности. Среда наша была полувоенная. Составной частью нашей жизни был транспарант: «Железнодорожный транспорт — родной брат Красной армии» — с характерным росчерком — всем известной фамилией — под текстом. Уже не помню, где он находился, но эти слова мы часто с гордостью повторяли.
Нас регулярно посылали на работы в Колонтарово — там мы пилили огромные деревья. Как надо пилить, никто нам не объяснил, однако пилить было велено до конца. Поэтому мы бегали вокруг каждого дерева и подпиливали его со всех сторон, а потом толкали. Затем девушки уносили ветки, а ребята грузили бревна на платформы. До ближайшей станции было километров двадцать, и это расстояние надо было бежать по шпалам. Рубка леса — дело очень опасное. Бывает, что падающее дерево пронзает человека ветками, а бывает, что отскакивающей при падении дерева частью ствола человеку сносит голову. На соседней с нами делянке работал ИнЯз. Мы их никогда не видели, только знали, что они где–то поблизости. Там вообще были одни девушки. Они и пилили, они и валили, они и таскали. Говорили, что одну девушку у них убило деревом. Там же, где–то рядом, практически в равных с нами условиях, работали и заключенные.
Весной 1944–го года, когда уже миновала угроза воздушных налетов, нас, студентов, командировали разгружать чердак институтского здания, оборудованный под зенитную площадку. Там были ящики с песком и огнетушители. Мы отнесли несколько ящиков на руках — это было тяжело; потом посмотрели: внизу никого нет, — и стали бросать с крыши во внутренний двор. Так было намного легче. Перекидали все ящики, принялись за огнетушители. Бросили один — ничего, все в порядке. За ним другой, третий, — и вдруг снизу раздался страшный вопль. Бросились смотреть, что случилось, а оказалось, один из огнетушителей от удара вдруг сработал — и как раз в тот момент, когда мимо проходил комендант этого здания. Он с ног до головы оказался в густой пене.
Вспоминаю первую учебную практику на геодезическом полигоне, строительство рельсового пути в Кривандине под Москвой для создания торфовой трассы. Еще мы проходили профессиональную практику на Рижском вокзале. Сейчас все, чем мы занимались, уже безнадежно устарело, а тогда нас учили, к примеру, «принимать жезл». На станциях, на перегонах, стояло колесо с рукояткой, и в нем механизм СЦБ (сигнализация, централизация, блокировка) с извилистой линией. Проходящий поезд на нужном участке чуточку замедлял ход и выходил дежурный, который «принимал жезл». Жезл — это металлическая палочка. Ее можно было принять двояко, были две системы: либо — в воронку, либо — старый, первый способ — на согнутую в локте руку. В считанные секунды надо было от помощника машиниста проходящего поезда принять один и передать ему другой жезл. Потом нужно было быстро опустить его в машину СЦБ, прокрутить вал и тогда трос натягивался, открывал семафор и поезд шел дальше по открытому пути. Там, на Рижском вокзале, был очень хороший музей железнодорожной техники — сейчас вместо него какое–то коммерческое предприятие. За пятьдесят лет многое изменилось. О компьютерах мы представления не имели, все считали на логарифмической линейке — я до сих пор берегу эту линеечку с тремя шкалами и движком посередине. Впрочем это приспособление удобно, я и сейчас, летая на самолетах, замечаю, что штурман, прокладывая путь, что–то вычисляет при помощи логарифмической линейки, хотя у него есть уже и карманный компьютер…
Некоторые виды лабораторных работ проходили в МЭМИИТ[38]. Одна из наших подруг, увидев локомобиль — действующую модель паровой машины, спросила ведущего лаборанта: «А зачем паровоз поставили вверх колесами?» На практические занятия по металлоконструкциям ходили в станкин[39], «рвали» образцы. Этот этап был особо отмечен в «Балладе о студенте».
Студенческая столовая работала исправно. У нас был очень скудный, но регулярно готовившийся обед по продовольственной карточке, однако мы предпочитали приносить с собой еще и ломоть черного хлеба, который не очень отягощал карман. Говорили, что, сохраненный до вечера, он «приобретает особо отменные вкусовые качества».
В студенческом общежитии я не помню каких–либо инцидентов. Хотя сам я жил в городе, но, заходя к товарищам, естественно, жил общими с ними интересами. Зимой в общежитии было холодно. Как–то зашел я к друзьям, — а они, несколько человек, сидят перед банкой консервов, и ни ножа у них, ни вилки. «А как же вы так?» — удивился я (я тогда был очень мало приспособлен к жизни). «Очень просто! — ответили мне. — Зубами рвем, ногой придерживаем».
Время было трудное. Карточки уже отменили, а на деньги почти ничего еще нельзя было купить. Тогда возникла система «лечения» сахаром. На полстакана воды в первый день растворяли один кусок, во второй — два, в третий — три, и так до десяти. А потом то же в обратном порядке. В зимнюю сессию я это попробовал — ничего. А в весеннюю, когда дошел до трех–четырех кусков, вдруг сделалось как будто отравление: жар, озноб, тошнит. Потом выяснилось, что это и есть отравление: сахарная кома.
Однажды в доме культуры выступал гипнотизер. Мы были на сеансе, стояли на балконе. В какой–то момент гипнотизер попросил всех желающих сцепить руки за головой. Некоторые из нас так и сделали, и вдруг один мой приятель говорит: «А я не могу их расцепить!» Мы сначала подумали, что он шутит, но оказалось — нет. Тогда мы их ему растащили силой. Между пальцев были белые следы от напряжения. И хорошо, что сделали так, потому что всех, кто не смог расцепить руки, гипнотизер потом вызвал на сцену и проделывал там с ними всякие неприличные вещи: укладывал между стульев, ходил по ним ногами и т. п.[40]
Был у меня в МИИТе друг Ваня. Мы с ним хорошо дружили. Он очень плохо видел, но очки не носил, потому что девчонки говорили, что у него красивые глаза, и что очки его портят. В результате он списывал все у меня, а почерк у меня такой, что я и сам его не всегда понимаю. Поэтому, если я еще как–то мог сдавать, то он — совсем никак. Вскоре его отчислили. Он отслужил в армии, поступил в физтех, кончил с красным дипломом и стал большим специалистом.
Занятия музыкой
Семья у нас была музыкальная и старшие мои очень хотели, чтобы я тоже владел инструментом, но так получалось, что как только начинались мои уроки музыки, происходил какой–то катаклизм, семейный или даже государственный. Сначала решили учить меня скрипке. Но это был 1935–й год. Мы переехали на Потылиху и скрипка отпала. Потом решили выбрать рояль. Но в 1937 г. умер отец и снова стало не до музыки. Когда стали подниматься, прошло уже довольно много времени. Оставалась разве что виолончель. В 1941 г. я поступил в Гнесинскую музыкальную школу, где моим учителем был Андрей Алексеевич Борисяк, но с началом войны занятия прервались. В эвакуации, в Тамбове, я продолжал заниматься (учился у подгорецкого, старого человека дворянского происхождения), но это был уже не тот уровень. Кстати, в Тамбове в то же время и в той же музыкальной школе учился Ростропович — и, надо сказать, ничем среди прочих учеников не выделялся. Преподавателем его был, правда, каким–то образом оказавшийся в этих краях профессор Козолупов, а это все–таки имя. Ростропович сам впоследствии вспоминал, что сначала ленился и занимался кое–как, но в какой–то момент жизни сумел переломить себя, начал серьезно работать — и только тогда добился успеха. Мы жили по соседству. Я приехал в эвакуацию к своей бабушке Анне Ивановне, а он — к своей тетке. Он был долговязый, с длинным тонким носом — его дразнили «Буратино» и «Подсолнухом». Потом уже, несколько лет спустя, я услышал, как он играл «Воспоминания о Флоренции» Чайковского — труднейшее произведение! — и поразился произошедшей с ним перемене.
Когда в 1943–м году я вернулся в Москву, мне было не до музыки; к тому же, я чувствовал, что сильно отстал от своих товарищей. Я был уже взрослым, и заниматься вместе со школьниками было неудобно. Однажды, уже будучи студентом, я случайно встретил Борисяка, он спросил, почему я не появляюсь. Я рассказал о своих затруднениях, и он предложил мне заниматься частным образом. Так я стал ходить к нему домой, в Столешников переулок. Борисяк был не только виолончелистом. Петербуржец, сын ученого–геолога, он был астрономом (еще в гимназические годы открыл звезду, которая так и называется его именем: «звезда Борисяка») и поэтом, связанным с кругом футуристов. Меня глубоко огорчало, что он не был религиозным человеком, хотя к религии относился с уважением. Жена же его, Евгения Александровна, и вовсе была ярой атеисткой (вероятно, она тоже принадлежала к среде футуристов — истинных представителей потерянной интеллигенции начала XX века). Их сын впоследствии приходил ко мне, казалось, он был на пути к обращению, но потом неожиданно умер.
Как виолончелист Борисяк был учеником великого Пабло Казальса. Услышав о нем (году в 1910–м), поехал к нему в Италию. Приехал он в Италию, конечно, уже зная итальянский язык, но рассказывал, что, когда сел в омнибус, и вдруг услышал: «Allegro, allegro, signori!» — привычный музыкальный термин в бытовой обстановке прямо–таки поразил его. Наконец он приехал к Казальсу. Тот попросил: «Ну, а теперь покажите что–нибудь!» — (т. е. «сыграйте» — на языке виолончелистов). Борисяк сказал, что может сыграть первый концерт Сен–Санса — а это была очень сложная вещь — и сыграл. Казальс был маленького роста (обычно он фотографировался у себя дома, опершись о низенький столик). И вот, опершись об этот столик, он предложил: «Ну, маэстро, а теперь сыграйте Сен–Санса!». С оценкой все было ясно. Тем не менее Борисяк стал его учеником и воспринял его школу. Казальс держал смычок не прямо, как обычно держат виолончелисты, а наискосок, как скрипачи. Это придает звуку особую глубину и гибкость. Так он поставил руку Борисяку, а тот — мне.
Борисяк, казалось составлял единое целое с инструментом. Самое трудное в обучении игре было правильно поставить пальцы на гриф. Потом уже не думаешь о руках, только о звуке. Борисяк говорил: «Не давите на смычок, дайте выйти звуку». И еще: «Надо играть так, как будто между смычком и струной перекатывается маленький шарик».
Он постоянно курил и жестикуляция его словно бы повторяла движение клубов сигаретного дыма. В начале наших занятий он спросил меня: «Как вы думаете, чем любитель отличается от профессионала?» Я захлопал глазами: «Ну, наверное, тем, что профессионал играет лучше, а любитель — хуже». — «Нет, — ответил Борисяк, — Любитель тоже может играть хорошо, даже лучше профессионала. Только он играет то, что умеет, а профессионал — то, что надо».
Мои занятия продолжались с 1943–го по 1954–й год — и к этому времени у меня уже был определенный репертуар, состоявший из таких произведений, как, «Лебедь» Сен–санса или «танец маленьких лебедей» Чайковского. То, что я играл, было в основном уныло–меланхолического духа — «lente», «adagio», «moderate». Пометки «allegro» «a poco vivace», «presto», «prestissimo» не вдохновляли меня. Патриарх, зная о моих занятиях, иногда употреблял забавные термины. Так, если надо было быстро уехать с какого–то мероприятия, он говорил: «Ну что, аллегро удирато?»
Потом началась моя практическая церковная работа, которая не оставляла мне ни малейшего времени. Но все–таки я основал в Духовных школах смычковый ансамбль из 22 человек, сам покупал скрипки. У нас были 4 виолончели, 2 великолепных альта. Будущий митрополит Минский Филарет был у нас виолончелистом, как и я, а покойный теперь уже митрополит Тверской Алексий (Коноплев) — первой скрипкой. Это было в начале 50–х. В последующие годы, до моего ухода, ансамбль кое–как держался, а потом распался. Инструменты пропали: что–то продали, что–то разворовали…
И сам я сейчас, к сожалению, самое большее, что могу, — это взять инструмент, протереть мягкой тряпочкой, настроить, чтобы дека была в рабочем положении… Техника, конечно, потеряна…
Начало церковного служения
В ночь на 8 сентября 1943 г. в Кремль были вызваны три митрополита — Московский и Коломенский Сергий (Страгородский), вернувшийся из эвакуации; Ленинградский и Новгородский Алексий (Симанский), проведший 900 дней блокады в Ленинграде (с кратким перерывом, когда он вылетал на боевом самолете в тыл, в Ульяновск, для доклада митрополиту Сергию), и Крутицкий и Коломенский — Николай (Ярушевич), который безотлучно находился в Москве. С этого дня, кстати, пошло нерусское произношение имени Алексий: Алéксий. Когда Молотов диктовал корреспонденту ТАСС коммюнике о том, что такие–то три митрополита были приняты председателем Совета министров, и прочитал, как было написано в тексте: «Алексéй», — Сталин повернулся и поправил: «А–лэк–сий» — ничего не понимают!». Произнес он это со своим обычным кавказским акцентом, и у него прозвучало именно ударение на е. Таким образом слово вошло в обиход.
В тот день — на память сретения Владимирской иконы Божией Матери и святых мучеников Адриана и Наталии — была возрождена Московская Патриархия, местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий стал Патриархом Московским и всея Руси. Это был мудрый иерарх и глубокий богослов, автор классической работы «Православное учение о спасении». Он знал несколько языков — в том числе древние: еврейский, греческий, латинский, — и, несмотря на свою административную загруженность и преклонный возраст, ежедневно читал Библию на каждом из этих языков. Кроме того, это был подвижник строгой жизни. Его день, по старому монастырскому обычаю, начинался в 4 часа утра, и в его ежедневное правило обязательно входил «Чин двенадцати псалмов», который оказывает необыкновенно умиротворяющее воздействие на душу. Церковный народ очень любил его и за глаза ласково называл «Дедушкой».
Москва была еще на осадном положении. В небольшом особняке на Пречистенке, в одной из комнат был устроен домовый храм, посвященный Владимирской иконе Божией матери и мученикам Адриану и Наталии. Там совершались и архиерейские хиротонии. Святейший Патриарх Алексий впоследствии нередко служил там сам — без дьякона и без пономаря в будние и личные праздничные дни. Там он проводил долгие часы — я тому свидетель — в уединенной молитве.
После встречи трех митрополитов со Сталиным все почувствовали, что начался какой–то новый период в отношениях Церкви и государства. Ощущение было небывалое. В моей жизни таких периодов было два: один — тогда, а другой — уже сейчас, после празднования 1000–летия крещения Руси, когда в храмах появились дети. Официально ничего не объявлялось, но все жили в ожидании перемен. Потом патриарх Сергий умер. Помню, я в тот день зашел в институте в учебную часть с какими–то бумагами, а секретарь комитета комсомола вдруг почему–то сказал: «Передали, какой–то патриарх умер». Я тогда чуть не выронил все, что у меня было в руках. А потом, выйдя из учебной части, сразу поехал в собор. Отслужили панихиду. После службы Колчицкий попросил всех мужчин, — а их было немного — остаться. Речь шла о том, чтобы помочь следить за порядком во время похорон. Помню, меня тогда поставили у левой двери, выходящей во двор. Тогда я впервые понял, как тяжело справиться с толпой. Это и был мой «дебют». После этого меня заметили, и я иногда приходил помогать.
События невиданные, небывалые следовали одно за другим. Собор 1945 г., избрание Патриарха, в Москву впервые прибывают восточные Патриархи, — все это казалось таким необычным и значительным.[41]
В 1945 г. состоялась патриаршая интронизация. В Богоявленском соборе мне тогда дали билет — в Сокольники. Потом была служба и в самом соборе. И тогда патриарший иподьякон Михаил Чарей[42] отыскал меня на нашем любимом семейном месте — у иконы Ильи Пророка, откуда службу не столько было видно, сколько слышно, — и предложил участвовать в богослужении. Вечером 3–го февраля наш Патриарх всенощную не служил — служили восточные патриархи. Я прислуживал патриарху иерусалимскому Афинагору[43] и нашему Астраханскому архиепископу Филиппу. А утром 4–го числа служил наш Патриарх, и тогда он заметил меня, сказал мне очень хорошие слова, — хотя едва ли вспомнил, что уже беседовал со мной в приемной комиссии Богословского института. Мне предложили приходить еще. Кстати, дату начала моего иподьяконства у нас в семье воспринимали с некоторой «паузой»: в ночь с 3–го на 4–е февраля в 1930 г. арестовали моего отца.
Потом, 27–го февраля, — на память Марона пустынника — была патриаршая служба у Иоанна Воина. Помню, что Патриарх заметил меня и бросил очень выразительный взгляд. На следующий день настоятелю полагалось идти с конвертиком «благодарить» за службу. Потом о. Александр сказал мне: «Патриарх о тебе очень долго расспрашивал». Вскоре он вызвал меня и предложил быть старшим иподьяконом и хранителем ризницы — с тем, чтобы я являлся на работу каждый день, но не в ущерб занятиям. Я сначала никак не хотел: «Не пойду. Не нужен мне никакой патриарх — у меня есть храм Иоанна Воина, у меня есть батюшка!» Но о. Александр настоял. Так я стал старшим иподьяконом. До меня в этой должности был Сергей Громов — он потом служил в храме Пимена Великого. Тогда его уже рукоположили в дьякона. Помню, он все уговаривал меня жениться: «Да что ты не женишься? Смотри, как я! Женись, будем с тобой дьяконами!» Ему назначили в патриархии жалование пять тысяч рублей, а мне две. Потом патриарх посмотрел эти бумаги и сказал: «Нечего баловать молодых людей». Тогда ему назначили две тысячи, а мне тысячу. Так с тысячей я и оставался до инспекторской должности. Иподьяконы поначалу встретили меня в штыки. Они все были одна компания, друзья, а я явился со стороны, да еще был поставлен над ними, хотя и службы «изнутри» не знал: это просто был нонсенс в их глазах. А дело в том, что, отец нас детьми в алтарь не благословлял, да и потом никто никогда меня не допускал. Помню, как–то спрашивают меня, чтó я не складываю облачение, а я отвечаю: «Мне неудобно стоять к Патриарху спиной». Мне говорят: «У тебя для того и есть крест на спине, чтобы не было неудобно!» потом постепенно все уладилось — меня признали и мы подружились.
Я был старшим, так сказать, по штату, а Сергей Колчицкий, сын протопресвитера — «почетным старшим иподьяконом», он приходил на службу не всегда, а когда мог, но когда бывал, ходил с трикирием. Тогда говорили, что среди патриарших иподьяконов Сергей самый «красивый», Толя Мельников самый «добрый», а Костя — то есть я, — самый «злой». Дело в том, что я к церковным дамам всегда относился настороженно, а Толя — хитрющий! — им покровительствовал и сам нередко пользовался их расположением. Помню, как–то зашел разговор — кто куда на лето. Толя пожимает плечами: нет проблем! Сделал умильное выражение лица, подошел к одной из дам поговорить. Возвращается: «Все в порядке! На лето есть, куда поехать».
От прежней команды оставался один Славка, и у него были свои претензии на главенство. Как–то раз он перед службой командирским тоном велел одному из ребят, Жене Архангельскому, сходить к старосте за кагором. Женя был сын дьякона, очень интеллигентный мальчик. «Не пойду!» — ответил он. — «Пойдешь!» — «Нет, не пойду!» — «А я говорю — пойдешь!» — «А у холуев холуев не бывает!»
Саша Циммерман был почти глухой. Он воевал, был ранен, потом болел воспалением легких, получил какое–то осложнение, ему делали трепанацию черепа, и слух пропал, так что из армии его списали. Однажды он сдавал экзамен и приехал на службу впритык. Был какой–то престольный праздник, и вокруг храма сбилась плотная толпа. А ему надо было уже в начале выходить с рипидой. Недолго думая, он возгласил мощным голосом: «А ну, расступись! Дорогу патриаршему аколуфу!»[44] И толпа в страхе раздвинулась.
«Старейший» из наших иподьяконов, Жора (он был иподьяконом еще у Патриарха Сергия), был тяжело болен. Как–то он поехал в Можайский Лужецкий монастырь и после этого ему стало лучше. Он говорил, что его исцелил Преподобный Ферапонт.
В иподьяконской среде были свои «профессиональные» шутки: говорили, например, что для архиереев в машине надо делать специальный стеклянный колпак, чтобы можно было ездить в митре или клобуке, особенно если архиерей высокого роста как, например, епископ Иероним. Предлагали ввести знаки отличия для иподьякона — «право ношения митры в ночное время» и «свечи на клобуке».[45]
Стихари на службе мы всегда надевали поверх костюма — даже в жару. Бывало, что не только костюмы, но и стихари были мокрые от пота. Но снять пиджак считалось неприличным. Обязательно сорочка, галстук и пиджак, и только тогда — стихарь. В значительной мере причиной этому было то, что не у каждого под пиджаком тогда была надета сорочка, бывали одни манишки, да накрахмаленный воротничок и манжеты, доставшиеся от НЭПа. пиджак снимал только Сережа Колчицкий. Ему, как сыну протопресвитера, было можно. А все остальные держали стиль. Кстати, орари иподьяконам тогда не одобрялись. Резонов было несколько. Первое: это одежда священнослужителя. Второе: не профанировать священные обряды переодевания. Хотя иподьяконов все — от протопресвитера до нижних чинов — звали «отцы иподиаконы» и персонально по имени, а старшим даже благословлялось ставить трикирии на престол.
Трикирии у Патриарха были с сомкнутыми концами. Это была старомосковская традиция. То, как делают сейчас, когда трикирии представляют собой связанные пучки свечей — традиция, пришедшая от греков. У них это техническая необходимость: свечи делаются из парафина и плохо гнутся. Когда у нас были парафиновые свечи, мы очень мучились, но все–таки делали, как всегда. Патриарх говорил, что так яснее подчеркивается догматический смысл.[46]
3. Святейший Патриарх Алексий и его окружение
О своем общении с Патриархом Алексием (Симанским) Владыка говорил как об особой эпохе жизни…
Патриарх
С того момента, как я стал иподьяконом, до кончины святейшего Патриарха Алексия прошло 25 лет моего почти неотлучного пребывания около него. Я его и облачал, и в гроб клал, и слово надгробное говорить поручено было мне.
Патриарх был удивительным человеком. До последних дней он сохранял ясный блеск глаз и твердость почерка. В богослужении — да и в жизни, — он был неподражаем; повторять его было невозможно. Интересная деталь: на службе его сразу было видно, оптически взгляд фокусировался на нем, хотя он был, я бы сказал, неполного среднего роста. С началом контактов с зарубежными Церквами к нам стали приезжать Патриархи с Востока, величественные, не знавшие, что такое репрессии, — но когда они стояли в одном ряду, наш Патриарх выделялся среди них своим духовным величием. Это внутреннее содержание выделяло его из ряда всех иерархов. А ведь это тоже были люди с богатым внутренним миром, прошли суровую школу самооценки, для них мишурность нашего повседневного бытия была странной. Я прекрасно помню архиепископа Луку (Войно–Ясенецкого), который был более, чем на голову выше Патриарха, архиепископа Филиппа Астраханского, величественного, высокого, красивого старца — но и среди них он сразу притягивал взгляд.
Однажды, еще в войну, в первую зиму, как мы вернулись из эвакуации, сестра Мария Владимировна встретила будущего Патриарха, тогда еще местоблюстителя, на Тверской улице около телеграфа. На нем было теплое пальто и пыжиковая шапка, и он шел стремительной и решительной походкой. Марию Владимировну тогда поразило, что на него все оглядывались.
Патриарх происходил из дворянского рода Симанских, потомков псковских воевод, свято хранивших традиции древнего благочестия. Жили они в Москве и отношения их с петербургской аристократией были непростыми. Дореволюционное высшее сословие было, конечно, малорелигиозным. Патриарх рассказывал как анекдот, но весьма характерный. Одна барыня говорила (видимо, по–французски): «Службы такие долгие, утомительные! Я всегда приезжаю к «состракóм». Это значит, к возгласу: «Со страхом Божиим и верою приступите…» Еще один из его любимых рассказов: отпевают одного высокого чиновника. Диакон молится: «… об упокоении раба Божия…» — а кто–то в толпе говорит: «Какой же он «раб Божий», если он — действительный статский советник?»[47]
Над семьей Симанских почивало благословение святителя Филарета (Дроздова), полученное некогда матерью будущего Патриарха, Ольгой Александровной. Когда она была ребенком, ее подвели к митрополиту Филарету под благословение, и он подарил ей маленькую иконочку. Эта иконочка хранилась в их семье как святыня, и Патриарх впоследствии вставил ее в панагию. Его академическое дипломное сочинение, так и не опубликованное, называлось «Нравственно–правовые понятия в учении митрополита Филарета». Он часто говорил, что два гения формировали нашу литературную и богословскую, церковную и светскую элиту: Пушкин в поэзии, в светском языке, и Филарет Московский в богословии. Кто–то, — кажется, Аксаков, — в надгробном слове святителю Филарету сказал: «Смолкло важное слово». Действительно, стиль Филарета — особая эпоха богословского жанра. И собственный письменный стиль Патриарха был филаретовским — это чувствуется даже в частных письмах.
Ежегодно он отмечал дни памяти митрополита Филарета в Лавре, а вечером 14 декабря проводил филаретовские чтения в общем собрании профессоров и студентов Академии и семинарии. Он вспоминал рассказы современников, лично знавших Святителя, и его собственные мудрые поучения. Вообще Патриарх очень любил Лавру и обычно очень скромно, по–монашески, отмечал там свои дни рождения, скрываясь от торжественных официальных поздравлений.
В день кончины матери он поминал только ее, в день памяти отца — только его. Помню, как, оказавшись на могиле своего отца, он поцеловал подножие креста.
Образование он получил блестящее. По–французски говорил совершенно без акцента — так, что его можно было принять за француза, английским владел также вполне свободно, но все же избегал говорить на нем. По–русски он говорил с тем своеобразным выговором, который бывает у людей, с детства много занимавшихся иностранными языками. Возможно, сказывалось и старомосковское произношение. Слово «жара», к примеру, у него звучало как «жиры».
Учился он в лицее цесаревича Николая, располагавшемся в здании у Крымского моста, где сейчас находится Дипломатическая Академия. Там же обучались и дети Льва Толстого, один из сыновей — в том же классе, что Сережа Симанский. Патриарх рассказывал, что кабинет директора лицея помещался на первом этаже — как раз напротив входа. И вот однажды он увидел, как в вестибюль вошел человек мужицкого вида, в тулупе, в шапке — весь как большая снежная глыба. Швейцар замахал на него руками: «Ты куда через парадный вход! А ну иди в швейцарскую!» Тот смиренно снял шапку: «Да я, вот, к начальнику. Дети у меня здесь учатся». Тут только швейцар понял свою оплошность: «Ах, ваше сиятельство, граф, простите…»[48]
Дочь директора Лицея, Екатерина Петровна Матасова, рассказывала, что на балах, которые время от времени устраивались в Лицее, Сережа Симанский обычно подпирал стенку и отпускал едкие замечания в адрес танцующих. Тем не менее о нем существует романтическая легенда: что якобы у него была первая и единственная любовь, которой он всю жизнь в день ангела посылал фиалки — ее любимые цветы. Я тоже это историю слышал, но насколько она достоверна, судить не могу. Я спрашивал и у Лидии Константиновны Колчицкой, но она тоже ничего сказать не могла кроме того, что лично она цветов не возила.
После окончания лицея он учился на юридическом факультете, писал диплом у Сергея Николаевича Трубецкого на тему «Комбатанты и некомбатанты во время военных действий». Кто бы мог тогда подумать, что эта тема будет для него актуальной: в Первую мировую войну он был архиепископом Новгородским, а во Вторую — провел в Ленинграде все 900 дней блокады. Он тогда жил в помещении под куполом Никольского собора — прямо над храмом. Храм пятикупольный и в нем наверху было довольно просторное помещение со сводчатым потолком. Однажды во время обстрела была пробита висевшая одежда, один осколок снаряда упал на стол прямо перед Патриархом. Он потом хранил этот осколок всю жизнь…
Когда он принимал постриг в Троице–Сергиевой Лавре, один мудрый старец сказал ему: «Тебе сейчас вручается хрустальный сосуд, полный до краев. Пронеси его через всю жизнь, не расплескав!»
Его учителем — не духовником, а духовным наставником — был митрополит Арсений (Стадницкий), личность чрезвычайно интересная, настоящий самородок. Он был из молдаван и без всякого родства, без всяких связей стал тем, кем стал.
Время от времени к Патриарху приходили его старые знакомые, с которыми у него были давние, теплые отношения.
В послевоенные годы вернулся в Россию из эмиграции, из Вены, архиепископ Стефан. Бывая у Патриарха, он много и интересно рассказывал о странах, где побывал. Если чувствовал, что рассказ затянулся, в том же повествовательном тоне произносил: «А вот у финнов, например, есть такой обычай. Люди собираются в гости, сидят, сидят, — а потом расходятся».
Помню, частым гостем был старый генерал Алексей Алексеевич Игнатьев. Кстати, именно благодаря Игнатьеву, Сталин подарил патриархии Переделкино. Игнатьев рассказывал, что Сталин однажды обратился к нему с вопросом: «У Патриарха скоро юбилей. Что бы подарить ему?» Игнатьев посоветовал: «Подарите Переделкино».[49]
После службы Патриарх и Игнатьев обычно пили чай и много вспоминали — друг для друга, — а мы благоговейно слушали. Бывало, Игнатьев, войдя в раж, восклицал: «Ну, помните, Ваше Святейшество, это было еще тогда… — ну, когда мы с вами живы были!» А сам Патриарх иногда о себе говорил: «Так долго жить просто неприлично». Конечно, эти люди сформировались еще до революции…
Говорят, что аристократизм — от воздержанности. Патриарх был аристократом в лучшем смысле этого слова. Режим его жизни, его распорядок дня всегда был для меня образцом. Он был очень воздержан в своем быту, питался по уставу, строго соблюдая все посты и постные дни. Вообще трапеза полагается дневная и вечерняя, а до 12 часов дня считается неуставной, и специальных молитв к ней нет. Когда она случалась, Патриарх, читал до начала «Пресвятая Троице», а по окончании — «Достойно есть».
Его день начинался с утренних процедур, в число которых входила даже небольшая гимнастика (не на стенке, не на кольцах, конечно, не с гантелями — просто несколько упражнений, чтобы размять свои старые мышцы и кости). Затем он молился — у него были и общие, и свои собственные молитвы, — а потом шел к своему рабочему столу. На пути стоял другой, круглый стол, на котором лежало Евангелие. Каждый раз, проходя, он прочитывал страницу или две, открывал страницу на завтра и на следующий день читал, начиная с того места, на котором кончил в прошлый раз.
Научиться у него можно было многому. У него был образцовый порядок в бумагах и на столе. Монахиня мать Анна этот стол каждый день тщательно протирала, тем не менее Патриарх всегда смотрел, не забилась ли пыль в щели резьбы. Как–то я подарил ему маленькую дорожную щетку. Он, разглядев ее, страшно обрадовался: «Так ею же можно пыль из щелей вычищать!» Непременным атрибутом его стола была вазочка с конфетами. Сам он ел конфеты редко — разве что в конце напряженного рабочего дня возьмет себе одну; в основном они предназначались для посетителей. Конфеты ему дарили часто, он откладывал несколько штук в вазочку, остальные обычно кому–то отдавал, но ленточки[50] всегда оставлял себе и ими перевязывал аккуратные систематизированные стопки бумаг. Про Колчицкого говорил: «ну вот, был у меня отец протопресвитер, вывалил на стол ворох бумаг, и все говорил, говорил… И что это? Принес! Ничего не систематизировано, ничего не понятно!» И начинал раскладывать их по кучкам…
Ему всегда на все хватало времени (а я, напротив, никак не могу овладеть этим искусством — мне времени вечно не хватает!), во всем ему были свойственны предельная аккуратность и точность. Помню, как однажды, приехав на две минуты раньше куда–то, где его ждали, он страшно извинялся. Одним из небольших «искушений» были церковные часы, которые в разных храмах, где ему приходилось служить, шли по–разному, неточно, и если мы, иподьяконы, выезжали, чтобы подготовить все к службе, то нам нужно было еще проверить, правильно ли идут часы. У самого Патриарха они были исключительно точные. Носил он их на цепочке — считал, что архиерею носить часы на руке неприлично.[51] Если он видел такое у епископа, говорил: «Преосвященнейший, вы что, носите часы на руке?» И в знак особого расположения мог достать из ящика часы на цепочке и подарить: «Вот вам, пожалуйста. Чтобы этого больше у вас на руке не было!» Когда меня рукоположили в епископы, он подарил такие часы и мне.[52]
Во время службы бывало, что он хотел узнать время, но это было трудно: вынимать часы он позволял себе, только если сидел в алтаре и мог это сделать, не привлекая внимания. Достать часы на людях он не мог. Я однажды подарил ему посох, в верхушке которого было сделано углубление с крышкой, куда можно было спрятать часы. Крышка набалдашника открывалась от нажатия кнопки. Патриарх действительно некоторое время пользовался этим приспособлением, потом оно, возможно, попало в ЦАК.[53]
Помню его благоговейное отношение к святыне, которое проявлялось даже в мелочах. Однажды я подал ему на подносе антидор и теплоту. Когда он взял антидор, у него упала маленькая крошка. Он с трудом, кряхтя, наклонился за ней, но достать не мог. Я, поскольку держал в руках поднос с ковшом, сначала боялся наклониться: вдруг пролью ему на рясу — но потом все же изловчился, поднял эту крошку и сунул себе в рот. Он посмотрел на меня с некоторым удивлением.
Про богослужение Патриарх говорил, что оно как драгоценная вышитая ткань, и что его надо «творить», как вышивку, а любая пауза или заминка — это как разрыв на ткани. Сам он совершал богослужение вплоть до последних дней своей жизни регулярно — во всяком случае, по всем праздникам. Он очень ценил стихиру Великой среды «Яже во многи грехи впадшая жена…», автором которой была женщина — монахиня Кассия. Когда однажды ее не спели, он страшно расстроился: «Ну, как же можно было не спеть такую стихиру!»
Характер у Патриарха был очень контрастный — я бы сказал, огненный. Когда он сердился, весь вспыхивал, приходил в страшный гнев, но потом всегда сам очень от этого расстраивался и жалел о случившемся. Кроме того, он обладал большим чувством юмора. Надо сказать, что настоящий русский юмор тонок, мягок и весьма саркастичен. Еще Гоголь сказал: «Горьким смехом моим посмеюся». Со свойственным ему тонким юмором Патриарх подчас выказывал и свое недовольство.
Однажды показывает он мне телеграмму от одного архиерея: «Поздравляю Ваше Святейшество Первым мая». Когда я прочитал текст телеграммы, он прокомментировал: «Какая сволочь!» Действительно, репутация у этого архиерея была весьма дурная. Он считался предателем Церкви, идущим на поводу у властей. Зачем он мог послать такую телеграмму? То ли переусердствовал, рассылая необходимые по протоколу поздравления, то ли хотел продемонстрировать свою лояльность по отношению к тем, кто держал под контролем переписку архиереев. Я тогда разделял общую точку зрения, однако потом, познакомившись с этим владыкой ближе, раскаялся в ней. Это был человек, окончательно запутавшийся, запуганный и потерянный. Однажды под давлением обстоятельств пойдя на недопустимый компромисс, он уже не мог выйти из порочного круга, и делал одну ошибку за другой. Скорее, он вызывал жалость, чем презрение.
Казалось бы, инцидент с телеграммой был исчерпан. Но через месяц подзывает меня Патриарх и говорит: «Костя, отправьте телеграмму». Подает деньги и текст. Телеграмма адресована тому самому архиерею: «Поздравляю Ваше Высокопреосвященство первым июня». Вообще он обычно отдавал мне свою корреспонденцию со словами: «Костя, пожалуйста, прочтите и отнесите на почту». — «Ваше Святейшество, мне ли Вас…» — «Нет–нет, второй глаз всегда нужен».
Иногда он давал мне тексты, которые надо было передать для печати машинистке. Это каждый раз давало ему повод испытать удовольствие, которое никогда не теряло своей новизны, тем более, что повторялось довольно редко, а состояло в том, что он всегда сопровождал текст запиской, адресованной одинаково: «Милостивой государыне Александре Федоровне».
Иногда он допускал парадоксальный образ мышления. Порой любил ставить в тупик впервые пришедшего к нему посетителя. Посмотрит на него и спросит: «Ну и как? Ничего?» Тот теряется, начинает улыбаться: «Да, ничего, ничего, Ваше Святейшество…». Как–то за столом речь зашла о евреях. «Да, — сказал Патриарх, — евреи — это, конечно, ужас! Сложная, тяжелая психологическая формация. Столько с ними проблем! Но подумайте: ведь это притом, что они — богоизбранные, — и до чего дошли! А если бы Бог их не избрал, да не смирял, — то что бы тогда было? Еще хуже!»
Митрополит Макарий (Оксиюк) был ученейший человек. Помню его уже в старости, серьезным, согбенным. О. Николай Колчицкий как–то сказал о нем Патриарху: «Ваше Святейшество! Митрополит Макарий — такой смиренный старец!». Патриарх медленно, задумчиво произнес: «Да… Смиренный… Согбенный… Лукавенный…»
Как–то, увидев в храме маленького сына преподавателя Академии Скурата, он спросил: «Это кто же? Малютка Скуратов?»
Очень не любил он нарочитого проявления внешнего благочестия. Когда мирские подходили к нему за благословением со слишком низким поклоном, он говорил: «Ну, ладно, монашествующие, у них хоть одежды длинные, но ты–то со стороны как выглядишь?» Когда одна сотрудница Патриархии стала ходить на работу, как на богослужение, в платке, он, увидев ее в очередной раз, показал на платок и с любопытством спросил: «Что это за гадость такая у тебя на голове?»[54]
Не любил он и когда мирские по духу люди искали пострига. По этому поводу у него был один любимый анекдот, который он удивительно изящно и смешно представлял в лицах (он обладал необыкновенным актерским даром, даже сам о себе говорил, что в студенческие годы собирался в артисты): Приходит одна дама к другой. Гостья взволнована, а хозяйка спокойно раскладывает пасьянс. Гостья говорит: «Ах, моя дорогая, у меня такая тайна, такая тайна, что я даже вам ее открыть не могу!» «Ну, полно, — отвечает хозяйка, не отрываясь от пасьянса. — Какая же такая тайна, чтобы даже и от меня?» Еще поупиравшись, гостья признается: «Я вчера приняла тайный постриг!!!» Хозяйка пренебрежительно пожимает плечами: «Нашли, чем удивить! Я уже десять лет в схиме!»
Когда дочь митрополита Серафима (Чичагова), Леонида Леонидовна (по мужу Резон) ушла в Пюхтицкий монастырь, на одном из ее прошений Патриарх написал: «Постригать Л.Л. Резон — не резон». До этого она работала фельдшерицей в Патриархии. Была она очень бойкой и активной, любила, чтобы на службе все было по уставу. Когда она однажды возмущалась, что пропели не тот светилен, Патриарх сказал ей: «Леонида Леонидовна, это к медицине не относится!» В конце концов, ее все–таки постригли с именем Серафима.
Из своей жизни Патриарх рассказывал и следующий эпизод, имевший место в бытность его епископом. Вернувшись после ссылки в Ленинград, он спросил у одного священника: «Отец протоиерей! Простите, а кто вам дал право носить палицу?» — «Вы, ваше Высокопреосвященство!». — «Когда?» — «А помните, когда вас увозили, вы повернулись на ступеньке вагона, и благословили нас всех, а я вам показал вот так» (Священник показал руками фигуру ромба). Патриарх не переносил, когда кто–то искал способа прикрыть свою волю священническим благословением: «Батюшка, благословите, я уже сделала!», — и называл таких «иноками Шаталовой пустыни».
Мне тоже однажды случилось пожать плоды этого «вынужденного благословения». Патриарх очень не любил, когда я уезжал и на поездки благословлял нехотя. Как–то собрался я поехать в Караганду на Рождество, отпросился, пообещав, что вернусь к Крещению. А когда приехал, было холодно, я весь промерз и заболел. На Крещение меня не было. Потом выздоровел, прихожу, Патриарх говорит «Ну вот, не надо было ездить!» «Как же, ваше Святейшество, вы же сами разрешили!» — «Ну, как разрешил?…»
После войны он долго ездил на «Победе». Когда уже появилась «Волга», все равно предпочитал «Победу»: в нее можно было войти и только после этого сесть, а в «Волгу» надо было садиться и потом втаскивать ноги, а ему это было тяжело. Еще у него был ЗИС–110, который шел как корабль — плавно, мягко. Ездить на высокой скорости он не любил. Обычно ездили со скоростью 85–95 километров. Бывало, чуть шофер прибавит газ, так что зашкалит за сто, он стучит ему в стекло: «Георгий Харитонович, вам что, так велели?». Шофер извинялся, а Патриарх прибавлял: «Ну, а если бы мы, как до революции архиерею полагалось, ездили на шестерке лошадей, то неужели гоняли бы во весь опор как пожарные?»
Зимой, когда надо было идти на улицу, он всегда одевался заранее и, пока все собирались, сидел одетый, говоря, что надо аккумулировать тепло.
Однажды, еще в период местоблюстительства он служил на пригородном приходе и ночевать ездил на поезде в Лосинки. Служил же он с одним архимандритом. Уже собирались и Патриарх, подбирая под пальто полы рясы, обратился к нему: «Отец архимандрит, вы меня проводите? Мне надо помочь нести чемодан». Тот, конечно, согласился и Патриарх вынес ему дореволюционный маленький саквояж типа тех, какие назывались «акушерскими»: небольшой и пузатенький. Архимандрит, увидев его удивился, а взяв в руки, удивился еще сильнее: он–то думал, что это действительно чемодан — тяжелый, громоздкий, а оказалось — совсем легкий.
Этот саквояж был у нас притчей во языцех. Когда куда–то ехали или собирались со службы, Патриарх всегда говорил: «Ленечка, где мой чемодан?» Носил же он в нем едва ли не один только Чиновник.
Леня Остапов и его отец
С Леней Остаповым, будущим отцом Алексием, у нас была хорошая юношеская, а потом и взрослая дружба. Он был моложе меня на четыре года. В семинарии его однокурсниками были о. Матфей Стаднюк, Скурат, о. Василий из церкви Ризположения на Донской.
Леня вместе с родителями и сестрой — приемной дочерью родителей, еще младенцем, Натальей, — появился в Москве в 1946 г. Ему было 16 лет. Это был очень молчаливый, застенчивый мальчик, переживший нацистскую оккупацию. Я к тому времени был уже старшим иподьяконом, и Патриарх поручил мне опекать его. Чем я мог ему помочь? Учить его Евангелию не было смысла, — его крестным отцом был сам Патриарх. Я взял на себя труд приобщить его к нашей советской действительности, и для начала дал ему прочитать «Двенадцать стульев» и «Золотого теленка». Эффект был сногсшибательный. Мы подружились, а с увлекшей нас идеи «поиска стульев» начался наш Церковно–Археологический кабинет. Была у нас тетрадь, в которой мы оставляли друг другу послания, поскольку времени для личного общения днем нам обычно не хватало. Так вот, если в этой тетради появлялась запись: «А я нашел еще один стул!» — это означало какую–то новую выдумку.
У Лени было необыкновенно развито чувство юмора, а также — способность к звукоподражанию (он мог петь оперные арии за всех — от Ленского до Гремина). За столом он часто смешил патриарха своими рассказами. Патриарх смеялся до слез, приговаривая: «Ой, не могу! Как ты сказал? повтори!» Потом, бывало, успокоится, но через некоторое время вспоминает опять и переспрашивает, смеясь: «Так как ты сказал?»
Вот, к примеру, один из его анекдотов. Некий епископ на Святках объезжал епархию и приехал в один женский монастырь. У матушки–игумении был говорящий попугай, который знал молитвы, псалмы, нараспев читал «Блажен муж…», а «Господи, воззвах…» пел на все восемь гласов. Епископу попугай страшно понравился, и он стал просить: «Матушка, благословите на Пасху прислать эту птичку ко мне! У меня будут гости — то–то они порадуются!» Игумения пообещала. «Ну, так я пришлю за ним людей, — сказал епископ, — Мы его укутаем, ничего с ним не случится». На Пасху епископ послал за попугаем. Собрались у него гости — ждут диковинку, — все нет и нет. Да и не удивительно: снег растаял, дороги развезло. Наконец, явились посыльные. Спрашивают их, что так долго. «На переправе, — говорят, — долго ждали». Поставили на стол укутанную клетку с попугаем, развернули. Попугай сидел замерзший, нахохленный, сердито посмотрел на присутствующих одним глазом, и вдруг — как заорет: «Эй вы, там на переправе! Да чтоб вам …» И разразился потоком брани.
Или другая история. Один барин очень любил свою собаку. И нашелся мошенник, который решил на этом нажиться. Он сказал барину, что у него есть один знакомый, который собак учит говорить. Барин заинтересовался: «Что же для этого нужно?» «А ничего, — ответил мошенник — только собака и деньги». Барину очень захотелось говорящую собаку, он дал ему денег, и собака была отправлена на обучение. Прошло какое–то время — барин поинтересовался, как успехи. «Хорошо — говорит мошенник, — уже отдельные слоги произносит, но деньги кончились». Барин дал еще денег. Наконец, нужно было ехать за собакой. Поехал мошенник, но вернулся один, без собаки, и сильно расстроенный. «Где же собака?» — спросил барин. «Ах, барин, — вздохнул тот, — и не спрашивайте! Научилась собака говорить, взял я ее, повез, разговорились мы с ней в дороге. Она и спрашивает: «А что мой хозяин? Все ли еще через забор прыгает?» Я говорю: «Как это «через забор»? С чего ты взяла?» А собака и отвечает: «А когда я у него жила, он все время к соседке через забор скакал». Я рассердился, схватил пистолет и пристрелил собаку. «Ну и правильно сделал!» — воскликнул барин.
Своим добродушным юмором Леня легко мог разрядить напряженную атмосферу. Как–то раз выходили все из Крестовой церкви Патриарха и среди прочих был, разумеется, ее настоятель, о. Иеремия. Не помню, уже, что он стал говорить, но Парийский, главный бухгалтер Патриархии, грубо перебил его словами: «Да хватит валять дурака!»[55] Всем стало неловко и неприятно — так сказать старому человеку! А Леня, — ему было лет 16–17 — один нашелся и перевел все в шутку: «Как это вы говорите, «хватит дурака валять»? Дурака никто и не валял — видите, я же стою!»
Я всегда носил портфель — большой, вместительный, потому что, можно сказать, вся жизнь была в нем. Леня называл этот портфель моей «второй ипостасью»: «Если видишь портфель, значит и Константин где–то близко».
В семинарии не без Лениной помощи я заслужил прозвище «рыболова». Ловить рыбу, правда, мне особенно не доводилось, но однажды мы с братом поехали на дачу в Юхнов на реке Угре и там отвели душу. В первый раз пошли ночью, но ничего не поймали. Зато днем рыбалка была очень удачная: в старице, в бочажке, рыба осталась после весеннего разлива и ее там было множество. Очень было интересно смотреть сквозь прозрачную воду, как она хватает наживу. Потом я как–то вспомнил об этом — с этого времени и пошло. А Леня подарил мне книгу «Простейший способ ужения рыбы», на которой надписал: «Ловцу рыб и человеков».
Однажды, когда Леня был в поездке с Патриархом — где–то на юге, выходит Патриарх, видит: сидит он и что–то сосредоточенно читает. «Что читаешь?» — «Да вот, Костя письмо прислал». — «Ну, и что пишет?» — «Не знаю!» — Патриарх подошел, заглянул через плечо: «Прекрасный почерк! Ну–ка дай!» — Взял, посмотрел: «До–ро–гой Ле–ня… Гм… Ну–ну, читай!»
Когда Остаповы купили дом в Загорске, Леня сказал, что повесит на нем табличку: «В этом доме никогда не был Адам Мицкевич». — По Москве тогда шла кампания по развешиванию разнообразных вывесок.
Отец Лени, Даниил Андреевич Остапов находился при Патриархе с мальчишек. В 1914 г. умер его брат — келейник, а он тогда был «самоварным мальчиком» лет четырнадцати, — т. е. ему доверяли ставить самовар. В конце 20–х годов он, по благословению Патриарха, женился, а потом на некоторое время оказался разлучен с ним. В годы войны он был с семьей в Новгородской области и попал под оккупацию. В конце сороковых его неожиданно арестовали, и куда Патриарх ни обращался, не освобождали. И вот ночью Леня ясно услышал голос: «А молитесь ли вы мученику Трифону?» После этого Патриарх спросил у меня, нет ли у нас акафиста мученику Трифону. Я сказал, что, конечно, есть, и принес наш старый, «намоленный» и потрепанный. Потом, разбирая библиотеку в Патриархии, я нашел совсем новый, принес его Патриарху. Он посмотрел и сказал: «Нет, этот вы возьмите, а к тому я уже привык».
Обращение к мученику Трифону, действительно, помогло: Данилу выпустили. Помню, как потом Патриарх говорил слово в день памяти мученика: «Случилась беда в одном благочестивом семействе. Испробовали все средства — не помогало. И вот, чистый отрок ночью слышит голос…» Мученика Трифона почитала вся церковная Москва, все знали, что он никогда не откажет…
Данила Остапов был человек, несомненно, церковный, верующий и по–своему очень преданный патриарху, но очень жадный и исключительно ревнивый. Из ревности он никого к нему близко не подпускал. Помню, как–то мы откровенничали с митрополитом Никодимом, и он сказал: «Меня Данила ненавидит, но как же он ненавидит вас!» Нашей дружбы с Леней он одновременно и опасался, и ценил ее. Больше всего Данила боялся, что я через него буду оказывать влияние на Патриарха (а патриарх Леню обожал).
В Патриархии Данилу Остапова все боялись. Он обладал свойством внезапно появляться в самый неподходящий момент. Буевский, человек утонченный и наблюдательный, как–то сказал, посмеиваясь: «Даниил Андреевич — человек великой мудрости, но и ему свойственны человеческие слабости. Заметьте: он носит ботинки со скрипом!» Действительно, с тех пор все стали прислушиваться и, как только слышали скрип ботинок, прекращали разговоры.
Данила был посвящен во все дела Патриарха, но все тайны унес с собой. Есть легенда, что Патриарх встречался со Сталиным и исповедовал его. Семинарское прошлое Сталина и его своеобразное отношение к Церкви породили несколько подобных рассказов, которые передавались как легенды. Вот один из них. Маршал Василевский был сыном священника. Однажды на заседании военного совета Сталин спросил его: «Маршал, говорят, у вас отец священник?» — «Да, Иосиф Виссарионович, но я с ним не имею никаких отношений!» — «Это плохо. Сын должен заботиться о своем отце» — Последовал вздох облегчения, и с тех пор Василевский регулярно посылал своему отцу подкрепление в виде продовольственных посылок. Это было во время войны.[56] Так что, достоверен ли рассказ об исповеди — не могу сказать, хотя и не исключаю, что это могло быть. Мы тогда были очень дисциплинированны, — лишнего не говорили и не спрашивали. Поэтому у меня нет даже самых малых данных, чтобы что–либо утверждать. Но легенды рождаются не на пустом месте. Существуют какие–то «поля», которые при определенном напряжении становятся как бы реальностью. Естественно, что параллельное сосуществование таких лиц как Сталин и Патриарх Алексий рождало это напряжение. Был у меня в Риме знакомый старичок–священник, который про Сталина сказал: «Это человек рока».
Протопресвитер Николай Колчицкий
Николая Федоровича Колчицкого — несмотря на противоречивые о нем суждения — я вспоминаю с теплым чувством и с благодарностью. Это был выдающийся литург нашего времени. Судьба свела меня и с ним, и с его современниками, которые помнили его еще студентом Московской Духовной Академии. Он приехал учиться в Сергиев Посад, будучи уже женатым священником, что было и очень трудно, и необычно — это был большой подвиг. В 40–е годы он уже в сане протопресвитера был настоятелем Патриаршего Собора.
Личностью он был сложной и незаурядной, отзывы о нем самые разные. У него был очень тяжелый характер и, кроме того, по должности он был под строгим контролем НКВД. Но при этом он прикрывал многих бездомных священников, вернувшихся из лагерей и ссылок, пристраивал их и еще умудрялся платить им деньги. В штате патриаршего собора было всего два человека: протопресвитер и протодьякон, но ежедневно с ним сослужило несколько священников, а в родительские субботы их бывало до двадцати. Так все они, не имея регистрации, имели возможность стоять перед престолом и причащаться. И когда их в своем кругу спрашивали, платит ли он им что–то, отвечали: «Не обижает». И это притом, что существовала фининспекция и контроль был просто страшный, надо было отчитываться буквально за все. Подзовут священника: «Это что у вас на руке?» — «Четки». — «А сколько они стоят?» — «Пятьдесят копеек». — «А это что?» — «Ряса». — «А она сколько стоит?» — И так далее, и на все надо было дать ответ. А он умел обойти этот надзор — возможно, именно благодаря своим контактам.
Во всем же, что касается церковного служения, он был не просто безупречен, но мог служить примером. Священники, служившие с ним, говорили, что человек он страшный, но что перед престолом он совершенно переплавляется. У него был прекрасный голос, служил он истово, подолгу, вечером — так часов до двенадцати. Всегда читал массу записок, — ему их давали целую гору, а просфоры подносили в большом деревянном корыте. В родительские субботы, — а эти службы он особенно любил, — священники вынимали частицы всю ночь.
В те времена говорили, что в Москве два Николая: Колчицкий и Крутицкий. Между ними было что–то вроде соперничества. В отличие от митрополита Николая (Ярушевича), бюрократом Колчицкий был плохим, бумажная работа была ему скучна. В то же время он говорил: «Когда «Дедушка» умер, пришел к нему Карпов и все бумаги забрал. А у меня ничего и нет, я все уже сдал». И показывал пустой ящик.
Парадокс был в том, что формально Колчицкий не был настоятелем Богоявленского собора. До него эту должность занимал о. Николай Богословский, потом его арестовали, и не было известно, жив он или нет. Тогда прихожане, посовещавшись, подали на имя Патриарха Сергия прошение о назначении Колчицкого, но тот так и не подписал его, и хотя все считали Колчицкого настоятелем, указа о его назначении не было. Это была тайна, которую хранили два–три человека. Этот факт знаменателен, поскольку Колчицкому ничего не стоило сделать себе и десяток указов.
У него был сильнейший диабет. Бывало, Патриарх участливо спрашивал его: «Ну, как самочувствие? Как сахар?» Он на это отвечал: «С сахаром мне нельзя, я все больше с вареньем». Тогда не очень знали, что это за болезнь. Выглядел он иногда ужасно: под глазами у него были желто–зеленые круги.
Ездил он всегда на маленьком 401–м «Москвиче», хотя у него были и ЗИМ, и «Победа». Он был очень тучен, и удивительно было, как он помещается в этой машинке — притом, что у него там лежала еще и подушка. Шутили, что у «Москвича» откидывается крыша, и его туда загружают подъемным краном, а потом крышу захлопывают.
Бывало, вечером из Патриархии после приема, тяжелого дня приезжает он на Елоховку, в Патриарший собор. Входит в алтарь. У него желто–зеленый цвет лица, тяжелая одышка… Посмотрев по сторонам, говорит с раздражением: «Зина! Не тот ковер постелила!… Маня! Не туда подсвечник поставила!» — Все прячутся по углам. Он подходит к престолу, грузно опускается на одно колено, потом на оба, проходит в свой уголочек за шкафом, в котором ему и повернуться негде (а никаких других помещений у Церкви тогда не было), снимает с себя рясу, — дальше мы уже не знаем, потому что видим только рукав рясы и больше ничего; выходит оттуда в белом подряснике, тяжело дышит, идет на свое настоятельское место, из шкапчика вынимает один пузырек, потом — другой, что–то глотает (мы еще стоим по углам — на всякий случай), потом начинает читать молитвы. Кстати, его однокурсники по Академии вспоминали, что вечернюю студенческую молитву так как он, не читал никто. И вот постепенно, минута за минутой, мы видим, как меняется цвет его лица, как его замечания становятся мягкими. И когда он выходит и своим великолепным голосом возглашает: «Слава Святей Единосущней и Животворящей Троице…» — это уже совершенно другой человек. После этого он уже мог служить три с половиной или четыре часа, потом еще минут 45 говорил проповедь и уезжал из собора около полуночи, чтобы успеть выпить чашку чая перед завтрашней литургией.
У Колчицкого было трое детей: дочь Галина и два сына: Галик (такое редкое имя) и Сергей. Галик был артистом Художественного театра. Как–то раз вызвали его к начальству и стали допрашивать: «Вы артист, член партии, но правда ли, что у вас отец священник?» Он отвечает: «Да, действительно, отец — настоятель патриаршего собора. У него своя семья, у меня — своя. Мы живем независимо друг от друга». — «А как же вы праздники празднуете?» — «У меня праздники гражданские: Седьмое ноября, Первое мая, — а у отца религиозные: Рождество, Пасха; мы празднуем у себя, они — у себя». — «А Новый год вы вместе отмечаете?» — «Нет, — говорит, — я — у себя дома, а отец — в Кремле». А это как раз было время, когда в Патриархию стали присылать приглашения на праздники. Больше к нему с вопросами не приставали.
Вообще же на Новый год Колчицкий служил молебен — часов в 8 вечера. Потом бывала проповедь, беседа, чем–то еще он занимал время до полуночи, а ночью служил обедню. Кроме него так больше никто не делал. Но когда его приглашали в Кремль, отказаться он не мог.
Невестка Колчицкого, Лидия Константиновна, жена младшего сына Сергея, была бессменным секретарем четырех патриархов — последовательно. Девичья фамилия ее — Попандопуло. В патриархии, бывало, скажут: «Позовите Лиду!» Кто–нибудь передает: «Скажите Попандопуло, чтобы сюда притопало».
Патриарх очень ценил ее. «Ах, Лидочка, как жалко, что ты не мальчик, — говорил он, — всюду бы вместе ездили!» По тем временам, взять с собой в поездку женщину было нарушением правил этикета. Это теперь все можно.
Лида была красивой девушкой, и все иподьяконы считали для себя за честь проводить ее домой после службы. Но все было строго: даже руку никто ей не осмеливался пожать. Довел домой, поклонился — и все. Тогда дух рыцарства был особенно силен, и мы все считали себя Лидочкиными рыцарями.
Ее брак с Сергеем был недолог, — они довольно быстро расстались, что нас тогда всех удивило, хотя ясно было, что так и случится.
Я знал ее 56 лет. Она умерла 13 ноября 2001 г. Ее мать, Александра Порфирьевна Сергиенко, секретарь патриарха Сергия, была похоронена на Даниловском кладбище. Согласно воле Лидии Константиновны, прах матери перезахоронили в Переделкине, где должны были похоронить и ее саму. При перезахоронении обнаружилось, что после пятидесяти лет скелет почти не тронут тлением.
Колчицкий, как я уже говорил, был тяжел в отношениях с людьми, и если кого не любил — то действительно не любил. Но жить давал. Так, например, когда архимандрит Сергий (Савельев), — эдакий московский Савонарола–обличитель, — стал клеймить его прямо с амвона в проповедях, и ему об этом доложили, он только пожал плечами: «Что же сделать?» Сергия переводили из храма в храм — он служил в храме Покрова на Лыщиковой горе, потом в храме Преображения в Богородском, потом, наконец, в храме Покрова в Медведкове, — но никаких более радикальных мер Колчицкий не допускал.[57]
Помню, в тот день, когда меня рукоположили в дьякона, Колчицкий подвозил меня на машине. И дорóгой говорил, не вопросительно, а утвердительно: «Да, о. Константин. Вы у нас теперь дьякон. Ходить будете в гражданском и стричься будете». — «Ну, по обстоятельствам!» — ответил я. Он знал, что я духовный сын о. Александра Воскресенского и опасался, не проявится ли во мне «дурная наследственность» — всегда ходить в рясе. Я действительно, одевался по обстоятельствам. Долгое время стригся, а потом, когда уже был инспектором в Лавре, как–то случилось, что полгода не мог выбраться к парикмахеру. С тех пор и стал носить длинные волосы.[58]
Я был одним из последних, кто посетил Колчицкого незадолго до кончины. Тогда, в 1961 г., я полгода исполнял обязанности настоятеля Патриаршего собора. Патриарх, уезжая, поручил мне эту должность, и сказал, что указ о моем назначении лежит в столе. Но мне этого указа так никто и не показал; настоятельство мое продолжалось с июля по ноябрь, а потом уже на постоянную должность был назначен митрополит Пимен. А тогда я ездил к Колчицкому на дачу советоваться по всем вопросам. Он был парализован, но наступила некоторая ремиссия и, когда я приехал к нему перед Преображением, он мне с грустью говорил: «Впереди праздник, я приеду. Кадить я смогу левой рукой (правая у него не действовала), но, вот держать свечу в правой руке я не смогу…»
Архимандрит Иеремия (Лебедев)
Архимандрит Иеремия был сыном ректора Псковской духовной семинарии. Служебная квартира его отца находилась в том же здании, и он вспоминал, как однажды поздно вечером, они, дети, будучи уже отосланы спать, встали с постели и побежали босиком, в ночных рубашках к закрытым дверям их домовой семинарской церкви, чтобы хотя бы в щелочку увидеть, как постригают в монахи любимого всеми молодого преподавателя — Василия ивановича Беллавина, будущего Патриарха Тихона.
Сам о. Иеремия монахом стал не сразу: учился в университете, служил помощником прокурора. Женат он, кажется, не был. После революции, в 20–е гг., он оказался в Покровском миссионерском монастыре, настоятелем которого был архимандрит Вениамин (Милов). Тот в те годы был еще очень суров, а о. Иеремия, напротив, обладал необыкновенно мягким характером, и поэтому пребывание в Покровском монастыре ему было тягостно. Вскоре, однако, всех монахов разогнали, о. Иеремия долгие годы провел в тюрьме и ссылке, и в Москве появился уже году в 1947–48–м. Тогда Патриарх назначил его священником в домовую церковь.
О. Стефан Марков, настоятель Трифона Мученика
У моего отца еще в Козлове регентом была монахиня Мария (Матрона Захаровна Душина). После его ареста она некоторое время оставалась при храме, а в 1937 г. переехала в Москву. В Москве она была опять–таки регентом — в храме Знамения на Рижской, которую сейчас еще называют храмом Трифона мученика. В этом храме, таким образом, было две матери Марии и их называли «мать Мария веселая» и «мать Мария строгая». «Веселая» ходила, переваливаясь как утица, и все время напевала. «Строгая» как раз и была Матрона Захаровна. У нее были всегда поджаты губы, ходила она в пенсне и смотрела как бы на кончик своего носа. То же выражение лица оставалось у нее и когда она руководила хором. Служил в этом храме о. Стефан. Он был большой оригинал и у многих вызывал недоумение, если не осуждение. Лицо его было всегда гладко выбрито, бородку он носил маленькую и остренькую, манеры имел несколько чопорные. Он первым в Москве стал носить рубашку с воротником апаш, тюбетейку с кисточкой и трость. Без конца балагурил. Подойдет к нему в храме старушка, скажет: «Батюшка, мне молебен!» А он ей: «Молебен не тебе, а Господу Богу!» Или: «Мне молебен с акафистом!» — «Что с акафистом, что без акафиста — пять рублей». На проскомидии он всегда вынимал только две частицы — одну за здравие, другую — за упокой. «А имена — говорит, — Господь и так лучше нас знает».
Однако мать Мария про него говорила, что он не простой. Она рассказывала, например, случай, имевший место в 30–е гг. Как–то раз пришел о. Стефан в храм и видит, что царские врата открыты. Стал спрашивать, кто открыл — все отказываются; вычислили, кто уходил последним — а тот тоже говорит, что запирал. Время было страшное: церкви закрывались одна за другой, бывало и так, что обновленцы врывались в храмы, безобразничали, входили в алтари, воровали антиминсы. Но в тот раз так и не удалось узнать, кто же открыл царские врата. Прошло некоторое время — и повторилось то же самое. И снова все говорили, что хорошо закрывали. Тогда о. Стефан сказал: «Надо ждать высокого гостя». И в самом деле, «высокий гость» скоро пожаловал: икона Трифона Мученика из закрытого храма в Напрудной. Так и неизвестно — знал ли о. Стефан по каким–то слухам о том, что это событие готовится, или открыто ему было.
Я узнал его ближе в 1949 г., когда мы вместе ездили на пароходе по Волге. Предыстория этой поездки такова. В 1948 г. после очень утомительного большого мероприятия — совещания представителей автокефальных Православных Церквей, — Патриарх поддался уговорам взять на несколько дней отпуск и предпринял небольшое путешествие по Волге: Москва — Горький — Москва. В его распоряжение предоставили пароходик «Казань», и мы поплыли. Помню, подходим к Кинешме, и вдруг я вижу вдали золоченый купол. Это был первый прорыв восстановления церковного зодчества, потом был провал, а тогда как раз начали ремонтировать храмы. Но это мы и в Москве видели, как ремонтировали: священник ходит по домам: «Есть у тебя лишняя доска — дай!» А тут вдруг в Кинешме золотят купола! Когда же подошли поближе, и можно было различить в бинокль детали, то оказалось, что это были так называемые «журавцы» — основа из свежего леса, которая в лучах солнца горела как золото.[59]
Поездкой Патриарх остался доволен, и ему захотелось на следующий год съездить до Астрахани. Действительно, в 1949 г. мы снова поехали.[60] Поездка никак не афишировалась. Более того, когда в одном из городов архиерей хотел с почетом встретить Патриарха, ему сильно досталось от уполномоченного. Когда подъезжали к Астрахани, нас остановили раньше и велели выгружаться на багажной пристани. По этому поводу было выражено удивление, а нам стали что–то говорить о том, что дебаркадер ненадежен и высаживаться на пассажирской пристани небезопасно. Как оказалось, вся пристань была запружена народом: каким–то образом прослышали, что Патриарх едет, и высыпали встречать. И потом, когда подъезжали к собору, соборная площадь была заполнена людьми.
О. Стефан тоже тогда ездил с нами. На обратном пути, правда, все буквально озверели от жары и скуки. Днем была духота, плыли против течения очень медленно. Зато звездные вечера и ночи были дивно хороши. В такой вечер он и раскрылся нам с Леней Остаповым, и мы поняли, что его балагурство было своего рода юродством…
Обычно все завтракали, обедали и ужинали вместе. О. Стефан и за столом не оставлял своих прибауток, но все было в меру, и всем, в том числе и Патриарху, нравилось. Вдруг за три дня до конца путешествия о. Стефан приходит к завтраку прямой как жердь, как всегда, гладко выбритый, в отглаженном чесучовом подряснике, сидит сложив руки, молчит и не ест. Ему предлагают того, сего, рыбки и т. п., а он все молчит. Сначала все удивлялись, потом пошутили, что Стефан запил. (Он за столом никогда спиртного не пил, говоря, что с утра выпивает бутылку коньяку, и на день ему хватает. Так и говорили, — шутя, конечно, — что пьет он ночью и закусывает почему–то сухим куличом). Потом решили, что это очередное чудачество, Патриарх махнул рукой: «А, Стефан — что с него взять?» — и все успокоились. Но когда приехали в Москву, и нас встречали все официальные лица, в том числе Карпов, позади стояла машина скорой помощи, и как только Патриарх сошел с парохода, о. Стефана увезли на этой машине. Оказалось, что у него было давление 250, инсульт, отнялась речь и не действовали руки, но он не подавал вида, чтобы не беспокоить Патриарха. Команда, впрочем об этом знала, знали горничные; видимо, знал и организатор поездки — Алексеев, бывший артист, более проявивший себя в организационной работе. Потом о. Стефан около года болел, но поправился, продолжал служить, хотя речь у него так полностью и не восстановилась, и вслух молитвы за него вычитывал другой священник. Он же сам всем объяснял — едва понятно — что «пострадал за свой язык». Умер он уже в середине пятидесятых.
Архидьякон[61] Григорий Карпович Антоненко
Когда в 1950 г. скончался мой духовный отец — о. Александр — я в очень тяжелом внутреннем состоянии пришел к Патриарху и спросил: «Что же мне делать?» — а он показал мне на о. архидьякона Григория Карповича Антоненко и сказал: «Вот вам старец». А надо сказать, что о. архидьякон был человек необыкновенной внутренней чистоты. Он был одиноким, но имел много родни и почти все свои деньги отдавал на воспитание своих дальних родственников–сирот. Он приезжал к службе часа за полтора до начала богослужения (при том, что всегда ездил, как и все, общественным транспортом), где-нибудь за шкафом переодевался полностью из всего того, что носил на улице, — до башмаков — и надевал только алтарное. Башмаки он надевал всегда «новые» — лет тридцать они были у него одни и те же: скороходовские с красными подошвами. Так как он ходил в них только по коврам в алтаре, они и не снашивались. И затем очень долго — может быть, минут сорок, — стоял у жертвенника и шепотом читал поминания по записной книжечке — одно за другим.
Однажды был с ним такой случай. Сидели за обедом у Патриарха. Обед длился долго, обстановка была домашняя, все по очереди стали рассказывать забавные истории. Антоненко тоже попросил слова. Все приготовились слушать его, он достал свою записную книжечку, что–то долго искал в ней, потом начал читать. Читая, он так смеялся сам, что ничего невозможно было понять. Тем нее менее все, чтобы поддержать его, тоже улыбались. Когда он закончил, и все замолчали, Патриарх произнес: «Да, отец архидьякон… Мы–то думали, что вы на проскомидии сродников поминаете, а вы, оказывается, анекдоты читаете!» Антоненко страшно смутился и стал говорить, что у него две книжечки и даже показал вторую. Необыкновенной душевной чистоты и простоты был архидьякон, обладавший, к тому же, феноменальным голосом.
Митрополит Вениамин (Федченков)
На Соборе 1945 г. я впервые встретил митрополита Вениамина (Федченкова), приехавшего тогда из Америки. Это был замечательный человек. Некогда отступив с Белой армией из Севастополя, он впоследствии основал русский приход на рю Петель, в 15–м «аррондисмане» Парижа, — приход, верный Московской Патриархии, вопреки настроениям части «белогвардейской» эмиграции. Это была «церковь в гараже». Она существует до сих пор. Ее стены украшены замечательными фресками иеромонаха Григория, которые сейчас объявлены памятником национальной культуры Франции.
Потом митрополит Вениамин вынужден был выехать в Соединенные Штаты и там провел колоссальную работу по мобилизации общественного мнения на помощь России. В 1941 году, когда Америка относилась к Советам чрезвычайно враждебно, он, проехав Североамериканские штаты сверху вниз и справа налево, один, в одиночку, сумел повернуть общественное мнение, и пошли целые караваны с грузами помощи еще до оформления союзнических организаций против Германии: десятки тонн лекарств, военной техники.
Его сестра, Надежда Афанасьевна, была замужем за о. Федором Михайловичем Шебалиным, и мы продолжали поддерживать отношения и после его смерти, но о родстве ее с митрополитом Вениамином ничего не знали. Только перед Собором 1944–го года она вдруг заговорила об этом: «Брат приезжает; хотелось бы повидаться, а как — не знаю…» На Соборе я подошел к владыке Вениамину и сказал: «Вам поклон от вашей сестры». Он чуть руками не замахал: «Какая сестра? Какая сестра?! Нет у меня никакой сестры!!!» — он был наслышан о том, что в России кругом НКВД и испугался.[62] Но я продолжал: «Владыка, не бойтесь! Я действительно передаю вам поклон от вашей сестры — мы давно дружим семьями, хорошо знали и покойного о. Федора». надежда Афанасьевна тогда пришла на службу вместе с моей сестрой, Надеждой Владимировной. Я подвел ее к владыке Вениамину. Встретились. — «Наденька!» — «Владыка!» — Они все эти годы даже не переписывались. Я уж тогда удалился, чтобы не мешать. А Надежда Владимировна на этом Соборе попала в кадр кинохроники.
Как–то Патриарх послал меня помогать митрополиту Вениамину в храме Николы в Кузнецах. Помню, он тогда говорил: «Что, вы думаете, мне легко было Советскую власть принять? Я сорок литургий перед этим отслужил!» Но и чудак же он был! Сначала его определили в Саратов, но долго он там не удержался. Едет, бывало, в машине; если на дороге кто–то голосует, — он обязательно подвезет, а по дороге начинает обращать в веру. Властям это не понравилось, и его отправили в Ригу, а затем — на покой в псково–Печерский монастырь. Над одним эпизодом долго смеялась вся Патриархия. Одно время — как раз перед денежной реформой — в Патриархии было очень много денег. Реформы побаивались, а Вениамин просто не находил себе места: «Что же делать? Что же делать? Деньги же пропадут!» Была при нем монахиня Анна, — пожилая, образованная, из дворян, — он очень прислушивался к ее мнению, — так вот она в ответ на его причитания спокойно спросила: «Владыка! Может быть, нам купить самолет?» (голос у нее был глубокий, низкий, и «л» она произносила как европейское «l», отчего вся фраза звучала очень забавно).
К сожалению, в жизнь Советской России митрополит Вениамин так и не «вписался». Слишком уж самобытный был человек. Но написал много книг — писать он любил.
Архиепископ Лука (Войно–Ясенецкий)
Архиепископ Лука, — я зримо помню его образ: высокого роста, с огромным сократическим лбом, слабым уже зрением, всегда сосредоточенный в себе. Говорил он глубоким голосом, категорически, безапелляционно. Характер у него был неукротимый. Кто бы еще, кроме него, мог сказать в глаза Патриарху, что тот сделал что–то, чего мог бы и не делать?
В нашей семье было несколько врачей, в том числе братья матери, один патологоанатом, другой хирург, — им довелось работать в Тамбове с архиепископом Лукой еще в медицине. На операцию он всегда выходил в своей священнической одежде, с панагией на груди, всегда молился и требовал, чтобы в операционной была икона. Однажды к нему пристали коллеги, и, решив над ним подтрунить, спросили: «Профессор, вот вы провели столько операций. Вы душу хоть когда–нибудь видели?» Он ответил: «Да, я много сделал операций. Но я и ума никогда не видел». Этот каламбур прошел по научной среде, и иногда его вспоминают на полях, в каких–то маргиналиях науки.
Обычай ходить в рясе архиепископ Лука всегда соблюдал неукоснительно. Но однажды ему предложили выступить на международном симпозиуме с условием, что он будет в штатском. И он заколебался. Чтобы разрешить свои сомнения, обратился к Патриарху — не за благословением, за советом. А тот ответил: «Владыка, вы сами всегда были верны своим принципам. Что же вы теперь меня спрашиваете?»
Генерал Игнатьев
Генерал Игнатьев был военным атташе в Париже и имел на своем личном счету большую сумму казенных денег, которые после революции не растратил, а так и держал на счету. Жил он как частное лицо, бедствовал, разводил какие–то грибы у себя в подвале. Женился на он Наталье Трухановой, женщине очень оригинальной — в прошлом она, кажется, была артистка.
Потом, уже в 40–е гг. Игнатьев вернулся в СССР и деньги передал советскому правительству. Его приняли с почетом, выделили ему квартиру на Ильинке в доме ЦК; он имел даже «доступ к телу» вождя. Говорили, что когда поднялась славянская тематика, он сказал Сталину: «Иосиф Виссарионович! (не знаю, так ли он к нему обращался, Сталин вообще требовал, чтобы его называли «товарищ Сталин») Как же так, вот говорят о славянском единстве, а памятник героям Плевны без креста?» — и Сталин велел поставить крест.
Это был человек очень интересный, образец кавалергарда. Роста он был огромного. Я сам не малорослый, но когда говорил с ним, глаза в глаза, видел на уровне своих глаз его крючок — верхнюю пуговицу. Помню, как он говорил: «Никогда не пишите пером, пишите карандашом и, главное, никогда не употребляйте ластик. Если не понравится — зачеркните и напишите на полях, приклейте бумажку». (Есть, кстати, такой издательский термин «клапан» — когда приклеена бумажка и написано «вернуть»). Я потом убедился в правоте его слов. Мысль, даже спонтанная, иной раз бывает более полной, потому что она несет бóльший эмоциональный заряд, чем продуманная тщательно. Потом можно написать более логично, более точно, но эмоциональная окраска у первого варианта всегда сильнее.
Игнатьев рассказывал, как в его время сдавали выпускные экзамены в Академии Генерального штаба. Докладчику полагалось сорок минут: ни минутой ни больше, ни меньше. Приходилось все многократно репетировать. На экзамен надо было являться в форме и в кивере. Зимой ехать на извозчике в металлическим кивере на голове было не слишком приятно, и потому некоторые приезжали в фуражке, а кивер надевали, только войдя в здание. Эти «изобретатели» не знали только одного: что окна начальника Академии выходят на фасадную сторону, и ему из его кабинета прекрасно видно, кто как подъезжает. А потом, по окончании экзамена, он, бывало, и скажет: «А головка–то слабовата, да… В тепло пожалуйста, в Ташкент…» И сошлют «изобретателя» в дальний гарнизон.
4. Богословский институт
Годы учебы в Московских духовных школах Владыка вспоминал как духовную школу в самом высоком смысле слова.
После революции Московская Духовная Академия некоторое время продолжала свою работу в храме Петра и Павла на Новой Басманной улице, в нижнем этаже, в крипте храма. Так она и называлась в церковных кругах: «Подколокольная академия». Некоторые московские священники носили значок кандидата богословия, полученный именно там.[63] Таких кандидатов богословия «Подколокольной» Духовной Академии в Москве было несколько человек. Ректором ее был епископ Варфоломей — видный гебраист Духовной Академии.[64]
Наше поколение духовенства формировалось в состоянии контраста. Возможность получить духовное образование и пойти путем своих предков для нас, детей довоенного времени, казалась несбыточной, — а священниками быть хотелось. После встречи в Кремле трех митрополитов со Сталиным прошел слух, что получено разрешение на возрождение духовных школ. В храмах продолжалось богослужение. Батюшки многозначительно поглядывали друг на друга, но помалкивали.
И вот 14 июня 1944, в день Святого мученика Иустина Философа, в Лопухинском корпусе Новодевичьего монастыря открылись Богословско–пастырские курсы и Богословский институт. В июле я одним из первых принес бумаги для поступления в Богословский институт, и неожиданно для себя встретил патриаршего местоблюстителя — будущего Патриарха Алексия — в центральном зале этого особняка. Это и была наша первая встреча. Он подробно расспросил меня о том, кто я и что я, и отправил для сдачи документов на 3–й этаж в мезонине, где Сергей Васильевич Савинский любезно принял у меня эти документы, на чем, собственно, мои контакты и закончились. тогда, в июле 1944 г., Патриарх не был расположен дать мне благословение на поступление, потому что я был студентом, и он говорил, что мне полезнее закончить образование, получить диплом, — тем более, что первый год, организационный, был еще далек от совершенства. Я с этим согласился и с первого года к занятиям не приступал. Действительно, набор был очень пестрым. Пришли люди из самых разных социальных и возрастных групп и слоев. Наряду с семидесятилетним старцем, имени которого я, к сожалению, не помню, были мальчики по 18 лет, только что окончившие школу. Причем это был еще год войны, и восемнадцатилетние юноши призывались в действующую армию, — значит, здесь были те, кто имел какие–то физические недостатки. Кроме того, было несколько священников. Первый курс Богословского института, как я помню, был небольшой, 6 или 8 человек. Это были: Анатолий Мельников, впоследствии митрополит Ленинградский и Новгородский Антоний; Иван Сорокин, в будущем протоиерей и инспектор Одесской Духовной семинарии; Петр Викторович Гнедич, потомок известной семьи Гнедичей, человек весьма образованный; священники Валериан Николаев и Василий скворцов; гражданский человек по фамилии Сперанский; Николай Павлович Иванов, инженер, отбывший заключение, чрезвычайно интересная личность; и Анатолий Васильевич Ушков, совмещавший студенческое положение с работой воспитателя или, как он говорил, «назирателя». К сожалению, сейчас от первого курса в живых не осталось уже никого.
На пастырских курсах народ был мне менее знаком, поэтому могу вспомнить только некоторых: например, о. Андрей, который служит сейчас в селе Михайловском под Домодедовым — замечательный, исключительный человек; были там псаломщики действующих храмов, которые прекрасно знали службу, но, естественно, не имели богословской подготовки.
В первый год Патриарший местоблюститель пригласил студентов к себе в качестве иподьяконов. Когда начальство стало говорить, что им необходимо чаще бывать на лекциях (а Патриарх Алексий служил очень часто и они, естественно, пропускали занятия), то он возразил, что будущим священникам гораздо полезнее быть участниками богослужения, нежели просиживать скучные лекции.
1945–й год, год Победы и совершенно новых явлений, когда в Москве открывались новые храмы и ремонтировались уже действующие, стал для меня годом начала богословского образования. К этому времени я уже был иподьяконом Патриарха. Нужно сказать, что поступить мне было очень непросто: руководство отнеслось ко мне с очевидным недоверием. Ректором был слепой протоиерей Тихон Дмитриевич Попов. Я не знал, что он был слеп, и меня поразила его манера говорить, не глядя на собеседника — мне показалось, что это какой–то особый психологический прием. Он убеждал меня, что мне гораздо полезнее остаться инженером, потому что так я буду ездить в мягком вагоне (инженеры–путейцы всегда считались элитой инженерного общества), а тут я буду обречен на неопределенное, материально необеспеченное существование, но, тем не менее, я настоял на том, что поступать все–таки собираюсь. почему–то меня очень хотели принять на подготовительные пастырские курсы. Но зачем мне это было нужно, когда все, чему там учили, я с детства знал? Я так и сказал. «Ах, так? — ответили мне, — Ну, давайте по–другому! Говорите, отец служил в ильинской церкви — рассказывайте о пророке Илии». Я начал: «Пророк Илия явился при нечестивом царе Ахаве, супругой которого была Иезавель…» — «Не Елизавета, а Иезавель!» — «Я и говорю: Иезавель». — «Ах, вы еще пререкаетесь?!» — На том и кончилось. Потом патриарх спросил меня, как дела. Я сказал, что провалился. Он благословил сдавать еще раз. И написал через весь лист: «экзамен принять». С этим я и пришел второй раз. «Ах, вы свои связи используете!» — возмутились экзаменаторы. Видимо, я раздражал их своим заносчивым видом: держался я всегда независимо. К тому же, я был студентом, они и боялись: чтó студенту здесь надо — может, засланный? Но все же меня приняли. МИИТ я, тем не менее, не бросил и первый год совмещал учебу в двух учебных заведениях.
Когда начались занятия в Богословском институте, первая «четверка» по поведению (считавшаяся неважной оценкой) была моя. Точнее, получили ее я и мой однокурсник Сергей Борздыка: я — за то, что участвовал в патриаршей службе, а он — за то, что шаржировал митрополита Николая. О том, что я был патриаршим иподьяконом, администрация не знала, т. к. список студентов–иподьяконов был составлен за год до моего поступления. Когда Патриарх служил, я, естественно, был на службе, а потом меня стали допрашивать, почему я отсутствовал на занятиях. Я объяснил, а они сказали: «Надо было заранее предупреждать!» Я сказал: «в институте, где я раньше учился (а про себя подумал — и где еще продолжаю учиться) можно было объяснить потом, — я вам и объясняю». — «А у нас надо заранее!» — ответили мне, и снизили балл по поведению. у Сергея же получилось так: он был человек внешне угрюмый, но с большим внутренним чувством юмора — и как–то раз очень похоже изобразил возглас митрополита Николая. Тут же решили устроить «архиерейскую службу». На плечи ему накинули пальто — архиерейскую мантию, из газеты сделали клобук, из полотенца — омофор, в руки дали кочергу — посох. Он встал на стул и возгласил: «Призри с небесе, Боже и виждь…» Тут, откуда ни возьмись, появился студент старшего курса, следивший за дисциплиной: «Что здесь происходит?» — Ему бесцеремонно ответили: «Иди отсюда! У нас архиерейская служба!» Он обиделся и нажаловался. Потом объявляют, что вызывают к начальству Нечаева и Борздыку. Меня за иподьяконство, а его за «архиерейское служение». Стали разбираться: «Ну, с Нечаевым понятно, а ты что? Кочергу держал?» — «Держал». — «”Призри…» говорил?» — «Говорил». — «Пошел вон!» На этом разбирательство кончилось, кроме четверки по поведению ничего ему и не было.[65]
Однокурсники
Что касается нашего курса, то это был очень интересный набор. Старшим среди нас был Павел Александрович Голубцов, сын профессора Московской Духовной Академии, пришедший на моих глазах в Патриархию подавать заявление, прошение о зачислении, — прямо в своей солдатской пропотевшей гимнастерке с проступившей на лопатках солью, только что демобилизованный. Прежде он учился на искусствоведческом факультете университета, потом за неосторожное слово поехал на лесоповал, затем воевал. Патриарх свято почитал его отца, Александра Петровича Голубцова, так что Павел Александрович был принят безоговорочно и стал нашим старшим. Он был образован, аскетичен. Интересный это был человек. помню, когда он был еще иеромонахом, захожу я как–то раз к нему в келью и вижу: на полу валяются какие–то бумажки. Я нагнулся было поднять — он замахал руками: «Что ты! Что ты!» — «А что?» — «Это я чтобы не забыть!» Точно так же он махал руками: «Не бей муху!» — «Почему?» — «Божья тварь!»
Вторым шел у нас Гермоген Иванович Шиманский. Их было три брата — Гермоген, Иоасаф, Серафим — киевляне. Гермоген был неизлечимо болен туберкулезом легких. Учебный год у него нередко прерывался для лечения, а летние каникулы он проводил в санатории. Он пришел в Богословский институт уже с внутренним опытом Иисусовой молитвы, что помогало ему и в нелегких для него условиях жизни в общежитии, и в борьбе с болезнью. Раньше он работал на военном заводе в Мытищах, где конструировалось наше новейшее оружие, и, по слухам, ему принадлежал один из узлов танка Т–34. В кармане он всегда держал маленькие четки из отполированных до блеска от частого употребления косточек вишни. Однажды он сказал мне, — а все шесть лет обучения мы на занятиях сидели рядом за одним столом, — что это память о заводской столовой: косточки из вишневого компота.
Затем был будущий священник, а потом и благочинный Можайского района — о. Петр Деревянко — мальчик из села, имевший прекрасные способности к уставу, к пению. Учебников у нас тогда было мало и мы их писали себе сами: записывали лекции, потом насыщали их литературой, которую могли достать на рынке или в библиотеке — так вот, все наши учебники по уставу — это был труд Шиманского и Деревянко.
Кроме того, на первый курс Богословского института пришли Рыбенков, впоследствии священник, Резухин Алеша, тоже впоследствии священник — его сын был у нас преподавателем в новой семинарии, уже в Сергиевом Посаде и умер трагически, утонул.
Учился с нами и Алексей Сергеевич Буевский, впоследствии ответственный секретарь ОВЦС, человек энциклопедических познаний. Сначала он, как и я, учился в техническом вузе. Я запомнил его еще алтарником в Брюсовском храме. У него было плоскостопие, и ходил он всегда с тросточкой. Часто его можно было увидеть сидящим возле памятника революции, который находился на месте нынешнего Юрия Долгорукого. Он что–то сосредоточенно читал. Я как–то заглянул ему через плечо: оказалось — катехизис.
Потом так получилось, что я оказался виновником его знакомства с Тамарой Владимировной, его будущей женой. Мы помногу занимались в Ленинке, часто засиживаясь допоздна, до самого закрытия. Там, в библиотеке, он присмотрел себе девушку — студентку искусствоведения из университета, но никак не решался познакомиться. Как–то раз, когда мы шли по коридору библиотеки, я, услышав дробный стук каблучков, сразу понял, что это не мужская походка, и остановился у двери, чтобы пропустить. Оказалось, это была та самая студентка. А Буевский решил, что я пропускаю его, устремился в проход, и в дверях они со всей силы столкнулись лбами. Она пискнула, он ойкнул — зато на следующий день у него появился повод осведомиться о ее здоровье — поскольку у самого на лбу выросла шишка. А через год они уже венчались в Брюсовском храме и я был шафером на свадьбе.
Был еще на нашем курсе Андрюша Грудьев, мальчик повоевавший, контуженный, у него одна рука была не действуюшая. Когда у него спросили: «Ну хорошо, ты будешь священником. ты с Кубани, это такой благодатный край, все там зажиточные, — но ведь тебе дадут самый бедный приход. что ты тогда будешь делать?» он ответил: «а я его богатым сделаю!» (г звучало как [g])
На нашем курсе учился также Дмитрий Дудко. У него на глазах немцы расстреляли всю семью — это, конечно, наложило на него отпечаток. Когда много лет спустя его судили, меня в Швеции спросили, что я думаю о нем. Я сказал, что он неврастеник, — с тем расчетом, что это услышат здесь и отнесутся к нему со снисхождением, — а меня потом обвиняли в том, что я его оболгал. Но он действительно был очень нервный — и к нему, в итоге, действительно отнеслись соответствующим образом. Бывало, на занятиях, отвечает он на какой–то совершенно отвлеченный вопрос по догматике, — о бытии Божием, например, — весь раскраснеется, почти кричит. Его спрашивают: «Дудко, что с вами? Что вы кричите?» Он был небольшого роста, слегка сгорбленный… Первый раз посадили его за патриотические стихи, в которых он писал и про немцев, и про колхозы, и про совдеп, — я, правда, этих стихов не читал. Один «товарищ» вытащил у него из–под подушки тетрадочку и отнес, куда следовало. Митю тогда и забрали. Были у нас на курсе ребятишки, которые доносили — мы их знали. Один как–то раз пошел к цыганам в карты играть — в бараках на Девичьем поле — его там здорово побили — то–то мы радовались! И потом приходилось мне встречать засланных — даже иеромонахи были — и надо сказать, попадались среди них и хорошие люди. Был у нас, например, такой о. Симеон. Был, был — а потом исчез: срок командировки кончился.
Был еще на нашем курсе Павлов, шестидесятилетний мужчина, и еще один — не помню его имени — они все пришли с церковной псаломщической работы и потом стали священниками.
Новодевичий монастырь
Московский церковный народ с воодушевлением принял весть об открытии духовных школ и Успенского храма в Новодевичьем монастыре. Ежедневно храм посещало все больше и больше верующих людей, многие из них приносили что–либо из вещей для его обустройства: хранившиеся дома иконы, что–то из церковной утвари, просто отдельные вещи, необходимые для общежития. Настоятели московских храмов также жертвовали иконы, переданные им из ранее закрытых церквей, облачения, церковную утварь. По крохам, по единицам собиралось церковное и школьное имущество. Размещалась тогда наша школа в двух помещениях в Новодевичьем монастыре. В Лопухинском корпусе в верхнем этаже мы занимали четыре комнаты: первая — 35–40 квадратных метров, и вторая, примерно равная ей — там находились первый и второй курсы Богословского института; рядом небольшая комната — учительская, и четвертая — квартира ректора. Богословско–пастырские курсы размещались в нижнем этаже, там же была и кухня. Питание для тех, кто жил в общежитии, было двухразовым: утром — завтрак, потом, в зависимости от времени окончания занятий — обед. Студентам полагалась рабочая карточка, на которую и получали это питание. Завтракали и обедали за теми же столами, за которыми проходили уроки — это обязывало быть аккуратными в отношении своего «рабочего места». Общежитие находилось в Успенском храме, в кладовых, напротив главного входа в трапезную. Там была большая комната, 84 квадратных метра, из нее была отделена фанерной перегородкой небольшая комнатка для воспитателя, а остальное место занимали койки студентов. первоначально Богословскому институту был отдан Преображенский надвратный храм, а на следующий год и трапезная — Успенская церковь. В ней с правой стороны было отгорожено место под библиотеку. Библиотека началась с мешка книг, которые принес Алексей Иванович Георгиевский — он собирал их в те годы, когда хранить духовную литературу, мягко говоря, не рекомендовалось. библиотекарем был назначен Павел Александрович Голубцов. Храм, естественно, был обезображен: не было ни иконостаса, ни какого–то внутреннего убранства, все это мы начинали делать своими руками. Но все–таки это был большой храм, вскоре появились и прихожане. В преображенскую церковь можно было попасть только через учебный Лопухинский корпус, — так что, доступ для народа туда был очень труден, а в Успенскую народ мог приходить свободно. москвичи быстро полюбили и этот храм, и особенно наше студенческое пение.
Занятия начинались в девять утра, а заканчивались в третьем часу. Обычно бывало по три урока. по академической традиции часы были сдвоенными (их разделили уже после переезда в Загорск, в 50–е годы).
В самом Новодевичьем монастыре жили два замечательных человека: восточную башню занимал художник, последний из древнего рода Шереметевых, в дальних кельях жил известный московский архитектор, реставратор, знаток старины Петр Дмитриевич Барановский. Однажды я побывал у него. Помню, что все его жилище было завалено книгами. Они лежали всюду в совершенном беспорядке, но он говорил: «Ничего не трогайте, все на месте!»
В кельях доживали век несколько старушек–монахинь. Они ласково принимали студентов, духовно окормляя их. Я тоже как–то заходил к одной из них — помню полутемную келью, в которой на кровати лежала маленькая старушка. Но вообще у меня тогда не было надобности искать какого–то окормления: ведь у меня был о. Александр.
Преподаватели Богословского института
Организация учебного процесса, программы, методика были поручены архиепископу Псковскому и порховскому, впоследствии митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Григорию (Чукову), хорошо известному своей борьбой с обновленчеством, ближайшему сотруднику патриарха в бытность его епископом Тихвинским. Это был человек живой, богословски просвещенный, внутренне четко организованный. На должности преподавателей Богословского института также был объявлен набор.
Методика преподавания была у каждого своя. У Колчицкого, который преподавал Литургику, занятия проходили так: он давал нам по короткому учебничку Закона Божия отвечать то, что мы должны были знать о богослужении, давал вопросник, а сами занятия были заполнены воспоминаниями из его собственной пастырской практики.
Еврейский язык — только в первый год — вел о. Андрей Расторгуев. Он был обновленческим епископом Звенигородским, потом, после покаяния — настоятелем храма в Сокольниках; очень любил богослужение, сам всегда канонаршил, вообще был человеком большой церковности.
Яркой личностью среди преподавателей был Анатолий Васильевич Ведерников, впоследствии ответственный секретарь Журнала Московской патриархии, духовный писатель, готовивший материалы для Святейшего Патриарха, а также подготавливавший к изданию проповеди, слова и речи митрополита Николая (Ярушевича).
Пришел в Богословский институт Алексей Иванович Георгиевский, один из сыновей измайловского дьякона Георгиевского, которого к тому времени уже не было в живых. Их было два брата: Алексей Иванович и Сергей Иванович. Алексей Иванович закончил в свое время литературный институт, частное учебное заведение (поскольку в государственных дети духовенства учиться не могли). Он стал преподавать устав и литургику. Надо сказать, что он великолепно знал и то, и другое, но особенно выделялся участием в общем пении. он пел громче всех, напрягаясь до багрового цвета лица. Его брат, Сергей Иванович, преподавал математику в средней школе, участвовал в домашнем образовании Лени Остапова, а затем перешел с гражданской работы на казначейскую работу в Патриархию.
Пришел Владимир Семенович Вертоградов, некогда успешно окончивший Казанскую Духовную Академию. Он был товарищем по курсу моего покойного дяди, брата матери, константина Васильевича Быстрова, который по окончании Академии был призван на военную службу, младшим офицером участвовал в первой мировой войне и так, офицером, и погиб. Вертоградов был также учеником другого моего родного дяди, младшего брата отца, Александра Андреевича нечаева, инспектора Тамбовской Духовной семинарии. Наша с ним встреча была для него волнующей: в моем лице ожили его воспоминания. надо сказать, что мы, студенты, нещадно его эксплуатировали, — тогда принято было «заправлять жука». Нам было интересно не столько слушать лекции, сколько расспрашивать о церковном прошлом наших преподавателей.
В этом отношении неповторим был Колчицкий. А Владимир Семенович очень трогательно, — до слез — вспоминал свои годы в духовном училище, в семинарии. однажды мы допустили очень большую бестактность: рассказали о тех переживаниях, которыми он так душевно, искренно поделился с нами, кому–то с соседнего курса, и, когда тот пришел к ним на занятия, кто–то из студентов прямолинейно и не особенно деликатно потребовал: «Владимир Семенович! Вы можете и нам рассказать, как вас в стихарь посвящали!» Он пришел в негодование и потом упрекал нас: «Как же вам не стыдно! Я душу перед вами излил, а вы меня предали, выставили на всеобщее обозрение!» Мы стали просить прощения, он смягчился, рассказал нам еще что–то… Такой непосредственностью была проникнута вся атмосфера наших занятий. Впрочем, рассказывать о себе он мог только под впечатлением каких–то особых настроений, а обычно вел занятия, читая конспект большого курса ветхозаветной исагогики профессора Юнгерова, конца XIX в., поэтому сидеть у него на уроках было все–таки довольно скучно. Он требовал, чтобы велись записи, кто–то записывал, а кто–то пользовался этим временем для решения своих собственных учебных задач.
Сергей Васильевич савинский, которого я упоминал ранее… перед ним трепетал сам Колчицкий, потому что, когда он был учеником Черниговской духовной семинарии, Савинский — тогда молодой преподаватель — яростно «истязал» студентов по догматике и катехизису. Таким он и остался до конца жизни. Могу привести один характерный эпизод — это было уже в Загорске. У него была манера спрашивать по 45 минут — весь первый час. Но, так как он опаздывал, реально опрос продолжался минут 30. Так вот, все эти 30–40 минут он спрашивал одного воспитанника и в результате поставил двойку. Его всем курсом просили переспросить, он спрашивал еще и в конце концов поставил два с плюсом, сказав: «Больше не могу!» Он был ярославец и говорил на «о», несмотря на то, что давно уже оторвался от своих исконных корней.
Лет он в наше время был уже весьма и весьма преклонных и нередко, слушая ответ, дремал, но при этом все слышал. Бывало, студент, ободренный тем, что он не слушает, начнет что–нибудь плести не по делу, а старичок–профессор тотчас же и «включается». Помню, я отвечал о грехопадении Адама. «А еще грехопадение Адама описано в поэме Мильтона «Потерянный рай»», — говорю я, чтобы распространить свой ответ. — «Ты Мильтона–то оставь, ты лучше по апостолу Павлу!» — тут же подает голос Сергей Васильевич. Еще лучше случай был, когда кто–то, рассказывая о седьмой заповеди, сказал: «Христос говорит: всякий, кто смотрит на жену свою с вожделением, уже прелюбодействует в сердце своем…» — «На свою можно!» — мгновенно реагирует «спящий».
Надо сказать, что человек он был чистый, добродетельный, и прихожане Новодевичьего монастыря (в последние годы жизни он был настоятелем Успенского Новодевичьего храма, оставив преподавательскую работу, так как ему тяжело было ездить в Сергиев Посад) долго потом вспоминали трогательное прощание, когда его отпевали со слезами и духовенство, и молящиеся, а некоторые из прихожанок даже говорили, что видели над гробом, во время выноса тела, белого голубя.
Однажды я встретил в МИИТе нашего преподавателя гомилетики Александра Андреевича Ветелева — он был какой–то нервный, задерганный. Я поздоровался с ним, а он спросил, не меня ли он видел в семинарии. Я ответил, что меня. Хотел сказать, что учусь там, но передумал и сказал, что брат был болен и я приезжал туда по его делам.
Был еще один очень интересный преподаватель — кажется, Александр Васильевич — фамилии его я, к сожалению, не помню. Он также преподавал английский в МИИТе, и на богословские курсы пришел вести занятия того же языка. Наше взаимное удивление было довольно большим, но виду не подали — ни я, ни он. Тем не менее он был очень неосторожен: на уроках рассказывал, что слушает Би–би–си. Через полгода он исчез. Видимо, он так и погиб в заключении. Это был интеллигент, очень тонкая натура, но человек, совершенно не приспособленный к жизни.
Многие наши преподаватели до открытия Богословского института работали в средних школах, техникумах, даже в каких–то вузах — так что навык преподавания у них сохранился. Не с преподавательской работы пришел Николай Иванович Муравьев. Он работал в счетно–бухгалтерском аппарате, а до этого обучался в Киевской духовной Академии. Внешне он был очень суров, носил очки в толстой черной оправе, лекции свои всегда начинал словами: «Ну–с, продолжим наши изыскания!» И хотя дальше учебника, конечно, далеко продвинуться он не мог, тем не менее, вид у него всегда был очень важный и мы трепетали перед ним. При этом он был человек очень и очень доброй души. Сам он был бездетен, но воспитывал детей своих родственников. Так случилось, что я довольно хорошо знал его семью и круг его домашних и вспоминаю его с большим теплом.
Особо надо сказать об о. Тихоне Попове. Одно время он был обновленческим митрополитом Воронежа. Ранее, учась в Академии, он был настоящим православным студентом, потом, кажется, преподавал в духовном училище, и написал блестящую работу о святителе Тихоне Задонском. Потом были годы обновленчества, покаяние, и вот, он пришел к нам. Он читал пастырское богословие. Будучи слеп, он диктовал матушке конспект, тезисы; она давала нам эти листочки, а он уже говорил, импровизируя, также перемежая лекции воспоминаниями, но избегая при этом вспоминать о морально тяжелых для него годах обновленчества. Помимо пастырского богословия он читал еще и основное богословие. Конечно, это были упрощенные курсы и нам приходилось около половины времени проводить в Ленинской библиотеке.
Самые светлые воспоминания — об Иване Николаевиче Аксенове, преподавателе пения. Он очень любил гласовое пение, осмогласие, отдавал ему всего себя, требуя и от нас четкой дикции, строгого соблюдения мелодического рисунка — мы на память пели догматики знаменного распева, и его уроки были для нас действительно памятны большим духовным содержанием, так как помимо музыкальности он вкладывал душу в само исполнение всех учебных заданий.
Инспектором был Анатолий Васильевич Ведерников. Его помощником был уже упомянутый Анатолий Васильевич Ушков, тоже преподаватель технических учебных заведений (кажется, его первой специальностью была математика), человек высокой методичности. потом, по окончании Духовной Академии, он стал преподавать славянский язык и немилосердно истязал учеников своей методикой — заучиванием правил славянской грамматики, которого, конечно, хватало только для ответа на экзамене. Встречая впоследствии его воспитанников уже в качестве священников на московских приходах, я видел, что они не могут даже элементарных славянских фраз перевести на русский.
Апологетику у нас преподавал Николай Семенович Никольский. Он был учеником Патриарха, в бытность его ректором Тульской духовной семинарии. Это был яркий, разносторонне одаренный человек, ни в каких обстоятельствах не терявший чувства юмора, великолепный популяризатор, обладал находчивым, точным языком. Слушать его было интересно — но, конечно, он не был специалистом в области апологетического богословия на том уровне, которого требовало наше время. Надо сказать, что он брался за все — далеко не всегда успешно. Помимо апологетики преподавал основное богословие, еврейский язык, церковную археологию — не имея достаточно глубоких познаний ни в одной из этих областей. Так, на церковной археологии рассказывает: «Краски в то время разводили на яичном белке…» Паша Голубцов не выдерживает и возражает с места: «На желтке, а не на белке!» Никольский, как ни в чем ни бывало, продолжает: «Итак, на белке…» — «Да невозможно на белке разводить, он же тянется!» Иногда, когда он в чем–то сбивался, его спрашивали: «Николай Семенович, а как же правильно?» — «Как я сказал, так и правильно». Или скажет: «Разные существуют источники, разные энциклопедии. Вот, так называемая Большая Советская энциклопедия — это дрянь, а вот Брокгауз и Ефрон — это действительно энциклопедия». Очень был неосторожен на язык, постоянно допускал ненужные каламбуры. Дело кончилось тем, что на втором году своей преподавательской работы он попал в заключение — к счастью, ненадолго.
Помню как потом он защищал диссертацию. Тема была «Путешествия апостола Павла». Естественно, рассказывал он, показывая все на карте, нужна была указка но ее не оказалось, он не растерялся и в качестве нее использовал откуда–то взявшуюся лыжную палку.
Впоследствии он стал священником. Службы на неделю объявлял, несколько шаржируя: «в воскресенье ве–че–ром а–кафист мученику такому–то, а в по–не–дель–ник утр–ом в во–семь ча–сов ли–тур–гия; в по–не–дель–ник ве–че–ром ве–чер–ня и ут–ре–ня, потому что во втор–ник ут–ром состоится ли–тур–гия…» Доходил до воскресенья и говорил: «В остальные дни служба совершается по расписанию». А надо сказать, что голос у него был противный, произношение «в ноздрю». Еще говорил: «Служба Божией Матери. А вот в Париже ее собор называется «Нотр Дом»». Домашняя обстановка у него была очень тяжелая, но он переносил это стоически.
Самым интересным по методике был, пожалуй, о. Дмитрий Боголюбов. Во–первых, конечно, все его уроки представляли собой воспоминания о его противосектантской деятельности, и только иногда он возвращался к самому предмету — расколоведению и сектантству. О расколе мы черпали знания из литературы, а о сектантах имели самое смутное представление, потому что писать о них в светской печати было тогда не принято. О. Дмитрий вспоминал, какие у него были встречи и диспуты с живыми сектантами. Он работал больше в деревне, в Тамбовском крае, охваченном молоканами и штундистами. Но главное не это. Он вносил в настроение своих занятий очень большое душевное тепло. Поделившись своими воспоминаниями, спросив кого–то — чаще всего бессистемно, о чем–нибудь, — он говорил: «Ну, а теперь давайте споем! Только тихо — тихо — тихо!» — давал тон и мы потихоньку мурлыкали «Под Твою милость» или какие–то другие песнопения. Поэтому воспоминания остались самые теплые, самые душевные. И когда он по немощи уже не мог преподавать, то все равно приходил в семинарию (жил он в Загорске). То за ним посылали машину, то студенты его провожали. Зайдет он, бывало, в учительскую, посмотрит журнал, перелистает студенческое сочинение, — и чувствовалось, что весь он в атмосфере этой новой духовной жизни, от которой был оторван долгие годы.
Еще один замечательный преподаватель — о. Вениамин Платонов, настоятель храма всех святых на Соколе. Он преподавал с первого года, но я, к сожалению, мог слушать его только месяца полтора в 1945 г. — всего три–четыре раза. Он тяжело болел (у него был рак горла), говорил с большим трудом, и в 1948 г. скончался. Ему принадлежала одна из лучших богословских работ, представляющих наследие наших прошлых духовных школ, образец, до сих пор не превзойденный по глубине филологического и исторического анализа: исследование евангельского повествования о жене грешнице. Это полнообъемная диссертация, в которой собран большой текстологический материал, разобраны все законы библейские, все сопутствующие народные обычаи и все реалии. О. Вениамин очень много давал нам теплых пастырских наставлений из собственного жизненного опыта. Он сформулировал замечательное определение веры. Понятно, что вера — это особое свойство души, дающее импульс к самобытной деятельности, но все же квалифицировать ее трудно. О. Вениамин предложил определять веру через близкие понятия: «доверие» и «верность». Если человек верует в Бога, это значит, что он доверяет Богу и пребывает верным Ему. Он также учил нас, как нужно встречать искушения: «в жизни, особенно в наше время, существует масса светских развлечений; — но это все равно что выбирать между хорошей, чистой дорогой, и грязной, с лужами. В лужу, конечно, можно влезть, — но только потом чиститься придется, — а то и застрять в ней можно».
Такой же рассудительный подход к жизни был и у нашего духовника, архимандрита Зосимы (Иджилова). болгарин по происхождению, он родился и вырос в Молдавии; в юности ушел из родительского дома и поступил в Чудов монастырь, где познакомился с будущим патриархом. О. Зосима был сначала послушником, потом — иеродьяконом, а патриарх — лицеистом и студентом университета. Впоследствии о. Зосима, пережив годы заключения, ссылок, был внештатным священником в патриаршем Богоявленском соборе, и патриарх назначил его духовником Духовных школ. О нем можно писать отдельную большую статью — о его духовном опыте, потому что это был старец, исключительный по своему дару рассуждения. он говорил: «на красный свет можно проехать, но — проскочишь раз, проскочишь два, — если же все время так ездить, то авария неизбежна».[66]
Ректор о. Николай Чепурин
Очень важный этап пережили наши духовные школы осенью 1946 — зимой 1947 года. ректором Богословского института сперва был назначен о. Тихон Попов. Потом его заменил о. Сергий Савинский. Но вот, в ноябре 1946 года патриарх вызвал из Ташкента своего соратника по Петрограду, протоиерея Николая Викторовича чепурина. Это был человек больших природных дарований. Блестящий студент академии, он был оставлен при ней в качестве епархиального миссионера, помимо Академии учился на юридическом и на биологическом факультетах университета. Таким образом, он имел три ученых степени: богословия, права и микробиологии. Активный участник борьбы с обновленчеством, он провел 17 лет в заключении, в ссылках, на строительстве Беломорканала. Встреча с ним была драматичной. Из числа студентов нашего курса был выделен — сейчас уже не помню, кто именно — для встречи его во Внуковском аэропорту, и, вернувшись оттуда, он поделился своими впечатлениями с некоторой долей испуга. Из самолета вышел крепкого сложения пожилой человек с багровым цветом лица и совсем маленькой бородкой — собственно, на самом кончике подбородка, с такими же подстриженными усами,[67] в кожаном пальто, в небольшой барашковой шапке; поздоровался, сел в машину, всю дорогу проехал молча, поблагодарил, вышел. Мы, привыкшие к душевной, теплой атмосфере, несколько приуныли. Через 2–3 дня он был назначен инспектором, а еще через несколько дней — ректором. Вызывали его на инспекторскую должность, а получил ректорскую. Вскоре мы увидели следы его присутствия в том, что появился приказ номер такой–то от такого–то числа — по пищеблоку: всем надеть белые халаты и т. п. Потом по режиму — то же самое; по дисциплине посещения занятий…
Но вот однажды за богослужением — в этот день я был обязан нести клиросное послушание, поэтому оказался не на патриаршей службе, а в Новодевичьем храме, — вышел о. Николай на запричастном с проповедью, которая совершенно повернула всех нас. Я сейчас не могу воспроизвести ее полностью — это была блестящая речь о пастырском долге, пастырском служении, но как афоризм я запомнил одну фразу, произнесенную им: «Вас здесь учат многим наукам и по ним вы сдаете экзамены. Но есть одна, по которой вы сдадите экзамен однажды в жизни и навсегда — это наука жертвовать собой». Почему я говорю, что это нас повернуло? — Потому, что это сразу придало деловой, не любительский характер всем нашим занятиям. Он взял себе пастырское богословие и патрологию и, естественно, мы все, весь наш курс — двадцать с лишним человек (тогда курсы у нас были маленькие) сразу решили быть патрологами и апологетами, такими, как он, — считая, что только на этом пути мы можем найти свое призвание.[68]
И другое очень важное обстоятельство. Уже в одну из первых недель своего пребывания в Москве, только осмотревшись и познакомившись с московским духовенством, он пригласил к себе отцов благочинных, видных протоиереев, угостил их чаем с лимоном — что по тем временам было особым знаком, — и выпросил у них, у каждого, «налоговое самообложение» в пользу духовных учебных заведений. Таким образом, студентам стали платить стипендию. Во всяком случае, именно о Николай подготовил реформы 1947 года. Мы уже заканчивали не Богословский институт, а семинарию. Богословский институт, четырехгодичный, был поделен пополам: два курса отошли к семинарии два — к академии. Таким образом, семинария стала действовать уже в полном составе: богословско–пастырские курсы дали два первых класса семинарии, третий и четвертый были образованы из первого и второго курса Богословского института. Третий и четвертый курсы Богословского института стали первыми двумя курсами Духовной Академии. Поэтому я оказался в четвертом классе семинарии, а толя мельников, Гнедич, Иванов, Сперанский, Ушков, Николаев оказались на первом курсе Академии и в 1950 году закончили ее со степенью кандидата.[69] так что по существу, хотя начало духовных учебных заведений относится к тому периоду, о котором я рассказал, но возрождение семинарии и Академии — это 1947 г. — по номиналу.
еще один эпизод я вспоминаю об о. Николае Чепурине: встречу Тихвинской иконы Божией Матери. Пришел он к нам однажды в класс, спросил сурово, кто из нас иподьяконы. Все затрепетали в ожидании прещений, а он сказал: «Сейчас будем встречать Матерь Божию». Действительно, мы пришли в Успенский храм, облачились в стихари, вынесли свечи, хоругви, и у святых ворот встретили икону Божией Матери Тихвинскую, которую привезли на грузовой машине; пронесли ее по монастырю, что вообще тогда было исключительным явлением, потому что территория принадлежала музею, и в храме он, опустившись на колени, прочитал перед ней импровизированную молитву. Я сейчас не могу восстановить ее текст, помню только то настроение, с которым он ее произносил. Это была не молитва из молитвенника, а молитвенная импровизация, в которой он раскрывал душу перед иконой как перед живой. Осталось только впечатление и невоспроизводимое, и неповторимое. Еще он говорил нам так: «Конечно, приспосабливаться можно, все приспосабливается: и растения, и животный мир, и человек. Где–то можно слукавить, где–то смолчать, но настанет тот трагический момент, когда вы однажды зададите себе вопрос: «А что же я сам?» Любое нарушение своей внутренней цельности — это начало катастрофы».
К сожалению, жил он недолго. Как сейчас помню: после занятий 6–го февраля я поехал на свою работу в ризницу патриархии; на углу чистого и Кропоткинской — ныне опять Пречистенки, встретил его — он раньше меня куда–то ехал, уезжал после встречи с делегацией французского нашего прихода из парижа, с Трехсвятительского подворья, — я тогда с ним простился, как обычно, а наутро 7–го февраля, приехав на занятия, увидел поникших своих товарищей. Утро было очень морозное; растирая лицо от мороза я спросил: «Что это вы так приуныли?» — и в ответ услышал: «Тише ты! ректор умер…» Я решил, что это бывший ректор, о. Тихон Попов, но оказалось, что о. Николай ночью в одночасье скончался. Прощание было грустным, тяжелым, похоронили его на Немецком кладбище напротив митрополита Трифона (Туркестанова). Рядом с ним впоследствии была похоронена матушка Мария Федотовна, неизменная его спутница. В один день с о. Николаем Чепуриным, 7 февраля 1947 г., умер старый друг нашей семьи — Александр Филиппович Каракулин. Так я их вместе и поминаю.
Учась на первом курсе в Богословском институте, как я уже говорил, я еще оставался студентом МИИТа — и так продолжалось целый год. Утром я направлялся в Новодевичий монастырь, потом садился на трамвай и ехал на Новослободскую, а там некоторое время прогуливался перед учебной частью, чтобы меня заметили, и только потом шел в чертежную, в мастерские. Подумать — больше пятидесяти лет прошло с тех пор!
В 1946 г., проучившись три года, я попросил себе академический отпуск. Помню, тогда Дионисий Федорович Парфенов, подписывая мне разрешение, сказал: «Ты бы уж прибивался к одному берегу!» Хороший был человек, всегда его поминаю. Патриарх, надо сказать, очень настаивал, чтобы я закончил светское образование, но я его убедил, что это нецелесообразно, потому что, получив диплом, я должен буду три года отработать по распределению, чтобы вернуть государству затраты на образование, на стипендию, а к тому же дальше пойдет специализация, которая мне, как священнику, едва ли пригодится. Патриарх согласился и я со спокойной совестью ушел из МИИТа. Правда, все равно всю жизнь строю. У меня даже есть каска и мастерок.
В 1947 г. состоялась аттестация преподавателей. О ней надо сказать особо — это показывает наши нравы во всей красе. Голосование было тайным. Колчицкого сразу большинством голосов завалили: он давил своим авторитетом, не являлся на занятия, на занятиях говорил не по теме. Все голоса были против, и только один голос — за. Едва закончилось заседание, как один из преподавателей поехал в Елоховский собор к Колчицкому. — «Николай Федорович, вынужден вас огорчить: все были против вас, один я голосовал «за». Я так вас всегда уважал!» — «Спасибо, спасибо вам…» Только ушел этот — появился следующий: «Николай Федорович! Что делать: все кроме меня были «против»! Я же всегда относился к вам с почтением…» — «Ммм–да? Ну, спасибо…» — Следом за ним явился третий: «Вы знаете, это я голосовал за вас…» — «Да что же это, наконец?!» — взревел Колчицкий. дальше можно не продолжать.
[19] Храм Адриана и Наталии на Сухаревской был разрушен в 1935–36 гг. В свое время он принял в себя Животворящий Крест Господень из Страстного монастыря. Затем в этот храм пришла другая великая святыня — икона с мощами мученика Трифона с Напрудной. После разрушения этого храма святыни были переданы в храм Знамения напротив Рижского вокзала.
[20] Моя мама была на похоронах митрополита Трифона и там познакомилась с Еленой Ивановной Василевской. Когда внезапно пошел дождь, у одной из них — уже не помню, у кого — не было зонтика, а у другой был, а оказавшись под одним, они, естественно, разговорились. Елена Ивановна была, как тогда говорили, «обетная дева». Жениха ее убили на фронте в первую мировую войну, она осталась верна его памяти и замуж так и не вышла. Она была членом братства Святителей Московских, которое занималось помощью заключенным. При этом она была очень тихая, незаметная. Пела в хоре — сначала в Николо–Столпенской церкви, потом — у Петра и Павла в Лефортове. Умерла она от рака, умирала очень тяжело. Кстати, по поводу этой болезни о. Севастиан говорил, что рак — благословение Божие: те, кто им болеет, без мытарств попадают в рай — таково было мнение оптинских старцев. Могила Елены Ивановны находится на Немецком кладбище.
[21] Село Новлянское ныне вошло в состав районного центра г. Воскресенска — в 88 км. к юго–востоку от Москвы. — Концевая сноска 6 на с. 384.
[22] Районный центр в 68 км. к востоку от Москвы. — Концевая сноска 7 на с. 384.
[23] Основателем Всероссийского общества трезвости был священномученик митрополит Владимир (Богоявленский) — и, надо сказать, на этом он очень пострадал. Однажды во время приема у государя императора Николая Александровича вынесли поднос с маленькими рюмками вина и государь, взяв рюмку вина, поднес ее митрополиту, а тот почтительно поклонился и сказал: «Ваше Императорское Величество! Я председатель Всероссийского общества трезвости». На следующий день он должен был ехать в Киев, и туда была послана предварительная телеграмма: «Встречу не оказывать». Ему только выслали извозчика к поезду — так начался его тернистый путь на древнейшей российской кафедре.
[24] Этот тяжелый рок наследственной болезни висел над его семьей. В 16 лет умерла старшая дочка, Сонечка. Старший сын, Юрий, болел всю жизнь. Два другие его сына — Сергей и Вениамин умерли молодыми.
[25] История этого храма такова. Царь Петр, проплывая на барке по Москве–реке, увидел, что люди идут в храм Иоанна Воина, прыгая по дощечкам и с камушка на камушек, потому что вся площадь Бабьего городка во время разлива затапливалась водой. И царь сказал, что Иоанн Воин дал нам победу над шведами, а потому нельзя, чтобы храм его находился в таком пренебрежении. И что, хотя и запрещено сейчас строить в Москве каменные здания, он пришлет из Петербурга бригаду каменщиков, чтобы перенести этот храм на высокий берег. Что и было сделано.
[26] Одна наша знакомая в 6 часов утра поднимала двоих своих ребятишек и заставляла петь «Интернационал», чтобы соседи не подумали, что они молятся.
[27] Насчет усов приходилось временами слышать нечто забавное. Так в МИИТе однокурсница, Сонечка Дзюба, говорила: «Костя, пошевеляй усами!». А причина, что я их носил, была простая: отец в молодости носил такие же.
[28] Имеется в виду полная декомпенсация сердечной деятельности. — Концевая сноска 8 на с. 384.
[29] Имеется в виду, что рецепты хозяйки держали в секрете и гости, пробуя пасху, пытались сами их «вычислить». — Концевая сноска 9 на с. 384.
[30] «Площадь Борьбы» — остановка трамвая вблизи МИИТа. — Концевая сноска 10 на с. 384.
[31] Московский институт инженеров транспорта. — Концевая сноска 11 на с. 384.
[32] Умер он в должности руководителя одного из отделов БАМ–проекта.
[33] Этот обычай я впоследствии перенес в Московскую духовную семинарию: мы знакомили первокурсников с нашей школой, с Москвой, с ее святынями, и перед ними выступали старшие профессора, — с именем, стажем и богословскими исследованиями.
[34] Ленинградский институт инженеров транспорта. — Концевая сноска 12 на с. 384.
[35] Несколько лет спустя, когда уже была возобновлена Троице–Сергиева лавра, ее первым наместником стал архимандрит Гурий (Егоров). И вот там в церкви я однажды увидел Николая Михайловича Егорова. Я поздоровался, хотя он меня в лицо не помнил. «Молодой человек, — обратился он ко мне, — Передайте, пожалуйста, отцу наместнику, что к нему приходил брат».
[36] Когда я впервые появился в МИИТе после долгого перерыва, меня поразило количество окурков перед зданием. В наше время такого не было — во–первых, потому что мы докуривали все до самого основания, во–вторых, мы никогда не бросали окурки где ни попадя. Для человека настоящей нашей русской культуры это невозможно — русский мужик даже не плюнет на землю, потому что земля его кормилица, она ему мать. Это же все равно, что плюнуть матери в лицо, — кто может это сделать, если не подонок?!
[37] Несмотря на все трудности, в каком–то смысле нашему поколению повезло. Хотя бы в том, что нам было не до пороков, которыми нередко страдает молодежь в благополучные эпохи. Мы, например, не сталкивались с наркоманией. Сейчас мне приходится видеть наркоманов в разных ситуациях, а тогда это была крайняя редкость. Впрочем, один такой случай я знал. Мой двоюродный брат ушел на фронт и оставил нам «в наследство» своего школьного друга. Очень хороший молодой человек, но с трясущимися руками. Он потерял мать в младенчестве, маленьким мальчиком. Его отец был врач, а малыш страдал детским ревматизмом. Очень многие детишки тогда страдали этим: ноги болят, плачет малыш, хнычет. И отец, — представьте себе: врач! — стал колоть ему очень легкие болеутоляющие средства — сколько можно дать малышу для того, чтобы он спал и не плакал. Мать–то ведь может и утешить, и поцеловать, а отец — у него больница на плечах, бесконечные проблемы. Это было еще, естественно, до войны. И вот Владимир, мой двоюродный брат ушел на фронт, а этот Коля остался, и брат просил нас его поддерживать. Помню, Коля нам говорил: «Вы знаете, я несчастный человек, я не сволочь, я благодарю вас за помощь, но если бы вы знали, какую боль испытывает мой организм, когда идет ломка, когда каждая клеточка тела болит своей особой болью». Естественно, в нашей семье были врачи, которые поддерживали его, в конце концов мы поместили его на лечение, это был сорок второй год, но потом он бежал из больницы. Он скупал валерьянку, какие–то прочие капли и таблетки, все, что можно было проглотить. Потом, когда он в третий раз сбежал из этой больницы, мы уже потеряли его. Дело было зимой, он замерз и погиб.
[38] Московский электромеханический институт путей сообщения. — Концевая сноска 13 на с. 384.
[39] Станкоинструментальный институт. — Концевая сноска 14 на с. 384.
[40] О. Николай Колчицкий рассказывал, как однажды его пытались загипнотизировать, но он читал про себя молитву и на него ничего не подействовало. Вообще это лучший способ — при всех вынужденных и часто неприятных контактах читать молитву. Как–то давно — я тогда еще не был ни в каком сане — ехали мы с мамой на электричке к нам в Калистово, а по вагону ходила цыганка и предлагала всем погадать. Подошла и к нам, и стала настойчиво предлагать погадать мне. Я, естественно, отказывался. Я отказываюсь, — а она не отстает. Даже в вагоне уже стали обращать на нас внимание. Мама говорит: «Да дай ты ей деньги, пусть отстанет!» А я говорю: «Нет. С какой стати я ей буду деньги давать?» Так и не поддался.
[41] Потом, правда, когда те же Патриархи прибыли к нам в 1948 г. на 500–летие автокефалии Русской Церкви, восторга было меньше. Присмотрелись мы к ним… Сейчас, говоря о той эпохе, часто упоминают митрополита Гор Ливанских Илию Карама — что он был молитвенником, большим другом России и т. д. Может быть, конечно, и так, только у нас полушутя называли его «грабителем». Увидит икону на аналое: «О, Матерь Божия! Матерь Божия!» — бросается к ней, целует, что–то бормочет на своем языке, — содержание речи сводится к тому, чтобы ему отдали икону. И не откажешь… В Одессе митрополит Борис — уж на что умный человек — а имел неосторожность пригласить его к себе в келью — так потом пришлось чуть не все иконы со стенки дарить. Я все это увидел, когда был еще восторженным юношей, и впечатление осталось на всю жизнь. Потом, когда бывал на Востоке, видел там множество русских икон — в золотых окладах с драгоценными камнями. Еще бы! Колчицкий тогда с амвона вещал: «Православные! К нам прибывают восточные Патриархи, которые молятся за нас у своих древних святынь. Вы можете принести им в дар имеющиеся у вас иконы». И понесли, бедные, у кого что еще оставалось… Всегда говорю, что грехов у меня, конечно, много, но в одном я чист: никогда ни одному из них не подарил ни единой вещи. Конечно, и среди своих всякое бывало. Один священник в послевоенные годы принимал у себя архиерея. Старался принять изо всех сил, как только мог. Спать уложил в собственную постель и по наивности не снял висевшие у изголовья золотые часы. А утром смотрит — часов–то и нет! [Об Илии Караме см. также Именной указатель. — Примечание А. Дунаева для электронной версии.]
[42] Потом он служил в Спирове, я его отпевал.
[43] Имеется ввиду Афинагор, митрополит Севастийский, представитель Патриарха Иерусалимского на соборе 1945 г. — Концевая сноска 15 на с. 384.
[44] Аколуф — в переводе с греческого: «спутник», «провожатый», «слуга», во множественном числе — «челядь», «свита». — Концевая сноска 16 на с. 384.
[45] Кстати, крест на архиепископском клобуке долгое время был знаком отличия, который давался не сразу. Первым самочинно присвоил его Киприан, когда стал архиепископом Берлинским. Этому удивились, но никто ничего ему не сказал, а потом так и привилось уже для всех.
[46] Еще одна московская традиция: в старых храмах не был принят яркий белый цвет — ни в окраске стен, ни в облачениях. Известь и кирпич давали тона кремовый и терракотовый. Надо мной посмеиваются, что у меня клобуки желтые — как будто не стиранные, а между тем, это старая традиция, чтобы одежды были не белоснежные, а цвета слоновой кости. И в этом особый смысл: ведь про Преображение Господа сказано, что «одежды сделались белы, как ни один белильщик на земле не может убелить». Так как же можем мы белизной одежд со Христом тягаться? И стремиться к этому не стоит!
[47] Примерно та же история была у меня в советские годы. Собираются отпевать Брежнева. Звонит мне некто из ЦК, спрашивает: «Константин Владимирович, как же так? Брежнева отпевать будут, а как же его называть? Неужели «рабом Божиим»? — «Да нет, зачем же — говорю, — можно «воином», а хотите — «воеводой Леонидом»».
[48] Про Толстого рассказывали еще анекдот. Едет скорый поезд мимо Ясной Поляны. Пассажиры с любопытством толпятся у окон, а проводник говорит: «Успокойтесь, господа, их сиятельство пашет только перед курьерским!» Толстой, конечно, трагическая фигура. И трагизм его в том, что, порвав по совести с людьми своего круга, он так и остался барином. Под посконной рубахой носил голландское белье, воду пил только привозную. Но главное — Христос для него был словно бы партнером и соперником: как же — Христа каждый мужик знает, а его, графа Толстого — нет. Тем не менее, я помню отношение к Толстому моих старших. Они были более склонны винить в его драме Черткова и прочих подобных ему людей из окружения. Говорили также, что его, конечно же, Синод «упустил»: надо было учитывать, что он человек очень русский, и впав в крайность, на попятную не пойдет.
[49] В Переделкине, — точнее, в селе Лукине, находилась родовая усадьба бояр Колычевых. Этот род, в истории Церкви запечатлевшийся тем, что к нему принадлежал московский митрополит, святитель Филипп, был почти полностью вырезан Иваном Грозным, — во всяком случае, погибли почти все его мужчины. Митрополиту Филиппу была прислана отрубленная голова его племянника. В память об этом геноциде уцелевшие потомки рода Колычевых в своей усадьбе крышу красили в черный цвет, а в фамильной их церкви фрески окружены широкой черной каймой — хотя вообще черный цвет в русской иконописи не принят.
[50] Тогда коробки конфет продавались не запаянными в целлофан, а перевязанные разноцветными атласными ленточками и продавщицы в кондитерских очень ловко умели завязывать огромные пышные банты — «шу».
[51] Это тоже старая монашеская традиция — в прежнее время монахи считали неприличным носить вместе на левой руке часы и четки, и предпочтение, естественно, отдавалось четкам. — Концевая сноска 17 на с. 384.
[52] А патриарх Пимен уже смотрел на это по–другому. Как–то я спросил его: «Ваше святейшество! А вы как относитесь к часам на руке?» — «Очень хорошо, — ответил он, — Я сам ношу. Вот, у меня «Победа». Прекрасно ходят!» Так вслед за ним и мы все стали носить часы на руке.
[53] Церковно–археологический кабинет — музей при Московских духовных школах. — Концевая сноска 18 на с. 384.
[54] В среде традиционно верующей интеллигенции платки не были приняты — ни в храме, ни на улице. Другое дело, что до войны и по улице с покрытой головой ходили все — и женщины, и мужчины; носили обычно шляпы, береты или кепи. После войны, когда постепенно укоренилась мода ходить без головного убора, многие женщины, особенно молодые, и в храм приходили так же, или же покрывали волосы сеточкой–вуалью. — Концевая сноска 19 на с. 384.
[55] Парийский много лет был псаломщиком, и говорил с заметной артикуляцией, энергично двигая губами. Он вообще был человек грубый, нетактичный. Когда я начал участвовать в богослужении и увидел службу «изнутри», меня очень заинтересовал богослужебный устав. Оказавшись в алтаре впервые в 18 лет, я воспринимал все очень живо и остро. С другой стороны, для меня многое было внове из того, что большинству было привычно. Будучи студентом, я изучал в Ленинке одну рукопись устава и меня эта тема увлекала. (Помню, в то время там, чтобы листать раритетные книги, выдавались специальные костяные палочки, рукой страницы касаться было нельзя.) Однажды я стал было рассказывать обо всем этом Патриарху — его вообще забавляли мои претензии, — но присутствовавший при этом Парийский резко меня прервал, сказав: «Да кому все это нужно!» Я сразу и сник — как одуванчик. Заниматься этой темой, правда, не перестал, но прежнего энтузиазма уже не было. А сейчас я понимаю, что именно это–то и надо было делать.
[56] Я встречал эту историю в военных мемуарах, но слышал ее и от очевидцев. Дело в том, что я дружил с братом Василевского, полковником танковых войск. Дочь этого полковника вышла замуж за студента — будущего инженера–прибориста, а этот инженер впоследствии стал священником, моим воспитанником. Замечательный священник, отец Николай, огромного роста, и ребята у него такого же высокого роста, прямо русские богатыри. Так вот история гражданская и церковная тесно переплетаются.
[57] О. Сергий (Савельев) тоже был интересный человек. Аскетическая наружность: высокий рост, крупные черты лица, большая борода и — погромные речи. Я читал в рукописи его книгу — там даже есть специальный термин: «елоховщина».
[58] Правда, и борода привлекала внимание. Давно — это было еще, наверное, в пятидесятые годы — стоял я на автобусной остановке. Смотрю, возле меня крутится малыш. Серьезный такой. Обошел вокруг меня раз, два, изучающе заглядывая мне в лицо. А дело было зимой, на мне было пальто с поднятым барашковым воротником, и ему снизу видна была только моя борода, две дырки в носу и два глаза. Смотрел он на меня, смотрел, потом спрашивает с нескрываемым изумлением: «Дядя, а чем же вы ешьте?» Другой случай был: ехал я в поезде и там кто–то, увидев мою бороду, говорит: «Вон, Карл Маркс!» А какой–то ребенок тут же возражает: «Нет, это дедушка Ленин!»
[59] Можно себе представить, как горели купола Москвы в XVII веке, когда вся она была лесом крестов и главок! Распространенный у нас способ покрытия — лемехами из осины. Свежая осина выглядит как светлое золото, а старая — как серебро. Так что даже маленькая, бедная церковь смотрелась празднично. Москва была сказочным городом. Когда иностранцы подъезжали к Поклонной горе или из Замоскворечья к Зарядью, они буквально немели от той красоты, которую представлял наш город. Сейчас он резко изменился. Здания средней высоты и повышенной высотности заслонили его лицо и основное содержание, которое отличало Москву от всех городов.
[60] В ту поездку я впервые побывал на Мамаевом кургане. Один из моих родственников, землеустроитель, геодезист, работал там уже в феврале–марте 1943 г. на руинах Сталинграда, подготавливая восстановление города. Его впечатления, то, что он рассказывал, было для нас сенсацией. Но когда я сам побывал на этом месте, меня больше всего потрясло следующее: когда в состоянии душевного волнения я решил прикоснуться к этой земле, положил ладонь, а потом хотел стряхнуть с нее соринки — я взглянул и замер. Это была не грязь, не песок, а мелкие осколки человеческих костей. Вот он, апофеоз войны — подумал я. Уже не пирамида, сложенная из черепов, как на известной картине Верещагина, а кости, измельченные почти до состояния пыли…
[61] Архидиакон — это ступень сана черного духовенства, Г.К. Антоненко принадлежал к белому и должен был бы нахываться протодиаконом, тем не менее Владыка всегда называл его именно так. — Концевая сноска 20 на с. 384.
[62] Время, действительно, было опасное. Возвращение духовенства из эмиграции началось с визита в Европу митрополита Николая и закончилось печально. Людям было сказано: «Возвращайтесь!» Волна хлынула, но почти вся проследовала дальше. Это очень повредило репутации митрополита Николая, хотя никакой его вины в этом не было. Митрополит Евлогий (Георгиевский), который всегда был очень политизирован, тогда тоже принял советское гражданство. Он пришел в посольство оформлять паспорт. «Да, хорошо, хорошо… А это кто, чей портрет на стене?» — «Это товарищ Сталин!» — «Да… Хороший! И молодой какой!» Сталин на портрете был лет на двадцать моложе, чем в жизни. Случай этот тогда передавали из уст в уста и все очень смеялись. Митрополиту Евлогию выдали паспорт № 1, но вскоре он умер.
[63] К слову сказать, московская традиция ношения академического значка отличалась от других тем, что значок цеплялся не за петельку в воротнике рясы на левой стороне, а посередине груди, для чего нужно было пришивать отдельную петельку. Это было гораздо менее удобно, но москвичи считали, что пользоваться петелькой, которая употребляется походя для застежки рясы, и располагать значок сбоку, не по центру — унижение креста и Нерукотворного образа Спаса на нем.
[64] Рассказ воспроизведен так, как рассказывал Владыка, но, возможно, его сведения не совсем точны. О существовании Академии на Новой Басманной сведений нет, зато известно, что подобное учебное заведение существовало на Петровке в Высокопетровском монастыре. Ректором этой подпольной академии был архиепископ Варфоломей (Ремов) (1888–1935), до революции бывший профессором кафедры Ветхого Завета Московской Духовной Академии. — Концевая сноска 21 на с. 384.
[65] С Сергеем связан еще один забавный случай. Мы сняли дачу под Москвой. Нам говорили, что там в садах очень хорошие яблоки — но в тот год лето было дождливое, яблоки не уродились, а к тому же оказалось, что в этой местности водятся змеи. А еще нас предупредили, что по поселку ходит сумасшедший. Безобидный молодой человек, но все ходит и что–то бормочет про себя. А как увидел я этого молодого человека — узнал Сергея, с которым вместе поступали. Он, оказывается, таким образом зубрил катехизис — чтобы никто не мешал.
[66] Одна наша знакомая старушка говорила, что теперь люди стали намного сильнее и здоровее, чем были раньше. «Это все потому, что они спортом занимаются. Раньше я ходила так же как все — я и теперь хожу, как раньше, — но все почему–то меня обгоняют». О. Зосима на это ей отвечал: «Зато раньше таблетки гораздо сильнее действовали. Мне тогда хватало одной, а теперь и двух мало».
[67] Потом мы узнали, почти полное отсутствие бороды и странный цвет его лица, которое от мороза всегда шелушилось, — это результат плохой пластической операции, потому что он был отброшен взрывной волной, и лицо его было изуродовано. Впрочем, это его не безобразило, видно было только то, что это инородная ткань.
[68] Когда о. Николай умер, этот стимул ушел в прошлое, а со временем я понял, что апологетика — это совсем другое: это лучшее знание своего собственного образа мыслей и действий.
[69] Диплом у нас приравнивался к кандидатскому сочинению.
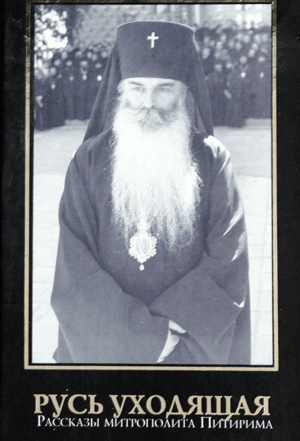
Комментировать