Душеполезные размышления
(1878–1879 гг.)
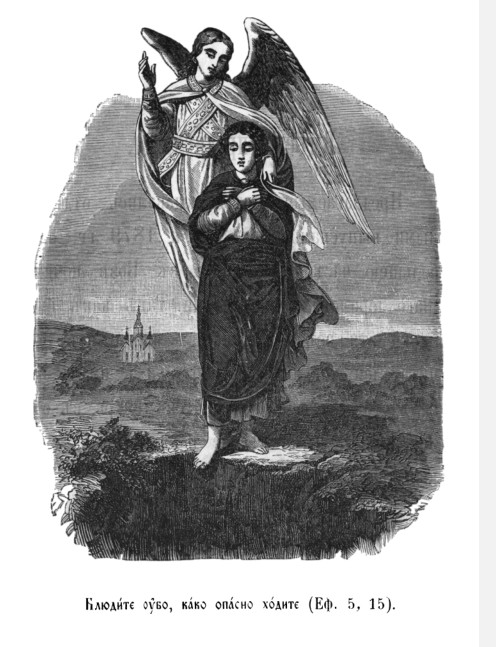
Содержание
Вместо предисловия Выпуски 1878 года I. О молитве Слово на новый год II. О любви к Богу III. Об истинном покаянии О причащении пречистых Христовых Таин IV. Животворящий Крест Христов Воспоминание явлений на небе Животворящего Креста Господня, виденных в Иерусалиме V. Четвёртая заповедь VI. О необходимости сопротивления греху и понуждения себя ко всему Богоугодному О гордости и об осуждении ближних 27 Июля 1878 года, на Святом Афоне VII. Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою Чудеса Пресвятой Богородицы (Приложение к выпускам 1878 года) Моление ко Господу Иисусу Воскресшему Замечательное сновидение Ожившая покойница – вестница из загробного мира Святая Гора Афон, земной удел Божией Матери Выпуски 1879 года I. Слово на новый год О терпении скорбей О покаянии Беседа 1-я II. О покаянии. Беседа 2-я О причащении пречистых Христовых Таин Иверия-Грузия III. О покаянии. Беседа 3-я Беседа 4-я Мысли при взгляде на распятие Спасителя мира О нищей братии IV. Тайная вечеря и вольные страдания Спасителя мира Вертоград Гефсиманский Самопознание V. Бог в природе О благодатной помощи, явленной от святого великомученика и целителя Пантелеимона Жди скорбей – как дорогих гостей О борьбе души с духами злобы в час смертный О загробной участи нашей VII. Бессмертие души VIII. О посте Заявления о исцелениях, получаемых от святого великомученика Пантелеимона Вещий сон IХ. О различении помыслов Х. Грех О богатстве и сребролюбии Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь Воспоминание монашествующей братии при часовне русского Пантелеимонова монастыря о последних годах и днях жизни иеромонаха Арсения и изложение обстоятельств его кончины и погребения Слово, сказанное протоиереем о.Александром Ильинским Речь, произнесённая иеромонахом Пантелеимоном Некролог (Приложение к выпускам 1879 года) Слово, произнесённое в Исаакиевском соборе протоиереем Иоанном Полисадовым в неделю 7-ю по Пятидесятнице
Вместо предисловия
Предлагаемые статьи издавались отдельными выпусками в 1878 и 1879 годах; они большей частью сочинения в Бозе почившего иеромонаха о.Арсения. Так как выпуски эти все разошлись, а многие из почитателей покойного желают их иметь, то вследствие сего они издаются теперь в одной книге, в том же порядке, как шли выпусками.
Выпуски 1878 года
I. О молитве
Едино же есть на потребу (Лк.10:42).
Начало спасения нашего есть молитва, а потому с неё и начнём нашу беседу. Молитва есть величайшее на земле благо, дарованное нам Создателем нашим, она есть благоговейное стремление души человеческой к Богу, или сердечная беседа человека с Богом, во время которой человек, представляя Бога невидимо при себе находящимся, изливает пред Ним чувствования души своей. В Ветхом и Новом Завете есть множество указаний о необходимости молитвы и о её высоком значении, которое вполне подтверждается примерами Спасителя и Его апостолов, проводивших дни и ночи в молитве. Молитвой мы всё можем испросить у Господа, а потому она именуется матерью всех добродетелей. Желаем ли мы утвердиться в какой добродетели или избавиться от дурных навыков, суетных увлечений и прочего, – всё это достигается молитвой. Молитва есть дело ангельское: как святые ангелы непрестанно славят Господа, так и мы грешные должны денно и нощно взывать к Господу из глубины сердечной, изливать пред Ним моления наши в скорбях и радостях и во всех событиях земного нашего существования прибегать к Нему – Спасителю нашему, у Него искать помощи и утешения, ибо Он один Утешитель души истинный; без Него ни в ком и ни в чём не найдём ни отрады, ни прибежища, ни спасения.
В жизни человека нет ничего драгоценнее молитвы, она и невозможное делает возможным, трудное лёгким, неудобное удобным; молитва столько же необходима для человеческой души, сколько воздух для дыхания или вода для растения. Кто не молится, тот лишается общения с Богом и уподобляется сухому, бесплодному дереву, которое посекается и во огнь вметается (Мф.7:19). Кто не молится, тот не получает благословения Божия на дела свои, по речённому: Аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущии (Пс.126:1).
Несчастие для слепца не видеть света, но гораздо большее несчастие для христианина потерять расположение к молитве, лишить душу свою Божественного света: в такой душе водворяется тьма, а по исходе из тела, уделом её будет тьма вечная.
«Когда царю и Богу предстати и возглаголати в молитве грядем, – говорит святой Лествичник, – да не приступаем к сему не приготовившися, да не како, узрев нас издалеча неимущих оружия и одеяния приличного царскому предстоянию, повелит Своим рабам и служителям, связав нас, далече от лица Своего отринуть и, хартию прошений наших растерзав, на лице наше повергнуть; а потому, приступая к беседе с Богом, должно отринуть от себя всё житейское, не внимая никаким помыслам, которые во время молитвы восстают с особенной силой».
Человек, стоящий на молитве, то же, что воин на поле брани; тут время стяжания, драгоценные минуты духовной купли для того, кто противится врагу и, не внимая внушениям его, усиливается в молитве, трудится, подвизается, призывая на помощь Подвигоположника Господа. Искушения вражеские во время молитвы бесчисленны: он в эти минуты приводит на память такие житейские дела, исполнение которых представляется необходимым и неотложным, а неисполнение озабочивает важными потерями. Но если хочешь, чтобы молитва твоя была услышана, не внимай ничему, а о том, что действительно тебе нужно, благодать Божия напомнит тебе и после молитвы; но если б и случилось иное забыть и потерпеть от того опущение в житейских делах, то так как это последовало ради Бога, то Он, Всеблагий, воздаст за это сторицей. Будь во время молитвы глух, слеп и нем ко всему и всем, кроме Бога. Начало молитвы, как пишет святой Лествичник, состоит в том, дабы отгонять помыслы при самом их появлении; середина её есть то состояние, когда ум наш же расхищается помыслами, а совершенство молитвы состоит в восхищение к Богу всего существа нашего.
Восстав от сна, первая мысль твоя да будет благодарение Богу; с этой же мыслью и ко сну отходи, имея в уме, что одр твой, быть может, соделается гробом твоим. Прощение обид, даже самых тяжких, необходимо для успеха в молитве, памятуя слово апостольское: солнце да не зайдёт во гневе вашем (Еф.4:26).
Ангелом Господним открыто было одному из монашествующих о следующем образе молитвы богоприятнейшем: «Прежде всего принесём искреннее благодарение Богу; потом исповедание грехов и сокрушение души в чувстве; и наконец да представляем Царю всяческих наши прошения».
Видим из святого Евангелия, что судия исполнил просьбу вдовицы, убеждённый лишь неотступностью её; так же и друг, который сначала отказал было другу своему в просьбе его, но когда тот, не отходя от него, продолжал умолять, то он наконец уступил его настойчивости (Лк.18:5;11:8). Притчами этими Господь научает нас, как мы должны поступать, дабы получить просимое.
Какое благо может быть выше сего, еже прилеплятися Господу и пребывати в непрестанном соединении с Ним? «Кто, занимаясь каким-либо делом, – говорит святой Лествичник, – и часу молитвенному наставшу, продолжает в оном упражняться, тот посмеян бывает от бесов, ибо татие сии о том и стараются, чтобы временем занятий часы молитвы у нас похищати. Оставление молитвы причиняет душе невидимую смерть. Молитве прилежа, будь милостив зело, через сию бо добродетель ещё здесь сторицей примешь и живот вечный наследишь, а связанный страстью сребролюбия никогда не может чисто помолиться. Не оставляй молитвы дотоле, пока огнь её и воды слёз сами от тебя смотрительно не отойдут, ибо может быть другого такового времени к прощению грехов твоих во всю твою жизнь не получишь. Если ты какими словами молитвы усладился, продолжай оные, ибо хранитель твой молится тогда вместе с тобой». Святой Нифонт видел однажды некоего инока, идущего и про себя читавшего молитву, которая, как пламень огненный исходя из уст его, досязала небес; инок шёл в сопровождении ангела, имевшего в руках своих огненное копие, которым он отгонял бесов от него.
Святой Макарий Великий объясняет примером, каким образом упражнение в молитве низводит от Господа дар молитвы. Хотя младенец, говорит он, ничего не может сделать, однако же он, ища матери, движется, плачет, и матерь сжаливается над ним, она рада, что дитя с усилием и воплем ищет её, и так как младенец не может идти к ней, то сама мать, преодолеваемая любовью к младенцу за долгое его искание, подходит к нему и с великой нежностью берёт, ласкает и кормит его. То же делает и человеколюбивый Бог с душой, которая ищет его.
Непрестанно молитеся (1Фес.5:17), говорит святой апостол; бдите и молитеся, да не внидете в напасть (Мф.26:41), говорит сам Христос. Непрестанная молитва заключается не в том только, чтобы непрестанно молиться, а должно непрестанно памятовать о Боге и предзреть Его всегда пред собой, смотрящего на все дела, намерения и помышления наши, а потому во время всяких занятий должно приучать себя чаще мысленно произносить молитву Иисусову: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного или: Пресвятая Богородице, спаси меня. О Иисусовой молитве святыми отцами изложены подробные руководства в книге «Добротолюбие» и иных духовных сочинениях.
Что ни делал бы ты, но всевозможно чаще призывай имя Божие, за всё благодари Бога, за радости и скорби, так как всё посылается для нашего блага; тогда освятится вся твоя жизнь и сама будет непрестанной молитвой.
Не оставим без внимания ежедневно произносимых нами в молитве Господней слов: и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; подобно сему сказано также в святом Евангелии: егда стоите молящеся, отпущайте, аще что имате на кого, да и Отец ваш Иже есть на небесех, отпустит вам согрешения ваша. Аще ли же вы не отпущаете, ни Отец ваш, Иже есть на небесех, отпустит вам согрешений ваших... (Мк.11:25–26). Следовательно, если мы на кого имеем в сердце злобу, то дотоле, пока не примиримся, напрасна молитва наша. Если в происшедшей с кем-либо ссоре мы считаем себя и правыми, то во всяком случае должны первые искать примирения; если же и за всем тем оскорблявшие нас не пожелают примириться с нами, то мы уже не будем пред Богом отвечать, как искренно желавшие и искавшие примирения.
Надобно не тогда только молиться, когда есть расположение к молитве, но молиться и тогда, когда не хочется молиться, когда лень, сон, заботы, суеты и прочее удаляют нас от молитвы, и если, несмотря на всё это тёмное полчище, мы молимся, подвизаемся, принуждаем себя, боремся с собой, то таковая молитва проникает небеса и предстанет пред престолом Господа. Необходимые и главные условия при молитве: совершенная преданность воле Божией, сознание своего крайнего недостоинства и греховности, и искреннейшее желание исправлять жизнь свою, а наипаче всего беззлобие. Если же и бывает, что иной просит и не получает, то это не значит, что молитва его остаётся неуслышанной, а что, по смотрению Божию, просящий испытывается в терпении и потом, когда терпение выдерживается до конца, тем в большей мере удостаивается он просимого. В молитве необходимо быть терпеливым; испрашивание у Господа тех или других благ – дело не одного дня, святые отцы всю жизнь свою проводили в молитвах и покаянии, и наконец сподоблялись благодати Божией. Иные молятся и, не получая просимого, охладевают в молитве; а, может быть, оставили они молитвенный труд, когда недалеко уже от них была милость Божия. Случается и так, что мы просим и не получаем просимого потому, что оно не послужило бы нам на пользу: просите и не приемлете, зане зле просите, да в сластех ваших иждивете (Иак.4:3). Сколько б ни были велики грехи твои, молись, не отчаявайся, помня, что сказал сам Господь: Аще будут греси ваша яко багряное, яко снег убелю: Аще же будут, яко червленное, яко волну убелю. И аще хощете и послушаете Мене: благая земли снесте. Аще же не хощете, ниже послушаете Мене, меч вы пояст: уста бо Господня глаголаша сия! (Ис.1:18–20). Но иногда и так бывает, что Господь смотрительно оставляет без исполнения молитвы Своих рабов, так, например, просил великий Моисей Боговидец, чтоб даровано ему было войти в землю обетованную, но не был услышан; молился Давид, усиливая молитву постом в пепле и слезами, о сохранении жизни заболевшему сыну его, но не благоволил Господь исполнить по прошению его. Смиримся под крепкую руку Божию, предав себя всецело Его святой воле, оставляющей иногда прошения наши неисполненными и уготовляющей через то лучшее в будущем.
Однажды спросили святого Макария Великого, как спастись? Он отвечал: «Братие, повергнемся пред Господом и будем плакать о грехах наших: малые сии слёзы утушат геенну огненную, тогда как грешники, не кающиеся и не плачущие ныне, на том свете будут плакать и рыдать, как младенцы, и слёзы их будут жечь тела их, как огонь, но уже не принесут никакой отрады».
Иные долго молятся и не чувствуют сердечной теплоты, а другие скоро сподобляются благодатного утешения. Различное действие благодати в этом отношении приводит к мысли о мудром домостроительстве Божием: если дар получается без труда, то мы не всегда ценим его и легко утрачиваем, а приобретаемое усиленными трудами храним, как драгоценное сокровище. Сколько бы ни богоугодно было, по мнению нашему, молитвенное наше прошение, сколько бы ни глубока была наша скорбь, об избавлении от которой молим мы Господа, но исполнение прошения нашего должны мы предоставлять совершенно промыслу Божию, памятуя слова Божественного Искупителя: Отче Мой, аще возможно есть, да мимоидет от Мене чаша сия; обаче не якоже Аз хощу, но якоже Ты (Мф.26:39). Вот высокий образ совершеннейшей молитвы, в которой выражается всецелая беспредельная преданность воле Божией! В случае особых нужд должно по примеру Спасителя молиться до трёх раз, как Он молился в Гефсимании перед страданиями Своими.
Для человека, обременённого скорбями, нет лучшего утешения, как молитва. Злостраждет ли кто в вас? Да молитву деет (Иак.5:13). Если беседа с другом утоляет скорбь, то не тем ли более с Самим Создателем, истинным утешителем души? С трудом приобретается навык к внимательной неразвлекаемой молитве, и когда оный усвоится, то молитва делается источником непрестанного духовного утешения.
Не пропустим без внимания и того, что при молитве надобно ограждать себя крестным знамением, которое есть апостольское учреждение. Совершать оное должно правильно, а не как иные, как будто стыдящиеся Креста Господня. Небрежное крестное знамение оскорбляет Господа и молящемуся вменяется в грех; следовательно, не только не имеет никакой силы, но ещё радует бесов, тогда как оно должно бы служить необоримым против них оружием, ибо не столько преступник боится места казни, сколько диавол трепещет креста и в страхе отбегает, не терпя взирать на силу его, опаляемый им как огнём. Святые силой креста Христова исцеляли болящих, воскрешали мёртвых, безвредно испивали смертоносный яд, проходили сквозь огнь и воду; а нынешние христиане, подстрекаемые каким-то ложным стыдом, входя в дом или садясь за обед, даже не думают перекреститься, как будто они не знают, что сказал Господь: Иже бо аще постыдится Мене и Моих словес в роде сем прелюбодейнем и грешнем, и Сын Человеческий постыдится его, егда приидет во славе Отца Своего со Ангелы святыми (Мк.8:38). Не крайнее ли безумие, не тяжкое ли ослепление души стыдиться Господа и Создателя своего, стыдиться честного животворящего Креста Его, того Креста, которым мы спасены и на котором пролита дражайшая кровь нашего Искупителя. Вникнем в следующее поучительное замечание о силе креста: когда мы знаменуем себя крестом, тогда между нами и Отцом небесным, так сказать, висит на Кресте распятый Спаситель наш, тогда божественным взорам Всевышнего предстоит уже не наше позорное чело, покрытое греховным бесславием, но увенчанная тернием глава Богочеловека; не наше коварное сердце, исполненное всяких нечистот, но прободённые ребра Искупителя нашего; но наши нечистые руки, непрестанно деющие беззакония, но пригвождённые ко кресту пречистые длани всеправедного и всесвятого Господа Иисуса Христа. Вооружившись святым крестом, мученики шли на самые ужасные мучения безбоязненно, как бы в чужих телах, терпели с восторгом, как ликующие1. Один из древнейших писателей первенствующей христианской Церкви свидетельствует, что тогдашние христиане, следуя апостольскому преданию, при каждом действии и движении ограждали себя крестным знамением; при входе, обуваясь и одеваясь, при умывании, перед трапезой и после оной, зажигая огонь, ложась на постелю, садясь на место; словом, при всяком занятии.
Заключим беседу нашу тёплым молением к Спасителю нашему – Господу Иисусу:
Многомилостиве Господи! Сподоби нас божественного дарования святой молитвы, изливающейся из глубины сердечной; собери расточённый наш ум, дабы всегда стремился он к Тебе, Создателю и Спасителю своему, сокрушив разжённые стрелы лукавого, отревающие нас от Тебя, угаси пламень помыслов, сильнее огня пожирающий нас во время молитвы, осени нас благодатью Пресвятого Твоего Духа, дабы до скончания нашей грешной жизни Тебя Единого любить всем сердцем, всею душою и мыслью, и всею крепостью, и в час разлучения души нашей от бренного сего тела, о, Иисусе Сладчайший, приими в руце Твои дух наш и помяни нас, егда приидеши во царствии Твоем. Аминь.
И.А.
Слово на новый год
Многие ныне толкуют о прогрессе, о цивилизации, что мы вперёд идём, но куда идём? Аз есмь свет миру, сказал Господь, но многие ль из нас руководствуются этим истинным светом? А без него все наши умничанья – тьма и погибель, что и видим на самом деле. Некоторые из просвещённейших современных держав в народном воспитании стали легко относиться к религии, и что последовало: какие распространились пагубные общества, имеющие целью ниспровержение всего государственного строя! Увидели и правители, что дело плохо, стали всякие меры принимать против разлившегося зла, но этот адский огонь нелегко утушить. Несомненно, что религия христианская служит самым прочным утверждением государства, ибо она учит всему прекрасному: любить Бога, царя и всех, чтить законы Божеские и гражданские, быть справедливыми, сострадательными и прочее. Понятно, что люди с такими правилами чужды современных завирательных идей о равенстве и прочем, это ясно, как Божий день.
Итак, вот где истинный прогресс, истинная цивилизация, это хранение закона Божия. Хоть и гражданские законы преследуют зло, тщатся искоренить его, но без нравственного убеждения человека, без внутреннего его сознания и отвращения от зла законы гражданские не могут достичь желаемой цели; тысячи примеров того, что, несмотря на всю строгость законов, люди злоупотребляют ими в надежде, что авось сойдёт с рук.
Повторяем, что чувства истинной чести могут развиться и окрепнуть в человеке только при помощи религии, освящающей и утверждающей всё благое в вас. Люди, неутверждённые в религии, не могут устоять против искушений, как не имеющие помощи от того Верховного Существа, которое одно лишь сильно охранить нас от присущего нам поползновения к злу, как говорит слово Божие: весь мир во зле лежит.
Напрасно многие, именующиеся передовыми людьми, чуждаются религии, стыдятся ограждать себя крестным знамением и в дни праздников Господних, вместо храмов Божиих, посещают цирки и театры; напрасно они много полагаются на свой просвещённый, но не Божественным светом, ум; – их теории красиво пишутся, но в применении к делу не осуществляются, по непреложному слову Господню: без Мене не можете творити ничесоже. Дотоле, пока они не обратятся к Господу Создателю своему, не освятятся Его учением, суетны их умствования, напрасны их красноречивые самовосхваления, они действительно идут вперёд, но куда идут?..
И.А.
II.
Первое наше слово было о молитве как царице и матери всех добродетелей, теперь будем говорить о других главных добродетелях – о любви к Богу и ближним и прочем.
Добродетели составляют лучшее украшение христианина, они – драгоценное богатство, несравненно превосходящее все блага земные, которые служат человеку лишь до гроба, и то не всегда, ибо земное непостоянно, непрочно, ненадёжно, изменчиво.
Добродетели не ограничиваются этой жизнью, они переходят с нами и за пределы гроба. Здесь они не всегда и не всеми бывают видимы, и в мнении иных суетных людей века сего считаются за ничто, но не так будет в жизни загробной, где царь и раб, богатый и убогий, все предстанут в равном чине: там одни лишь добродетели будут разделять людей и определять их достоинство, там они воссияют во всём своём блеске и великолепии, красота и благоухание их будут неизреченно прекрасны. Этим богатством все мы, пока живы, можем и должны запасаться; всем оно предлагается, но, к сожалению, не все и даже очень немногие ищут его, потому что прелести и суеты видимого мира влекут людей на иные стези, – грех вкрадчив, обольстителен, а мы слабы, себялюбивы. Но нам дана свободная воля, дан разум, дан закон – слово Божие, и закон внутренний, начертанный в сердцах наших; хранительница этого закона – совесть наша, за добрую жизнь утешающая нас благодатью Святого Духа, а за жизнь греховную мучительно упрекающая, и потому будем мы на суде Божием безответны: там каждый от своих дел или прославится или постыдится, – первого сподоби Господи, а от последнего сохрани и помилуй.
О любви к Богу
Возлюбиши Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем
умом твоим и всею крепостию твоею
(Мк.12:30).
Заповедал нам Господь крепкую к Нему любовь, о которой так рассуждает один из святых апостолов: Кто ны разлучит от любве Божия, скорбь ли, или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или мечь? Якоже есть писано: яко Тебе ради умерщвляеми есмы весь день: вменихомся якоже овцы заколения. Но во всех сих препобеждаем за Возлюбльшаго ны. Известихся бо, яко ни смерть, ни живот, ни Ангели, ни Начала, ниже Силы, ни настоящая, ни грядущая, ни высота, ни глубина, ни ина тварь кая возможет нас разлучити от любве Божия, яже о Христе Иисусе Господе нашем (Рим.8:35–39).
Вот как святые любили Господа Создателя и Спасителя своего, и за такую к Нему любовь сподобились они вечной славы, вечного блаженства. Удостоенный видения райских небесных красот, божественный апостол так передаёт о сем: око не виде, ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, яже уготова Бог любящим Его. И ещё через святого пророка Исаию Сам Бог говорит о любящих Его: на рамена взяты будучи, и на колену утешатся; и якоже аще кого мати утешает, тако и Аз утешу вы (Ис.66:12–13). Вот какая радость ожидает любящих Бога! Любовь Божия есть чувство неизъяснимо-сладостное, дар Божий высочайший, все дары превосходящий; удостоенные его именуются не только чадами Божиими, но даже друзьями Его (Ин.15:15).
Вот отчасти изображение неизречённой любви Божией, её безмерного величия, её утешительнейших действий в сердцах блаженных смертных, соделавшихся избранными сосудами Духа Святого.
Любовь Божия есть вместе с тем священнейший наш долг, одна из первых заповедей Божиих, без неё все труды и подвиги наши ничто; любовь Божия есть как бы вино, по слову святого царепророка, веселящее сердце человека (Пс.103:15). Вкусили этого Божественного пития невоздержники и стали подвижниками, вкусили грешники и стали праведниками, вкусили богатые и возжелали нищеты, вкусили блудники и стали целомудренными, вкусили немощные и стали непобедимыми, вкусили невежды и умудрились, вкусили скорбящие и возвеселились. Дары Духа Святого, изливающиеся на любящих Бога, бесчисленны.
«Любовь, – говорит святой Лествичник, – есть огненный источник; в какой мере источает питие, в такой же мере распаляет жаждущего». Кто истинно любит Бога, тот предан Его святой воле, и, что бы его ни постигло, он всё принимает как от руки Божией, с твёрдой верой, что всё это служит к его душевной пользе, к испытанию его терпения, через что соделывается вечное его спасение. Таковому некогда скажет Господь: рабе благий и верный, о мале Ми был еси верен, над многими тя поставлю, вниди в радость Господа твоего. Для души, преданной Богу, несчастья, постигающие её в этой жизни, служат степенями, возводящими к совершенству.
Кто любит Бога всем сердцем, тот не разделяет сердца своего между миром и Богом, между удовольствиями мира, какими наслаждался упоминаемый в Евангелии богач, и между служением Богу, ибо не может человек двум господам работать, – Богу и мамоне, как говорит Сам Господь Иисус Христос (Мф.6:24). Кто истинно любит Господа Бога от всего сердца своего, тот предпочитает Его всему и всем на свете и из любви к Нему небрежёт о богатстве, славе, удовольствиях и о всех прелестях мира и удаляется от всех соблазнов, препятствующих спасению души. Кто истинно любит Господа всей душой, тот старается исполнять святую Его волю, всю жизнь, всю деятельность свою располагает по закону Его, во всём и всегда старается подражать святому примеру жизни Его, уподобляться Ему в своих мыслях, желаниях и делах, страшась оскорбить Его не только законопреступным делом, но и греховным словом или помышлением; тот при всяком поползновении ума и сердца своего к злу говорит самому себе: како сотворю глагол сей злый и согрешу пред Богом? (Быт.39:9). Кто истинно любит Господа Бога всем помышлением своим, тот любит часто размышлять о Боге, всегда поставляет себя в святом вездеприсутствии Его, поучается в законе Его день и ночь; для того слова Господни слаще мёда и сота, драгоценнее паче злата и камене честна многа; он любит часто ходить в храм Божий, жаждет общения с Богом в молитве и таинствах святых, он, и живя на земле, более думает о небесном, предпочитая будущую жизнь всем благам жизни настоящей.
Кто любит Господа Бога всей крепостью своей, тот не увлекается соблазнами мира, не страшится угроз его, не прельщается лестью его, тот ради славы имени Божия готов лишиться всех благ временных, претерпеть поношения и гонения и даже самую смерть. Такова совершенная любовь к Богу, так любили Его святые мученики, претерпевшие за веру многообразные лютые страдания, так любили Его преподобные подвижники, иссушившие плоть свою постами, подвигами и скорбями.
Из сказанного очевидно, что любовь Божия – это жизнь наша, дыхание наше, – где её нет, там и жизни нет. – Испытаем себя, заглянем внутрь себя, спросим себя, есть ли в нас это святейшее чувство? К сожалению, большинство из нас должны будем сознаться, что мало в нас любви Божией! Отчего же это, когда человеку свойственно любить благодетелей своих? Даже и язычники любят любящих их, как говорит святое Евангелие, почему же в нас так скудна любовь к святейшему Существу, до конца возлюбившему нас? Происходит это от невнимания нашего, от нерассуждения о Божественном о нас Промысле, от пристрастия к земному. Прискорбное явление!
Где сокровище ваше, там и сердце ваше, сказал небесный Сердцеведец. Где же наше сердце? Оно житейскими суетами, как тенетами, опутано, грешный мир овладел им, пленил его, занимает его лишь земное, а особенно, когда что коснётся наших личных интересов, тогда и ум, и сердце приковываются к ним: всё до мелочей тщательно обдумывается, взвешивается, испытуется, одним словом – всё наше существо поглощается заботами и попечениями о житейском. Так мало-помалу протекает вся наша греховная, суетная жизнь, – когда же тут думать о душе?..
Многие наружно исполняют обряды христианской религии, а о душе своей и загробной жизни, предстоящей им, имеют очень смутные и слабые понятия, именно потому, что не хотят уделить и не многого времени, чтоб посерьёзнее размыслить об этом; дни будничные всецело посвящаются попечениям о земном, дни праздничные отличаются от будничных лишь посещением церкви, в которой, поистине сказать, большинство бывают только телом, домашняя же молитва у многих ограничивается лишь несколькими поклонами, и делу конец!.. При таком порядке жизни не остаётся нисколько времени, чтоб подумать о чём-либо, кроме суетного, вот почему и не зарождается в сердцах наших любовь Божия, нет ей входа, нет ей в душе нашей ни места, ни привета, там царит житейское попечение во всех его видах; хотя при посещении нашем храма Божия и долетают до нашего слуха слова Божественного песнопения: всякое ныне житейское отложим попечение, но мы на это не обращаем внимания, это как бы к нам не относится. Итак, сердце большей части людей и в храме Божием, и вне его остаётся запертым, недоступным, холодным для любви Божией, которая, как прекрасное нежное растение, требует внимательного ухода. Иногда, по милосердию Божию, посещают нас болезни или какие иные скорби и невзгоды, тогда мы приходим в сознание своего плохого положения и исправляемся; но не все этого сподобляются, большинство кончают поприще земного своего существования, как и проводили его, в житейских суетах, в беспечности о загробной своей участи, в невнимании и нерадении о спасении своём; без сомнения, им там будет плохо и очень плохо, в чём застанет, в том и судить будет праведный Судия, который воздаст каждому по делам его.
«Кто любит Меня, тот заповеди Мои сохранит», – сказал Божественный Законодавец. Заповеди Его всем нам объявлены, в них святая, непреложная истина; – если б мы их соблюдали, то жили бы на земле, как в раю; естественно, что, нарушая заповеди, мы нарушаем весь строй нашей жизни, губим всё, лишаемся всего, и временного, и вечного.
Пока ещё не пробил наш роковой час, пока не пресеклась нить нашей земной жизни, поищем бесценного сокровища – любви Божией. Прекрасное чувство любви не чуждо естества нашего, даже и в бессловесных животных видим его, и они бывают признательны к благодетельствующим им, – каждый из нас, получив от ближнего своего какое-либо благодеяние, всегда с благодарностью об этом вспоминает и взаимно старается быть признательным благодетелю своему; но никто нам не оказал таких благодеяний, как Господь, почему и именуем мы его Создателем и Спасителем нашим. Умом знаем мы и рассуждаем о Его великих благодеяниях, но сердце наше чуждо Его, оно всецело предано миру, потому и нет в нём любви Божией и не будет, если мы не будем усердно молиться и часто думать о Спасителе нашем, соизволившем, ради нас сойдя с неба, воплотиться, вселившись в утробу Пречистой Девы, претерпеть лютейшие мучения, завершившиеся позорной на кресте смертью! Какая любовь может сравниться с этой любовью? Но мы, окаменённые сердцами, слышаще не слышим, видяще не видим, всё это нам как бы в каком тумане представляется, и так течёт наша греховная жизнь, пока ангел смерти не пресечёт её.
Враг наш, дух злобы, ища погибели нашей, угашает в нас чувство любви к Богу, возбуждая вместо неё пристрастие к земному, неблагодарность, холодность, неверие, ропот, гордость, он тщится напоить человека тем смертным ядом, которым сам упился.
В заключение нашей беседы скажем ещё несколько слов о том, как нам приобрести драгоценное сокровище – любовь Божию. Возгорается она в сердце человека при размышлении о благодеяниях Божиих, излитых на род человеческий; и как нам не любить Бога, который сотворил нас невинными и блаженными, напечатлел в нас образ своего Божества, вдохнул в нас бессмертную душу, украсил её мудростью, святостью и правдой, соделал человека владыкой всех земных тварей, и когда человек за преслушание подверг себя и всё своё потомство, погрязшее в нечестии, вечному осуждению, Господь извлёк нас, падших, из этой бездны, сошёл с небес, принял на Себя естество наше, пролил за нас пречистую, святейшую кровь Свою, положил за нас душу Свою, и не только избавил нас от вечного осуждения, но соделал нас чадами Божиими, наследниками бесконечного небесного царства; как же после всего этого не любить нам Бога? Поистине, кто не любит такого благодетеля своего, тот хуже язычника, ибо и они любят любящих их; даже и в бессловесных животных видим мы это.
Если мы любим что-либо прекрасное в созданиях Божиих, то не более ли мы должны любить самого Создателя? Должно усерднее молиться Всесвятому Духу о даровании нам небесного дара любви, изливающейся в сердца наши только Духом Святым (Рим.5:5).
Кто увлекается грехами, не сопротивляется им, в том нет и признаков любви Божией. Иные, сделав навык к грехам и пребывая в них, думают, что имеют любовь к Богу, но напрасна их надежда, она не что иное, её самообольщение, ибо кое общение свету ко тьме? Иосиф и Сусанна решились лучше умереть, нежели согрешить пред Богом, а святые мученики, воспламенившись любовью к Богу, шли на лютые муки и смерть, как на пир. Вот какова истинная любовь к Богу!
Кто из смертных сподобился высочайшего этого дара, тот только телом пребывает на земле, а блаженная душа его уже воспарила в горние селения и наслаждается благодатным общением с небесным Утешителем, как невеста с женихом.
И.А.
III.
Душе моя, душе моя, востани, что спиши?
(Из Великого канона)
Дни за днями быстро текут, опережая один другой. Таким образом, как бы незаметно достигли мы и святой Четыредесятницы или Великого поста, времени, преимущественно назначенного для покаяния, для очищения совести, для исправления повреждённой грехом нашей жизни. Сердобольная мать наша святая Церковь, унылым звоном своим приглашая нас к молитве покаяния, к сокрушению сердечному, взывает от лица нашего к Господу: Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче! Кто же заключил эти двери? Грехи мои, беззакония мои, неправды мои; они стали стеной между мной и Спасителем моим, они ожесточили моё сердце, они низвели меня из света во тьму, почему прошу и молю Тебя, Создатель мой, отверзи двери моего сердца, даждь мне слёзы теплы, да плачу о душе моей, юже зле погубих.
Воспользуемся наставшим душеспасительным временем святого поста, очистим душу и тело от скверн греховных, станем каяться и сокрушаться о содеянных нами лютых прегрешениях. Если божественный псалмопевец, изливая пред Богом своё покаяние, взывал: беззакония моя превзыдоша главу мою, и яко бремя тяжкое отяготеша на мне, возсмердеша и согниша раны моя от лица безумия моего (Пс.37:5, 6), если так каялся святой царепророк, то как мы грешные должны каяться, сокрушаться и болезновать о тяжких беззакониях наших? Какими слезами и воздыханиями мы должны омывать грехи свои, изглаждать рукописание бесчисленных грехопадений наших, которые воистину бременем тяжким легли на нас, отдали нас в плен греху. Горе нам грешным, горе нам! Пока есть время, поспешим прибегнуть к святому покаянию, поспешим убелить брачную одежду души нашей, осквернённую грехами, да сподобимся и мы, рабы непотребные, в числе мудрых евангельских дев внити в небесный чертог Царя славы.
Необходимо возбуждать в себе чувство покаяния, чувство смирения, чувство сокрушения сердечного, необходимо возделывать почву сердца, дабы была она удобоприемлема к слышанию и плодоносна к исполнению слова Божия.
Чтение житий Святых, в покаянии подвизавшихся, размышление о грехах своих и уготованном за них вечном мучении возбуждают в душе нашей страх Божий и располагают её к сердечному сокрушению и умилению. Неусыпная попечительница о спасении нашем святая Церковь, приуготовляя нас к подвигу покаяния, возбуждает к нему таковыми трогательными песнопениями:
Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче, утреннюет бо дух мой ко храму святому Твоему, храм носяй телесный весь осквернен; но, яко щедр, очисти благоутробной Твоею милостию.
На спасения стези настави мя, Богородице, студными бо окалях душу грехми и в лености все житие мое иждих: но Твоими молитвами избави мя от всякия нечистоты.
Помилуй мя Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое.
Множество содеянных мною лютых, помышляя окаянный, трепещу страшного дне суднаго; но надеяся на милость благоутробия Твоего, яко Давид, вопию Ти: помилуй мя Боже, по велицей Твоей милости.
Об истинном покаянии
Покаяние, по учению святой Церкви, есть возвращение крещения, вторая благодать, очищение совести, обещание Богу нового жития, примирение с Богом посредством добрых дел, противоположных грехопадениям. Кто не притекает к спасительному Таинству покаяния, о таковых слышим страшное изречение Божие: аще не покаетеся, вси погибнете (Лк.13:3). Но и притекающие к Таинству покаяния не все очищаются, потому что не все соблюдают те условия, какие необходимы для истинного покаяния.
Начало покаяния есть сознание грехов своих, сокрушение о них: егда возвратився от пути беззакония, воздохнеши, тогда спасешися (Ис.30:15). Иные, по неведению или по невниманию к делу своего спасения, Таинство покаяния полагают в одной лишь исповеди; они думают, что устным исповеданием грехов духовному отцу они совершенно очищаются от них; но напрасна их надежда: не такого покаяния ожидает от нас Господь, – Он хочет, чтоб мы, почувствовав всю тяжесть грехов своих, возболезновали о них, омыли их слезами сердечного сокрушения и дали в сердце своём твёрдое обещание исправить жизнь свою; тогда только покаяние наше действительно и Богу приятно. Образцами такового покаяния служат нам упоминаемые в Евангелии: блудный сын, мытарь и многие иные. С глубокой скорбью должно сказать, что большая часть нынешних христиан не приносят должного покаяния, и оттого не исправляется жизнь их, грех обладает ими, страсти не укрощаются в них, и они, не очищенные от этих внутренних язв, совершают поприще своего земного существования, работая греху, живущему в них, и если не покаются как должно, не принесут плодов достойных покаяния, то есть не оставят греховные навыки свои и не совершат добродетелей противоположных согрешениям их (как, например, упоминаемый в святом Евангелии Закхей мытарь, который не только что оставил сребролюбие, но и четверицей возвратил всем, кого обидел); если не будет таких плодов покаяния, то оное суетно. Что одно устное исповедание в грехах перед духовным отцом недостаточно, это подтверждается учением о покаянии, изложенным в 1-й части собрания поучений, изданных Святейшим Синодом, на воскресные и праздничные дни. В поучении на пяток первой недели Великого поста говорится о исповеди следующее: «При сем ведать надобно всякому, что не всякая исповедь составляет истинное покаяние: едина только за состав его принимается, которая сопряжена бывает с неложным обещанием, чтоб на прежние грехи уже не возвращаться и всячески жизнь исправить тщиться; без сего же никакой силы исповедь не имеет, ниже возможет когда кто с таковым покаянием войти в приблизившееся к нам царствие небесное».
Грешник на скверну дел своих по бани покаяния возвращающийся, уподобляется (как говорится в Святом Писании) псу, возвратившемуся на свою блевотину, или свинье, омытой и потом снова влезшей в кал тинный. Так, если кто в каком грехе кается, но отстать от него не хочет, например: кается, что он блудник, а блудницы оставить не желает; кается, что имеет с братом зло, а примирения не ищет; кается, что обидел ближнего своего, а вознаградить его не хочет, хотя бы и мог, а равно и в прочих подобных грехах кающийся и не желающий оставить их и загладить добрыми делами, совершает одну только внешнюю сторону покаяния, а потому и не приобретает никакой пользы от такого покаяния.
Исповедание грехов должно быть чистосердечное, без малейшего утаивания или оправдания себя; а кто что скроет на исповеди, тот сугубый грех приимет на душу свою. Не будем стыдиться открывать духовному отцу своему, хотя бы имели мы и очень великие грехи, потому что он такой же человек, с такими же слабостями, как и многие.
Постоянно должно болезновать о своих грехах и всегда как бы иметь их перед своими глазами, по речённому псалмопевцем: «грех мой предо мною есть выну» (Пс.50:5). Царе-пророк всегда сохранял в памяти грех свой, через что возбуждал себя к постоянному покаянию, охраняющему от повторения греха. Есть два недуга, или два рода болезни, которые служат причиной нераскаянности, неоставления некоторыми своих грехов. Первый недуг есть «совершенное отчаяние в своём спасении», второй: «излишнее упование на милосердие Божие». Отчаяние состоит в том, что человек, сознавая за собой множество грехов, уже не надеется получить в них прощение от Бога, и потому дозволяет себе более и более погружаться в бездну беззаконий, а злые духи этим пользуются, чтобы довести грешника до совершенной погибели. «До падения нашего, – говорит святой Лествичник, – демоны представляют нам Бога человеколюбивым, а по падении – неумолимым». Этот лукавый помысл отчаяния святые отцы советуют отражать крепкой надеждой на милосердие Божие. Побеждён ты, встань и начни снова борьбу с противниками, так продолжай до конца твоей жизни, имея в уме пророческое слово: не радуйся о мне, противник мой, яко падох: ибо снова восстану. Аще сяду во тьме, Господь озарит мя (Мих.7:8). «Давние навыки, – говорит святой Лествичник, – мучительствуют нередко и над плачущим об избавлении от них». Демоны при этом случае наводят на душу кающегося печаль и внушают безнадёжность покаяния. Злую мысль эту отразим воспоминанием о согрешивших и потом покаявшихся. Бесчисленные сонмы грешников и грешниц, припадая к Божественным стопам Спасителя, исповедывали грехи свои и сподоблялись приять разрешительное отпущение. Ктому не согрешай, да не горше ти что будет, сказал Жизнодавец притекшему к покаянию. Отпущаются тебе грехи твои, воззвал Он, воздвизая грешницу, орошавшую слезами покаяния пречистые ноги Его.
Размышляя о таком безмерном милосердии Божием к кающимся, прибегнем с сердечным покаянием к Нему, искупившему нас честною Своею кровию, и Он Всеблагий приимет нас радостно в отеческие объятия Свои, как некогда блудного сына, как заблудшую овцу, о которой более возрадуется, нежели о ста благоугождающих Ему (Лк.15:7). Если Он заповедал ученикам Своим отпускать согрешения седмдесят крат седмерицею (Мф.18:22), то во сколько же крат более Сам отпустит Он? Все грехи рода человеческого имеют предел и границу, как человеческие, но милосердию Божию нет предела; кающимся все грехи прощает Господь, ибо нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного. По мнению святых отцов, и Иуда предатель был бы прощён, если б покаялся. Ничто не равняется Божиим щедротам, взывает святой Лествичник, ничто не превышает их! Посему, кто отчаявается, тот самоубийца! Ты грешник? Не отчаявайся, убеждает святой Златоуст, «никогда не престану умащать тебя этим врачевством. Много имеешь грехов – не отчаявайся, никогда не престану повторять тебе это. Если ежедневно грешишь, ежедневно приноси покаяние... Ибо человеколюбию Божию нет меры, благость Божия не может быть выражена словом. Грех твой имеет меру, а врачевству нет меры». «Не приходи в удивление, что ежедневно падаешь, – говорит святой Лествичник, – не отступай, но стой мужественно, и Ангел хранитель твой, без сомнения, уважит терпение твоё». «Кто искренно приходит к Богу, – уверяет преподобный Симеон новый Богослов, – тому не попускает Он вовсе пасть, но, видя его немощь, содействует и помогает явно и сокровенно, подавая ему свыше руку помощи. Но не будем употреблять во зло, в поблажку своим грехам, бесконечное милосердие Божие к грешнику. Не переставать грешить, – в надежде, что милосердый Господь простит нам все грехи наши, как бы их ни было много и как бы они ни были велики, – есть другой, противоположный отчаянию недуг». «Скверный недуг сей, – говорит святой Лествичник, – ограждаясь Божиим человеколюбием, делается весьма приятным для сластолюбцев». Для освобождения от этого недуга довольно убедиться в той несомненной истине, что Бог, сколько милосерд, столько же и правосуден, а потому всем и каждому необходимо покаяние, ибо ничем иным, как сокрушением сердечным и твёрдой решимостью не грешить вперёд, врачуются греховные раны.
Некоторые из верующих, вполне сознавая важность покаяния и необходимость его для спасения души, отлагают покаяние на последние дни своей жизни; но как неразумно поступают они, как легко относятся к делу спасения своего и как рискуют этим спасением!
Не видим ли почти ежедневно, что пользующиеся совершенным здоровьем и рассчитывающие на долговечность, внезапно похищаются неумолимой смертью! Каяться должно немедля по согрешении, ибо пока язва ещё свежа, то легко исцеляется, застарелые же и оставленные в небрежении язвы с большим трудом врачуются.
Если желаем мы получить прощение, то и сами должны прощать: аще отпущаете человеком согрешения их, отпустит и вам Отец ваш небесный (Мф.6:14). Грехи, не очищенные покаянием, – это чёрные пятна на душе; отмываются они ничем иным, как только слезами сердечного покаяния. Согрешил Давид и столь великое принёс покаяние, что даже кости его иссыхали от скорби и туги сердечной; а как он оплакивал свой грех! Слёзы мои были мне хлеб день и ночь: измыю на всяку нощь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу, вещает он в исповедании своём. Отрёкся учителя своего Пётр в грозную ночь страстей Христовых, и плакал горько о минутном отпадении своём; проводила блудно житие своё Мария Египетская, и какое суровое принесла покаяние – лишила себя всего, даже самого необходимого, день и ночь болезновала, стенала о своих грехах, в продолжение 17-ти лет боролась с бесовскими помыслами, понуждавшими её возвратиться на прежнее житие, и за такое многоскорбное, досточудное терпение, столь великой благодати удостоилась, что реку Иордан переходила, как посуху, а когда молилась, то видима была стоящей не на земле, а на воздухе! Вот какое покаяние есть истинное покаяние, и за оное прощает Господь все грехи наши, по речённому: омыеши мя, и паче снега убелюся (Пс.50:9).
Связанные узами сластолюбия скажут: мы не можем так каяться, нам не по силам такое покаяние. На это ответим им словами Божественного Учителя: просите и дастся вам (Мф.7:7). Вот нам путь к покаянию; просить Господа даровать нам оное, и, вместе с тем, понуждать себя к сокрушению и болезнованию сердечному, вспоминать грехи свои и уготованное за них наказание, чаще приводить себе на память час смерти, нередко постигающий нас внезапно, говорит святое Евангелие: бдите яко не весте ни дня, ни часа.
Если не заботимся своевременно о покаянии, то будем безответны на страшном суде Божием, где никто и ничто не избавит нас от гнева Божия, где нераскаянным грешникам произнесётся на веки смертный приговор.
Несомненный признак оставления прежних грехов есть не только уклонение от них на самом деле, но и непрерывное противоборство пожеланиям их, соединённое со страхом, чтобы опять не впасть под власть греха и сатаны, совершенная ненависть к грехам. Мы должны грехи свои непрестанно вспоминать, дабы тем самым удерживать себя от повторения их; но при памятовании о грехах не должно напоминать себе в подробности совершение их, это не полезно, а памятовать лишь то, что мы великие грешники пред Богом.
Покаяние праздник творит Богу, потому что и небо призывает на пир. Ангелы радуются, когда покаяние приглашает их на вечерю. Все небесные чины пиршествуют, возбуждаемые к веселию покаянием. Не тельцов, не овец закалает для них покаяние, но предлагает для радования спасение людей грешных.
Покаяние, вполне достигшее своей цели, то есть отпущения всех грехов, низводит в душу человека Пресвятого Духа Божия, и в Нём даёт верующему залог вечного спасения о Христе Иисусе (Рим.8:16–17).
Омыв слезами покаяния душу свою, убелив данную нам от Бога брачную одежду, со страхом Божиим, глубоким смирением и любовью приступим к источнику жизни, к трапезе бессмертной, да причастницы жизни вечной будем, да не в суд или в осуждение будет нам причастие святых Христовых Таин, но в оставление грехов и жизнь вечную.
О причащении пречистых Христовых Таин
Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь, во Мне пребывает, и Аз в нем. Что может быть выше и желательнее подобных утешительных слов Спасителя нашего, в коих выражается вся Его любовь, вся беспредельная бездна щедрот Его, подаваемых человеку в Таинстве причащения. С чем может сравниться состояние человека, соединяющегося с Самим Господом; это тайна тайн столь возвышенная, что умом человеческим, как ограниченным, лишь отчасти постигаемая. Довольно с нас знать, что в Таинстве причащения мы сподобляемся величайших даров Божиих, а потому и должны всеми мерами стараться так жить, чтоб чаще приступать к сему святейшему таинству, коего древние христиане сподоблялись ежедневно.
Святое приобщение, укрепляя наши телесные и душевные силы, служит для нас также непобедимым оружием для поражения невидимого врага нашего спасения, диавола. Враг этот – самый опаснейший для нас; сколько сетей расставляет он к нашей погибели, в которые всеми силами старается уловить нас; куда ни пойдём, на каждом почти шагу этот злой дух старается уязвить нас; везде он прельщает, везде соблазняет нас; мы хотим сделать добро, а он влечёт нас к злу; мы хотим молиться, а он наводит на нас скверные помыслы, леность, тяготу и прочее, пользуясь нашими немощами и нашей склонностью ко греху. Сколько требуется с нашей стороны осторожности, внимания к себе, понуждения себя, чтобы этот лютый дух злобы не возобладал нами! Он тем более опасен, что нами невидим, и чрезмерно хитр и лукав. Против такого опасного врага должно употреблять и оружие крепкое; но что же может быть могущественнее святейшего Таинства причащения? Оно и само в себе есть всемогущая сила, ибо, причащаясь Тела и Крови Христовых, мы принимаем в себя Владыку неба и земли, Которого могущество беспредельно. С другой стороны, оно совмещает в себе всю силу великого нашего искупления, совершённого Спасителем, плодом которого было победоносное торжество над тёмным царством диавола.
Кто редко приступает к сему спасительному таинству, тот удаляется от спасения. Истину этого уясняет даже простое соображение: тот, кто приобщается часто, часто очищает и совесть свою Таинством покаяния, и возобновляя при этом скорбь и сокрушение о содеянных грехах, он напечатлевает в душе своей спасительный страх Божий, удерживающий его от греха, для достижения чего ему приходится чаще вооружаться благими мыслями и добрыми делами, удаляющими от греха и приближающими к Богу. Затем, по мере частого приобщения, добрые расположения и добродетели приобретают большую силу и становятся потребностью души. Всякий из нас знает по опыту, что частое повторение чего-либо производит в нас к тому привычку. Кто часто повторяет грех, тот делается рабом греха; кто стремится к добродетели, тот делается подвижником благочестия. Таким образом, частый причастник необходимо приобретает расположение служить Господу с усердием, потому, что истинно верует в силу Божественного таинства; славит Его с веселием и надеждой, потому что истинно надеется, что помощник и защититель его есть Господь; покоряется Ему со смирением и любовью, потому что истинно любит Господа, возлюбившего и облагодетельствовавшего нас всеми небесными дарами.
Нынешние христиане большей частью единожды в год прибегают к спасительным Таинствам покаяния и святого причащения, но христиане первых веков ежедневно сподоблялись сего дара; из этого видно, как умалилось ныне благочестие, и что будет далее! Случалось слышать от иных, что они не решаются приступать к сему святому Таинству, считая себя недостойными; но кто сего достоин? Достойных нет на земле, но кто с сокрушением сердечным исповедает грехи свои и с сознанием своего недостоинства приступает к чаше Христовой, того не отринет Господь, по слову Его: грядущего ко Мне не изжену вон. Иные так осуетились, что не находят времени поговеть или кое-как исполняют этот святейший христианский долг! Какое небрежение о столь высочайшем даре Божием, какое нерадение о спасении души своей! В продолжение целого года не хотят и несколько дней уделить для спасения души, тогда как в глазах их почти ежедневные примеры внезапной смерти!
Не умолчим и о том, кто поистине недостойно приступает к чаше Христовой. О таковых говорит слово Божие: ядый и пияй недостойне, суд себе яст и пиет, не рассуждая тела Господня. Приступая к сему страшному таинству, мы произносим: ни лобзания Ти дам яко Иуда, и прочее. Кто же это, дающие Господу лобзание Иудино? Это без сомнения те, которые, не очистивши совесть свою сердечным покаянием, не поболезновав о грехах своих, без страха Божия приступают к чаше Христовой, или те, которые, соединившись с Господом, освятившись святейшим Его даром, очистившись туне от бесчисленных своих согрешений – исчадий духа злобы, снова обращаются на скверные дела свои, снова порабощаются сатане. Горе, вечное горе таковым!
Заключим беседу нашу о приобщении святых Христовых Таин, – показанием некоторых из тех неисчислимых благ, какие доставляет оно достойно причащающимся. По учению Церкви (см. последование ко причащению и после причащения), сие святейшее таинство Тела и Крови Христовых достойно причащающимся оных подаёт укрепление составов с костьми вкупе, исцеление многообразных недугов, здравие, крепости сохранение, спасение и освящение души и тела, – отчуждение, то есть отгнание скорбей, радость и веселие, оставление грехов, умерщвление страстей, просвещение и очищение осквернённой души, сохранение от всякого дела и слова душетленного, соблюдение от всякого диавольского действа, стену и помощь и удаление сопротивных, то есть злых духов, отгнание всякого мечтания и лукавого деяния и действа диавольского, мысленно во удесех действуемого, потребление и всесовершенное погубление лукавых помыслов и предприятий, и нощных мечтаний, темных и лукавых духов, исправление жития и утверждение в святости жизни, соблюдение заповедей, умножение добродетели и совершенства, просвещение чувств, мир душевных сил, веру непостыдну, исполнение мудрости, просвещение очес сердца, дерзновение и любовь к Богу, подаяние Духа Святого, умножение Божественной благодати, вселение в души наши Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, утверждение живота, обручение будущей жизни и царствия, напутие живота вечного, благоприятен ответ на страшном судище Христовом, общение небесных благ.
С совестью, очищенной Таинством святого покаяния, и с искренним желанием исправить жизнь свою, будем чаще и чаще приступать ко вкушению трапезы небесной, подаваемой нам в Таинстве Тела и Крови Христовых, чтобы достойным принятием этого высокого дара, принять в себя и те неисчислимые дары, какие подаются нам через это великое таинство, чтобы, достойно вкушая святейший хлеб сей здесь на земле, мы сподобились бы истее причащаться Христа и там, на небе, и вечно пребывать в общении и лицезрении Его, нашего Творца, Владыки и Искупителя Иисуса Христа, чего и да сподобимся все мы изволением и благостью Его.
И.А.

IV. Животворящий Крест Христов
Посреде Едема древо процвете смерть,
посреде же всея земли древо прозябе
жизнь: вкусивше бо перваго нетленни
суще, тленни быхом: получивше же
втораго, нетления насладихомся;
крестом бо спасаеши яко
Бог род человеческий.
(Седален, осмогласник)
Животворящий Крест Христов явлен был первоначально римскому царю Константину, причтённому потом к лику апостольскому. В житии его упоминается, что когда он, бывши ещё язычником, вышел на войну против бунтовщика Максентия, стал усердно молиться неведомому им тогда Богу, почитаемому христианами, то в полудни явилось ему знамение Креста Господня, изображённое на небе звёздами, сияющее светлее солнечных лучей, с написанием на нём латинскими буквами: «in hoc vince» (сим побеждай). Видели это знамение и воины царя Константина и удивлялись; в числе их был Артемий Дукс, впоследствии времени замученный за Христа2. Видение креста на многих произвело страх: ибо у язычников крест был знамением злополучия и смерти, а смерть крестная считалась самой ужасной и позорной смертью, уделом разбойников и злодеев. Боязнь воинов сообщилась и царю Константину; он пришёл в великое недоумение о сем явлении. Ночью во сне явился ему Сам Господь Иисус Христос и, показав бывшее знамение честного Креста, сказал ему: «Сделай изображение сего креста и повели носить пред полками, и не только Максентия, но и всех врагов твоих победишь». Царь Константин немедленно велел сделать крест из золота и украсил его драгоценными камнями, и всему воинству приказал изобразить крест на оружиях, шлемах и щитах; и когда он сошёлся с воинством Максентия, то силой Креста Христова множество его воинства было изсечено, а сам Максентий бежал с оставшимися войсками и при переправе через реку Тибр погиб в ней со всем воинством, как некогда Фараон. Вошедши в Рим с победой, царь Константин повелел поставить крест на высоком каменном столбе, с надписью на нём: «Спасительным сим знамением град сей от ига мучительского освобождён». Потом, имея брань с византийцами и быв дважды ими побеждён, царь Константин был очень печален; однажды вечером, взглянув на небо, он увидел писание, из звёзд составленное, изображающее сии слова: «Призови Мя в день скорби твоея, изму тя и прославиши Мя». Устрашившись сего видения, он опять взглянул на небо и увидел прежде явленное ему знамение креста, изображённое звёздами, и вокруг его надпись: «В сем знамении победиши», – что и последовало. Имея войну с скифами на Дунае, он опять увидел знамение креста и силой его победил всех врагов своих.
Престарелая мать царя Константина, благочестивая царица Елена, возымела святое желание отыскать животворящий Крест Христов. Для этого она, прибыв в Иерусалим, призвала всех иудеев, дабы узнать место, где скрыт он; но они отвечали, что не знают. Когда же царица стала угрожать им муками, они указали ей на одного престарелого иудея, именем Иуду, который знал это место, но и он стал тоже отказываться. Тогда царица велела посадить его в глубокий ров и томить голодом; пробыв там без пищи 6 дней, он наконец вынужден был показать искомое святое место, о коем слышал в младенчестве от своего деда. Оно засыпано было сором и камнями, и на нём воздвигнут был идольский храм в честь скверной языческой богини Венеры, который, по повелению святой царицы Елены, был немедленно разрушен: и когда на месте том святым патриархом Макарием совершено было молебствие, то изошло благоухание, и вскоре обретены были три креста. Который из них был Крест Христов – это узнали следующим образом: в это время проносили для погребения мертвеца; носящим повелено было остановиться; кресты полагаемы были на мертвеца один по одному, и как только возложен был Крест Христов, то мертвец воскрес. Царица Елена с неизреченной радостью поклонилась Кресту Христову и облобызала Его, а за нею и другие стали с благоговением прикладываться к древу жизни, но по множеству стёкшегося народа все не могли приблизиться к животворящему Кресту Христову и просили показать им его хоть издали; тогда патриарх Макарий взошёл на возвышенное место и несколько раз поднимал Крест Господень; народ при виде святыни восклицал: «Господи помилуй!» Видя предивное знамение от животворящего Креста, помянутый Иуда и множество жидов уверовали в Господа Иисуса Христа и крестились. Иуда, во святом крещении наречённый Кириаком, впоследствии был иерусалимским патриархом и мученически скончался. Животворящий Крест Христов в недрах земли находился около 300 лет; обретён он был царицей Еленой в 326 году по Р.Х.
Царь Константин в память трёх побед, одержанных им над врагами силой креста, в завоёванном им городе Византии велел сделать три креста и, украсив их драгоценными камнями, написать на них: ІС ХС НІКА («ника» значит: побеждает), то есть Иисус Христос победитель. Один поставлен был на восточной стороне – на торжище, на высоком месте; другой вверху червлёного столба римского, на братолюбивом месте; а третий крест вознесён был на мраморное, очень красивое место, на хлебопродании, – да этом месте великие чудеса и знамения совершались от Креста Господня; свидетельствовали многие, что Ангел Господень ночью сходил с небес в великом сиянии и, обходя, кадил святой крест, поя сладким голосом песнь Трисвятую, и потом восходил на небо.
Древо Креста Господня в царствование греческого императора Фоки было пленено персами, но потом возвращено в Иерусалим к радости и утешению христиан. Совершилось это так: Хозрой, царь персидский, завоевав Иерусалим, овладел сокровищами и утварью Иерусалимского храма, в числе коих пленил и неоценённое сокровище – животворящее древо Креста Господня, которое и принёс в Персию. По смерти греческого царя Фоки воцарился Ираклий, который многократно покушался преодолеть Хозроя, но вместо того сам каждый раз был побеждаем им и просил мира; но гордый враг не соглашался. Тогда, будучи в великой печали и недоумении, царь Ираклий начал искать помощи и заступления у Бога. Он дал повеление своим подданным совершать усердные молитвы с постом и бдением, да избавит их Господь от врага, хулящего имя Его и хвалившегося в гордости своей истребить всех христиан; молился и сам царь со слезами и постом. После сего, собрав воинство и вооружившись крестной силой, выступил он против Хозроя и, сошедшись с ним, поразил его и обратил в бегство. Хозрой был убит сыном своим Сироесом, который послал к царю Ираклию просить мира. Заключив с персами мир в 628 году по Р.Х., царь Ираклий тогда же взял животворящее древо Креста Господня, находившееся в плену у персов 14 лет. Возвращаясь в своё отечество, царь Ираклий воздал благодарение Богу за Его помощь и победу над врагами. Приближаясь к Иерусалиму, царь, облечённый в царскую порфиру, украшенную золотом и драгоценными камнями и имея на главе корону, взял на свои рамена честное древо Креста Господня, дабы с подобающей честью и торжественно отнести его на прежнее место. Тогда Божиим изволением последовало великое чудо: достигши врат, через которые шёл путь к Лобному месту, царь внезапно был удержан невидимой силой и не мог пройти через оные врата. Тогдашний патриарх Иерусалимский Захария, со всем народом вышедший на встречу царя и от горы Елеонской шедший вместе с ним, видя такое чудо, пришёл в ужас и, воззрев, увидел стоящего в вратах молниеобразного Ангела, который возбранял царю вход и говорил: «Не таковым образом Творец наш нёс сюда это крестное древо, каковым вы его несёте». Тогда царь снял с себя порфиру, венец и прочие царские одежды, облёкся в худое одеяние и понёс честное древо креста, идя босыми ногами, и без всякого препятствия внёс оное в храм и поставил на то самое место, с которого оно было взято Хозроем. Великая тогда была радость о возвращении Креста Господня христианам, которые, подобно древним израильтянам, некогда ликовавшим о возвращении ковчега завета от филистимлян, торжествовали и радовались, прославляя и благодаря Распявшегося на кресте за спасение мира, Царя славы.
Близ Иерусалима находится Крестный монастырь; основан он в первых веках христианства и назван крестным потому, что построен на том месте, где произросло святое древо, употреблённое впоследствии на крест, на коем был распят Господь Иисус Христос.
На мозаике церковного пола показывают кровавые полосы, кои, по преданию, суть следы крови избиенных здесь сарацинами грузинских иноков, пострадавших Христа ради. Доныне ежегодно совершается в монастыре память этих святых мучеников.
Под престолом соборной церкви в полу сделано отверстие, обложенное серебром, к которому прикладываются, и в нём показывают место, где произросло честное древо, срубленное на Крест Господень, – и с зажжёнными свечами спускаются в самую пещеру, находящуюся под алтарём.
Воспоминание явлений на небе Животворящего Креста Господня, виденных в Иерусалиме
По преставлении первого христианского царя Константина на престол его взошёл сын его Констанций, впоследствии времени уклонившийся в злочестивую ересь Ариеву. На посрамление еретиков и утверждение православных, в Иерусалиме во время святой Пятидесятницы было видено дивное знамение: мая в 7 день, в третьем часу дня, на небе явился честный Крест Господень, изображённый звёздами, сияющий неизречённым светом, несравненно превосходящим светлость солнечных лучей; знамение это простиралось от горы Елеонской до Голгофы, и ширина его была соразмерна длины; а красота, подобная разноцветной радуге, превосходила всякое описание.
Народ, видя это знамение, спешил насладиться чудным и страшным видением Креста Господня; старцы и юноши, мужчины и женщины, странные и пришельцы, христиане и иноверные, – все спешили видеть дивное знамение и велегласно прославляли Господа нашего Иисуса Христа, единородного Сына Божия, Бога истинного и всемогущего; храмы Господни наполнились молящимися и прославляющими преславное имя Божие. Тогда враги и хулители Божества Христова, видя в явлении крестном Божественную Христову славу и силу, исполнились великого стыда и самым делом убедились, что христианская вера есть правая и истинная и не прением словесным, от внешней премудрости человеческой исходящим, составляемая, но Святого Духа откровением и силой утверждаемая и с небес знамениями и чудесами свидетельствуемая. О сем чудесном знамении святейший патриарх Иерусалимский Кирилл известил даря Констанция, увещевая его обратиться к правоверию; а Ермий Созомен свидетельствует, что тем святого креста на небе явлением множество из числа иудеев и эллинов, уверовавши, с покаянием приступили ко Христу Богу нашему, приняв святое крещение. И славим был от них Христос Бог, Отцу единосущный и соприсносущный, вместе со Святым Духом.
Георгий Кедрин в книге своей «Деяния церковные и гражданские от Рождества Христова» пишет, что в третье лето царствования Иулиана богоотступника явился на небе светообразный крест, окружённый светлым венцом, и что знамение это было несравненно великолепнее и блистательнее вышеописанного знамения, бывшего при Констанции, сыне Константина Великого, и простиралось оно также от горы Елеонской до Голгофы, и не только в Иерусалиме, но в Антиохии и других городах видимо было. Это чудное знамение креста изображалось тогда же само собой на покровах жертвенников, книгах и одеждах, – не только у христиан, но даже и на одеяниях иудеев; у последних оно изобразилось чёрное; иудеи, как повествует предание, сколько ни старались уничтожить крестное знамение с одежд своих, но не могли; и дивное событие это многих из них привело к вере во Христа, Спасителя мира.
В греческом «Синаксарнике» под 14 сентября, на день празднования Воздвижения честного Креста Господня, упоминается, что на Голгофе, когда в недрах оной сокрыт был честный Крест Господень, в обилии росли благоуханные цветки, именуемые васильки, в переводе на русский язык – царские цветки; и хотя эллины, имевшие на Голгофе храм с идолом скверной богини своей, вырывали эти цветки, но они снова вырастали. В память сего чудного события у греков и ныне васильки постоянно употребляются при кроплении освящённой древом Креста Господня водой, вместо кропила; растут они на Востоке круглый год.
Также повествуется в «Синаксарнике», что при обретении Креста Господня гвозди, коими пригвождено было пречистое тело Спасово, блистали, а гвозди разбойников были чёрные и заржавленные, чем и отличены были одни от других.
Святой епископ Павлин в 11 послании своём свидетельствует, что честное древо Креста Господня со времени обретения его раздавалось по частичкам поклонникам и оставалось в целости, восполняемое благодатью Божией, подобно тому, как и пять хлебов умножены были Господом. Прежде было обыкновение, что все поклонники, бывшие в Иерусалиме, получали по частичке от Креста Господня и приносили в дома свои, что было свидетельством их посещения святых мест. А что святое древо в обилии раздавалось, видно из писаний святых отцов: святой Иоанн Златоуст упоминает, что приемлемые части от древа Креста Господня многие мужи и жены носят на шее в золотой оправе; и святой Кирилл Александрийский говорит: «Крестным деревом, разделённым на части, весь мир наполнен».
По описанию древних историков высота Креста Господня была 15 ножных стоп, ширина 8 стоп, а толщина оного была квадратная – 5 вершков; при такой величине и толщине он был очень тяжёл.
Из описаний житий святых и прочих церковных повествований видим мы бесчисленные случаи явлений Креста Господня, сего непобедимого оружия христиан на врагов видимых и невидимых; но преславнейшее явление Креста Господня последует во второе и страшное Его пришествие на землю, по речённому в святом Евангелии: якоже бо молния исходит от восток и является до запад, тако будет пришествие Сына Человеческаго, и тогда явится знамение Его на небеси (Мф.24:27–30). Тогда терпеливо понёсшие крест свой с верой в Распятого на нём возрадуются радостью неизречённой, радостью вечной; а нечестивые, отвергавшие сие непобедимое оружие, поражены будут силой Его. Не одни иудеи, распявшие Христа, будут причислены к врагам Креста Его, но и все те, кои не веровали в Него, отвергали Его божественное учение и жили по похотям страстей своих, прилагая грех ко греху, беззаконие к беззаконию; для всех таковых Крест Христов будет страшным обличением и орудием вечной казни. Распятые по правую и левую стороны Сына Божия разбойники оба одинаково страдали; но один из них наследовал царство небесное, а другой – вечное мучение. Нередко и в мире видим, что одинаково страдают: но один говорит подобно благоразумному разбойнику: «Достойно по делам своим я терплю» и просит милости Божией и получает её; а другой ропщет на Бога, наказание своё считает незаслуженным и от временного страдания переходит к вечному: ибо незаконно-мученный не венчан будет, как говорит святой апостол Павел. Каждый из нас, неся крест свой, должен мысленно взирать на Начальника жизни, понёсшего безмерно тяжёлый крест ради спасения нашего, и тем воодушевляться и укреплять себя в терпеливом несении креста своего. Крест – ходатай вечного блаженства; без него невозможно спасти душу, по слову Господню: иже не приимет креста своего и вслед Мене грядет, несть Мене достоин (Мф.10:38).
Возлюбим Крест Христов как знамение победы над врагами нашими: миром, плотью и диаволом. Царю Константину в явлении креста начертано было перстом Всевышнего: «Сим побеждай»; так и мы силой Креста Христова победим всех врагов наших. Крест – таинственная печать Христова, драгоценный залог Его любви к человечеству. Кто несёт крест свой терпеливо, тот сопутник Христов на Голгофу и сонаследник вечной небесной Его славы, по речённому Им: Аще кто Мне служит, Мне да последствует; и идеже есмь Аз, ту и слуга Мой будет (Ин.12:26).
Многие, по неведению или по нерадению, небрежно изображают на себе крестное знамение, «махающе рукой по лицу своему или по чреву»; такое махание не только что никакой не приносит пользы человеку, но даже подвергает его ответственности и вменяется в грех как нерадение о деле Божием. Знамение святого креста должно слагать, как учит святая Церковь, трёхперстное, и полагать оное на себе правильно: на челе, потом на чреве, на правом и левом плече; тогда знамение это – стена необоримая и оружие непобедимое против врагов спасения нашего.
Заимствуем из «Христианского чтения» (1845 год, часть 4) следующие поучительные рассуждения о силе креста.
«Когда мы, возносясь духом горе, изображаем на себе святой крест и как бы концами его указываем на чело, грудь и рамена, то не ясно ли он научает нас, что Господу Богу должны быть посвящены: наш ум с его мыслями и познаниями, наше сердце с его чувствованиями и желаниями и наши душевные и телесные силы со всей их деятельностью? Когда мы знаменуем себя святым крестом, то он, – по изъяснению святого Амвросия Медиоланского, – является нам печатью Христовой на челе, печатью на сердце, печатью на мышцах. На челе, – да всегда исповедуем Христа; на сердце, – да всегда Его любим; на мышцах же, – да благая делаем». Раскрывая далее эту же мысль, святитель продолжает: «Изображаемый крест – знамение на челе, как на месте стыдения, да не стыдимся исповедывать Христа распятого, Который не стыдится нарицать нас братией (Евр.2:11); знамение на сердце, как на месте любления, да всем сердцем возлюбим Его, Сладчайшего Иисуса, яко Той первее возлюбил есть нас (1Ин.4:19); знамение на мышцах, да поработаем Ему, Господу нашему, и понесём на раменах своих тяжесть креста»3. Есть ещё одна очень утешительная истина, внушаемая нам самым видом Креста Господня. Когда мы знаменуем себя крестом и как бы видимым образом налагаем на себя Крест Христов, тогда между нами и Отцом Небесным, так сказать, висит на кресте распятый Спаситель наш!.. Тогда божественным взорам Всевышнего предстоит уже не наше позорное чело, покрытое греховным бесславием, но увенчанная тернием глава Богочеловека; не наше коварное сердце, исполненное всяких нечистот, но прободённые ребра Искупителя нашего; не наши нечистые руки, непрестанно делающие беззакония, но пригвождённые ко кресту пречистые длани всеправедного и всесвятого Господа Иисуса Христа. Таким образом, знаменуя себя крестом, мы должны предзреть духом пред собой Христа Спасителя, пригвождённого ко кресту и умоляющего о нас правосудие Божие, и иметь при этом такую мысль: Господи! За Тебя, ради Твоего имени святого, мы готовы на крест, на всевозможные поношения, на жесточайшие страдания, на смерть – самую позорную.
Был пример, что самого закоренелого невера до глубины души тронул и заставил горько оплакивать свои заблуждения один взгляд на крест, на котором изображён был распятый Спаситель, с надписью: «Вот, что Я для тебя сделал! Что же сделал ты для Меня?»
Начертал некогда Моисей знамение креста на водах Чермного моря, и оно расступилось: люди Божии прошли по дну его, как по суше. Нестерпима была горечь источников в пустыне, но как только Боговдохновенный вождь израильский вложил древо в воды, они сделались сладкими, чем прообразовалось древо Креста Господня, источившее сладость всему миру. Ударил Моисей жезлом краесекомый камень, и потекли из него изобильные струи, утолившие сильную жажду израильтян. Пророк Елисей погрузил древо в Иордане, и оно извлекло сокрытую в глубине вод секиру, в знамение того, что древом крестным из чрева адова будут изведены грешники. Моисей, поддерживаемый священниками, воздевает руки свои, изображая вид креста, и Амалик побеждается. По повелению Божию, возносится змий на древо, и взирающие на него избавляются от ядовитого угрызения, предизображая имеющего быть вознесённым на древо ради спасения мира. И во многих знамениях ветхозаветных предизображался Крест Христов – спасительное оружие мира, непобедимая победа. Блаженны уста наши, лобызающие сие драгоценнейшее древо! Блаженны чело, перси и рамена наши, осеняемые победоносным этим знамением! Крестом святые апостолы, как неким чудным ралом, взорали всю вселенную и посеяли на ней слово Божие, как пшеницу. Из них святой апостол Андрей, ведённый мучителями к кресту на распятие, увидев издали крестное знамение, с восторгом взывал: «Радуйся, кресте, плотию Христа освящённый и членами Его, как маргаритами, украшенный! Прежде, нежели взошёл на тебя Господь мой, ты страшен был для земных; но теперь, когда ты вместил в себя любовь небесную, то быть распростёртым на тебе есть дар. Знают верные, сколько сокрыто в тебе щедрот, сколько уготовано наград. Безбоязненно и весело я иду к тебе, но и ты с веселием и радостью приими меня, ученика Распавшегося на тебе. Я всегда любил тебя и горел желанием обнять тебя. О, блаженный Кресте, приявший волеизлияние и красоту от членов Господа, многократно желанный и неусыпно искомый! Возьми меня от среды человеков и вручи Учителю моему. Пусть от тебя получит меня Тот, Кто через тебя искупил меня»4!
Вооружившись святым крестом, мученики шли на самые ужасные мучения безбоязненно, как бы в чужих телах, терпели с восторгом, как ликующие. Один из древнейших писателей первенствующей христианской церкви свидетельствует, что тогдашние христиане, следуя апостольскому преданию, при каждом действии и движении ограждали себя крестным знамением: при входе и выходе, одеваясь и обуваясь, при умывании, перед трапезой и после оной, зажигая огонь, ложась на постелю, садясь на место; словом – при всяком занятии.
При самом появлении нашем на свет знамение креста освящает нас, и от колыбели до гроба оное сопутствует нам, ограждая, вразумляя и спасая нас на стропотном пути земного странствования нашего; и когда бренные останки наши будут заключены в недра земли, то крест святой, водружённый над могилой нашей, красноречивее всякого мавзолея будет говорить, что тут покоится прах христианина.
Обратимся к нашим священным летописям, и мы, можно сказать, на каждой странице увидим, как могущественна сила Креста Христова. Укажем хотя на некоторые из бесчисленных примеров. Так, по сказанию святого Прохора, ученика святого Иоанна Богослова, святой апостол знамением креста исцелил некогда лежавшего при пути больного5. Некто благочестивый Ир, по наставлению святого апостола Филиппа, начертал рукой своей образ Креста Христова на повреждённых членах недужного Аристарха, и тотчас усохшая рука исцелела, око прозрело, слух открылся и больной стал здоров6. Когда святой Епифаний в детстве своём, будучи ещё некрещёным, свержен был однажды рассвирепевшим ослом и сильно повредил себе бедро, то нашедший его некоторый христианин трижды знаменовал крестом, и уврачевал отрока7. Преподобная Макрина, сестра святого Василия Великого, страдая от некоего лютого вереда на персях её, просила свою мать осенить больное место крестом, и, как скоро употреблено было это врачевство, мгновенно получила исцеление8. Но чудодейственный Крест Христов не только исцелял недуги, он даже соделывал тело человеческое невредимым ни от пламени, ни от челюстей свирепых зверей, ни от смертоносных ядов. Так, святая первомученица Фёкла осенила крестом множество дров и прутьев, собранных под нею на сожжение её, и огонь не дерзнул прикоснуться к её телу9. Святая мученица Василиса Никомидийская оградила себя знамением креста и посреди пламени в разжённой пещи продолжительно стояла во огне горящем без всякого вреда10. Обречённые зверям на съедение, святые мученики Авдон и Сеннис напечатлели на себе святой крест, и лютые звери, подобно кротким агнцам, целовали ноги человеков Божиих11. При целебной силе Креста Христова оказывались безвредными и смертоносные яды. Так, святой епископ Юлиан, изобразив на поднесённой ему злоумышленниками чаше святой крест и потом испив смертоносный яд, не почувствовал в своём теле никакого вреда12. Подобным образом преподобный Венедикт осенил крестом сткляницу, и ядоносный сосуд расселся, как бы от каменного ударения13. Но что всего удивительнее, был даже пример, что некоторый христианин, в отчаянии решившись сам отравить себя, но почувствовав невольный страх, знаменовал крестом лютую отраву, и ничего не потерпел от неё; испил в другой раз лютейший яд, но сила сотворённого им крестного знамения опять сохранила его невредимым14. И что дивного, скажем словами златословесного учителя, в том, что крест побеждает вредительные отравы, когда он отверз адские врата, распростёр небесные круги15. По толкованию святых отец, четвероконечный Крест Христов изображает верхним своим концом, или высотой, в вышних Живущего – Бога Отца; глубиной, или нижним концом, – на землю и во ад низшедшего Сына Божия; шириной и долготой, или двумя поперечными концами, – Духа Святого, везде сущего и вся исполняющего. Церковь, обретши крест, явилась воистину раем, имеющим посреди себя древо жизни, древо креста.
Крестом Христовым мы искуплены от клятвы закона. Крест Христов – оружие непобедимое, коим поражён враг наш: ибо Христос, претерпев крестную смерть и низшед во ад, отъял оным силу у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собой (Кол.2:15). Если б не страдания Христовы, подъятые за спасение наше, то мы, грешники, какую бы могли иметь надежду спасения? Крест Христов – оправдание наше, источник жизни и спасения нашего.
Ничто столько не сильно умилить окаменённое сердце наше, как вид страждущего Искупителя, распятого на кресте. Крест, бывший орудием позорной казни, соделался потом красотой церкви, державой владык земных, украшением диадим их, честью воинских знамён, наградой подвигов и заслуг.
О, пречестный и животворящий Кресте Господень! Споборствуй нам на врагов видимых и невидимых, охраняй нас во всех путях наших и по разрешении от бренного тела душу нашу вознеси к престолу Вседержителя – туда, где потоки сладости проливаются, где непрестанный глас радования веселящихся и хвалящих Господа!
Стихиры Честному Кресту: «Иже Крестом ограждаеми, врагу противляемся, не боящеся того коварства и ловительства: яко бо гордый упразднися и попран бысть на древе силою распятого Христа».
«Крест Твой, Господи, освятися; тем бо бывают исцеления немощствующим грехми; сего ради к Тебе припадаем, помилуй нас».
«Господи, оружие на диавола Крест Твой дал еси нам: трепещет бо и трясется, не терпя взирати на силу его, яко мертвыя возставляет и смерть упраздни: сего ради покланяемся погребению Твоему и востанию».
Стихиры эти поются на святой Афонской горе по окончании повечерия как святое напутствие на сон грядущим. Каждый христианин, отходя ко сну, благоговейно да прочитывает оные, ограждая себя непобедимой силой Креста Христова.
Крест Христов сияет на тверди церкви Христовой, неизречённым светом озаряя весь мир, видимый и невидимый, слава его необъятна, божественна, предивна и недостижима.
О, достопоклоняемый образ Креста Христова! Напечатлейся в нашем уме, пройди наше сердце, проникни наш дух и душу, отразись в наших мыслях, желаниях и стремлениях, в наших предначинаниях и действиях! Непобедимая и непостижимая сила Честного и Животворящего Креста Господня! Не оставляй нас грешных ни на один шаг, ни на одну минуту, поборай нам и помогай, защищай нас и утешай, врачуй и оживляй, научай и вразумляй неотступно, непрерывно! О, Кресте святый! Сроднись со всем существом нашим, чтобы во второе, страшное и славное пришествие великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (Тит.2:13), когда ты, с неизреченной славой явишься на небеси, мы узрели тебя с радостью и любовью, не со страхом и трепетом.

Мне же да не будет хвалитися, токмо
о кресте Господа Иисуса (Гал.6:14).
Пусть хвалится суетный мир пышностью своей, пусть величается мнимой мудростью своей, пусть потешается временными и пустыми удовольствиями; нам же, христианам, и похвала и величие, и утеха и отрада – Крест Христов! Потому, во-первых, что через Крест Христов соделано наше вечное спасение, так ещё и потому, что в Кресте Христовом мы находим воздаяние всем нашим крестам, по свидетельству святого апостола Павла: с Ним и прославимся (Рим.8:17). Мы, христиане, будучи тело Христово и уды, не можем и не должны отставать от своего Господа, ибо Он оставил нам образ, да последуем стопам Его (1Пет.2:21).
И Ему Самому, Господу нашему Иисусу Христу, крест есть слава и похвала, как говорит святой Иоанн Златоуст: «Слава Сыну – крест, якоже Отцу слава Сын; славится Отец о Сыне, якоже и Сын о кресте Своём». И сам Господь изрёк: Ныне прославися Сын человеческий! – а когда это ныне? Не тогда ли, когда Он совершал великие чудеса: словом исцелял больных, изгонял бесов, просвещал слепорождённых, воскрешал мёртвых, словом укрощал бури, преславно преобразился на Фаворе? – Нет, не о том времени говорит Господь «ныне», а уже приближаясь к страданиям Своим и крестной смерти сказал: «Ныне прославился Сын человеческий! – Иду на страдания – и в них прославлюся, совершив спасение человека посреде земли, вознесён буду на крест – вся привлеку к Себе, умру на нём, светила небесные погашу, землю потрясу, гробы отверзу, мёртвых воскрешу, и те, которые не веруют, что Я есмь Сын Божий, воскликнут тогда: воистину Божий Сын бе Сей (Мф.27:51–54). На кресте висеть буду, одесную Бога Отца сяду и, когда так пострадаю, – вниду в славу Мою, которую имел у Отца прежде веков, ибо так надлежало пострадать Христу и внити в славу Свою (Лк.24:26)». Не слава ли Сына Божия есть крест Его?..
Обратимся теперь ко кресту святого апостола Павла, которым он так хвалится: «В трудах многих, в ранах более, в темницах ещё более, многократно был при смерти, палицами биен, камнями побиваем, три раза терпел кораблекрушения, ночь и день пробыл в глубине морской, претерпевал различные беды и в реках, и на суше, беды от разбойников, беды от сродников и от чужих, беды в городах и в пустыне, в изнурении, во бдении, в голоде, в жажде, в стуже, в наготе; кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал?» И при всём этом он торжественно объявляет: «Хвалюся в немощах моих, хвалюся Крестом Христовым, ибо крест страдальчества по Христе великую отраду подаёт любящим его». Знаю, продолжает апостол, человека о Христе, который восхищен был в рай и слышал там то, чего невозможно и изобразить человеческим языком (2Кор.12:2–4). Ещё в теле сущего человека на небо возносит истинное несение Креста Господня!
Каждый из нас имеет свой крест, – своё страдание, своё горе, свою скорбь. Кто не знаком с горем, не знает скорби и лишений, кто не проливал слёз! Да иначе и быть не может. Мы – странники и пришелицы на земли, по слову апостола, не имеем здесь постоянного жилища, а стремимся к ожидающему нас в вечности; что удивительного, если странник изнемогает в странствовании и пришлец в чужой стране не находит покоя? А когда призовёт нас Отец наш небесный в родную отчизну нашу, тогда сеявшие слезами радостью пожнут, и радости нашей никтоже возьмет от нас. А другого пути к Отцу небесному нет и быть не может, ибо и Господь наш не иначе, как через страдания и крест вошёл в славу Свою. И наши страдания и скорби Господь, по благости Своей, вменяет как бы в Свои страдания, и мы несением своих крестов, сообразны бываем кресту Его. Как о благодеяниях, которые оказывают люди друг другу, говорит Он: сотвористе единому сих меньших, Мне сотвористе (Мф.25:40), так и озлобляя, оскорбляя ближних наших, оскорбляем Самого Господа, ибо страждет Господь в христианах как в членах Своих.
Крест Христов, говорит святой Иоанн Златоуст, есть ключ рая, которым отворил нам Господь рай; Сам Он первый вошёл в славу Свою крестом, и нам всем, хотящим получить участие в Его славе, в раю, ясно сказал: аще кто хощет по Мне ити, – да возмет крест свой и по Мне грядет (Мф.16:24). Не сказал Господь: да возмет крест Мой, но да возмет каждый крест свой, ибо знает Он, всеведущий, что мы перстом прикоснуться к кресту Его не можем, столь он велик и тяжёл, а только свои посильные кресты с Его же помощью носим.
Как бы в ответ на это призывание Господа святая Церковь обращается к верным, как мать с своим детям. Сшествуем Ему и сраспнемся! – воспевает она. Пойдём вслед Господа путём скорбей наших и страданий, без ропота и уныния, великодушно и мужественно понесём крест свой, чтобы и нам вслед за Ним войти в славу Его, по Его обещанию: да идеже есмь Аз и вы будете (Ин.14:3).
О, христиане крестоносцы, скорбящие и страждущие, но не изнемогающие упованием и терпением, вы уподобляетесь Самому Господу, если с благодарением несёте Крест Его; в вас как в членах своих страждет Он Сам! Вы мученики нынешних последних времён, вам плетутся венцы на небесах, только не изнемогайте в терпении!
Посмотрите на Крест Господа Иисуса, во сколько раз он тяжелее всех ваших крестов. Не достаточно ли его к услаждению ваших скорбей? Взывайте со Христом к Отцу Небесному: Отче мой, буди воля Твоя! И Господь посреде вас невидимо и в каждом из вас таинственно пребывает. Не плачьте, но радуйтеся, «яко мзда ваша многа на небесех».
V. Четвёртая заповедь
Помни день субботный, еже святити его; шесть дней делай, и сотвориши в них вся дела твоя, в день же седмый суббота Господу Богу твоему.
Слово помни, упомянутое в начале этой заповеди, даёт ей особое значение; словом этим Господь как бы настоятельно побуждает помнить и исполнять повеленное Им. День этот Он освятил на служение Себе и никакой его части не выделил человеку и житейским его делам, но весь его предопределил на прославление преславного имени Своего.
Бысть вечер и бысть утро день един (Быт.1:5). День считается от вечера одного дня до вечера другого дня, так и день праздничный должно чествовать, и накануне его ходить к всенощному богослужению. В ветхозаветной Церкви день субботний был как бы предизображением дня Воскресения Христова, просиявшего неизречённым светом в новозаветной Христовой Церкви.
Заповедь Божия о почитании субботы дана была израильтянам под опасением наказания смертью за нарушение её. Вот что о ней сказал Господь пророку Своему Моисею: И ты заповеждь сыном Израилевым, глаголя: смотрите и субботы Моя сохраните: есть бо знамение между Мною и вами в роды ваша, да увесте, яко Аз Господь освящаяй вас. И сохраните субботу, яко свята сия есть Господу и вам: осквернивый ю смертью умрет; всяк, иже сотворит в ню дело, потребится душа та от среды людей своих (Исх.31:13–14). И не умедлил гнев Божий покарать виновного, о чём повествуется: и бяху сынове Израилевы в пустыни, и обретоша мужа собирающа дрова в день субботный, и приведоша его обретшии собирающа дрова в день субботный к Моисею и Аарону и ко всему сонму сынов Израилевых, и ввергоша его в темницу: не совещаша бо, что сотворят ему. И рече Господь к Моисею, глаголя: смертию да умрет человек сей, да побиете его камением весь сонм вне полка. И изведоша его весь сонм вне полка, и побиша его камением весь сонм вне полка, якоже глагола Господь Моисею (Чис.15:32–36).
Не только людям воспрещено было в день субботний что-либо делать, но даже и слуги их, и животные должны были иметь покой, по повелению Божию, в память избавления от египетского рабства. Но мы, новозаветные христиане, несравненно большего сподоблены благодеяния, ибо в святой этот день совершилось преславное живоносное Спасителя нашего Воскресение, отверзшее нам райские двери, избавившее нас не от египетского рабства, а от лютейшего зверя – духа злобы. Веселитеся небеса и живущии на них (Откр.12:12). Се победил есть лев, Иже сый от колена Иудова (Откр.5:5). Ныне бысть спасение и сила и царство Бога нашего, и область Христа Его, яко низложен бысть клеветник (Откр.12:10). День Воскресения Христова воистину свят и пресвят, благословен и преблажен день торжества и утверждения новозаветной Церкви. В день этот святые апостолы с благочестивыми христианами собирались, преломляли хлеб, беседовали о Господе. Во едину же от суббот (то есть в первый день недели, заменивший для христиан субботу ветхозаветную) собравшимся учеником преломити хлеб, Павел беседоваше к ним, хотя изыти на утрии, простре же слово до полунощи (Деян.20:7). А последователи святых апостолов, благочестивые древние христиане с вечера начинали богослужение и продолжали его во всю ночь, от чего оно и получило наименование всенощного бдения; затем тоже продолжительно совершалась божественная литургия и в своё время вечернее правило; остающееся же от богослужения время посвящаемо было на чтение слова Божия, духовные беседы, посещение больных, заключённых, вспомоществование бедным и на иные дела благочестия и милосердия. Житейские заботы и попечения в эти дни для них не существовали, и Бог благословлял их. Из среды их восставали великие светильники миру, которые учением и своей святой жизнью до скончания существования мира будут светом мира, как сказал о них Господь: Вы есте свет мира (Мф.5:14).
Господь, как Создатель и Спаситель наш, мог бы повелеть нам и большее число дней посвящать Ему, но, снисходя к немощи нашей, заповедал нам шесть дней работать и лишь седьмой день определил Себе. Не почитающие день этот будут судимы как святотатцы, ибо они похищают Божие достояние, Божию часть. День праздничный, день Божий, день спасения нашего, день благословения Божия, – получаемого нами и на шестидневные труды наши. А кто не почитает этот святой день, тот губит весь свой труд, по речённому: аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущии (Пс.126:1).
О том, как благоговейно чтили праздники Господни древние христиане, видим из многих описаний их современников, из коих святой Дионисий Александрийский пишет следующее: «Мы, преследуемые и умерщвляемые, и в такое время праздновали, где б то ни пришлось, в селении или в пустыне, в гостинице или в темнице, или даже и на корабле»16. Читаем также в житиях о самоотвержении тогдашних христиан, не страшившихся ни темничных заключений, ни даже самой смерти, на которую они шли как на пир, радуясь, что сподобляются пострадать за имя Христово. Гонитель христиан царь Валент, узнавши, что в некоем месте в известный день соберётся множество христиан для богослужения, приказал своему префекту всех их умертвить, но сострадательный префект упредил о сем христиан, и что ж? Их собралось несравненно более обыкновенного! Когда префект отправился для исполнения бесчеловечного повеления своего царя, то встретил на пути, женщину с грудным ребёнком, которая так поспешно вышла из дома, что даже забыла запереть его и одеться как бы следовало. На вопрос префекта, куда она так спешит, истинная христианка отвечала: «В собрание христиан». «Но разве ты не знаешь, – возразил он, – что префект едет туда, дабы всех предать смерти?» «Знаю, – отвечала она, – а потому и спешу так, дабы и меня умертвили вместе с другими». – «А дитя зачем несёшь с собой?» – спросил изумлённый префект. «Дабы и оно сподобилось мученичества», – отвечала блаженная17. Вот как любили Бога и чтили Его святые праздники! Читаем в житии святой Мелании, что в некоторый праздник по причине мук рождения она не могла идти в храм, осталась дома, но, несмотря на тяжкие свои страдания, в продолжение всей ночи пела псалмы и читала молитвы! (Четьи-Минеи, декабрь 31). Святая мученица Сира за исповедание веры во Христа заключена была в темницу, и когда настал праздник, то она сердечно скорбела, что лишена была возможности быть с прочими христианами в храме Божием; по ходатайству одного благочестивого христианина, стражи отпустили её на всенощное бдение, и она на другой день утром радостная возвратилась в темницу (Четьи-Минеи, август 24). В день Воскресения, называвшийся в те времена днём солнца, по свидетельству святого Иустина мученика, и городские, и сельские жители, все единодушно собирались на славословие Божие, читали пророчества, святое Евангелие и послания святых апостол, говорились настоятелями поучения народу, по окончании же чтения молились, предлагался хлеб, вино и вода для подкрепления молящихся; по совершении же настоятелем благодарственных молитв народ единодушно возглашал аминь (Иустин, 2 Апология). Однажды святой Григорий Нисский, поучая людей в день праздничный, увидал столь великое их стечение, что не только самый храм, но и все входы в него полны были молящихся, подобно пчёлам, трудящимся внутри улья и вне его. Такое горячее усердие молящихся порадовало сего святого проповедника, и он сказал им: «Видя вас во множестве собравшимися на праздник, со всеми вашими домашними и домочадцами, мне пришло на мысль сказанное святым пророком Исаией о многочадстве Церкви Христовой: кии суть, иже яко облацы летят, и яко голуби со птенцы ко Мне» (Ис.60:8). Подобно этому говорил и святой Златоуст современным ему христианам: «Хвалю вас за ревность, ни в один воскресный день вы не покидаете нас, но оставляя всё, спешите в церковь, как на крыльях, слетаетесь к слушанию слова Божия, предпочитая сие всему земному»18. Тот же святитель в другом поучении19 так говорит: «Опять праздник, опять торжество, опять многочадная чадолюбивая церковь украшается великим собранием чад, как одеждой, по слову святого пророка: всеми ими аки в красоту облечешися, обложиши себя, аки утварию невеста (Ис.49:18)». О бдениях, совершавшихся накануне праздников, читаем у святого Златоуста: войди в церковь и посмотри на бедных, с полунощи до света там бывающих, посмотри на их святые бдения, день с нощью сопрягающие и прочее20. Из жизнеописаний первенствующих христиан известно, что когда некоторые из них, удерживаемые болезнью или чем иным, не могли быть в святом храме, то очень о сем скорбели и усердно молились там, где кто находился. Подобно этому и мы поставим себе за непременное правило: если когда по болезни или чему иному, не можем быть в храме Божием, то во всё продолжение церковного богослужения усердно должны мы молиться дома, ибо в это время молящиеся сподобляются особенной благодати Божией и вменяется им, как бы они были с прочими в храме Божием21. Если кто по болезни может молиться не иначе, как сидя или даже лёжа, то и таковая молитва, с усердием совершаемая, услышана будет. Святой Златоуст вменяет в обязанность каждому отправляющемуся в святой храм к литургии, прочитывать того дня Апостол и Евангелие, дабы через то подготовить себя к слышанию слова Божия, а возвратившись из церкви домой, должно старшему в семействе читать, объяснять и внушать членам своей семьи слышанное в храме; если старший затрудняется в чтении, то пусть читает более способный, и все должны внимательно слушать и стараться слышанное исполнять22 по речённому: блажени слышащии слово Божие и хранящии е (Лк.11:28). Когда услышите звон к божественной службе, то осеняйте себя крестным знамением с молитвой и спешите в храм Божий, а когда ударяют к Достойно, то, где бы вы ни находились, прочитывайте про себя: Достойно есть яко воистину и прочее, и просите ходатайства Царицы Небесной пред престолом её Сына и Бога о себе и близких своих, живых и умерших, ибо в это время положено поминать; а ранее этого бывает поминовение на проскомидии, на коей вынимаются из просфор частицы за живых и умерших; это самое сильное ходатайство пред Богом, ибо когда совершается великое таинство Евхаристии, то за помянутые лица приносится умилостивительная жертва, а при окончании литургии частицы, вынуты из просфор на проскомидии, о здравии и спасении и о упокоении, влагаются священником в кровь Христову, причём произносит он многознаменательные слова: Отмый Господи грехи поминавшихся зде кровью Твоею честною, молитвами Святых Твоих. Частицы эти изображают как бы самые души, за кои они вынуты; следовательно, души эти как бы погружаются в самую пречистую Христову кровь; из сего всякий может понять, сколь великая от того бывает польза для душ. Не только нужно поминать близких своих, но и дальних, особенно, когда услышим, кто помер, то хотя мы его и не знали, но если он православный и погребён был по чину нашей церкви, то очень полезно его поминать, хотя до 6-ти недель.
Святой Златоуст в поучении о посещении храма Божия говорит: «Иные, уходя с луга, берут фиалку или розу, или иной цветок и несут домой; другие, посетив сад, приносят древесные с плодами ветви, а некоторые с богатых обедов приносят своим родным остатки от стола; так и ты, посетитель храма Божия, отнеси святые наставления жене и детям, и всем близким, они полезнее и луга, и сада, и стола, эти розы никогда не поблекнут, плоды не завянут и яства не испортятся; от тех лишь временное наслаждение, а от этих вечное»23. В день праздничный беседуй с близкими своими о спасении души, о смертном часе, нередко внезапно постигающем, о блаженстве праведных и бесконечном мучении грешных, спеши потом посетить заключённых, страждущих, болящих, утешь их словом и делом. Дни праздничные должны быть проводимы в добрых делах по слову Господню: достоит в субботы добро творити (Мф.12:12). Истинно нищих должно отыскивать, как мы отыскиваем какое-либо сокровище, и помогать должен каждый по своим средствам, памятуя то, что рука дающего не оскудеет; мы даём ничтожное, тленное, а приобретаем за это драгоценность, превосходящую сокровища всего мира. Кого Господь благословил достатком, тот должен помогать бедным не скупясь, памятуя о евангельской вдовице, отдавшей Богу всё своё имение.
В день праздничный очень полезно размышлять о земной жизни Спасителя нашего, о Его рождении от Пречистой Девы Марии, о Его страннической на земле жизни, о Его благодеяниях людям, о Его учении и, наконец, о Его лютых страданиях, завершившихся позорной на кресте смертью! Поистине, это неистощимый источник для размышлений о безмерной любви Божией к нам грешным, такой любви, которую наш ограниченный ум и постигнуть не может. Христиане первых времён в дни праздничные устраивали трапезы для нищей братии. Пишется о преподобном Макарии Египетском, что он, по примеру родителей своих, приготовлял в праздники в доме своём обед, не сосед ради токмо, но паче нищих ради; а некий Исаия в дни субботные и воскресные устраивал в доме своём три и даже четыре трапезы для бедных24. Почему б и нам не подражать этому прекрасному древнему обычаю? Если иные скажут, что при домах своих не имеют для сего удобств, то можно это сделать посредством найма, было б лишь искреннее усердие, Господь поможет и вразумит, как оное привести в исполнение. Странноприятие дело великое, за оное, как известно, праотец наш Авраам удостоился посещения Самого Господа. Странен бех и введосте Мене, – скажет Господь страннолюбцам и нищелюбцам, в день праведного Своего воздаяния каждому по делам его. Упокоевая и снадбевая нищую братию, мы несравненно больше благодетельствуем себе, нежели им, но, к сожалению, бывает так, особенно в домах людей богатых: сами они в праздники насыщаются и пресыщаются избранными яствами и питиями, а если придёт к ним какой бедняк, то немилосердные их служители гонят его со двора. Без сомнения, так и Господь погонит от Своей Божественной трапезы немилостивых господ и их жестоких слуг. Всем должна бы быть памятна евангельская притча о богаче и Лазаре; один всем наслаждался, а другой всего лишался, и что потом последовало? Такая участь ожидает и всех, не состраждущих к бедствиям ближних своих. Итак, в дни праздничные преимущественно потщимся как можно больше делать добра, будем тщательно отыскивать бедных, особенно таких, которые стыдятся или не могут просить милостыню, разделим с ними трапезу нашу и удостоимся небесной трапезы, прикроем их телесную наготу, да и нашей души греховную наготу покроет Господь благодатью Своею. Иные, быть может, скажут, что затрудняются отыскивать истинно бедных, но в этом могут помочь местные приходские священники, им известны истинно нуждающиеся. Было б наше искреннее желание делать добро, Господь вразумит, укажет путь.
О благоговейном почитании праздничных дней, к сожалению, у нас немногие заботятся, но не то видим за границей. В Церковном вестнике (1876 год, №49) сообщено, что в Женеве состоялся конгресс чтителей воскресных дней, на который собралось до 400 членов; на нём между прочим сказано было, что день этот имеет важное значение как день покоя, милосердием Божиим назначенный человеческому роду для духовного преуспеяния. Тут были представители Франции, Англии, Германии, Австрии, Голландии, Бельгии, Италии, Испании, Америки и даже Румынии; всем им предложено было одним из ораторов собственным примером содействовать выполнению той великой истины, что освящение воскресного покоя есть охрана нравственности, семейной жизни и даже всего общества; это сокровищница человечества, как выразился один из присутствовавших граф Шефтебюри. Из представленных отчётов видно было, что воскресный вопрос всюду делает значительные успехи. «Надобно (сказал профессор Годе) пробудить совесть христиан в более широких размерах и повсюду дать подобающее место заповеди Господней; каждый должен святить день седьмой», и прочее. Вот как рассуждают иностранцы, а мы, именующиеся православными христианами, как почитаем праздники? Редакция «Церковного вестника» говорит, что сообщила это с намерением вызвать обсуждение воскресного вопроса и в нашем обществе, но увы, на этот голос мало кто откликается! Вот если б предлагался вопрос о каких-либо увеселительных учреждениях, тогда иное дело; вопрос такой, без сомнения, встретил бы живое сочувствие в среде нашей просвещённой публики. Следовало б обратить внимание на воспитание нашей молодёжи, внушать им потщательнее закон Божий, который есть основание всего. Как бы ни был изящно построен дом, но если он не имеет надлежащего основания (фундамента), то не прочен, что и видим.
Когда обсуждался московским купечеством вопрос, чтоб в дни праздничные не производить торговлю и воспретить базары и театральные представления, и подано было о сем прошение Московскому митрополиту Филарету, то он, препроводив его в Святейший Синод, сделал такое заключение: «Перенесение торгов и базаров с воскресенья на будни и освобождение навечерия сих святых дней от театральных зрелищ есть одна из насущных потребностей нашего времени; это послужит благодатным и благотворным перевоспитанием народа, к улучшению его как в нравственном, так и в хозяйственном отношении. Без этого никакие учреждения о распространении даже самой грамотности не принесут существенной пользы». Вот как светло мыслил Богомудрый Святитель!
Когда бывают в мире этом какие-либо празднества, то как все спешат насладиться ими, и если бы случились в это время и очень нужные дела, все они отлагаются ради праздника. Господь, Создатель и Спаситель наш, учредил праздники духовные, несравненно высшие чувственных мирских праздников, разослал всем нам приглашение Своё, святое Евангелие, но как мало являющихся на праздник Божий! Отчего же это? Разве у пригласившего угощения недостаточно? Но сего нельзя предположить, ибо Учредитель праздников этих очень богат и милостив; всего у Него много. Почему же мы не спешим на праздники Его? Вот отчего не спешим мы на праздники эти: мы утратили не только вкус в этой Божественной трапезе, но даже и самое желание её потеряли, поработили мы себя чувственности, отдались в плен греху, нам то только приятно, что тешит чувственность нашу; прекрасные духовные наслаждения, преимущественно даруемые верующим в праздники Господни, стали чужды для нас; мы удержали одно лишь наименование христиан, а дел христианских не стало в нас; вот почему не спешим мы на праздник Божий, не ждём его как дорогого утешения; нет для нас праздника, иные у нас желания, иные цели, отдалились мы от Создателя своего и тесную заключили дружбу с исконным врагом нашим – всезлобным духом тьмы; на его праздники мы спешим, там нам весело, там и ночь обращаем мы в день, там мы без устали ликуем и веселимся. Вот на какие праздники всегда готовы мы, вот какие праздники приятны нам! Отдалились мы от света и возлюбили тьму. Оставили мы источник воды живой и утоляем жажду свою в мутном болоте; слепота наша препятствует нам видеть это. Без сомнения, есть люди и благочестиво проводящие святые праздники, но их не большинство, как сказано: не бойся, малое стадо, яко благоизволи Отец ваш дати вам Царство (Лк.12:32).
Под праздники и в праздники любители разных увеселений и театров с особенным наслаждением предаются всему этому; дух злобы, невидимо действующий на грехолюбивые их души, влечёт их в глубину зла, он возбуждает особенное желание греховных наслаждений в дни, посвящённые Богу, дабы тем более сделать ответственными пред Богом бесчестящих дни Его, и скажет таковым Господь: праздников ваших ненавидит душа Моя (Ис.1:14).
Праздник Господень – это надёжный якорь, это тихая пристань, в которую после бурного шестидневного плавания входит и успокаивается утлая наша ладья, и укрепляется она там для нового плавания, для нового труда. Горе тем ладьям, которые, минуя эту пристань, спешат на пир нечестивый, на этот подводный камень, который в щепы разбивает их; там всё гибнет, и душа гибнет, и тело гибнет. Нет в мире существа несчастнее человека, отчуждавшего себя от Бога; жизнь его – мучение, совесть его никогда не бывает покойна, хотя она и усыплена бывает на время, но потом с новой силой терзает его. Вот какие горькие плоды приносит удаление от Бога и Его святых учреждений; ибо кто любит Бога, тот, без сомнения, чтит и святые Его праздники.
Евреи чтут субботу, магометане пятницу, а мы, православные христиане, что скажем о себе, как почитаем мы праздник Божий, день Воскресения Христова, день спасения нашего? Но Бог поругаем не бывает (Гал.6:7). Не видим ли мы тяготеющий над нами гнев Божий, бедствие всеобщее, не всюду ли только и слышно, что о разных несчастиях и бедствиях; случаи самоубийства в разных видах до того умножились, что на них уже не обращают внимания; постоянно слышатся жалобы на тесные обстоятельства, на разврат и распущенность, на губительные пожары, опустошающие города и сёла, на разбои, на неурожаи хлеба, на падёж скота и на многое иное; все беды как бы слились в одну беду и гнетут нас. Не есть ли это видимое наказание Божие, гнев Божий за нечестие наше, и если мы не вразумимся, не оставим путь, которым идём, то тяжёлую будущность готовим себе; нечестивой своей жизнью мы утратили веру в Бога, суетное земное возобладало нами, оставили мы праздники Божии, обесчестили Святыню Господню и приемлем достойное наказание, и если не вразумимся, не исправимся, то постигнет нас тягчайший гнев Божий, по слову Его: праздники ваши превращу в плач (Ам.8:10).
Сколько известно из разных исторических описаний, какие дела начинались в праздники, все они были несчастны, гибельны. Праздничные приобретения то же, что древняя манна, которая алчными запасаема была в воспрещённое время и покрывалась червями и смердела, и даже заражала манну, собранную в будничные дни. Так и все праздничные приобретения не только гибельны сами по себе, но даже вредят всему благосостоянию человека; без сомнения, греховный смрад, происходящий от таких приобретений, ощущается и ныне нарушителями праздников, ибо совесть – немолчная обличительница всех дел наших.
Праздничные дни – это святыня Господня, а потому все грехи, совершённые в эти дни, судятся несравненно строже.
Замечено, что не почитавшие праздники Божии повреждались в умственных способностях, несчастливы были в семейной жизни, подвергались внезапной кончине и переходили в вечность без должного христианского напутствия. Без сомнения, что непочтение или даже презрение заповеди Божией неминуемо влечёт за собой всякое злополучие; иначе и быть не может, все таковые наказаны будут Богом как преслушники Его святой заповеди, по речённому: всякое ослушание праведное прият мздовоздаяние (Евр.2:2).
Итак, по данной нам Богом свободной воле от каждого из нас зависит чтить праздники Божии и удостоиться небесного благословения или оставить без внимания четвёртую заповедь Господню и через то подвергнуться вечному гневу Божию, вечному осуждению в этой временной и будущей бесконечной жизни.
Субботы Моя сохраните, есть бо знамение между Мною и вами в роды ваша, да увесте, яко Аз Господь освящаяй вас (Исх.31:13).
И.А.
VI. О необходимости сопротивления греху и понуждения себя ко всему Богоугодному
Слово Божие говорит нам, что Царствие небесное нудится и нуждницы восхищают е (Мф.11:12), то есть Царствие Небесное, как величайшее благо, требует со стороны человека постоянного понуждения себя к исканию его, постоянной внутренней борьбы против греха, постоянного упражнения во всём богоугодном, спасительном, а потому только те сподобятся вечного блаженства, которые сопротивляются греху, а если когда, как немощные, мы согрешаем, то немедленно должно приносить покаяние. Из сказанного очевидно, что мы созданы в этот мир не для наслаждения жизнью, не для веселья, а для борьбы, в которой главные наши враги: грехолюбивая плоть наша, лукавый обольстительный мир и дух злобы – диавол, ярость его против нас неописанна, её невозможно и изобразить! Слово Божие уподобляет его рыкающему льву, ищущу кого б поглотить (1Пет.5:8). А мы, осуетившиеся, живущие беззаботно, кому подобны? Подобны мы людям, воображающим, что они прогуливаются по бесконечной равнине, тогда как стоят они на краю стремнины, но не видят этого и видеть не хотят. Душевная наша слепота закрывает от нас опасность положения нашего; мы только и думаем, что об удовлетворении своих суетных желаний, об удовольствиях этой жизни и о прочем подобном, а мысль о висящей над головой нашей беде, о грехах наших, о суде Божием и о предстоящей нам бесконечной загробной жизни не только далека от нас, но и вовсе её нет у многих из нас. Пользуясь такой беспечностью нашей, хитрый враг так опутал нас сетями своими, что у нас, как говорится, что шаг, то грех, мы и лукаво делаем, и лукаво мыслим, всё в нас проникнуто грехом, всё порабощено грубой чувственности, а что хуже всего, это то, что мы не сознаем настоящего положения своего; нам думается, что всё обстоит благополучно, что всё идёт своим порядком и что мы живём, как живётся, как говорится: «день да ночь, и сутки прочь»; а что ожидает нас впереди, об этом у большинства и речи, и мысли нет! Будущее вообще мы привыкли считать чем-то отдалённым, как бы мало касающимся нас, а если иногда при виде близких своих, переселяющихся в вечность, и приходит мысль, что и нам этот путь неизбежен, то стараемся развлечься, избавиться от подобного тяжёлого впечатления, и так в продолжение всей своей жизни убаюкиваем себя, закрываем глаза от угрожающей опасности, не желая её видеть. Но приведётся же наконец и нам встретиться с глазу на глаз с неумолимой смертью, и что тогда будет? А что эта встреча последует и что она неминуема, то это так же верно, как и то, что мы существуем.
Пора, пора нам серьёзно подумать о своей будущности, пора нам проснуться от греховного усыпления, пора сказать душе своей: востани, что спиши? Пора исправить свою жизнь. Начнём с того: будем чаще и усерднее молиться Богу, и в храме Божием, и в домах своих, будем как можно более делать добра, будем чаще думать о смертном своём часе, который, кто знает, быть может уже близ нас; памятование о нём спасительно. Проводя жизнь беззаботно, мы никогда не освободимся из сетей диавольских, коими, как паутиной, опутал он нас, и уже считает многих из нас как бы своей добычей; восстанем мужественно, призовём на помощь Всемогущего, разорвём сети диавольские, посрамим его и обрадуем нашего Ангела хранителя.
Размыслим со вниманием, что ради спасения нашего Господь сошёл с неба, претерпел страшные страдания, завершившиеся позорной на кресте смертью, а мы ради своего собственного спасения и пальцем не хотим пошевелить. Какое омрачение, какая пагубная беспечность!.. Надеемся спастись без малейшего труда; но суетна наша надежда, ибо многими скорбьми подобает нам внити в Царствие Божие (Деян.14:22). Прочтём жития святых, угодивших Богу, и что в них увидим?.. Иные труженики провели всю свою жизнь в строгом постничестве, покаянии и деннонощных слёзных молитвах, лишали себя даже необходимого; другие посвятили себя на апостольское служение спасению ближних, – постоянно заботились не о своём благе, а о благе ближних своих, претерпевали бесчисленные скорби и гонения и самым делом исполнити заповедь Божию: больше сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя (Ин.15:13). Наконец видим бесчисленные лики мучеников, которые кровью своей запечатлели любовь свою к Богу; да и самые ближайшие к Господу ученики Его, – не все ли они мученически скончались? Кто был распят, кто обезглавлен, кто какой иной смертью умерщвлён! Наконец и сама Пречистая Дева Богоматерь, какой лютейшей сердечной болезнью страдала при виде Бога и Сына своего, неправедно осуждённого, умученного и ко кресту пригвождённого?! Воистину сбылось тогда Божественное о Ней проречение: и Тебе же Самой душу пройдет оружие (Лк.2:35).
И так перед нашими глазами страшная картина страданий!.. Пострадал Спаситель мира, пострадали и все близкие Его, все возлюбившие Его, почему и сказал Он: И иже не приимет креста своего и вслед Мене грядет, несть Мене достоин (Мф.10:38). Но как же мы хотим наслаждаться этой жизнью и, в веселье проводя дни свои, спасти душу? Это невозможно; очевидно, что суетна наша надежда, напрасно наше ожидание. Если истинно хотим мы спастись, то должны при помощи Божией сопротивляться царствующему в нас греху, быть на стороже, как бывает в военное время, в опасении внезапного нападения врага, зорко следить за помыслами, им внушаемыми: злобы, гордости, сребролюбия, сластолюбия и многими иными; с гневом отгонять их от себя, как лютых наших врагов, и понуждать себя непрестанно к любви, смирению, милосердию, воздержанию, покаянию и прочим душеспасительным добродетелям, внимательно следить за дурными своими привычками. От долговременного к ним навыка, хотя и нелегко от них отстать, но это необходимо, если не хотим погибнуть; во всех добрых начинаниях и намерениях наших нужно призывать Господа на помощь, зная и ведая, что без Него не только что-либо доброе сделать, но и помыслить не можем. Он, Спаситель наш, того только и ждёт, дабы мы, как упоминаемый в Евангелии блудный сын, познали своё бедственное положение и обратились к Нему, Небесному Отцу своему с сердечным покаянием: согреших, Отче, на небо и пред Тобою! И уже несмь достоин нарещися сын Твой, сотвори мя яко единого от наемник Твоих (Лк.15:18–19).
Вот истинный путь, вводящий в Царствие небесное, вот блаженная пристань, к которой все мы должны стремиться! А если будем жить беспечно, как живём, тогда нечего нам и ждать, ибо, что посеем во временной этой жизни, то и пожнём в вечной. Многие там восплачут и возрыдают, будут горько раскаиваться и упрекать себя, но уже будет поздно; участь каждого будет тогда навеки бесповоротно решена.
О гордости и об осуждении ближних
Гордость есть, как говорит святой Лествичник, отступление от Бога, бесовское изобретение, погубившее изобретателя, отгнание Божией помощи, источник гнева, дверь лицемерия, грехов хранительница, хулы корень, упорство в своих мнениях. Кто одержим сею богопротивной страстью, от такового нередко отходят все прочие страсти, ибо одна она, то есть гордость, все их заменяет. Гордость происходит от неразумия, от нерассуждения. Пусть каждый внимательно размыслит, если он имеет какое-либо дарование, например: ум, красоту телесную, приятный голос и прочее, не дано ли ему всё это от Бога? И то, что приобретается при помощи Божией трудами нашими: богатство, почести, отличия, искусства и прочее, не всё ли это дары Божии?.. Ибо кто, как не Бог, благословляет труды наши, по сказанному: без Мене не можете творити нечесоже (Ин.15:5). Не ясно ли для каждого, что всё без изъятия доброе, имеемое нами, дано нам по милосердию Божию. Но нередко и то случается, что Господь лишает даров Своих тех неблагодарных, которые присваивают их себе, а не Тому, Кто даровал их.
Если кому-либо из нас придёт фарисейская мысль о своей праведности и о греховности ближних, не памятуя слово святой молитвы Ефрема Сирина: Господи, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, то пусть таковой размыслит о евангельской притче, о раздаче талантов: иному дан один талант, а другому десять; понятно, что, кому дано десять, от того в десять раз более и потребуется; рассмотрим это последовательно: кому дан один талант и он на этот талант приобрёл другой талант, следовательно, он прав; но кому дано десять талантов, если он приобрёл на них, скажем, пять талантов, то хотя он по-видимому в пять раз более приобрёл первого, но пред Богом он неисправный делатель, почему и сказано: «Иной суд Божий, и иной суд человеческий». Из этого очевидно, что не должно никого судить, так как наше суждение почти всегда бывает ошибочно, и сверх того подвергает нас великой пред Богом ответственности, ибо судящий брата своего противник Божий, дерзнувший присвоить то, что принадлежит Единому Богу, Праведному Судии, Который воздаст каждому по делам его.
Иные много молятся Богу, постятся, дают милостыню и этим превозносятся, иногда и уверяют даже других, но, без сомнения, фарисейские их добродетели будут им не в спасение, а на осуждение: таковые подобны яблоку, снаружи красотой блестящему, а внутри согнившему. Иные из них считают себя святыми, и только в час смертный несчастные узнают свою погибель. Чтоб избавиться от гордости, должно до конца жизни напоминать себе о грехах своих, а у кого их нет? Гордость это такой лютый недуг души, который только один Бог может уврачевать. В ком гордость, в том невидимо водворяется лукавый бес. Иные одержимые гордостью потеряли рассудок.
Злобный дух за гордость низвержен с неба; ядом этим, погубившим его, он тщится весь мир напоить; лукавство, изворотливость или изобретательность его неизобразимы, он все усилия употребляет, дабы всеми возобладать; мудрого уловляет мудростью, богатого – богатством, благообразного – красотой, красноречивого – красноречием, имеющего приятный голос – приятностью голоса, художника – искусством, оборотливого – оборотливостью. Подобным сему образом не перестаёт диавол искушать и проводящих духовную жизнь и ставит им сети: отрёкшемуся мира – в отречении, воздержному – в воздержании, безмолвнику – в безмолвии, нестяжательному – в нестяжательности, многоучёному – в учёности, благоговейному – в благоговении, сведущему – в знании. Так через высокоумие старается он во всех посеять свои плевелы. Посему, где эта жестокая страсть укоренится, ни к чему не годным делает человека и весь труд его. Господь для победы над гордостью дал нам смиренномудрие, состоящее в том, чтоб мы, что ни сделали бы, считали себя рабами непотребными.
Гордость – потеря любви к Богу и ближним, Богоотступничество, омрачение ума, лжеимённая философия, смерть души.
Святитель Тихон Задонский («Маргарит», с.221–224) взывает к гордому: приникни в гробы и распознай там царя от воина, славного от бесчестного, богатого от нищего, крепкого от немощного, благородного от худородного. Тут хвались своим благородством, тут превозносись разумом, тут величайся красотой, тут красуйся богатством, тут надмевайся честью, тут исчисляй титулы. О бедная тварь, бедная по началу, бедная по житию, бедная по концу. Помяни ещё, кто ты еси? Создание, по образу Божию созданное, но образ Божий погубившее, падшее, растлевшееся, скотом несмысленным приложившееся, но милосердием Божиим восстановленное, Сына Божия страданием и смертью искупленное. Он тебя ради смирился, тебе ли гордиться? Тебя ради рабий приял образ, тебе ли искать владычества? Тебя ради обнищал, тебе ли гоняться за богатством? Бесчестие приял, тебе ли чести домогаться? Не имел, где главы преклонить, тебе ли расширять великолепные здания? Умыл ноги ученикам Своим, тебе ли стыдно прислуживать ближним своим? Он неповинно терпел и для тебя, тебе ли виновному не терпеть? Не заслужили ли того грехи твои? Сын Божий за распинателей Своих молился: «Отче, остави им!» Тебе ли на оскорбивших гневаться, злобиться, искать мщения? Кто ты такой, что не терпят уши твои и малого оскорбления? Тварь убогая, немощная, нагая, страстная, заблудшая, всяким злополучиям подверженная, всякими бедами окружённая, трава, сено, пар вмале являющийся и исчезающий. – Но если ты приемлешь Сына Божия за Спасителя, Искупителя, Наставника и Учителя твоего, то приемли и учение Его, последуй учению Его; если последуешь учению Его, последуй смирению, которому Он тебя и словом, и делом прежде всего учил: научитеся от Мене, яко кроток и смирен сердцем (Мф.11:29). Не стыдно ли тебе, рабу, гордиться, когда Господь твой смиряется? Как наречешься Его рабом, когда не повинуешься Ему? Как назовёшься Его учеником, когда не слушаешься Его учения? Не признает и Он тебя за Своего, когда увидит на челе твоём печать бесовской гордыни, не признает тебя за Своего раба, когда не увидит в тебе смирения и послушания, не признает тебя за Своего ученика, когда не увидит Своего учения. Ты стыдишься смирения Его, и Он постыдится тебя. Иже бо аще постыдится Мене и Моих словес в роде сем прелюбодейнем и грешнем, и Сын Человеческий постыдится его, егда приидет во славе Отца Своего со Ангелы святыми (Мк.8:38).
Не будет с Ним иметь участие в славе Его тот, кто не хотел быть участником в смирении Его. Нет ничего опаснее и сокровеннее гордости, продолжает святитель Тихон. Сокровенная гордость глубоко в сердце нашем кроется, и усмотреть её не можем без помощи Иисуса Христа Сына Божия, и лучше её познаем на ближних наших, нежели на себе. Прочие пороки, как то: пьянство, блуд, воровство и прочие, видим, ибо часто ради их жалеем и стыдимся, но гордости не видим, кто бы себя признал от сердца гордым, ещё не случалось того видеть. Многие называют себя грешными, но от других называться не терпят, и так от сего показывают, что языком только называют себя грешниками, а не сердцем; на устах смирение показывают, а на сердце его не имеют; истинно-смиренный огорчиться и гневаться от укорения не может; ибо всякого уничижения достойным себя мнит. Нет ничего труднее, как избавиться гордости; потребна особенная помощь Божия и великие подвиги к победе над нею, ибо внутрь себя носим зло сие. В благополучии ли находимся? Она с величанием и пышностью, презрением и уничижением ближних приседит нам. В злополучие ли впадаем? Через негодование, роптание и хуление показывает себя змея эта. Терпению ли, кротости и прочим добродетелям обучиться хотим? Кичением фарисейским восстаёт она на нас. Нигде и никак от неё избавиться не можем; всегда с нами ходит, всегда хочет господствовать и владеть нами.
Как гордым Бог противится, показывают страшные суды Божии, которые нам Священное Писание представляет, чтобы мы, взирая на них, всеми силами береглись сего мерзкого, душепагубного порока, внимая словам Спасителя: яко всяк возносяйся смирится, смиряяй же себе вознесется (Лк.18:14). Гордость велеречива, высокоречива и многоречива; славы, чести и похвалы всяким образом ищет; высоко себя и дела свои превозносит, других презирает и уничижает, ищет себя показать, бесстыдно себя хвалит, какое добро имеет – себе приписывает, а не Богу; хвалится и тем добром, которого не имеет; недостатки и пороки свои скрывает, в презрении и уничижении быть не терпит, увещаний, обличений, советов не принимает, в дела чужие самовольно вмешивается, в несчастии ропщет, негодует и часто хулит. Гордость гневлива, завистлива; не хочет, чтобы кто равен и выше её был, но чтобы она всех превышала.
Гордость ненавистлива и есть начало и корень всякого греха. Она высоко возносится, но весьма низко падает. В горделивом невидимо водворяется диавол; где высокомерие, там жилище бесов. Гордость это тысячеглавый змий.
Моисей, сподобившийся быть собеседником Божиим, был кроток зело паче всех человек сущих на земли (Чис.12:3).
Где кротость и смирение, там веяние благодати Святого Духа, там жилище небесных ангелов. Господь, Владыка всей твари, умыл ноги ученикам Своим. Создатель рабски послужил созданию Своему, являя тем образ глубочайшего смирения, да через то познаем мы высоту его и не превозносимся безумно. Подражатель смирения, – подражатель Самому Господу, а любящий гордыню – друг диавола.
Гордость омрачает разум, низводит в бездну зол; она из всех страстей лютейшая и восполняет собой все их, почему нередко можно видеть в одержимых этой страстью строгость жизни и подвижничество, ибо диавол, уловивши человека гордостью, не препятствует уже ему в мнимых подвигах и даже помогает, дабы, тем надмив, потом низвергнуть его в глубочайшую бездну погибели. Гордость ослепляет человека, он не видит своих недостатков, не видит сетей диавольских, коими опутан.
Ни об одной страсти столько диавол не радуется, как о гордости; высокомерные носят на челах своих печать его. Диавол в самых добродетелях наших тщится посеять плевелы гордости; а потому всё доброе, что мы ни сделали бы: помолились ли усердно, попостились ли, подали ль милостыню, всё это будем относить к Господу, ибо без помощи Его мы даже и помыслить о добром не можем; и всё то, что мы отнесём к Господу, Он в день праведного Своего суда отнесёт к нам, а всё, что мы будем к себе относить, к своим трудам, подвигам, всё это будет потеряно, что ясно изображено в евангельской притче о фарисее, хвалившемся своими добродетелями.
Гордость многих низвела в ад, а смирение вознесло к Господу; убежим первого, поищем второго. Слово наше заключим словом, излившимся из Пречистых уст Девы Богоматери: яко призре на смирение рабы Своея, се бо, от ныне ублажат Мя вси роди (Лк.1:48).
27 Июля 1878 года, на Святом Афоне
День этот, посвящённый памяти всеми православными чтимого, великого в мучениках, непобедимого в лике страстотерпцев святого Пантелеимона отпразднован был в афонском монастыре, носящем имя святого великомученика, торжественно. Накануне, то есть 26 июля, из дальних и ближних афонских обителей и пустынных келлий и удолий собралось множество иноков с их послушниками; а соседние мирские греки и болгаре, чтущие угодника Божия, прибыли на лёгких парусных судах и все светло праздновали. Празднование было преимущественно духовное, началось оно всенощным бдением в таком порядке: в 5 часов вечера 26 июля (то есть накануне праздника) по местному обычаю стали ударять в деревянную доску, а после в железное било, что служит по местному преданию как бы прообразованием Ветхого Завета, потом послышалось евангельское благовестие – колокольный звон. По окончании всего этого начато было всенощное бдение, длившееся от 5 часов вечера до 6 часов утра, после чего совершено было посреди монастыря освящение воды, причём принесены были в предшествии хоругвей и креста из соборного храма святыни: многоцелебная глава святого великомученика Пантелеимона и святые мощи иных святых; по троекратном погружении при освящении воды честного креста с частью Животворящего Древа погружена была и частица мощей святого великомученика Пантелеимона, и вслед за тем была начата Божественная литургия, продолжавшаяся более трёх часов. Священнодействовал греческий митрополит Нил; собор сослужащих священноиноков был многочисленный, в главе коего находился настоятель монастыря архимандрит Макарий. На всех богослужениях усердно молились о мире всего мира и о благодетельствующих обители живых и ко Господу отшедших. Потом предложена была молившимся скромная, пустынная трапеза, по окончании коей все отправились в соборный храм, где, по совершении благодарных молитв, произнесено было многолетие Всероссийскому царствующему дому, святейшему Константинопольскому патриарху, Святейшему Всероссийскому Синоду, ктиторам, благодетелям, христолюбивому победоносному российскому воинству и всем православным христианам. По отдыхе после трапезы отслужена была большая вечерня с панихидой о упокоении душ усопших ктиторов и благодетелей обители и православных воинов, на поле брани живот свой положивших. Так как монастырь святого великомученика Пантелеимона существует единственно от милостивых благотворительных приношений, то посему священным своим долгом поставляет возносить свои смиренные моления к Многомилостивому Господу, Его Пречистой Матери и небесному заступнику святому великомученику Пантелеимону, о благодетелях своих живых и почивших, да дарует им Господь небесную Свою милость и за благодеяния их да водворит их в райских небесных селениях в бесконечном блаженстве.
В последние годы, несмотря на неустройство политическое, братство монастыря святого великомученика Пантелеимона умножилось, и его в настоящее время до 600 человек, да кроме сего, во множестве приходят в монастырь пустынные иноки, не имеющие никаких средств к существованию своему; все они пользуются от монастыря необходимо нужной пищей и одеждой, а на случай заболевания кого-либо из них устроена при монастыре особая для них больница, в которой они упокоиваются и врачуются. Многие из иноков афонских питаются одними лишь сухарями и только в праздники имеют горячее кушанье, а одежда и обувь у них самая убогая, можно сказать нищенская; помощь для таковых необходима, и монастырь делится с ними, чем может, ибо Господь посылает на всех милость Свою.
Прекрасная погода благоприятствовала священному торжеству, ощущалось внутренно веяние благодати Божией сердцам молящихся, как бы кто говорил, что великий угодник Божий, в честь коего совершалось празднество, был близ их, призывавших на помощь его, скорого помощника и тёплого заступника. Незадолго до праздника своего угодник Божий исцелил от глухоты находящегося в монастыре одного из русских богомольцев. Постоянно получаются в монастыре письменные извещения о совершающихся в разных местах благодатных исцелениях и знамениях, бываемых по вере притекавших к великому чудотворцу и страстотерпцу Христову.
Угодниче Божий! По данной тебе от Бога благодати помолись и о нас грешных, да дарует нам Всеблагий Господь душевное и телесное здоровье, да сподобимся совершить путь нашего земного странствования и водвориться там, где уже не будет ни болезней, ни скорбей, никакой печали и ни смерти, но будет жизнь вечная, блаженство бесконечное, такое блаженство, которому ничего подобного не видели наши глаза, не слышали наши уши и не ощущало наше сердце (1Кор.2:9); ибо нет слов на человеческом языке, которыми хотя отчасти могло б быть изображено это блаженнейшее состояние, которое превосходит всякое наше понятие о блаженстве.
Да сподобимся и мы, грешные, слабые, немощные хотя в числе последнейших быть там, где струятся потоки райской сладости, где ликование непрестанное веселящихся и славящих Господа.
И.А.

VII. Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою
Так некогда вещал Пресвятой Деве слетевший с небесных кругов пресветлый вестник, предстоящий престолу Вседержителя; послан он был не в славный город Иерусалим, не в царские чертоги, а в малый городок Назарет, в убогое жилище к Пресвятой и пренепорочной Деве Марии. Тайна спасения мира возвещена была не великим и мудрым века сего, не книжникам и законодателям – этим светилам наук, но бедной безвестной Деве, провождавшей святейшую жизнь Свою в глубоком уединении в хижине древоделя, и эта смиренная Дева соделалась матерью Света, ковчегом и вместилищем Духа Святого. Преисполненная Им, Она, провидя величие Своё, прорекла о себе: яко призре на смирение Рабы Своея, се бо отныне ублажат Мя вси роди. Читатели и читательницы! Вникните в слова святейшей Приснодевы, познайте от Пречистых Её уст о высоте добродетели смирения. Хотя и всеми святыми добродетелями преукрашена была чистейшая Дева, но смирение из всех их было как бы первейшей, драгоценнейшим светлейшим перлом, почему и упомянула Преблагословенная прежде всего о нём, поставив его тем самым выше всего.
Желающие спастись, подражайте Пречистой Деве Богоматери, и Она будет вашей руководительницей. По мере нашей к Ней любви и преданности Она изливает на нас Свои Матерние щедроты, хранит нас от всех бед, скорбей и напастей, вразумляет и удерживает от грехопадений, направляет на путь спасения, умоляет о нас Бога и Сына Своего и ради Её матерних молитв отвращает Он от нас праведный Свой гнев, чему есть тысячи случаев, да и каждый из нас если проследит жизнь свою, то сколько вспомнит таких событий, где видимо его сохранила небесная Хранительница.
Как усеяно небо звёздами, так мир православный святыми чудотворными иконами Заступницы нашей. Всё это не есть ли очевидное доказательство Её к нам Матерней любви, Её о нас многозаботливости и нежного попечения? Кто изочтёт ту бездну щедрот, которые изливаются на грешный мир наш предстательством небесной нашей Спасительницы! От пелен до гроба хранит нас Приснодева, разрывает как паутину сети диавольские, распростёртые на пагубу нашу. Знает дух злобы, какую сильную имеем мы в Ней заступницу, и всеми способами тщится поколебать нашу веру, охладить любовь к Ней, Пречистой Деве; но не послушаем его злых советов, будем до последнего своего издыхания во всём всегда прибегать под Её Матерний покров. Кто, как не Она, Преблагословенная, утешение скорбящих, отрада безотрадных, надежда ненадежных. Все Её прошения исполняет Господь, как и упоминается в одном из акафистных пений от лица Спасителя: проси Мати Моя, не отвращуся, но вся прошения твоя исполню. В грешном мире нашем так умножились беззакония и неправды, что если б не имел мир такой всемощной о себе Ходатаицы, то не мог бы он и существовать и погиб бы, как некогда Содом и Гоморра.
Божия Матерь есть поистине «Мать живых», как называет Её святой Епифаний25, и щедрая раздаятельница духовных благодеяний. Причастен ли кто Богознанию? Через тебя, Всесвятая. Избавляется ли кто туне? Через тебя, Богоблагодатная26. Трогательны молитвы, с которыми святые отцы обращаются к Пресвятой Деве, испрашивая Её ходатайства у престола Божия; эти молитвы входят в состав православного богослужения; святая Церковь всякое богослужение оканчивает обращением в Богоматери: «Владычице, приими молитвы раб Твоих и избави нас от всякие нужды и печали!» Или таковым прошением: «Преславная Приснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему да спасёт Тобою души наша!»27.
Рай – первобытное жилище человека – был прекрасный сад, украшенный деревьями, приятными на вид, и плодами, прекрасными на вкус. Пресвятая Дева, как «одушевлённый рай», показала в себе чудные плоды добродетелей: Она – «тайных цветов (то есть добродетелей) прекрасный рай». Посреде рая было насаждено древо жизни, – и Пресвятая Дева имела в себе Господа: «Новозаветный бессмертия рай и красен воистину показалася еси, древо жизни в Тебе насажденное Богоначальнейше чревоносящи и раждающи»28. Древо жизни произращало плоды, предохранявшие тело человека от тления и смерти; о плоде же чрева Богоматери Господь Иисус Христос говорит: Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь, имать живот вечный, и Аз воскрешу его в последний день.
Во всём вообще Священном Писании Ветхого и Нового Завета внимательный исследователь увидит бесчисленные указания на Пречистую Деву Марию, рассеянные повсюду. На первой странице Библии, при повествовании Моисея о творении мира, святая Церковь и богомудрые отцы находят указание на Деву Марию – в первобытной, девственной земле. Эта земля, хотя не была возделана человеческими руками и орошена дождём, тем не менее произрастила удивительное разнообразие трав и деревьев, и из неё создано самое тело человека. «Как первосозданный Адам, – говорит святой Ириней, – получил телесный состав от чистой, ещё девственной земли и образован рукой Божией, то есть словом Божиим, так и в воплощении Бога Слова повторилось то же самое; Бог Слово, восстановляющий Собой Адама, благоволит и родиться по подобию восстановляемого Адама, ибо родился от Марии, которая была Девой»29. «Эта Дева (то есть девственная земля) была образом, – по замечанию святого Иоанна Златоустого, – другой Девы: как эта земля произрастила нам рай, не приняв семян, так и Та безмужно произрастила нам Христа»30. В акафистном пении Пресвятая Дева именуется «прозябшей Божественный клас, яко нива неоранная яве» (то есть невозделанная явно), произрастившая Садителя жизни нашея. Ева была причиной смерти человеческого рода, – через неё вошла во вселенную смерть. Мария принесла жизнь. Ковчег, в котором Патриарх Ной спасся от вод всемирного потопа, предизображал Пресвятую Деву. Радуйся ковчег, Богоустроенное жилище, восклицает святой Иоанн Дамаскин, управительница новосозданного мира, от которой происходит Христос, новый Ной, наполняющий высший мир нетлением31. Ковчег был устроен из дерев негниющих: Пресвятая Богородица пребыла Приснодевой. В ковчеге спаслись Ной и дети его от потопа: через Марию все послушные голосу благодати Божией спасаются от погибели вечной. От Ноя, вышедшего из ковчега, населился послепотопный мир: от Христа, родившегося от Пресвятой Девы, ведут своё начало чада Нового Завета. Ной, находившийся в ковчеге, о конце всемирного потопа узнал тогда, как выпущенная им оттуда в другой раз голубица прилетела с масличной ветвью; выпущенная же в третий раз она более не возвращалась. Эта голубица предизображала Пресвятую Деву: «Голубице, – говорит Ей святая Церковь, – Милостивого рождшая». Рождением Милостивого Она действительно возвестила окончание гнева Божия и совершенный мир на земле: «Радуйся спасшая мир от потопления греховного!» В Священном Писании таинственная невеста неоднократно называется голубицей, без сомнения, по причине нравственных совершенств её. Се, еси добра; очи Твои голубине... Ты голубице моя... глас Твой сладок, и образ Твой красен32.
Боговидец Моисей зрел образ Божией Матери в купине горевшей, но не сгоравшей. Чудное священноявленному Моисею купина и огнь показа чудо. Купина объята огнём оставалась невредимой, так и святая Дева по рождестве Спасителеве не утратила Своего девства. «Якоже купина не сгораше опаляема, тако Дева родила еси и Дева пребыла еси»; и святая наша Церковь именует Богоматерь неопалимой купиной, почему и на иконе изображается Она в огненном сиянии.
Евреи, изведённые из Египта всесильной десницей Божией, в своём странствовании к земле обетованной были предводими не столько Моисеем, сколько Богом. Он присутствовал в облачном столпе, который осенял их днём и освещал ночью. Этот столп предизображал Пресвятую Деву. Рассеяв мрак неверия и распространив свет истинного Богознания, Она явилась «огненным столпом, наставляющим сущия во тьме», «вводящим в высшую жизнь человечество». Как «покров миру, ширший облака», Она покрывает и защищает верующих Своим милосердым заступлением от всех бед и напастей. Ходатайствуя о всех новозаветных чадах Своих, Она старается всех привести в царство Сына Своего и Господа: «Световидный облак, предводящий новые люди к земле обетования, воистину Богоблагодатная явилася еси, и врата, вводящая к жизни». Не будем отчаиваться в Божием милосердии, – говорит святой Димитрий Ростовский33, – се бо имамы в пути жизни нашей премилостивую Одигитрию, милосердную Наставницу, Пречистую Деву Богородицу, данную нам от Бога аки столп израильтян, к обетованной земле ведущий. Есть бо Она столп огнеоблачный, якоже вещает к Ней в акафисте Церковь... Огнь есть невещественный, но Божественный, яко просвещая во тьме сущих и к разуму Божественному всех наставляющая. Облак есть, яко носившая Бога и изливающая нам дождь Божия милости и благодати. Столп есть, яко утверждающая ратующую на земли Церковь и от врагов видимых и невидимых защищающая.
Недоумеет всяк язык благохвалити по достоянию, изумевает же ум премирный пети Тя, Богородице34. Боговдохновенные святые отцы, при всём обилии излившейся на них благодати Божией, недоумевали, какими похвалами ублажить и возвеличить Преславную Деву Богоматерь, удостоившуюся послужить страшной Божественной тайне воплощения Слова Божия; они, можно сказать, не находили слов, коими достойно могли б изобразить то, что превыше всякого слова. Воистину недоумеет всяк язык благохвалити по достоянию Преславнейшую земных и небесных, Матерь света, палату Царя Небесного, от всех родов избранную, всех святых Святейшую Пречистую Пренепорочную Деву Марию.
Чудеса Пресвятой Богородицы
В Успении Своём Пресвятая Богородица, согласно с обещанием Своим, «не оставила мира»35, но всегда ходатайствует о верующих пред Сыном и Богом Своим. Чудно и благотворно выражается на земле это заступление Матери Божией пред милосердием Господа! Как Царица неба и земли, Она укрепляет царей и утверждает царства; взбранная Воевода – спасает грады от нападений вражеских; Ходатаица мира – печётся об обращении заблудших на путь покаяния и добродетели; Радость скорбящих – спешит на помощь страждущему человечеству; Заступница обидимых – защищает беспомощных. Обозрим умом нашим тысячелетия, прочитаем писания достоверных мужей прошедшего и нынешнего времени, обойдём святые обители и храмы, воздвигнутые в честь и славу Преблагословенной Владычицы: сколько найдём знаков Её благости и могущества, сколько усмотрим доказательств матерней любви Её к роду человеческому!? Как часто Она, по милосердию Своему, удерживала руку Господа, простёртую для наказания грешных! Как часто отвращала бедствия от целых стран и народов, прекращала распри, утушала огонь войны, побеждала врагов, остановляла опустошительную заразу, утоляла голод! Эти благодеяния Её записаны в летописях православной Церкви и, без сомнения, будут переходить из рода в род, из века в век во славу Честнейшей Херувимов и Славнейшей Серафимов.
Почерпнём хотя малую каплю из беспредельного моря чудес, явленных и непрерывно являемых Богоматерью всем с верой и любовью прибегающим под Её небесный покров, упомянем о некоторых из преславных Её чудес, увековеченных записью в истории православного нашего отечества.
В 1380 году ополчился на Россию ордынский хан Мамай и, подобно опустошительному потоку, грозил покрыть полчищами своими всю землю Русскую. Навстречу ему выступил великий князь Димитрий Иоаннович с отборным многочисленным войском. Присоединившиеся к великому князю на пути донские казаки принесли икону Успения Богоматери. Во время знаменитой Куликовской битвы, происходившей в день Рождества Богородицы, эта икона находилась в стане православных воинов для помощи им против врагов. Одержав силой и заступлением Царицы Небесной блистательную победу над неверными, великий князь принёс чудотворную икону Её в свою столицу; а благочестивая супруга Димитрия Донского Евдокия, желая увековечить день Куликовской битвы и выразить свою благодарность Богоматери, положила соорудить храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В 1399 году на месте деревянной церкви Воскресения Лазаря она построила каменную в честь Рождества Пресвятой Богородицы, близ своего дворца. Летописец называет эту церковь чудной и говорит, что подобная ей была только во Владимире36. Сам Димитрий Иоаннович, приписывая заступлению Богоматери победу свою над Мамаем, положил устроить обитель во имя Божией Матери и просил содействия преподобного Сергия. Святый Сергий нашёл для сего место на реке Дубёнке, устроил храм в честь Успения Богоматери и вручил игуменство ученику своему Леонтию. Так основался Стромынский монастырь37.
Богоматерь, даровавшая великому князю победу над Мамаем, вскоре приосенила Своим покровом Москву и от другого более грозного завоевателя монгольского – Тамерлана. В 1395 году Тамерлан вступил в пределы России, привёл её в смятение и распространил везде ужас. Направляя путь свой к Москве, он вошёл в княжество Рязанское и приближался к берегам Дона. При всеобщем унынии россиян, ожидавших возвращения времён Батыя, великий князь Василий Димитриевич повёл свои войска для отражения сильного неприятеля и остановился за Коломной на берегу Оки. Между тем москвитяне, устрашённые слухом о несметных силах и свирепости Тамерлана, молились усердно об избавлении их от нашествия иноплеменников, проливали слёзы пред алтарями и постились. В храмах непрестанно совершались молитвы о князе и воинстве. Митрополит почти не выходил из церкви: то поучал оставшихся в Москве, то молебствовал за идущих пролить кровь свою за веру и отечество. И великий князь, не надеясь на свои силы, прибёг к всесильной помощи Пресвятой Богородицы и писал из Коломны к митрополиту Киприану, чтобы он послал во Владимир за иконой Богоматери, принесённой туда из Киева Андреем Боголюбским. Отравленное митрополитом во Владимир духовенство 15 августа приняло в свои руки драгоценную святыню. Перенесение этой чудотворной иконы из Владимира в Москву было зрелищем умилительным. Народ в бесчисленном множестве по обеим сторонам дороги, преклоняя колена, с воплем и слезами взывал: «Матерь Божия! Спаси землю русскую». В этом бесчисленном множестве народа нельзя было видеть человека, – говорит летописец, – который бы не плакал и не воссылал с упованием молений к Пресвятой Владычице. Митрополит, епископы и всё духовенство в ризах с крестами и кадильницами в сопровождении великокняжеского семейства и бояр торжественно встретили святыню вне города и, поставив в соборном храме Успения Пресвятой Богородицы, в радостном предчувствии благодарили Бога, даровавшего им в святой иконе залог мира и утверждения. И Матерь Божия спасла землю русскую. Современники говорят, что в тот самый день и час, когда жители Москвы встретили икону Богоматери, Тамерлан оставил своё намерение идти в Москву. Он увидел во сне, – пишут летописцы, – великую гору и с вершины её идущих многих святителей с златыми жезлами и над ними в воздухе величественную и благолепную жену с тьмами молниеобразных воинов, которые все устремились на Тамерлана. Завоеватель затрепетал, проснулся и, созвав вельмож, спрашивал их о смысле своего сновидения. «Величественная Жена, – отвечали мудрейшие из них, – есть Матерь Иисуса Христа, Заступница христиан». «Итак, мы не одолеем их», – сказал монгольский хан, и велел полкам своим идти из пределов России. С невыразимой радостью приняли в Москве известие об удалении Тамерлана. Исповедуя милость Божию, все восклицали: «Не воеводы наши прогнали его, не воинства наши устрашили его; но сила невидимая послала на него страх и трепет. Гневом Божиим гонимый, он удалился из земли русской». В память чудесного заступления Богоматери сооружён каменный храм в честь Её и монастырь Сретенский и учреждено празднество 26 августа с крестным ходом из Успенского собора через Спасские ворота в Сретенский монастырь38.
В 1408 году осадил Москву Едигей. Угрожаемый великими бедствиями, народ со слезами прибегал к чудотворной иконе Богоматери, вопия к Ней: «Милосердая Госпоже Дево Богородице! Пресвятая наша Владычица и Заступница всегдашняя! Не предай нас в руки врагам нашим, но избави нас, на Тебя надеющихся». Митрополита тогда не было в Москве, потому что бывший митрополит Киприан незадолго перед тем отошёл к блаженной вечности. Но в стенах кремлёвских тогда был святой муж Иоанн архиепископ Суздальский; и в то время, как в отверстых храмах священники пели молебны, он в приделе храма Успения молился перед иконой Богоматери. Усердные молитвы спасли город: к Едигею пришла весть о возмущении в Орде. Взяв окуп с города, он поспешно удалился в свои пределы.
В 1451 году подступил к Москве ногайский царевич Мозовша с войсками отца своего Седи-Ахмета. Великий князь удалился из столицы; главным защитником её остался святитель Иона. Подойдя к городу июля 2, татары зажгли посад и начали приступ. Время было сухое и жаркое; ветер нёс густые облака дыма прямо на Кремль, где воины, осыпаемые искрами и пылающими головнями, задыхались. Под зноем этого страшного пожара в облаках дыма святитель Иона совершал крестный ход по стенам Кремля. Между тем стрелы татарские искали своих жертв. Один инок Чудова монастыря Антоний, уважаемый святителем за святость своей жизни, пал перед его глазами, успев только сказать, что Господь ради молитв святительских спасёт Свой город. Вечером москвитяне сделали вылазку и бились с татарами до ночи. Несмотря на усталость, никто в Кремле не думал отдыхать: ждали нового приступа; готовили на стенах пушки, самострелы, пищали. Но восходит солнце – и москвитяне не видят неприятеля. Всё тихо и спокойно. Посылают лазутчиков к неприятельскому стану, и там нет никого, стоят одни телеги, наполненные железными и медными вещами; поле усеяно оружием и разбросанными товарами. Неприятель ушёл ночью, взяв с собой только лёгкие повозки, а всё тяжёлое оставив в добычу осаждённым. Татары, по сказанию летописца, – услышав вдали необыкновенный шум, вообразили, что великий князь идёт на них с сильным войском, и в смятении устремились в бегство. Великий князь, узнав о спасении города, исповедал перед всеми, что была Взбранная Воевода, обратившая в бегство врагов. Прибыв в столицу, он прямо поспешил в храм Богоматери, к Её чудотворной иконе Владимирской, и с умилением славил Заступницу Москвы39.
В 1480 году двинулся на Россию татарский хан Ахмат. Великий князь Иоанн III решился дать отпор ему в открытой битве. Русские войска стали против полчищ татарских: их разделяла только река Угра, которую русские называли «поясом Богоматери», охраняющим пределы наши. Две недели татары и русские смотрели друг на друга через эту реку. Иоанн медлил вступить в битву. Наступили морозы, Угра покрылась льдом. Иоанн велел отступить своим войскам. Но воины оробели, думая, что Иоанн страшится битвы, они не отступали, а бежали от неприятеля, который мог на них ударить с тылу. Но совершилось чудо: татары, видя левый берег Угры оставленным русскими, вообразили, что их манят в засаду. Объятый странным ужасом, хан спешил удалиться, не сделав России никакого зла. Летописцы славят милость Божию и говорят: «Да не похваляются легкомысленные страхом их оружия! Не оружие и не мудрость человеческая, но Господь спас Россию». По этому случаю был установлен крестный ход в Сретенский монастырь 23 июня. Великий князь Иоанн III выразил своё почитание к Богоматери построением в честь Её Успения величественного храма, в котором венчаются на царство русские самодержцы40.
Иго татарское было свергнуто Россией. Но окружённая с юго-восточных границ ордами монгольскими, Россия часто подвергалась их нападениям. В 1521 году предводимые крымским ханом Махмед-Гиреем крымские и ногайские татары в соединении с казанскими, двинулись к московским пределам с такой поспешностью, что великий князь Василий Иоаннович едва успел выслать войска свои на берега Оки. Разбив воевод русских, враги предали огню все селения от Нижнего до Москвы, пленили несметное число жителей, продавали невольников целыми толпами, слабых и престарелых морили голодом и оскверняли святыню храмов Божиих. Июля 29 дня Махмед среди облаков дыма, под заревом пылающих деревень стоял уже в нескольких вёрстах от Москвы, куда стекались беззащитные жители окрестностей с своими семействами и имуществом. Улицы заперлись обозами; пришельцы и граждане, жены, дети и старцы искали спасения в Кремле, толпились в воротах и теснили друг друга. Всё предвещало жалкую участь городу и жителям. Митрополит Варлаам усердно молился с народом, и Бог утешил бедствующих откровением. В это время один из жителей Москвы, юродивый старец до имени Василий, молясь ночью со слезами у дверей соборной церкви Успения Богоматери, внезапно услышал внутри храма сильный шум и вместе с тем увидел церковные двери отверстыми, а бывшую в том храме чудотворную икону Владимирской Богоматери поднявшейся с своего места. От иконы слышан был голос: «Выйду из града с российскими святителями», – и вся церковь наполнилась пламенем, который потом мгновенно исчез. В это время другому лицу открылось как бы продолжение того же видения: в Вознесенском женском монастыре была в это время одна престарелая и лишившаяся зрения инокиня; при вести о нашествии врагов, вознося вместе с другими усердную молитву об избавлении от надлежащей скорби, вдруг услышала она как бы великий шум, страшный вихрь и звон. Будучи восхищена духом, она обрелась как бы вне ограды, и отверзлись вместе очи её мысленные и чувственные, и она увидела, что из Кремля в Спасские ворота идёт сонм святителей и других святолепных мужей в священных одеждах; среди них несён был чудотворный образ Божией Матери; шествие имело вид крестного хода. Между святителями можно было признать святых Петра, Алексия, Иону, митрополитов московских, и других. И вот в то время, как это шествие выходило из ворот кремлёвских, навстречу ему от торга Ильинского устремился великий угодник Сергий, с другой стороны – преподобный Варлаам Хутынский. Оба они, припав к ногам святителей, вопрошали их: зачем они идут вон из города и на кого оставляют его в настоящее нашествие врагов? Святители отвечали со слезами: «И много молили мы Всемилостивого Бога и Пречистую Богородицу об избавлении от предлежащей скорби; Бог же не только повелел нам выйти из града сего, но и вынести с собой чудотворный образ Пречистой Его Матери: ибо люди презрели страх Божий и о заповедях Его нерадели; вот попустил Бог прийти варварскому народу, да накажутся ныне и через покаяние возвратятся к Богу». Святые подвижники стали умолять отходящих, чтобы они умилостивили своим ходатайством правосудие Божие, – и начали обще с ними петь молебен, произнесли молитву Пречистой Богородице, и по совершении отпуста, осенив град крестообразно, все возвратились в Кремль с чудотворным образом Богоматери. После этого видения ещё два года прожила благочестивая инокиня, видя свет Божий, дотоле неведомый для неё.
Опасность, угрожавшая Москве, действительно была устранена: крымский хан отступил от Москвы, не сделав ей никакого вреда и удовольствовавшись только обязательством платить ему дань по прежнему уставу. Летописцы повествуют, что татары хотели выжечь московские посады, но увидели вокруг города бесчисленное войско русское и с ужасом известили о том хана, который, не поверив им, послал других удостовериться в справедливости их донесения, но и эти видели то же. Наконец и доверенный вельможа тоже засвидетельствовал, говоря: «Царь, зачем ты медлишь? На нас идёт бесчисленное войско из Москвы». И побежали. Это видение, устрашившее врагов, было следствием заступления Божией Матери, неоднократно уже в прежние времена спасавшей столицу Русского православного царства от неприятельских нападений41.
В царствование Феодора Иоанновича, в 1591 году, шведы вторгнулись в пределы Новгородской области, а крымские татары под предводительством Казы-Гирея проникли к Москве. Царь Феодор Иоаннович, устрашённый внезапным вторжением врагов и не надеясь восторжествовать над многочисленностью крымцев по причине разделения войск своих, прибегнул с усердной молитвой о помощи к Взбранной Воеводе, Донской Богоматери, и повелел, совершив крестный ход вокруг города, поставить икону Её среди воинских рядов. Ночью во время усердной молитвы благочестивый царь получил известие от Скорой Помощницы христиан, что по Её предстательству силой Христа Спасителя он одержит победу над врагами. В самом деле, уже целые сутки горела битва, неприятели дрались с ожесточением; но вдруг, устрашённые невидимой силой, побежали. Православные воины устремились за ними, многих положили на месте, других взяли в плен и овладели всем станом неприятельским. В благодарность к усердной Заступнице верных государь в том же году на месте, где во время битвы в рядах православного воинства стоял чудотворный образ, основал Донской монастырь. В нём поставлена святая икона и учреждён ежегодный праздник в честь Божией Матери бывшего ради милосердия от святой Её Донской иконы августа в 19 день; с того же времени учреждён и крестный ход в эту обитель42.
Настали смутные времена неурядиц и самозванства. Москва была в руках поляков, в северных областях господствовали шведы. Верные отечеству москвитяне приглашали русских к освобождению Москвы. «Здесь, – писали они, – корень царства, здесь знамя отечества, здесь Богоматерь, изображённая евангелистом Лукой». Первое ополчение для освобождения Москвы было безуспешно. Но вот в Нижнем Новгороде составилось новое ополчение. «Станем за святую Русь, за дом Пречистой Богородицы; продадим жён и детей, но освободим отечество!» – воскликнул Козьма Минин, истинный сын отечества. Образ Казанской Богоматери был взят вождём Пожарским в середину новой священной рати. Но и это последнее усилие к освобождению отечества, казалось, должно было остаться тщетным. Войско не имело средств содержания, даже оружия; в воинах и вождях не было единодушия. Но мольбы верных вознесены были к Престолу Божию самой Преблагословенной Девой. И когда все земные надежды пали, небесная помощь обнаружилась в своей непререкаемой очевидности. Среди осаждённой Москвы, между врагами, в тяжком плену и ещё тягчайшем недуге томился один из маститых первосвятителей – Арсений. И он-то избран был вестником небесного милосердия к России. Среди полночной тишины вдруг келья его наполняется светом необыкновенным, а он видит перед собой преподобного Сергия Радонежского. «Арсений, – сказал преподобный болящему, – ваши и наши молитвы услышаны; предстательством Богоматери суд об отечестве преложен на милость: завтра Москва будет в руках осаждающих и Россия спасена». Как бы в подтверждение пророчества болящему старцу вдруг возвращается крепость сил. Радостная весть, переходя из уст в уста, немедленно проникает за стены города к воинству православному и воспламеняет его мужеством непреодолимым. Дерзая о имени Богоматери, христолюбивое воинство устремляется на освобождение Кремля; враги, несмотря на своё ожесточение, не могут более сопротивляться – и Кремль в руках русских. Благоговея перед небесной помощью, благодарное воинство в следующий воскресный день совершает торжественное молебное шествие в возвращённую столицу. На встречу ему выходит тот самый святитель, который удостоился приять весть о помощи свыше. Изнесённая им священная икона Богоматери казалась для всех зрящих на неё живым изображением Взбранной Воеводы, о имени которой одержана победа. Падая на землю и проливая слёзы, всякий стремился освятить себя прикосновением к чудотворному лику. В память этого освобождения Москвы от поляков поставлено праздновать октября 22 в честь Казанской иконы Богоматери43.
Через два века, в 1812 году, постигло Россию новое испытание. Европа, соединённая под властью Наполеона I, внесла в Русские пределы все бедствия войны, и Матерь Божия явилась снова Защитницей православного царства. 1812 года августа 5 дня при оставлении русскими войсками Смоленска была взята полками и чудотворная икона Одигитрия. Накануне Бородинского сражения её носили по лагерю, и воины, взирая на неё с верой и молитвой, приготовлялись к страшной битве. При одержании важных побед и успехах русского оружия постоянно совершаемы были Божией Матери благодарственные молебствия, как Взбранной и необоримой Воеводе. Отсутствие святой иконы из Смоленска продолжалось ровно три месяца, и 5 ноября она возвратилась в дом свой и соборный храм Успения.
Во время последней войны между Россией и союзными державами в сражении 19 ноября 1853 года между Александрополем и Карсом, при Баш-Кадык-Ларе, русский отряд в числе 9000 человек поразил 36000 турок при 46 орудиях. Турки оставили на месте сражения 24 орудия и множество разных военных припасов. Такая блистательная победа объяснилась показанием пленных турок, которые говорили, что в самый разгар битвы видели перед русским войском Жену в белой одежде с пальмовой ветвью в руке: победа следовала туда, куда Она наклоняла Свою ветвь. Пограничные жители говорили также, что при переходе русского войска через Арпачай над ним блистал в воздухе светлый крест44, как бы указывавший путь к победе, подобно тому, как такое же чудное значение с надписью: «Сим победишь» зрел в облаках великий царь Константин45.
Несчётный сонм молитвенников предстоит Престолу Всевышнего: приносят Ему как кадило благоуханное святые свои молитвы Архангелы и Ангелы, Начала, Власти и все небесные силы; припадают к Нему, Предтеча святый, Божественные апостолы, святители и лики мученические и преподобнические; много могут молитвы сего Божественного сонма святых Божиих, но Преблагословенная Приснодева Матерь Божия, сподобившаяся послужить страшной тайне воплощения Христова, удостоившаяся носить в Своих Пресвятых объятиях Невместимого горним и дольним миром, имеет, как Мать Его, столь великую благодать, что Её молитвы несравненно превосходят молитвы всего лика святых. Итак, будем умолять её, Владычицу мира, да помянет Она нас грешных в своих сильных пред Спасителем молитвах. Матерь Божия вместе с тем и Мать всего рода христианского, Мать нежная, в молитвах неусыпающая и в предстательствах непреложное упование, Её же гроб и умерщвление не удержало, ибо Она Живота Матерь, благословение и хранение миру, покров небесный, манна благодатная, свыше нисходящая и всех освящающая. К Тебе молимся и из глубины сердечной вопием:
О Богоизбранная Голубице, Пресвятая Дева Владычице! Призри на нас убогих, грехами обременённых, умоли о нас Господа и Сына Твоего, да помилует нас грешных, унылых, расслабленных душой и телом, да воздаст нам не по делам нашим, а по милосердию Своему; да пощадит нас в день праведного Своего суда, да не пошлёт нас в муку вечную, в геенну огненную, где тьма кромешная и червь неусыпающий, но да сподобит нас хотя в лике последнейших рабов Своих вечно славословить Его Пресвятое имя и Тебя Всепетую, Преблагословенную Его Матерь. О Владычица Пресвятая Дево! Сохрани, помилуй, защити, заступи и спаси нас.
Из описаний чудес Божией Матери видим, что во все годины тяжких испытаний, постигавших наше православное отечество, Она Единая спасала нас: так и теперь, и всегда будем неотступно просить Её милости, Её о нас ходатайства, Её защиты от врагов видимых и невидимых. Никто, притекаяй к Ней, Владычице нашей, не отходит неуслышан, но каждый получает по прошению своему полезное.
И.А.
(Приложение к выпускам 1878 года)
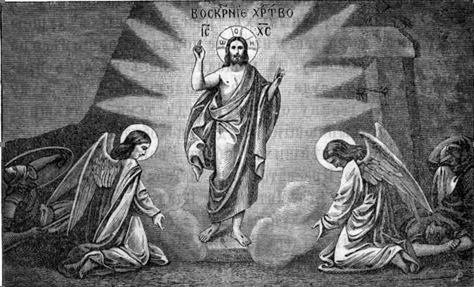
Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!
Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели
поют на небесех, и нас на земли сподоби
чистым сердцем Тебе славити.
Приветствую вас, о Христе братия, с днём общей нашей радости, днём святым, днём светоносным, днём спасения мира, днём, возносящим нас от земли на небо, от смерти к животу, днём сошествия Сына Божия в недра земли и изведения оттуда связанных узами вечными, днём умерщвления смерти и разрушения ада, днём радости праведных и погибели нечестивых, днём озарения Божественным светом неба, земли и преисподней, днём возсияния из гроба красного правды Солнца, жития вечного начала, днём отверзения Царских дверей и Божественного облистания, освещающего всех верных, днём Пасхи великой и непорочной, Пасхи таинственной и всечестной, Пасхи светозарной и светоносной, праздника праздников и торжества торжеств, в онь же благословим Христа во веки.
Блажен, кто свято проводит святые эти дни, блажен, кто так живёт, как Бог повелел, блажен, кто прозрел духовными очами и уже не пленяется суетными обольстительными приманками века сего, блажен, кто поучается в законе Господнем день и ночь и через то обогащает душу свою небесными дарованиями, блажен, кто, как плодоносная нива, приносит великое обилие благодатных плодов, блажен, кто предстоит на молитве, как огненный Серафим, пылающий любовью к Вседержителю, блажен, кто зорко бдит за ухищрениями духа злобы и не даёт ему к себе доступа, блажен, кто любит чистоту и не оскверняется лукавыми деяниями и помышлениями, блажен, кто умными очами непрестанно зрит пред собой Вездесущего, блажен, кто любит спасительное покаяние, убеляющее душу, блажен, кто ненавидит грех, причиняющий душе невидимую смерть, блажен, кто познал Спасителя и Создателя своего и прилепился к Нему всем сердцем и душой, и всей крепостью всего существа своего, поистине тот блажен и преблажен и стократно блажен, и блаженству его нет меры и предела: он как любимый сын принят будет на лоно Отца Небесного, вчинён будет в лик ангельский, прославит его Господь вечной славой, увенчает его венцом нетленным, наречёт его сыном света, напитает его хлебом небесным от древа животного, еже есть посреде рая, от манны сокровенной (Откр.2:7), облечёт его в ризы белые, написано будет имя его в книге животной и не изгладится из неё никогда (Откр.3:5). Посадит его Господь на престоле Своём, будет он наследник всего, и наречёт его Господь сыном (Откр.21:7) и другом Своим (Ин.15:14).
Познаем, братия, своё высокое достоинство, своё благородство, познаем безмерно великую славу и блаженство, уготованные нам в вечности, всех нас ожидает там Отец Небесный, всех нас зовёт Он к Себе; «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененнии», – говорит Он, всех зовёт, никого не исключает, но не все внимают этому отеческому призванию, не все овцы Его святого стада, есть и таковые, и их немало, которые чужды Его Святого учения, Божественного света, чужды Его спасательной благодати, они, как не имеющие брачной одежды, не внидут в чертог небесный, останутся вне его, будут тогда они и каяться горько, и рыдать неутешно, и умолять о помиловании неотступно, но не получат его: «Не знаю вас, отыдите от Меня», – скажет им тогда праведный Мздовоздаятель, и пойдут они в муку вечную (Мф.25:46).
Пока имеем время, пока сердце не перестало биться в груди нашей, пока не порвана нить нашей земной жизни, заглянем поглубже в душу свою, размыслим, что готовим себе, осмотримся вокруг себя: не стоим ли мы на краю пропасти, из коей уже нет выхода? Не пойдём дальше путём погибельным, остановимся; послушаем, как увещевает Господь грешную душу, как призывает её к Себе46: «Почто ты, грешниче, Меня оставил? Почто тебя Возлюбившего удаляешься? Помяни, яко тебя ради Я родился от Девы и рабий зрак приял; тебя ради младенствовал, обнищал, смирился, на земли пожил, плакал, трудился, гонение, злословие, укорение, бесчестие, поругание, раны, заплевание, насмеяние и всякое злострадание потерпел; наконец поносной смертью, смертью же крестной умер. Всё сие спасения ради твоего учинил. Сошёл с небес, чтобы тебя на небо вознести; смирился, чтобы тебя возвысить уничижённого; обнищал, чтобы тебя обогатить обнищавшего; обесчестился, чтобы тебя прославить обесчещенного; уязвился, чтобы тебя исцелить уязвлённого; умер, чтобы тебя оживить умершего. Ты согрешил, а Я грех твой на Себя взял; ты виноват, а Я казнь претерпел; ты должник, а Я за тебя долг платил; ты на смерть осуждён, а Я за тебя умер. И к сему Моему за тебя страданию, не иное что, как любовь Моя к тебе привлекла Меня. Почто убо самовольно сию Мою любовь, труды, подвиги, страдания, тебя ради подъятые, пренебрегаешь, и сам себя хочешь погубить, не истленным сребром или златом избавльшися от греха, диавола, смерти и ада, но честною Моею кровию (1Пет.1:19). Помяни сие, коликая, коль драгая за тебя цена дана! Кровью Моей, и смертью Моей искуплен еси. Помяни сии все Мои заслуги, которыми тебе заслужил отпущение грехов и жизнь вечную, и покайся: и тако спасешися. Се стою при дверех, и толку: аще кто услышит глас Мой и отверзет двери, вниду к нему и вечеряю с ним, и той со Мною (Откр.3:20)». О Божественного, о любезного, о сладчайшего гласа, – гласа спасения нашего ищущего! О преблагий и милосердый Иисусе, милостивый наш Искупитель! Не отступи от нас грешных, ихже святой Твоею кровию искупил еси, но ударяй, ударяй в двери каменных сердец наших, ударяй крепко пресладким и спасительным гласом Твоим, да от глубокого сна пробудимся и услышим пресладкий и прелюбезный глас Твой; яко глас Твой сладок и образ Твой красен; и тако начнём сами просити, искати и толкати, толкати в двери милосердия Твоего (Мф.7:7–8).
Зовёт нас Господь на покаяние через пророков и апостолов, яко посланников Своих и рабов, которых как бы вслед нас посылает, и через них обращает нас к Себе, которые увещавают нас и молят: по Христе убо молим, яко Богу молящу нами молим по Христе, примиритеся с Богом. И паки: обратитеся и отвержитеся от всех нечестий ваших, и будут вам неправды в мучение; отвержите от себе вся нечестия ваша, имиже нечествовасте ко Мне, и сотворите себе сердце ново и дух новь, и сотворите вся заповеди Моя (Иез.18:30–31). Тако, якоже видиши зде, и в прочих Писания местах через гласы пророческие и апостольские обращает Бог грешника и призывает к покаянию!
Зовёт нас Господь через обещание временных и вечных благ, которыми, как отец чадолюбивый отроча малое яблоком, к себе привлекает, да тако благами возбудимся и обратимся к Нему: о чём в пророческих книгах и апостольских посланиях довольно находим. Тако призывает нас к Себе Христос и обещает пресладкий покой душам нашим: Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы. Возьмите иго Мое на себе, и научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим. Как бы сказал: о бедные и утруждённые суетами грешники! Полно вам трудить себя и обременять замыслами, начинаниями, тщаниями, попечениями и печальми житейскими. Нигде вы не сыщите истинного покоя и блаженства, кроме Меня. К чему вы ни обратитеся, никакой истинной себе пользы от того не сыщете. Везде вас, кроме Меня, сретает истинная беда и зло. Богатство, честь, слава и сласть мира сего, которых ищете, более вас обременят, нежели облегчат, более утрудят, нежели упокоют... Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы. – Сего благоприятного и сладкого гласа не должно нам, грешниче, преслушать, но обратиться и приити к милостивому Искупителю нашему, да обрящем покой душам нашим.
Зовёт нас к себе Господь делами милосердия, которые вменяет Себе самому и обещает за них великую милость Свою во временной и вечной жизни. Настоящий светлый Христов праздник ничем не можем столь достойно почтить, как делами любви, без которых ни посты, ни молитвы и ничто не угодно Богу. Святой апостол Павел говорит о сем так: Аще языки человеческими глаголю и ангельскими, любве же не имам, бых яко медь звенящи, или кимвал звучаяй: И аще имам пророчества, и вем тайны вся и весь разум, и аще имам всю веру, яко и горы преставляти, любве же не имам, ничтоже есмь. И аще раздам вся имения моя (не ради любви), и аще предам тело мое, во еже сожещи е, любве же не имам, никая польза ми есть (1Кор.13:1–3).
Сколь приятная Богу взаимная наша любовь, это видно из многих евангельских изречений: о сем разумеют вси, яко Мои ученицы есте, аще любовь имате между собою (Ин.13:35). Любяй брата своего во свете пребывает, и соблазна в нем несть; а ненавидяй брата своего во тме есть, и во тме ходит, и не весть камо идет, яко тма ослепи очи ему (1Ин.2:10–11); а о человеконенавистниках святой евангелист произнёс сии страшные слова: всяк ненавидяй брата своего человекоубийца есть (1Ин.3:15).
При произшедшей ссоре с кем-либо всеми мерами должно стараться о скорейшем примирении, памятуя слово апостольское: солнце да не зайдет во гневе вашем (Еф.4:26). Надежнейшее средство к достижению примирения: смирение и к Богу усердная молитва, коей отгоняется от враждующих дух злобы. Сила молитвы и смирения столь велика, что ей как бы невольно покоряется враждующий и примиряется с ближним, даже самые злобные враги сим побеждаются. Если будем благодушно прощать обидящим нас, то и нам простит Господь согрешения наши, как ежедневно повторяем мы в молитве Господней: и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. Господь явил нам образ совершенного незлобия в молитве за распинателей Своих, и мы, подражая сему, должны искренно молить Бога о ненавидящих и обидящих нас, хотя в начале таковая молитва бывает очень трудна, но впоследствии она делается утешительной; при всём том должны извинять им, стараться оправдать их, относя это более к свойственной человеку немощи, должны искать примирения с ними, через посредство своих услуг оказывая им добро, внимая божественному апостольскому учению: Не побежден бывай от зла, но побеждай благим злое (Рим.12:21). Не дивно, когда виновный ищет примирения, но то достохвально и Богу приятно, когда оскорблённый первый тщится о сем, на таковом сбывается слово Евангельское: блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся (Мф.5:9).
Когда видим больного, то не упрекаем его, а состраждем ему, желаем облегчения, даём добрые советы:, так должно поступать в отношении и душевно больных, одержимых раздражительностью или какой иной немощью, не должно за оскорбление оскорблением платить им, а снисходить им, сожалеть о них как о немощных, тогда взаимно и нам в наших немощах будут тоже оказывать, и таким образом исполнится на нас слово апостольское: Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов (Гал.6:2). Господь, как Творец наш, зная немощи наши, даровал нам и врачевства надлежащие. Если бы мы послушны были воле Божией, то жили б не на земле, а в раю, блаженство наше состояло бы во взаимной любви.
Кто не желает ближнему спасения и даже радуется погибели его, таковой хуже демона, коему, как духу злобы, свойственно желание это, но человеку оно непростительно, такой уже не Христов ученик, а предатель Его, ибо Господь всё, делаемое человеком человеку, вменяет Себе самому, а потому не желай ближнему, чего себе не желаешь, этим докажешь истинную к нему любовь. Если хочешь одержать победу над врагом своим, окажи ему любовь и возможную благотворительность, тем самым посрамишь духа злобы и послужишь спасению брата, а наипаче своему. Как соль уничтожает гнилость в съестных продуктах или огонь выжигает ржавчину из металлов, так любовь искореняет из сердца человеческого злобу.
Кто любит ближнего своего, тот несомненно и Бога любит, а кто мнит, что он любит Бога, а ненавидит ближнего, ложь есть. Истинная любовь состоит в делах милосердия; видишь ты бедного, погибающего от нужды, помоги ему, чем можешь, от тех, кто много не имеет, Господь многого не требует, а чтобы было от искреннего сердца по возможности твоей; но кого Бог благословил достатком, тот достаточно и помогать обязан. Видишь кого в скорби неутешной, или болезни, или иной беде, утешь его, утешит и тебя Господь; ищи случая быть полезным кому чем и как можешь, отирай слёзы плачущих, и твои слёзы отрёт Господь, молись Ему о страждущих, и твои страдания утолит Он Всеблагий; не осуждай согрешающих, и тебя не осудит Праведный Судия, насыть алчущего и жаждущего, сподобишься и ты небесной трапезы в царствии Божием; посети больного, скорбного, и тебя утешит Господь Святого Духа пришествием.
Где любовь, там и благословение Божие, а где нет её, там тьма и мрак греховный, там жилище бесов злобных. Любовь надёжнейшее средство к спасению души. Если мы, как немощные, не можем долго поститься и молиться, и совершать иные подвиги добродетелей, то восполним это любовью.
Из всех дел милосердия Господу приятнейшее и нам спасительнейшее, если кто обратит грешника от пути беззакония на путь спасения, таковому простит Господь множество согрешений его; в сем удостоверяют нас слова апостольские: Братие, аще кто в вас заблудит от пути истины, и обратит кто его, да весть, яко обративый грешника от заблуждения пути его спасет душу свою от смерти, и покрыет множество грехов (Иак.5:19–20). Но кто совратит кого на путь нечестия, такового ожидает геенна огненная.
Видим мы из святого Евангелия, что в великий день всемирного суда Божия, когда решится участь каждого из нас, особенно благословения Божия сподобятся те только, которые милосерды были к ближним своим; они удостоены будут от Бога высокой чести; в великий тот день перед всеми горними силами, перед всеми святыми и перед всей вселенной они наречены будут сынами света, благословенными Отца Небесного, наследниками уготованного им царствия от сложения мира (Мф.25:34).
Святой Ефрем Сирин так ублажает имеющих неоценённый дар любви: блажен человек, говорит он, в котором есть любовь Божия, потому что нашёл он себе Бога; Бог любы есть, и пребываяй в любви в Бозе пребывает, и Бог в нем пребывает (1Ин.4:16). В ком любовь, тот вместе с Богом превыше всего, в ком любовь, тот не боится, потому что совершенная любовь вон изгоняет страх, как говорит святой апостол (1Ин.4:18); в ком любовь, тот никем никогда не гнушается, вся уповает, вся терпит (1Кор.13:7). В ком любовь, тот исполняет волю Божию, тот ученик Божий, ибо сам Благий Владыка наш сказал: о сем разумеют вси, яко Мои ученицы есте, аще любовь имате между собою (Ин.13:35). Посему блажен, кто приобрёл любовь, а с нею переселился к Богу, потому что Бог знает Своих, и приимет их на лоно Своё. Делатель любви будет сожителем ангелов и со Христом воцарится47. Есть предание о святом евангелисте Иоанне Богослове, что сей Апостол любви, находясь уже в глубокой старости, непрестанно говорил: чадца, любите друг друга. Когда его спросили, почему он непрестанно напоминает сию заповедь, то он отвечал, если кто исполняет её, то достаточно одной её для спасения48.
Какое необычайное чудо! Кто имеет нелицемерную любовь, тот исполняет весь закон, потому что исполнение закона любы есть (Рим.13:10). О несравненная сила любви! Ничего нет драгоценнее любви ни на небе, ни на земле.
В дни наступившего великого праздника хорошо размышлять о дивном милосердии Божием, излитом на род человеческий. Господь столько возлюбил нас, что самого Себя принёс в жертву ради спасения нашего. Где есть подобный пример, чтобы кто-либо ради спасения других претерпел страшные мучения и лютейшую смерть? Это событие беспримерно в летописях рода человеческого, – в нём проявилась такая любовь Божия к нам, которую мы даже и постичь не можем... Если кто благодетельствует нам, то мы, без сомнения, стараемся быть благодарны, – это наш долг. Чем же должна выражаться благодарность к избавившему нас от вечного мучения и пожертвовавшему ради этого Собой всецело? – Любовью к ближним нашим. Заповедь новую даю вам, сказал Господь, да любите друг друга: якоже возлюбих вы, да и вы любите себе (Ин.13:34). Итак, возлюбленнии, аще сице возлюбил нас есть Бог, и мы должны есмы друг друга любити. Аще кто речет, яко люблю Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть (1Ин.4:11, 20). Следовательно, мы должны любить всех, не осуждать никого, прощать всем, да и нам простит Господь, и помогать всем, кому как и чем можем.
Итак, поспешим утешить скорбящих, одеть раздетых, накормить голодающих, напоить жаждущих; не будем ожидать, пока они придут к нам, но поспешим сами отыскать их с таким же усердием, с каким отыскиваем земные блага; отрём слёзы плачущих, и нас утешит Господь, и мы будем истинно праздновать пресветлый Христов праздник, – к нам тогда приложится благое обетование Божие: «блажени милостивии, яко тии помиловани будут». Воистину милостивые блаженны, и блаженству их не будет конца.
Ныне мы, грешные, стали слабы, мало постимся, мало молимся; единственная и самая верная надежда спасения остаётся нам – это добрые дела. Итак, поспешим на помощь бедствующим собратиям нашим и обрадуем воскресшего Спасителя нашего, вменяющего Себе самому всякое оказываемое нами ближним благотворение, через что да сподобимся вечной на небесах радости, в сравнении с которой все наши земные радости – как тьма ночная против пресветлого солнечного сияния.
И.А.
Моление ко Господу Иисусу Воскресшему
Слава Тебе, Создателю и Искупителю нашему, сподобившему нас грешных прейти поприще честного поста и, поклонившись живоносному гробу Твоему, сретить светоносное утро преславного из мёртвых восстания Твоего. Ты, Всеблагий, всемощным словом Твоим воздвиг из гроба тридневного Лазаря, Ты державой Твоей попрал смерть и извёл из ада от века заключённых в нём, тако разреши и наши убогие души от уз греховных, коими крепко одержимы они. Мы, как оный Лазарь, лежим связанные по рукам и ногам лютыми страстями нашими; молим Тя, изведи нас из тьмы греховной в Твой чудный свет. О, Всеблагий! Кто возможет исчести Твои неисчётные щедроты, излитые на грешных и неблагодарных рабов Твоих? Ты сотворил нас по образу и по подобию Своему, Ты воплотился нас ради и искупил нас от законной клятвы честной Своей кровью. Ты падших нас восстановил, омрачённых просветил, заблудших на путь правый наставил, неразумных вразумил, скорбных утешил, немощных укрепил. Сподоби, Многомилостиве Господи, да отселе положим начало жития благого, Тебе угодного; да благодатью Твоей просвещаемии и укрепляемии, познаем суету и лесть века сего, да памятуем во вся дни, яко странники есмы и пришельцы в мире сем; да мудрствуем горняя, да возгорится в сердцах наших божественный огнь небесной любви Твоея, и по прешествии от многосуетной жизни сей, да сподобимся в лике всех угодивших Тебе вечно славить и благословлять и прославлять Бога, в Троице Святой поклоняемого, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Замечательное сновидение
В 1871 году состоявший в певческом хоре А.Я., прожив не более 24-х лет, умер от эпидемической холеры. Через девять дней после смерти, именно утром 16 июля, явился он мне во сне.
На нём был знакомый мне сюртук, только удлиневший до пят. В момент явления ко мне Я-ва сидел я у стола гостиной своей, а он вошёл из залы довольно скорым шагом, как это и всегда бывало. Показав знаки уважения ко мне, приблизился он к столу, и, не сказав ни слова, начал высыпать на стол из под жилета медные деньги с малой примесью серебряной, очень истёртой монеты.
С изумлением спросил я: «Что это значит?» Он отвечал: «На уплату долга»49.
Это меня очень поразило, и я неоднократно повторил: «Нет, нет, не нужны твои деньги, сам заплачу твой долг».
При словах сих Я-в с осторожностью сказал мне: «Говорите потише, чтоб не слыхали другие».
На выраженную же мною готовность уплатить за него долг он не возражал, а деньги не укоснил сгрести рукой со стола. Но куда положил он их, не удалось мне заметить, а кажется они тут же исчезли.
Затем, вставши со стула, я обратился к Я-ву с вопросом: «Где находишься ты, отошедши от нас?»
Ответ. Как бы в заключённом замке.
Вопрос. Имеете ли вы какое-либо сближение с ангелами?
Ответ. Для ангелов мы чужды.
Вопрос. А к Богу какое имеете отношение?
Ответ. Об этом после когда-нибудь скажу.
Вопрос. Не в одном ли месте с тобой Миша50?
Ответ. Не в одном.
Вопрос. Кто же с тобой?
Ответ. Всякий сброд.
Вопрос. Имеете ли вы какое развлечение?
Ответ. Никакого. У нас даже звуки не слышатся никогда; ибо духи не говорят между собой.
Вопрос. А пища какая-либо есть у духов?
Ответ. Ни-ни... Звуки эти произнесены были с явным неудовольствием и, конечно, по причине неуместности вопроса.
Вопрос. Ты же как чувствуешь себя?
Ответ. Я тоскую.
Вопрос. Чем же этому помочь?
Ответ. Молитесь за меня: вот до ныне не совершаются заупокойные обо мне литургии.
При словах сих душа моя возмутилась, и я стал перед покойником извиняться, что не заказал сорокоуста; но что непременно сделаю. Последние слова видимо успокоили собеседника.
За сим он просил благословения, чтоб идти в путь свой. При этом я спросил его: нужно ли испрашивать у кого-либо дозволения на отлучку? Ответ заключался в одном слове: да. И слово сие произнесено было протяжно, уныло и как бы по принуждению.
Тут он вторично попросил благословения, и я благословил его, знаменуя большим крестом, с произнесением следующих слов:
«Благословит тя Господь от Сиона, живый во Иерусалиме, отныне и до века».
Надобно заметить, что слова сии вовсе необычны для меня, и только во сне уста произнесли их.
Однако ж Я-в не удовольствовался сим благословением, ибо оно произнеслось в тот момент, когда он занят был застёгиванием пуговиц и вообще поправкой одежды, чтобы идти в путь. И так просьба благословения, с простертием рук для его принятия, ещё раз повторена была, и я в последний раз благословил его, произнеся:
«Буди благословен во веки, во имя Отца и Сына и Святого Духа».
Я-в сильно прижал руку мою к устам своим; ему не хотелось выпустить её. Сочувствуя ему, я облобызал его отеческим лобзанием, вполне сознавая, что он есть гость, пришедший ко мне из другого мира. И тут стал я вглядываться в него и, вглядевшись пристально, увидел неизменные знакомые мне черты. Только белизна и утончённость изменяли прежний тип. К тому же пот в виде росы покрывал лицо; а глаза при яркости своей выражали утомление и упадок сил душевных.
Вышел он от меня дверью, обращённой к Туговой горе, на которой покоится прах его. За ним следил я с чувством глубокой скорби и с пламенным желанием видеть след его. И что ж? Сверх всякого чаяния очутился я на горном хребте, разделённом надвое. С высоты хребта, в глубине расселины, увидел я тот самый замок, о котором вспоминал Я-в.
Замок имел форму параллелограмма. Из четырёх стен его только в одной, к югу обращённой, замечен мною малый просвет, да и тот с железной решёткой. Кроме сего единственного просвета, стены представляли сплошную каменную массу без окон, дверей и даже без кровли. Последнее обстоятельство дало мне возможность видеть, хотя сквозь полумрак, внутренность замка и совершающееся в нём. Особенно благоприятствовало мне положение моё на окраине горы, поднимавшейся гораздо выше стен. Казалось, что взор мой досязал до самого дна. Но, вглядываясь пристально, я замечал в глубине только мрак, движущийся наподобие чёрных облаков или волн; но проявления жизни и определённых форм тут ни следа не было. Наконец душа моя возмутилась: я видел Я-ва, за несколько перед сим минут посетившего меня. Местом же для Него служил угол здания, обращённый к северо-востоку. Он сидел с поникшей головой и поджатыми ногами, а руки сложены были на крест. Одежда же его заключалась в сорочке, проявлявшей белизну даже сквозь мрак. Белизна эта среди господствующего всюду хаоса показалась мне чрезвычайным явлением, и у меня родилась мысль, что положение Я-на не безотрадно, и он имеет некий почёт сравнительно с прочими узилища сего заключенцами. Недвижимость же Я-ва дала мне такой вопрос: ужели душам умерших воспрещено всякое движение и всякая перемена позиций? И когда таким образом мысль моя и взор будто магнитом влеклись к Я-ву, какой-то почтенной наружности человек, неведомо как и откуда очутившийся позади меня и стоявший на некотором возвышении, обратил внимание моё в противоположную сторону. Я заметил, что южная стена на небольшом протяжении, в части примыкающей к просвету, медлительно и грозно приподнимается; вслед за тем в основании стены на месте подъёма или точнее зева показался на мгновение свет; а внутри вертепа произошло колебание мрака с ощутительным движением воздуха. А ещё минута, и всё пришло в прежний порядок. Как ни велико было в эту пору смущение моё, но всё-таки я старался разгадать причину совершившегося предо мной явления.
Благодаря таинственному незнакомцу томился я недолго. Со стороны его донеслись ко мне ответные на мысль мою слова: «Это знак прихода новой пресельницы». Обратясь спешно в ту сторону, внимательным взором искал я человека, который рисовался уже в воображении моём ангелом, свыше посланным; но поиск не привёл меня ни к чему. Я видел перед собой лишь безжизненную и страшную пустыню.
Картина эта, с рядом предшествующих явлений, до глубины возмутила душу мою, и я проснулся. Я тут же взялся за перо, чтоб виденное передать письмени с возможной верностью.
Архиепископ Нил
Ожившая покойница – вестница из загробного мира
Харьковская помещица Ц... жила благочестиво, но была небогата и скорбела, что имела малые средства, и как-то ей вообще всё плохо удавалось. Похворавши она померла.
Семейные её желали, чтоб отпевание её совершено было духовником её, но он жил неблизко, почему прошло несколько дней, пока он мог прибыть. – К удивлению всех, умершая лежала в гробу, как живая, так что её не решались хоронить. Наконец по прошествии 9 дней предложено было предать её земле. Накануне дня, назначенного для погребения, вечером, умершая явственно произнесла: верую Господи и исповедую, яко Ты воистину Христос и прочая. Окружавшие её перепугались. Мнимоумершая ожила и вот, что рассказала: «Когда душа моя оставила тело, она понеслась в какое-то беспредельное пространство, и вдруг громовой голос поразил мой слух: Ты желала богатства и довольства в сей жизни, не верила словам Моим, что удобее вельбуду сквозь иглины уши проити, нежели богату в царствие небесное внити; смотри, что же тебе осталось от богатства? Для чего ты не умела терпеть? Какого бы ты блаженства удостоилась!.. И не верила, чтобы твои грехи равнялись числу песчинок морских (она на этой мысли что-то остановилась), смотри же сама сюда. Вдруг предо мной, – говорила ожившая, – открылись все грехи жизни моей. Ужаснувшись их бесчисленности, я начала просить возвратиться к жизни; но ужасный голос отвечал: В таком-то году такая-то душа просила того же самого и не получила (это была моя мать); в таком-то году такая-то душа просила того же самого и не получила (это была моя сестра); но ты возвратишься к жизни, верь словам Моим. Тогда явилась мне женщина, которой лицо сияло необыкновенным светом, так что я не могла смотреть. Она сказала мне: смотри радость праведников. И я увидела ликование неизъяснимое. Смотри же и участь грешников, продолжала она. И услышала я такой вопль, такой стон, что описать невозможно. – Взгляни теперь на место, тебе приготовленное (оно было неизъяснимо прекрасно), если ты будешь оного достойна; старайся не потерять его. Если будешь жить осторожно, Сама приду за тобой и введу тебя в этот покой».
«После этого я закричала: верую Господи и исповедую, яко Ты еси воистину Христос и прочая, и с сими словами опомнилась».
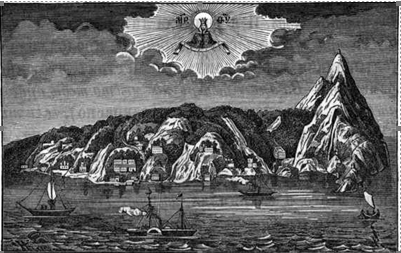
Святая Гора Афон, земной удел Божией Матери
Тако глаголет Господь: яко будет в последняя дни явлена
гора Господня, и дом Божий на версе гор, и возвысится
превыше холмов: и приидут к ней вси язы́цы. И пойдут
языцы мнози и рекут: приидите, и взыдем на гору
Господню и в дом Бога Иаковля, и возвестит
нам путь Свой, и пойдем по нему (Ис.2:2, 3).
В полуденном краю Европы, под ясно голубым небом Греции, в благорастворённейшем климате, среди вечно зеленеющей природы лежит уединённо небольшой полуостров: это знаменитый Афон, или святая Афонская гора. По географическому положению своему она, находясь у восточных берегов Македонии, в пределах Турецкой империи, выдаётся далёким мысом в воды архипелага или Эгейского моря.
В древности гора эта имела вид острова, будучи отрезана от материка каналом, прорытым через перешеек персидским царём Ксерксом во время войны его с Грецией в видах более удобных сообщений персидского флота; но впоследствии искусственный канал завален, и теперь едва только заметен след его. Пространство Афонской горы – до 80 вёрст в длину и около 20 вёрст в ширину; а высота горных вершин, нередко покрытых туманом, более 2-х вёрст над уровнем моря. По середине Афона тянется узкий хребет, по которому пролегает дорога. По обеим сторонам этого хребта вся местность святой горы изрыта бесчисленными потоками и оврагами, которые, пересекая друг друга в различных направлениях, представляют взорам путешественников самые разнообразные виды, но зато самое путешествие делают очень трудным. Почва святой горы камениста и суха, лишь с редкими потоками, животворно орошающими её, и только при подошвах гор находятся небольшие участки плодородной земли, возделываемые трудами иноков, образовавшиеся из наносов окрестных горных кряжей, химически разлагающихся от дождя, солнца и воздуха. Климат на святой горе здоровый, освежаемый от знойных лучей полуденного солнца влажным дыханием окрестного моря. Горные вершины, задерживая и сгущая около себя поднимающиеся к ним морские испарения, обращают их или в быстрые нагорные потоки прозрачной воды, или в освежающие землю и воздух дожди. Снег появляется там зимой на несколько лишь дней и только на самых высях Афона держится дольше. Растительность горы разнообразна, но не обильна: каменистая почва даёт мало пищи для трав и деревьев, только на одной половине горного хребта афонского растёт строевой лес, на другой же половине хребта растительность самая скудная; по местам растёт кустарник, но к концу горы и того нет; лишь на покатостях и отлогостях в изобилии растёт лавровое и камарнёвое (ложечное) дерево, да плющ, лоснящейся своей зеленью пышно прикрывает наготу скал. У подошвы же гор, вокруг келлий, виднеются ореховые, смоковничные, масличные, каштановые, кипарисовые и разные фруктовые деревья, виноградные лозы и огороды с овощами, разведённые трудами пустынников.
При скудной по горам растительности не могут расплодиться на них и дикие звери, даже насекомые и птицы. Изредка лишь мелькнёт кое-где между голых скал одинокая дикая коза или в стремнине появится пара бродячих кабанов, да разве в лесистом ущелии пробежит робкая, издалека загнанная лань и внизу нагорных высей покажутся пасущиеся на тощих пастбищах вокруг келлий монастырские рабочие волы и мулы. Хищным зверям поживиться там нечем, а потому их и не видно. Насекомые, по необилию цветов и зелени, а также по редкости остатков разлагающихся растительных и животных организмов, необходимых для их питания и размножения, не нарушают мира святой горы; хотя и есть там пчеловодство, но оно незначительно. Из пустынных птиц есть на Афоне орлы, вороны, филины, совы и сычи, но они очень редки; мелкие же птички, не находя себе обычной пищи, неохотно водятся на неприветливой для них святой горе, и только келлиотские петухи остаются почти единственными представителями тамошнего царства пернатых; весной прилетают на святую гору множество соловьёв, которые оглашают её своим весёлым пением; да ласточки каждый год посещают её во множестве. Размножения скотоводства там нет, ибо, по уставам святой горы, самкам всякого рода животных быть там не следует. Живой голос на Афоне слышится редко; везде тихо и безмолвно! Ни рёв зверей, ни мычание и блеяние стад, ничто подобное не нарушает глубокого безмолвия афонской природы! Разве только ветер изредка просвистит в горных ущельях или прошелестит в листьях деревьев и рощей, – и снова водворится повсюду безмолвие. Одно лишь неугомонное море глухо и однообразно шумит у прибрежьев.
Условия скудной почвы и растительности, а главное воля Божия не дали возможности водвориться на Афоне житейской деятельности. В глубокой древности пытались образовать там города и сёла; но попытки были тщетны: земледельческие селения скоро пустели, и колонизация не удавалась. Святой Афон по его красотам, уединению и безмолвию, располагающим к глубоким созерцаниям природы и к благоговейным размышлениям о Творце её, самим Промыслом Божиим назначен для иной, высшей, духовной жизни.
В языческой древности святая гора известна была под именем Аполлониады; это название дано было ей по Аполлонову капищу, находившемуся на ней и составлявшему предмет эллинского почитания. А ближе к нашей христианской эре её назвали уже Афосом, или Афоном, по имени тоже какого-то языческого прорицалища Афоса, к которому язычники окрестных стран стекались для получения оракульских ответов касательно сердечных своих тайн и даже самой жизни. Есть предание, что Карея51 с её окрестностями в языческом мире известна была под именем Пентаполя, или Пятиградия, где будто бы Александр Македонский отдыхал три дня в промежуток своих побед и ратных подвигов и что некоторые из греческих мудрецов приходили искать здесь уединения, необходимого для глубоких размышлений их. Всё это доказывает, что святая гора и в отдалённые от нас века язычества пользовалась особенным уважением и славой, как по своим прорицалищам, так и по удобствам к безмятежной жизни, глубоким размышлениям и созерцаниям таинств природы. Наконец миновали тёмные века языческих заблуждений; свет евангельской истины в числе других мест озарил и Афон; суеверные капища его заменились святыми храмами истинного Бога, а языческие игрища и ликования – молитвенным трудом, крестными лишениями и духовными песнопениями!
Преблагословенная Матерь Божия благоволила Сама просветить христианским учением языческих насельников святой горы! Когда по сошествии Святого Духа апостолы бросили жребий – кому в какую сторону идти проповедовать святое Евангелие, бывшая с ними Божия Матерь благоволила также принять участие в трудах их, пожелала взять жребий и для Себя: Ей досталась земля Иверская (Грузия), куда Она и хотела уже отравиться. Но Ангел Господень явился и сказал Ей: «Не отлучайся из Иерусалима: страна, доставшаяся Тебе по жребию, просветится впоследствии, и там утвердится покров Твой; а предприимешь Ты теперь попечение о другой земле, куда приведёт Тебя Господь Бог». И Богоматерь осталась в Иерусалиме, в доме возлюбленного ученика Христова Иоанна.
Воскрешённый Иисусом Христом Лазарь, бывший тогда епископом на острове Кипре, желал видеть пречистую Матерь Господа своего, но не смел сам прибыть в Иерусалим, страшась гонения иудеев. Узнав об этом, Пресвятая Богородица написала к нему утешительное послание, чтобы он прислал за Нею корабль, на котором Она для посещения его и отправилась с Иоанном Богословом на остров Кипр; но на пути застала их буря, и корабль занесён был в пристань горы Афонской. Гора Афонская, как выше сказано, в то время усеяна была кумирами и капищами, во главе которых был храм Аполлона. Едва только Богоматерь приблизилась к Афону, бесы, обитавшие в кумирах, возопили: «Все обольщённые Аполлоном, спешите на берег к пристани Климентовой и приимите Марию, Матерь великого Бога Иисуса»!
Народ в ужасе и удивлении поспешил на морской берег, с благоговением и страхом принял пречистую Деву Богородицу и вопросил Её, как от Неё родился Бог и какое имя Его? Богородица возвестила им тайну рождества Христова и раскрыла евангельское о Нём учение; внимавший Ей народ принял христианскую веру и, познав свет истины, ниспроверг своих идолов. Тогда Богородица оставила одного из апостольских мужей учителем новопросвещённых, благословила народ и сказала: «Вот удел, данный Мне Сыном и Богом Моим! Да будет же благодать Его над местом сим и всеми чтущими закон Его! Они с малым трудом будут иметь в изобилии всё нужное для земной жизни. Милость Сына Моего не оскудеет на месте сем до скончания века; о живущих здесь Я буду тёплой предстательницей пред Сыном Моим»52! Потом Богородица, сопровождаемая народом, села на корабль, посетила Лазаря и возвратилась в Иерусалим.
Несмотря на все политические перевороты и четырёхвековое мусульманское иго, тяготеющее над Востоком, Афон остался непоколебимым хранилищем православной веры и, как говорит его предание, останется до скончания мира уделом иноков. На Афоне обитают одни лишь православные иноки; это факт достойный замечания!
Лиц женского пола там никогда не бывает. Есть предание, что в 382 году дочь Феодосия Великого царица Плакидия желала посетить устроенный её отцом на святом Афоне Ватопедский монастырь, но при входе в него услышала глас Божией Матери, возбранявший ей вступать в обитель. С того времени афонские отцы законоположили, чтобы женский пол не имел входа на святую гору. На Афон нередко приходили и царственные лица после треволнений и превратностей мирской жизни искать там сердечного мира и тишины под скромным иноческим образом. Случалось также, как случается и ныне, что патриархи и епископы, слагая с себя иерархическое достоинство и бремя власти, иногда явно, а иногда и тайно, предавались всей строгости крестных иноческих подвигов, так что один только Бог ведал труды их. Особенно в смутное время падения Восточной империи, когда вселенский патриарший престол был предметом честолюбивых искательств и корысти при влиянии на него деспотизма Порты53, святая гора была тихим убежищем для вселенских владык. Святой патриарх Григорий, мученически скончавшийся, двукратно удалялся на Афонскую гору с обетом безмолвия и, оставляя святительский свой престол, уединялся здесь как один из смиренных иноков. На Афоне в настоящее время двадцать монастырей: из них 12 общежительных и 8 штатных; 12 скитов, до 600 отшельнических келлий и калив и до 7000 всех иноков.
Для управления всем Афоном в Карее, средоточии горы, существует Протат, или Святой Синод, состоящий из доверенных от монастырей старцев.
Жизнь в штатных монастырях свободнее, чем в общежительных: там каждый из зажиточных старцев живёт по собственному усмотрению, но меньшее братство постоянно находится в трудах.
Жизнь в келлиях, или так называемая келлиотская, несколько строже, чем в штатных монастырях; впрочем, она делится на два рода: на отшельническую и свободную. В келлиотах-отшельниках нередко можно видеть примеры строгого воздержания, изумительных телесных трудов и безмолвия, почти как и в высшем отшельничестве; но келлиоты свободные живут, как кто желает: у них мало заметно подвижничества, исключая некоторые келлии, управляемые мудрыми, строгой духовной жизни старцами.
Некоторые келлии усвоили себе название скитов или пустынь, но права они имеют такие же, как и прочие келлии. Все русские иноки, живущие на Афоне, содержатся милостынными из России подаяниями и долгом своим считают поминать благотворителей; в монастырях устроены синодики для вечного поминовения, а в келлиях совершается поминовение до того времени, пока они существуют, ибо по смерти обитающих в них старцев и учеников келлии делаются собственностью тех монастырей, на земле коих они находятся. Все подобные келлии принадлежат греческим монастырям.
Затем поговорим об общежительных монастырях или киновиях, оставленных нами к концу последовательного рассказа в тех видах, что они требуют довольно обширного изложения их устава и управлений. Монастыри эти заслуживают предпочтение перед всеми прочими обителями; даже иноки штатных монастырей отзываются о них с уважением, хотя сами привыкли давать большой простор своей воле и не следуют примеру их. Общежительные монастыри или киновии, к числу коих принадлежит и русский Пантелеимонов монастырь, управляются каждый своим настоятелем или собором избранных старцев. Братия имеют к властям своим полное повиновение и свято чтут их волю. Там господствует патриархальная простота и взаимная любовь, и каждый из братии имеет одинаковые права с другими, без особых почестей и отличий; предпочтение оказывается лишь тем, которые проводят более строгую подвижническую жизнь, но и они, по смирению своему, уклоняются от всяких наружных знаков уважения. В монастырях этого рода отражается самый близкий и действительный образ жизни апостольских времён, проявляется истинный дух Христова учения. Слово игумена принимается здесь за изъявление воли Господней: что ни сказал бы он, что ни повелел бы делать, – братия исполняет приказание его беспрекословно, не дозволяя себе ни малейших противоречий. Для человека, привыкшего жить по своей воле и руководиться своим умом, подобное подчинение составляет подвиг трудный. Одежда, трапеза, помещение и прочее в общежитиях для всех одинаковы. При каждой встрече с игуменом, кто бы он ни был из братий, иеромонах или схимонах, все падают ему в ноги и, почтительно приемля благословение, целуют его руку. Каждый день перед началом литургии служащий иеромонах идёт к игумену для получения благословения и испрошения его святых молитв на достойное и неосуждённое предстояние престолу Божию. Таким же точно образом поступают и в других случаях, требующих молитв игумена и благословения. Святой Пимен великий справедливо сказал одному брату, желавшему вступить в общежитие: «Там ты и кувшином не можешь распорядиться по своей воле!» Так строго законоположение общежития, в основание которого положено глубокое смирение!
Что касается до употребления пищи, то в общежитии более умеренности, чем строгого воздержания, потому что последнее иногда несовместно бывает с тяжёлыми трудами и монастырскими работами.
Скиты отличаются от монастырей большей строгостью уединения и воздержания в пище; там, кроме субботы, воскресения и великих праздников, не разрешается ни на рыбу, ни на масло, и даже сухоядение ограничено до такой степени, что и хлеб некоторыми употребляется с весу. Но не все скиты имеют одинаковые уставы; в некоторых из них, как, например, в Пророко-Ильинском, Андреевском и Молдовано-Богоявленском, соблюдаются правила общежительных монастырей. Строгие скитяне шесть дней уединяются в своих келлиях, занимаясь рукоделием и молитвой. В скитах живут по большей части по два, а иногда и по три человека в отдельной келлии под наблюдением старца. На воскресные и праздничные дни безмолвники со всего скита приходят в соборный храм к совершению всенощного бдения и литургии и по окончании богослужения расходятся молча в свои уединённые келлии. В скитах этих бывает иногда общая трапеза. При некоторых из скитских келлий устроены маленькие церкви, в которых только в воскресные и праздничные дни совершаются литургии; но так как в числе скитского братства очень немного бывает иеромонахов, то для службы в этих церквах скитяне иногда приглашают соседних иеромонахов. Необходимые заботы о жизненном продовольствии вызывают иногда скитян на время из их уединения.
Некоторые подвижники удаляются от всех и живут в глубокой пустыне одиноко, посещаемые лишь изредка духовными своими отцами; питаются они дикими каштанами, желудями, кореньями, травами и изредка употребляют хлеб. Такого рода подвижников на Афоне очень много. Некоторые пустынножители каждую субботу и каждый праздник являются в монастырь для общей молитвы и приобщения святых Христовых Таин, и здесь испрашивают себе сухари и одежду; другие же из них живут при монастырских виноградниках и прочих хозяйственных заведениях, занимаются рукоделием и разными келейными работами и получают от монастыря пищу и одеяние.
Кроме этих родов иноческой жизни, есть ещё на Афоне подвижники-странники. Странничество отличается необыкновенным терпением. Бывают примеры, что странники день и ночь проводят под открытым небом, перенося все перемены воздуха, голод, холод, жажду и лишения всякого рода. Переходя по горам от места к месту, добровольные Христа ради страдальцы эти только на болезненном или смертном одре находят себе успокоение; они не заботятся, где и кто уложит в могилу многострадальное их тело; у них одна забота – спасение души. Много есть на Афоне и таких странников, которые, не имея даже необходимой одежды и насущного хлеба, в течение весны и лета при наступления сильных жаров, скитаются в прохладе горных возвышенностей, а на зиму спускаются в зеленеющие долины Афона, Крумицы и Мегали-Вигла и там уединённо проводят бурное время восточной зимы. Некоторые из них занимаются собиранием на высотах Афона так называемых неувядаемых цветков Богородицы.
Келлии на святой горе расположены на таких местах, где есть вода и некоторые другие удобства для жизни; иногда на значительное пространство бывают они окружены виноградниками, ореховыми рощами и другими фруктовыми деревьями; но есть келлии и без этих удобств, даже скудные водой, и с самой угрюмой, дикой и наводящей грусть местностью. Последние занимаются такими отшельниками, которые, оставив всё земное, кроме молитвы, богомыслия и глубокой тишины, ничего не хотят ни знать, ни видеть! Все вообще келлии на Афоне, как выше упомянуто, принадлежат монастырям и, вполне завися от них, продаются только монахам. А по смерти их и учеников их снова делаются собственностью монастырей, на земле коих построены. В центре Афона есть городок или местечко, называемое «Карея». Там живут представители всех афонских монастырей, из коих составляется духовный собор, именуемый «Протатом»: в нём рассматриваются и решаются разные монастырские дела. В архиве Протата хранится множество драгоценных актов. Каждую субботу в Карее бывает иноческий базар, куда со всей святой горы стекаются отшельники для сбыта своих рукоделий и покупки жизненных припасов.
Вот краткий очерк святого Афона и обитателей его. Крепкая вера и строгая жизнь прославила многих подвижников. Каждый монастырь, каждая малая обитель имеет чудотворные иконы и части святых мощей мучеников, подвижников, учителей, святителей и праведников, как подвизавшихся на святой горе, так живших и трудившихся в иных странах.
Веселисѧ ѡ Господѣ свѧтоименный Аѳонъ, мысленный Богородицы и красный раю: се бо въ подгорїихъ твоихъ процвѣтоша крины присноцвѣтꙋщїи и всеблагоꙋханнїи, и во ꙋдолїѧхъ и приморїихъ твоихъ древеса небомрнаѧ и благосѣннолиственнаѧ возрастоша, плоды безсмертныѧ Дꙋха приносѧщаѧ, преподобныхъ твоихъ всѣхъ ѻсвѧщенное и тѧ ѻсвѧтившее собранїе, нынѣ предлежащее къ похваленїю. Тѣмъ сꙋщїѧ въ тебѣ ѻтшельники и ѻбщежители собравши, весело празднꙋй, и благодарнѣ Владычицѣ и Назирательницѣ твоей возопїй: величаю Тѧ, Богородице, возвеличившꙋю мѧ, и подавшꙋю чадомъ моимъ отцы небесныѧ, ихже молитвами во всей жизни покрываемыѧ отъ Сына Твоего прїемлютъ велїю милость.
(Из греческой службы Святым Афонским)
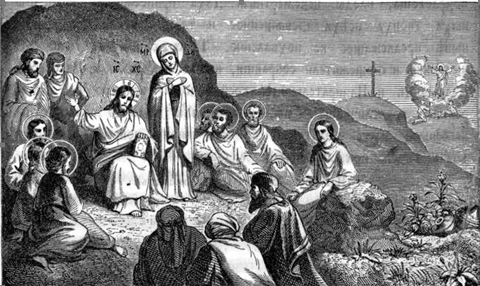
Выпуски 1879 года
I. Слово на новый год
Минувший год, вероятно, многим надолго будет памятен; война на востоке многих преждевременно уложила в могилу, многих сделала калеками, страдальцами, многих лишила отцов, мужей, братьев, детей; одна только та мысль смягчает глубокую сердечную о сем скорбь, – это несомненное упование, что пострадавшие на этой священной войне, за освобождение страждущих восточных собратий своих, павшие на поле брани или умершие от мучительных болезней, от холода, голода и иных бед, что все эти страдальцы и новые мученики – восточные христиане, теперь блаженствуют на небесах, и блаженству их не будет конца. Эта мысль отрадна и утешительна; кровью омыли они грехи свои, и теперь радость их бесконечна. Блажени яже избрал и приял еси, Господи, и память их в род и род.
Мы пережили такое время, в которое повторилось бывшее некогда жестокое на христиан гонение, и кто же ныне эти гонители? Люди, стоящие в главе европейской цивилизации! Мучители христиан, несомненно, были не более, как жестокие исполнители адских замыслов руководивших ими. Но пролитая неповинно кровь вопиет на небо об отмщении, и оно не замедлит последовать; это несомненно. Все мы, которых пощадила десница Божия в тяжкую годину испытания, должны из глубины сердечной благодарить Господа и просить, да и в прочее время жизни нашей сохранены будем от тяжких искушений, и да сподобимся провождать жизнь нашу в мире и тишине, причём не забудем о бесчисленном множестве страждущих калек – воинов, и о тысячах бесприютных семейств, оставшихся без куска насущного хлеба после смерти храбро подвизавшихся защитников наших героев – освободителей восточных собратий своих; наш священнейший долг озаботиться о них, помочь страждущим, кто как и чем может, устраивать приюты или по силе своей помогать устраивающим оные. Кто имеет достаточные средства, тот должен и помогать достаточно, а с не имеющих и Господь не потребует, таковые могут быть полезны трудами своими, словом утешения и прочим; было б наше искреннее желание делать добро ближнему, благодать Божия вразумит и укажет способы к сему.
В день страшного всемирного суда Божия, как читаем в святом Евангелии, Господь спросит нас: накормили ль мы голодавших, напоили ль жаждущих, одели ль раздетых, приютили ли странных и прочее. Блажени будут те, кои окажутся исполнителями этих евангельских добродетелей: наименует их Господь благословенными Отца Своего, наследниками Царствия Небесного; все оказанные ими благодеяния ближним вменит Господь Себе Самому. Но горе, вечное горе затыкающим уши от воплей бедствующих: и их воплей не услышит Господь, когда они преданы будут вечному мучению; жестокосердие их Господь вменит Себе Самому; не миловали они бедствующих ближних своих, и их не помилует Господь. В нюже меру мерите, – возмерится и вам, говорит слово Божие.
Если кому дано богатство, то, несомненно, не для того, чтоб лишь умножать его, а для помощи нуждающимся. Кто, благодаря Бога, имеет достаточные средства к жизни и обеспечение для семейства своего, тот обязан все излишки свои употреблять на дела милосердия, на помощь гибнущим от бедности. Нужно разыскивать бедных с таким же усердием, с каким ищут обогащения, ибо бедные, облагодетельствованные нами, будут самые надёжные проводники наши в Царствие Небесное, тогда как, если мы скопим и большие богатства, но не поделимся ими с неимущими, то будем пред Богом безответны. Многие делают посмертные распоряжения о своих капиталах, то есть духовные завещания, но та жертва несравненно приятнее Богу, которую делаем мы при жизни своей, как говорится, своими тёплыми руками; а как часто и то бывает, что желания завещателей под разными предлогами не исполняются; всё это побуждает каждого имеющего возможность делать добро не откладывать, но делать его сегодня, ибо завтра Бог весть, что ожидает нас, каждый день и даже каждый час может быть последним в нашей жизни, чему видим тысячи примеров; многие, как и мы, надеявшиеся на продолжение своей жизни, много предполагавшие, о многом мечтавшие, внезапно отозваны к Создателю своему на Его праведный суд, на коем воздастся каждому по делам его. Страшен этот переход для живущих беспечно, но кто любит Спасителя своего, исполняет Его Божественные заповеди, тот радостно переходит в вечность, ибо знает, что идёт к Отцу своему, у Которого ему будет хорошо, и так хорошо, что никаким человеческим словом это не может быть изображено.
Будем жить так, чтоб не бояться смерти, и отрадна будет жизнь наша, ибо надежда на прекрасное в будущем поможет нам терпеливо перенести все скорби, какие выпадут на нашу долю в мире этом, памятуя евангельское изречение: многими скорбьми подобает внити в Царствие Божие.
О терпении скорбей
Скорби происходят от разных неблагоприятных в жизни обстоятельств, от телесной немощи, болезней и прочего и от действия духа злобы; причины их различны: бывают они в наказание за грехи наши, и если терпеливо перенесём их, то от вечного в будущем наказания за грехи избавляемся временным наказанием; бывают скорби, ниспосылаемые от Бога для испытания терпения нашего, для большей награды нам в будущем; так было праведному Иову и многим святым.
От чего бы ни последовала скорбь, нужно принять её, как от руки Божией во спасение наше; и если кто примет её не только с преданностью воле Божией, но даже с радостью, как дар Божий (что и есть на самом деле), тогда человек и в самой скорби ощутит сладость душевную, ибо внутренний голос известит его, что скорбь эта спасительна. Итак, кто хочет легко переносить скорби, тот должен с радостью встречать их, как дорогих гостей, ниспосылаемых от Всеблагого Бога. Многими скорбьми подобает внити в Царствие Божие, – говорит святое Евангелие. А святой апостол Иаков сказал: Всяку радость имейте, братие моя, егда во искушения впадаете различна (Иак.1:2).
О покаянии
«Откуда начну плакати окаянного моего жития деяний? Кое ли положу начало, Христе, нынешнему рыданию? Но, яко благоутробен, даждь ми прегрешений оставление». В таких умилительных песнопениях Богопросвещённый составитель Великого канона живописует образ истинного покаяния, образ сердечного сокрушения, плач грешной души, вопиющей к Создателю своему. Излившиеся из глубины сердечной богомудрого творца канонов покаянные стихи заключаются смиренным к Богу молением о помиловании «Помилуй мя Боже, помилуй мя». И учитель покаяния святой царепророк, исповедуясь пред Господом, взывает к Нему в таковых сердечного сокрушения исполненных воплях кающейся души: «Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь, исцели мя, яко смятошася кости моя. Беззакония моя превзыдоша главу мою, и яко бремя тяжкое отяготеша на мне, возсмердеша и согниша раны моя (греховные) от лица безумия моего», и тому подобное. Таковой покаянный плач грешной души да возбудит и нас от греховного усыпления, да восстановит падшую душу нашу и да управит её на путь спасения, путь очищения. Святая Четыредесятница (Великий пост) время во всём году самое удобное для покаяния, а потому и должно им воспользоваться, омыться, очиститься от греховных язв, освятиться небесным даром Божественного приобщения святых Христовых Таин, дабы сподобиться достойно встретить великий день преславного Воскресения Христова.
Один из богопросвещённых современных святителей, удалившийся от сует мира сего, составил умилительные о покаянии беседы; каждое его слово, вылившееся из глубины сердца, любящего Бога и ближнего своего, дышит этим святым чувством, глубоко западает в души читающих со вниманием. Спешим поделиться этим духовным сокровищем с боголюбивыми читателями и читательницами, просим их не один раз прочитать эти прекрасные беседы, но читать их и перечитывать, тогда они глубже и глубже внедрятся в их благочестивые души, освятят их и произрастят в них богоприятные плоды спасительного покаяния.
Беседа 1-я
Печальный звон колокола зовёт нас в храм Божий, там предложена нам обильная трапеза покаяния. Благодарение Господу, сподобившему нас дожить до сего времени душеспасительного! – Помолимся, да поможет Он нам и воспользоваться им, по Его благим о нас намерениям. В сем отношении, впрочем, не находим нужным много говорить вам. Не в первый раз встречаете вы время сие, не раз слышали объяснение значения сих дней и указание того, что должно взять себе от них в урок; не раз, верно, и самым делом испытали, как проводятся они на созидание себя и как проводятся на разорение. А при этом какая нужда в пространных наставлениях? Довольно сказать: «Братие и отцы! Сотворите так, как уже знаете, как внушает вам ваша совесть и учит ваш опыт, только чтоб всё обращалось в созидание ваше и спасение душ ваших».
Есть больные, которые ездят лечиться на воды. – Как ещё издали начинают они помышлять о предстоящем путешествии и как заботливо подготовляют всё, чтоб скоро и удобно доехать до целительных вод, и сколько можно плодотворнее воспользоваться урочным временем леченья! Вот и у нас приближается свой курс спасительного врачевания душ наших, – святой пост, и мы будем здесь: и купаться в слёзных водах покаяния, и принимать внутрь многоцелебное врачевство – Тело и Кровь Господа нашего. Надобно готовиться к нему и нам, и притом, сколько душа выше тела, столько наша забота о сем должна быть сильнее и действеннее, чем у тех.
На первый раз нет нужды многим себя обременять. Позаботимся только войти в намерения матери нашей Церкви и воспроизвести в себе указываемые ею приготовительные расположения. В пост будем трудиться над очищением своей совести и исправлением своей жизни. А как успешность сих трудов зависит от умягчения сердца сокрушением, то вот святая Церковь заранее и указывает нам на сие чувство и разными способами хочет возбудить и укрепить его в нас. Притчей о мытаре и фарисее она внушает нам, что самый верный путь к сокрушению сердечному есть уничтожение в себе фарисейского самомнения и укоренение в сердце мытарева покаянного вопля: Боже, милостив буди мне грешному! – Притчей о блудном сыне она научает, что, как бы ни было глубоко чьё падение, но, если он с сердцем сокрушённым и смиренным обратится к Господу, вопия: «Несмь достоин нарещися сын Твой, приими мя, яко единого от наемник Твоих!» – будет принят в объятия Отца небесного многомилостивого. Если б чья душа оказалась слишком окаменелой и нечувственной, святая Церковь, далее, хочет сокрушить её, живописуя страшный суд. Если ж кто так свыкся с своим унизительным в грехе состоянием, что стал бы считать его настоящим своим положением и не воображая лучшего, святая Церковь воспоминает для такого падение прародителей, чтоб раздражить в сердце его скорбь о потерянном и возбудить ревность к возвращению его, приводя на мысль, как оно было велико и как потому стоит пожалеть о нём и всячески потрудиться, чтоб опять соделаться обладателем его.
Вот намерения Церкви Божией! Войдите в них и ходите по указанию попечительной матери своей! Возьмём урок у мытаря и фарисея и будем изучать его. Он короток: не надейся на свою праведность; но при всём богатстве добрых дел всю надежду спасения полагай в милости Божией, из глубины души вопия: Боже, милостив буди мне грешному!
Смотря на фарисея – укорённого, не думайте, что дела правды, благочестия, благотворительности и строгого воздержания ничего не значат пред очами Божиими. Нет! – Господь укорил фарисея не за дела, а за то, что он начал хвалиться ими, что на них одних основал всю свою надежду, забыв о грехах, от которых, конечно, не был свободен. Равно, смотря на мытаря, не подумайте, что грехи маловажны пред Богом. Нет, – Господь хвалит мытаря не за то, что он грехами своими поставил себя в такое состояние, что и на небо воззреть не был достоин; а за то, что доведши себя до сего злым произволением своим, он жалел и сокрушался о том, в одной милости Божией чая обрести себе избавление: хвалит – за этот поворот от греха ко Господу, за дух смирения и болезнования сердечного, в коем взывал: Боже, милостив буди мне грешному!
Взявши теперь истинное, от того и другого лица, мы получим такой урок: трудись и работай Господу усердно, по всей широте заповедей Его; но надежду спасения полагай – всю – в единой милости Божией. Ты никогда не дойдёшь до того, чтоб всегда и во всём быть исправным пред очами Божиими: потому при всей кажущейся исправности своей не переставай взывать из сердца: Боже, милостив буди мне грешному!
Вот урок: напечатлейте его в сердце своём! – В пособие вот что сделайте: – пробегите в мыслях коротко жизнь вашу и посмотрите, есть ли в ней грехи; грехи – словом, делом и помышлением? – О, конечно, найдётся их многое множество! – но если так; то как не взывать каждому: Боже, милостив буди мне грешному!
Соберите потом все дела свои добрые или те, кои самохвальство наше считает добрыми, – и смотрите, много ли их окажется? – Сколько могли мы и сколько должны были сделать в 365 дней года; а что сделали?! – И эту ли малость выставлять на вид, трубя: несмь, яко же прочии, особенно, когда против неё стоят беззакония, им же несть числа? – Ибо из 24 часов каждого из 365 дней сколько найдётся таких, которые не были бы отмечены чем-либо греховным?! – А сознавши это, как не взывать: Боже, милостив буди мне грешному!
Притом вся ли чиста и эта малость? На каждом ли из сих немногих дел виден отсвет славы Божией? Трудясь над ними, не себе ли и человекам угождали мы паче, нежели Богу? – А если так, то как давать им какую-либо цену, и, смотря на них, выситься в самопрельщении, говоря в себе: несмь, яко же прочии! Нет. Наведите только на дела свои необманчивое зеркало правосудия, в слове Божием начертанного, – трудно поверить, чтоб совесть не заставила каждого из вас взывать: Боже, милостив буди мне грешному!
Может статься, между вами и нет таких, которые в самохвальстве дерзостно вслух говорили бы: несмь, якоже прочии; но редкий, думаю, найдётся, который не ниспадал бы в самомнение и самочувствие, когда без слов по сердцу проходят помыслы, дающие немалое значение нашим трудам и нашей деятельности в среде других. Неправо и это чувство самодовольства! Надобно чувствовать, – и чувствовать глубоко, что мы совершенно ничего не стоим, и ни на чём своём опереться не можем. Опора у нас одна – милость Божия; а эти внутренние самохваления прогонять должно. Один святой подвижник всякий раз, как помысл говорил ему: то и то у тебя хорошо, – подозревая в сем лесть врага, отвечал: будь ты проклят с этим твоим – «хорошо». Так делал святой отец: тем паче так следует делать нам грешным.
В нравственном деле нет злее помысла, как помысл самомнения. Он прямо падает на чувство сокрушения и охлаждает его. Как огонь не может быть вместе с водой, так с чувством праведности не уживается сокрушение. Как паралич поражает органы движения, так самохваление подсекает всякое напряжение сил на добро. Как злая роса губит прекрасные цветы, так обманчивое самодовольство губит в нас всё доброе. – Изберите же, братие, благое и отрежьте злое!
В песнях церковных самодовольный фарисей сравнивается с плывущим по морю на корабле, а самоуничижённый мытарь – с плывущим на утлой ладье. Но того, говорит, потопила буря самовозношения ударом о камень гордости, а сего глубокая тишина самоуничижения и тихое веяние воздыханий покаянных, привели безопасно к пристанищу Божеского оправдания. В тех же песнях ещё фарисей сравнивается с едущим на колеснице, а мытарь – с идущим пешком. Но последний, говорит, припрягши к сокрушению смирение, упредил первого, заградившего себе путь камнями самохваления.
Слыша такие внушения, братие, умудряйтесь тако тещи, да постигнете. Пусть будут у вас море – слёзы, ладья – самоуничижение, ветры – воздыхания, а мытарев глас – все распоряжения по плаванию! – И несомненно достигнете вы в пристанище милосердия Божия и скоро вступите на берег оправдания, где вкусите сладостный покой совести по всепрощении Божием.
Да дарует сие великое благо всем нам щедродательная благодать Божия. Аминь.
II. О покаянии. Беседа 2-я
Покаяния отверзи ми двери Жизнодавче, утренюет
бо дух мой ко храму святому Твоему, храм носяй телесный
весь осквернен, но яко щедр очисти благоутробною
Твоею милостию. (Триодь Постная)
Отверзи двери покаяния!.. Кто же их затворил?! Они отверсты крестом: стоят и будут стоять отверстыми для всех людей, пока стоит мир, а для каждого из нас, пока есть дыхание Божие в нас.
Так, отверсты двери милосердия Божия, и кто затворит их?.. Но вход к сим дверям проведён через другие двери – двери сердечного болезнования и сокрушения. Надобно прежде пройти сии, чтоб потом войти в те. Возболезнуй и сокрушись – и Господь примет тебя.
Сокрушись, – а сердце не сокрушается; возболезнуй, – а оно не хочет болезновать. И вот человек, запертый в себе окаменением сердца и не имея сил совладать с собой, вопиет к милосердому Богу: покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче! Твоя дверь всегда отверста, Господи, но моя – заперта, и нет мне выхода! Моего окамененного сердца дверь отверзи мне сокрушением, чтобы мне выйти к Тебе и войти в двери милосердия Твоего!
Внемлет Господь воплю человека бедствующего и даёт ему познать, как надобно действовать на себя, чтоб отворилась дверь сердца его. Господь говорит нам: действуйте по указанию истин, возвещаемых вам евангельскими сказаниями, и достигнете того, что отверзутся наконец двери сердца вашего сокрушением. Чает Он, что, как молот тяжёлый, ударяя о камень, разбивает его и умельчает, так и истины сии, одна другой поразительнейшие, сокрушат наконец окаменение сердца нашего, извлекут из него вопли раскаяния и выжмут слёзы умиления.
Войдёмте же, братие, в намерения Божии и последуем спасительным указаниям Господа милосердого. Изменяет сердце Господь; но нам и самим надобно подвигать и нудить себя и, по крайней мере, не препятствовать воздействию в нас спасательной благодати Божией.
Притча о мытаре и фарисее указывает главное в нас препятствие к сокрушению сердца – в чувстве своей праведности и научает нас, прогнав сие чувство, установиться в расположении духа мытарева, чтобы вопиять его словом: Боже, милостив буди нам грешным! Господь выставляет двух человек и говорит как бы нам: вот, смотрите, приходят ко Мне двое: один смело приступил, уверенный в своей праведности и своих предо Мною заслугах, и не получил оправдания; а другой и воззреть на Меня не мог, но только бил себя в перси и просил милости, – и Я помиловал его. Идите и вы творите так же. Сбросьте эту пагубную одежду самооправдания, облекитесь во вретище самоукорения – и будете помилованы.
Самодовольство и самооправдание – это самая пагубная прелесть, в которой враг успевает задерживать очень многих, и не совсем худых людей. Прелесть сия ноги подкашивает и останавливает шествие. Кто чувствует себя праведным, тому какая нужда много беспокоиться и искать милости? Цель достигнута: праведен человек, – что и трудиться? Остаётся только посматривать кругом, себя высить, а других уничижать. На самом же деле это значит – помыслом разорять то, что достигнуто трудом, и губить себя. Вот почему в отеческих наставлениях непрестанно повторяются уроки смирения и самоуничижения и с особенным напряжением выставляются укоры самомнению и самовозношению.
Кто хочет разогнать сей туман прелести, пойдёмте учиться сему у фарисея. Фарисей, кажется, не считал нужным скрываться: он откровенно высказал, что у него на душе, и тем обличил сеть врага, которой тот окутал его бедную душу и удержал её в самопрельщении.
«Несмь, якоже прочие...» – первая прелесть. Фарисей был не худого поведения. Посмотрел он на явных грешников и, естественно, счёл себя лучше их. Но зачем было ему смотреть на неисправно живущих? Посмотрел бы он на живущих хорошо, – увидел бы, конечно, очень много таких, которые гораздо выше его по жизни, – и уж не сказал бы этого пагубного слова: несмь, якоже прочие.
Вот и наука нам, братие! У врага всегда та же уловка, и теперь, как и тогда. И теперь, как и тогда, внушает он: вон, посмотри – и тот такой-то, и тот такой-то; ты же совсем иное дело!.. Послушает бедный человек этой льстивой речи и в самом деле начинает думать, что он хорош, а там – отуманивается самомнением и лишается милости Божией. – Но зачем тебе смотреть на живущих нерадиво? Смотри на строгих ревнителей добродетели и благочестия, и просветишься познанием своих недостатков. Или, лучше, не смотри ни на кого из живущих здесь, ибо кто чист? Минуй всех и содержи в мысли только те образцы, которым подражать обязывает тебя слово Божие. Подражатели мне бывайте, якоже и аз Христу (1Кор.11:1. Еф.5:1), говорит апостол. Образ дах вам, да, якоже Аз сотворих вам, и вы творите такожде (Ин.13:15), или: будите совершени, якоже Отец ваш Небесный совершен есть (Мф.5:48), говорит Господь. Вот на кого смотри и с кем сличай жизнь свою – с добродетелями святых апостолов, с деяниями Господа Спасителя, с совершенствами Отца Небесного. В сей чин вставляя себя, кто осмелится подумать: несмь, якоже прочии? Не скорее ли, стыдом покрывшись и очи потупя долу, вопль испустит из сердца: Боже, милостив буди? Тут то же произойдёт, что бывает, когда кто вступит в общество высшего тона, не зная его приёмов, или явится в блестящее собрание не в принятой одежде. – Так сопоставление себя с высшими и совершеннейшими бывает самым сильным и действительным врачевством против самомнения.
Далее фарисей говорит: пощуся двукраты в субботу (дважды в неделю), десятину даю всего, елика притяжу (десятую часть доходов своих раздаю бедным и на церковь). Вот вторая прелесть – смотреть только на одни дела правые, скрывая от себя самого грехи свои, и в делах правых смотреть только на внешнюю их сторону, не обращая внимания на внутренние чувства и расположения, с какими они совершаются. Так поступал фарисей и отуманился самомнением. Не делал он правильного осмотра дел своих и не шёл в сем деле правильным путём. «Я, – говорит, – то и то добро сделал». Но сколько было случаев, в которых не сделал он добра, которое мог и должен был сделать, и сколько было таких, в которых сделал зло вместо добра, об этом молчит, покушаясь скрыть то и от себя, и от Бога. – «Постой, фарисей, – сказать бы ему, – припомни-ка и всё зло своё, и потом, положив на одну сторону добрецо своё, а на другую всю массу злых дел своих, смотри, что выйдет... И наперёд можно угадать, что, если бы ты сделал так, не повернулся б у тебя язык сказать: несмь, якоже прочии человецы. Если бы затем добросовестно обсудил ты: по каким побуждениям делано тобой то малое добро, о котором говоришь, то есть не по тщеславию ли, не из человекоугодия ли, чтобы вес возыметь и выгод своего положения не потерять, – не потому ли, что так сложились обстоятельства, сердце же не лежало к ним, – вообще, угождение ли Богу и славу Его имел ты в мысли, или себя и свои интересы. – Если бы обсудил ты с сей стороны своё малое добро, то не осталось бы у тебя ничего, кроме опасливого вопля: Боже, милостив буди мне грешному!..» Не сделал этого фарисей – и попал в сети самохвальства и за самооправдание покрыт Божиим осуждением.
Итак, хотите ли, братие, избегать опасного самопрельщения, учитесь сему у фарисея – по противоположности, не делая того, что он делал, и делая то, чего он не делал. Когда подступит враг и начнёт трубить в сердце вашем пред вами, что вы не то, что другие, то и то хорошо делаете, – возьмите вы себя и начинайте водить по всем худым делам своим, толкуя себе: а это кто сделал? – а это кто? – а это кто?.. Тогда пробудится обличительный голос совести и заглушит это смутное шептание самовосхваления: несмь, якоже прочии... Если, несмотря на то, сердце всё ещё будет надыматься самовозношением, то обличите его самого строгим укором, говоря: пусть и было делано какое добро, но ты злыми своими помышлениями всё его перепортило и пересквернило – то тщеславием, то человекоугодием, то чаянием каких-либо сторонних выгод; если же при совершении каких дел и не было таких чувств, ты теперь сквернишь их и отнимаешь у них всё достоинство тем, что надымаешься ими!.. Так обличив себя, мы отымем у себя всякую опору к самооправданию, и нам некуда будет обратиться, как к заступлению единой милости Божией, к которой и начнём нелицемерно вопиять: Боже, милостив буди нам грешным!
О, когда бы помог нам Господь войти в сии оправдательные чувства мытаря и установиться в них! Кажется, они так естественны для нас, а между тем не всегда-то и не легко мы встречаем их в себе. Обучать себя надобно и сему, как и всякому добру обучать, и вот какой надо употреблять приём к такому обучению. Войдёмте внутрь себя вниманием. Есть у нас там необманчивое зеркало дел наших – совесть, но зеркало заброшенное и нередко испачканное. Извлечём его на среду, вычистим и выясним словом Божиим, определительно восстановив в нём написание всех обязательных для нас слов, дел, чувств и помышлений. Установив его потом против своего лица, или сознания, так, чтобы сему лицу некуда было укрыться и ничем нельзя было прикрыть себя. Как без света видеть ничего нельзя, то осветим свою внутреннюю храмину страхом Божиим, при действии которого все черты лица, или сознания нашего, до малейших подробностей будут ясно видны в зерцале совести. Когда установимся так внутри, то несомненно войдём в чувство мытаря. Не дела только, но и все помышления злые, исходившие и исходящие из сердца, будут печатлеться на лице сознания, отражаться в совести и привлекать суд действием страха Божия. И как мытарь, стоя издалека, не смел приблизиться страха ради, не смел воззреть на небо стыдения ради от обличений совести и бил себя в перси, будучи недоволен собой и скорбя о своём безобразии; так и у нас страх будет сменяться стыдом, стыд – обличением и обличение – болезнованием о себе. И некогда будет родиться самомнению и возродить самовозношение и самооправдание. Ибо как деятельность внутри нас не прекращается, сердце же поминутно куёт злая, то минуты не будет, когда бы не было в нас побуждения бить себя в перси и взывать: Боже, милостив буди!.. Блаженное состояние, действительно привлекающее милость и оправдание Божие!
Нам обычно слово: я грешный, я грешная, – Богу приятное слово; но позаботимся, чтобы не язык только произносил его, но и сердце чувствовало. Убедим себя, что чувство своей праведности есть уклонение на путь пагубы, и когда мало-помалу начнёт оно показываться, будем гнать его, как самого опасного врага, который подкрадывается, чтобы похитить у нас самое дорогое наше благо – оправдание пред Богом. А чтобы ни в чём не поблажить сему искушению, распорядимся так, чтобы всякому нашему делу и предприятию предшествовало сознание грешности нашей и одно всем заправляло. Милостыню ли подаёшь ты, подавай с мыслию: не своё подаю, а Богом данное мне. Пост ли держишь или другую какую строгость налагаешь на себя, такие имей при сем мысли: другие этим сумму дел своих достохвальных увеличивают, а мне это – эпитимия, надо потрудить себя за грехи свои. В церковь ли идёшь или дома совершаешь молитвословие, говори себе: потружу себя, авось сжалится Господь и простит мне грехи мои. И особенно в деле молитвы, умом и сердцем к Богу обращаясь, не зрите себя иначе, как самыми неисправными и паче всех милости Божией требующими, подобно святому Пимену, который говаривал: я на себя так смотрю, как на человека, который по шею погряз в тине и только уста имеет вопиять: Боже, помилуй мя!
Так устроясь, благодатью Божией избежим мы прелести самомнения и устраним главное препятствие к отверстию двери сокрушения сердечного, коей исшедши, конечно, сретим и двери милосердия Божия! Аминь.
О причащении пречистых Христовых Таин
Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя
приими, не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам,
яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя: помяни мя Господи
во царствии Твоем. (Последование ко святому Причащению)
Сколько духовной сладости сокрыто в божественных словах этой умилительной молитвы, обычно повторяемой за священно-иереем приступающими к святейшим Христовым Тайнам, через которые бренное наше естество соединяется с Источником жизни и обоготворяется им! Если б этот многоценный дар мы хранили, то были б святые, и ничто греховное и на ум нам не пришло бы. Божественное причащение – это огнь небесный, попаляющий в нас всё нечистое. Не только душа, но и тело наше через это святейшее таинство оживотворяется и укрепляется; отгоняются от нас скорби и уныние и вместо их вселяется небесная радость: чувствуется какая-то неизъяснимая лёгкость, – тяжёлое греховное бремя невидимо снимается тогда с нас, и мы чувствуем обновлённые в себе силы, обновлённый и просвещённый ум, умерщвление страстей, отгнание бесовских искушений, стремление к благочестивой жизни, к соблюдению заповедей Божиих; ощущаем в душе мир благодатный, веру твёрдую, горячую к Богу и ближним любовь, обручение, залог будущей благодатной жизни, живот вечный и бессмертный... Трудно исчислять все дары, каких удостаивает Господь со страхом, верой и любовью приступающих к святейшей Его чаше. Потщимся же и мы быть в числе чад Божиих, сподобляемых таких блаженнейших даров.
Христианин, заботящийся о спасении души своей, должен во все посты говеть, очищать совесть свою святым покаянием и приступать к Божественным Тайнам. Тогда от многих бед, скорбей и болезней он охранён будет благодатью Божиею, многих духовных утешений и дарований сподобится и скорби, неизбежные в земной жизни, услаждаемы будут небесной манной. Но горе тем, которые неразумно лишают себя такого высочайшего дара, отдаляют от себя благодать Божию, через что общий наш враг получает доступ к душам их, и жизнь для них делается тогда невыносимо тяжкой: всё для них неприятно, ни в чём они не находят удовольствия, – и всему этому причиной не кто иной, как они сами, и дотоле будет ад в душах их, пока не обратятся они ко Господу и не сподобятся святых даров Его, подаваемых в Таинствах покаяния и причащения. Приидите, – говорит Господь, – ядите Мой хлеб и пийте вино, еже растворих вам, оставите безумие и живи будете, да во веки воцаритеся (Притч.9:5, 6).
Иные, ослеплённые суетным миром, до того увлеклись житейскими попечениями, что не могут избрать свободного времени, чтобы поговеть и приобщиться, или тем отказываются, что по грехам своим недостойны сего святейшего таинства, а другие и иные причины приводят к уклонению от спасения своего. Очевидно, что все таковые, удаляющиеся от соединения со Спасителем, грехами своими открыли к себе доступ врагу, который под разными предлогами не допускает их приблизиться к Господу, и если они не понудят себя к исполнению своей обязанности, то чем далее, тем хуже будет их положение, и они погибнут навеки, по слову Господню: аще не снесте Плоти Сына Человеческого, ни пиете Крове Его, живота не имате в себе (Ин.6:53).
В году 365 дней; из них какие-нибудь 3–4 дня – и те мы не хотим уделить для спасения души: не видимое ль это омрачение ума, Богоотступничество, всецелое порабощение себя греху? Человек тогда уподобляется бессмысленному животному, жизнь которого проходит в удовлетворении одних лишь физических потребностей.
Вот человек, созданный по образу и подобию Божию, на какую низкую степень нисходит, – делается заживо мёртвым для Бога, наследником ада!
Иные, как выше упомянуто, по внушению духа злобы говорят, что они недостойны приступить к святому причащению. Но спросим их: кто же достоин? – Достойных нет на земле. Господь сошёл с неба и пострадал не ради святых, а ради спасения нас грешных, и потому никто не должен отзываться своим недостоинством, но, подражая мытарю, сердечно покаяться пред Господом и приступить к Божественной чаше не ради достоинства, а по единому безпредельному милосердию Божию к кающимся грешникам. Но те воистину недостойно приобщаются, которые легкомысленно приступают к Божественным Тайнам, без страха Божия, без веры и любви к Нему, – таковые не во спасение, а в осуждение себе приобщаются.
Святые Таинства причащения и елеосвящения (соборования) учреждены для здравия и спасения души и тела; но лукавый враг наш и тут успел посеять свои плевелы, – многие больные и их окружающие не спешат прибегать к этим спасительным таинствам и уже тогда посылают за священником, когда болезнь делается опасной. Какое заблуждение, какое невежество! За телесным врачом тотчас шлют, а о небесном небрегут, оттого нередко и лишаются милости Божией. Иные легкомысленные родные больного опасаются предложить больному послать за священником, дабы не испугать его, будто он уже безнадёжно болен, и таким образом нередко больной переходит в вечность без христианского напутствия, за что, без сомнения, он, как не позаботившийся о себе, а также и родные его, из ложного опасения смутить его, не пригласившие священника своевременно, тяжкий отдадут Богу ответ за безумие своё. Много было случаев, что больные, сподобившиеся в начале болезни святого причащения и елеосвящения, в скором времени выздоравливали, ибо Господь – близ призывающих Его. Святое Таинство причащения, как теснейшее соединение с самим Господом и телесно, и духовно, без сомнения, и телу, и душе человека приносит величайшую пользу, а о святом Таинстве елеосвящения (соборования) говорится в Священном Писании следующее: если кто из вас заболит, то призовите служителей Божиих, которые, сотворивши молитву, помажут болящего елеем, во имя Господне, и молитва веры спасет болящего, и воздвигнет его Господь, и грехи ему простит (соборное послание Иакова). Что может быть утешительнее этих слов?! В них ясно изображено, что посредством святого елеосвящения не только тело, но и душа врачуется. Но к сожалению, несмотря на такую непреложную истину, ясную как солнце, у многих по внушению врага нашего спасения утвердилось такое суеверное мнение, будто тогда только нужно прибегать к елеосвящению (соборованию), когда больной уже безнадёжен. Из выше приведённых слов Священного Писания каждый легко может убедиться, что всё это – бесовские козни, глупое суеверие, лишающее нас даров Божиих.
В Москве, в Успенском соборе, ежегодно освящается елей на страстной седмице, в Великий четверг, и всех предстоящих помазывают им.
Отринем от себя неразумное суеверие и всякие внушаемые врагом предлоги к удалению от Бога, чаще будем приступать к Богодарованным нам святейшим таинствам, освящающим душу и тело, а наипаче неотложно потщимся поговеть и с совестью, очищенной искренним, сердечным покаянием, приступим к чаше Христовой, да причастницы жизни вечной будем, да не в суд или во осуждение будет нам святое причащение, но в оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь.
И.А.
Иверия-Грузия
Ацкури – один из древнейших городов Иверии; там, по вознесении Господнем, проповедывал Евангелие святой апостол Андрей54. Ацкури был тогда языческим городом, и владела им царица, у которой в то время умер единственный её сын. Жрецы ацкурские сколько ни старались возвратить его к жизни, но усилия их были тщетны. Тогда приближенные царицы, видя её неутешную скорбь, сказали ей, что в Ацкурах поселился какой-то странник и что в занимаемой им хижине каждую ночь виден бывает свет55. Царица велела призвать его и, расспросив о цели его прибытия и учении его, сказала ему, что если он воскресит её сына, то она уверует в проповедуемого им Христа. Святой апостол ответил, что он надеется с помощью Божией совершить это. Положив на юношу икону Пресвятой Богородицы, апостол стал молиться о нём Богу, и мёртвый воскрес. Царица, видя такое чудо, уверовала во Христа, и многие её подданные приняли христианство, которое процветало там до половины 17-го века, когда магометане огнём и мечом истребили его. С тех пор и до сего времени ацкурцы пребывают в магометанстве. Жители находящегося в 5 вёрстах от Ацкури селения Сакунеты отвергли магометанство и были замучены. На месте их погребения воздвигнута была христианами небольшая церковь в честь святого великомученика Георгия, которая существует и доселе. Около неё по ночам видится свет, о чём от многих я слышал и пожелал удостовериться в истине сего. 7-го декабря отправился я туда из Тифлиса, заехал по пути в имение великого князя наместника кавказского Боржом и пригласил с собой тамошнего священника и благочинного о.Иосифа Симонова. Не доезжая 20 вёрст до Ахалцыха, мы остановились на станции Ацкури, находящейся в 5 вёрстах от селения Сакунет, где является свет; нам сказали, что вблизи свет не бывает видим, а потому мы стали смотреть с почтовой Ацкурской станции. Это было 8 декабря, в пятницу вечером. Когда совершенно стемнело, увидели мы возле Церкви звезду, которая блеснула и вскоре потухла; потом являлись несколько звёзд одна за другой и вскоре исчезали; иные очень ярко блистали и даже имели вокруг себя сияние, а другие были подобны обыкновенным звёздам; некоторые поднимались кверху и устремлялись в разные стороны, как бы опережая одна другую, и потом, опускаясь, угасали, а однажды на несколько секунд было столь яркое сияние, что осветилась стена церкви и как бы что возгорелось, но вскоре всё потухло; иные звезды, поднимаясь, оставляли за собой полосу света. Это разнообразное сияние продолжалось несколько часов, и мы были вполне вознаграждены за нашу поездку.
В селении Сакунетах, к сожалению, живут магометане; впрочем, и они чтут эту церковь и являющийся свет считают святым. В праздник святого великомученика Георгия в церкви этой бывает служба и во множестве стекаются христиане и магометане. Говорили нам, что были случаи, что магометане, обращавшиеся с усердной молитвой к святому великомученику Георгию, получали исцеления и что у одного муллы исцелён был сын от каменной болезни.
Следовало бы тем, кто имеет возможность, предпринять путешествие в древнюю Иверию, теперешнюю Грузию, и поклониться драгоценным её святыням. В Тифлисе, в Сионском соборе, есть замечательная святыня – крест из виноградных лоз, более вершка толщиной и четвертей 5 вышины, связанный волосами святой Нины; он ей вручён был в сонном видении Пресвятой Богородицей. Там же в Тифлисе в Преображенском монастыре находится великая святыня – часть блюда, видом как бы из какого растения, длины вершков 12 и ширины в середине вершка 4; на том блюде, по преданию, предложены были хлебы на Тайной вечери. Близ Тифлиса, в Мцхете, обретён был хитон Господень в руках девицы Сидонии, которая несколько веков покоилась, имея в руках это неоценённое сокровище. В Сигнахе почивают святые мощи равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Близ Кутаиса, в монастыре Гаенатском, находится икона Пресвятой Богородицы, по преданию, писанная святым евангелистом Лукой, глава святого великомученика Победоносца Георгия и иные замечательные святыни. Вёрстах в 3-х от Гаенатского монастыря, в монастыре Мецаметском, почивают на вскрытии святые мощи иверских мучеников – князей Давида и Константина. Близ Сухума находится древний храм в честь святого апостола Симона Кананита, на браке коего Господь претворил воду в вино. По преданиям Грузинской церкви, на этом месте святой апостол Симон подвизался в распространении святого Евангелия и мученически тут скончался. В недавнее время устроена на этом месте небольшая обитель афонскими иноками с целью миссионерской. Кроме сего, в Иверии множество древних обителей и храмов запустевших.
Будем надеяться на лучшее в будущем: без сомнения, найдутся благочестивые христиане, которые обратят внимание на древнехристианскую Иверию, и возобновят её святыни – во славу Божию и во спасение своё.
И.А.
III. О покаянии. Беседа 3-я
Грешны мы и грехолюбивы; но есть ли кто, который хотел бы и погибнуть во грехах своих?.. Приидите же, поучимся у мытаря, как, несмотря на грехи, избежать участи осуждённых и привлечь милостивое оправдательное слово Господа.
Мытарь не смеет очей возвесть на небо: ему стыдно, – срам покрывает лице души его. Мытарь бьёт в перси свои: он сознает себя достойным всякого наказания за злое произволение сердца своего. Но он не бежит от Бога и не отчаивается в спасении своём, а к Тому же прибегает, Кого оскорбил и Кто готов праведно наказать его, – к Тому самому благонадёжно обращаясь, взывает: Боже, милостив буди мне грешному!
Устыдим же себя, восприяв в чувство срамоту и унижение греха; осудим себя, дав всю силу гласу совести, или нелицемерной правды Божией, через неё вещающей, но притом, вслед за мытарем, поспешим и в своей душе образовать тот же вопль: Боже, милостив буди нам грешным!
Всё же сие от тебя самой зависит, грешная душа, – сама ты, а не другой кто, должна всё сие воспроизвести в себе и восчувствовать!.. Мытарь бил в перси свои; но он ещё прежде сего, помышлениями ума, избил душу свою и изранил сердце своё. Войди же в себя, собери спасительные помышления и ими попекись сокрушить ожестевшее сердце своё. Вознесись горе, ниспустись в преисподняя, осмотря себя и окрест себя, и всюду ищи стрел – на поражение, бичей – на уязвление, молотов – на умягчение окаменённого сердца своего.
Помяни милости Божии к тебе – и устыди себя; помяни правосудие Его – и устраши себя; помяни близость конца – и поспеши умилостивить праведного Решителя участи твоей. Самого себя ужем самовластия твоего привлеки к себе и, хоть по чувству самосохранения, извлеки из себя сии спасительные внушения и ими себя проникни.
Говори своей душе: ущедрил тебя Господь в творении, промышлении, паче же – в искуплении. Баней пакибытия обновил тебя; питал тебя плотию и кровию Своей и едино с Ним через всю вечность быть обетовал тебе. Сколько раз падшую восставлял, нечистую очищал, больную духом врачевал! Сколько раз давал тебе ощущать близость Свою и объятия любви Своей! Сколько раз давал вкушать сладость пребывания в воле Его и в исполнении святых заповедей Его!.. Всё это презрено тобой, ни во что вменены все попечения о тебе, назад заброшены все милости в тебе...
Бог держит тебя в деснице Своей. Он близ есть и видит все движения сердца твоего. Это – пред лицом Его ты позволяла себе сочетоваться с лукавыми помышлениями, противными Ему. Это – пред лицом Его ты разгоралась страстьми, кои суть мерзость Ему. Это – пред лицом Его ты делом совершала зачатый внутри грех, оскорбляющий Его.
Ты знала, что это зло – и не уклонилась. Могла не хотеть – и похотела. Могла, похотевши, не делать – и сделала. Никто не неволил тебя, – злое произволение твоё царило в тебе и по злым путям влачило тебя.
Грех манит к себе сладостью, а потом мучит тлетворной горечью, – и вот свет ума померк в тебе, змии страстей грызут тебя и туга крайнего недовольства томит тебя... Ты похожа на иссохшую ветвь, на разбитый сосуд, на птицу с выщипанными перьями. И это ещё не конец... Помни, что хврастию сухому конец – пожжение, в коем горят и не сгорают.
Сии и подобные помышления внедряй в душу свою, грешник, и усовести её – возыметь стыд и омерзение ко греху и греховному состоянию своему, восчувствовать досаду на злой произвол свой и опасение за вечную участь свою... Это произведи, а дальше не иди и не оступись в пропасть нечаяния и отчаяния. От Бога не беги, ибо куда бежать от Него? Он держит тебя в узах бытия, и ничтожество не поглотит тебя, хотя б ты и хотел того. К Нему убо прибегни и в лоно милосердия Его впасть устремись. Ты живёшь ещё на земле; Живодавец длит твою здешнюю жизнь, чтобы длением милости привлечь тебя к Себе; Он даёт тебе ещё жить, ожидая, что ты наконец бросишь грех и обратишься к Нему. Ты – смоковница, ещё на год оставленная в вертограде живущих на земле, – умудрись же воспользоваться даром сим.
У евреев были грады убежища, и укрывшиеся в них избегали ударов мщения... Для грешника град убежища – покаяние; сюда прибегни и укройся от меча правды Божией. Сам Бог, готовый карать, указывает тебе сие убежище и зовёт в него. – От потопа одна была отверстая дверь спасения – дверь ковчега. Одна дверь спасения и от потопа греха – дверь покаяния. Слышишь, поют: покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче?.. Иди, – отверсты, и рука извнутрь простёрта к принятию тебя... Смотри – все пошли. Вон – исповедавшийся разбойник приближается – и получает в наследие рай; обременённая грехами блудница – и слезами уничтожает рукописание; Закхей кается пред Господом – и оправдывается; Пётр плачет – и приемлется; а Давид уже давно там. И весь дом наполнен грешниками оправданными. Сам Домовладыка дружелюбно вводит всех кающихся и их, отчуждавшихся от Него, через покаяние соделывает Своими присными.
Воодушевись же! Подойди и ты и, став подле мытаря, воззови гласом его: Боже, милостив буди и мне грешному!
И будешь, несомненно, помилован и спасён, если доведёшь себя до того, чтоб из сердца твоего искренно исторгся такой покаянный вопль. Оправдавший мытаря и тебя оправдает, когда взойдёшь в подобонастроение ему. Сказавший: егда воздохнув, воззовёшь, тогда спасешися, – спасёт и тебя, если и ты так же сильно воздохнёшь и воззовёшь. Призывающий к Себе всех труждающихся и обременённых, чтоб упокоить их, упокоит и тебя, когда, восчувствовав бремя грехов, к Нему прибегнешь, ища покоя от угрызений совести.
Такого мытарева благонастроения и такой ради его свыше даруемой милости оправдания да сподобит Господь и всех нас грешных. Аминь.
Беседа 4-я
Возвратимтесь мыслью к тому времени, когда в прошлый год мы поговели, исповедались и причастились святых Христовых Таин... В каком блаженном состоянии была тогда душа наша! Как светло всё виделось ей – и в себе, и вокруг себя, и над собой, и в дали прошедшего, и в глубине будущего! Какая тишина царствовала в области сердца! Какой пошёл порядок в жизни, какая степенность в замыслах и крепость в исполнении добрых преднамерений! Какая готовность искать единого Бога и ходить неуклонно путём заповедей Божиих!.. Нам казалось, что никого нет блаженнее нас, и мы говорили себе: никогда уже не изменим теперь начатой исправной жизни, чтобы никогда не потерять сей отрады и всегда принадлежать Небесному Отцу, прикосновение попечительной десницы Коего так сильно ощущало тогда сердце наше...
Как, действительно, блаженны те, кои самым делом устояли, хотя и не в полной мере, в этих благих расположениях своих и обещаниях совестных! Но все ли таковы?.. Небольшая ли часть из нас повторила историю блудного? – Припомните!.. Вот прошёл вразумительный и остепеняющий пост и настали светлые праздники; за ними подошло цветущее и улыбающееся время года. Мы позволили себе небольшую льготу, как бы какое право отдыха по выдержании подвига строгой жизни, какую провели мы дотоле. Чтобы совсем предаться утехам, нам и в голову не приходило. В первый раз мы хотели только немного прогуляться, не помышляя о дальнейшем. Но это первое развлечение оставило заметный след в душе и довольно расшатало установившийся было благочестивый порядок: ревность о строгой жизни ослабела, и мысль часто отбегала на вкушённое невинное удовольствие: иное из положенных благочестивых занятий опущено, и хотя не без заметки, но и без должного сокрушения... Вот представился случай, и у нас – опять развлечения и утехи. Тут мы утешались уже смелее, и если благие мысли приходили остепенять нас, мы отвергали их с дерзостью, как безвременные. Плодом сего были мрак и смятение. Мы чувствовали, как тяжело и стеснительно принятое нами правило благочестной жизни, и нам часто вспадало на мысль: «Не бросить ли? Придёт-де благоприятное время, тогда опять начнём работать Богу, а теперь можно и поослабить», – и пошли послабления за послаблениями... Между тем привычная страсть подняла голову и начала свои беседы с сердцем. Как знакомые, они скоро опять сладили: помыслам страстным уже не было поперечения; попускались соуслаждения и предметами, и делами страсти; соуслаждения же колебали волю... Частые повторения этого внутри родили склонение на прежнее: произошло сосложение с грехом – и внутреннее падение совершилось; а представился случай – и падение совершено уже и делом... Далее, падение за падением – и всё, внутри и вне, пришло в прежнее греховное настроение. Нравственное расстройство было полное, и мы стали похожи на блудного сына, когда он всё промотал в удалении от отца, пас свиней и питался их пищей.
Сличи теперь, кто подвергся сему несчастию, – то, что теперь есть, с тем, что было, – поскорби и поплачь. Как было всё светло, а теперь мрак вокруг: все чистые понятия и спасительные истины Божии будто покрадены и на мысль не приходят, а пришедши – кажутся очень невнятными... Как отрадно было нам присутствовать в церкви, а теперь холодом веет от всего церковного; тогда идти не хотелось от священнодействий, а теперь мы бегом бежим от них. Внешнее наше состояние не изменилось может быть; но внутри – тоска и туга точат сердце. И никакие уже утехи и услаждения не могут утолить этого безотрадного внутри-томления... Всё сие ведает падший и испытывает делом – и, может быть, ведает и испытывает более того, что может сказать описательное слово стороннего наблюдателя. Но, бедная душа, ужели же невозвратно предашь ты себя в руки падения своего и, поревновав падению блудного, не поревнуешь подражать ему и в восстании?
Приди в себя!.. Смотри, какое там запустение, какое оскудение во всём и расстройство!.. Это ли красота, какой украшена ты в творении и какой украшал уже тебя Господь – Искупитель твой? Тебе ли, образ Бога носящей, так пресмыкаться долу и валяться в нечистотах? Воскреси в мысли достоинство своё и поревнуй восстановить его.
Ныне-завтра – смерть. С закрытием глаз закроются для нас и двери милосердия Божия, если не попечёмся войти в них прежде того. А тогда, что?! – О, той беды и слово выразить не сильно!.. Не отлагай же! Вот благоприятное время святого поста. Отселе ещё положи намерение воспользоваться им во спасение и готовься к тому. Всячески сам себя шевели и раздражай уснувшую ревность о спасении всеми способами, какие оставлены твоей свободе всеустрояющей благодатью Божией.
А Господь – близ. Он ждёт только, чтобы ты сказал: «Восстав, иду». И прежде, чем ты приблизишься к Нему, Он сретит тебя и заключит в отеческие объятия любви Своей. Смотри, сколько уже обитает в доме Его рабов, служащих Ему, и между ними сколько таких, кои падали падением, подобным твоему! Смотри: вот – жена блудница, вот – Закхей, вот – Мария Египетская, вот – Пелагия и прочие, коим числа нет. Не отчайся же и ты; но и не медли. Беззаконий твоих не помянёт Господь и за радость возвращения твоего, которое обрадует всё небо, возвратит тебе всё, потерянное тобой.
Всё сие сам знаешь, – испытал уже сладость восстания, его удобства и утешительные плоды. Возымел ты несчастие снова пасть, поспеши же осчастливить себя новым восстанием. Сколько бы ни падал кто, Господь любовно примет его, когда восстанет. Но если кто бросит себя и с услаждением обречёт на то, чтобы валяться в тине греховной, того бросит и Господь; а кто весть, вспомянет ли о нём когда... Возбуди же сию память Божию о тебе своей заботой о восстании, и Он приидет и Сам восставит тебя: подаст тебе всемощную руку Свою и извлечёт из глубины, в которой погрязаешь ты. Не отложи воспользоваться остающейся ещё для тебя мерой долготерпения Божия и всё употреби, чтобы воодушевить себя на труд восстания. Собери вокруг сердца все возбудительные истины – и с неба, и с земли, и от настоящего, и от будущего, чтоб дойти наконец до решимости сказать: восстав иду, – и затем встань и иди!.. Иди к Отцу Небесному, Который ждёт тебя, и не только ждёт, но и ищет, и всеми мерами печётся об обращении твоём, готовность изъявляя быть благопоспешником тебе в сем трудном и решительном для тебя деле.
Сего пожелаем мы ныне взаимно друг другу, в большом ли, или в малом кто состоит падении; пожелаем и понудим друг друга, чтобы не поодиночке, а всем вместе возвратиться к Отцу и стать едино с Ним и всем домом Его, и всем царством спасаемым, ублажённых и имеющих быть ублажёнными во веки. Аминь.
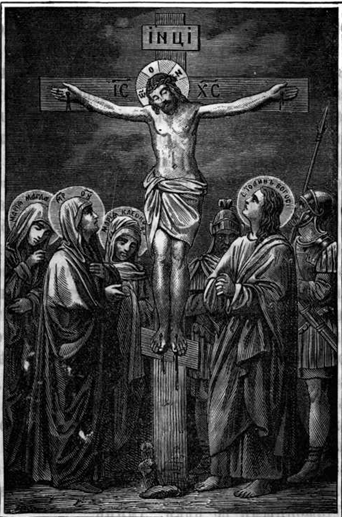
Мысли при взгляде на распятие Спасителя мира
Видение страшное и ужасное!.. Единородный Сын Божий, Бог всемогущий, вочеловечившийся ради спасения нашего, попустил людям грешным умертвить Себя позорной на кресте смертью... Страшную эту тайну провидели Духом Божиим святые пророки и ужасались: несть вида ему, ниже славы, и видехом его, и не имяше вида, ни доброты; но вид его бесчестен, умален паче всех сынов человеческих (Ис.53:2–3).
Господь изволил пострадать ради спасения нашего по любви к нам, превышающей всякое разумение наше; Он возжелал не только избавить нас от вечного мучения, предлежавшего нам за преслушание прародителей, но и возвести нас, убогих, на высочайшую степень небесного блаженства, усыновить нас Отцу Своему. Где Я, там да будет и слуга Мой, – изрёк Он, Всеблагий, по безмерной любви Своей к человечеству; но мы, неблагодарные, увлекаемые суетностью житейской, хотя и ежедневно видим изображения распятия Спасителя нашего, за нас пострадавшего, но смотрим на оное холодно, бесчувственно, бессознательно, оттого и не преуспеваем в духовной жизни, а лишь умножаем грехи и беззакония свои. Господь, дабы спасти нас, пролил на кресте пречистую Свою кровь, а мы ради собственного своего спасения и наследия небесного вечного блаженства не хотим и пальцем пошевелить, думаем без трудов спастись; но суетна наша надежда, ибо многими скорбями, трудами, подвигами и страданиями входят в Царствие Небесное, чему живое доказательство – сонмы мучеников и преподобных, не пощадивших жизни своей ради спасения души. Мы, грешные, о том только и думаем, как бы получше, поприятнее приводить жизнь свою, во всяком довольстве и изобилии; но это довольство и изобилие приведёт нас в великую скудость, что ясно видим в евангельской притче о богаче. Вот он, подобно нам, жил беспечно, насыщался изобильно, одевался богато, а какой всему этому последовал конец? – Душа его по разлучении от тела ввержена была в адский пламень... Это самое и нас ждёт, если не покаемся, не оставим свою беспечную греховную жизнь. Боимся мы в этой жизни всего, самого даже ничтожного; но как же не страшимся мы часа смертного, как не рассуждаем, что он внезапно, как гром, грянет и участь наша бесповоротно на веки решится? В чём застану, в том и сужу, – сказал праведный Судия. Как и чем объясним мы нашу беспечность, что, стоя на краю пропасти, мы воображаем, что находимся в благополучии, вдали от всякой опасности? Житейские суеты до конца ослепили нас. Без сомнения, мы сами всему виной, – не думаем нимало о том, о чём часто бы нужно думать, – и вот, вследствие этой беспечности, нет в нас ни страха Божия, ни заботы о вечной жизни. – Живём мы жизнью плотской, пьём, едим, строим, созидаем, торгуем и прочее, но не помышляем, что внезапно найдёт на нас час смертный и разлучит нас на веки с этой жизнью и со всеми и со всем... А что тогда будет? – «Вчерашний бо день беседовах с вами и внезапу найде на мя страшный час смертный» (Последование на погребение).
Для людей, погрязших в суетах житейских, как в пучине, из которой очень трудно вытащить ноги, ничто так не полезно, как ежедневное памятование о смерти. Каждый из нас да знает и ведает, что ему сегодня или завтра неизбежно вкусить горькую смертную чашу, что предлежит предстать на страшный Божий суд, где не только дела, но и слова, и мысли его будут обнаружены и судимы; и если он оправдается, то блажен будет, а если окажется виновным пред судом праведнейшего Судии, то не будет ему никакой пощады и снисхождения, а ввержен он будет в муку вечную, в огонь неугасимый, где будет вечный плач, вечное страдание, вечное рыдание.
Размышляя о всём этом и взирая на распятие Спасителя мира, в чувствах благоговейной благодарности к Пострадавшему за спасение наше, не будем бесчувственны к сему страшному событию, даровавшему нам вечное блаженство, но в то же время будем помнить и то, что если станем провождать жизнь греховную, в беспечности и нерадении о спасении своём, то страдания Спасителя нашего послужат не во спасение, а к большему осуждению нашему.
О нищей братии
Понеже сотвористе единому сих братий
Моих меньших, Мне сотвористе (Мф.25:40).
Те из нас, которым Бог даровал достаточные средства, должны достаточно делиться с неимущими, – не с теми только, которые ходят и выпрашивают милостыню, но должно, и необходимо должно, отыскивать истинную бедность, истинную вопиющую нужду. Отыскивать таких страдальцев и страдалиц – труд нелёгкий. Спрашивается: как же отыскать истинно нуждающихся? – Ответим на это вследствие многих опытов. Получив письменное или личное заявление о какой-либо нужде, необходимо послать в указываемую местность для удостоверения в истинности письма или личной просьбы и тогда уже оказать помощь. Хорошо и таким образом помогать: просить своих приходских священников узнавать о бедных; и это путь хороший, особенно когда священник не откажется потрудиться разузнать об истинно бедных, живущих в его приходе. Иные бедные являются со свидетельствами от своих местных священников: без сомнения, таковые заслуживают более доверия, нежели являющиеся с сочинёнными ими самими письмами. При этом напоминается достоверный рассказ об одном уже почившем богатом московском купце, который таким образом помогал нищей братии: взяв с собой достаточную сумму денег, он отправлялся в те места, где преимущественно живут бедные; заходил в мелочные лавочки, к дворникам и тому подобное, где и как можно было, собирал сведения о бедных, входил в их убогие жилища, расспрашивал об их нуждах и уделял им, что Бог полагал на сердце. Если бы кто имел дар прозорливости, то, вероятно, сподобился бы увидеть ангела Господня, благословляющего и освящающего блаженное путешествие такового нищелюбца. Блажени милостивии, яко тии помиловани будут (Мф.5:7).
Ищите истинных нищих с таким же тщанием, с каким ищите богатства, и благо вам будет, – приобретёте богатство нетленное, которого никто не лишит вас, ни даже самая смерть. Она сладка бывает для тех, кто делал добро в кратковременной жизни своей, как говорится, не одной, а обеими руками. До горе немилосердным: не миловали они ближних своих, и их не помилует Господь.
И.А.
IV. Тайная вечеря и вольные страдания Спасителя мира
Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий,
причастника мя приими, не бо врагом Твоим
тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда,
но яко разбойник исповедую Тя: помяни
мя, Господи, во царствии Твоем.
Господь наш Иисус Христос, Творец неба и земли, во время божественного Своего на земле служения спасению мира, не имел где главу преклонить, поучая тем нас блаженному смирению, евангельской нищете. Желая совершить с учениками Своими последнюю пасху, Он повелел им приготовить для сего горницу, куда благоизволил прийти с ними. Умилительно-трогательна была эта священнотаинственная вечеря, эта прощальная беседа Учителя с учениками, раскрывшая во всей полноте божественную Его любовь к возлюбившим Его и ко всему миру, за спасение коего Он принёс Себя в жертву чисту и непорочну, в удовлетворение правды Божией. Здесь излились безмерные Его щедроты, Его непостижимое снисхождение ко взысканию падшего человека.
Желанием возжелех сию пасху ясти с вами, прежде даже не прииму мук (Лк.22:15), – сказал Господь возлюбленным ученикам Своим и, умыв им ноги, продолжал: «Если Я, учитель ваш, умыл вам ноги, то да будет это примером для вас, дабы и вы друг другу умывали ноги». Священное сие событие изображено в таком трогательном церковном песнопении: «Учеником показует смирения образ Владыко; облаки облагаяй небо, препоясуется лентием и преклоняет колена рабом омыти ноги, глаголя: не приидох бо, да послужат Ми, но послужити и положити душу Мою избавление за мир. Аще убо вы друзи Мои есте, Мне подражайте: хотяй первый быти, да будет последний, владыка – яко служитель. Пребудите во Мне, да грозд принесёте: Аз бо есмь лоза животная».
Во время последней беседы с учениками Своими, Господь, предсказывая им предстоящие Ему страдания и укрепляя их в вере и любви, сказал им: Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. На этой прощальной вечери ничьи взоры не светились радостью; в молчании внимали ученики словам Учителя; сердца их, пламенно любившие Его, исполнены были скорби, – они предчувствовали наступавшую с Ним разлуку.
Перед страданиями Своими Спаситель мира ни о чём так много не беседовал с учениками Своими, как о любви, внушая им, а в лице их и всем нам, чувство этой высокой добродетели, связующее всех верующих во имя Его и служащее знамением истинных последователей Его. Безмерная божественная любовь к человечеству недоступна понятиям человеческим: удивляемся, благоговеем мы пред нею, но постичь её – это выше нашего разума. Любовь эта из небытия воззвала человека к бытию, преклонила небеса и низвела на землю единородного Сына Божия, и она же вознесла Его на крест за спасение мира. Божественная евхаристия, установленная на Тайной вечери, служит изъявлением пламеннейшей любви Бога к человекам, восхотевшего и духовно, и телесно соединиться теснейшим образом с естеством человеческим, по речённому Им: ядый Мою плоть и пияй Мою кровь во Мне пребывает и Аз в нем.
Беседа Христова с учениками во время Тайной вечери, Его молитва к Богу Отцу о всём мире – всё это столь возвышенно, что никаким словом человеческим не может быть изображено... Преклонимся и припадём во смирением к святейшим стопам Спасителя нашего, да сподобимся и мы, убогие, хотя в числе последнейших, быть причастниками Его божественной вечери.
Вертоград Гефсиманский
Вертограды обыкновенно служат местом приятного отдыха... Но не таков был для Господа Иисуса вертоград Гефсиманский: не чистые струи вод, а потоки кровавого пота там источились; не тихое веяние ветра, а вздохи и вопли слышны были там, и не с благоухающими розами, а с дрекольями были обретшие Христа при выходе Его из вертограда.
Приникнем благоговейным оком к месту моления Спасителя мира и в духе веры и смирения посмотрим, среди какой страшной бури искусительных помыслов и ощущений, среди каких тревог и колебаний душевных проведена была последняя ночь на земле Святейшим Примирителем земли и неба. Сколько внутренних мук и с каким предсмертным истощанием долженствовал Он вытерпеть здесь, прежде чем окончательно совершил то великое дело, еже даде Ему Отец, да сотворит... Да, это была ночь, подобных которой не было и не будет в ряду всех дней и ночей стояния мира: это была ночь борений и страданий Христа Богочеловека, Спасателя мира, – борений на смерть и живот, страданий самых лютых и неизобразимых. Это была ночь, с одной стороны, тех Его болезней смертных и бед адовых, которые пророчески предизобразил в лице своём Его праотец, а с другой – Его коленопреклонений пред Богом – Отцом Своим и Его молений с воплем крепким и слезами. Это была ночь страшная для самих небожителей, но всерадостная и спасительная для падшего человечества и – убийственная, всепагубная для князя тьмы и ада. Это была ночь усиленных воплей и крайнего изнеможения сначала святейшей души Богочеловека, а затем и безгрешной Его плоти, – ночь туги и томлений прискорбных до смерти, ночь воплей и изнеможения, увенчавшихся победой и торжеством духа над плотью, и безусловной преданности в волю Отчую над ужасавшими призраками мук голгофских... Видели эту ночь ветхозаветные пророки и праведники – видели её сквозь сумрак сени и гаданий – и ужасались тайне вольного уничижения Сына Божия. Не без ужаса видел её и Сам Сын Божий, Сам Господь, когда она уже наступала. Ещё на пасхальной вечери неоднократно обращал Он речь Свою к близкому будущему. Потом, когда святая вечеря кончилась и когда возлежавшие на ней были на пути к горе Елеонской, Господь уже не обинуясь говорил окружавшим Его апостолам: вси вы соблазнитесь о Мне в нощь сию. Писано бо есть: поражу Пастыря, и разыдутся овцы стада (Мф.26:31). Да и последняя прощальная беседа, с таким любвеобилием излившаяся из Его сердца к тем, ихже до конца возлюби (Ин.13:1), не тому ли обязана своей недосягаемой высотой чувств и истин святых, что Изрекавший её ясно видел всё, что ожидало Его в наступившую ночь?
Смерть Искупителя мира, источившая жизнь и нетление, есть тайна тайн Божиих. По предвечному триипостасному совету, она долженствовала быть не просто смертью, но и страшным закланием на крестном жертвеннике, – закланием, совмещающим в себе все возможные ужасы и муку не только земные, но и подземные, адские. Замечательно, что крестная смерть, приводившая мир в содрогание не одной лишь бесчеловечной лютостью, но и ужасным позором и проклятиями, с ней соединёнными, явилась на земле как казнь, определённая законом, незадолго до явления на земле Христа Спасителя и что она с особенной силой и ожесточением была приводима в исполнение едва ли не в одной Иудее, да и то недолго. Смерть крестная, ужасавшая всё человечество, не могла не ужасать Того из сынов человеческих, Кому она преимущественно была предназначена. Его человеческая природа, всегда безгрешная и святая, всегда почерпавшая полноту совершенств телесного бытия из полноты божества, ей присущего, тем более отвращалась всякого рода насилия и мучений, особенно же смерти.
Кто измерит бездну скорбей, объявших тогда пресвятую душу Спасителя мира? Они превосходили всякое понятие человеческое. Открывалось зрелище страшное и ужасное: хотя ещё не прикасались к Божественному Страдальцу руки извергов-мучителей, не облагали святейшей главы Его колючим тернием, не пригвождали ко кресту Его пречистые руки и ноги, но уже голгофские Его страдания предначинались: бысть же пот Его яко капли крове каплющие на землю (Лк.22:44), и столь обильный, что увлажил ризы Его и оросил самую землю. Провидя Его истощание, святой пророк взывает: почто червлены ризы Твоя и одежды Твоя яко от истоптания точила (Ис.63:2)? Хотя и сопровождали Его избраннейшие из учеников до самого места подвига Его; но, отягчённые сном, они не разделяли скорби Его. Он был как бы одиноким во всём мире: ждах соскорбящаго, и не бе, и утешающих, и не обретох (Пс.68:21); тогда из глубины души болезненной послышался вопль болезненнейший: Отче Мой, аще возможно есть, да мимоидет от Мене чаша сия (Мф.26:39). Все потоки человеческих беззаконий как бы слились в эту чашу, весь ад устремился на душу Восприявшего её, и потому она соделалась для Него прискорбной даже до смерти. Бремя человеческих беззаконий преклонило Господа к земле; Он пал на неё, как бы защищая её от карательной десницы Всевышнего, приемля в Своё сердце стрелы гнева Божия. Ужас, смертная тоска и тяжкая скорбь, которые испытывал тогда Господь. усугублялись тем, что пред всепровидящими очами Его представлялась мрачная картина страшных грехов принятого Им на Себя человечества. То, что должен был претерпеть весь мир за грехи свои, – вся эта тяжесть легла теперь на Него одного. Он ясно видел все преступления, все беззакония и нечестия людей от Адама и до скончания мира, во всём безобразии и гнусности их; пред Его всепровидящим взором представлялась ужасная чаша гнева Божия и неизбежные проклятия, отвержение и вечная погибель, готовые обрушиться на преступный род человеческий. Здесь Иисус, как примиритель человечества, стал пред грозной правдой Божией, совершавшей над Ним суд за грехи принятого Им на себя человечества. Не ведевшаго бо греха по нас грех сотвори, да мы будем правда Божия о Нем (2Кор.5:21). Он провидел и ту холодность, то равнодушие и нераскаянность многих грешников, которыми заплатят они Ему за любовь Его; предчувствовал ожесточение сердец их, с которым они в безумном увлечении своих страстей отвергнут и не оценят той величайшей жертвы, которая принесена Им в искупление за них. Он, как Бог, провидел и то, что возложившие да Него руки свои подвергнутся страшному гневу Отца Небесного, который разразится на них и потомстве их, по собственным их словам: кровь Его на нас и на чадех наших (Мф.27:25). Всё это более и более удручало Божественного Страдальца, прилагало горечь к горечи.
Никто да не дерзает помыслить, что возможно вполне постигнуть чувства Божественного Страдальца во время Его гефсиманского подвига: это – великая тайна Божия... Видим из евангельских повествований, что Господь претерпел то, чему летописи страданий человеческих не представляют примера. Взирая на Господа, изнемогающего под крестом, мы должны из сего разуметь, что страдания Его достигали крайних пределов, возможных естеству человеческому, и если бы не обнаружилось это изнеможение, то мы не могли бы знать, чего стоили Ему эти страдания; тогда подражание Ему не имело бы той силы и не было бы в нас тех чувств к Нему, которые теперь имеем; страдания Его сроднили нас с Ним союзом крепчайшей божественной любви, и чем невыносимее были они для Него, тем сделались драгоценнейшими для нас, ибо всё это претерпел Господь ради нашего спасения, а потому тем пламеннейшая должна быть наша к Нему любовь.
Самопознание
Изучаем мы мироздание, течения планет небесных, углубляемся умом нашим в область наук, в изыскания, изобретения по разнообразным предметам, тщимся достигнуть совершенства в разных искусствах и художествах и тому подобное; но при всём столь разнообразном и неустанном стремлении нашем к познаниям, нерадим мы о самом необходимом – о познании себя, не вдумываемся в цель нашего земного существования, редко переносимся мыслью в мир загробный, мир беспредельный, куда все переселятся, где вечно будем жить и где каждому из нас воздаст Господь по делам его. Размыслим о себе, войдём внутрь себя, позаботимся о спасении своём. Господь удостоил нас высокой чести, создав по образу и подобию Своему. И рече Бог: сотворим человека по образу Своему и по подобию. И сотвори Бог человека, по образу Божию сотвори его: мужа и жену сотвори их (Быт.1:26–27).
Человек состоит из души и тела. Как тело, чтобы существовать, требует пищи; так и душа, чтобы ей жить, требует свойственной ей пищи. Тело своё каждый человек ежедневно питает; но не каждый питает душу свою. Без насущного вещественного хлеба плотской наш человек умирает; так без насущного духовного хлеба умирает и духовный наш человек... Слово Божие есть насущный хлеб для души христианина; вот этот-то хлеб мы и предлагаем вниманию заботящихся о том, что всего необходимее. Но прежде, чем начнём говорить о спасении души, побеседуем несколько о свойствах её и вообще о человеке.
Сказанное Творцом о создании человека по образу и подобию Своему должно разуметь так: образ Божий имеет каждый человек, хотя бы он был и язычник, а подобие в том только, кто благочестив, о чём говорит святой Димитрий Ростовский: «Образ Божий есть и в неверного человека душе, подобие же только в христианине добродетельном; и егда согрешает смертне христианин, тогда подобия токмо лишается Божия, а не образа. И аще и в муку вечную осудится, образ той же в нём во веки, подобие же уже быти не может»56. Душа наша пред очами Божиими драгоценнее всего мира, ибо мир вещественный – небо, планеты, вода, земля, животные, растения – всё это временное, преходящее, душа же бессмертна, вечна; а потому мы и должны заботиться об её нуждах несравненно более, нежели о телесных, что ясно и вразумительно видим мы из слов Спасителя, сказанных Марфе: Марфо, Марфо, печешися и молвиши о мнозе, едино же есть на потребу.
Итак, Господь, сказав, что единственная потребность наша – спасение души, тем самым показал ничтожность всего земного, как преходящего, тленного, суетного. Душа наша, как и тело, имеет пять чувств: ум, волю, воображение, размышление, ощущение. Ум – владыка души; он, как кормчий, управляет всеми его действиями, а потому его должно просвещать и утверждать чтением Священного и святоотеческого Писания, душеполезными размышлениями и беседами: когда он богопросвещён, то все чувства души направляет к благому, спасительному; но если обуяет его греховная тьма, то горе душе, – тогда она делается пленницей греха, все её чувства порабощаются греху, и страсти, как лютые звери, влекут её в бездну адскую.
Человек при рождении своём получает от Создателя душу, хотя и склонную ко греху, но ещё не соделавшую никакого зла; дальнейшее же уже от человека зависит, по данной ему свободной воле. Дарование человеку свободной воли есть дело высочайшей премудрости Божией.
Бог вразумляет человека, просвещает его, укрепляет, печётся о нём, как мать о детище своём; но не принуждает его к добру, ибо, единожды навсегда дав человеку свободную волю, таковой и оставляет её до конца жизни человека. Враг человека, диавол, всеми способами тщится склонить человека ко греху, но принудить его к тому власти не имеет. Итак, человек ото дня рождения и до гроба стоит как бы на распутии между добром и злом, может следовать тому или другому, быть наследником неба или ада.
О назначении человека57 святые отцы говорят следующее: святой Григорий Богослов: Надлежало, чтобы поклонение Богу не ограничивалось одними горними, но были и долу некоторые поклонники, и всё исполнялось славы Божией, потому что всё – Божие; для сего создаётся человек, почтённый рукотворением и образом Божиим. – Святой Иоанн Златоуст: Бог дал нам зрение, уста и слух для того, чтобы все члены наши служили Ему, чтобы мы и говорили и делали угодное Ему, Ему воспевали непрестанные песни, Ему воссылали благодарения. – Святой Василий Великий: Устроение тела твоего есть для тебя училище о цели, для которой ты сотворён: ты сотворён прямым для того, чтобы не влачил жизни свой на земле, но взирал на небо и на сущего там Бога и чтобы не гонялся за скотским наслаждением, но согласно с данным тебе разумом жил небесной жизнью. – Святой Макарий Великий: Господь сотворил душу такой, чтоб она могла быть невестой и общницей Его, с которой бы Он соединялся, чтоб она могла быть один дух с Ним, как говорит апостол: прилепляяйся же Господеви, един дух есть с Господем (1Кор.6:17). Бог сам насадил в жилище человеку рай во Эдеме на востоцех, и введе тамо человека, егоже созда (Быт.2:8). Это был, по словам святого Иоанна Дамаскина, как бы царский дом, где, обитая, человек проводил жизнь счастливую и блаженную; это было вместилище всех радостей и удовольствий, ибо Эдем означает наслаждение. В нём было совершенное благорастворение, он окружаем был светлым воздухом, самым тонким и чистым, – украшен вечно цветущими растениями, исполнен благоговения и света и превосходил всякое представление чувственной красоты и доброты. Это была истинно-божественная страна, жилище, достойное созданного по образу Божию58.
Итак, человек создан для славы Божией, для блаженства, которое хотя и потеряно было праотцом нашим, но бесконечно благий Бог восставил падшее естество наше и открыл нам путь к небесному блаженству, несравненно превосходящему первосозданный рай.
Теперь от нас зависит идти путём Божиим, вводящим туда, где нет ни болезни, ни печали, но жизнь блаженнейшая и бесконечная, где непрестанное радование веселящихся и славящих Господа.
Путь к Богу состоит в исполнении Его заповедей; иначе быть не может: ибо кто не исполняет воли отца своего, тот не сын ему. Но человек так слаб и немощен, что без помощи Божией не только сделать что-либо доброе, но даже и помыслить о добром не может: без Мене не можете творити ничесоже, – сказал Господь. Итак, начало нашего спасения состоит в молитвенном прошении к Богу о благодатной Его помощи, почему и наименовал один из святых отцов молитву ликоначальницей в лике добродетелей. Хотим ли мы стяжать какую добродетель: любовь, кротость, терпение, воздержание или избавиться греховных навыков: злобы, осуждения, сребролюбия, тщеславия и прочее, – всё это достигается молитвой к Всемогущему Богу о благодатной Его помощи.
Души, чуждые веры в Бога, Творца своего, святые отцы именуют мёртвыми. Так говорит святой Каллист: мнози мёртвые имут души в живом теле, аки во гробе погребённы. «Внемлите, – восклицает святой Димитрий Ростовский, – яко тело грешного человека живым гробом души мёртвой нарече!»
Тело есть одежда души, – она имеет на себе прекрасный хитон, как говорит святой Макарий Великий. Ум тесно сопряжённый с плотью – вот сущность человека, как говорит святой Василий Великий. Иные желают освободиться от тела, полагая, что оно увлекает душу ко греху; но им бы прежде следовало удержать ум свой от страстных увлечений.
Если в человеке душа преобладает над телом, то он духовный, и тело его как бы перерождается, делается духоносным, благовидным; а когда плоть возьмёт перевес над душой, то человек делается плотским, грехолюбивым, ибо плоть – противница небесной жизни; погружённая в страсти и разрыхлившись, она делается прахом, подобным навозу.
Служащие похотям тела самую душу, не изменяя её сущности, делают плотской, губят её благородство. Плоть – коварный друг, и чем кто более угождает ей, тем сильнее она ратует против него.
Как в естественном состоянии младенец не вдруг делается взрослым, но полной зрелости достигает мало-помалу, так и в состоянии духовном человек не вдруг из плотского и греховного может сделаться духовным, благоугодным, но восходит на эту высоту постепенно, подвизаясь в добродетелях, во главе коих – молитва.
В жизни человека нет ничего драгоценнее молитвы, – она и невозможное делает возможным, трудное лёгким, неудобное удобным. Молитва столько же необходима для человеческой души, сколько воздух для дыхания или вода для растения. Кто не молится, тот лишается общения с Богом и уподобляется сухому, бесплодному дереву, которое посекается и во огнь вметается (Мф.7:19). Несчастье для слепца – не видеть света; но гораздо большее несчастье для христианина – потерять расположение к молитве, лишить душу свою божественного света: в такой душе водворяется тьма; а по исходе из тела уделом её будет тьма вечная.
И.А.
V. Бог в природе
Несомненно, что мы далеко опередили своих предков в деле естествознания. Многие явления видимой природы, неизвестные и непонятные для них, сделались ясными и ощутительными для нас. Но несравненно больше осталось ещё неоткрытого и совершенно неизвестного для нас на небе и на земле. Прислушайтесь к откровенной речи умирающего Ньютона, великого астронома-физика, целые десятки лет неусыпно трудившегося на пути научном: «Я не знаю, – говорил он, – как люди будут ценить мои труды; но что до меня, то мне кажется, что я был не что иное, как дитя, играющее на берегу морском, которое поднимает то камень, несколько выполированный, то раковину довольно блестящую, между тем как перед ним расстилается великий океан истины неисследованной»59. По новейшим исследованиям других естествоиспытателей, в необъятном мировом пространстве плавают многочисленные небесные светила, величиной своей превышающие светила солнечной системы. Система Коперника, а за ним и другие открытия говорят нам, что в мировом пространстве существуют колоссальные солнца, величина и блеск которых в 1000 раз более величины и блеска нашего солнца, что гуще и гуще роятся миры, соединяясь в вращающиеся группы и системы. Из неизмеримой глубины неба и неизмеримых пространств бросают свой свет на нашу солнечную систему новые множества солнц, целые рои звёзд, которые, как песок, рассеяны по всему безграничному полю мирового пространства. Если бы мы могли быстрее молнии и скорее мысли перелетать от одной звезды к другой, от одного мирового острова к другому и в течении тысяч и миллионов лет мысленно носиться над землёй, то всё-таки мы не нашли бы границы миров. Одна система нашего млечного пути содержит в себе более 20 миллионов солнц; число звёзд, которые можно видеть вооружённым глазом, определяется в настоящее время в 500000 миллионов, а между тем всё это составляет маленькую частицу мира, всё это мировой островок между миллионами ему подобных, – в неизмеримых высотах и глубинах, для определения которых у нас нет ни слов, ни чисел, плавают бесчисленные системы миров. А вот приблизительное понятие о небесных пространствах: свет, пробегающий каждую секунду около 42000 миль, пространство между землёй и ближайшей к ней неподвижной звездой пробежит лишь в 4 года; а чтобы достигнуть ему земли от отдалённейших, едва заметных для нас, туманных пятен, требуется время по крайней мере около 20 миллионов лет.
Высчитано, что если бы в вагоне железной дороги мы ехали каждую секунду по 6 миль, и ехали бы притом день и ночь, то до солнца доехали бы только в 400 лет, а до ближайшей к земле неподвижной звезды достигли бы лишь в 108 миллионов лет60. Наука очевидными фактами доказала, что земля – едва-едва заметная точка во вселенной, что она – незначительнейший спутник одного из незначительнейших солнц, что земля по отношению к другим телам небесным не более как песчинка или пылинка.
Спустимся с небесных кругов на обитаемую нами маленькую планету – землю и здесь при внимательном рассмотрении творений встретим те же бесконечные качества – всемогущество, премудрость и благость Создателя. Наша земля, утверждённая Богом ни на чём, по выражению церковной песни, более семи тысяч лет служит предметом наблюдений и исследований со стороны многих учёных людей; между тем многое и многое ещё не понято ими из того, что находится на поверхности, или коре земной, а внутренность нашей планеты ещё менее доступна для испытателей природы. Знаменитый естествоиспытатель Броньяр говорит: «Мы сошли с земной поверхности, дабы сколько можно глубже проникнуть во внутренность земли. Но, сравнивая глубину, до которой мы достигли, с длиной земного поперечника, находим, что мы едва только разрыли земную поверхность и что скважина, сделанная иглой на лаковой оболочке глобуса, гораздо глубже, нежели величайшие углубления наши, какие сделаны во внутренности земли»61. Едва разумеваем, – сказал еврейский мудрец, – яже на земли, и яже в руках обретаем со трудом: а яже на небесех, кто исследи? (Прем.9:16). Когда человек вооружённым глазом смотрит на небо и на каплю воды, то там и здесь он видит неизмеримые области мира и нигде не находит пределов созданию Божию: и малое, и великое по виду – на самом деле всё необъятно в мире Божием. Хотя человек слишком мало знает из того, что создано Богом, но и при этом он не может не видеть органической связи между всеми созданиями Божиими и чудного порядка в их устройстве и соотношениях. Вся мерою и числом и весом расположил еси, – говорит премудрый, обращаясь к Богу (Прем.11:21).
Природа слагается из разнообразных, по-видимому, противоположных стихий, каковы, например, теплота и холод, сухость и влажность, огонь и вода и прочее, и однако ж всё в ней соединено в одно стройное целое.
Всё предусмотрено и предопределено в её составе и устройстве: каждой вещи дано количество сил, достаточных для её бытия и назначения, указал путь, предназначено время, поставлены пределы и дана определённая мера, так чтобы ни одна вещь не мешала другой, а напротив, каждая содействовала общему порядку и сама держалась этим порядком; всё подчинено строго определённым законам; от величайших тел, плавающих в пространствах небесных, до самых ничтожных насекомых, ползающих на земле, всему дано своё и самое мудрое устройство. Не только великие части мироздания, но все самомалейшие части в мире получили и вещество, и форму от руки одного высочайшего и премудрейшего Творца и Художника – Бога. Соломон царь во всей славе своей не одевался так пышно, как одевается каждая из полевых лилий. И её одеяние предначертано и устроено Богом (Мф.6:28–30).
Мудрейший из всех древних мудрецов, знавший природу от кедра ливанского до иссопа, исходящего из стены, изучавший и животных, и птиц, и гадов, и рыб (3Цар.4:31–33), находит творение Божие столь совершенно устроенным, что в нём нет ни малейшего излишества или недостатка, что оно не требует никакого прибавления или убавления (Еккл.3:14), потому что в творческом плане с точностью определена мера каждого вещества, достаточная на всё время бытия мира, предначертаны все формы и видоизменения вещества. Сотворённое так совершенно, что в продолжение стольких веков стоит непоколебимо, не стареет, не ветшает, не требует никакого поновления, улучшения или исправления. Небо, знаем мы, стоит столько тысяч лет и не ветшает, нисколько не изменяется от времени, хотя природа его и изменяема. Какое оно получило устройство с начала, такое сохраняет и до конца. Мы приведём здесь из псалма 103 замечательнейшее изображение божественного величия, мудрости и любви, открывающейся в устройстве этого мира и в целесообразном размещении его частей.
«Господи Боже мой, – взывает Давид, – Ты дивно велик, Ты облечён величием и красотой. Ты одеваешься в свет, как в ризу, простираешь небо, как шатёр. Ты делаешь облака Своей колесницей и носишься на крыльях ветра. Ты укрепил землю на её основаниях, чтоб она не поколебалась во век. Ты растишь траву и всякое земное быльё для пользы человека и животных».
«Ты создал луну и солнце для указания времён, и всё в стройном чине исполняет закон Твой».
«Господи, как многочисленны и величественны творения Твои! Ты разместил всех их премудро, и земля переполнена Твоими богатствами. Вот море, как велико и широко оно! А в нём теснятся бесчисленные животные, большие и малые. На поверхности ходят корабли, а под ними – морские чудовища, которых Ты создал, чтоб они обитали в море. И все эти твари от Тебя ожидают пищу в своё время. И когда Ты даёшь им, они собирают, когда раскрываешь руку Твою, они насыщаются благами. Когда же отвращаешь Ты лицо Твоё, они приходят в смятение, а когда возьмёшь от них дух их, они умирают и обращаются в прах. Пошлёшь Дух Твой, созидаются, и Ты обновляешь лицо земли».
Я не вижу Бога телесными очами, однако ж везде усматриваю Его премудрость. Куда бы я ни пошёл, везде Он ещё прежде меня оставил Свой след: нет ни одного вершка на всей земной поверхности, где Он не положил бы Своей печати и где я не находил бы Его следов. Каждое моё дыхание, каждое биение моего пульса, каждое движение моего сердца – всё это возвещает мне Бога, потому что Бог не несвидетельствована Себе остави (Деян.14:17). Всё видимое творение есть как бы развёрнутая перед нами книга, которая, хотя безмолвно, но слишком внятно говорит нам и делает невидимого Бога видимым для души.
Небо, земля и море, говорит святой Григорий Богослов, словом – весь видимый мир есть великая и преславная книга, красноречиво проповедующая всем людям, говорящим на всех языках, о всемогуществе, премудрости и благости Творца Бога, – о Божестве Творца62; её могут читать и грамотные, и неграмотные, – она доступна и для малых, и для возрастных; из неё могут познавать Бога и все народы, имеющие неповреждённые чувства и внимательные к делам Божиим. Бог открыл Себя ещё прежде в сотворении, чем в письменах; Он предпослал человеку видимую природу, когда только ещё намеревался послать пророков, чтобы смертный, будучи учеником природы, удобнее поверил пророчеству, чтобы скорее согласился признать божественные свойства, ясно выраженные в мире внешнем.
Профессор Либих, знаменитый естествоиспытатель, говорит в одном из своих писем: «Мир – история всемогущества и мудрости бесконечно высокого божественного Существа. Познание природы – путь к благоговению пред Творцом; оно даёт истинное средство к созерцанию величия Божия. И действительно, мы знаем, что все благонамеренные исследователи видимой природы, которым принадлежат открытия, были проникнуты благоговением пред Творцом Богом, и чем более были ясны для них тайны природы, тем более и более укреплялось в них это благоговение». – «И я, подобно Моисею, видел Бога! – восклицал знаменитый естествоиспытатель Линней, восхищаясь своими ботаническими открытиями. – Я видел Его и онемел от удивления; я видел след Его, стопы Его в делах творения и в самых малейших, ничтожными кажущихся вещах – какое вижу всемогущество, какую мудрость, сколько невыразимого совершенства»63. Знаменитый Кеплер заключает своё сочинение о гармонии миров следующими словами: «Благодарю Тебя, Создатель и Бог мой, за то, что Ты даровал мне эту радость о творении Твоём, это восхищение делами рук Твоих! Я открыл величие дел Твоих людям, насколько мог мой конечный дух постигнуть Твою бесконечность. Если я сказал что-нибудь недостойное Тебя, то прости меня милостиво»64. Надпись на гробнице Коперника, по его завещанию, в Пруссии, в городе Торне, следующая: «Не милости, которой сподобился апостол Павел, я желаю, не снисхождения, по которому Ты простил Петра, – только о том снисхождении, которое Ты оказал на кресте разбойнику, только о нём молю я»65. Исаак Ньютон своим примером жизни доказал как нельзя лучше, что исследование дел Божиих только облагораживает естествоиспытателя и делает его в то же время благочестивым и скромным. Ньютон, рассказывают, настолько благоговел пред Всевышним Творцом и Мироправителем, что снимал шапку с своей головы, когда нужно было произносить ему имя Божие66. Внимая внушению, возбуждающему мудрых к созерцанию дел Божиих, царь и пророк Давид воспевает с любовью и радостью чудные дела Божии в мире естественном. Коль велики дела Твои, Господи! Да славят Господа за милость Его и за чудеса Его для сынов человеческих, да превозносят Его в собрании народном, и да хвалят Его в соборе старейшин (Пс.103:24; 106:31–32).
Разнообразны пути, по которым восходил и восходит ум человека к убеждению в истине бытия Божия через рассмотрение видимого мира и его устройства.
Видимый мир существует, – значит, умозаключали одни, существует и Тот, от Кого он получил своё бытие, то есть Бог. По требованию прирождённого душе нашей закона причинности или достаточного основания, каждому явлению всегда ищем мы причины, почему оно существует. Так, когда держим в руках своих часы, утверждаем, что должен быть часовой мастер, сделавший их; видя в часах механизм, говорим, что должен быть механик, устроивший его; равным образом, когда смотрим на видимый мир, умозаключаем, что должен быть Творец его, должна быть причина бытия мира. Где же эта причина? Не из себя ли и не само ли собой произошло всё видимое нами в окружающем нас мире? – Нет, потому что мы существуем только с недавнего времени и жизнь наша вообще кратковременна, тогда как если бы мы сами из себя произошли, то мы должны были бы всегда существовать, а не были бы только случайным явлением известного времени, – тем более не могли произойти сами собой все предметы, находящиеся вне нас, так как они гораздо ниже мыслящего духа людей: приходят они и опять проходят. Ещё Аристотель заметил, что ряда причин нельзя растянуть в бесконечность, но необходимо нужно предположить одну самую первую и высшую причину, без которой немыслимы также никакие посредствующие причины. Это потому, что в этом так называемом ряде условных и взаимно обуславливающихся существ нет совершенно полной причины всего другого, но всегда существуют только посредствующие причины. Это было бы цепью, у которой самое верхнее кольцо плавало бы в воздухе и при всём том должно было бы поддерживать собой всю цепь. Таким образом, всё, что ни существует, имеет причину своего бытия не в себе, но в другом чём-нибудь, то есть в том, что само в себе имеет причину своего бытия, что само по себе существует, – что, значит, есть Существо безусловное, ни от чего и ни от кого не зависимое, – Существо, от Которого исходит весь ряд существ и на котором он опирается, Существо необходимое, высочайшее. А такое Существо и есть Бог. Блаженный Августин с силой и изяществом изображает, как все части видимого мира – земля, моря, ветры, воздух, небо, солнце, луна и звезды возводят ищущий истины дух к Тому, Кто их сотворил. «Я спрашивал, – говорит он, – этот великий, необъятный мир о моём Боге, и он отвечал мне: „Я – не Бог твой: и меня Бог сотворил“» («Творения Августина», глава 9).
Если бы не было действительного Бога, то мир был бы здание без основания. От существования вселенной, как совокупности мира вещественного и духовного, чистый и неомрачённый ум человека естественно восходит к существованию невидимого и самобытного Бога-Духа, виновника всего.
Сидит в прекрасных чертогах, на высоком столпе красавица-девица, дочь богатого и славного Диоскора язычника по имени Варвара, окружённая прислужницами язычницами. Смотря с высоты вверх и вниз на создания Божии, на светлость небесную и на красоту земную, она просвещалась духом и спрашивала окружающих: «Кто сотворил всё это видимое – небо, луну и звезды? Чья рука создала поля, сады, горы и воды?» Прислужницы отвечали: «Боги золотые, серебряные и деревянные, которых отец твой держит в палате своей и покланяется им, – те создали всё видимое тобой». Разумная Варвара, услышавши такой ответ, усомнилась и говорила про себя: «Боги, которых отец мой почитает, созданы руками человеческими, – золотые и серебряные сделал золотарь, деревянные – плотник. Как же эти созданные боги могли создать такую пресветлую высоту небесную и такую красоту земную – сами не имеющие возможности ни ходить ногами, ни делать руками?» Обращая взор свой к небу днём и ночью, она размышляла сама про себя: «Должно быть есть такой Бог, Которого не созидает рука человеческая, но Он Сам имеет бытие Своё и всё созидает рукой Своей. Один должен быть Бог, Который простирает широту небесную и просвещает свыше всю вселенную лучами солнечными, сиянием лунным и звёздным блистанием, а землю украшает деревьями и цветами, наполняет её реками и источниками водными. Один должен быть Бог, Который всё содержит, всё устрояет, всё оживляет и о всех промышляет»67. Так рассуждала отроковица Варвара и от рассмотрения величия и красоты творений познала Бога – Творца и Мироправителя.
Мы видим, что все вещи в мире являются, изменяются, преходят. Всё изменяется в мире вещественном, по самому свойству предметов материальных, сложенных из частей разрушимых; всё изменяется в мире духов ограниченных, по самой ограниченности их природы, их сил, способностей, действий. Что изменяемо, то не вечно. Следовательно, мир существует не от вечности, а непременно имеет своё начало и получил бытие от кого-то. «Если что вполне доказывается геологией, – говорит французский учёный Кювье, – так это та истина, что не всегда была жизнь на земле и можно легко указать то время, с которого она появилась на ней»68. «Многие философы утверждали, – говорит естествоиспытатель Либих, – что жизнь существовала от вечности и не имела для себя никакого начала; но точное исследование природы доказало, что земля некогда имела такую в себе температуру (в 78°), при которой невозможна никакая органическая жизнь. Естествоведение тем самым доказало, что органическая жизнь на земле имела своё начало»69. А первое появление жизни на земле свидетельствует о бытии Божием. Простая народная загадка: «Курица явилась прежде яйца, или яйцо прежде курицы?» – не может быть разрешена до тех пор, пока не допустим существования Бога, создавшего животные по роду своему и птицы летающие по земле. Как бы далеко мы умственно ни простирали цель существ – явлений случайных, ограниченных, восходя от действий к причинам, мы никак не можем простирать её до бесконечности, а необходимо должны где-либо остановиться и положить её начало. Кто же даровал бытие миру? – Без сомнения, не сам мир, ещё не существовавший. Есть, следовательно, вне мира, – и разум неизбежно должен допустить это, – есть Существо не случайное, а необходимое, вечное, самобытное, которое даровало бытие миру. Следы этого доказательства можем находить в слове Божием (Иов.12:7–11), ещё более у святых отцов и учителей церкви – Иустина, Кирилла Александрийского, Иоанна Дамаскина. Например, святой Иоанн Дамаскин изменчивостью всего существующего в мире вот как доказывает его творение и с тем вместе бытие Бога, Который, будучи основанием, Сам не имеет для себя основания вне. «Все существа, – говорит он, – или сотворены, или не сотворены. Если сотворены, то, без сомнения, и изменяемы: ибо что начало бытие своё с изменения, то необходимо и будет подвержено переменам, то есть или тлению, или произвольному изменению. Если же не сотворены, то по естественному следствию должны быть и неизменяемы: ибо существа, противоположные по бытию, имеют и образ бытия противоположный, то есть и свойства противоположные. Но кто не согласится, что все существа, не только подлежащие нашим чувствам, но и самые ангелы, подлежат переменам, делаются инаковыми и имеют разнообразное движение? Духовные существа, то есть ангелы, души, демоны, изменяются по своему произволению, когда преуспеяние их в добре или уклонение от добра усиливаются или ослабевают. Всё же прочее изменяется посредством телесного рождения и разрушения, приращения и уменьшения, посредством перемен в качестве и местного движения. Но что изменяемо, то сотворено кем-нибудь. А Творец должен быть уже не сотворён, ибо если и Он сотворён, то непременно сотворён кем-нибудь, а сей – другим и так далее, пока не дойдём до чего-либо не сотворённого. Итак, Творец должен быть не создан, а следовательно, и неизменяем. Но неизменяемый что есть иное, как не Бог» («Точное изложение православной веры», книга 1, глава 3, с.5–6)70.
В природе мы видим постоянное движение, деятельность и жизнь; а это значит, заключали другие, что существует Тот, Кто первоначально сообщил всему движение, то есть Бог.
Мир существует не просто только как мёртвая масса, – напротив того, везде мы видим в нём движение, деятельность, жизнь, начиная с небесных тел, протекающих чрезвычайно огромные пути по небесной тверди, и кончая образованием в недрах земли кристаллов, – от мотылька, порхающего при ясных лучах весеннего солнца, и до льва, этого наводящего ужас обитателя пустыни, – от червя, кроющегося в земле, и до течения мыслей в человеческой душе. Между тем движение обыкновенно всегда переходит от одного чего-нибудь к другому. Акт воли, например, двигает руку, рука двигает палку, палка касается известного предмета. Вот почему, если во всей вселенной разлит такой поток движения, деятельности и жизни, вследствие чего мы видим здесь движение и механическое, и органическое, и духовное, – то этот поток необходимо должен вытекать из какого-нибудь источника, должен иметь свою причину, от которой исходит всякое движение и всякая жизнь, но которая сама между тем уже не получает движения от чего-либо ещё другого. Естествознание твёрдо доказало, что никакая материя не движется сама собой, никакая сила природы не действует сама собой без возбуждения или содействия других сторонних сил. Как верно то, что никакая материя не движется сама собой, а напротив, основное свойство всякой материи – неподвижность, точно так же верно и то, что первый толчок к движению атомов и вместе к происхождению мира может исходить только от силы самодвижения, отличной от каждой мировой естественной силы, – следовательно, есть не мировая, сверхъестественная сила, существующая прежде естественной, так как составляет необходимое предположение всего происходящего в природе. Естествознание при объяснении происхождения и образования мирового целого не может сделать ни одного шага без предположения движущей, приводящей в порядок, управляющей причины71. Если бы перед нами лежало в одну линию, положим, сто шаров, говорит один писатель72, и если бы все они последовательно получили движение, сообщённое им первым шаром, то не заставило ли бы это движение предположить руку, которая, повинуясь чьей-либо воле, дала первый толчок? И если положение вещей препятствует мне видеть руку, то неужели через это она менее будет очевидной для моего ума? Таким высшим началом движения в мире служит Бог, «Который имеет жизнь в самом Себе» и есть первоисточник всякого бытия, то есть всего, что только живёт и движется во вселенной, – Который Сам не что другое, как жизнь, как чистая деятельность, как чистый ум. Иначе как бы что-нибудь двигалось, сказал ещё Аристотель, если бы не существовало наперёд какой-нибудь двигающей силы?
Усматриваемое нами во вселенной правильное движение совершается не без плана и цели; напротив того, везде мы видим строгий порядок, целесообразность, или направление средств к благим целям, красоту, или гармоническое соединение многообразного в единство: значит, существует, утверждали многие, Тот, Кто предначертал такой порядок, привёл его в исполнение и поддерживает теперь. Премудрое существо, дающее всему такой порядок, и есть Бог.
На всём, что только существует в этом видимом мире, во всей его целости и объёме, подобно тому, как и в каждом отдельном организме, лежит одна та же печать целесообразности и порядка. Движения многосложны и многочисленны, но в них нет запутанности, – всё так же стройно связано, как и в первые времена мира. Главнейшие силы тяготения и отталкивания, действуя по своим законам, держат в постоянной, вековой связи обширнейшее мироздание. Во всём видим величайшую правильность, нет перерыва, нет ничего без закона. Обратите внимание на то, как от движения солнца происходит год и как луна, то прибывая, то убывая, измеряет месяцы – всегда в порядке. Постоянно правильная смена времён года – весна со своими цветами, лето со своими жатвами, с спелыми и приятными плодами, и зима, следующая за осенью, – также утро, полдень, вечер и ночь, сменяющиеся ежедневно, не указывают ли на правильный и строгий порядок? Мир видимый везде проявляет следы премудрости, начиная с малой травки и до организма человеческого. Каждая травка на земле может занять ум человека своим искусством, мудрым устройством, говорит святой Василий Великий (Беседы на Шестоднев). Благослови, душе моя, Господа, – поёт Давид, восхищённый созерцанием чудных дел Божиих. Господи Боже мой, возвеличился еси зело. Яко возвеличишася дела Твоя, Господи: вся премудростию сотворил еси (Пс.103:1, 24).
Причиной порядка и целесообразного устройства мира может быть не иная сила, как разумная. Рассматривая разумные силы, находящиеся в мире, мы часто видим в них высокую степень проницания и мудрости; впрочем, никакое проницание ограниченного по бытию существа недостаточно для того, чтоб обнять всю совокупность существ мира. Разумная сила должна обнять все части мира, устроить между ними согласие; но каждое из представляющихся нам разумных существ обнимает только некоторую, большую или меньшую, часть вселенной и не может простирать своих действий на всё. Итак, ни в существах физических, ни в духовных, наполняющих мир, нет такой силы, которая могла бы установить и поддерживать порядок в необъятно-обширном творении. Для этого нужны и существование прежде мира, и всеведение, и благость всеобъемлющая; сверх сего нужно и всемогущество для сохранения и поддержания порядка, во всём однажды установленного. Все эти свойства необходимо предположить в виновнике устройства мира. А личное существо, имеющее бесконечные свойства – всеведение, беспредельную благость, всемогущество, высочайшую премудрость, и есть Бог – Творец и Промыслитель вселенной.
Довод бытия Божия, заимствуемый из рассмотрения устройства мира, был любимым у здравомыслящих философов. Из греческих философов особенно обращались к рассмотрению порядка мира Сократ и ученик его Платон. В разговорах Сократа находим, что он, убеждая Аристодема в бытии Божием, указывал на мудрое устройство тела человеческого, по которому в органах его всё соответствует целям каждого. Платон, обращая внимание на порядок и мудрое устройство мира, на небесные светила – солнце, луну и звезды, на постоянно правильное обращение этой громады, доказывал, что всё сие держит ум. Кругообращающиеся тела небесные, говорит он в 10-й книге о законах, не отбегают от своего центра, но постоянно возвращаются вокруг его на свои места, которые они занимали в первый период своего обращения, и таким образом сохраняют единообразность, постоянство и правильность в своём движении. Действовать так – сродно уму; прихоть изменчива, рассеянна; уму свойственно иметь всегда достоянную цель и действовать однообразно, правильно, что самое и замечается во вселенной. Посему она необходимо предполагает для себя причиной величайший ум («Лекции по умозрительному богословию» протоиерея Голубинского, с.53).
Подобные размышления встречаются у Аристотеля, стоиков, у средневековых мыслителей и особенно в половине прошедшего столетия.
Роберт Бойль указывал на исследование природы как на лучшее средство к утверждению веры в Бога и к обличению вольномыслия. Святые отцы и учители церкви (Афинагор, Тертуллиан, Минуций Феликс, Григорий Богослов, Афанасий Великий, Василий Великий и другие) в прекрасных живых образах представляют мудрое устройство величественной природы видимой в подтверждение истины бытия премудрейшего Создателя оной – Бога. Для примера приведём здесь подлинные слова Минуция Феликса:
«Те люди, – говорит он, – которые думают, что весь этот благоустроенный мир не божественным разумом создан, не имеют, мне кажется, ни разума, ни мысли, ни сердца, ни даже глаз. В самом деле, если только поднимешь взоры на небо и рассмотришь то, что под ним и на нём, то может ли быть что-нибудь яснее и достовернее той истины, что есть некоторое существо превосходнейшего разума, которое проникает, движет, сохраняет и направляет всю природу: всё видимое не только не могло произойти, образоваться и прийти в порядок без верховного Художника, без совершеннейшего Разума, но даже не может быть воспринято, исследовано и постигнуто без величайшего усилия и деятельности разума. Легко расстроился бы порядок природы, если бы не поддерживался высшим разумнейшим Существом. А какая предусмотрительность видна в том, что даны нам весна и осень с своей средней температурой, чтобы зима не томила нас только своим холодом и лето не палило своим жаром и чтобы незаметны были и нечувствительны переходы из одного времени года в другое. Особенно же в красоте нашего образа открывается, что Бог есть высочайший художник: прямое положение тела, взор, устремлённый к верху, глаза, помещённые высоко, как бы на сторожевой башне, для того, чтобы можно было видеть опасности для целости организма и избегать их, и все прочие чувства, расположенные как бы в укреплении. Когда ты при входе в какой-нибудь дом видишь повсюду порядок, красоту, то, конечно, подумаешь, что им управляет хозяин и что он гораздо превосходнее, чем эти блага; подумай же, что и в доме этого мира, – когда смотришь на небо и на землю и находишь в них промышление, порядок и закон, – есть Господь и Отец всего, Который несравненно прекраснее самых звёзд и частей всего мира»73.
Таким образом, вполне оправдываются слова святого апостола Павла: невидимая Его, от создания мира творениями помышляема, видима суть, и присносущная сила Его и Божество (Рим.1:20).
Язычникам открыто было всё, что можно знать о Боге путём естествоведения, посему они безответны пред Богом, учит святой апостол (Рим.1:20–23). Они недостойны прощения, по выражению Премудрого, потому что увлеклись одной видимостью, остановили мысль, ищущую Бога, только на красоте и совершенстве видимого и не возвели её к благоговейному и благодарному созерцанию невидимого Виновника видимой красоты.
Небеса внятно проповедуют нам славу Божию, а творение рук Божиих открывает твердь. Отчего же, спросите, не все убеждаются в истине бытия Божия, имея всегда перед собой наставницу-природу? Наша невнимательность бывает причиной этого явления. Можно смотреть – и не видеть, когда недостаёт с нашей стороны должного внимания к предмету, – в этом убеждает каждого из нас собственный опыт. Человек тогда понимает естественное откровение Бога, когда не останавливается только на внешней стороне дел Божиих, но проникает в их внутренний смысл и значение, в намерения и цели действующего, – для этого и дан человеку разум. Пророк обличает невнимательность к делам Божиим – как расслабление и огрубение духа, погруженного в чувственность.
Ещё больше препятствует человеку видеть Бога в устройстве видимой природы – безнравственная порочная жизнь. Нечестивец, по выражению пророка Давида, прилагая грехи ко грехам, глумится над верой в Бога и в Его промысл и хвалится похотью души своей. Нет Бога в мыслях его. Чужды для него суды Божии. Нечестный в сердце своём говорит: забыл Бог, закрыл лице Своё и не увидит никогда. Он не смотрит, и не взыщет (Пс.9:24–32). Безнравственный человек не хочет, чтобы существовал Бог, потому что боится Его, как праведного мздовоздаятеля.
Показал Бог в природе величество дел Своих: да имя святыни Его восхвалят все людии, и да поведуют величие дел Его (Пс.110:1–2). Пророк Давид, ревностный и пламенный проповедник великих дел Божиих, внушает и другим не утаивать, но велегласно возвещать славу и величие дел Его (Пс.104:1–2). Хвала Господа да будет на устах наших ныне и во век.
А.М.
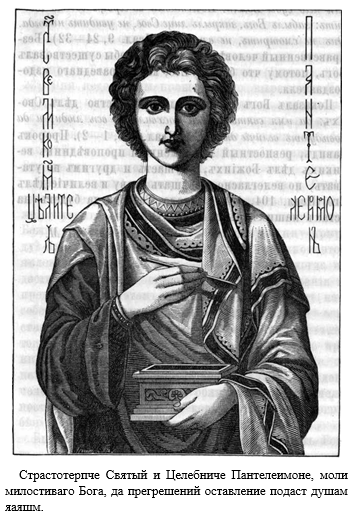
О благодатной помощи, явленной от святого великомученика и целителя Пантелеимона
(Извлечение из писем)
Слава о благодатной помощи, изливающейся по молитвам к святому великомученику и целителю Пантелеимону, широко распространилась во всех пределах нашего православного отечества, – множество страждущих душевно и телесно обращаются с молитвой к безмездному врачу и скорое получают облегчение. К сожалению, подобные случаи передаются лишь устно и в тесном кругу близких лиц, а письменные заявления получаются от немногих; воспользуемся ими и хотя нечто из совершившегося передадим во славу великого угодника Божия.
Извлечение из письма начальника Новгородского губернского жандармского управления В.В.К. от 24-го марта 1879 года на имя афонского иеромонаха Арсения:
Думаю, что грешно и бессердечно было бы молчать и невнимательно относиться к тем случаям в нашей жизни, в которых видимо проявлялась благодать Божия, особенно когда случаи эти устраивали быт нашей жизни и радовали нас. В чувствах благодарности к Богу за Его милости я хочу передать вам о необыкновенном случае, бывшем в нашем семействе.
В 1873 году, 4 сентября, заболел опасно годовой единственный мой сын Александр. Я жил тогда в усадьбе моей, Псковской губернии, в Торопецком уезде. Послали в город за доктором, употребляли все средства, но ребёнку час от часу делалось хуже, несколько дней не брал он груди у кормилицы, наконец глазки закрылись и исхудалый ребёнок лежал едва живой. Кормилица пришла мне сказать, что ребёнок совсем плох и чтоб я перекрестил его. Действительно, он угасал. Это было утром в воскресенье. Я сказал жене, что теперь остаётся одно – молиться Господу Богу и просить Его небесной помощи, и поехал в церковь к обедне. Жена стала на колени и начала читать акафист святому великомученику и целителю Пантелеимону и просить Его об исцелении единственного нашего ребёнка. Во время ещё чтения акафиста входит в спальню, где она молилась, горничная наша и с весёлым лицом объявляет, что ребёнок вдруг засмеялся, сидит на столе и играет игрушками своими. Жена, увидя это, изумилась.
После грешной, но от всего сердца молитвы моей в Церкви и молебна целителю Пантелеимону я возвращался в экипаже домой с стеснённым сердцем, ожидая, что может быть не найду живым моего ребёнка. Подъезжая к дому, я заметил на крыльце несколько слуг моих с весёлыми лицами; они с радостью объявили мне, что ребёнок смеётся и играет, и теперь его возит кормилица по комнатам в коляске. Я вошёл в дом и, увидев всё это, был изумлён и обрадован неизъяснимо, видя такое чудное исцеление, дарованное от святого великомученика и целителя Пантелеимона.
Это так запечатлелось во мне, что я и теперь без содрогания не могу вспомнить о таковом чудном знамении, совершившемся по молитве к святому великомученику и целителю Пантелеимону.
Новгородского Покрово-Звериного монастыря мать игуменья Лидия в письме от 30-го марта 1879 года на имя афонского иеромонаха Арсения заявила о следующих замечательных случаях, бывших с нею:
В 1868 году, декабря 30 (пишет она), по случаю смерти одного из благодетелей наших, я с двумя послушницами отправилась в Петербург. Так как ещё не была устроена из Новгорода железная дорога, то мы наняли возок. Мороз был 33 градуса. От деревни Мостков проехав вёрст пять, мы остановлены были мужиками (их было человек 9 пьяных, ехавших на дровнях). Остановив нас, они стали требовать денег на выпивку, лошадей наших выпрягли, ямщика избили. Мы, испуганные, простояли часа три и очень прозябли. Возвратясь в монастырь, я получила столь сильный насморк, что страдала им более года, так что трудно было мне дышать. Доктор советовал сделать операцию, на что я никак не решилась.
9-го января 1870 года я получила с почты квитанцию, что посылается со святого Афона икона святого великомученика Пантелеимона на имя моё, и так как меня просил один благочестивый крестьянин переслать ожидаемую им святую икону с Афона, то я и полагала, что икона эта следует ему. Получив эту драгоценную посылку, я решилась раскупорить ящик, чтобы приложиться ко святой иконе и потом уже отправить её по назначению. Когда открыт был ящик, то от сильного холода вся икона покрылась инеем, и пошёл от неё пар от комнатной теплоты. Я взяла чистый платок, обтёрла им лик угодника Божия и вдыхала в себя холод от иконы, а платком холодным и мокрым обвязала горло. В это время увидела я освобождённый от инея чудный лик угодника Божия Пантелеимона. Но какова была моя радость, когда, прочитав надпись на обороте драгоценной этой иконы, я узнала, что эта святыня прислана в дар со святого Афона, из Руссика, боголюбивыми афонскими старцами, в благословение нашей обители. Радость была у нас в обители полная, – все мы радовались посещению небесного гостя. После сего на другой день я закашляла, и у меня без всякой боли запёкшаяся кровь кусками стала отделяться и выходить из носа через горло, чем и разрешилось моё продолжительное страдание.
Ещё был случай дивного исцеления: у меня на ноге образовалась пятнистая рожа и сильно беспокоила меня; но как только приложено было к больному месту изображение на полотне святыни Афонской, то милостью Божией я на другой же день получила исцеление.
Жди скорбей – как дорогих гостей
Внимай слову Спасителя: в мире сем скорбни будете. Сказал это Господь возлюбленным ученикам Своим, а в лице их и всем нам, а святой апостол Павел убеждает не только к терпению скорбей, но даже и радоваться о них повелевает, и не просто радоваться, а великой радостью радоваться, когда впадаем в искушения многоразличные. Указанием на многоразличные искушения святой апостол вразумляет нас, дабы всякого рода искушения, болезни, лишения, гонения, клеветы, злобу, бедность, бесчестие, поругание – всё б это и многое иное терпели бы мы не только благодушно, но даже с великой радостью, так как этими скорбями, как ступенями, восходим мы туда, где уже не будет никаких скорбей, никаких лишений, а будет там нескончаемое блаженство – такое, которое никаким человеческим словом не может быть объяснено.
Святой апостол также сказал, что недостойны скорби сего века к хотящей явитися в нас славе. Без сомнения, тяжело нести крест; но когда подумаем, что крест этот, как бы ни был он тяжёл, не вечный, и хотя кому даже всю жизнь довелось его нести, но смерть полагает конец всему земному, – когда рассудим всё это, то, без сомнения, облегчится крест наш. Ради обогащения земными, маловременными благами люди предпринимают дальние путешествия по суше и по морям с опасностью потерять жизнь, а иные всю жизнь свою проводят в тяжёлом труде, – как же не понесём мы временно крест свой, который приведёт нас к бесконечному блаженству? Это подобно тому, если бы кто с лишениями и трудом прошёл некоторое пространство, достиг бы чудного, великолепного сада и дворца, и всё б это отдано было ему за малый его труд в вечное владение.
Придёт время, спадёт повязка с глаз наших, и будем мы благословлять каждый час, каждую минуту, прожитую нами в скорбях, – увидим мы, какого неоценённого сокровища удостоились за маловременные скорби и тогда только вполне уразумеем сказанное святым апостолом: недостойны скорби этого века в сравнении с той славой, которая за них уготована.
Святые апостолы, пророки, мученики, преподобные, праведные и все святые тесным путём вошли в вечный покой – и теперь блаженствуют, и их дивному блаженству не будет конца. Что пользы, если мы здесь будем наслаждаться богатством, почестями и прочими временными благами? Смерть – конец всему земному и начало будущего бесконечного, о коем мы денно и нощно должны заботиться, что, как сказал Спаситель Марии, едино есть на потребу.
О борьбе души с духами злобы в час смертный
День особенной духовной брани в нас есть день смерти. Если враг дерзнул явиться и к безгрешному Спасителю нашему при конце земной его жизни, в чаянии найти в Нём какую-нибудь погрешность, как сказал сам Господь: грядет мира сего князь, и во Мне не имать ничесоже (Ин.14:30); то тем смелее является он к каждому из нас перед нашей кончиной и дерзостно приражается к нам грешным. Итак, чтобы брань смертная не застигла нас неготовыми, необходимо бороться мужественно во время данной нам Богом жизни. Проведший свою жизнь в мужественной борьбе, по навыку и опытности в духовной брани, легко одерживает победу и в последний час смерти. Для сего требуется так же частое и внимательное размышление о смерти: делающий это страшную для неготовых смерть встречает с меньшим страхом; ум его, не занятый сторонними предметами, будет свободен в избрании мер для успешного окончания предсмертной борьбы.
Но в чём состоит предсмертная брань, и что нужно нам делать в час смерти, чтоб не остаться навсегда побеждёнными?
Есть четыре главных и более опасных прилога, то есть помысла, которыми враги наши, демоны, имеют обыкновение побеждать нас в эти минуты, это: 1).неверие, 2).отчаяние, 3).тщеславие, 4).различные мечтания и преобразования демонов в ангелов света.
I
Если враг начнёт нападать на тебя лживыми умствованиями и влагать в твой ум помыслы неверия, то презри плевелы его и с твёрдой волей говори ему: иди за мною, сатана, отец лжи; не хочу ничего слышать от тебя, я верую, во что верует святая Церковь, и более ничего, никаких умствований твоих мне не нужно. И отнюдь не давай места в сердце твоём помыслам неверия, по Святому Писанию: аще дух владеющаго (то есть врага) взыдет на тя, места твоего не остави; лукавство бо изыде от лица владеющего (Еккл.10:4–5). Помыслы неверия внушает диавол, чтобы низринуть тебя, а потому утверди ум свой, стой мужественно, берегись принимать не только какое-либо умствование, но даже изречение Божественного Писания, представляемое тебе доброненавистником; знай, что священные изречения приводит он всегда неполными и худо произносимыми, с превратным толкованием их, хотя и старается показать их уму хорошо, чисто и ясно произносимыми. Если этот лукавый змий спросит тебя: чему верует Церковь, – оставь его с полным презрением и отнюдь не отвечай на его вопрос. Зная ложь и коварство его и видя, как он старается уловить тебя словами, веруй лишь несомненно от всего сердца в учение святой Церкви, и когда, Божией благодатью, силён ты в вере и непоколебим помыслом, к большему посрамлению врага отвечай, что всё, во что верует святая Церковь, есть непреложная истина. Но, положим, он возразит: какая это истина? Кратко скажи: та, в которую святая Церковь верует. При этом постоянно старайся содержать сердце своё устремлённым к Распятому за нас и взывай к Нему: «Боже мой, Творче и Искупитель мой! Помози мне в час сей и не попусти удалиться от истины святой веры или поколебаться в ней, но благоволи мне, в истине сей благодатью Твоей рождённому и наставленному, окончить жизнь мою ко славе пресвятого Твоего имени».
II
Второй прилог, которым лукавый усиливается совершенно победить нас, есть страх, влагаемый в сердце напоминанием нам всех наших грехов, чтобы низринуть нас в ров отчаяния и безнадёжности. Чтобы не впасть в такую беду, нужно тебе хорошо знать, что напоминание грехов тогда бывает от благодати и спасительно, когда оно смиряет тебя и возбуждает болезнь в сердце, сокрушение о том, что грехами своими ты оскорблял Бога, и, вместе с тем, поселяет в тебе надежду и упование на благость Его. Но когда напоминание грехов смущает тебя, ввергает в неверие и малодушие и заставляет считать себя человеком на веки осуждённым, которому нет более времени ко спасению, знай, что такое напоминание – от диавола. Посему, смиряя себя как можно более, отнюдь не оставляй надежды на Бога – и ты победишь врага его же орудием и воздашь славу Богу.
Нужно нам всякий раз печалиться и болеть сердцем об оскорблении, причиняемом Господу, когда вспоминаем грехи свои; однако необходимо питать и надежду на крестные заслуги Его и ради сих великих заслуг просить у Него прощения. Если же тебе кажется, будто сам Бог прямо говорит твоему сердцу, что ты не от овец Его, и в таком случае не должно тебе оставлять надежду и упование на Него. Не переставай и тогда взывать: поистине, Боже мой, я достоин того, чтобы Ты отверг меня за грехи мои; но всё-таки дерзаю уповать на Твоё благоутробие и надеяться, что Ты простишь меня. Почему и умоляю, не лиши спасения создание Твоё, достойное осуждения за злые свои дела, однакож искуплённые ценой святейшей Твоей крови. Желая быть в числе спасённых, Искупитель мой, во славу Твою, я весь, с надеждой на безмерное благоутробие Твоё, предаюсь в руце милосердия Твоего; твори со мной, что Тебе благоугодно, ибо Ты един владыка мой. Если Ты и умертвишь меня, и тогда буду я иметь в Тебе животворную свою надежду.
III
Третий прилог состоит в тщеславии и самомнении, которое побуждает надеяться на самого себя и на то, что я буду спасён собственными своими делами. Смотри же всегда, а особенно в тот последний час смерти не попускай своему уму полагаться на себя и на свои дела, хотя бы ты совершил и все добродетели святых; напротив, надейся на одного Бога и на Его благоутробие, поминая крестные страдания Спасителя, понесённые Им ради твоего спасения, уничижай себя до последнего издыхания. Если же иногда случайно и возникнет в тебе мысль о каком-нибудь добром деле, – знай, что силой одного Бога, а не твоей, совершено оно. Проси помощи Божией и надейся получить её не ради заслуг своих или ради великой испытанной тобой брани, в коей ты являлся победителем, но постоянно содержи себя во святом страхе, сознавая искренно, что все твои заботы, труды и подвиги были бы тщетны, если бы не содействовал тебе и не собирал их под сень крилу Своею Сам Бог, – на Его только защиту возлагай всё своё упование. Если последуешь этому совету, то не победят тебя враги в час смерти прилогом тщеславия, – тебе откроется свободный путь от земли к небесному Иерусалиму, в преблаженное наше отечество.
IV
Если упорный в борьбе враг наш, никогда не утомляющийся в наведении искушений, будет одолевать тебя когда-нибудь, а особенно перед смертью, некоторыми ложными явлениями, видениями и преобразованиями в ангела света, – ты стой твёрдо в сознании своего ничтожества и смело говори: возвратись, окаянный, во тьму твою, ибо я не имею нужды ни в видениях, ни в другом чём, кроме благоутробия Христова и ходатайства Приснодевы Марии и святых пред Господом. Пусть бы ты и в самом деле сознавал, что те видения действительно от Бога, и тогда старайся отстранять их от себя, сколько можешь, и не думай, что устранением их, в сознании своего недостоинства, ты оскорбишь Бога. Если видения точно от Бога, Он Сам знает, как просветить и уверить тебя и не вменить Себе в оскорбление, что ты опасаешься принимать их. Дающий смиренным благодать не отнимает Своей благости за дела, совершаемые по чувству смирения.
Таковы более общие оружия, употребляемые против нас врагом в последние часы нашей жизни, хотя на каждого он восстаёт, смотря по наклонностям и страстям, каким кто более подвержен. Итак, повторим: чтобы не остаться навсегда побеждённым, непременно должно прежде наступления смертного часа при Божией помощи вооружаться против тех страстей, которые особенно обладают нами, и бороться с ними мужественно, чтобы легче победить нам диавола и тогда – в последние минуты жизни.
А.М.
О загробной участи нашей
Когда человек приближается к смерти и уже не подаёт никакой надежды на выздоровление, то плачут о нём родные и близкие его, приготовляясь к разлуке с ним... Так и душа человеческая, грехами своими удалившая себя от Бога, когда уже не остаётся никакой надежды на спасение её, оплакивается ангелами Божиими и святыми угодниками, разлучающимися с нею на веки вечные.
Горе тебе, душа моя, – возлюбила ты временную сладость жизни земной и вознерадела о небесном, вечном.
Горе тебе, душа моя, – смрад грехов твоих удалил от тебя ангела-хранителя твоего – и приблизился к тебе лютый твой враг, дух злобы, ищущий поглотить тебя и заживо ввергнуть в бездну адскую.
Горе тебе, душа моя, – Единородный Сын Божий, Бог всесильный, всемогущий, жил на земле в уничижении, не имел, где главы подклонить, хулимый, досаждаемый, укоряемый и, наконец, после лютейших мучений распятый на кресте между разбойниками и проливший пречистую Свою Кровь ради твоего спасения, – а ты, окаянная, о том только и думаешь, как бы тебе здесь, на земле, больше поблаженствовать, о том лишь заботишься, как бы достигнуть исполнения греховных прихотей твоих, которым нет ни меры, ни границы, ни предела. Убойся часа смертного, внезапно постигающего человека, – убойся страшного суда Божия, убойся муки вечные... Восстань, воспряни, да пощадит тя Христос Бог, везде сый и вся исполняяй.
И.А.
VII. Бессмертие души
Смерти празднуем умерщвление, адово
разрушение, иного жития вечного начало...
(Из 7 песни Пасхального канона)
Утешительно и отрадно сердцу христианина знать, что нет для него смерти, что жало её притуплено воскресшим из мёртвых Христом Спасителем. То, что на обыкновенном человеческом языке называется смертью, есть для верующего христианина момент перехода в другую – лучшую жизнь, есть только перемена условий жизни – новое рождение. В утробе младенец соединён физическим образом с телом матери и живёт её жизнью, при рождении его эта связь, эти жизненные каналы разрываются, точно так, как у умирающего человека прекращается дыхание и питание, которыми он жил и которыми связан был с миром внешним. Следовательно, рождаться и умирать одно и то же, в том и другом случае сущность дела в перемене среды жизни. С рождающимся имеет совершенное сходство умирающий. И для него мир есть утроба, с тем только различием, что эта утроба большая и что с утробой связь младенца грубее, а он с миром соединён тонее, духовнее, постоянным дыханием и повременным питанием. Смерть прекращает эти способы жизни, подобно тому, как рождение разрывает оболочку младенца и прекращает способы его утробной жизни. Но дух новорождённого находит новый способ жизни и новый образ питания внешнего, не так грубого, как в утробе матери; по смерти то же бывает и с духом человеческим; он вступает в союз с миром же, только без сомнения в союз высший, духовнейший. Мы не ясно знаем, что будет с нами за гробом; но если бы младенец получил смысл и начал понимать перед рождением, то так же и он не мог бы вполне знать, что с ним будет по выходе из утробы. Он не понимал бы настоящей жизни, хотя все орудия, нужные к ней, как-то: лёгкие для дыхания, пищеварительные каналы для питания у него есть. Ему трудно бы представить настоящую жизнь, которой он ещё не видит, и потому при рождении ему легко бы пришла мысль, что его уже не будет, что он уже умер. Если бы он мог, подобно нам, рассуждать, то своё рождение почитал бы смертью. Хочется жить на земле, доколе дух находится в земном сосуде, то есть в теле, но лишь только он освобождается из своего тесного вместилища, как перед ним открывается широкий, ничем не стесняемый простор, и разгибается та таинственная книга, в которую много веков уже стараются заглянуть люди, для него решаются те вековые вопросы, перед которыми остаются бессильными все мудрования человеческого разума. Что в земной жизни мы можем разумевать только отчасти и как бы зерцалом в гадании, по выражению святого апостола, то за гробом откроется нам лицом в лицу во всей полноте. Великая радость для учёного сделать какое-нибудь важное открытие в области науки; но во сколько крат более и выше должна быть радость истинного христианина, достойно приготовленного для жизни будущей, и перешедшего в неё из этого мира, когда все предметы представятся ему в их истинном виде, когда не может уже быть ни сомнений, ни отрицаний, ни колебаний, которые так обыкновенны в науках. Се, скиния Божия с человеки, и вселится с ними; и тии люди Его будут, и Сам Бог будет с ними Бог их... и воцарятся во веки веков (Откр.21:3; 22:5).
Как существо, предназначенное к бессмертию, человек по этому самому не может не иметь предчувствия о нём; и действительно, нет человека, который в известные минуты жизни не думал бы о том, что за пределами смерти. Во всех ли равно это чувство? – В иных оно очень сильно, а в других так слабо, что едва заметно. От чего зависит эта разность, от природы или воли самого человека? – Чувство бессмертия, как и все прочие чувства в нашей душе, может усиливаться и ослабевать. Когда прилагают старание, то оно усиливается; но если небрегут о нём, а тем более когда действуют противоположно, то оно ослабевает.
И вот причина, почему в миролюбцах сильно развито чувство смертности, они боятся смерти, а в людях добродетельных сильно чувство бессмертия, они смотрят на гроб, как другие смотрят на своё ночное ложе. Почему и говорили некоторые святые, что они желали бы умереть, дабы с Богом быть, например, Симеон Богоприимец, апостол Павел и другие, они смотрели на смерть как на переход в новую, лучшую, бесконечную жизнь.
Отрицать бессмертие значит считать ложью голос внутреннего сознания человека, в глубине души которого таится или непреодолимое желание загробной жизни и радостная надежда на неё, или же чувство страха пред нею, – во всяком случае таится мысль о загробной жизни. Зачем же Богу создавать бы душу, имеющую понятие о вечном, а вместе с тем и стремление к вечному, если её жизнь на самом деле так кратковременна? Я не понимаю, говорит учёный Ля-Брюйер, каким образом возможно умереть душе, когда Бог наделил её идеей о бесконечном и вечными истинами?
Мысль о бессмертии души служит выражением не какого-нибудь единичного, случайного и произвольного желания, но всеобщей неизменной и отличительной чертой человека, когда и где он ни жил бы и на какой степени образования ни находился бы. Если бы человек не был бессмертен, то откуда бы он получил понятие о бессмертии? Везде в мире он видит только смертное, поэтому мир не мог сообщить ему такого понятия. Следовательно, собственная природа указывает человеку на бессмертие, а голос природы никогда не обманывает, – он есть голос Самого Бога, от Которого природа получила своё бытие. Мысль о собственном бессмертии так сродна душе человека, что составляет одно из самых первых и непосредственных убеждений её. Мысль эта не есть вывод или заключение из других мыслей, не добывается посредством исследований, а есть прямое сознание наше, раскрывающееся в нас с сознанием самой жизни. Поэтому-то не было и нет такого народа, у которого не существовало бы веры в жизнь загробную; вера в бессмертие и жизнь души за гробом была у людей всегда и везде. Это подтверждается прежде всего тем почтением, которое оказывается у всех народов умершим людям. Законы греческого мудреца Солона изрекают проклятие на всякое поругание, наносимое могиле умершего, а римские законы дают могиле значение религиозной святыни, которое должно было охранять её от всякого непочтительного и неблагоговейного обращения с нею74. Все народы древние, известные в истории, верили в бессмертие души человеческой прежде всего, когда не знали ещё ни законов гражданственности, ни наук, и не оставляли этого убеждения на самых высших степенях образованности, хотя убеждения их в этой истине самые разнообразные и несовершенные. Греки и римляне своим учением об аиде (аде), о Елисейских полях (или рае), тартаре и плутоне, оставили нам памятник своей веры в бессмертие души и будущее воздаяние её. С смертью не прекращается бытие человека, не прекращается сознание, учит Гомер75. Предсмертные речи греческого философа Сократа проникнуты верой в бессмертие. Вот что говорил он: «Если бы я не думал, что пойду к отшедшим людям, которые лучше здешних, то, конечно, я был бы неправ, равнодушно смотря на смерть. Но теперь знайте, что я надеюсь увидеться с добрыми людьми, хотя этого не могу доказать решительно. Посему я не скорблю, но уверен, что умершие существуют и что добрым там гораздо лучше, чем злым»76. Не только о существовании загробной жизни учили просвещённые греки, но и о состоянии душ, отшедших из этого мира. Вот как изображает другой греческий философ Платон77 суд над мёртвыми и последующую судьбу их: «Умершие приходят на место, куда каждого ведёт дух, и прежде всего подвергаются суду, кто из них жил хорошо и свято, кто нет».
Славянские народы тоже допускали бессмертие души, грубо представляя души умерших наслаждающимися чувственными удовольствиями, способными пить кровь человеческую78. У германцев мы встречаемся с верой в бессмертие души человеческой и будущее воздаяние за гробом. На небе, в прекрасном дворце будут жить, по учению германского язычества, души людей добрых, а на кладбище, в мрачных могилах живут души умерших злых людей. Даже дикари Австралии, краснокожие северной Америки, мексиканские ацтеки, перуанские инки, держащиеся фетишизма – низшей степени боготворения, не только верят в бессмертие души человеческой, но и допускают, почти все, различие в судьбе умерших, определяемое различием их качеств, усвояют умершим сознание. Общая всем диким народам особенная заботливость о покойниках при их погребении, когда в могилу их кладут пищу и оружие, показывает нам, как доступна человеку вера в будущую жизнь, что дикарь считает смерть переходом в другую лучшую жизнь. Камчадалы и гренландцы кладут верную собаку у гроба покойника и погребают с ним, чтобы она была ему проводником к прежде умершим родным. Караибы с умершими мужьями закапывают живых жён, с господами – рабов, с победителями – пленников, чтобы и на том свете они могли жить в такой же обстановке, в какой жили прежде, – здесь на земле. Лапландцы кладут в гроб умершего огниво и кремень, чтобы в стране мрака они могли достать себе огня для освещения и обозрения. Некоторые, сожигая тела умерших, изливают кровь в могилу покойника, думая тем успокоить его душу, и сожиганием материальной оболочки, ускорить переход души в высшие сферы. Африканские негры смерть приписывают чародейству и гневу богов и уверены, что это бывает только на время. Травсы-варвары, по описанию Геродота, так поступают с новорождёнными и умирающими: окружая новорождённого, сродники сетуют о том, сколько должно ему претерпеть бедствий с того времени, как он родился, и перечисляют различные страдания человеческие. Об умершем же они радуются и с веселием закрывают его в землю, говоря, что, избавившись от стольких бед, он совершенно благополучен79.
Как бы темны и превратны ни были такие и подобные понятия о будущей жизни, в которых с первого взгляда можно видеть более заблуждение, чем истину, но на самом деле из этих смешанных понятий ясно открывается, что вера в бессмертие есть потребность души, что бессмертная душа и в самом грубом состоянии человека, блуждающего во мраке неведения и пороков, стремится к своему назначению – бессмертию. Как бы темно и неправильно ни было выражение этого стремления души к своей цели, но оно свидетельствует, что человек не подобен животному неразумному, что в нём есть начало жизни и деятельности более совершенное, нежели эта чувственная природа тела, не разрушающаяся вместе с бренным телом. Отрицающие бессмертие души не могли указать ни одного народа, у которого не было бы мысли о загробной жизни, – мысли хотя бы то и весьма уродливой, обезображенной грубыми, чувственными, не свойственными существу дела представлениями. Если согласие всех, как говорит относительно этого один учёный, есть приговор самой природы, а везде согласны в том, что с телесной смертью не всё кончается для нас, то и нам не следует отвергать того же самого. Но, как говорится, в семье не без урода: ныне к сожалению немало безумцев, попирающих и Божеские, и человеческие законы.
Из древних сказаний видно, что вера в бессмертие соединялась постоянно с верой в явление умерших, – их душ, или теней. Во всё почти время существования человечества у всех народов мы встречаем сказания о явлениях душ человеческих после смерти. И вера народов в правдивость этих сказаний была так сильна, что она породила особенный, исполненный уважения и вместе страха взгляд на кладбища, как на жилище не только тел, но и душ человеческих, дающих будто бы знать о существовании своём воплями, плачем, различными неприятностями, причиняемыми проходящим, родилась мысль, что души умерших могут вселяться в тела живые, овладевать ими и производить беснования, и наконец вера послужила причиной особого рода волшебства, состоявшего в вызывании умерших и узнавании при их посредстве будущего. Убеждение в том, что души людей живут на кладбищах и могут действовать на людей, существовало у греков. Вера в возможность вызывать души умерших и волхвование, состоявшее в сем вызывании, существовали у ханаанских народов (Втор.18:11). От этих народов, несмотря на строгие запрещения закона и казни, определённые волхвам (Лев.20:27. Втор.18:12), волхвование через вызывание умерших перешло и к израильтянам, как показывает история аэндорской волшебницы, вызывавшей для Саула тень Самуилову (1Цар.28:7–20). Вера народов в явления душ по смерти и лежащие в основании сей веры действительные их явления [например, явился по смерти своей пророк Самуил царю Саулу и предсказал ему участь Его (1Цар.28:8–20), Моисей Боговидец, умерший за несколько веков до Рождества Христова, являлся с пророком Илией на горе Фаворе в день Преображения Господа Иисуса, свидетели сего были апостолы Пётр, Иаков и Иоанн (Лк.9:30–32)] делают истину бессмертия души человеческой несомненной. В тесной связи с народными убеждениями в истине бессмертия души, находятся догматы религии древних народов. Вера в бессмертие души человеческой присуща религии персов, египтян, индийцев, греков и римлян.
По учению Зороастра, персидского законодателя и религиозного учителя, в четвёртый и последний период существования мира и борьбы доброго начала – Ормузда с злым началом – Ариманом, совершится воскресение мёртвых, всемирный суд, введение праведных в рай, низвержение грешных в геенну, всеобщее восстановление, очищение всего огнём, который в три дня очистит весь мир и самого Аримана от нечистоты и потом наступит всеобщее блаженство. По смыслу учения египтян о душепереселении душа умершего, прежде чем достигнет небесных чертогов Озириса, блуждает десятки и тысячи лет в том же мире, в котором жила прежде, только изменяя форму бытия.
В индийской религии браминизм, допускающий окончательное поглощение всего Брамой, и буддизм, утверждающий, что все твари, а вместе с ними и человек погрузятся в нирвану, разрешатся в ничто, допуская переселение душ с целью их очищения, допускают относительное бессмертие80.
Таким образом, вопрос о бессмертии души человеческой занимал умы всех народов древности и был разрешаем на разные лады; но без света Божественного Откровения, представления язычников об этой высокой истине были неясны, неопределённы, понятия их сбивчивы, смешанны, суждения нерешительны, неправильны. Не говоря о необразованных, но и у самых образованных язычников – философов, если бы стали мы искать, не нашли бы удовлетворительного ответа, совершенного ведения о будущей жизни. Они чувствовали и доходили до убеждения, что есть другая жизнь для человека за пределами настоящей жизни, но не имели непоколебимого основания, на котором несомненно могли бы утверждать свою веру, которое для всех было бы доступно и могло б стоять против всех предрассудков и ложных мнений, затемнявших истину бессмертия.
Это показывает, что если бы не восходило солнце, то не было бы дня; сияние луны и звёзд не изменило бы ночи в день. Если бы не светил для нас свет Божественного Откровения, то не знали бы так ясно и несомненно о бессмертии души и будущей жизни.
В Откровении Божием истина бессмертия человека так тесно связана с целым вероучением, что если бы она и не излагалась прямо как особый догмат, то и в таком случае была бы очевидна и несомненна для верующего. В Ветхом Завете лучшие из евреев верили в бессмертие человека и правильно смотрели на смерть – как на переход в другую жизнь, загробную, даже обозначая место, куда отходят умершие. Когда некоторые из иудеев, отрицавших бессмертие человека, думали поставить в затруднение Небесного Учителя – Христа своими возражениями против этой истины, взятыми как будто не из самого закона Моисеева, то Господь отвечал им: разве вы не читали, что сказано об этом Богом: Аз есмь Бог Авраамов, Исааков и Иаковль, несть Бог мертвых, но живых (Мф.22:23–32). Бог смерти не сотворил, а создал человека в неистление, учит премудрый Соломон (Прем.1:13; 2:23). При разлучении двух составных частей человека, тело его, как персть, возвращается в землю, якоже бе, а дух возвращается к Богу, Иже даде его (Еккл.12:7), и остаётся всегда живым и бессмертным, проповедует тот же мудрец. По причине неготовности рода человеческого к совершеннейшему разумению божественных истин учение о будущей жизни ещё не так полно и ясно было преподано в Ветхом Завете, как потом оно раскрыто и уяснено в учении Иисуса Христа и апостолов.
Весь Новый Завет есть утверждение нашей веры в бессмертие человека и нашей надежды на будущую жизнь. Все заповеди и обетования христианства направлены к будущей вечной жизни, которая не есть другая половина настоящей, но есть настоящая, истинная жизнь, к которой теперешняя есть только приготовление. Поэтому, если нет бессмертия, – нет и христианства. Вот откуда получает важность в христианстве идея бессмертия, и откуда получает священное значение фактическое подтверждение её в лице воскресшего Иисуса Христа; здесь истина бессмертия человека не есть предмет доказательств, а основа всех доказательств. Она несомненна, как жизнь; она существенный член веры христианской. Здесь мы верим самой истине. – Истина же есть Бог. Сын Божий пришёл к нам во плоти, показуя Себя и Отца, и дал нам в Себе Самом воскресение из мёртвых и после того жизнь вечную. Это Иисус Христос, Спаситель наш и Господь; в Нём-то заключается доказательство и достоверность Его Самого и всего. Посему те, которые Ему следуют, зная Его, веруют в Него как в доказательство и в том утверждаются. Соблюдающий слово Господне смерти не имать видети во веки (Ин.8:51). Наше жилище на небесех, уверяют нас богодухновенные апостолы. В церковной жизни, по благости Спасителя, мы имеем особенные указания и свидетельства, оживляющие упование наше на будущую блаженную жизнь. Таковы все священнейшие таинства церкви – это семь источников благодати, или спасительной силы Божией, которая, когда приемлется верующими, становится в них источником воды, текущей в живот вечный (Ин.4:14). В Откровении святого Иоанна Богослова души умерших людей представлены чувствующими, разговаривающими, действующими, – следовательно они живы (Откр.6:9–10; 7:9, 10, 15). Жив Бог, жива и наша душа как образ и подобие Его.
А.М.
VIII. О посте
Постящеся братие
телесне, постимся и духовне.
(Стихира Великого поста)
Пост бывает духовный и телесный; первый состоит в воздержании себя от гнева, ярости, злоречия, осуждения, ненависти, зависти, сластолюбия, сребролюбия, гордости, честолюбия, одним словом, от всех пороков и страстей греховных; второй, то есть телесный пост, заключается в воздержании от воспрещаемой в определённое уставами церковными время пищи и вообще в умеренном употреблении её. Сам Спаситель наш постился 40 дней, дав нам образ поста. Предтеча Его и Креститель в продолжение всей своей святой жизни соблюдал строгий пост; все, желавшие угодить Богу, хранили посты и усиливали их, когда приготовлялись на мучение за веру Христову или на иные великие подвиги подобно тому, как и Подвигоположник наш, Господь Иисус Христос, исходя на проповедь евангельскую, на великое служение спасению мира, приуготовлял себя постом. Без сомнения, Он, как Всемогущий, Всесвятый, не имел нужды в посте, но дал нам образ поста, дабы и мы, подражая Ему, хранили святые посты, которые впоследствии распределены и утверждены святой Церковью. А потому каждый христианин, желающий спасти душу, непременно должен соблюдать святые посты, а также среду и пятницу, почитаемые в память страданий Спасителя; кто же не чтит эти дни, тот очевидно не чтит и страданий Спасителя своего.
Видим, что и в Ветхом Завете пост имел великое значение; заповедь Божия, данная первому в мире человеку, заключала в себе пост с угрозой наказания смертью за несоблюдение его: и заповеда Господь Бог Адаму, глаголя: от всякаго древа, еже в раи, снедию снеси, от древа же, еже разумети доброе и лукавое, не снесте от него; а в оньже аще день снесте от него, смертию умрете (Быт.2:16–17). И в иных многих ветхозаветных событиях упоминается о посте. В книгах судей израильских (Суд.20:26) говорится: и взыдоша вси сынове Израилевы и вси людие, и приидоша в Вефиль, и плакашася, и седоша тамо пред Господем, и постишася в той день даже до вечера. Ещё в книгах Царств пишется: плакашася и постишася до вечера о Сауле (2Цар.1:12). Святой царепророк обещание своё поститься клятвой утверждает: клятся Давид, глаголя: сия да сотворит ми Бог, яко аще не зайдет солнце, не имам вкусити хлеба ни иного чего (2Цар.3:35). А святой пророк Иоиль говорит от лица Божия: и ныне глаголет Господь Бог ваш: обратитеся ко Мне всем сердцем вашим в посте и в плачи и в рыдании. И ещё: освятите пост, проповедите целбу (Иоил.2:13, 15). В книге Товита (Тов.12:8) пишется: благо молитва с постом и милостынею и правдою, более нежели сокровиществовати злато. Из сказанного очевидно, что пост – необходимая принадлежность покаяния и имеет такое же великое значение, как и первейшие добродетели – молитва и милостыня, ибо упоминается наряду с ними. И Боговидец Моисей был постник великий; и бе Моисей пред Господем четыредесять дний и четыредесять нощей, хлеба не яде, и воды не пи (Исх.34:28). Пишется также о израильтянах, что они взяша кости Саула и сынов его, и погребоша я в дубраве яже во Иависе и постишася седмь дний (1Цар.31:13).
Ещё во многих местах ветхозаветного Священного Писания упоминается о великом значении поста.
И взыска Давид Бога о детищи, и постися Давид постом, и вниде и водворися, и лежаше на земли (2Цар.12:16). Убояся, и вдаде Иосафат лице свое взыскати Господа, и проповеда пост во всей Иудеи (2Пар.20:3). И обещах ту пост юношам пред Господем Богом нашим, да взыщем от Него благий путь нам и сущим с нами чадом нашим и скотом (2Ездр.8:49). Егда услышах словеса сия, седох и плаках и рыдах дни (многи), и бех постяся и моляся пред лицем Бога Небесного (Неем.1:4). И возопиша всякий муж Израилев к Богу с прилежанием великим и смириша душы своя в посте и молитвах. И услыша Господь глас их и призре на скорбь их. И бяху людие постящеся дни многи во всей Иудеи и Иерусалиме (Иудиф.4:9–13). Возложи на чресла свои вретище, и постяшеся вся дни вдовства своего (Иудиф.8:5–6). Есфирь заповедала Иудеям: поститеся (рече) о мне, и не ядите ниже пийте три дни день и нощь. Аз же и служебницы моя (такожде) не имамы ясти (Есф.4:16). Аз же, внегда они стужаху ми, облачахся во вретище и смирях постом душу мою (Пс.34:13). Колена моя изнемогоста от поста, и плоть моя изменися елеа ради (Пс.108:24). И бысть в пятое лето Иоакима царя Иудина, в девятый месяц, заповедаша пост пред лицем Господним всем людем во Иерусалиме и всему множеству, еже снидеся от градов Иудиных во Иерусалим (Иер.36:9). В тыя дни аз Даниил бех рыдая три седмицы дний: хлеба вожделеннаго не ядох, и мясо и вино не вниде во уста моя (Дан.10:2–3). И вероваша мужие Ниневийстии Богови, и заповедаша пост, и облекошася во вретища от велика их даже до мала их (Ион.3:5). Вот как праотцы наши постились и каялись и умилостивляли Господа, отвращали от себя праведный Его гнев. Посты таковые должны быть для нас образцом, по слову святого апостола Павла: сия же образы нам быша (1Кор.10:6), и ещё: писана же быша в научение наше (1Кор.10:11). Из многих приведённых мест Священного Писания видим, что покаяние в грехах, умилостивление Бога всегда сопровождаемо было постом, следовательно, и в Ветхом Завете имели надлежащее понятие о важности поста и чтили его.
Также в Новом Завете во многих местах Священного Писания находим указание о великом значении и необходимости постов; без сомнения, первое место занимает 40-дневный пост Самого Спасителя, нашего Законодавца. Поста трепещет дух злобы, о чём находим свидетельство в святом Евангелии. Когда святые апостолы не могли изгнать нечистых духов из людей, одержимых ими, то Господь на вопрос их о сем, ответил им: сей род (то есть бесовский) ничимже может изыти, токмо молитвою и постом.
Итак, вот какие главные орудия против злого нашего супостата: пост и молитва. Будем строго держать святые посты, будем усердно молиться, и враг не устоит, побежит от нас, опаляемый, как огнём, этими добродетелями. Святой апостол Павел во многих своих посланиях говорит о необходимости поста: во всем представляюще себе якоже Божия слуги, в терпении мнозе, в скорбех, в бедах, в теснотах, в ранах, в темницах, в нестроениих, в трудех, во бдениих, в пощениих (2Кор.6:4–5). В труде и подвизе, во бдениих множицею, во алчбе и жажди, в пощениих многащи (2Кор.11:27). Не упивайтеся вином, в немже есть блуд (Еф.5:18). Без сомнения, в отношении пития ещё строже должно быть соблюдаемо воздержание, ибо пагубные последствия этой гибельной страсти неисчислимы.
Святые апостолы, готовясь к приятию благодати Духа Святого и проповеди евангельской, проводили время в молитвах и посте.
Куда ни обратимся, всюду является нам пост, как некая твердыня благодатная, ограждающая и спасающая нас. Читаем в Деяниях апостольских, что служащим же им (апостолам) Господеви и постящимся, рече Дух Святый: отделите Ми Варнаву и Савла на дело, на неже призвах их. Тогда постившеся и помолившеся и возложше руки на ня, отпустиша их (Деян.13:2–3). Рукоположше же им пресвитеры на вся церкви и помолившеся с постом, предаста их Господеви, в Негоже увероваша (Деян.14:23). И бе Анна пророчица, дщи Фануилева, и та вдова яко лет осьмьдесять и четыри, яже не отхождаше от церкве, постом и молитвами служащи день и нощь (Лк.2:36–37). Везде и всюду пост и молитва.
Апостол Павел в начале обращения своего три дни ни яде, ниже пияше (Деян.9:9), и в иных многих местах святой апостол часто упоминает о алчбе, жажде и постах. И святой Корнилий, сподобленный ангельского явления, говорит о себе: от четвёртого дне даже до сего часа бех постяся и в девятый час моляся в дому моем: и се, муж ста предо мною во одежди светле (Деян.10:30). Из приведённых многочисленных свидетельств Священного Писания Ветхого и Нового Завета ясно, что пост учреждение Божие, дело спасительное, приемлемое Богом от нас, как умилостивляющая Его за грехи наши жертва, как доказательство веры нашей в Бога и любви, по слову Его: аще любите Мя, заповеди Моя соблюдите (Ин.14:15). Что пост есть заповедь Божия, то это доказывается 40-дневным постом Его, Спасителя нашего, Коего вся святейшая на земле жизнь есть заповедь нам, пример для подражания.
От многоядения рождаются нечистые помыслы, влекущие человека к греху; избыток соков, происходящий от избытка пищи, возжигает в крови человека огонь страстей, который ничем иным нельзя утушить, как постом, да и самая молитва наша без поста бессильна, ибо при невоздержании, при обременении желудка, бывает обилие нечистых помыслов, препятствующих молитве, которая, как благоухание, не может возноситься там, где царит зловоние греховное. Один из любителей пресыщения отнёсся однажды с вопросом к святому старцу, почему он не может усердно молиться Богу, и получил такой ответ: «Какая у тебя может быть молитва, когда чрево твоё, как бочка, наполненная съестными припасами?» Подобное этому один из святых подвижников сказал: «Откормленная птица высоко не полетит». Обилие пищи клонит человека к земле, к земному, тогда как воздерживающиеся горе зрят, ум их просветляется, возносится к небесному.
Плоть наша грехолюбивая, склонна к излишествам, пресыщению, сластолюбию, а потому Всемогущий Создатель для обуздания таковых душепагубных её стремлений и даровал нам пост.
Пресыщение вредит не только душе, но и телу, оно размножает болезни; при современном развитии роскоши и изобретении всевозможных яств и питий, такие появились болезни, о каких прежде и не слышно было. Пресыщение ставит человека, существо разумное, наряду с бессловесными животными по слову святого Псалмопевца: приложися скотом несмысленным и уподобися им (Пс.48:13). Пресыщенный человек бывает надменен, жестокосерд, сердце его одебелевает, он только себя любит, мысли и чувства его пресмыкаются по земле, молитва для него или чтение духовных книг – тяжкое бремя, он сам себе в тягость, дух его (это подобие Божества) в тучном и грубом его теле заключён как бы в мрачной темнице, заживо погребён в гробе; к таковым относится сказанное в Священном Писании: питающаяся пространно (то есть изобильно) жива умерла (1Тим.5:6), и ещё: да не когда отяготеют сердца ваша объедением и пиянством, подобно сему и о несчастных жителях древних нечестивых городов, постигнутых казнью Божией сказано: в сытости хлеба, сластолюбствоваша, то есть от пресыщения впали в грех сластолюбия. О них же, чревоугодниках, говорит слово Божие: Уты, утолсте, разшире и забы Бога (Втор.32:15), ибо у них чрево бог по сказанному: где сокровище ваше, там и сердце ваше. Пресыщение вытесняет всё духовное, и человек становится рабом чрева своего, о том только и думает он, как и чем приятнее насытить возлюбленное чрево своё, для него он живёт, о нём заботится, и так вся несчастная жизнь его проходит в угождении чреву. – Таковым скажет Господь в будущей жизни, как некогда сказал Авраам богачу, проводившему жизнь свою в пресыщении и увеселениях: чадо, помяни, яко восприял еси благая твоя в животе твоём (Лк.16:25). Помяните и вы, чревоугодники, пресыщение своё, у вас бог чрево (Флп.3:19), не Бога вы любите, а мамону (утробу) свою, ей покланяетесь, её утешаете, и с нею осуждены будете на вечное мучение. Прочитайте святое Евангелие (Лк.16:19), там увидите, что упоминаемый богач жил роскошно, беззаботно, и за то был осуждён; не сказано, что он был безбожник, хищник, прелюбодей или какой иной тяжкий грешник, а «веселился на вся дни светло», в том состояло его преступление, что он наслаждался земной жизнью, не заботясь о будущей вечной, за что и лишился её! Находясь в огненном мучении, он стал просить о помиловании, но получил вышеупомянутый ответ: чадо, помяни, яко восприял еси благая твоя в животе твоем. Ответ этот многие из нас, нерадиво живущие, услышат, но уже будет поздно, дверь покаяния для них заключится на веки, они, как упоминаемые в святом Евангелии юродивые (неразумные) девы, не войдут в брачный чертог небесного Жениха, отвержены будут навсегда; как гром, поразят их слова праведного Судии: идите от Мене, проклятии, во огнь вечный, уготованный диаволу и аггелом его (Мф.25:41). Страшные таковые грозного Судии слова вечно будут звучать в ушах их.
Горе вам богатым, горе вам насыщении ныне, яко взалчете (Лк.6:24, 25). Вот что ожидает вас, любители роскошных столов! – Вы насыщаетесь и пресыщаетесь, а рядом с вами бедняки, умирающие голодной смертью. Сердце ваше так огрубело, ожестело, что вы не обращаете внимания на вопли бедности или даёте им копейки и тем думаете оправдаться пред Богом, избавиться наказания за бесчисленные согрешения ваши. Но напрасна ваша надежда, суетно ваше предположение, слушайте, что сказал Господь: тою бо мерою, еюже мерите, возмерится вам (Лк.6:38). От скудного сеяния такой и урожай бывает. Жалеете дать рубль бедному на горькую его нужду, а на прихоти свои, на угождение своей ненасытной мамоне и тысячи у вас ни по чём! Послушайте, что о вас говорит преблагословенная наша Владычица Пресвятая Дева Богоматерь: низложи сильныя со престол, и вознесе смиренныя, алчущия исполни благ, и богатящияся отпусти тщи (Лк.1:52–53). Слова эти не утешительны для вас, великие мира сего, но зато сколько в них заключается самых отрадных надежд и ожиданий для бедных тружеников, не имущих, где голову приклонить, засыпающих и просыпающихся голодными и холодными, разутыми и раздетыми; за временное их страдание ожидает их бесконечная радость, неистощимое богатство, неувядающая слава. Тот только вполне может вкусить сладкий небесный покой, кто много потерпел в этом многосуетном, многобедном мире, а кто здесь прожил свой век в одних лишь наслаждениях, для того не радостен переход в вечность.
Многие, изнежившие себя изысканной пищей, говорят, что постная пища им вредна, что доктора запрещают её и прочее; справедливо, есть такие болезни, при которых постная пища тяжела, но эти случаи редки, между тем как множество людей, которые могли б поститься и были б здоровы, но по сластолюбию своему нарушают святые посты и постные дни, за что и наказаны будут, как не хранящие уставов матери своей святой Церкви.
Дело общеизвестное, что пользующиеся умеренной простой пищей бывают здоровее и долговечнее, а изысканная пища обременяет желудок и делает человека тяжёлым; от неё теряется вкус, так что таковые ласкатели чрева своего и не придумают, что б себе приготовить, всё им приелось, не по вкусу, ибо он испорчен. Установление (в разное время года) постов и постных дней дело мудрое, и не только в отношении к душе, но и в отношении к телу многополезное. Перемена пищи производит благотворное действие на желудок, а постоянное употребление скоромной пищи обременительно и вредно для желудка.
Плоть, от земли взятая, дебелая вследствие угождения ей, владычествует над духом нашим, имеющим небесное происхождение, а пост служит большей помощью духу к освобождению от сего владычества плоти, к чему и должны стремиться все, желающие себе добра. Пост укрощает и угашает похоти и страсти плотские, а обильная пища разжигает их, подобно тому, как если положить под кастрюлю огонь, то кипятится она, а при уменьшении огня уменьшается и кипячение. Пост даёт человеку лёгкость и свободу в действиях, ясность мыслей, вообще всё приводит в порядок; даже и внешний вид постящегося делается благообразнее. Пресыщение низводит человека на степень скотоподобия, а пост делает его ангелоподобным, лёгким, духовным, окрыляет его молитву. По слову святого апостола (Рим.8:17), мы должны сораспинаться Христу, иметь некое общение страстей Его не только по душе, но и по телу. Он постился, и мы обязаны поститься, если хотим быть последователями Его. Для спасения души необходимо иметь покаяние, сокрушение сердечное, но всё это без поста немыслимо, что ясно изображено во многих приведённых местах из Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Молитва, пост, покаяние, это святая нераздельная троица подвигов, от которых зависит наше спасение.
Скажем несколько слов о том, почему в среду и пятницу должно поститься: в среду Иуда предал Господа дышавшим злобой иудеям за 30 сребреников, и ими составлен был злочестивый совет, на коем решено было убить Господа, а в пятницу Господь вкусил на кресте смерть, почему и учреждено святой Церковью поститься в эти дни. Господь ради спасения нашего претерпел неизобразимые страдания и лютую на кресте смерть, после сего будем мы безответны пред Ним, если не почтим такие великие дни. Иные без разбора употребляют пищу, оправдывая себя словами, всеми знаемыми: предлагаемая ядите (Лк.10:8); это сказано было святым апостолам, отправлявшимся к язычникам для проповеди святого Евангелия, дабы они не сомневались вкушать пищу, какая где предлагаема была, ибо иной не было. Также многие неправильно понимают сказанное: не сквернит входящее в уста; это изречено для вразумления нашего, что в существе самой пищи нет скверны, а согрешают нарушители постов, как нарушители установлений святой Церкви, глава которой Господь Иисус Христос. А что пост необходим для спасения нашего, то это подтверждается многочисленными доказательствами из Священного Писания, выше приведёнными.
Иные говорят: не делай зла ближнему, а пост дело неважное; без сомнения тяжкий грех делать кому-нибудь зло, но и пост нарушать грех немаловажный. Относительно этого Господь так поучал: и сия творите и онех не оставляйте, то есть и добро делайте, и посты храните. Человек состоит из духа и тела, а потому пост должен быть духовный и телесный. Кто сокрушается о грехах своих, кается, тот без сомнения и постится, чему пример находим в словах Псалмопевца, который в подобном положении забывал даже вовсе о пище: забых снести хлеб мой, говорит он. Некоторые так рассуждают: лучше скоромной пищи употребить умеренно, нежели пресыщаться постной; и это несправедливо; пост должен состоять не в одном умеренном употреблении пищи, но и в качестве её. В посты грешит и тот, кто пресыщается какой бы то ни было пищей, хотя бы и постной; но тяжко грешит и тот, кто ест скоромную пищу, хотя бы и в умеренном количестве.
Итак, прочитав со вниманием всё вышеизложенное, каждый разумный человек должен вполне убедиться в Божественном учреждении святых постов и постных дней и в необходимости соблюдения их, ибо без поста нет ни истинного покаяния, ни истинной Богоприятной молитвы; пост и молитва, это духовная твердыня, оружие против невидимых врагов непобедимое. Будем молиться, будем поститься и по благодати Божией сподобимся наследия тех небесных благ, о коих сказано: око не виде, ухо не слыша, и на сердце человека не взыдоша, яже уготова Бог любящим Его.
И.А.
Заявления о исцелениях, получаемых от святого великомученика Пантелеимона
Находящаяся по делам монастырским в Москве, в Никитском монастыре болгарская монахиня Харитина 1-го августа сего года заявила о себе следующее.
«Я (говорим её словами) минувшим Великим постом, находившись в Петербурге, простудилась, почувствовала сильную головную боль и слабость; испытав безуспешность медицинских пособий, я усердно стала молиться святому великомученику Пантелеимону, прося Его помощи, и с верой приложила к больной голове изображение Его, отпечатанное на полотне; вечером, не совсем ещё заснувши, я как бы в забытьи увидела приближающегося ко мне юношу, совершенно похожего, как пишется на иконах святой великомученик Пантелеимон, который сел на колени, наклонившись к моей постели, держа ящичек, и с ложечки дал мне что-то проглотить; вслед за тем, болезнь моя миновала».
Московская почётная гражданка Т.П.Ц-ва, живущая в Златоустинском переулке в собственном доме, заявила, что ей было следующее знаменательное явление угодника Божия: она находилась в большой печали по случаю тяжкой болезни мужа своего. Однажды ночью в этом положении, заснувши, увидела она близ кровати своей стоящего привлекательной наружности юношу, испугалась и спросила его торопливо, зачем он пришёл к ней, замужней женщине? Явившийся ответил ей кротко: ты очень печалишься и плачешь, я пришёл навестить тебя. Сказав это, он стал невидим. Спящая очнулась и недоумевала, что бы это значило? Взглянув на находившуюся против кровати своей икону святого великомученика Пантелеимона, она в нём с радостью узнала небесного гостя, посетившего её, и с тех пор с особенным усердием во всём стала прибегать к чудному врачу душевных и телесных недугов.
Московский почётный гражданин В.Н.Лепёшкин заявил, что в близком ему семействе господ Нарышкиных был следующий замечательный случай исцеления: малютка сын их Гавриил тяжко заболел воспалением лёгких, жар усилился до 40 градусов, призваны были доктора, составился консилиум, но облегчения страждущему не последовало; видя бесполезность врачебных пособий, обратились с молитвой к небесному врачу великомученику Пантелеимону, пригласили его святые мощи, и тот же час страдания ребёнка облегчились, а вскоре он и совершенно выздоровел.
1879 года августа 12-го при посещении афонским иеромонахом Арсением игуменьи московского Алексеевского монастыря Антонии зашёл разговор о множестве исцелений, получаемых от святого великомученика Пантелеимона по вере обращающихся к нему. Находившаяся при этом Е.В.Ушакова, сестра почившего о Господе преосвященного архиепископа Леонида, рассказала чудный, виденный ею в 1862 году сон; по просьбе иеромонаха Арсения, она его собственноручно написала; вот он:
Вещий сон
В 1862 году в начале Великого поста тогдашний викарий московский, епископ Дмитровский Леонид находился в совершенном здоровье, и ничто не предвещало в нём болезни. Сестра его Ушакова, теперь живущая в московском Алексеевском монастыре, а тогда бывшая классной дамой в Николаевском сиротском институте, горячо его любившая, молила беспрестанно и усердно Бога о здравии и сохранении дней своего брата. В одну ночь, после слёзной и горячей молитвы о нём, она заснула спокойно, и вдруг была встревожена страшным для неё сновидением. Ей привиделось, что младший брат вошёл к ней, бледный и расстроенный, и, сев против неё на стул, долго не мог выговорить слова и печально на неё смотрел, а она в испуге торопила его говорить. Наконец он сказал: «Одевайся скорее, поедем, владыка наш болен при смерти, и доктора не могут ему помочь». Она громко и отчаянно зарыдала, выбежала с ним из комнаты и села в сани. Была ночь, она видела звёздное небо, слышала скрип полозьев и всё рыдала, и поднявши глаза и руки к звёздному небу, молила Господа сжалиться над ними. Вдруг высокая стена преградила дорогу, они вышли из саней, недоумевая куда идти. Тут в стене отворилась маленькая железная дверь и открыла лестницу вверх, в церковь, всю освещённую. Она пошла одна по лестнице, дивясь, что ночью совершается богослужение, и продолжала плакать, рыдать и кричать: «Господи, Господи, помоги, помоги!» И увидела возле себя старца согбённого, который отвечал: Никто, никто помочь не может! Она опять восклицала: «Неужели никто, неужели точно никто!» Тогда старец сказал: «Есть одно средство, одно единственное заступничество великомученика Пантелеимона, молись ему, он вымолит у Господа исцеление брату твоему».
При этом она проснулась в страхе и трепете и долго припоминала: точно ли здоров владыка. Первым делом было отслужить молебен святому Пантелеимону и написать самому владыке всё, что она о нём видела, потом говорила она всем знакомым и писала отсутствующим об этом вещем сне, и все служили молебны, все просили Господа отвратить болезнь и опасность от владыки. Но то, чему суждено было исполниться, – сбылось. Недели через две, во второй половине поста владыка сильно занемог: жар, озноб, спазмы груди и другие изнурительные припадки сменялись день и ночь. Доктора, несмотря на всё усердие, не могли исцелить.
Тогда-то полились мольбы святому великомученику; все почитавшие архипастыря вспомнили знаменательный сон и молились – и молитва веры спасла болящего, и Бог восставил его ходатайством святого Своего. Владыка взял к себе ту икону святого Пантелеимона, которая была приобретена тотчас после сна; всегда молился образу святого врача и посылал его к знакомым больным. Эта икона и теперь хранится у сестры его, видевшей чудесный сон этот.
Писано собственноручно сестрой владыки – Екатериной Васильевной Ушаковой. 1879 года, августа 12 дня.
IХ. О различении помыслов
Помыслы бывают трёх родов: благодатные – спасительные, человеческие – обыденные, и диавольские – душепагубные. Благодать Божия, привлекающая человека к спасению, внушает ему всё благое, душеполезное, просвещает ум его познаниями о жизни высшей, и располагает его к исканию благ вечных, небесных. Мир обуревает человека житейской многопопечительностью, бесконечными суетами и заботами о нужном и не нужном. Дьявол неустанно мечет в человека свои ядоносные демонские стрелы – неверия, гордости, злобы, сребролюбия, сластолюбия и всего этого полчища, или вереницы греховных страстей. – Вот среди каких разнообразных внушений и искушений совершает человек путь земной своей жизни! Блажен тот, кто стоит на страже своих помыслов, но горе нерадивому, нерассудительному, – беспечные злые помыслы, как хищные звери, врываются в растворённый настежь дом души его, всё доброе в нём с корнем вырывают и насаждают свои греховные семена, приносящие пагубу души человека. Воистину блажен человек, уничтожающий злые помыслы в самом их начале, через что от многих бед избавлен он бывает.
Всяк, иже воззрит на жену ко еже вожделети ей, уже любодействова с нею в сердце своем (Мф.5:28). В сем месте святого Евангелия ясно говорится, что не только за грехи, сделанные на самом деле, Господь будет судить, но и за греховные помыслы, которые пожелает человек исполнить; следовательно, как мы должны быть осторожны и внимательны к помыслам. Как от искры разгорается опустошительный пламень, так иногда от одного злого помысла, принятого человеком, погибает навеки душа его.
Борьба с греховными помыслами, отгнание их от себя, – подвиг душеспасительный, за что победители бывают от Бога увенчаны; но борьба эта нелёгкая, многотрудная, ибо искуситель – диавол – тщится внушать людям такие помыслы, исполнение которых на самом деле бывает сердечно-желательно грехолюбивым сынам и дщерям Евы. – Лукавый искуситель связывает человека такими узами, которые приятны его падшей природе. Вот почему немногие бывают победителями в этой трудной борьбе человека с искусителем и с самим собой, а большая часть побеждённые, в чём удостоверяет нас и святое Евангелие: Внидите узкими враты: яко пространная врата и широкий путь вводяй в пагубу, и мнози суть входящии им. Что узкая врата и тесный путь вводящий в живот, и мало их есть, иже обретают его (Мф.7:13–14). – Грех, через помыслы возобладав человеком, делает его рабом своим, пленником, и бывает так, что человек, хотя потом и сознает, что дурно делает, но не имеет уже силы отстать от греха и продолжает грешить и грешить. В таком случае одно спасение: понуждение себя к усердной к Богу молитве, пост, покаяние, дела милосердия, причащение святых Христовых Таин. Человек своими собственными усилиями, без помощи благодати Божией, не может освободиться от насилия греха, по слову Спасителя: без Мене не можете творити ничесоже (Ин.15:5).
Бывают и такие помыслы, которые, как переодетые воры или как хищные волки в овчей одежде, под видом благочестия вторгаются в душу нашу, – нужно бдительное внимание и тщательное рассуждение, чтобы вовремя разоблачить этот дьявольский подлог; тогда изобретатель его бывает посрамлён, а рассудительный человек удостаивается небесной награды, как победивший хитрого искусителя, почему и говорит святой апостол: блюдите убо, како опасно ходите (Еф.5:15), супостат ваш яко лев рыкая ходит, иский кого поглотити (1Пет.5:8). Постоянно потребна человеку великая внимательность и осторожность, а беспечные люди, осуетившиеся в попечениях о земном, дают полный простор лукавым помыслам, входящим в них и губящим их. Злой диавол ослепил род человеческий греховными страстями – сребролюбия, сластолюбия, честолюбия и иными, играет он людьми, как дитя мячиком; многие так и жизнь свою кончают в этом греховном мраке. Многие, именуемые деловыми людьми, всю деятельность свою сосредоточивают на умножении благ этой жизни, которых и без того у некоторых из них с избытком и преизбытком; и оказывается, что при всём обширном уме своём, они недалеко ушли от детей, увлекающихся игрушками и небрегущих о том, что понужнее.
Придёт час, проснёмся все, и ясно всё увидим, но для многих из нас не радостно будет это пробуждение. Чадолюбивая мать наша святая Церковь, сожалея о заблуждении нашем, ежегодно в святые дни поста напоминает нам о сем таковыми умилительными словами: душе моя, душе моя, востани, что спиши, конец приближается и имаши смутитися. Но мы, окаменённые сердцами, нечувствительны, невнимательны к словам Божиим, спим непробудно сном беспечности. Видим ежедневно погребальные процессии, указующие и нам туда же дорогу, но и это мало влияет на нас. Мысль о смерти всегда далека от нас, удаляет её лукавый враг нашего спасения, дабы беспечностью удобнее погубить нас.
Возвратимся к прерванной беседе о помыслах. В деле спасения нашего, как уже упомянуто, помыслы имеют великое значение, даже и те, которые не исполнены на самом деле. Так, например: пришёл помысл помочь бедному, сходить в церковь помолиться Богу, но по скудости средств в первом случае, по болезни во втором, или по каким иным обстоятельствам и причинам, от нас не зависящим, человек при всём искреннем своём желании не мог этого исполнить; однако сердечное его желание вменяется ему за самое дело, ибо Господь – Сердцеведец. А также если приходит человеку какой греховный помысл, то хотя бы он его и не привёл в исполнение, но пожелал лишь исполнить, всё-таки желание это вменяется человеку за самое дело, что ясно изображено в святом Евангелии, как выше упомянуто: всяк, иже воззрит на жену ко еже вожделети ей, уже любодействова с нею в сердце своем (Мф.5:28).
Советуем прочитать в «Письмах Святогорца», в 16-м письме, поразительную повесть об одной девице, жившей в обители, но услаждавшейся греховными помыслами; хотя тело своё она сохранила чистым, но душу осквернила скверными помыслами, услаждалась ими, и зато по смерти ввержена была в муку вечную, в огонь геенский неугасаемый. Упомянём в противоположность сему о досточудном подвиге святой Марии Египетской: она в продолжение 17 лет покаяния своего боролась с греховными плотскими помыслами, и за сопротивление им достигла равноангельской чистоты, так что, когда возносила она свои пламенные к Богу молитвы, то видима была стоящей уже не на земле, а на воздухе! И многие другие, подобно ей противившиеся греховным помыслам, увенчаны были Подвигоположником Господом Иисусом Христом. Повествуется в Прологе, что ученик некоего святого старца, находившись при нём, однажды не успел взять на сон грядущий старческого благословения, как старец заснул; ученику этому до семи раз приходил искусительный помысл уйти без благословения спать, но он мужественно отразил эти помыслы и остался до пробуждения старца, которому во сне явлено было, что ученику его ниспосланы были с неба семь венцев за его седьмикратное отражение помыслов. – Вот как драгоценно пред очами Божиими сопротивление греховным помыслам!
Из всего сказанного очевидно, что за всякое доброе желание или намерение, хотя и не приведённое в исполнение, человек будет награждён, а также и за всякое злое намерение или желание, хотя и не исполненное, человек будет наказан. Итак, будем внимательны к помыслам своим, они начало нашего спасения или нашей погибели.
Многие страдают от злых помыслов, бываемых по действии вражескому; помыслы эти трёх родов: о блудной нечистоте, о неверии в Бога, а наипаче о хуле на Бога, Пресвятую Богородицу и угодников Божиих, на святые иконы, святые таинства и всё священное.
В книге сочинения святого Димитрия Ростовского «Врачевство духовное на смущение помыслов» о хульных помыслах говорится следующее: в помыслах этих нет греха, если человек не хочет их, ненавидит их и отвращается от них; но если кто охотно их приемлет, тот смертно согрешает; согрешает также и тот, кто по неведению и малодушию думает, что эти помыслы от него происходят: ибо они есть порождение бесовское, к нему и должно относить их, а не к себе. Когда мы ненавидим и противимся этим помыслам, а они насильно лезут к нам, тогда бывает награда человеку от Бога за терпение. Святый Лествичник о сем говорит, что, «когда человек отвергает хульные помыслы, не точию не бывает в них виновен, но и сподобляется умножения небесной мзды». Влагающий в человека эти помыслы диавол старается уверить его, что он сам рождает в себе эти помыслы, дабы через то привести в отчаяние; но должно знать, что все те помыслы, коих душа не желает, – от диавола; случается и так, что человек как бы в каком-то забвении на малое время примет помыслы, но опомнившись, прогоняет их: в таком случае должно из глубины сердца воздохнуть к Господу и покаяться, – и Господь простит. Непременно должно исповедывать духовным отцам эти помыслы; но не объясняя в подробности хульных слов, ибо сие невозможно и излишне. Кто смущается этими помыслами, у того враг усиливает их, а кто пренебрегает ими, от того враг отходит посрамлённым. Во время нападения сих помыслов ни в какое рассуждение и спор с ними входить не должно, а творить непрестанно молитву внутренно: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго, по речённому святыми отцами: «Бей супостаты именем Христовым, крепче сего оружия нет ни на небе, ни на земле». Итак, помыслы хульные должно пренебрегать, уподоблять их лаянью пса, – хотя оный и слышим, но вреда от него не терпим; а если начнём возражать против этих помыслов, то они усилятся и до тех пор не отойдут, пока не оставим их без внимания. Смиримся, перестанем осуждать ближних, будем ко всем милостивы, в молитве усердны, в пище и питии воздержны, – и помыслы вражеские удалятся от нас, по речённому в святом Евангелии: сей род изгонится ничем иным, токмо молитвою и постом. Но и в этом случае, как всегда и везде, должно иметь благоразумие; иные из подвижников, мучимые хульными помыслами, впали в отчаяние, наложили на себя безмерные посты, в церковь Божию перестали ходить и святых Христовых Таин не приобщались, считая себя недостойными, – а некоторые даже отчаялись в спасении своём; но всё это – по действию бесовскому. В таковых случаях, как и во всём, не должно руководиться своим разумом, а обращаться к духовным отцам, которые от Бога даны нам как руководители в духовной жизни.
Помыслы хульные усиливаются во время молитвы и прочих добрых дел; но кто пренебрегает ими, того они скоро оставляют. – Кои проводят жизнь свою в смертных грехах без покаяния, в небрежении и лености, на тех не нападает враг хульными помыслами, ибо считает их уже как бы своими пленниками: борет он помыслами этими заботящихся о спасении души своей, живущих в покаянии и любви Божией, по речённому в Священном Писании: хотящии жити благочестно о Христе, – гоними будут. Святая Екатерина продолжительное время смущаема была хульными и скверными помыслами; когда же явившийся ей Господь отогнал от неё бесов, она возопила к Нему: где бяше доселе, о Сладкий мой Иисусе? Отвеща Господь: в сердце твоем бех. Она же рече: и како можаше се быти, понеже ми бяше сердце исполнено мысльми скверными? Отвеща же Господь: по сему разумей, яко бех в сердце твоем, яко ты ни единого любления имела еси к нечистым мыслям: но паче избыти их тщащися и не могущи, болезновала еси, и сим сотворила Ми еси место в сердце твоем. Советуем также прочитать житие святителя Нифонта 23 декабря. Он несколько лет мужественно боролся с помыслами неверия, за что был увенчан от Самого Господа.
«Темже да никтоже смущается, ниже отчаявается, имуще наваждение от помыслов хульных, ведущи, яко нам суть сия в пользу паче, а не в соблазн: самим же бесом в посрамление» (из сочинений святителя Димитрия Ростовского).
Приведём здесь замечательные изречения о помыслах из Цветника духовного.
Как нельзя не допустить ветра до открытой груди, так нельзя остановить и прилива помыслов; потому что человеческая душа по самой природе, вследствие грехопадения прародителей, открыта для действий зла (авва Пимен).
Авва Памво в ответ брату, жаловавшемуся на свою душевную брань с помыслами, сказал между прочим следующее: «Не удивляйся случившемуся с тобой. Ты видишь меня, как я стар; 70 лет живу в келлии этой, в попечениях о спасении моём. В такой старости и поныне претерпеваю искушения и напасти от помыслов».
От искушений никому не избежать, но можно избежать падений (епископ Феофан).
Мы не можем воспретить греховным помыслам, – чтобы они не приходили к нам, но можем противиться им, удалять их от себя.
Остров, лежащий среди моря, может ли остановить волны, чтобы они не ударяли в него? По крайней мере остров противится волнам. Так и мы не можем остановить помыслов, но можем противиться им (святой Ефрем Сирин).
Ты не можешь, конечно, препятствовать полёту птицы, но ты можешь воспрепятствовать ей свить гнездо там или здесь (протоиерей И.Толмачёв).
Не должно отчаяваться по причине борьбы, причиняемой нашествием помыслов. Если противимся ревностно помыслам, то борьба с ними сплетает нам тем светлейшие венцы (Древний патерик).
Подвижница мать Сарра была борима помыслом блуда в течении тридцати лет и никогда не помолилась о том, чтобы брань отступила от неё, но молила только Бога даровать ей мужество и терпение в брани.
Осуждаемся мы не за то, что входят в нас помышления греховные, но за злоупотребление ими. От помыслов можно потерпеть кораблекрушение, и от помыслов же можно получить венец (Древний патерик).
Не то навлекает на нас осуждение, что помыслы входят в нас, но то, когда мы даём им худое направление (святой Варсонофий Великий).
Не подумай когда-нибудь нерадеть о помыслах. Ибо никакая мысль не может утаиться от Бога (святой Марк Подвижник).
Никогда не допускай войти в сердце твоё помыслу, прогневляющему Бога (авва Силуан).
Будь привратником сердца твоего, чтобы не входили в него чуждые, постоянно говори приходящим помыслам: наш ли еси, или от супостат наших (Нав.5:13)? (авва Стротигей).
Безопаснее врага в дом не допускать, нежели, допустивши, с ним бороться (святитель Тихон Задонский).
Всякий греховный помысл изгоняй из сердца как можно скорее, как сбрасываешь с одежды и малейшую искру, попавшую в неё.
Как не удерживаешь скорпиона за пазухой, так не держи худого помысла в сердце твоём (авва Евагрий).
Угашай искру, пока в пламень не возросла, и убивай врага, пока мал есть (святитель Тихон Задонский).
Как искра удобно погашается до появления пламени, так и худое пожелание удобно подавляется в начале (Иаков архиепископ Нижегородский).
Лукавому помыслу так же худо давать возрастать в душе, как и траве на гряде с овощами (святой Ефрем Сирин).
Если помыслы будем отсекать, отсечём и грех. От помыслов и грех бывает, как от корня – дерево или как от семени плод. Отсеки корень, и дерева не будет, подави семя, и плод не возрастёт (святитель Тихон Задонский).
Отсеки помысл, и всё отсечёшь (Феофан епископ).
Не образуется облако без движения ветра, и страсть не рождается без мысли (святой Марк Подвижник).
Всякий согрешает от того, что при нападении худых помыслов не отвергает их тотчас противоречием (авва Серен).
Лукавые помыслы исторгай иными помыслами (святой Нил Синайский).
Помысл тебе представляет сладость греховного действия, а ты помышляй о заповеди Божией, запрещающей это действие, – о тех плачевных последствиях, к каким приводит кратковременная сладость греха, и помысл удалится от тебя.
Часто воздвигай ум к молитве, и истребишь помыслы, приступающие к сердцу (авва Фалассий).
Молись крепко и с воздыханием во время постигшего искушения помыслами: «Господи, помилуй», «Господи, не оставь меня», «Боже в помощь мою вонми, Господи, помощи ми потщися» (Пс.69:2), или иначе как, и не будешь побеждён помыслами.
Не питай пространно плоть твою, и скверные помыслы оскудеют в тебе (авва Евагрий).
Как острые лекарства врачуют жестокие болезни, так молитва с постом прогоняет злые помыслы (мать Синклитикия).
Как воззрение на медного змия, вознесённого Моисеем в пустыне, имевшего силу прообразованного им креста Христова, вскоре исцеляло уязвленных ядовитыми змиями, так воззрение покаяния, веры и молитвы на распятого Иисуса вскоре исцеляет душу, уязвленную ядовитыми впечатлениями похотного и греховного помысла (Филарет митрополит Московский).
Как змей, извлечённый из тёмной норы на свет, старается убежать и скрыться; так и злые помыслы, будучи обнаружены откровенным признанием и исповедью, стараются бежать от человека (авва Моисей).
Постараемся воспользоваться этими прекрасными цветами, взятыми из «Цветника духовного», аромат их живителен.
И.А.
17 ноября 1879 года батюшка о.Арсений после непродолжительной болезни почил о Господе.
Х. Грех81
Грех заманчив, увлекателен; человек, обольщённый сладостью греха, ни о чём не рассуждает, ничего не страшится и не опасается, а тщится лишь к скорейшему исполнению своего греховного желания, влекомый и понуждаемый к тому злоначальником – духом тьмы. Грешит человек с услаждением, но как только совершён грех, является грозная обличительница – совесть; она терзает грешника, не даёт ему покоя. От этого мучения ничем иным нельзя освободиться, как скорым обращением к Богу с искренним раскаянием и твёрдым намерением более не грешить. Если человек сделал навык к греху, то потребен труд, и немалый, к освобождению себя из когтей страсти, овладевшей им. Прежде всего нужно принести Богу сердечное искреннее покаяние и просить Его благодатной помощи, без коей все наши усилия тщетны. Потом нужно мужественно объявить себе войну, восстать твёрдо против греха, живущего в нас, и не только не исполнять на деле греховных своих влечений, но, что всего необходимее, самую о сем мысль в самом её начале гнать от себя как диавольское порождение, что и продолжать до тех пор, пока благодатью Божией исцелимся от этой смертоносной язвы, которая страшнее всякой чумы и холеры: там гибнет бренное тело, а здесь душа бессмертная. Но если кто не противится греху, не исходит на борьбу с ним, то неумолимо бывает побеждён темной греховной силой, которая овладевает грешником как своим пленником, своим достоянием, и хотя потом он и сознает своё безвыходное положение, но уже будет поздно, невозможно будет высвободиться из этих диавольских когтей, и станет человек грешить и, не желая того, будет глубже и глубже погружаться в смрадную тину, пока вовсе не погрязнет в ней. Грешник! Вспомни страшный Божий суд, ужаснись геенны огненной, червя неусыпающего, возопий ко Господу из глубины сердечной, и Он извлечёт тебя из адской пропасти. Не отлагай своего покаяния, пользуйся настоящим днём, ибо завтра не знаешь, что будет с тобой и где ты будешь? Ты суетишься и кружишься в вихре мирском, а быть может, тебе уже готовится тесный домик, в котором вместишься ты со всеми бесконечными твоими надеждами, желаниями и намерениями...
Знаем мы законы гражданские, храним их, боясь наказания за нарушение, почему же так невнимательны мы к закону Божию? Разве не видим, что и в этой жизни богоотступники гибнут, и тело и душу губят, заживо ввергают себя в бездну адскую, кто посредством самоотравления, револьвера, кто каким иным способом убивают тело своё, а душу отдают дьяволу, и всё это от того, что отвергли они закон Божий, последовали омрачённому своему разуму, и погибли на веки. Вечность слово страшное для грешников, радостное для праведников. Посмотрим на страдальцев в этой жизни, которым, как говорится, час кажется годом. Как тяжек их крест, как невыносимо положение их! Одно у них утешение, что мучение это будет иметь конец и что за пределами гроба ожидает их небесная награда за их страдание. Представим же себе положение грешника: он будет мучиться страшно, неизобразимо, безотрадно, надежды на окончание или облегчение мучения не будет никакой; пройдут годы, десятки годов, сотни, тысячи, миллионы лет, а грешник всё так же безотрадно будет мучиться и терзаться. О мучении грешников святой евангелист Иоанн Богослов в Откровении говорит: и мучени будут день и нощь во веки веков (Откр.20:10).
И.А.
Приведём здесь замечательные изречения о грехе из Цветника духовного.
О! Грех самое ужасное зло в мире. Бегите греха по крайней мере для того, чтобы как можно менее тяготели над вами бедствия земные (Филарет архиепископ Черниговский).
Лучше избирай умереть, когда того нужда потребует, нежели согрешить (святитель Тихон Задонский).
Каждый новый грех полагает новое пятно на душу нашу.
Лучше лишиться тысячи украшений тела, нежели представить Всевидцу малейшее пятно в душе и совести.
Ничто не сокрыто от Судии; поэтому напрасно стараемся грешить скрыто (святой Нил Синайский).
Один старец сказал: «Чудное дело! Мы приносим молитвы так, что представляем Бога присущим и слушающим слова наши; а когда грешим, то делаем так, как бы Он не видел нас» (Древний патерик).
«Запрещены даже праздные слова и праздные мысли: это уже слишком тяжело», – говорят легкомысленные; «без нужды строго», – думают неразумеющие; «праздные слова, – говорят, – не вредны, а праздные мысли, – ещё менее». Да, мелкие насекомые большей частью не ядовиты и не смертоносны; однако хотел ли бы ты жить в воздухе, ими наполненном, где непрестанно они толпятся в глаза, жужжат в уши, тревожат осязание и сотнями наносят, подлинно, не смертельные раны? (Филарет митрополит Московский).
Не говори, что то или другое ничтожная мелочь: мелочи много значат в жизни. Рана, сделанная иглой, иногда поражает вернее, чем болезнь, обнимающая всё тело. Иногда от искры делается пожар, с которым справиться невозможно и который беспощадно пожирает всё, что собрано было годами и сберегаемо с величайшим вниманием (Кирилл епископ Мелитопольский).
Считая то и другое малым, не доходят ли до того, что никакого греха не считают великим? (Филарет архиепископ Черниговский).
Легкомыслие смеётся над набожностью и доходит до безбожной жизни (он же).
Если бы мы не нерадели о малом и о том, что нам кажется ничтожным, то не впадали бы в великое и тяжкое (авва Дорофей).
Не делай зла, даже и в шутку, ибо случается, что иной сначала шутя делает зло, а после и нехотя им увлекается (он же).
Пока проступок мал ещё и не созрел, истреби его, прежде нежели пустил ветви в широту и стал созревать (святой Исаак Сирин).
Грех есть горящий огонь. По мере уменьшения вещества он угасает и по мере прибавления разгорается (святой Марк Подвижник).
Зло подобно искре, – туши её. Иначе будет пожар, и ты сгоришь в огне геенны.
Угашай искру, пока в пламень не возросла, и убивай врага, пока он мал (святитель Тихон Задонский).
Невозможно преодолеть великого, если не победишь маловажного (святой Исаак Сирин).
Как бы ни были безобразны и отвратительны грехи, привычка делает их маловажными и ничтожными (блаженный Августин).
Хронические болезни излечиваются только при великом старании, постоянстве и усилии; то же самое нужно сказать и о греховных привычках (святитель Василий Великий).
Скажи однажды навсегда греху: «Я враг твой», и при каждом искушении говори каждому лукавому помыслу: «Я враг твой» (Кирилл епископ Мелитопольский).
Кто смотрит на зло без отвращения, тот скоро станет смотреть на него с удовольствием.
Душа может противиться греху, но не может без Бога победить или искоренить зло (святой Макарий Великий).
В борьбе с грехом обращайся за помощью к Тому, Кто сказал: без Мене не можете творити ничесоже (Ин.15:5) и – ты выйдешь победителем из борьбы.
Если сатана имел столько силы, чтобы поселить в нас грехи, то Иисус Христос, Творец наш, конечно, ещё более будет силён искоренить из нас их! Сделай только опыт, решись на истребление греха при посредстве Его силы, и ты узнаешь, сколь это для Него легко.
Велика сила греха, но сто крат больше сила благодати Божией (Иннокентий архиепископ Херсонский).
О богатстве и сребролюбии
Неудобь богатый внидет в Царствие Небесное (Мф.19:23). Сказано это Господом о большинстве богатых, возлюбивших богатство своё. Но есть и богатые, Богу угодные, любящие Бога и ближнего своего; таковые уже не сребролюбцы, а нищелюбцы, ибо они смотрят на богатство своё как на средство делать добро и делают оное без боязни обеднеть.
Из всех страстей сребролюбие – страсть более распространённая в роде человеческом; от неё происходят: гордость, зависть, злоба, и даже самые тяжкие преступления.
Будем к себе внимательны, будем почаще заглядывать внутрь себя, дабы незаметным для нас образом не вполз в сердце наше лютый змий сребролюбия, он умертвит нас, если не поспешим изгнать его. Не вотще сказал святой апостол: Блюдите убо, како опасно ходите (Еф.5:15).
Богатые христиане, если они христиане истинные, совершенно бедны; потому что в сравнении с благами небесными почитают всё своё золото прахом, и то не составляет их богатства, чем они нисколько не увеселяются (блаженный Августин).
Христиане, подобно путникам, могут неукоризненно пользоваться земными своими стяжаниями, как бы путевым запасом на время странствия своего к небесному отечеству; не должны только слишком дорожить ими, пристращаться к ним и прилеплять своего сердца (протоиерей П.Соколов).
Обольщения, представляемые благами мира сего, так сильно и живо действуют, что перед ними всё бледнеет, даже и слава в будущей жизни. Один германский философ в разговоре с друзьями, сказал однажды: «Для достижения такого-то предмета, я отдал бы два миллиона лет из моего вечного блаженства» – и он был чрезвычайно уверен в предлагаемом им самопожертвовании82 (Огюст Навиль).
Богатства даны нам для сохранения нашей жизни, а не для побуждения ко греху; золото должно служить средством ко спасению, а не к погибели души (святитель Василий Великий).
Бог дал богатство тебе с тем, чтобы ты им купил небо (Златоуст).
Будем стараться, чтобы имение, долженствующее погибнуть, изменить в награду, никогда не гибнущую (святитель Григорий Двоеслов).
Богатые только тогда внидут в Царствие небесное, когда введут их бедные (Лк.16:9).
Богатство тогда только может быть нашей собственностью, когда его нищим раздаём (Златоуст).
Бедность евангельская состоит не в лишении богатства, но в отсутствии привязанности к нему. Можно быть бедным до недостатка в самом необходимом, но вместе с тем очень богатым жаждой и стремительностью к богатству, и напротив, можно обладать всеми благами земного счастья и, однако, не иметь ни к чему привязанности (он же).
Что делают мореплаватели, когда буря грозит потопить корабль? Они бросают груз в море. Что делает врач, когда антонов огонь грозит больному смертью? Он отсекает заражённый член. Вот чем объясняется совет, данный Иисусом Христом богатому юноше (Мф.19:21), которому пристрастие к богатству грозило вечной гибелью. Исполнение этого совета было для юноши единственным средством спасения.
Не богатые, но служащие богатству осуждаются (Златоуст).
Не богатство худая вещь, а худо сребролюбие (он же).
Ты богат, я не против этого; ты скуп, вот за что я осуждаю тебя (он же).
Будем поступать так, как малые дети, которые, держась одной рукой за Отца своего, другой собирают в роще ягоды. – И мы, одной рукой собирая здешние блага, другой будем держаться за десницу Отца Небесного и, сколько можно чаще, обращать к Нему взоры свои, чтобы знать, угодны ли Ему дела наши.
Сребролюбивый человек есть самый несправедливый. Ничего не принеся с собой в свет, он столько заботится о земных сокровищах, как будто всё с собой может изнести из мира.
Начало всякого греха есть гордость, а корень всех зол – сребролюбие: первая отвращает от Бога, а второе обращает к тварям.
Спросили авву Исаию: что есть сребролюбие? Он отвечал: «Неверие Богу в том, что Он печётся о тебе, ненадеяние на обетование Божие, и любовь к гибельным удовольствиям».
Сребролюбец ни о чём не хочет ни слышать, ни говорить, как о серебре и росте, и о росте на рост.
Страсть к приобретениям заглушает часто у родителей голос природы; возбуждает ссору между братьями; наполняет пустыни убийцами, моря разбойниками; порождает клеветников в городах (святитель Василий Великий).
Заповедь Спасителя о нестяжательности (Мф.6:19) относится не к одним только богачам, но и к бедным, потому что и нищий столько же может быть привязал сердцем своим к одному рублю, сколько богач к целым тысячам (Лк.12:19. Сир.11:16–18) (протоиерей П.Соколов).
Не тот только сребролюбец, кто много имеет и не делится с неимущими; но и тот, кто, хотя и не имеет излишнего, но ненасытно желает его и об этом всегда помышляет.
Не все богатые погибнут, равно и бедные не все спасутся.
Хочешь ли обогатиться? Имей друга себе Бога, и будешь богатейший из всех (Златоуст).
Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь
(Находящийся на Кавказе близ Сухума)
По преданию церковному, Иверия, как и святой Афон, – жребий Божией Матери83. Первыми просветителями Иверии были святые апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит, на браке коего в Кане Галилейской Господь претворил воду в вино. В летописях Церкви грузинской84 о проповеди в этих странах святых апостолов говорится следующее: «Блаженный Андрей, оставив Сванетию, вместе с Симоном Кананитом отправился в Осетию, достиг города Фостафоры. Здесь апостолы после долгой проповеди обратили многих к вере Христовой. Оставив Осетию, апостолы пошли в Абхазию и достигли города Севасты (Сухума), где после неутомимой проповеди также обратили многих к вере Христовой. Апостол Андрей, оставив тут апостола Симона Кананита с прочими для утверждения новообращённых, отправился в землю Джакетов. Царь Иверский Аверкий, услышав о распространении в его владениях христианства, воздвиг на христиан жестокое гонение, во время коего мученически пострадал святой апостол Симон Кананит с многими христианами. Могила святого апостола, показываемая в Абхазии близ Сухума, сделалась предметом глубокого почитания местных жителей даже до сего времени». Известный наш паломник и описатель священных древностей А.Н.Муравьёв, посетив это место, написал о нём: «Для меня драгоценно историческое предание, записанное в хронике царя Вахтанга, что один из проповедовавших здесь апостолов, Симон Кананит, тут скончался и погребён»85. В другом его описании говорится следующее: «Историческое предание указывает на церковь эту как на погребальную святого апостола, находящуюся на довольно обширной поляне, омываемой волнами речки Псыртсхи. Дикое живописное место как бы нарочно создано природой, чтобы приманивать на жительство людей. По середине поляны стоит церковь не большая, но почти совершенно уцелевшая, кроме обвалившегося купола; западный её притвор завален камнями и зарос дикими растениями, как и самая вершина церкви, вход – от южного притвора, над коим виден ещё полустёртый лик Спасителя. Устройство храма греческое, с тройным разделением алтаря и полукружием горнего места. Поразительна тонкость стен, складенных из римского кирпича, и высота стройных сводов, которые опираются на чрезвычайно лёгкие столбы; живопись уже стёрлась, но на западной стене ещё видны Успение Богоматери и два мученика».
Знаменательно, что на том самом месте, где было начало Евангельской проповеди ныне устрояется иноческая обитель, имеющая целью содействовать восстановлению там христианства.
По благоволению Божию и благочестивому усердию августейшего наместника кавказского, в 1875 году предоставлено афонскому Пантелеимонову монастырю возобновить древний вышеупомянутый храм святого апостола Симона Кананита86 и переселить туда часть братий, основав там монашеское, по чину святой Афонской горы, общежитие, причём монастырь предполагает устроить сельское и духовное училища для обучения туземцев.
Устроение духовного училища в Абхазии имеет особое значение, там сельские священники преимущественно из грузин и имеретин, незнакомых с языком местных жителей абхазцев, через что религия христианская не усваивается населением, тогда как предполагаемая духовная школа будет воспитывать туземных мальчиков, из коих достойные займут в среде своего населения места священнические, будут миссионерами. Несомненно, что при таких условиях просвещение края пойдёт успешнее.
Предположено также знакомить учащихся мальчиков с ремёслами и земледелием, необходимыми в сельской жизни, дабы и этими познаниями они были полезны своим полудиким соотчичам.
Мая 31 числа 1879 года монастырь осчастливлен был посещением их императорских высочеств великих князей Константина Николаевича и Константина Константиновича при возвращении их из Батума. Живописное местоположение монастыря и быстро возникшие после турецкого разорения постройки привлекли особое внимание высоких посетителей. Настоятель афонский иеромонах Арсений и собратия его удостоены были от их императорских высочеств милостивых благожеланий преуспеяния в дальнейшем устроении монастыря и развитии просветительной деятельности.
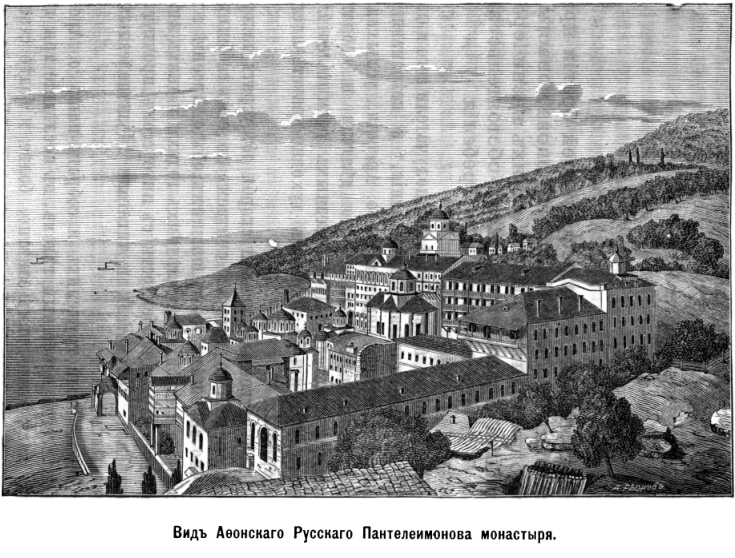
Воспоминание монашествующей братии при часовне русского Пантелеимонова монастыря о последних годах и днях жизни иеромонаха Арсения и изложение обстоятельств его кончины и погребения
Вероятно, не без сожаления получатели сего издания «Душеполезные размышления» и все, знавшие приснопамятного иеромонаха о.Арсения, услыхали о кончине сего неутомимого деятеля и собрата нашего, издателя «Душеполезных размышлений», многих книг и брошюр духовно-нравственного содержания.
С чувством сердечной скорби об утрате такого многополезного деятеля, считаем долгом сообщить лично знавшим и слышавшим об о.Арсение некоторые сведения о последних годах и днях жизни его, что в особенности с интересом прочтут, надеемся, получатели и читатели «Душеполезных размышлений».
Неутомимый труженик и собрат наш о.Арсений, всегда немощный телом, в последние три года, как стало нам заметно, более и более стал увядать в своих телесных силах. Ноги его, ослабевшие вследствие долгих стояний при святыне афонской во время пребывания её в различных градах и весях России87, в последнее время почти отказывались ему служить, так что великого труда ему стоило выстаивать церковные богослужения, которые, при всей немощи своей, он никогда не оставлял. Сколько ни советовали ему врачи, он, всегда ревностный к славе Божией и назиданию ближних, никакого покоя не давал себе: поздно ляжет и рано встанет, а иногда, за многообразными делами, даже совершенно забывал о подкреплении себя пищей. На увещания и мольбы братии, а также и некоторых из близких к нему светских лиц пожалеть себя и поубавить дела свои, он раз ответил так: «До тех пор не оставлю послушания, пока не буду в состоянии что делать: тогда буду несомненно знать, что нет благословения Божия на мои труды». Он был весьма строг, ревностен и внимателен ко спасению души своей и ближних, так что мы никогда не могли его заметить увлечённым в бесполезные праздные слова, считал великим погрешением упустить один час времени без пользы душевной; этому он учил и ближних, устно и письменно, – чтобы это исполнять и помнить неизбежный для нас час смертный, к которому каждый был бы всегда готовым.
Как на ревностного и энергического деятеля, на него возлагались старцами афонскими и самые важные и трудные дела послушания. И различные препятствия, испытываемые им при исполнении сих дел, сколько, с одной стороны, смущали его горящий дух, столько, с другой, – действовали зловредно и на его немощное тело. Так, 1875 года на него возложено было старцами дело приискания в России, именно на Кавказе, места, где бы могла быть устроена обитель, как бы некая отрасль русского Пантелеимонова монастыря, с тем же афонским иноческим уставом, с целью просвещения святой верой тамошних туземцев и обучения их различным полезным для них наукам. Таковое удобное для обители место и было найдено о.Арсением в Абхазии, близ Сухума, – где стоял разрушенный храм во имя святого апостола Симона Кананита. Сей храм под устройство обители, с наименованием её Ново-Афонской Симоно-Кананитской, и был благоволительно отдан его императорским высочеством, великим князем Михаилом Николаевичем, наместником кавказским. Такое благоволение великого князя было великой радостью для о.Арсения, и он при помощи Божией и благотворителей успел в год устроить церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, с келлиями для нескольких братий, присланных к нему из русского на Афоне Пантелеимонова монастыря, и училище для мальчиков тамошних туземцев, которых и набралось до 20 человек; один из них из магометан вскоре был окрещён. Но радость о.Арсения о новостроящихся обители и училище вскоре, по судьбам Промысла Божия, омрачилась печалью, что, конечно, не могло не отразиться на его некрепком здоровье. Именно, по причине войны России с Турцией нужно было предначатые работы по обители приостановить и избранное место для неё оставить на произвол Божий, а братству, одним из них удалиться в более отдалённый от берега Черного моря монастырь, другие, из 10 человек, поступить в санитары к раненым больным в Тифлисе и на театре военных действий. Во время войны России с Турцией грозила великая опасность от турок и для самого русского на святом Афоне Пантелеимонова монастыря. И как это терзало сердце о.Арсения! По долгу послушания он должен был оставаться в Москве. Он был вызван на святой Афон уже по окончании войны, – по делу устроения на Кавказе святой обители и восстановления приюта для увечных раненых воинов в Москве при монастырском доме и многих других обительских дел. И отцу Арсению опять выпал жребий заняться восстановлением обители на Кавказе. И к великому его утешению, обитель сия, пострадавшая от нашествия турок, милостью святого угодника Божия и с помощью благочестивых благотворителей была приведена в прежнее благоустройство.
Частые путешествия на святой Афон и на Кавказ до делам новой созидающейся обители, в Москву и Петербург по обительским делам, весьма утомляли о.Арсения, а однажды на пути от Поти до Сухума он подвергался на пароходе великой опасности, – и избавление себя и бывших с ним от потопления признавал после делом милости Божией к нему.
В последний раз, по возвращении его в Москву, его нога по случаю падения и ушиба в Петербурге до того разболелась, что врачом более чем на неделю было воспрещено ему выходить из комнаты, да и в комнате было предписано более лежать. Чтобы быть более свободным от развлекающих его посещений, он поместился в монастырском доме, находящемся на Полянке, в приходе Успения в Казачьей церкви. – И как только он несколько оправился от болезни ноги, тотчас принялся за свою обычную деятельность. Но Господом были уже сочтены дни его.
Ноября 15 дня сего года почувствовал он утром боль в горле и груди, а к вечеру слёг в постель и сильно ослабел. Проведя в страдании ночь, утром 16 ноября, по выслушании утрени, часов и правила ко причащению, он исповедался и приобщился Пречистых и Животворящих Христовых Таин. Приглашённые врачи нашли в нём самое острое воспаление лёгких и потому самое, по бессилию его, опасное. По полудни в сей день его осчастливил двухчасным посещением преосвященнейший Алексий, епископ Можайский и викарий московский.
Вечером он пожелал особороваться святым елеем, что и было исполнено соборне при святыне нашей, которая находится в часовне. Ночь он провёл ещё более в страданиях и, не считая себя уже более жителем земным, передал нам, что сделать после смерти его. Утром 17 ноября – опять приобщился Пречистых и Животворящих Христовых Таин. Тут посетили его многие из уважавших его светских лиц. Дожидаясь около 2 часа дня приезда к нему преосвященнейшего Амвросия, епископа Дмитровского, викария московского, он приготовился встретить его с достойным почтением, и при докладе в 1 час 45 минут о приезде епископа он попросил окружающих его братий поднять, посадить его и надеть на голову камилавку. Получив благословение от преосвященного и побеседовав с ним по причине сильной своей немощи очень немного, он как будто дожидался сего благословения и ещё при преосвященном начал кончаться в присутствии братства и многих уважавших его из светских лиц. По прочтении над ним канона на исход души, – уснул сном крепким тихо и мирно, смертью, свойственной одним праведникам. Вечная тебе память, собрат наш! Как скоро же облетела весть об его кончине, – то келлия почившего, можно сказать, обратилась в церковь от наплыва усердствующих лиц, как духовных, так и светских, желавших помолиться о упокоении души дорогого для их сердца. И панихиды по нём почти были непрерывны; первая из них была совершена преосвященнейшим Алексием. Согласно желанию почившего, – отпевание и погребение тела его были совершены в Алексеевском девичьем монастыре 19 числа ноября преосвященнейшим Алексием соборне с 2 архимандритами – Высокопетровского монастыря Григорием и Старо-Иерусалимского подворья Никодимом – и со многими протоиереями, иереями и иеромонахами. Вынос его тела из нашего монастырского дома был совершён соборным служением тоже преосвященного Алексия; а несён был священнослужителями до приходской церкви Успения в Казачьей, а оттуда до монастыря уважавшими почившего из светских лиц в продолжение двух часов. Храм монастырский был наполнен стёкшимися с разных концов Москвы разных званий и состояний почитателями почившего. За литургией в обычное время по почившем было произнесено надгробное слово приходским протоиереем о.Александром. – А во время отпевания речь надгробную произнёс московского Богоявленского монастыря духовник иеромонах Пантелеимон.
Слово, сказанное протоиереем о.Александром Ильинским
В наше время обращается в обществе немало мнений и убеждений, которые, будучи противны учению и преданиям Православной Церкви, могут быть объяснены только неверием и материалистическим направлением века. К числу таких убеждений, порождённых духом времени, следует отнести, с одной стороны, рабское преклонение перед насущными, исключительно материальными потребностями, удовлетворением которых будто бы исчерпываются все существенные задачи человеческого бытия, а с другой, почти совершенное отрицание всего того, что в каком-либо отношении возвышается над областью материальных потребностей. Люди века сего подозрительно и с недоверием смотрят на всякое лицо, всякое действие и учреждение, которое преследует иные цели – не материальные, но духовные и нравственные: такое стремление к тому, что невидимо и не осязаемо для чувств, что в тесном практическом смысле более или менее бесполезно, кажется людям века непонятным, неестественным и вредным, – почему и подвергается от них всевозможным нападкам, подозрениям и порицаниям. Подобным нападкам едва ли не чаще и не более всего подвергается и иночество, как учреждение, которое прямо заповедует своим последователям, чтобы они лично для себя ничего не искали в мире – ни выгод, ни удобств, пренебрегали даже естественными требованиями плоти и, отрешась от плоти и от мира, проводили жизнь преимущественно духовную, упражняя себя в молитве, богомыслии, в подвигах добродетели и посвящая себя всецело на служение Богу и спасение ближних. Люди века никак не хотят признать разумности и законности подобного учреждения, не хотят видеть в нём явления совершенно естественного, вполне отвечающего духовным требованиям человеческой природы, – явления притом высокого до своему внутреннему достоинству и благотворного по своему нравственному значению и влиянию на общество. Они смотрят на иночество, как учреждение случайное и временное, которое было вызвано обстоятельствами и потребностями временными и случайными и которое теперь будто бы уже отжило свой век. Здесь не место и не время входить в препирательство с людьми этого направления. Все мы, собравшиеся в эту обитель иночества, чтобы отдать последний долг христианской любви почившему от трудов иноческих, вполне убеждены в высоком значении иночества как для самих иноков, так и для нас, живущих в мире. Для иноков, возлюбивших иночество и живущих по уставу иноческого жития, – это есть верный и вполне благонадёжный путь восхождения к высшему совершенству – от земли на небо, а для всех мирских людей – постоянное и громкое напоминание о том, что не должно порабощать себя плоти, не должно предаваться житейской суете, но, отдавая должное и плоти, и земле, не забывать в то же время единого на потребу, – не забывать того, что мы всем сердцем должны служить Господу, исполнять Его святые заповеди и тем самым постоянно приготовлять себя к вечности. Убеждены мы также и в том, что никогда, пока будет существовать на земле Церковь Божия, не оскудеет дух иночества, всегда будут люди готовые и способные предпочесть небесное земному, вечное временному, – люди, которые призванием от природы или путями Промысла Божия могут быть предрасположены к тому, чтобы добровольно возложить на себя и с терпением нести нелёгкий подвиг иноческого послушания, целомудрия и нестяжательности. Эти-то избранники Божии и составляют лучшее украшение и как бы цвет иночества и лучшее оправдание его пред лицом мира и мирской мудрости.
К лику сих избранных иноков, кажется, не обинуясь, мы можем присоединить и почившего новопреставленного раба Божия иеромонаха Арсения; это поистине был инок по призванию; не нужды, и не случайные обстоятельства привели его в монастырь, но, как видно, внутренняя потребность и добровольное желание высшей и совершеннейшей жизни. Вступая в монастырь, он ищет не безбедного и спокойного существования, но труда и подвига, – и вот почему, без сомнения, вместо обителей, близких и в земле родной, он местом подвига избирает обитель, хотя и родственную по духу, но отдалённую, находящуюся в земли чуждой и под игом неверных, – это обитель святого великомученика Пантелеимона. Сия обитель тем особенно дорога для сердца русского, что в ней искони подвизаются преимущественно русские иноки и что она принадлежит к столь прославленной в летописях иночества святой горе Афонской, откуда первоначальником иночества русского принесено было к нам первое благословение на учреждение оного в России. Самое вступление в обитель почивший ознаменовал подвигом: он принёс ей в жертву не только свою волю, но и своё достояние, которое было скоплено честными трудами нескольких лет и могло служить достаточным обеспечением от нужды. Этот добровольный подвиг был только началом многих дальнейших подвигов на пользу обители, совершённых им из послушания. Обитель, принявшая подвижника, была чтима на всём Афоне по своей святыне, так как здесь обретается честная глава угодника Божия великомученика Пантелеимона, между монастырями Афонскими она славилась своей древностью, а ещё более своим общежительным устройством, но в то же время она находилась в упадке, – ей недоставало средств как для своего содержания, так и для поддержания в должном благоустройстве принадлежащих ей зданий и разных благотворительных учреждений, ею заведённых; – и вот вместо успокоения в сей обители от житейских забот и треволнений, чего искал почивший, и вместо упражнения в трудах и подвигах духовных, к чему он стремился, Господь судил ему принять на себя особый труд, труд тяжёлый, беспокойный, сопряжённый с неприятностями и лишениями всякого рода: по желанию и просьбе братии он должен был отправиться в Россию для сбора пожертвований на поддержание и устройство обители. Хотя это послушание и удаляло его из монастыря, столь ему дорогого, разлучало его с ним надолго, быть может, навсегда, как это и случилось, однако было принято оно почившим тружеником с покорностью и усердием, достойными удивления. Быв отпущен из монастыря с частью мощей святого угодника, он с вверенной ему святыней в продолжение многих лет неутомимо странствовал по России и трудился на пользу обители, не зная покоя и отдыха. Такие великие труды и такое необычайное усердие Господь вознаградил с избытком: не только его неусыпными заботами обитель была устроена, обеспечена и приведена в цветущее состояние, но его и самого Господь, дивный во святых Своих, сподобил быть свидетелем и как бы некоторым орудием прославления в земле Русской и преимущественно в сердце России Москве угодника Своего великомученика Пантелеимона.
В последнее время обителью возложено было на него ещё новое послушание и вместе новый труд насадить и укоренить в земле русской – на далёком юго-востоке отпрыск своей обители со всей строгостью общежительного иноческого чина афонского; – и трогательно было видеть, с какой любовью и усердием он исполнял это поручение, как радовался его осуществлению, и как в то же время высоко понимал призвание водворяемого им там иночества. По мысли его Симоно-Кананитский монастырь в Абхазии должен был сделаться по преимуществу учительным и служить к просвещению кавказских горских племён, коснеющих в невежестве под игом ислама.
Но не ограничивалась его деятельность и его подвиги только исполнением возлагаемых на него монастырём послушаний: он ещё находил и время, и усердие принимать на себя труды добровольные во славу Божию и на пользу ближних. Так между прочим он занимался изданием полезных для народа духовно-нравственных бесед и листков, и в этом отношении потрудился немало и оставил по себе память не скудную. Готов он был в этом направлении трудиться дальше: ревнуя о спасении ближних, он имел намерение издать в свет книгу, которая заключала бы в себе самое полное сказание о лице и жизни Иисуса Христа, где по возможности были бы собраны все сведения о Нём, какие только могут быть заимствованы из источников как христианских, так и не христианских. Такая книга в настоящее смутное для веры время была бы во многих отношениях весьма полезна: – для верующих она могла бы служить щитом против неверия, для маловерующих утверждением, а для неверующих обличением. Но Господь не судил ему совершить это прекрасное намерение; преждевременная смерть положила конец всем его трудам и стараниям, как о пользах своей обители, так и вообще о благе ближних.
Я чувствую, что я слишком мало сказал об этом замечательном иноке труженике: для полноты его нравственного образа следовало бы указать отличительные черты его характера и его внутренней духовной жизни, в которых столько было общеназидательного. Но, к сожалению, я слишком недавно узнал его, чтобы мог говорить обо всём этом с убеждением. Пусть те, которые имели возможность знать почившего лучше и больше меня, сами припомнят как для утешения, так и для назидания всё, что только было в нём нравственно-чистого, доброго и назидательного. Да пребывает же память о почившем с похвалами и вместе да не оскудевает у нас никогда дух истинного иночества!
Мир праху твоему, досточтимый отец и собрат наш! Да простит тебе Господь вольные и невольные грехи и да упокоит тебя Он от трудов земного пришельствия в Своих небесных и вечных обителях, идеже пребывают вси праведнии, и да сотворит тебе вечную память. Аминь.
Речь, произнесённая иеромонахом Пантелеимоном
Возлюбленный почивший о Господе собрат наш! Ты хотя и не принадлежал к братии обители нашей святого Богоявления, но, будучи принят как странник святой горы Афонской, пребывал в ней часто, а иногда и помногу гостил в ограде святой обители нашей, всегда участвуя в общих молитвах с нами и сослужа вместе у престола Божия. Твой кроткий характер, всегда ласковое обращение с братией сблизили нас с тобой так, что весть о неожиданной кончине твоей преисполнила горестью сердца наши и исторгнула слёзы, как о потере нашего родного брата и друга. Не прошло и недели, как мы видели тебя священнодействующего, довольно ещё бодрого и спокойного духом! И вот теперь видим лежащего хладным и безгласным. О чудесе! Что сие еже о нас бысть таинство, како предахомся тлению, како сопрягохомся смерти, воистину Бога повелением... Но позволь возлюбленный собрат наш, при твоём гробе вспомянуть нечто из твоей жизни, чтобы нам почерпнуть из оной урок для жизни, которую мы ещё преплываем, обуреваемые напастьми житейскими. Что же виднее всего было в жизни твоей? Какая особенно добродетель более других высказывалась в характере твоём? Это беспримерная любовь твоя к своей обители, а отсюда и любовь ко всем ближним. При своей строгой аскетической жизни, будучи слаб телом, ты был силён духом. Желание делать добро воодушевляло тебя, и ты, как на крыльях, летал с севера на юг, и с юга опять на север, и всегда добрый и весёлый. Причина самой смерти твоей, если судить по-нашему, была опять забота твоя о приюте, который ты намеревался открыть для бедствующих. Твоими неутомимыми трудами и непрестанными путешествиями святая обитель святого великомученика Пантелеимона процветает и красуется среди обителей святой горы Афонской. Каких трудов стоило тебе, например, сооружение часовни в здешней столице! Каких трудов стоило тебе опять устроение Ново-Афонской обители в Абхазии, где ты провёл долгое время, неутомимо занимаясь первоначальной постройкой оной! Но все твои труды и старания об улучшении святой обители своей и успокоение братии, живущей в ней, были освящены любовью к ближним. У тебя не было ни одного предприятия, которое бы не имело концом своим пользу ближнего. На наших глазах сколько было роздано тобой лично бедным жителям столицы нашей. Всякий нуждающийся в помощи, кто бы он ни был, никогда не отходил тощь от тебя. Но, помогая ближним вещественно, ты особенное имел попечение о спасении души их. Сколько высказано было тобой полезных советов, сколько было издано тобой печатных душеспасительных книжек, которые ты раздавал бесплатно. Словом, вся твоя жизнь, истинно странническая, была преисполнена любовью к Богу и ближнему своему.
Посему не в одной столице нашей, но во многих градах и весях, когда дойдёт печальная весть о твоей внезапной кончине, прольётся не одна слеза с молитвой о упокоении души твоей. Но в сей краткой речи не высказать мне всего того, что было сделано полезного твоими неусыпными трудами и стараниями.
Плоды трудов твоих уже сильно говорят и ещё долго будут говорить о тебе как о преданнейшем сыне святой горы Афонской.
Братия, жизнь почившего собрата нашего да научит, как быть и в монастыре монахом, и быть полезным всякому ближнему. Чем полезным? Благим и мудрым советом своей жизни. К нам, преимущественно к нам, должны относиться слова, сказанные Спасителем ученикам Его: Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела и прославят Отца вашего, Иже на небесех (Мф.5:16).
Русский народ и теперь ещё любит и уважает монашество, и во время несчастий и невзгод житейских соотечественники спешат в монастыри помолиться, высказать старцам свои невзгоды, поверить свои совести и, испросив их советов и молитв, возвращаются в домы свои совсем успокоенными и как бы обновлёнными. Будем же стараться, чтобы жизнь наша служила примером для ближних, как была примером жизнь почившего собрата нашего.
Возлюбленный, почивший о Господе собрат наш! Святой великомученик Пантелеимон, об обители которого ты как заботился, да восполнит своими молитвами недостатки в жизни твоей на мытарствах, которыми душа твоя проходит в сии минуты, как покрывал Василий угодник Божий недостатки послужившей ему в земной жизни блаженной Феодоры. И мы, братия, с своей стороны будем умолять Господа, да простит Он ему всякое согрешение вольное и невольное и упокоит душу его в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, идеже вси святии упокоеваются.
Но и ты, возлюбленный собрат наш, если будешь иметь дерзновение у Господа, молясь о возлюбленной своей афонской обители, вспомяни и обитель с братией, которая и приняла, и упокоила тебя как странника, дабы и мы, когда приблизимся ко вратам гроба, могли тихо и мирно предать дух свой Богу.
В 9 день по кончине, 25 ноября, поминовенная по почившем литургия была в Богоявленском монастыре, при котором находится наша афонского Пантелеимонова монастыря часовня. Литургия и панихида соборне были совершены настоятелем монастыря преосвященнейшим Амвросием, которым было сказано и соответствующее случаю слово при стечении многих из уважавших почившего.
Возлюбленный и незабвенный, почивший о Господе собрат наш! Твои неутомимые труды, понесённые с полным самоотвержением тобой для пользы обители своей и нас, живущих в ней, братий твоих, не останутся вотще. Обитель при существовании своём никогда не забудет их со всегдашним возношением в ней братиями молитв ко Господу Богу о упокоении души твоей в горних небесных селениях со всеми благоугодившими Ему. Какие бы ни оказались недостатки в жизни твоей, да восполнятся они молитвами Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Которую ты славил устно и письменно, и святого великомученика Пантелеимона, об обители которого ты заботился и прославлял имя его. Не забудь пред Престолом Господа Бога Вседержителя, если будешь иметь благодатное пред Ним дерзновение, помянуть молитвенно и нас, духовных твоих братий, да и мы благодатью Божией преплывём безопасно житейское море, воздвизаемое напастей бурею. Вечная тебе память, неутомимый труженик Христов и собрат наш!
Братия при афонской, русского святого великомученика Пантелеимона монастыря часовне
Некролог88
Ноября 17 дня 1879 года после непродолжительной болезни в Москве почил о Господе афонский иеромонах Арсений. Как имевший близкие отношения к почившему, – не могу удержаться, чтобы от избытка, поражённого утратой его, сердца не сказать в память его несколько слов, – хоть самых слабых отображений его духовного характера, в твёрдой надежде, что найдутся в недалёком будущем лица, имеющие возможность дать обстоятельные биографические сведения о почившем муже.
При всей близости своей к почившему, я не имею понятия об его мирском звании и о причине его поступления в монашество и об его образовании. – Это потому, что отец Арсений по своему смирению не любил даже немногое что-либо сказать о своей мирской жизни и коснуться тех обстоятельств, которые побудили его принять монашеский чин.
Служить славе имени Божия и духовной пользе ближнего было для о.Арсения, можно сказать, насущным хлебом. Чтителям афонской святыни известно, сколько различных духовно-нравственных книг им было роздано бесплатно!
Как ни придёшь в келлью о.Арсения, всегда видишь его занятым либо составлением какой-либо душеспасительной статейки, либо преподанием кому-либо духовных советов, либо ободрением унывающих. Келлия его была почти всегда наполнена посетителями, и никто не отходил от него без духовного насыщения.
Служа душевному спасению своих ближних, служа до лишения себя телесного покоя, о.Арсений служил и земным нуждам их. Многие из бедных, как мы знаем, получали от него пособия, некоторые же из них, совершенно беспомощные, получали ежемесячное пособие, вроде жалованья. Если сам не мог он кому-либо помочь, то при своём обширном знакомстве всегда находил благопотребных к тому лиц. «Батюшка! – как-то мне он говорил, – жизнь наша коротка, и потому мы должны спешить делать добро. Что ни сделаем доброе, хоть самое малое, – всё будет наше».
Как глубоко верующий, о.Арсений до глубины души возмущался признаками современного неверия, как в жизни, так и в словах. Раз, показывая мне небольшого размера книгу, изданную в Петербурге в 1878 году под заглавием: «Прииди ко Иисусу Христу» и составляющую, как означено на обёртке книги, «вольный перевод с немецкого», – о.Арсений воскликнул: «Как много духовного яда в этой книге для простых сердец! По ней кто чем грешнее, тем лучше, от человека никаких добрых дел не требуется, сейчас видно произведение немецкой кухни. Особенно меня поразило учение книжки о Таинстве исповеди. Вот, смотрите, на 39-й странице сей книги исповедь перед духовником именуется заблуждением из заблуждений! Очень жаль, что такие зловредные учения у нас свободно распространяются!»
Что касается до деятельности о.Арсения по делам афонской русского Пантелеимонова монастыря часовни и по устроению на Кавказе отделения сего монастыря, то он был деятель, можно сказать, беспримерный. В одно время он умел делать несколько дел. Так, бывало, видишь его в одно время и пишущим, и рассматривающим какие-либо иконы и религиозные картины, и отдающим какие-либо поручения по часовне и приказания, всё в его руках и под его руководством, так сказать, кипело. И сам он, как быстролетающая птица, успевает, бывало, побывать в короткое время по делам монастырским и в Петербурге, и в Туле, и в Одессе. Огнь духовной ревности горел в душе его сильным пламенем.
Некоторые духовно-нравственные статейки, изданные о.Арсением и составленные из учения святых отцов и учителей Церкви им самим, ясно говорят об его научном образовании, а главное – об его церковной начитанности. При помощи сей начитанности, взошедшей, так сказать, в плоть и кровь его, как и строго подвижнической жизни монаха, он мог давать в разных духовных недоразумениях и искушениях мудро-духовные советы и много было прибегавших к нему за сими советами!
В издаваемых для боголюбивых читателей различных «душеполезных размышлениях» или – «беседах», о.Арсений, всегда сам готовый к смерти, любил как можно чаще напоминать о неизбежности её и неизвестности времени её прихода. К невыразимой скорби его почитателей, ему на самом себе Господь Бог судил оправдать неоднократно проповедуемую им устно и письменно истину. Всегда немощный телесными своими силами, он от постигшей его болезни, именно воспаления в лёгких, слёг в постель, – что было ноября 15 дня, – а 17 дня его уже не стало. Тихо и спокойно он скончался, напутствованный церковными таинствами. Во время болезни его посетили оба преосвященные викарии московские, – и как бы благословили его в вечность. Как скоро печальная весть об его кончине разнеслась по краям Москвы, – тотчас монастырский дом, находящийся на Полянке (бывший прежде Сушкина), стал наполняться почитателями почившего, как духовными, так и светскими разных званий и состояний, спешившими со слезами на глазах помолиться об упокоении души его. Почти непрерывно совершались соборные панихиды. Такую горячую любовь заслужил к себе от многих и многих о.Арсений!
Вынос тела его и отпевание были ноября 19 дня.
Мир душе твоей, «непостыдный делатель» Христов! Ты в течение своей земной жизни «подвигом добрым подвизался», неослабно, до забвения себя, «возгревал» в себе благодатные дары Божии. «Прочее соблюдается» тебе от «Праведного Судии венец правды!»
Да будут сии скудные крупицы моего слова о тебе посильной с моей стороны данию твоей незабвенной памяти.
(Приложение к выпускам 1879 года)
Слово, произнесённое в Исаакиевском соборе протоиереем Иоанном Полисадовым в неделю 7-ю по Пятидесятнице
В Евангельском чтении на нынешний воскресный день мы слышали святое благовестие о чудесном исцелении Спасителем двоих слепых. О слепоте и будет наше слово!
Слепота бывает двух родов: одна – телесная, другая – духовная. Первая скрывает от очей предметы земные, вторая – небесные.
По милости Божией весьма немногие из нас подвержены первой; но едва ли не бо́льшая часть страдает второй: и притом – одни от самого рождения, а другие – после, уже в сознательном возрасте.
Чувство зрения есть великий Божий дар. Горе быть слепым телесными очами от рождения; но бо́льшее горе тому, кто сначала ясно видел, а потом ослеп. Ещё бо́льшее горе родиться слепым и по духу, то есть в неверии или язычестве; но сугубое, страшное горе тому, кто святую веру потерял и благочестие утратил совершенно уже после того, как святая Церковь возродила его водой и Духом в таинстве Крещения и сочетала со Христом, Светом Истинным: добрее было бы ему, аще не бы родился человек той (Мк.14:21)!
Вот те размышления, на которые наводит нас прочтённое сегодня в храме благовестие!
Раскроем их несколько подробнее, для того чтоб вывести отсюда и уроки назидания:
Рождённый в слепоте телесной томится ею непрестанно, точно узник, находящийся в темнице. Для него закрыты: и звёздное небо, и ясное солнце, и все другие прелести природы, столь неистощимой в её разнообразии, премудром устройстве и дивной, неподражаемой красоте. Круг его знаний весьма ограничен; представление – смутно, неясно. Один только слух и одна только ощупь среди такой темноты постоянной немного сообщат ему познаний о мире, который так необъятен и для самого быстрого взора. А сколько опасностей в жизни слепца ему предстоит, почти что на каждом шагу?!
Но это несчастье ещё больше для тех, которые прежде всё видели ясно; а затем – лишились зрения. Память о прежних, приятных предметах и лицах у них осталась в душе; воображение их рисует; живой разговор то и дело напоминает о них. Слепцу хотелось бы снова на всех и на всё посмотреть, с любопытством и сладкой отрадой для сердца; но, увы, – невозможно!.. И остаётся тогда этот несчастный слепец в такой же тоске, в какой бывает изгнанник вдали от родных и друзей, с которыми прежде он жил так приятно. А так как цену вещей мы вполне узнаём только тогда, когда их теряем, то утрата дорогого зрения, для которого теперь как бы мертвы эти предметы и лица, есть настоящая, тяжкая мука.
Так, приходит весна во всей красоте, – наступает и красное лето; всё дышит свободой, – и все веселятся повсюду; картины природы приятны для взора. А бедный и жалкий слепец только помнит с тоской в душе это подобие рая земного; но им насладиться вполне – ему невозможно.
В жизни людей, особенно близких к нему, совершаются нередко и такие любопытные события, о которых нельзя передать на словах и нельзя их усвоить одним только слухом; их надобно видеть на деле, чтоб ясно понять – в чём тут особая прелесть? А бедный и жалкий слепец тем больше при этом скорбит и тоскует, чем выше и больше веселие зрячих людей.
Словом сказать: сколько бывает на свете предметов и действий, самых приятных для взора, самых отрадных и близких для сердца, а для ума любопытных, – самых полезных для жизни плотской и духовной, которых не знает слепорождённый, хотя и желал бы их знать; потому что он слышит о том от других! И сколько таких, которые видел иной, пока не был слеп, а теперь – созерцать их не может! Вокруг его, – дети, друзья и родные, – при взгляде на что-то приходят в восторг! А как передать на словах их родному слепцу всю их великую радость, если предмет подлежит одному только зрению?!
Так, доля обоих слепцов, и того, кто сроду не видел во всей красоте Божия мира, – и другого, который под старость ослеп, – злополучная доля, несчастная участь!
Но есть, – братие и чадо о Христе, и другого рода слепота, которой действия и последствия несравненно ужаснее тех, о которых сейчас мы сказали.
Кроме внешней или телесной слепоты, есть ещё духовная, умственная и нравственная, от которой ныне многие гораздо более страдают, чем иные только от телесной, и которая тем злее и опаснее, что одержимые ею, находясь в каком-то странном обольщении, её в себе не примечают; и потому о врачевании своём от этого жестокого недуга они нисколько и не думают. Мало того: иные сами добровольно избирают эту слепоту, убегая света, – и остаются в этой тме и сени смертней даже до глубокой старости, а иногда, – и далее могилы...
И, странное дело! В этой горшей слепоте ума и сердца всего чаще замечаются не столько неучи простые, во внешнем отношении малоразвитые люди, сколько, или больше, люди из довольно образованных в науках человеческих, – люди, кажется, высокого полёта, которые постигли многое на свете и слывут за просвещённых.
«Как? – скажут нам на это стихийные мудрецы, – ужели в настоящий просвещённый век могут быть духовные слепцы и между учёными людьми? Еда и мы слепи есмы (Ин.9:40)?»
Не удивляйтесь этому! – ответим им. Чем больше ныне просвещённых в отношении житейском или, точнее, только хитрых по уму, тем больше между ними и слепых духовно... По-видимому, странное дело – быть учёным в науках человеческих и в то же время быть слепцом в духовном, а тем более – религиозном отношении, то есть в знании веры и исполнении дел благочестия?! Между тем вековые опыты и наблюдения нам часто повторяют это грустное явление, эту разладицу ума с сердцем и это незаконное противодействие внешнего развития – духовному настроению.
Припомните только то, что век Августа, в котором родился Христос, Спаситель мира, назывался «золотым» по просвещению. И, действительно, никогда до той поры ни науки, ни искусства древнего мира не доходили до такой особой высоты их внешнего развития, как в это, для ума счастливое время, которое считалось и считается «классическим», то есть достойным подражания и даже удивления для всех веков и народов. Афины при Перикле тоже были центром и рассадником всей мудрости языческой. Туда стекались в своё время для окончательного усовершенствования в науках и искусствах многие учёные почти со всех стран света.
Но по указанию истории загляните беспристрастно в нравственно-религиозную жизнь народов того времени – и что вы в ней заметите? Вы невольно убедитесь, что безбожие и разврат в этих государствах, греческом и римском, никогда до той поры не достигали такой тонкой степени их жалкого развития, как в этот мнимо-золотой и много просвещённый век!.. Языческие писатели того времени, изображая современные им нравы и понятия о религии, особенно в знатном и богатом сословии, наконец совершенно умолкают и немеют от стыда при описании тех мерзостей, о нихже, по словам апостола Павла, – тоже современника и свидетеля такой-то нравственности римлян и греков, – срамно есть и глаголати (Еф.5:12).
Прежде этого развития ума до такой его последней высоты и степени языцы, не имущии закона, – по крайней мере, – естеством (или по чувству разума и совести) законная творили (Рим.2:14). И, не зная Истинного Бога, хоть своих-то идолов боялись; и, хотя отчасти и превратно, они верили даже и загробной жизни с воздаянием за зло и за добро. А в это время просвещения житейского они дошли и до такой великой дерзости, что начали открыто издеваться на своих театрах и над самыми богами. И стали презирать освящённые веками правы предков, почитая зло добром и считая иногда за стыд оставаться в целомудрии. Так они упали глубоко в нравственно-религиозном отношении по мере того, как развились в одном умственном, житейском и телесном обучении (1Тим.4:8)!
Не много лучше их в то время были и евреи, особенно такие представители этого народа, как фарисеи, саддукеи, книжники, иродиане и тому подобные, о которых ничего хорошего нельзя сказать, как разве только повторить слова Спасителя: Горе вам, книжницы и фарисее, лицемери, яко затворяете Царствие Небесное пред человеки: вы бо не входите, (в него), ни входящих оставляете (или: допускаете) внити (Мф.23:13). Так что Иисус Христос, как Солнце правды с высоты востока, действительно тогда явился в мир посреде людей, сидящих во тме и сени смертней (Мф.4:16); – и только при Нём и от Него эти людие увидеша свет велий (Мф.4:16)! Аз есмь Свет миру, – сказал и Сам Спаситель о Себе: – ходяй по Мне, не имать ходити во тме, но имать свет животный (Ин.8:12).
Значит: вот кого должны мы называть действительно – «просвещённым»! Того, кто заимствует свой свет только от Христа – Света истины. И только того признавать поистине – «образованным», кто не только носит в своей душе, в своём уме и сердце, но и проявляет непрестанно в жизни этот образ Божий и подобие, или святое подражание Христу Спасителю, как сказал апостол Павел: подобни мне бывайте, якоже аз Христу (1Кор.4:16). А у кого нет или не видно ни этого света от Христа, ни этого образа и подобия Божия, тот по вере и по жизни – жалкий, несчастный слепец. Мало этого, он не только слеп, но и окаянен, и беден, и нищ, и наг (Откр.3:17). Одним словом: он – «ничто», как и называем ныне мы таких-то личностей прямо «нигилистами», то есть именно ничтожными людьми, – ничего святого и священного не признающими, ни во что не верующими...
А разве мало ныне между нами таковых-то, истинных слепцов по вере, и даже мертвецов по жизни, чуждой всякого общения с Богом как Творцом и Промыслителем, источником света и Подателем всякого блага (Иак.1:17)? Как мало?! – Их умножилось повсюду... И где всего больше? Где, как не в мнимо-учёном и недоученом, мнимо-просвещённом и мнимо-образованном сословии?..
Эти наши новые, духовные слепцы, помраченные смыслом, суще отчуждены от жизни Божия, за невежество сущее в них, за окаменение сердец их, в суете ума их, предающие себе студодеянию в делание всякой нечистоты (Еф.4:17–19), не приемлют яже суть Духа Божия: и не могут разумети ничего священного (1Кор.2:14). И потому во тме они ходят, и не ведят, камо идут (Ин.12:35). Они сами ненавидят свет Христов и не приходят к свету, да не обличатся дела их, яко лукава суть (Ин.3:20).
Их духовная, умственная и нравственная слепота действительно гораздо хуже, злее и опаснее, чем одна телесная, – и вот почему:
а).Недостаток зрения телесного восполняется нередко совершенством прочих внешних чувств. Но с потерей или, точнее, с самодовольным искажением ума и совести как очей духовных всё теряется в душе, и всё в ней извращается и даже разрушается. Самые высокие врождённые идеи: истины, добра и красоты, получают в ней какое-то превратное, бесовское и злое направление. Даже иногда и самое простое внешнее приличие в ограждение стыдливости и целомудрия у таких-то умственных слепцов, или, что то же, нигилистов и их спутниц – нигилисток, совершенно пропадает, – доходя до явного цинизма!..
б).Слепой телесными очами по крайней мере сознает своё несчастие и постоянно тяготится им; а в случае возможности он искренно желал бы, так или иначе, от него избавиться. И потому в таком великом горе он часто прибегает: то к Богу с тёплой молитвой, как и эти два слепца, о которых мы сегодня слышали, жалобно взывали ко Спасителю: Помилуй ны Иисусе Сыне Давидов (Мф.9:27)! то – к добрым людям с просьбой о помощи и руководстве. И получают ту или другую милость всегда с великой благодарностью. А того, кто сам оставил свет и возлюбил тму до невозможности расстаться с нею, легко ли убедить в его ужасной слепоте и привести ко свету Откровения небесного?.. Нет, таковых-то против воли и насильно и Сам Бог, конечно, не спасёт! А тем больше не послушают они, по гордости своей, доброго совета и внушения других, даже мудрых, опытных людей, тем более – пастырей Церкви... Да и где мы стали бы учить их, назидать, а тем больше – обличать, когда в храм они не ходят, проповедников бегут, книг священных не читают, Церкви Божией не слушают и на добрые внушения, а тем больше обличения, только озлобляются... И вот что странно: хотя и ум их прокажён, и совесть – нечиста, и вся душа у них, конечно с телом, покрыта язвами греха и смрадом беззаконий, но всё-таки им кажется, что «лучше их, и умнее, и честнее и людей-то нет на свете». И смешно, и жалко видеть иногда, как иной или иная из таких-то умников и умниц, валяяся по горло в тине сладострастия, позора, нищеты и отвращения, чуть не захлебнулся ею; а всё ещё кричит другим: несмь якоже прочии человецы (Лк.18:11)! Богат есмь и обогатихся и ничтоже требую (Откр.3:17)!.. Тогда как ясно видно, всем и каждому, совершенное его ничтожество...
в).И пусть бы таковой-то погибал один, в своём безумном ослеплении! Так нет, – туда же, в ров погибели, и временной, и вечной, нередко тащит за собой и другого. Он старается и прочим навязать свои негодные суждения и взгляды в извращённом виде: и на Бога, и на Церковь, и на веру, и на всё, чем держится основа государства, – на порядок, мир, спокойствие и благоденствие всех добрых обществ и семейств... При этом многие из них для достижения своих преступных и безбожных целей на средства не разборчивы, прибегая к самым гнусным мерам: и к подпольной литературе, и к поджогам, – к грабежу, разбою и убийству, и даже к самоубийству!.. И, к крайнему удивлению, они находят иногда себе сочувствие не только и не столько в темной, пьяной и распутной среде, сколько, или больше, в людях, кажется, достаточно развитых и дотоле честных, рассудительных, невинных, которых заражают ядом нигилизма и губят вместе с собой... К сожалению, всегда найдутся между нами люди столь простые и доверчивые, мало и умом-то твёрдые, а тем более в религиозном отношении столь слабые, которым доброе не вдруг-то в голову вдолбишь, а на зло и на погибель – точно коршуны на падаль или мухи – на огонь, они сами так и лезут!.. Их безбожные учители при этом не боятся слов Спасителя: Иже аще соблазнит единого (от) малых сих верующих в Мя, уне (то есть лучше) есть ему, да обесится жернов осельский на выи его, и потонет в пучине морстей (Мф.18:6). Они мало думают о том, что ничтоже покровено есть, еже не открыется, и тайно, еже не уразумеется (Лк.12:2), – что рано или поздно все их замыслы худые и все их злые цели и намерения будут раскрыты, преданы суду и осуждению. И сбудется тогда над ними то, что сказано в Писании: Слепец слепца аще водит, оба в яму впадут (Мф.15:14)...
Да, грустное положение! Но по нашим грехам, к крайнему прискорбию отечества, оно теперь у нас – нередкое...
«Откуда, – спросите, – оно?»
Как для слепоты телесной, так и для духовной – два главных источника. Как та, так и эта бывает: или наследственная, от самого рождения, или после приобретённая от разных несчастных причин или обстоятельств.
В духовной слепоте от самого рождения остаются многие неверы потому, что их родители доселе не познали через Крещение, или, что то же, просвещение, Христа – Света истины, да и сами не имели они случая поближе познакомиться со всей высотой православного христианского учения. А в другой, уже после приобретённой, находятся все те, которые когда-то, ещё во младенчестве своём, и крестились в недрах Православной церкви, и отчасти знали в своё время хоть начатки православного учения, – и даже исполняли, хоть лениво и неточно, почти все уставы и обряды православия. А потом – возлюбили паче тму, неже свет (Ин.3:19); и, тайно или явно, вследствие худого воспитания, независимо от Церкви, – вследствие сообщества с неверами и полуверами, – вследствие кощунственных внушений от безбожных и холодных педагогов, с чтением при этом грязных книг и сочинений, – одним словом – вследствие знакомства раннего со всем, что называется запрещённым плодом, и так далее, – они отпали от союза с православной верой, хотя и числятся в бумагах православными...
Горько положение первых, духовных слепцов, то есть неверов от рождения! Ибо прямо сказано о них: Аще кто не родится водой и Духом (Святым), не может внити в Царствие Божие (Ин.3:5). Но несравненно хуже участь тех, которые сначала были христианами, даже нарицались православными, а потом нарушали обеты, данные в Крещении, и отверглись от Спасителя с Его учением, изрекая через то хулу и на Святого Духа, как такой, великий, страшный грех, которому не может быть прощения, ни в сем веке, ни в будущем (Мф.12:32). Они гораздо больше пострадают за своё произвольное и злосознательное отступление от христианской веры и Церкви, чем те, которые родились и остались в язычестве.
Виды этой, произвольной, слепоты – духовной могут быть бесчисленны и разнообразны. Но все они главным образом происходят либо от невежества в законе Божием, либо от учёной гордости, или, точнее говоря, от учёного безумия. Потому что «гордость и глупость, – как гласит народное присловье, – две родные, неразлучные сестрицы», где одна из них, – там же и другая! А основание и главный корень того и другого жалкого явления скрывается в одном источнике: в порочной жизни по влечению страстей и похотей, а не по закону Божию. А жизнь-то таковых слепцов – разве не известна всем и каждому?!. Какая это жизнь? Одно распутство!
Относительно умственного или внешнего развития все люди разделяются: на «образованных», которые слывут иначе «просвещёнными людьми», и – на простых, неграмотных, которые и сами по смирению признают себя нередко «людьми тёмными, слепыми». Но одно образование умственное, как мы это уже видели и знаем, не всегда может быть ручательством и нравственного, а тем более – истинно-религиозного. Равно как недостаток внешнего, или житейского просвещения, только по духу века сего (1Кор.2:6) или по стихиям мира сего (Кол.2:8), не отрицает возможности и людям простым имети просвещенна очеса веры и сердца (Еф.1:18).
Напротив, чаще видим, к удивлению, что просвещённые-то науками житейскими по большей части – плохие христиане: и в церковь Божию они почти не ходят, и постов не соблюдают, и молиться, даже и перекреститься набожно и правильно, как следует, иные вовсе не хотят; даже и говеют-то иные, без сомнения, не каждый год, а года через два, три, – даже через пять и больше. Одним словом: многие из них ничего священного не знают, да и знать не хотят... И наоборот: нередко буяя мира сего (1Кор.1:27), – люди неучёные, простые, бывают мудри о Христе (1Кор.4:10), и худороднии (1Кор.1:28) становятся великими пред Богом по своей духовной жизни и по вере, которая есть плод отнюдь не хитрого ума, а только любящего Бога сердца сокрушенна и смиренна (Пс.50:19). Итак, при озарении небесном, по глубокому смирению пред Богом, часто и невидящие видят, а видящие – без этого света от Света, по своей учёной гордости, бывают слепи (Ин.9:39).
Наука ушла далеко!.. Иные постигли: и небо, и землю, и то, что на небе, и что на земле, и даже в земле. Кажется, всё изучили, что нужно, полезно для жизни земной или для ума любопытно. Ныне и юные девы, и малые дети знают и то, что, казалось бы, ещё рано им знать!.. Они во все тайны проникли так скоро, что нам, пожилым, не столько завидно их быстрым успехам, сколько и страшно при взгляде на них, – этих детей и девиц, прежде времени изнурённых наукой. «Не трудна ли работа для них? Достанет ли сил, чтоб её одолеть? Ибо приложивый разум, говорит Премудрый, приложит и болезнь (Еккл.1:18), а доброе здоровье и при великом уме кажется дело не лишнее! Да и что полезного выйдет из этой поспешной житейской науки? Вся ли она и для здешней-то жизни пригодна?» Вот какие вопросы для нас, стариков, не совсем-то понятны в ответах на деле и в жизни! Но положим, что всё это нужно, полезно и даже необходимо не только сынам, но и дщерям текущего века сего, который слывёт просвещённым! Но если при этом забыли они единое на потребу (Лк.10:42), – заботу о вечном общении с Богом в блаженстве небесном, то жалко и бедно это их новое, одностороннее и холодное просвещение! Попечение о мнозе изнурило их, но в делах веры и Церкви святой они едва ли не менее смыслят, чем люди, простые умом и смиренные сердцем!..
После этого подумаешь: «К чему же послужат их громадные труды и все обширные познания, которые для многих даже в роскошь превратились, тогда как у иной души, столь много просвещённой в мудрости земной, недостаёт для вечной жизни и насущного хлеба, иже есть глагол Божий (Мф.4:4)? К чему они, – без света истинной веры и теплоты Христовой любви?» Ведь не здесь только вся цель и награда нашего бытия! Здесь – только начало его... Да и здесь-то не все мудрецы достигают всей цели трудов. Многие из них, напротив, часто роются в потёмках. И нередко в темноте принимают за чистое золото и такие предметы, которые при свете Откровения свыше оказались бы только блестящей мишурой. Их спорам и противоречиям, их сомнениям и недоумениям – даже и конца не видно!.. Самые счастливые открытия или теории одних нередко разбиваются во прах другими, – особенно при новом столкновении с тем или другим дотоле не подмеченным явлением... А их так много остаётся в этом неистощимом запасе, или в этих необъятных тайниках видимой природы!
«Чем же кончается дело?» – Кончается нередко тем же, чем кончил убеждения свои о количестве и качестве своих познаний в сравнении с тем, что осталось неразгаданным или непознанным, один из древних мудрецов, именно – Сократ, который вслух признался, что они ничтожны. «Я только то и знаю, – он сказал, – что ничего не знаю!» Или чем кончил и другой из новейших учёных – Ньютон, который говорит: «Все мои познания, какие приобрёл я в течение жизни моей, подобны занятию того ребёнка, который из пустого любопытства собрал на берегу морском несколько красивых раковин и оставил неисследованным целое море!»
«А отчего у них такие малые успехи?»
Оттого, что нет при этом иногда ни мысли, ни слова о Боге как Премудром Творце и Всеблагом Промыслителе, в Котором Одном и Альфа и Омега, начаток и конец всего существующего (Откр.22:13)!.. Без этой мысли о Боге и будущей жизни что для них – закон и совесть? Это – пустые слова, без значения, цели и смысла! Что для них и человек, с непрестанной борьбой в нём закона, сущего во удех, с законом ума (Рим.7:23)? Это – загадка неразрешимая! Какое истинное назначение человека, и что ожидает его по смерти? – До этого нет им и нужды!.. Жизнь для жизни или, что то же, только для временных, грубых, плотских наслаждений, по системе известного богача: почивай, яждь, пий, веселися (Лк.12:19), если есть к тому деньги, – вот их главная цель в телесном; а слава и честь от других – в душевном отношении!.. «А в случае неудач?» – Есть у них гнусные средства: это – отрава, кинжал или меткая пуля... При потере веры в Бога, в страшный суд Христов и загробную, вечную жизнь с её блаженством для праведных и нескончаемых адским мучением для неверов и отчаянных, – это самоубийство, у многих теперь обычное дело. Каждый день только и слышно: «Тот – застрелился, другой – отравился...» Туда и дорога злодею! Хотя по чувству человечества жалко таких-то несчастных слепцов.
Итак, глаголющие себе быти мудри часто юродеют (Рим.1:22), даже до безумия!.. Значит: там не свет, а слепота, где земное просвещение имеет основу и цель только в пагубном неверии, распутстве и безбожии.
И таких-то представителей современного жалкого взгляда на жизнь и на цель просвещения найдётся немало у нас на Руси в новейшую пору!.. Для них, как видится теперь по их словам, – по их бесцензурной, подпольной печати и образу жизни, стремлений и действий, уже никакая религия не нужна. Они отказываются от её услуг и утешений даже и в предсмертные минуты их злой и отчаянной жизни... Одна материальная, плотская жизнь без мысли о Боге и лёгкое добывание средств грабежом и обманом, под залог и совести, и чести, и родства, и дружбы, а иной раз и невинности, – если она уцелела, – составляют их главную цель и заботу! Ни власть гражданская, ни тем более церковная, ни даже самая естественная – родительская им нисколько не страшны теперь... «Что для них святая Церковь с её богомудрым учением и уставом?» Это какое-то дряхлое, отжившее свой век, полумёртвое здание. «Закон Христов?» – это страшилище только для слабых умом и доверчивых сердцем. «Представители веры и Церкви?»... Они забыли и думать о них!.. Одним словом: всё для них теперь необязательно и всё излишне!.. «Полная свобода», в их, конечно, смысле понимаемая, – вот то основание для всех поступков их и действий, которому, по их понятию, не могут, да и не должны противиться: ни закон, ни вера, ни родство, ни дружба, никакое и ничье убеждение!..
Плачь перед ними мать родная с просьбой о том, чтобы обратились на истинный путь, ведущий ко спасению, уговаривай отец, чтобы исправились и не губили ни себя, ни других, – всё для них уже напрасно! Потому что загрубевшего в распутстве и нечестии учить – всё равно, что мёртвого лечить. Об этом нужно было ранее подумать, да покрепче позаботиться… «Мы сами знаем, что мы делаем! И лучше вас мы понимаем – к какой цели мы стремимся!» Вот какой гордый и глупый ответ у отчаянных из них!.. В таком случае и для таких-то упорных детей остаётся у родителей одна усердная молитва к Богу, со слезами, чтобы Сам Он, ими же весть судьбами, их гордыню сокрушил и их слепоту исцелил.
Но не все же из детей дошли до такого состояния или ожесточения! Иные только начинают к этому стремиться под влиянием соблазнов... Поэтому, пока они ещё не огрубели в этих пагубных привычках совершенно невозвратно, старайтесь, добрые родители, действовать на их умы и сердца здравым, кротким и в то же время твёрдым вразумлением о той опасности, какая угрожает им впоследствии, – и указанием того пути, по которому они должны стремиться к настоящей цели бытия, и прямо и спокойно, под руководством веры православной и добрых, опытных людей, в строгом подчинении властям, поставленным и Богом, и царём. И чем раньше это вразумление и чем оно настойчивее, тем оно действительнее... Пусть и прочие приставники к делу воспитания детей по долгу совести и чести помогают в этой скорби их родителям; равно как все блюстителя порядка, тишины, спокойствия и благоденствия отечества – пусть все они возвысят глас свой, яко трубу, на защиту, восстановление и утверждение тех прав и оснований, которые так дерзко и нещадно ныне попираются многими духовными слепцами, – прав, без которых ни святая Церковь с её православием, ни само государство с его благоденствием даже и не мыслимы. Поменьше гуманности, да побольше справедливого взыскания с виновных – вот их долг!.. При этом в деле правом и законном прятаться большим за малых – не приходится; и выпускать из рук ту власть, которая дана им Богом и царём над их питомцами или подчинёнными, – и грешно, и стыдно! Не берись никто за дело выше сил своих и способностей, иначе будет без ума носить свой меч (Рим.13:4)! Никто не почивай спокойно там, где нужен труд и где должна быть бодрость непрестанная! Иначе будет он не пастырь в своём стаде, а наёмник, – не начальник, а тунеядец, – не блюститель доброго порядка, а сообщник злым и губитель себя и других... Одним словом: будет он тогда врагом, и частным, и общественным!..
Если эта леность и беспечность, от которой зло растёт и крепнет во всей силе, и избегнет правосудия земного, то пусть ведает такое нерадение, что над ним всегда и неусыпно бодрствует правда вечная, небесная, неумолимая.
Во избежание такой ответственности пред Богом станем все и каждый на страже стада своего, кому оно дано от Господа в большом ли, или малом виде, – и оружием святого православия, с этим истинным крестом89 будем удалять волков, губящих это стадо! Не только своим родным детям, кого ими Бог благословил, но и чужим питомцам будем помогать: и добрым словом, и советом, и особенно благим примером в великом деле их внешнего просвещения, и – всеми мерами заботиться о том, чтобы оно с тем вместе было и духовным или вполне православным, то есть не только временным, но и вечным! Рано или поздно, ведь каждому из нас придётся умереть и после смерти дать отчёт пред Богом в том, что мы сделали полезного для ближних, или – что вредного для них? О, как тогда, особенно в день славного и страшного судилища Христова, приятно будет каждому, кто был действительно отцом, начальником, советником и другом для детей, своих или чужих, и их учил только истинной премудрости и науке благочестия, – как приятно в этот день сказать: се, аз и дети, – ихже дал ми еси, Господи (Евр.2:13)! Сохраних их в вере и благочестии, и никто же от них погибе, токмо сын погибельный (Ин.17:12)!.. Только вера созидает царства, и благочестие их хранит из рода в род, из века в век; а духовная слепота, то есть безверие и нечестие, их разрушает.
О, Русь святая, нам родная, православная! Видя житейское море, воздвизаемое бурею маловерия и нечестия, обратись к Спасителю и Богу со слезами покаяния и с этой церковной молитвой: Вскую мя отринул еси от лица Твоего, Свете незаходимый!.. Просвети очи мои, Христе Боже, да не когда усну в смерть, да не когда речет враг мой: укрепихся на него. Или, – хоть эту вспомни и принеси её ко Господу, какою умолили Его благость о прозрении своём капернаумские слепцы: Помилуй ны (Иисусе) Сыне Давидов! И верь, враги твои «исчезнут, яко дым!» Свет Христов да просветит нас всех молитвами «Заступницы усердной и Матери Господа Вышнего», Ему же честь и слава во веки веков. Аминь.
* * *
Примечания
«Христианское чтение», 1845 год, часть IV.
В царствование Иулиана отступника.
Святителя Амвросия Медиоланского книга о Исааке, глава 8, в изъяснении слов «Песни песней» (Песн.8:6).
Послание пресвитеров и диаконов Ахаии, учеников святого апостола Андрея и очевидцев его мученичества («Христианское чтение», 1824, часть XVI, с.275 и 276).
Житие святого Иоанна Богослова, сентября 26.
Житие святого апостола Филиппа, ноября 14.
Житие святого Епифания, епископа Кипрского, мая 12.
Житие преподобной Макрины, июля 19.
Житие святой Фёклы, сентября 24.
Житие святой мученицы Василисы, сентября 3.
Житие святых мучеников Авдона и Сенниса, июля 1; житие святого Павла Фивейского, января 15, и многие другие.
«Лимонарь», глава 3.
Житие преподобного Венедикта, марта 12.
Житие святого Иоанна Богослова, сентября 26.
Святого Иоанна Златоуста «Слово на поклонение Честному Кресту», в средопоклонную неделю.
«Церковная история» Евсевия, книга 7-я, глава 21.
Rufin. Lib. 2, cap. 7.
О покаянии, беседа 3.
На Пятидесятницу, беседа 1.
На Исаию, беседы 1 и 4.
Четьи-Минеи, июня 27.
На Иоанна, беседа 11.
Беседа 6, «К народу антиохийскому».
Жизнь преподобного Памвы. Четьи-Минеи, июля 18.
«Сказания о земной жизни Пресвятой Богородицы», с.9.
Там же, с.9.
Последование великого и малого повечерия.
Декабрь 5, утр. канон, песнь 4, Богородице.
«Христианское чтение», 1832 год, часть XLVIII, с.285.
Беседа «К народу антиохийскому», СПб., 1849 год, том II, с.498.
Слово на Рождество в «Христианском чтении», 1841 год, часть III, с.405.
Сочинения святителя Димитрия Ростовского, издание 7, 1848 год, часть III, с.III.
Служба января 6, канон, 1 песнь.
Тропарь празднества Успения.
Карамзин. «История государства Российского», том IV, примечание 254.
«Душеполезное чтение», 1861 год, август, с.379.
Карамзин. «История государства Российского», том V, с.85–87. «Душеполезное чтение», 1861 год, август, с.380–384.
«Душеполезное чтение», 1861 год, август, с.386–388.
«Душеполезное чтение», 1861 год, август, с.392.
«Душеполезное чтение», 1861 год, август, с.394–398.
«Душеполезное чтение», 1861 год, август, с.404.
«Душеполезное чтение», 1861 год, август, с.408–410.
«Кавказ». 1854 год, №2, января 6, среда, с.7.
См. Евсевия «Жизнь Константина Великого», с.28–32.
Из сочинений святителя Тихона.
«Творения святых отцов», 1848 год, книга 5, с.7.
«Православное нравственное богословие» епископа Платона, с.205.
Надобно заметить, что накануне приходили от фотографа Г-а, объявляя, что по книгам техника сего значится за Я-м четыре рубля.
Миша – малый певчий, живший в одной комнате с Я-м и скончавшийся года за четыре перед тем.
Карея находится в центре святой Афонской горы и имеет вид города.
Из Миней-Четьих святителя Димитрия Ростовского, 15 августа.
«Церковная история» Иннокентия, выпуск XIV, с.572.
Жизнеописание святых Грузинской церкви. Часть 1, издание 1871 года.
Свет этот происходил от иконы Пресвятой Богородицы, находившейся у святого апостола.
«Розыск», с.293–294.
«Догматическое богословие» архиепископа Макария, том 1, с.458–465.
«Догматическое богословие» архиепископа Макария, том 1.
См. книгу «Философские размышления о Божественной религии христиан Огюста Николя», том 1, с.77, издание 1867 года.
Книга «Бог в природе или единство мироздания» д-ра Георга Гартвига, переведено с немецкого Григорьевым, с.6–11, издание 1866 года; также «Православный собеседник», 1871 год, май.
«Догматическое богословие» преосвященного Филарета, архиепископа Черниговского, с.220.
«Творения святых отцов», книга 1, с.231.
«Философские размышления о Божественной религии христиан Огюста Николя», том 1, с.78 и след.
«Очерки догматического православно-христианского учения» протоиерея Фаворова, с.96.
«Православный собеседник», 1871 год, июнь и июль.
См. «Очерки догматического православно-христианского учения» протоиерея Фаворова, с.96.
Четьи-Минеи, декабря 4-е число.
«Апология христианства» Геттингера, часть 1, с.81.
«Апология христианства» Геттингера, часть 1, с.81.
«Догматическое богословие» митрополита Макария, том 2, с.10.
Книга «Бог и природа», сочинение Ульрици, перевод с немецкого, том 2, с.69 и след.
«Апология христианства» Геттингера, часть 1, с.82.
Книга «Христианские апологеты первых веков».
«Апология христианства» Геттингера, часть 1, с.244.
«Илиада», XVI, с.855.
Чит. диалог «Федон» – сочинение Платона, перевод В.Н.Карпова.
«Древнегреческий мир и христианство в отношении к вопросу о бессмертии и будущей жизни человека». Исследование господина Чистовича, с.185.
«Трактат о явлениях ангелов, демонов и духов» – сочинение Колмета, часть III, с.15–26.
«Древнегреческий мир и христианство в отношении к вопросу о бессмертии и будущей жизни человека». Исследование господина Чистовича, с.85.
Нелепые верования язычников о переселении душ и о загробной их участи, без сомнения, сами по себе не имеют никакого значения, но они служат очевидным доказательством, что мысль о бессмертии души свойственна человеку, есть как бы врождённая потребность его. Грубые, непросвещённые народы, и те верили в бессмертие души, тогда как наши современные заучившиеся умники отвергают загробную жизнь и невежеством своим превосходят язычников.
Из записок покойного иеромонаха афонского русского Пантелеимонова монастыря о.Арсения, найденные после смерти в рукописях его.
«Чрезвычайно умерен», – как справедливо выражается достоуважаемый писатель, – потому что все, лишающие себя небесных благ из пристрастия к земным, лишают себя их не на тысячи и миллионы лет, а на всю вечность.
Четьи-Минеи святителя Димитрия Ростовского, 15 августа.
Полное описание Грузинской церкви, с.XI–XII, 1871 год.
Издание 1848 года, с.295.
Древний храм этот при помощи Божией теперь уже возобновлён. 10 Мая 1882 года совершено было торжественное освящение его высокопреосвященнейшим Иоанникием, экзархом Грузии.
Тогда были изданы им брошюры «Следование афонской святыни», «Описание знамений и исцелений», которые о.Арсений перед кончиной исправил и дополнил и отдал в печать вместе с книгами: «Собрание чудес святого великомученика и целителя Пантелеимона» и «Цветник духовный» в 2-х частях.
Из «Московских епархиальных ведомостей», 1879 год за №50, помещённый священником московского Никитского монастыря о.Николаем Воиновым.
При этих словах проповедник набожно и правильно перекрестился.
