- О матери
- Крутой маршрут
- Часть I
- Глава первая. Телефонный звонок на рассвете
- Глава вторая. Рыжий профессор
- Глава третья. Прелюдия
- Глава четвертая. Снежный ком
- Глава пятая. «Ума палата, а глупости – саратовская степь…»
- Глава шестая. Последний год
- Глава седьмая. Счет пошел на миги
- Глава восьмая. Настал тридцать седьмой
- Глава девятая. Исключение из партии
- Глава десятая. Этот день…
- Глава одиннадцатая. Капитан Веверс
- Глава двенадцатая. Подвал на Черном озере
- Глава тринадцатая. Следствие располагает точными данными
- Глава четырнадцатая. Кнут и пряник
- Глава пятнадцатая. Ожившие стены
- Глава шестнадцатая. «Простишь ли ты меня?»
- Глава семнадцатая. На конвейере
- Глава восемнадцатая. Очные ставки
- Глава девятнадцатая. Расставанья
- Глава двадцатая. Новые встречи
- Глава двадцать первая. Круглые сироты
- Глава двадцать вторая. Тухачевский и другие
- Глава двадцать третья. В Москву
- Глава двадцать четвертая. Этап
- Глава двадцать пятая. Бутырское крещение
- Глава двадцать шестая. Весь Коминтерн
- Глава двадцать седьмая. Бутырские ночи
- Глава двадцать восьмая. С применением закона от первого декабря
- Глава двадцать девятая. Суд скорый и праведный
- Глава тридцатая. «Каторга! Какая благодать!»
- Глава тридцать первая. Пугачевская башня
- Глава тридцать вторая. В Столыпинском вагоне
- Глава тридцать третья. Пять в длину и три поперек
- Глава тридцать четвертая. Двадцать две заповеди майора Вайнштока
- Глава тридцать пятая. Светлые ночи и черные дни
- Глава тридцать шестая. «Собака Глана»
- Глава тридцать седьмая. Подземный карцер
- Глава тридцать восьмая. Коммунисто итальяно…
- Глава тридцать девятая. «На будущий – в Ерусалиме!»
- Глава сороковая. День за днем, месяц за месяцем
- Глава сорок первая. Глоток кислорода
- Глава сорок вторая. Пожар в тюрьме
- Глава сорок третья. Второй карцер
- Глава сорок четвертая. Мы вспоминаем Джордано Бруно
- Глава сорок пятая. Конец карлика-чудовища
- Глава сорок шестая. Время больших ожиданий
- Глава сорок седьмая. Баня! Просто обыкновенная баня!
- Глава сорок восьмая. На развалинах нашего Шлиссельбурга
- Часть II
- Глава первая. Седьмой вагон
- Глава вторая. «Разные звери в божьем зверинце»
- Глава третья. Транзитка
- Глава четвертая. Пароход «Джурма»
- Глава пятая. «Вам сегодня не везло, дорогая мадам Смерть…»
- Глава шестая. На легких работах
- Глава седьмая. Эльген – по-якутски «мертвый»
- Глава восьмая. На лесоповале
- Глава девятая. Спасайся кто может!
- Глава десятая. Здесь жили дети
- Глава одиннадцатая. «Ветерок в кустах шиповника…»
- Глава двенадцатая. Между урчем и кавече
- Глава тринадцатая. Война! Война! Война!
- Глава четырнадцатая. Сорок девять по Цельсию
- Глава пятнадцатая. И свет во тьме
- Глава шестнадцатая. Молочные реки, кисельные берега
- Глава семнадцатая. Бледные гребешки
- Глава восемнадцатая. В чьих руках топор
- Глава девятнадцатая. Добродетель торжествует
- Глава двадцатая. Порок наказан
- Глава двадцать первая. Известковая
- Глава двадцать вторая. Веселый святой
- Глава двадцать третья. Рай под микроскопом
- Глава двадцать четвертая. Разлука
- Глава двадцать пятая. Зэка, эска и бэка
- Глава двадцать шестая. Mea culpa
- Глава двадцать седьмая. Снова преступление и наказание
- Глава двадцать восьмая. От звонка до звонка
- Часть III
- Глава первая. Хвост жар-птицы
- Глава вторая. Снова аукцион
- Глава третья. Золотая моя столица
- Глава четвертая. Труды праведные
- Глава пятая. Временно расконвоированные
- Глава шестая. И барский гнев, и барская любовь…
- Глава седьмая. «Не плачь при них…»
- Глава восьмая. Карточный домик
- Глава девятая. По алфавиту
- Глава десятая. Дом Васькова
- Глава одиннадцатая. После землетрясения
- Глава двенадцатая. Семеро козлят на идеологическом фронте
- Глава тринадцатая. Тараканище
- Глава четырнадцатая. Двенадцатый час
- Глава пятнадцатая. По радио – музыка Баха
- Глава шестнадцатая. Коменданты изучают классиков
- Глава семнадцатая. Перед рассветом
- Глава восемнадцатая. За отсутствием состава преступления
- Эпилог
- Лев Копелев, Раиса Opлова - Евгения Гинзбург в конце крутого маршрута
- Примечания
Крутой маршрут
Хроника времен культа личности
О матери
Мне было три года, когда я вдруг ощутила доселе незнакомое: откуда-то из воздуха магаданского детдома возникло и сгустилось – то ли запахом, то ли на ощупь, а, может быть, я сразу увидела – и мгновенно поняла: мама! Надо мной наклонилась мама! Я это знала всеми своими чувствами и запомнила на всю жизнь. И где бы я с тех пор ни находилась, иногда и теперь рядом со мною что-то такое сгущается, и все мои чувства собираются в комок и явственно говорят мне о ее присутствии в моей жизни.
О том, что я приемыш, мама сказала мне лишь через пятнадцать лет, опасаясь, что мне станет известно об этом от кого-нибудь из читателей «Крутого маршрута», уже опубликованного к этому времени на Западе и быстро распространявшегося в cамиздате. Мне книгу долго не показывали, очевидно, опасаясь новых репрессий, которые в случае моей осведомленности могли бы коснуться и меня. А удочерение происходило в страшном для мамы 1949 году, когда ей грозил новый срок.
Мама печалилась о том, что книгу опубликовали без ее ведома – не потому что боялась мести властей, а оттого, что в рукописи все упомянутые лица названы подлинными именами. Она вздыхала: «Вот эта девчушка, которая в Казани смотрела на меня влюбленными глазами, – что будет, если она узнает, что это по доносу ее отца меня…» – и она сокрушенно качала головой.
Помню еще, как огорчалась мама, когда А. Твардовский во время поездки в Италию, полагая, будто может защитить возникшую в советской литературе лагерную тему, начатую Солженицыным, сказал, что «Новый мир» не собирается печатать книгу Евгении Гинзбург, потому что это «переперченное блюдо» (там были произнесены и еще какие-то малоприятные выражения).
«Он вернулся, – рассказывала мама, – заперся у себя на даче и который уже день по-черному пьет, бедняга!» Ни слова упрека, только жалость.
Не дело детей говорить о книгах своих родителей, я и не ставлю перед собой такую задачу. Есть масса отзывов – как солагерников, так и собратьев по ремеслу, литературоведов, друзей, противников, недоброжелателей, просто читателей. Ни спорить с кем-либо, ни отстаивать какую-либо позицию я не собираюсь, да и права не имею. Но мне и о ней самой, о Евгении Семеновне Гинзбург, очень трудно говорить. Могут подумать, что мне мешает благодарность приемной дочери. Нисколько! Я жила в семье и не знала, что эта семья мне подарена, и была уверена, что в этой семье родилась. Как в любой семье, здесь бывало всякое. Боюсь, я доставила маме больше огорчений, чем радостей. Но вот какая странность: об Антоне Вальтере, моем приемном отце, я, кажется, могла бы написать подробно, вникая во все детали. О Евгении Гинзбург – нет! Почему? Не знаю, не спрашивайте.
Я могу сказать только то, что и так вычитывается из ее книги, что запечатлено некоторыми мемуаристами. Она была очень ярким человеком. Красавица, умница, с обостренным чувством юмора. Колоссальная эрудиция и огромная трудоспособность. Блестящая речь и женский магнетизм (не утраченный до самых последних дней ее жизни). Стихи она могла читать наизусть часами. Кстати, она и человека могла оценивать по тому признаку, как он относится к определенным стихотворениям. Помню, как однажды была шокирована одна либеральная компания, когда она стала защищать литератора, служившего предметом постоянных нападок прогрессистов.
– Что вы, – горячо вступилась она, – мы с ним долго говорили о Владимире Соловьеве. Он помнит наизусть мое любимое:
Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами —
Только отблеск, только тени
От незримого очами?
И она увлекалась и дочитывала стихи до конца:
Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий
Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий?
Милый друг, иль ты не чуешь,
Что одно на целом свете —
Только то, что сердце к сердцу
Говорит в немом привете?
Я заметила, что эти стихи были вообще тестом, который она время от времени устраивала различным людям, особенно полузнакомым (вокруг нее всегда было множество народу, в том числе и ненадежного). С ее точки зрения, это был трудный экзамен. Вообще же, несмотря на весь ее суровый опыт, она была чрезвычайно открыта, доверчива и, я бы сказала, наивна.
Странно было бы, если б на этих страницах, ломясь в открытую дверь, я стала бы рассказывать о неимоверно большой роли, которую сыграла книга Евгении Гинзбург или ее личность в моей собственной жизни. Но мне все же было чрезвычайно интересно узнать о том влиянии, которое было оказано книгой и ее автором на людей моего поколения, то есть на шестидесятников – людей, заставших краешек сталинской эры и перешедших в постбрежневскую, а теперь уже и в постельцинскую эпоху.
Я спросила об этом одного из тех, кого мама в 60-е годы называла своими молодыми друзьями (вокруг нее всегда было много молодежи). Вот, что он мне написал в письме, разрешив цитировать его без указания имени: «Впервые я увидел Евгению Семеновну в доме моих родителей, когда мне исполнилось лет 17–18. К этому времени у нее уже были закончены какие-то главы ее книги, и в тот же вечер отец разрешил мне почитать рукопись, названную „Седьмой вагон“.
Я читал и вспоминал лицо и интонации женщины, которую я только что видел, и соотносил ее образ с написанным. Я не мог даже догадываться о существовании ада, описанного в рукописи, – я читал такое впервые, но вот эта женщина с искрящимися юмором глазами этот ад пережила. И я отчетливо помню, что эмоциональная буря, вызванная во мне рукописью, была спровоцирована не в последнюю очередь эстетическими достоинствами повествования, а не только ее гуманитарной направленностью.
Евгения Семеновна рассказывала (об этом есть и в книге, но я ясно помню ее устные выразительные средства), что она может по глазам определить бывшего лагерника и часто огорошивает незнакомого человека вопросом о том, где тот отбывал срок, – и ни разу не ошиблась! Я пытался понять, что выдает узника лагерей, и подолгу вглядывался в ее глаза – они были удивительные! Во-первых, они всегда светились. Во-вторых, в них всегда была готовность к острóте – своей или чужой. В-третьих, в них всегда была печаль – неизбывная и… таинственная, потому что поверх этой тоски всегда прыгали искорки, если не сказать: чертики.
Мне показалось, что я понял, как выглядит лагерный отпечаток в зрачках, и однажды, когда уже студентом МГУ я был на приеме у зубного врача, мне показалось, что я опознал в дантистке лагерницу. Мне был назначен новый прием на следующий день, и я отправился на него с огромным букетом цветов. В назначенный час кабинет был закрыт, и я стоял перед запертой дверью, когда, наконец, появилась сестра и сказала, что сегодня приема не будет: Анна Михайловна плохо себя почувствовала. «Вот, передайте», – сказал я, протягивая букет. Так и не пришлось мне проверить, точно ли я определил лагерника, но что дантистка была обаятельна, несмотря на бормашину в руке, я сумел догадаться, соотнося ее облик с образом Евгении Семеновны.
Ты знаешь, Тоня, я всегда помнил о Евгении Семеновне, то есть не просто хранил память о ней, а как бы все сопоставлял с нею, она дала мне в жизни масштаб, по сравнению с которым то, что могло считаться крупными неприятностями – доносы, подозрительность спецслужб и т. п. – становилось мелкими неурядицами.
Я обсуждал вопрос о степени воздействия «Крутого маршрута» со своими друзьями, которые не были, как я, знакомы с автором. Они, тем не менее, как и я, склонны видеть в ней свою воспитательницу. Переход из брежневского времени в наши дни подготовлен и облегчен людям «Крутым маршрутом». Как бы величествен (и пафосен!) ни был подвиг противостояния коммунистической системе, затеянный Солженицыным, он никогда не отодвинет светлого и доброжелательного взгляда, мерцающего со страниц книги Евгении Гинзбург. Доброта в искрящихся женских глазах, может быть, могущественнее мрачной мужской раздражительной силы. (Да простит меня Евгения Семеновна, она всегда сердилась, если кто пытался сравнивать ее с Солженицыным. «Не путайте Божий дар с яичницей», – говорила она. Ей-Богу не путаю, Евгения Семеновна, теперь это уже вполне очевидно.) Евгения Семеновна навсегда научила меня, ты, Тоня, наверно, тоже затвердила эти слова: «Лишь одно на целом свете – только то, что сердце к сердцу говорит в живом привете».
Тоня, я не пишу мемуары, не хочу, а в случае с твоей мамой, может быть, и права не имею. Я нередко бывал в ее московском доме, я помню мнемонический прием, с помощью которого она советовала пользоваться ее телефонным номером, (не забыл до сих пор: АД-1-37-18). «АД один – это нетрудно; 37 – это год, когда меня посадили; 18 – столько лет я просидела». Но мои воспоминания – во-первых мелочи, которые уже есть в многочисленных мемуарах, а во-вторых, почти всегда и неизбежно героем повествования становится сам мемуарист. Дальнейшее – молчание».
Вот такое письмо от человека, с которым я почти чудом встретилась, не видев его более сорока лет.
Спасибо, мама!
2007 г.
Антонина Аксенова
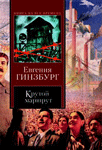
Комментировать