- Предисловие
- Сын Каифы
- Глава 1. Пропавший ребенок
- Глава 2. Геннисаретское озеро. Капернаум. Тит
- Глава 3. Капернаумский сотник Думах
- Глава 4. Исцеление Стефана и Гого
- Глава 5. Симон-Петр и Андрей
- Глава 6. В синагоге и у Симона-Петра
- Глава 7. Во дворце Каиафы
- Глава 8. Исцеление прокаженного
- Глава 9. Исцеление расслабленного
- Глава 10. Тит у Иаира
- Глава 11. Путешествие Иаира в Иерусалим
- Глава 12. Семья Иаира и Каиафы
- Глава 13. Болезнь дочери Иаира
- Глава 14. Воскрешение дочери Иаира
- Глава 15. Чудесное насыщение пяти тысяч человек
- Глава 16. Отец-мучитель
- Глава 17. Исцеление слепорожденного
- Глава 18. Бегство в Назарет
- Глава 19. Тит попадается разбойникам
- Глава 20. Неудачная попытка
- Глава 21. Приговор над Титом и Думахом
- Глава 22. Смерть Приски
- Глава 23. Предательство Иуды
- Глава 24. Вход Господень в Иерусалим
- Глава 25. Тайная Вечеря
- Глава 26. Иисус — у Каиафы, Пилата и Ирода
- Глава 27. Осуждение Господа
- Глава 28. Распятие
- Глава 29. Сын первосвященника
- Глава 30. Воскресение Христово
- Заключение
- Дитя из Вифлеема
- Из книги «Легенды о Христе»
- Ветер Иисуса
- Игры маленького Иисуса
- Таинственный последователь
- Тень Иисуса
- Воробей
- К святым мученикам
- Подвиг
- Герой-мученик
- Из старой рукописи
- Великое...
- Проклятое дитя
- Троичные березки
- Троицын день
- Пресветлый звон
- Три Пасхи
- Странички войны
- Иоанн Дамаскин
- Азбука для начинающих духовную жизнь
- Сто вопросов и сто ответов на запросы христианской души
Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви № ИС Р21-119-3301
Предисловие
Пятый сборник рассказов «Лилии полевые» в литературной серии «Из архива репрессированного священника Григория Пономарева (1914-1997 гг.)» подготовлен к изданию за период с 2016 по 2021 гг.
Шестого февраля 2016 года отошла ко Господу Ольга Григорьевна, дочь протоиерея Григория и матушки Нины Пономаревых, внучка святых новомучеников и исповедников Российских архимандрита Ардалиона (Пономарева) и протоиерея Сергия Увицкого. Царствие ей Небесное!
Архив своего отца, митрофорного протоиерея Григория Пономарева, Ольга Григорьевна передала в редакцию «Звонница» в 1998 году, после праведной кончины родителей.
В течение более двадцати лет редакторы курганского издательства «Звонница» работали с рукописями и ветхими машинописными текстами архива, стараясь сохранить и передать православному читателю духовное наследие отца Григория. На основе архива, рукописей и воспоминаний издан двухтомник «Исповедник веры протоиерей Григорий Александрович Пономарев (1914-1997 гг.). Жизнь. Поучения. Труды»
В настоящее время архив передан в Далматовский Свято-Успенский ставропигиальный мужской монастырь Шадринской епархии, в музей отца Григория и матушки Нины Пономаревых.
Духовные книги в годы репрессий священства в прошлом веке были запрещены богопротивными властями. Но отец Григорий, выезжая на учебные сессии в Духовную Академию северной столицы, привозил из Санкт-Петербурга в Курган тяжелые чемоданы с библиотечными книгами; он перепечатывал под копирку и переписывал вручную сотни и тысячи страниц свято-отеческих рассказов, повестей, притч, древнехристианских легенд и наставлений, сшивая их в самодельные книжицы. Эти тетрадки он дарил своим чадам, давая духовную пищу каждому по его потребе.
Далеко за пределами Курганской области прославил Господь имя отца Григория Пономарева — исповедника веры. В народе батюшку еще при земной его жизни почитали как чудотворца и молитвенника. Его ежедневным, неотступным правилом было — ранний подъем в четыре часа утра, молитвенное стояние с чтением нескольких акафистов и канонов, исполнение намеченного плана по переписыванию десятков страниц духовных текстов, сугубые молитвы по прошениям и запискам, Божественная литургия в храме; далее — требы, поучительные беседы с паствой, хлопоты по храму, хозяйственные заботы… Спать в доме батюшки ложились далеко заполночь.
Во всем помощницей и спутницей отцу Григорию была кроткая и смиренная матушка Нина Сергеевна, урожденная Увицкая. Отец Григорий и матушка Нина прожили вместе более 60 лет и почили во Господе в один день 25 октября 1997 года, явив своей мирной кончиной пример истинно христианской жизни. И отец Григорий, и матушка Нина воспитывались в семьях потомственных священников и с юности стали свидетелями жертвенного служения Богу своих родителей, новомучеников и исповедников, репрессированных в сталинские годы.
О благочестивой жизни отца Григория и матушки Нины написана книга «Во Имя Твое» (2003 год), в основу которой вошли рассказы Ольги Григорьевны Пономаревой о своих родителях и документы из семейного архива.
В 2006 году в издательстве «Звонница» вышел двухтомник «Исповедник веры протоиерей Григорий Пономарев (1914-1997 гг). Жизнь, поучения, труды» (О. Пономарева, Е. Кибирева), в которой были опубликованы новые главы, воспоминания духовных чад, дневник о. Григория и документы следственного дела № 16527 о репрессиях.
Начиная с 2005 года, редакция «Звонницы» подготовила к печати и издала четыре сборника «Лилии полевые…», состоящие из повестей, рассказов и духовных наставлений из архива отца Григория: «Лилии полевые» (2006 год), «Лилии полевые. Крестоносцы» (2012 год), «Лилии полевые. Покрывало святой Вероники» (2014 год), «Лилии полевые. Царь из дома Давида…» (2018 год, сигнальный экземпляр).
Полные тексты сборников размещены на литературном ресурсе «litres.ru» и доступны для чтения. Книги одобрены Издательским советом РПЦ.
Пятый сборник рассказов «Лилии полевые. Подвиг», подготовлен к изданию в 2021 году. Лейтмотив основных рассказов сборника выражают слова героя рассказа «Подвиг», отца Павла из Жерновки: «Врагу — прощать, и мстить ему за зло — любовью…» (стр. 332 — ред.).
Человечность, нравственность, глубина и мотивы подвига, в измерении гуманизма христианской морали, характерна русскому человеку в самой своей сути. Имперский дух, пронизанный догматами православной веры, заложен во многих поколениях нашего народа. Совесть как разговор с самим собой, жертвенность, готовность отдать свою жизнь за други своя, милосердие, умение «врагу прощать и мстить ему за зло — любовью» сокрыты в глубинах русского характера. Все эти черты нашего народа отражены в рассказах второй части пятого сборника. Многие великие умы на протяжение веков рассуждали о том, какой есть по сути «русский» характер и в чем заключается национальная особенность нашего народа. Но чтобы понять до звенящей хрустальной прозрачности русского человека, надо, по мнению редакции, самому по сути стать русским!
В настоящий сборник, по просьбе духовных чад отца Григория, вошли его духовные поучения «Сто вопросов и сто ответов на запросы христианской души», а также впервые опубликована малоизвестная повесть из первых времен христианства «Сын Каиафы».
* * *
Большую часть книг своего архива отец Григорий перепечатывал, используя в ленте печатной машинки печную сажу. Со временем сажа осыпалась, печатные буквы тускнели, так что смысл написанного терялся. Некоторые тексты печатались с сокращениями. Чтобы восстановить ветхие страницы архива, составителю сборника довелось работать в С.-Петрбургских научных библиотеках, запрашивая первоисточники из фондов редких книг. Вся работа по восстановлению текстов велась по благословению Преосвященного Михаила, епископа Курганского и Шадринского (+2008 г.).
Одной из самых сложных для подготовки к печати стала повесть из первых времен христианства «Сын Каиафы». Тетрадь с машинописным текстом принесла в редакцию «Звонница» духовная дочь отца Григория Евдокия, уточнив, что перепечатывать текст ей благословил батюшка. Автор повести и год написания рассказов указаны не были. В таком виде, без уточнения выходных данных и первоисточника, публиковать рассказы не представлялось возможным и повесть долгое время лежала не востребованная. Однако, работая в Национальной публичной библиотеке С.-Петербурга с бумажным каталогом, редактор «Звонницы» обнаружила первую публикацию «Сын Каиафы» в дореволюционном журнале «Отдых христианина». Журнал издавался Всероссийским Александро-Невским Братством Трезвости в Санкт-Петербурге с 1901 года и «состоял под Августейшим Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны покровительством». Так стали известны выходные данные повести «Сын Каиафы», впервые напечатанной в дореволюционном церковном журнале.
Авторы журнала — приходские священники, епископы, православные писатели и поэты ХIХ и ХХ вв.
В одном из первых номеров журнала «Отдых христианина» (в 1901 году) было опубликовано напутствие святого Иоанна Кронштадтского: «Иди в мир — прекрасная назидательная книга творений братских, христианских, {благожелательных — ред.} душ и приноси живые плоды веры в {добродетели — ред.}».
Для исследователей архива отца Григория журнал стал неожиданным открытием! Многие рассказы, повести и поэмы из архива отца Григория были впервые напечатаны именно в этом дореволюционном издании.
Рассказы из времен земной жизни Иисуса Христа «Сын Каиафы» опубликованы в журнале «Отдых христианина» без указания имени автора. К публикации дано пояснение: «Впервые этот рассказ появился в Северо-Американских Соединенных Штатах, где в течение нескольких месяцев разошелся в 500 000 зкземпляров».
В 1902 году повесть вышла отдельной книгой в серии «Библиотека “Отдых христианина”» с отметкой церковного цензора «Печать разрешается». Для публикации в настоящем сборнике «Лилии полевые. Подвиг» это имело решающее значение.
На первой странице книги (1902 год, типо-литография М.П. Фроловой) читаем:
«Рассказы из времен земной жизни Иисуса Христа. Отдельный оттиск из журнала “Отдых христианина” за 1902 г., издаваемого Александро-Невским Обществом трезвости, что при Воскресенской церкви “Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Православной церкви”. Обводной канал, дом № 116, в С.-Петербурге». И далее: «”Печать разрешается”. С.-Петербург, 24-го Марта 1902 г. Цензор, Инспектор С.-Петербургской Духовной Семинарии, Архимандрит Вениамин».
Сверив перепечатку из архива отца Григория с первоисточником 1902 года, автор сборника отредактировала рассказы, дописала утерянные части текста, заказала серию карандашных рисунков и подготовила повесть к новой публикации.
Добавим, что книга с таким названием издавалась в России сектантским библейским обществом в конце ХХ-го века. Под видом «нового перевода» сектанты исказили смысл и содержание первоисточника с точки зрения православной догматики. Сегодня мы предлагаем читателям восстановленный и заново отредактированный текст повести «Сын Каиафы» и с радостью представляем пятый сборник рассказов и поучений из архива исповедника православной веры, протоиерея Григория Пономарева (1914-1997 гг.) «Лилии полевые. Подвиг».
Просим ваших молитв на последующие издания, а также молитв об упокоении протоиерея Григория Пономарева (и мамы его матушки Надежды), матушки Нины (и мамы ее матушки Павлы) и дочери их Ольги.
Елена Кибирева,
Союз писателей России.
Курган. Великий пост. Крестопоклонная.
Родительская суббота.
10 апреля 2021 года
Сын Каифы[1]
«Не хлебом единым жив человек…[2]»
Глава 1. Пропавший ребенок
Печально в богатом и когда-то веселом доме Каиафы. Во всех уголках обширного дома, тенистого двора только и слышны вздохи и громкие рыдания домочадцев Каиафы. Особенно шумно у фонтана: здесь столпилась порядочная кучка женщин. Они, перебивая друг друга, стараются показать, как близко их сердцу горе Каиафы.
— Ах, если бы у нас была какая-нибудь надежда видеть опять тебя, дорогой наш мальчик, — восклицала, ломая руки, седая еврейка.
— Какой добрый и ласковый для всех он был всегда, — говорила другая, но рыдания помешали ей закончить свою речь, хотя ей хотелось рассказать и о том, как, с каким восхищением заглядывались на него прохожие, когда он чинно проходил по улице со своей старой няней. Ей хотелось поведать и о том, как он спас ее чуть ли не от голодной смерти. Но слезы душили ее, она могла лишь только биться своей старой головой о край мраморного бассейна.
— Ведь его мать умрет теперь с тоски и горя, — сказала первая женщина. — Ее любимая служанка сейчас нам передавала с грустью, что госпожа все еще лежит без чувств. Боятся, как бы она не умерла. А ведь Приска тоже исчезла. Не она ли украла Давида?
— Что ты выдумываешь? Быть этого не может! — с ужасом воскликнули все. — Ведь она любила Давида так, как мать родная любит своего ребенка. Нет! Тут что-то другое!
— Да это и я хорошо знаю, что Приска любила Давида, — защищалась женщина, — но все же, по-моему, страшный грек с мрачным лицом для Приски был милее маленького мальчика. Кто знает, быть может, он и Приску, и маленького Давида увел с собою?
— Да ты, старая Ева, пожалуй, правду проговорила, — сказала няня Давида. — Мне не так давно Малх рассказывал, что видел на днях, как грек стоял с Приской у ворот, озираясь, и чего-то оба боялись. Господин Каиафа их окликнул, но грек отвечал ему грубо на незнакомом своем языке и дерзко смотрел на нашего господина. Тогда Каиафа, наш господин, отдал приказ схватить грека и наказать плетью. Грек был схвачен и страшно избит. Грек — язычник, а наш ненавидит их, и поэтому слуги не жалеют сил и выбирают самые лучшие бичи, когда приходится бичевать язычников. Это было дней десять тому назад. А теперь вот исчезла Приска со своим греком, и исчез наш маленький Давид — сын господина Каиафы.
При этих словах женщины разразились громкими рыданиями. Но еще тяжелее было на душе господина и его жены: потеряв сына, они были убиты горем. Мать Давида только что очнулась от глубокого обморока. Ее испуганные глаза с тоской смотрели на мужа, а с губ то и дело срывался тревожный вопрос:
— Где мой мальчик?
— Я не мог найти ни малейшего следа, — отвечал ей со стоном Каиафа, — несмотря на то, что слуги разосланы по всем направлениям. Малх все утро бегал по городу и даже ночью не прекращал розыск!
— Я должен его найти! — страстно воскликнул он, поднимаясь со своего сидения и быстро шагая по комнате. — Это нельзя перенести! Богом Авраама клянусь крепко отомстить тому, кто совершил это злодеяние! Только кто? Кто стал моим врагом? Кто мог осмелиться похитить маленького Давида — сына первосвященника Каиафы? Кто? Может, это сделано, чтобы получить за нашего сына богатый выкуп? И я заплатил бы его мигом, если бы даже он стоил всего моего состояния! О, если бы только возвратить сына! Моего любимого, единственного сына!
При этих словах несчастный отец разодрал свои одежды и громко зарыдал.
— Не теряй надежды, мой друг, — тихо проговорила жена. — Ведь мы хватились искать его только вчера вечером. Может быть, его еще где-нибудь найдут?
Больше она ничего не могла сказать в утешение опечаленному мужу: ужас сковал ее уста, и ей показалось, что ее бедный маленький Давид, покинутый всеми, валяется где-нибудь мертвый в ущельях Иудейских гор, и на трупный запах сбегаются шакалы, и вот еще несколько минут — и от мальчика не останется ничего! Ужасный крик отчаяния вырвался из груди матери, и вся в слезах, с горькими рыданиями Анна упала на постель…
Так, в невыразимой скорби проходили час за часом, день за днем, а о пропавшем ребенке не было никакой вести. Дни пролетали, складывались в недели, но по-прежнему искавшие не находили ни малейшего следа мальчика. Проходили месяцы, а за ними своим чередом шли годы. Служанки перестали уже рыдать, разговоры поутихли. Только выражение внутренней муки в глазах матери говорило о скрытом ее страдании, которое трудно было перенести и которое могло закончиться только смертью.
Детей больше у них не было, и в громадных комнатах дворца Каиафы не было слышно ни топота детских ног, ни того веселого смеха, который так радостно заставляет биться сердца родителей. Жена Каиафы, Анна, как тень ходила по опустошенному дому. Тоска и горе заполняли ее больную душу: она никак не могла забыть своего маленького сына. Каиафа, ее муж, господин и повелитель, с каждым днем становился все мрачнее и молчаливее, а свой гнев и раздражение он старался срывать на своих слугах.
* * *
Прошло семь лет.
В Иерусалиме был праздник. Однажды в толпе Анна увидела пропавшую без вести служанку Приску; около нее стоял мальчик лет десяти, с черными глазами, черноволосый. Но прежде, чем Анна опомнилась и позвала слуг, Приска исчезла в толпе и, несмотря на тщательные поиски, ее уже не смогли найти.
— Может быть, это была и не она, — с сокрушением говорила Анна мужу, когда они в сумерках сидели вдвоем в саду. — Из-за покрывала я не могла рассмотреть ее лицо… Но мальчик! О, если бы ты мог видеть, как он прекрасен!
При этих словах в глазах ее заблестели слезы и ее лицо склонилось к плечу мужа.
— Не плачь, дорогая Анна! — утешал ее муж. — Неужели я для тебя не дороже сына?
И Анна с большим усилием постаралась побороть в себе скорбь о потерянном любимце…
Глава 2. Геннисаретское озеро. Капернаум. Тит
День склонился к вечеру, приближались прохладные сумерки. Геннисаретское озеро блестело тысячами разноцветных красок. В ясных водах озера как в зеркале отражалось вечернее небо; на дальнем берегу его виднелись деревья, сквозь густую листву которых в разных местах точно искорки пробивались огни отдаленной деревни. Всевозможных видов судá оживляли озеро. В то время как некоторые из них с белыми и пестрыми парусáми покачивались в некотором расстоянии от берега и, казалось, ожидали самого легкого ветерка, чтобы немедленно пуститься в путь, другие под быстрыми взмахами весел легко скользили у самого берега.
Над озером разносились приятные звуки знакомой народной песни, и было ясно слышно, как перекрикивались между собой рыбаки, готовившиеся отплыть на ночную ловлю.
Прекрасен вид Геннисаретского озера, когда в его тихих волнах отражается миллионами искр ласкающее взор чудное, нежное небо с мириадами звезд.
Раскинувшийся по берегу озера Капернаум казался восхитительнейшим уголком земного шара. Его положение у самого берега огромного озера немало облегчало торговые сношения капернаумских горожан с окрестными городами.
Ближайшее к озеру место занимали обширные склады товаров и верфи с целыми грудами канатов. Дальше шел сам город Капернаум со своей синагогой, выстроенной из белого и розового мрамора, с широкими площадями и улицами, простиравшимися до самого подножия высокой горной цепи, которая в виде полукруга уступами окружала все озеро.
Одинокий рыбак привязывал свою лодку в бухте, отстоявшей от города в четверти часа ходьбы. Он привык уже к красивым видам своего города. Прелестная вечерняя заря, постепенно уступавшая место сумеркам, нисколько не трогала его. Он думал только о том, как бы только поскорее утолить свой голод.
Наклонившись к лодке, рыбак быстро привязал ее, вынул сеть, вытащил из нее несколько красивых рыб и насадил их на сорванный с ближнего дерева гибкий прут.
Когда он шел домой с сетью на плечах и рыбой в руках, он производил впечатление юноши лет 19-20, довольно крепкого сложения; красивое лицо его сильно загорело и обветрилось, из-под густых темных бровей смотрели выразительные глаза. Черные как смоль кудрявые волосы, орлиный нос и тонко очерченные губы дополняли его портрет. Он был одет в одежду из белого грубого полотна без рукавов, которая доходила до колен и в талии охватывалась поясом из красной материи. Около пояса висел простой небольшой мешок, заменявший карман.
Через десять минут быстрой ходьбы юноша достиг внешней городской стены, как раз в то время, когда стражи уже собирались запирать ворота, и, когда он быстро проходил в ворота, один из сторожей крикнул ему вслед:
— Эй, малый, ты сегодня чуть не остался за воротами!
— Ну, мне это нипочем, — ответил юноша. — Мне уже приходилось, и очень часто, ночевать на озере. Да и почему ты думаешь, что я не могу проникнуть в город другим путем, не через ворота?
Сторож сделал вид, что хочет его схватить, но юноша со смехом увернулся от него и убежал.
— Ты знаешь этого малого? — спросил сторож своего товарища, громко смеявшегося над его неудачной попыткой.
— Разумеется, знаю, — ответил тот. — Его зовут Титом, и живет он со своим отцом Думахом в рыбном рынке. Они выдают себя за рыбаков.
При этих словах он замолчал и пожал плечами.
— А что ты о них думаешь? — равнодушно спросил другой.
Но привратник сделал вид, что не слышал последнего вопроса, и с особенным шумом стал запирать ворота.
А юноша уже в это время шел по узким улицам города по направлению к своему дому. Через несколько минут он вышел на широкую вымощенную площадь. Здесь стояло множество маленьких лавочек, и при свете факелов можно было понять, что это рынок. У одной из этих лавочек он остановился и начал рассматривать товары, разложенные в небольших коробках.
Здесь были медовые пирожки, сушеные смоковки, вишневые ягоды, финики, маленькие кружки сыра из козьего молока и различные лакомства, вроде орехов и всякого рода свежих овощей.
Хорошенько рассудив, Тит выбрал себе пару заманчивых с виду пирожков, попросил услужливого торговца завернуть их и, заплатив ему несколько медных монет, положил сверток в свою поясную сумку.
Выбравшись с рыночной площади, он вскоре исчез в одной из маленьких узких улиц, что находились во внутренней части города. Здесь были высокие дома, тесно примыкавшие один к другому. Юноша остановился у едва заметной в стене двери, осторожно оглянулся вокруг и вошел вовнутрь, тщательно затворив за собой дверь.
— Это ты, мать? — спросил чей-то слабый голос.
— Нет, Стефан, это я, Тит. А где же мать?
— Не знаю, — угрюмо ответил тот же голос. — Она пошла к колодцу за водою, да и вот все еще ее нет, а я почти отощал от голода и жажды. Не можешь ли ты, Тит, по крайней мере, вывести меня во двор?
— Конечно, — ответил Тит. — Сейчас я тебя напою
Сбросив на землю сети, рыбу, он выбежал на двор, ярко освещенный лунным сиянием. На одной стороне двора было заметно какое-то темное отверстие, завешенное кожею. Тит, согнувшись, пролез в отверстие и через несколько минут снова появился с мехом воды в руках.
— Смотри, Стефан, что за луна, как она ярко сегодня светит! А вот тебе и вода, хоть и не такая свежая, какую могла бы принести тебе мать!
С этими словами Тит налил в кубок воды из большого кожаного меха и подал его Стефану.
Стефан был калека, и без чужой помощи ему очень трудно было двигаться. На его красивом бледном лице лежала печать тяжелых страданий.
— Вода действительно нехорошая, она имеет дурной вкус, — промолвил бедный больной мальчик, — но все-таки она освежила мне язык и горло. Я рад, Тит, что ты вернулся: теперь, по крайней мере, я могу пойти на кровлю. Сегодня был слишком томительный и знойный день, и спина моя страшно болит.
В то время как больной говорил это слабым и жалобным голосом, Тит развел небольшой огонь и подвесил над ним на тонком пруте рыбу. Вскоре рыба начала поджариваться и приятный запах распространился на дворе.
— Вот я сейчас обрадую Стефана, — заметил Тит, готовя простую трапезу, и обратился к несчастному:
— Для тебя в моем мешке найдется кое-что хорошенькое.
Глаза Стефана, устремленные на весело пылавший огонек, заблестели.
— А что, я могу своими гостинцами поделиться и с Гого? — спросил он после непродолжительного молчания.
— Могу тебе сказать, что Гого примет это с благодарностью, — с улыбкой ответил Тит. — Я велел доброму продавцу Юстину завернуть пирожок и на его долю. Только ты не вздумай отдать Гого все, слышишь?
— Да, конечно, я и сам буду есть, — отвечал довольный Стефан. — Но если бы ты, Тит, знал, как мне приятно делиться чем-нибудь с мальчиком! Он мне дороже всех лакомств, какие только есть в лавке Юстина. Вот я слышу, кажется, его голос!
С этими словами больной приподнялся на локтях и стал напряженно прислушиваться. Тит на мгновение прервал свое занятие и точно так же начал прислушиваться к звукам соседнего дома, откуда доносился веселый смех и радостный лепет ребенка.
— Да, да, это он — маленький плутишка! — сказал Тит. — Да он теперь уже совсем удалец!
Стефан воскликнул:
— Да, правда. Ты только представь, Тит, как вчера он перелез через балкон между нашими кровлями и один прибежал ко мне. Он действительно любит меня, — прибавил Стефан тоном полного убеждения.
— По крайней мере, любит пирожки и лакомства, — возразил Тит, улыбаясь.
— Ну, вот и мать наконец! — продолжал он, глядя на открывающуюся дверь.
В это время в дверях показалась высокая фигура с водоносом на голове.
— Где ты была, матушка? — спросил Стефан, увидев мать. — Ты ушла еще перед заходом солнца, и я умер бы от жажды, если бы Тит не достал мне воды из меха; правда, вода была отвратительная, а все же лучше, чем ничего.
Женщина проворно сняла водонос с головы и, наливая в кубок, ласково сказала:
— Ты не должен, дитя мое, делать матери выговоры, это тебе не прилично. Я на улице таких чудес наслышалась, что время прошло для меня совсем незаметно. Да и толпа у колодца собралась большая, и, разумеется, я была должна ждать, пока до меня дойдет очередь. Добрая Иокунда, наша соседка, слышала от своего мужа чудную историю, которую он принес с рынка. Весь город Капернаум в возбуждении, и этому изумлению нет границ.
— Не лучше ли нам сначала поужинать, мама, — прервал Тит ее рассказ, — ведь Стефан совершенно ослаб от голода! Да и я тоже страшно проголодался. Чудесные истории мы можем послушать и потом.
С этими словами он снял с огня рыбу, а Приска (так звали женщину) принесла тонкие лепешки. Разломив на куски сухую, тонкую лепешку, она разделила куски на три части, в то время как Тит делил на столько же частей рыбу. После этого все трое, положив рыбу на свою лепешку, принялись утолять голод, а кружка свежей воды довершила их бедную трапезу.
Тит ел жадно и с аппетитом…
— Ну вот, Стефан, теперь я снова стал человеком! — воскликнул он. — А ты съел немного больше воробья. Вот подожди, сейчас я тебе достану пряник!
— Тит, ты сначала выведи меня на кровлю, — сказал, умоляя, мальчик, — а туда я возьму пряник.
— Хорошо, подожди только, я сначала снесу туда твою постель. Теперь свежо наверху, и ты заснешь там спокойней.
С этими словами Тит исчез и через несколько минут показался снова с небольшой ношей на плечах.
— Как только устрою тебе там постель, тотчас вернусь и снесу тебя наверх, — проговорил Тит и стал быстро подниматься по грубой лестнице, которая вела со двора на кровлю.
Через некоторое время он спустился, весело насвистывая, вовнутрь дома, осторожно поднял с кучи рыболовных снастей беспомощного Стефана и медленно понес его по лестнице на кровлю. Здесь положил он свою ношу на постель, искусно устроенную им недалеко от края стены.
Мальчик с наслаждением вдыхал в себя воздух и смотрел вверх, на ясное небо, раскинувшееся над ним великолепным шатром. В глубине неба спокойно блистали луна и звезды, а с озера дул приятный ветерок.
— Ах, Тит, — со вздохом заметил мальчик, — если бы не было ночей, я не выдержал бы!.. Ты не можешь себе представить, как надоели мне эти дни, когда положительно ничего нельзя делать. Иной раз не с кем даже и слова молвить!
«А если бы отец был дома…» — страшная мысль промелькнула в его голове. Но вдруг он приподнялся на локтях и крикнул:
— Гого, Стефан пришел! Гого!
Веселый детский смех раздался с соседской кровли.
— Он здесь, — послышался откуда-то женский голос, и вслед за этим на кровле показалась чья-то маленькая фигурка с короткими толстыми ножками и стала приближаться к месту, где лежал Стефан, с восхищением смотревший на ребенка.
— Ты только посмотри, Тит, как хорошо уже может бегать этот милый мальчуган! Иди сюда, Гого, иди ко мне! У меня есть пряник, хороший пряник, с сахаром.
При магическом слове «пряник» маленький человечек пустился бежать, и непременно упал бы, если бы его вовремя не подхватил на руки Тит. Он посадил его подле Стефана, которому, по-видимому, доставляла особую радость непонятная детская болтовня.
— Лукавый ты у меня, — сказал Тит Стефану, — ведь я же говорил, что тебе придется расстаться со своими пряниками.
Вслед за этим он вынул из своей поясной сумки пряники и пирожки, которые оказались несколько измятыми, и вручил их Стефану.
— Дома твоя мать? — послышался прежний женский голос с соседней крыши.
— Дома, но она еще внизу, — ответил Тит, — и придет сюда, как только справится с хозяйством.
В то время, как он еще говорил, наверху лестницы показалась Приска.
— Добрый вечер, соседка, — сказала она, — иди сюда, если есть время. Сейчас я буду рассказывать, что услышала удивительного у колодца, когда ходила туда за водой.
— Это ты, наверное, говоришь о том Незнакомце, Который творит теперь столько чудес? — спрашивала соседка, опираясь на перила кровли. — Я тоже о Нем кое-что слышала.
Вслед за этим обе женщины уселись спиной к перилам, и началась их беседа…
Глава 3. Капернаумский сотник Думах
— Когда я сегодня пришла в обычный час к колодцу почерпнуть воды, там была уже такая толпа народу, что я вынуждена была волей-неволей ожидать очереди. Невыносимый дневной зной сильно утомил меня, и я присела там на каменную скамью, чтобы отдохнуть, пока дойдет до меня очередь, — рассказывала Приска. — Тут одна из женщин и спрашивает меня про то, чтó я, Приска, думаю о чудесах, про которые все говорят. «О каких чудесах? — ответила я ей. — Я впервые слышу об этом, и что это за чудеса?». «Я говорю о Чудотворце из Иудеи; неужели ты, Приска, о Нем не слышала? — сказала она мне. — Впрочем, ведь ты не из тех, которые постоянно толкутся на улице; ты сидишь себе преспокойно дома. Я расскажу тебе вкратце, в чем дело: в городе ждут Чудотворца, подобного Которому не было с тех пор, как боги перестали обитать на земле, или, как говорят еврейские женщины, с тех пор, как Моисей вывел еврейский народ из Египта».
— А из какой нации Он происходит? — перебила Приску соседка.
— Говорят, что Он пришел из Иудеи. И соседка Иокунда рассказывала, что Он жил совсем близко от нас, в городе Назарете, и сейчас идет из Иудеи. И в городе Иерусалиме сотворил много чудес.
— Какое же Он сотворил чудо? — спросил Стефан, который до этого времени занимался маленьким Гого и мало обращал внимания на разговор женщин.
— О, Он сотворил великие исцеления, — отвечала Приска. — Говорят, что Он отверзает очи слепым, исцеляет всякие тяжелые болезни; даже таким калекам, как ты, мой бедный Стефан, Он возвращает здоровье.
Стефан крепко прижал к себе Гого, который был уже готов заснуть на его руках, и с оживлением произнес:
— Рассказывай, мама, дальше все, что знаешь!
— Как это ты можешь верить этим пустым разговорам, мама? — сказал Тит. — Ведь на колодце часто сообщают такие вещи, в которых нет ни слова правды.
Тит заметил, какое впечатление произвел рассказ на Стефана, и понял, почему именно.
— Это все не пустяки! — с сердцем возразила Приска. — Знаешь ли ты сотника Азу, который живет в большом доме у озера?
— Конечно, знаю, — угрюмо ответил Тит, — если ты только говоришь о сотнике Ирода Агриппы.
— Да, о нем, — продолжала Приска. — Теперь подумай только: его сын лежал при смерти в лихорадке, все городские врачи уже оставили его и каждый час ждали его неминуемой смерти. И вот отец его, сотник Аза, услышал о том, что ты называешь пустяками, и так уверовал в это, что сам отправился и отыскал Иисуса — таково имя Этого Чудотворца Назарянина. В городе Кане он встретил Его и прямо изложил Ему свою просьбу. Назарянин милостиво выслушал его и сказал ему только, чтобы он с миром возвратился домой, и что сын его будет жив. И действительно, когда он приближался к своему дому, слуги выбежали ему навстречу и радостно возвестили, что сын его находится на пути к выздоровлению, и отец понял, что в тот самый час, когда Чудотворец сказал сотнику, что сын его будет жив, юноше действительно сделалось лучше.
— А то, что эта история истинная, я знаю, — подтвердила соседка. — Двоюродный брат моего мужа находится на службе у сотника. Он был даже одним из тех, которые впервые возвестили своему господину о выздоровлении юноши; он обо всем этом рассказывал почти в тех же выражениях, какие мы сейчас слышали.
Но Тит упрямо возразил, что, может быть, совсем уж не так было худо юноше и он мог бы поправиться без этого, так как не все же умирают от лихорадки.
— У меня самого была лихорадка сильная, но я, однако, жив и по сей час!
— Пусть так, — возразила Ада (так звали соседку), — об этом никто и не спорит, но с сотниковым сыном дело далеко было не так просто: он непременно бы умер, потому что у него по всему телу были черные пятна, а это уже признак того, что о выздоровлении не может быть и речи. Наш двоюродный брат ухаживал за ним и собственными глазами видел эти пятна. И как раз в то время, когда все думали и видели, что юноша находится при последнем издыхании, он внезапно открыл глаза и потребовал воды; выпивши воду с видимым удовлетворением, он повернулся и заснул спокойно и мирно, как малое дитя. Когда после нескольких часов такого освежающего сна больной проснулся, то был совершенно здоров! Разве это было не чудо?
— Да, это действительно чудо, — согласился наконец Тит. — Что же Он еще сделал?
— Да вот, говорят, что в Кане в прошлом году тоже произошло чудесное событие, муж мой слышал о нем на рынке, — ответила Ада. — Рассказывали, что на одной тамошней свадьбе внезапно вышло все вино. Когда Мать этого Иисуса сказала Ему об этом, Он приказал наполнить водой несколько больших сосудов и потом превратил эту воду в вино. Человек, который рассказывал на рынке об этом чуде, сам присутствовал на свадьбе и пил это претворенное вино. Обо всех Его чудных исцелениях, претворениях теперь только и говорят повсюду.
— Как же Он совершает исцеления? — спросил Стефан.
— Этого никто не знает, но, во всяком случае, здесь действуют какие-то сверхъестественные силы! Также проповедует Он странное учение. Между иудеями ходит слух, что это воскрес один из великих пророков!
— Он что, теперь у нас в городе? — спросил дрожащим от волнения голосом Стефан.
— Здесь ли Он, я не знаю, — ответила ему мать, — народ у колодца говорит, что Он непременно придет!
— Как ты думаешь, мама, мог бы Он исцелить меня, если бы пришел сюда? — тихо спросил Стефан.
— Оставь ты лучше все эти надежды! — сказал Тит. — Только лишний раз разочаруешься, если будешь об этом думать, так как, если эти истории произошли и на самом деле, то, наверное, Он исцеляет только богатых и знатных людей, вот как, например, сына сотника Азы. И, поверь мне, раз Он иудей, то не станет исцелять язычников. Разве ты не знаешь, как иудеи нас ненавидят? — продолжал Тит, скрипя зубами. — Один из них вчера даже плюнул на меня, когда я нечаянно зацепил его своею сетью. Я мог бы, кажется, со злости убить его тогда. И если он еще раз осмелится сделать это, я его непременно доконаю.
— Я тоже терпеть не могу иудеев, — прибавила Ада, — но Этот составляет, кажется, исключение из остальных. Известно, по крайней мере, что Он не делает ни малейшего различия между богатыми и бедными. Наоборот, в Иерусалиме Он исцелял большей частью нищих, и многие из них были иноплеменниками.
— Я непременно буду просить у Него помощи для тебя, мой бедный Стефан, когда Он придет сюда! — воскликнула растроганная Приска, едва сдерживая рыдания. — О, сколько бы я отдала, чтобы видеть тебя крепким и здоровым, дитя мое!..
— Послушай, — перебил ее в это время Тит, — кажется, кто-то идет.
Все мгновенно затихли. На улице послышались шумные голоса и громкий смех, и вслед за этим низенькая дверь в стене отворилась и человек десять или двенадцать ввалились во двор.
— Эй, жена, где ты? — раздался со двора грубый голос.
— Я здесь, — покорно ответила Приска и стала спускаться по лестнице, а Ада, соседка, поспешно взяла из рук Стефана спящего ребенка, завернула его в складки своего платья и через перила начала перебираться на кровлю своего дома.
— Ну, скорей давай нам чего-нибудь поесть! — закричал муж Приски. — Мы здорово проголодались и вовсе не намерены ждать, слышишь?
— Не бойся, — шепнул Тит Стефану, который при первых же звуках грубого голоса с испугом спрятался под одеяло. — Ты побудь здесь, а я сойду вниз и помогу матери. Да не беспокойся же, — успокаивал он Стефана, который робко схватился за полу верхнего платья Тита, — он ничего тебе не сделает. Они наедятся, напьются, а потом уснут или уйдут в город опять бесчинствовать. Пусти же меня и не бойся!
И, оставив на кровле дрожащего от страха Стефана, Тит быстро сбежал по лестнице вниз.
— Ба, и ты тут, паренек! — воскликнул Думах, увидав Тита. — Ну-ка достань нам поскорее винца!
Тит принес полный мех вина и начал разливать его по кубкам.
— Фу, что за гадость! — проговорил один из присутствующих и плюнул на пол.
— А ты, наверное, вспомнил вкус вина, которое мы вчера отбили у самарийского купца? — сказал со смехом другой.
— Вот чудак-то он, — снова заговорил первый, — как он кричал, вися на вертеле и видя, что мы роемся в его товарах! Я чуть не помер от смеха!
— Но ручаюсь, что там… теперь его никто не услышит, — проговорил третий. — А ловко же мы его укокошили. Да и не одного его так!
— А ты, домосед, много теряешь, — сказал Думах, обращаясь к Титу. — Истинно говорю, много!
— Да ты же сам не позволяешь мне ничего иного делать, — возразил Тит. — Ты приказал мне идти ловить рыбу, и, когда я возвратился, ты уже исчез.
— Да, да, это верно, — ответил Думах. — Мы от тебя действительно удрали, потому что нам нужно было кое-что сделать. Ну, скоро мы посвятим тебя в наши дела, ты уже вырос и сможешь теперь сам доставать себе добычу.
— Что мне в добыче! — воскликнул Тит, и его большие черные глаза заметали искры. — Я хотел бы только участвовать в бою, особливо если дело пойдет с иудеями.
Его слова были встречены дружным смехом всей шайки.
— А парень-то у тебя ловкий, — заметил один из шайки Думаха.
Дальнейший разговор прерван был сообщением Приски о том, что ужин уже готов. Все тотчас же набросились на еду, и некоторое время ничего не было слышно, кроме жадного жевания пищи и бульканья вина. Когда звериный голод был утолен, языки едоков снова развязались и началась оживленная беседа.
— Так Этот Человек должен быть здесь? — спросил один из шайки Думаха.
— Да, здесь, и за Ним следует всегда большая толпа народа, так что завтра мы, наверное, увидим в Капернауме какие-нибудь чудеса, — ответил Думах.
— Да-да, чудеса! — подхватил другой. — Блост говорил мне, что когда Этот Чудотворец был в Иерусалиме, то за Ним ходила огромная толпа народа, как какое-нибудь стадо, и при этом, конечно, все напрочь забывали, что двери их домов остаются совершенно открытыми.
— Ну, разумеется, наше дело — входи и бери, что хочешь. Жители Иерусалима волнуются в это время, точно безумные. Тем лучше для нас! Если и жители нашего Капернаума последуют их примеру, то мы наживем хорошую добычу, — говорил Думах. — Между прочим, я сам был свидетелем одного Его чуда. Нищий, давно уже ослепший, расслабленный и покрытый проказою, сидел в одном углу на торговой площади, и в это время проходил Этот Чудотворец. Слепец, услыхав, что Он идет, закричал: «Иисусе, Сыне Давидов, помилуй меня!». Тогда Иисус подошел к нему и коснулся его, и тот слепец быстро встал и стал совершенно здоров и зряч!
— Если Он и в этом городе совершит такие чудеса, — сказал еще один член шайки, — то, наверное, весь город придет в волнение!
— Я тоже так думаю, Гест! — ответил Думах. — Люди говорят об Этом Человеке, что Это Илия, а кто этот Илия, я не знаю. Другие говорят, что это один из древних иудейских пророков, который должен восстать из мертвых; однако никто не знает о Нем ничего точного и определенного.
— Теперь у Него довольно много приверженцев, так что, пожалуй, Он скоро поднимет восстание.
— О, если бы до этого дошло! — воскликнул еще кто-то из шайки. — И если начнется война, то ненавистному Риму наступит конец! Помните, как в прошлом году они поймали несколько наших молодцев и пригвоздили на кресте? Ах, чтоб они погибли, проклятые, со своими законами!
Слова эти были встречены громкими криками и одобрением. Но Думах жестом прервал этот шум.
— Пустые же вы головы, — сказал он. — Раз мы сюда попали, то будем сидеть как крысы в ловушке!
Было уже за полночь, пирующие в доме постепенно стихали и один за другим погрузились в глубокий сон.
* * *
Около часу ночи Приска пробралась по маленькой лестнице наверх. Стефан еще не спал.
— Мама, — зашептал он, — я слышал все, что о Нем говорили. Он ведь действительно уже у нас в городе!
— Да, Он здесь, Стефан, и, если только будет возможность, ты непременно увидишь Его! Я уж это устрою, обещаю тебе, мой дорогой мальчик! — тихо говорила Приска, ласково глядя на сына.
Утомленные глаза Стефана смыкались, дыхание его делалось все ровнее, сон постепенно овладевал им. Но Приска еще долго лежала с открытыми глазами и вспоминала то время, когда ее сын был здоровым, красивым мальчиком, пока грубый удар кулака по нежной хребтовой кости не сделал несчастного ребенка калекой. И бессильная ненависть к Думаху вновь охватила все ее существо.
Глава 4. Исцеление Стефана и Гого
Когда Стефан на следующее утро проснулся, он снова уже очутился за ненавистным для него кожаным занавесом. Протерев в полутемноте глаза, он понял, что его оставили одного.
«Отец, конечно, ушел уже со своей шайкой, — тихо рассуждал он сам с собой, — и теперь я могу, по крайней мере, успокоиться. Тит тоже ушел на рыбную ловлю, а мать, наверное, пошла на колодец за водой».
Полутемное пространство, в котором он лежал, было обыкновенным жилищем, в каких еще и до сих пор живут на востоке бедные люди. В грубых, выбеленных известью каменных стенах не было ни одного окна и единственное отверстие, служившее дверью, было завешено упомянутой уже кожей. Кожа эта была во многих местах порвана и пропускала в темную комнату несколько солнечных лучей, что доставляло Стефану немалую радость; по этим лучам он мог, по крайней мере, хоть приблизительно считать время, всегда казавшееся ему страшно долгим. Когда желтые лучи падали на противоположную к двери стену и освещали потемневшие кожаные меха с вином, было около девяти часов утра.
Когда солнце поднималось по небу выше, лучи опускались по стене и падали на пол, оставляя здесь желтые светлые следы, вид которых всегда радовал сердце маленького Стефана, хотя пол, на который падали солнечные лучи, состоял из простой утрамбованной земли.
Горестное чувство охватывало мальчика-калеку всякий раз, когда с приближением вечерних сумерек начинали постепенно исчезать солнечные лучи. Но это горестное чувство уступало место неподдельной радости по мере приближения ночи, когда для Стефана наступали лучшие часы его жизни — долгие прохладные часы на кровле его дома. К этому времени возвращался с рыбалки Тит, и, что было для него важнее, приходил к нему на кровлю любимец Гого — его маленький друг. И теперь, лежа на своей постели и наблюдая за молью, кружащейся в солнечном просвете, он вспомнил Гого.
«Как нежны его маленькие, пухленькие ручки, щечки с глубокими ямочками, точно лепестки розы, — думал он… — Но лучше всего в нем темно-карие глаза с шелковистыми, длинными ресницами и золотистые локоны пушистых волос, наполовину прикрывающие розовые ушки. Его голосок приятней птичьего щебетания! Ничего в мире нет, наверное, краше маленького Гого».
Так размышлял Стефан, перебирая в уме одно за другим различные достоинства своего несравненного любимца.
В то время как он был погружен в свои размышления, кто-то осторожно открыл кожаную занавесь и тихо вошел внутрь. Это была Приска.
— Ты принесла свежей воды, мама? — спросил Стефан, немного приподнявшись на своей постели.
— Нет, сынок, у меня еще не было времени сходить на колодец, — и с этими словами она поспешно повернулась к нему.
— Что с тобой, мама? — спросил нетерпеливо Стефан, так как вид матери его поразил. — Опять отец тебя бил?
Он давно уже привык видеть свою мать в слезах, но сегодня ее вид в особенности поразил его.
— Нет, дитя мое! — быстро ответила она. — Отец с товарищами ушел еще ранним утром и захватил с собой Тита, но меня мучает не это, а гораздо худшее! Я боюсь тебе даже сказать, сынок… — Она в изнеможении опустилась на скамью и громко зарыдала.
— Мама, милая мама, скажи же мне скорее, что случилось?
— Лучше бы от тебя это скрыть, мой мальчик, но, наверное, это невозможно сделать! Сегодня утром соседка прибежала ко мне и сообщила, что мальчик Гого… — и Приска снова зарыдала.
— Ради Бога, — простонал Стефан, — скажи, что с ним, мама?.. Он умер?!
— Нет, не умер, — ответила Приска. — Но лучше было бы, если бы он умер. По крайней мере, он не испытывал бы никаких страданий. Ада рассказала мне, что сегодня ночью она спала с ребенком на кровле, а утром ее разбудил непонятный глухой удар во дворе. Проснувшись от этого звука, она увидела, что сына нет подле нее. Она подскочила к перилам и… — Приска снова закрыла лицо руками и зарыдала.
— Несчастный мальчик Гого! — продолжала она прерывающимся от рыданий голосом. — Он проснулся раньше матери, потом подошел, наверное, к краю кровли, к тому месту, где перила были немного разрушены, и оборвался, свалившись вниз на камни. Он страшно разбился и едва ли проживет дольше дня. Я снова сейчас пойду к Аде, чтобы утешить ее в горе, хотя, конечно, никакая помощь ее беде уже не поможет.
Стефан молча выслушал этот страшный рассказ, и когда мать взглянула на него, то невольно испугалась бледного, искаженного лица сына.
— Мама, — простонал он, — я не смогу этого перенести!
— Стефан, сынок мой, ведь ты мое любимое дитя. У меня нет никого на свете дороже, чем ты. Только не плачь, мой дорогой мальчик!
— Нет, мама, прошу тебя, иди к нему, — начал упрашивать мать Стефан, — может быть, ты сделаешь там что-нибудь, чтобы облегчить ужасные страдания маленького Гого! Иди, мама, поскорее!
Приска проворно достала немного хлеба, сушеных фруктов и воды, поставила все это перед сыном и быстро ушла.
— Как только произойдет какая-либо перемена, я тотчас вернусь назад! — сказала она, уходя…
Оставшись один, Стефан некоторое время находился в состоянии какого-то отупения. Его любимец, его маленький Гого лежал где-то окровавленный и беспомощный. Неужели он больше никогда не увидит его… А его милые маленькие ручки! Неужели они не будут уже касаться розовенькими пальчиками его щек?
— Нет, я не могу это спокойно перенести!
И вдруг, несмотря на то, что от удручающей его скорби он был почти без чувств, в воображении Стефана внезапно вырос образ чудесного Назарянина.
«Он в городе; может быть, даже недалеко отсюда. Ведь Он мог бы исцелить маленького Гого! О, только бы поскорее пришла мать! Она могла бы найти Этого Чудотворца! Но ее здесь нет, и она, наверное, не скоро придет, а Гого теперь, может быть, совсем умирает?! Ах, если бы я мог ходить! Или, по крайней мере, хотя бы ползать! Нужно попробовать, я же должен что-нибудь сделать для его спасения! О, мой Гого! Мой Гого!».
Мальчик предпринял отчаянную попытку. Он мог немного ползать, но за последнее время все его попытки передвигаться таким путем только значительно усилили его болезнь, так что мать строго запретила ему ползать по земле. Тем не менее, он стал медленно слезать с невысоких нар, на которых лежал до сих пор.
Малейшее движение отзывалось для него мучительной болью в спине. Терпеливо перенося боль, он добрался наконец до двери. Теперь ему предстоял трудный путь через двор. Но что, если он будет не в состоянии открыть входную дверь на улицу? При одной только мысли об этом крупные капли пота выступили у него на лбу. Еще несколько усилий — и он наконец у двери. К счастью, она оказалась не закрытой. Стефан без особых усилий отворил ее и вскоре очутился на улице. Здесь он на мгновение остановился и начал соображать, что ему делать.
В конце улицы находился рынок. «Попытаюсь пробраться туда, — решил он. — Там я, наверное, увижу Его».
Улица, по которой он полз, была так узка, что, стоя на середине ее, можно было коснуться руками стен домов. Ни одного человека не было видно на ней. Какой путь вел к рынку? Стефан не имел даже представления, в какую сторону ему направиться. Он знал только, что дорога, по которой он полз, ведет к озеру.
— Буду держаться хоть этого направления! — произнес он вслух и начал с трудом передвигаться по улице.
Он почти задыхался от пыли. Маленькие острые камешки беспрестанно попадались ему на пути и до крови ранили его тело, а солнце невыносимо палило голову.
Через несколько минут он остановился, чтобы перевести дыхание. Сердце его усиленно билось, в глазах темнело, но он видел, что рынок уже недалеко. Ему показалось даже, что он слышит голоса какой-то толпы. Но, может быть, это только шум в ушах?
Еще одно усилие, на этот раз особенно значительное — и Стефан очутился на конце улицы. Отсюда, с таким же чрезвычайным усилием, ему удалось наконец добраться до рыночной площади.
Здесь были лавочки с различными товарами, больше всего, впрочем, с сушеной рыбой. Стефан вспомнил теперь, что когда-то давно он все это видел, Тит приносил его однажды сюда. На рынке сейчас было много народа, толпились продавцы и покупатели всех возрастов, но среди этой толпы Стефан не мог заметить ни одного человека, который бы хоть сколько-нибудь походил на Чудотворца. Никто не обращал внимания на маленькое бедное существо, безмолвно лежавшее на земле. Какой-то человек прошел мимо него с большой корзиной сушеной рыбы. Увидав мальчика, он что-то сердито пробормотал о нищете и пошел дальше.
Состояние Стефана с каждой минутой ухудшалось, боль в спине становилась невыносимой. Кроме того, он совершенно обессилел от жажды. И все-таки он продолжал испытывающим взглядом осматривать каждого проходящего в надежде найти наконец незнакомого ему Назарянина-Чудотворца.
Вдруг, к своему величайшему ужасу, он заметил, что к нему приближаются три свирепые, полудикие собаки, которых так много встречалось на базарных площадях!
— Мама, мама! — закричал он громко и от дикого страха и беспомощности закрыл лицо руками.
В тот же миг ему показалось, что кто-то говорит с ним. Раскрыв глаза, он увидел в ярком солнечном свете стоявшего перед ним Человека. Что-то особенное было во всем существе Незнакомца — такое, что сразу успокоило несчастного, лежавшего в пыли мальчика и заставило его смотреть на Иисуса с благоговейным трепетом.
Лицо Его было удивительной, чудесной красоты, а в глазах светились необыкновенные любовь и милосердие. «Это никто иной, как Иисус! Значит, Гого спасен!» — подумал Стефан, с радостным криком приподнялся и, протягивая к Незнакомцу руку, воскликнул:
— Ты — Иисус Спаситель! Я это знаю! Значит, Ты можешь исцелить моего маленького Гого! Он упал с кровли и теперь лежит при смерти.
Чудная улыбка озарила лицо Незнакомца, Он поднял глаза к небу и произнес:
— Благодарю Тебя, Отче, что Ты утаил это от мудрых и разумных мира сего, а открыл младенцам!
Он снова с состраданием и нежностью взглянул на Стефана и, ласково положив руку ему на голову, сказал:
— По вере твоей да будет тебе! Иди с миром!
В тот же момент боль, усталость и слабость оставили мальчика. С радостным криком, не понимая, что с ним самим только что произошло великое чудо, он поднялся на ноги и почувствовал, что совершенно здоров.
«Истинно говорю вам, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф.5:7).
Глава 5. Симон-Петр и Андрей
Короткая летняя ночь истаивала. Луна скрылась в ночи и звезды постепенно потеряли свой блеск, а на восточной стороне неба уже показалась первая предвестница наступающего дня — слабая розовая полоска утренней зари. Над озером дул прохладный ветерок, довольно сильный, раскачивающий две рыбацкие лодки и постепенно увлекающий их от берега.
Сидевшие в одной из этих лодок осторожно вытаскивали из воды сети и внимательно осматривали их в надежде найти какую-нибудь добычу, но в сетях не оказалось ни одной крупной рыбы, и только кое-где в петлях сети трепетались маленькие рыбешки.
— Ну, сегодня нам, наверное, ничего не поймать! — сказал один из рыбаков, выбрасывая пойманную мелочь.
— Ведь я же говорил, — начал другой, — что когда подул ветер с этой стороны, нам нужно было остаться дома. Кликни-ка другую лодку, Симон, авось они что-нибудь поймали?
Вытащив из воды последний конец сети, Симон встал и крикнул по направлению к другой лодке:
— Эй, поймали вы что-нибудь, или нет?
— Ничего не поймали, — послышалось в ответ.
— Так я и знал, — заметил сидевший, который был братом Симона, и звали его Андрей. — Давай поставим парус и поедем домой! Впрочем, может быть еще раз закинем сети в маленьком заливчике, что близ города? Там иногда хорошо попадается.
Вскоре якорь был поднят, поставлен на место огромный, похожий на крыло, парус, и тяжелое судно легко заскользило по волнам. Оба рыбака уселись у руля.
— Ты можешь отсюда увидеть, что они там делают? — спросил Симон после некоторого молчания.
— Они тоже поднимают парус, — ответил Андрей. — Наверное, и они хотят бросить ловлю.
— А знаешь ли, — вдруг сказал Симон оживленно, — о чем я сегодня думал всю ночь?
— Как же я могу знать это? — ответил Андрей. — Ты сегодня в основном молчишь, и это удивительно, ведь раньше ты никогда не скупился на слова!
— Я цéлую ночь думал о Назарянине, — начал Симон, — и для меня теперь совершенно безразлично, поймали мы или не поймали рыбы. Наступают, может быть, знаменательные дни, и, скорее всего, мы совсем оставим ловлю…
— Оставим ловлю? — в изумлении повторил Андрей. — Как же это возможно?
— А что, — ответил Симон, — в сущности, мы имеем значительный доход, который приносит нам за последнее время виноградник. Жены наши довольствуются немногим, много денег нам, разумеется, не нужно, и если бы мы оставили рыбную ловлю, то могли бы навсегда остаться при Нем!
— А ты, брат, уверен, что Он нас примет? — спросил Андрей.
— Ну, положим, я не уверен в этом, но, по моему мнению, должен же Он иметь около Себя кого-нибудь? Разве ты не знаешь, что в последнее время некоторые фарисеи и саддукеи открыто выступают против Него?
— Да, Он и на самом деле мало уважает их законы и обычаи. Но я помню, чтó о Нем сказал Иоанн, — прибавил Андрей. — Он дважды говорил в моем присутствии, (первый раз перед крещением Его в Иордане, а другой раз после крещения): «Се Агнец Божий!». Вот его буквальные слова, и Иоанн твердо уверен, что Иисус есть Мессия. Может быть, ты и прав, Симон, мы должны оставить ловлю! И если Иоанн не ошибается, что Он действительно обетованный Мессия, то мы должны быть там, где Он, всегда, и в особенности теперь, когда Иоанн находится под стражей и мы не знаем, что с ним будет.
— Дай Бог, чтобы Ирод не обратил внимания и на Учителя! Аминь! — пылко произнес Андрей.
После этого они оба замолчали, слышен был только плеск воды. С каждой минутой становилось все светлее и светлее, и наконец на восточной стороне горизонта из-за цепи высоких голубых холмов выглянуло яркое солнце. Вдали показались одетые легким туманом башни и стены красивого Капернаума.
Приблизившись к берегу, братья увидели здесь толпу народа: одни сидели вокруг на камнях, другие расхаживали взад и вперед. Очевидно было, что это не рыбаки, обыкновенно приходившие сюда по утрам чинить свои сети и лодки.
— Что бы это значило, зачем здесь столько людей? — спросил Андрей.
Симон пристально взглянул на толпу и с видимым волнением произнес:
— Если не ошибаюсь, здесь Учитель, а народ собрался вокруг Него слушать, чтó Он говорит. Вперед, Андрей! Нам нужно воспользоваться представившимся случаем.
Приблизившись к берегу, Симон сошел на землю и начал привязывать лодку, Андрей ему помогал. Иисус увидел их пустую лодку, вошел в нее и попросил Симона отплыть немного от берега. Затем Он сел и начал с лодки учить народ. Мы не знаем, о чем Он учил в это ясное летнее утро, знаем только, что это были глаголы вечной жизни. Когда Он сидел здесь под тенью большого паруса и Его голос, ясный и приветливый, раздавался над озером, народ сердечно умилялся, а дети протягивали к Нему свои ручонки. И эта необыкновенная любовь одушевляла многих!
Среди народа стояли здесь две женщины: одна с маленьким ребенком, с Гого, другая — с мальчиком лет четырнадцати. Это был Стефан. Когда Иисус говорил, то Стефан радостно улыбался и тихо шептал: «Ты исцелил меня! Я люблю Тебя!».
Через некоторое время Господь, обратившись к Симону и Андрею, сказал:
— Отплывите в глубину и закиньте сети!
Симон ответил:
— Господи, мы трудились целую ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему я снова закину сеть.
А когда они исполнили то, что сказал им Иисус, то вытащили сети с таким множеством рыбы, что сеть начала даже прорываться.
И тогда они сказали товарищам с другой лодки, чтобы они пришли помочь им, и те пришли и наполнили обе лодки так, что они начали тонуть.
Увидев это, Симон припал к ногам Иисуса и сказал:
— Выйди из моей лодки, Господи, потому что я человек грешный.
Ибо ужас объял его и всех с ним бывших от этого лова рыбы…
И сказал тогда Симону-Петру Иисус:
— Не бойся, отныне будешь ловцом человеков!
И, вытащив обе лодки на берег, они оставили для людей весь свой улов, а сами последовали за Дивным Учителем…
Снова настала ночь и с нею — покой. При солнечном заходе звуки храмовых труб возвестили наступление «дня покоя» (суббота, — евр.). Работы везде прекратились; земледельцы предались отдыху, торговые лавки были закрыты, а рыбачьи лодки давно вытащили на берег.
Город уже спал.
Только на одной пустынной скале вблизи города стоял в молитвенном положении Человек, с лицом, обращенным к небу… Под Ним был мир с его греховностью, слабостью и невежеством.
Над Ним — Бог.
Он — посредник между Богом и этим грешным миром.
Глава 6. В синагоге и у Симона-Петра
В местной синагоге раввин нараспев вычитывал восемнадцать молитв, которыми постоянно начиналось здесь богослужение. Присутствующие выслушивали их с благоговейным вниманием и в конце каждой молитвы говорили: «Аминь». Но по другую сторону решетки, где сидели женщины и дети, слышался тихий говор и шум. Женское отделение было заполнено народом; одни стояли, другие сидели на корточках у стены.
Для многих молитвы и псалмы раввина были непонятной речью. Большинство из пришедших раньше никогда не были в синагоге, хотя им часто случалось проходить мимо и любоваться этим великолепным зданием, сложенным из белого и розового мрамора. Но сегодня синагога была набита битком: разнесся слух, что сюда придет великий Чудотворец, и надежда увидеть какое-нибудь новое чудо привлекала сюда толпу любопытных.
Иудейские женщины с нескрываемым негодованием смотрели на иноплеменниц с детьми, занявших здесь чуть не самые лучшие места.
— Зачем здесь эти безбожные жены? — шептались они. — Если даже Этот Человек и Мессия, то Он пришел, конечно, не для них.
Но вот, когда молитвы и установленные чтения из закона и пророков закончились, после обычного вопроса раввина: «Не желает ли кто-нибудь говорить?» — при безмолвной тишине всех присутствующих выступил на средину великий Чудотворец. Глаза всех устремились на Него, и, когда Он заговорил глаголы вечной жизни, небесный свет, сиявший на Его лице, казалось, и в темноте проникал в самые сердца присутствующих.
В благоговейном молчании люди вслушивались в каждое слово, исходившее из уст дивного Незнакомца. Все ясно понимали, какая глубокая разница между Его речью и запутанными хитросплетениями речи их раввина. Даже дети, как ни мало понимали они Пророка, преисполненного Божественной любовью, не спускали глаз с Его сияющего лика. И вдруг среди этой священной тишины вскочил с пола один из присутствующих и не своим голосом закричал:
— Что Тебе до меня, Иисус, Сын Вышнего? Зачем Ты пришел мучить меня? Я знаю, кто Ты, Святый Божий!
При этих словах поднялась невообразимая суматоха: женщины закричали, дети заплакали, а мужчины неистово завопили:
— Он одержим нечистым духом и сквернит синагогу! Вон его, вон!
Установивши одним словом прежнюю тишину в собрании, Иисус обратился к бесноватому, которого едва сдерживали трое самых сильных мужчин:
— Дух нечистый, выйди из этого человека!
С громким криком больной упал на пол и стал судорожно биться, но через несколько минут, к великому изумлению всех присутствующих, он поднялся спокойным и совершенно здоровым. Весть об этом чудном событии распространилась по всей стране, так как все присутствующие уже давно знали этого неизлечимого больного, который вмиг выздоровел на глазах всех присутствующих. И всякий раз, как только представлялся к тому случай, люди рассказывали своим друзьям и соседям о чуде, свидетелями которого они были.
— Мама, — говорил в тот же вечер Стефан матери, — трубы уже давно возвестили покой, солнце зашло. Не выйти ли нам на свежий воздух? Может быть, снова где-нибудь увидим Этого Иисуса?
— С удовольствием, мой мальчик, — ответила Приска сыну. — Действительно, я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь говорил так, как Этот необыкновенный Человек! Все произошло так чудесно, что мне и до сих пор кажется, будто я в бреду; я никак не могу поверить, что ты, мой сынок, действительно стал здоровым и крепким по одному Его слову!
— А ведь вот случилось же так, мама! — произнес Стефан с радостным смехом. — Ты посмотри только, мама, как я могу прыгать! В спине я не чувствую теперь ни малейшей боли, и потрогай сама, какие у меня теперь крепкие мышцы! Ах, мама, как бы мне хотелось чем-нибудь отблагодарить Его! Когда там, в тот ужасный и счастливый для меня день, Он сказал мне, лежавшему в пыли и мусоре на дороге: «Иди с миром!», и я после долгого-долгого времени вдруг почувствовал, что могу встать, — я с рыданием обнял Его колена и от радости и изумления не мог вымолвить ни слова… Но прежде, чем я успел совершенно прийти в себя, Он исчез. Проходившие мимо люди стали останавливаться и расспрашивать меня обо всем, что случилось со мною, и скоро около меня собралась целая толпа народа. Тогда я побежал, как только мог быстро, по улице и в один миг очутился около тебя и нашей соседки Ады.
— Да, мой мальчик, если бы мне было суждено прожить сто лет, то и тогда я бы не забыла того мгновения, когда ты прибежал к нам. Мы считали уже маленького Гого мертвым, так как он лежал, окровавленный, без движения и почти без дыхания. И вдруг отворилась дверь и ты вошел в комнату, где лежал больной малыш. Я не поверила своим глазам и думала, что это дух, пока ты не воскликнул: «Гого спасен! И я исцелился!». В это мгновение в ребенке произошла перемена. Вид его совершенно преобразился: ни одного шрама не осталось у него на теле, ни одной царапины. Он выздоровел! Поистине, это было чудо, — сказала Приска.
— Мама, — произнес Стефан после некоторого молчания, — давай посетим наших больных соседей и расскажем им об этом чуде, хочешь? Ведь ты помнишь, как Он говорил: «Я пришел исцелить сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым даровать прозрение, отпустить измученных на свободу!» Я не могу забыть этих слов! Если Он пришел для этого, то мы могли бы доставить Ему радость, если бы стали помогать в Его проповеди.
— Ты прав, мой мальчик! Мы сейчас же отправимся в путь, — сказала Приска.
Она быстро накинула плащ, и они вышли на улицу.
— Войдем сначала сюда, — произнес Стефан, останавливаясь перед дверью одного из соседних домов.
— Хорошо, — ответила Приска. — Здесь живет слепец, которого мы так часто видим.
Они постучались, и из-за двери послышался голос:
— Войдите.
Открыв дверь, они очутились в сенях, которые были гораздо хуже их собственных. На полу валялись солома и разный мусор, здесь же расхаживали козы, овцы. Около дюжины кур сидели на шесте, почти на одной высоте с человеческим лицом. У стены, склонив голову на колени, в бедном узком платье сидел человек. В ответ на обычные приветствия мальчика он поднял свою всклоченную голову и повернулся лицом к двери.
— Кто там? — спросил он.
— Меня зовут Стефан, — ответил мальчик, — я сын Думаха, который живет с тобой по соседству. Мы с матерью пришли к тебе с тем, чтобы отвести тебя к великому Чудотворцу! Он может снова сделать тебя зрячим, так как Он многих уже исцелил.
— Напрасно трудишься, паренек! — проворчал слепой. – Разве ты не знаешь, что мои глаза были выжжены раскаленным железом? Они уже совершенно высохли, и ни о каком исцелении не может быть даже речи.
— Ты совсем не знаешь, какою силою обладает Иисус, — возразил Стефан и затем восторженно начал рассказывать ему о своем исцелении и об исцелении маленького Гого, но слепец только охал и плотнее закутывался в свои лохмотья.
— Пойдем же с нами! — воскликнул Стефан. — Пойдем живее!
— Да, если бы я был невинным ребенком, как ты и маленький Гого, о котором ты рассказал мне, еще можно было бы надеяться! — горько произнес слепец. — Но я проклят и Богом, и людьми, и лучше бы мне умереть!
— Нет, нет, добрый сосед, не говори этого! — нетерпеливо воскликнул Стефан. — Я не отстану от тебя до тех пор, пока ты не пойдешь со мною.
С этими словами он подошел к слепцу, взял его за руку и осторожно потянул за собой. Прикосновение нежной детской ладошки, это ласковое касание, в первый раз выпавшее на долю слепого, сломило все его колебания, возбуждаемые в нем позором, стыдом и греховностью, и, закрыв лицо руками, он громко зарыдал…
— Пойдем, — начал упрашивать его снова Стефан, и на этот раз бедный незрячий поднялся с земли и доверчиво протянул Стефану свою руку.
— Я поведу тебя, — радостно проговорил мальчик, взяв его за рукав, и оба в сопровождении Приски направились в путь.
— А ты точно знаешь, где Он сейчас находится? — спросил по дороге слепой.
К его собственному удивлению, в его душе внезапно пробудилась светлая надежда.
— Определенно я не знаю этого, — ответил Стефан, — но все равно мы найдем Его, не беспокойся!
На мальчика, казалось, нашло озарение свыше, и с детским простодушием он прибавил:
— Если мы действительно нуждаемся в Нем и ищем Его от всего сердца, мы несомненно найдем Его.
— Я слышала, — сказала Приска, — как одна женщина в синагоге говорила, что Он живет у ры´баря Симона, а его дом я знаю, он недалеко от берега озера.
Чем ближе они подвигались к месту своего назначения, тем больше встречали людей, шедших в том же направлении. Некоторых больных несли на одрах, а слепых и хромых, которые медленно, с трудом подвигались вперед, вели за руки. И пока все возраставшая толпа несчастных двигалась вперед, на улице, то там, то здесь, слышны были стоны больных, вскрикивания бесноватых, жалобный плач детей. Все эти звуки сливались в один ужасный, потрясающий душу хор скорби.
Дом Симона стоял на берегу озера. Это было простое, но довольно красивое двухэтажное жилище. Позади двора расстилался небольшой садик в виде террасы, спускавшейся к самой воде. Два или три роскошных фиговых дерева доставляли приятную тень, а розы, олеандры и лилии делали сад прелестнейшим местом для отдыха и прогулок.
Здесь жил Симон, названный Петром, со своей женой, тещей и братом Андреем. Здесь же останавливался и Иисус, когда приходил в Капернаум.
Вот и в этот субботний вечер вся семья со своим дорогим Гостем сидела в саду, наслаждаясь приятным прохладным ветерком, дувшим с озера, и проводила время в мирных разговорах. И здесь, в кругу этой семьи Учитель показал сегодня Свое величие и могущество.
Мать жены Симона внезапно заболела горячкой, и когда Иисус, возвратившись из синагоги, услышал эту печальную весть, Он поспешил на помощь. Взяв больную за руку, Он силой Своего Духа поднял ее, и болезнь тотчас же оставила женщину. Она встала с одра и могла прислуживать им, как и прежде…
Когда же все члены семьи вместе с Иаковом и Иоанном сидели таким образом здесь, в доме Симона, и слушали речи Иисуса, с улицы внезапно раздался шум множества шагов, сопровождавшийся криками и плачем.
— Что это такое? — спросил Симон жену и с испугом вскочил с места.
— Это, очевидно, народ ищет Господа, — ответил Иоанн. — Наверное, люди принесли сюда несчастных больных.
С этими словами он встал, подошел к садовой калитке и выглянул наружу. Недалеко от дома Симона находилась довольно большая площадь; здесь и собрался народ, пришедший к Иисусу. Сняв свои ноши и опустив их на землю, люди теснились у входа в сад и кричали:
— Где великий Чудотворец? Вышлите Его к нам!
— Господи, выйди, молим Тебя!
А затем снова послышались стоны и вопли больных, состояние которых ухудшалось вследствие необычного движения во время быстрого перехода по городу, с которым, как правило, всегда соединены беспокойство и общее возбуждение.
Среди этого горя и страдания стояла теперь благодетельная фигура великого Целителя, глаза Которого сияли бесконечной любовью и милосердием и благословляющие руки Которого были простерты к несчастным и беспомощным. И когда Он переходил от одного к другому со словами прощения и милосердия, и мира небесного, возлагая руки то на одного, то на другого, вопли и стоны постепенно начали превращаться в громкие крики радости и благодарности.
Многие уже возвращались домой исцеленные и счастливые, уступая место другим больным, стекающимся с разных сторон…
Когда к толпе, окружавшей Иисуса, подошли Приска и Стефан со слепым, то Стефан воскликнул, крепче сжимая руку слепого:
— Вот Он! Если бы ты мог видеть, сколько больных ожидают здесь исцеления и как много их уже исцелилось и ушло отсюда!
Между тем, привычно тонкий слух слепого в общем шуме голосов мог уже отличить крики радости исцеленных. Слепец быстро выдернул свою руку из руки мальчика и побежал вперед, повинуясь какому-то непонятному инстинкту, и скоро очутился около того места, где стоял в это время Иисус. Слепец бросился перед Ним на колени, схватил Его за полу одежды и громко воскликнул:
— Господи Иисусе, молю Тебя, смилуйся надо мной!
И Иисус сказал в ответ ему:
— Веришь ли, что Я могу это сделать?
— Да, верю, — тихо и со страхом произнес больной и поднял свои слепые глаза на лицо, с любовью склонившееся над ним.
Иисус, посмотрев на него и увидев за этими слепыми глазами душу виновную, но уставшую от страданий, жаждущую любви и милости, коснулся рукою этих глаз и произнес:
— Иди с миром!
В этот момент слепец чудом Божиим прозрел, у него открылись глаза, и первое, что он увидел, было исполненное сострадания и любви лицо его Спасителя.
И, как было ему сказано, он встал и пошел домой, унося с собой воспоминание о Том, Кто был предназначен быть Источником благодати и для него, и для других людей во все века и во всем мире!
Глава 7. Во дворце Каиафы
Утреннее солнце весело светило сквозь высокие решетчатые окна в доме первосвященника Каиафы. Его лучи проникали в просторную, убранную по обычаю того времени комнату. Вдоль трех стен ее шли роскошные сидения, четвертую же стену составлял ряд грациозных колонн из разноцветного мрамора, сквозь которые видна была терраса. Пол был покрыт толстыми коврами, и стены украшали богатые вышитые ковры. Кое-где стояли низенькие столы и стулья римской работы. Внутри шкафов виднелось много разной посуды, редких ваз и всякого рода драгоценностей, свидетельствовавших о богатстве и тонком вкусе владельцев.
Анна, супруга первосвященника, в это ясное утро была одна в своей комнате. Годы тоски и забот оставили довольно ясные следы на ее красивом лице, тонкие линии которого обнаруживали тяжкое горе. Волосы ее уже засеребрились сединой, но под тонкими бровями ясно и приветливо светились красивые, выразительные глаза. С дивана, на котором она сидела со своим рукоделием, открывался вид на террасу в сад, нежные тени которого плясали по мраморному полу. Плеск фонтана смешивался с веселым птичьим щебетанием, услаждающим ее слух. Все было тихо и спокойно вокруг. Такое же спокойствие отражалось в чертах ее лица, когда она, сидя на диване, старательно продевала сквозь тонкую ткань золотые нити.
Вдруг на террасе послышались чьи-то шаги и, подняв глаза, она увидела дорогого ей человека…
— Доброе утро, дорогая супруга! — произнес он.
При звуке его голоса женщина встала, отбросила в сторону работу и с легким радостным криком поспешила ему навстречу.
— Это ты, мой дорогой! — воскликнула она, нежно обняв его. — Я думала, что ты возвратишься только к вечеру!
— Мы ехали ночью при лунном свете и чувствовали себя гораздо лучше, чем при солнце, — сказал Каиафа. — Не случилось ли с тобой чего-нибудь особенного, Анна? Все ли благополучно дома?
— Все в наилучшем порядке, — ответила Анна. — А как поживают наши родственники в Капернауме?
— Все совершенно здоровы, — сказал Каиафа, но вслед за этим, немного нахмурившись, заметил: — Но вот Иаир только слишком увлекся этим Иисусом, как и все остальные в Галилее! Иаир утверждает, будто Иисус есть Мессия, но это же чистейшее богохульство и прямо противоречит Священному Писанию!
— Ну, а это правда, что Он сотворил столько исцелений? — с любопытством спросила Анна.
— Галилеяне еще и не то будут говорить… — презрительно заметил Каиафа. — Ах, если бы были здесь одни только чудеса, все бы могло сойти с рук… Но ты подумай только о том дьявольском учении, которое Он проповедует!
При этих словах он остановился и, внезапно переменив тон, продолжал:
— Впрочем, это не такие уж важные вещи, чтобы из-за них так беспокоиться. Я предприму необходимые меры к прекращению соблазна. А ты, Анна, лучше позаботься, чтобы мне дали покушать, пока я стряхну с себя дорожную пыль и переоденусь. Да, вот, было, забыл… — остановился он, роясь в складках своей широкой одежды. — Тебе есть письмо от жены Иаира. И, передав жене запечатанный пакет, он оставил горницу.
Анна с улыбкой посмотрела на письмо, но не стала его вскрывать. Она считалась примерной хозяйкой и не хотела прочесть живо заинтересовавшее ее письмо прежде, чем не даст указания служанкам приготовить мужу обед. Только тогда она через террасу по мраморным ступеням сошла в сад, села на скамью подле фонтана и, сорвав печать, вскрыла письмо.
Письмо это было совершенно не похоже на те письма, которые мы теперь получаем от наших друзей. Оно было написано на особенно тонком пергаменте, крепко скручено, обмотано шелковыми нитями и в нескольких местах заклеено воском, так что требовалось, по крайней мере, несколько минут, чтобы его открыть. Когда наконец воск был снят, нитки удалены, Анна раскрыла пергамент и начала читать письмо от Сарры, жены Иаира:
«Благородной Анне, возлюбленной сестре моей, мир и приветствие! Прибытие твоего высокочтимого супруга Каиафы, первосвященника в храме Всевышнего, доставило нам большую радость, в особенности же приятно было сердцу нашему узнать, что ты и весь твой дом, равно как и Анна, отец наш, находитесь в добром здравии! Чистосердечно признаюсь тебе, что, как ни хорошо у нас в Капернауме, как ни сильно привязана я к своему родному очагу, все-таки я часто скучаю по тем местам, где я провела свою счастливую молодость, и по милым родным и друзьям, знакомым из Иерусалима! В последнее время в нашем городе произошло много странного и чудесного, а именно, — после прибытия сюда Иисуса Назарянина, Который совершает много исцелений и учит о новых, неслыханных вещах.
Муж мой Иаир, человек, как ты знаешь, благочестивый, справедливо и свято живущий пред Господом, считает Этого Иисуса Назарянина за обетованного Богом Мессию! И, к моему величайшему огорчению, это привело к ожесточенному спору между моим мужем и высокочтимым твоим Каиафою. А что касается меня, то я собственными глазами видела такие чудеса, которые привели меня в крайнее изумление!
Поистине, ты только представь себе: хромые ходят, глухие слышат, больные всякими недугами получают исцеления. И все это — по одному слову Этого Человека, Иисуса. Кроме того, Он изгоняет бесов из многих одержимых, и даже сами бесы, вышедшие из людей, свидетельствуют, что Это Христос, Сын Божий. Он прекрасен видом, притом от Него исходит какое-то таинственное, чудесное очарование, так что только при одном взгляде на Него невольно чувствуешь какое-то волнительное влечение к тому, что Он говорит. Даже наша маленькая Руфь, которая видела Его и слышала Его проповедь в синагоге, не перестает говорить о Нем, и если узнает, что Он находится где-нибудь поблизости, то не дает мне покоя до тех пор, пока я не пойду с ней, чтобы увидеть Его или услышать. Конечно, очень часто я не в состоянии бываю удовлетворить ее желание, потому что около Него всегда собирается огромная толпа, а мне, богатой дочери из знатного дома, неприлично общаться в кругу этих людей, большинство из которых незнатного происхождения. Но все-таки я стараюсь пользоваться каждым удобным случаем, чтобы послушать Его проповедь или узнать от других, о чем Он говорит.
Главным образом, Он побуждает Своих слушателей к обращению к нашему Богу, Небесному Отцу. Говорит Он большей частью притчами и подобиями. Сам Он называет Себя то Сыном Божиим, то Сыном Человеческим и открыто объявляет, что Он послан обратить людей к покаянию. Ходит слух, что однажды Он не погнушался вступить в разговор с самарянкою, чего раввин никогда бы не сделал, так как самаряне не принадлежат к народу Божиему.
Иногда Этот Иисус избирает Себе последователей из людей низкого происхождения, например, из рыбаков Капернаума и его окрестностей. Вообще же, Анна, боюсь, что я не сумею тебе хорошенько объяснить, почему именно наши сердца так склонны признать Его за Мессию. Для того, чтобы понять это, тебе нужно самой увидеть Его. Посему, когда Он придет в Иерусалим, не упускай случая увидеть Его и послушать Его проповедь.
Маленькая Руфь шлет тебе свой сердечный привет, а равно и Иаир, супруг мой. Все мы надеемся скоро увидеться с вами; праздник совсем недалеко, и мы, конечно, приедем на него в Иерусалим.
Вот какое длинное письмо написала я тебе, милая Анна, собственной рукой и с сожалением заканчиваю его. Будь настолько добра, поприветствуй от меня отца нашего Анну и наших братьев с их семьями.
Бог Авраама да сохранит тебя и твое семейство в мире! А пока прощай!».
Прочитав последние строки письма, Анна почувствовала, что кто-то стоит рядом и как будто хочет говорить с ней. Подняв голову от письма, она увидела Малха, одного из самых близких слуг Каиафы. С почтительным поклоном он приблизился к Анне и произнес:
— Мой господин поручил мне, госпожа моя, сообщить тебе, что важные дела задержат его в совете до вечера. Он просил ожидать его.
Исполнив свое поручение, слуга хотел удалиться, но Анна знáком остановила его и сказала:
— Передай твоему господину, что я буду ждать его после захода солнца. Кушанье для него будет приготовлено в саду, внутри дома, там я буду ожидать его.
— Понравилось ли тебе путешествие в Капернаум? — прибавила она совершенно ласково, так как Малх был старый, давнишний служака в доме.
— Да! — ответил слуга после небольшой паузы. — Я там встретил человека, с которым познакомился много лет назад в Иерусалиме. Он долго страдал ломотой в суставах, а последние десять лет совсем не вставал с одра и не мог пошевельнуть ни одним членом, а теперь этот человек без труда ходит по улицам Капернаума, как будто бы он никогда не был болен. Сначала я подумал, что обознался, и заговорил с ним; оказалось, однако, что это именно он, и зовут его Элиаз.
— А как же произошло это замечательное исцеление? — заинтересованно спросила Анна.
— Я расспрашивал его об этом, госпожа, — отвечал с оживленным видом слуга, — и он рассказал мне, что некий Человек по имени Иисус из Назарета увидел его лежащим на рогоже у ворот города, повелел ему встать, взять на плечи одр свой и идти домой. Тотчас же он почувствовал, что в состоянии исполнить сказанное, к величайшему своему изумлению и изумлению всех присутствующих! А несколько времени спустя после этой встречи, я сам имел счастье увидеть Того Человека, Который совершил это исцеление.
— А сам ты видел, как Он совершает чудеса? — продолжала расспрашивать Анна.
— К сожалению, нет, — ответил Малх, — но я слышал, как Он рассказывал огромной толпе народа, собравшейся вокруг Него, историю, и речь Его была доступна и понятна всякому. Даже дети, которых немало было около Него, и те слушали Его с таким же напряжением и вниманием, как и взрослые. Мне чрезвычайно хотелось подольше послушать Его, но, к несчастью, у меня тогда не было времени, так как я был послан к одному раввину с каким-то поручением от моего господина.
Анна хотела задать слуге еще несколько вопросов, но вовремя удержалась и, поблагодарив слугу за его преданность и верность, отпустила его…
Между тем первосвященник Каиафа был занят очень серьезными делами. По возвращению в Иерусалим он тотчас же назначил в своем дворце совет из влиятельнейших членов Иерусалимской церкви. Один из его слуг принимал приглашенных и отводил их в предназначенную для совета залу. Как и все комнаты дворца, эта зала была чрезвычайно просто убрана и изобиловала светом и воздухом. Когда же все приглашенные оказались в полном составе, слуга Малх доложил об этом своему господину и Каиафа с величественным и важным видом вступил в зал. При его виде все присутствующие почтительно встали со своих мест, кроме одного почтенного старца, пред которым сам Каиафа склонился и произнес:
— Досточтимый Анна, считаю великой честью для себя иметь возможность приветствовать тебя сегодня здесь! Твоя опытность и известная всем мудрость помогут нам разрешить некоторые недоразумения.
Сидевший человек, к которому было обращено приветствие Каиафы, поражал своей величественной осанкой. Его длинная, доходившая до пояса борода отливала серебром, а острые, проницательные глаза имели какой-то странный блеск. Вместе с сознанием собственного достоинства в лице старца еле заметно проглядывали также хитрость, самолюбие и еще несокрушимая энергия. Вежливо он ответил на приветствие Каиафы и, немного подождав, пока он садился, произнес:
— Сын мой, ты собрал нас здесь, чтобы сообщить результаты своей поездки в Галилею? Скажи-ка, что ты думаешь о так называемом Иисусе?
— Прежде всего, — начал Каиафа, — я убедился, что слухи о том возбуждении, какое вызывает Его присутствие по всей Галилее, нисколько не преувеличены; напротив, мы и подумать не могли, что Этот Человек так сильно увлекает население! Он учит не только на полях и на улицах городов, но и даже в синагогах и в школах. Судя по рассказам народа, Он совершил много чудес и удивительных исцелений. Впрочем, о последних я не могу сказать ничего достоверного, так как своими глазами я не видел ни одного Его чуда, а в народную болтовню я не особенно верю. О легковерии чéрни достаточно известно, особенно у галилеян. Вследствие их крайнего невежества они совершенно не в состоянии поразмыслить как следует над подобными вещами.
— Да, мы что-то не слышали, чтобы Иисус совершил какое-нибудь замечательное чудо в Иерусалиме! — заметил один из членов собрания, по имени Никодим.
— Все это так, мой друг, — ответил Каиафа, — но кто поручится, что это неправда? Если бы исцеления эти были совершены над почтенными гражданами, можно было бы, во всяком случае, поверить, но, как мы знаем, до сих пор исцелялись только нищие, а они никакого значения не имеют. Однако давайте обсудим врачебную деятельность Этого Человека! Со своей стороны я не вижу ничего дурного, если бы Он исцелил даже всех больных в стране. Более серьезного внимания заслуживают те претензии, которые Он время от времени высказывает. Известно ли вам также, что Он совершенно серьезно выдает Себя за Мессию, и, как таковой, собирает уже вокруг Себя последователей.
— Это чистейшее богохульство! — раздался голос Анны. — От юности своей я прилежно изучал пророков и никогда не находил, чтобы где-нибудь у них говорилось о таком Человеке, как Этот! Мессия должен явиться могущественным Царем. Он спасет народ Божий от рук иноплеменников, поставит в Иерусалиме престол Свой и воцарится в нем в могуществе и славе! Кроме того, предсказано, что Царь Этот должен произойти из рода Давидова и родиться в Вифлееме в колене Иудовом. А Этот родом из Назарета.
— Если бы Этот Человек был Мессия, — прибавил один из членов собрания, — Он, конечно, прежде всего вошел бы в общение со священниками Всевышнего.
— А Он не только не ищет этого общения, — сказал Каиафа, нахмурившись, — но даже мало ценит церковные законы и обычаи и поносит и фарисеев, и книжников. Кроме того, Он Сам лично не соблюдает уставов, ест неумытыми руками, вращается с мытарями и грешниками, так что даже входит в дома их и сидит с ними за столом. Мой совет таков: поручить некоторым умным и рассудительным раввинам строго наблюдать за Этим Человеком и всякий раз доносить нам о Его поступках. Это необходимо потому, что, как я думаю, священству, как установлению Бога наших отцов, может грозить большая опасность, если не будет положен предел учению Этого Иисуса.
— Мудрость говорит твоими устами, слуга Всевышнего! — воскликнул Анна. — Наш долг — охранять и защищать веру наших отцов, чтобы она ни в чем не терпела ущерба! Если Этот Человек богохульствует, Он достоин смерти, так написано в нашем законе. Однако же мы во всем должны поступать с предусмотрительностью и осторожностью, чтобы не возбудить ропота в народе.
Сдержанный шепот одобрения сопровождал его слова. Немедленно же были приняты все меры к выполнению принятого предложения, назначены лица, которых решили послать в Галилею с поручением от верховного совета: следить там за Иисусом и старательно выискивать пригодного повода, по которому можно было бы схватить его и присудить к смерти!
Глава 8. Исцеление прокаженного
— Это действительно чудо, Стефан! И если бы я не видел тебя сейчас собственными глазами, я ни за что не поверил бы! Уж не грешу ли я, в самом деле? — говорил Тит.
При этом он начал производить всевозможные телодвижения, как бы для того, чтобы убедиться, что он находится в полном сознании. Оба юноши постояли, а потом стали задумчиво ходить вдоль берега озера. Стефан перед этим только что рассказал Титу о своей чудесной встрече с Иисусом и об исцелении маленького Гого.
— И как это ты Его не видел? — спросил Стефан у Тита. — Ты непременно постарайся встретиться с Ним, когда Он снова будет в Капернауме! Ты не поверишь, Тит, как я люблю Его теперь, Он для меня дороже всех!
— Неужели дороже матери? — спросил Тит с изумлением.
— Да, даже дороже матери! Мать я люблю теперь больше, чем прежде, и тебя люблю больше. А Он любит всех людей! Ах, если бы ты видел Его в тот вечер, когда к Нему пришли за исцелением множество больных людей! Я был словно ослеплен, и едва осмелился взирать на Него. Его лицо сияло каким-то небесным светом, подобно солнечному свету в полдень. Когда Он сказал слепцу: «Иди с миром!», — я сразу почувствовал сердцем, что к слепому возвратилось зрение. Да и кто мог бы остаться слепым пред величием Лика Иисусова!
— А ведь знаешь, мы, собственно, не имеем с тобой определенной религии! — продолжил Стефан после небольшой паузы. — Отец, когда божится или заклинает кого-нибудь, то упоминает каких-то богов. А мать говорила мне, что она происхождением из еврейского рода, хотя я не видел, чтобы она посещала когда-нибудь синагогу, за исключением разве того случая, когда там был Иисус. О, как бы я хотел узнать, Кто Это такой, Этот Отец, о Котором говорит всегда Иисус! Нет, я непременно узнаю это, — прибавил он с приливом неожиданной энергии. — Буду ходить за Ним и слушать Его речи. Может, мне удастся разузнать что-нибудь поподробнее!
— Ты ничего о Нем не слышал с тех пор, как Он исцелил тебя? — спросил Тит.
— К сожалению, ничего. — отвечал Стефан. — Он всегда окружен таким множеством народа и всегда бывает так много желающих говорить с Ним, что я просто не понимаю, когда Он отдыхает. Здесь, в Капернауме, я следовал за Ним каждый день, и даже ходил за Ним в соседние города и селения, и возвратился домой только потому, что боялся, как бы мать не подумала чего дурного обо мне.
— Тит, не знаешь ли, что это с нашей мамой делается? — внезапно спросил Стефан. — Она часто горько-горько плачет, несмотря на то, что я совершенно выздоровел. А отец уже давно не возвращался домой.
— А ты, Стефан, спрашивал о причине ее слез у нее самой? — спросил Тит.
— Уж сколько раз спрашивал, а она всегда мне твердит одно и то же: «Ты не поможешь мне, сын! Зачем же я буду понапрасну расстраивать тебя!». Попробуй, Тит, спроси ты ее когда-нибудь.
— Непременно спрошу, если будет случай, — коротко ответил Тит.
— Ну, а теперь я буду тебя с удовольствием слушать, — обратился к нему снова Стефан. — Расскажи, Тит, где ты был, что делал? Да пойдем лучше отдохнем в тени дерева, а то голову невыносимо печет.
С этими словами Стефан опустился на мягкую траву в тени фигового дерева. Тит последовал его примеру и, сорвав несколько лилий, начал ощипывать их нежные, белые лепестки.
— Ну зачем ты губишь эти чудные, нежные цветы? — воскликнул Стефан. — Вот если бы ты слышал, что говорил Учитель о лилиях, ты никогда бы этого не сделал!
— Что же Он говорил о них? — спросил Тит.
— Он говорил, что эти лилии сотворены Его Отцом и что если Он так заботится и украшает эти полевые цветы, то тем бóльшую заботу Он имеет о людях — Его детях. Он говорил также, что Сам пришел к нам, для того чтобы показать нам Отца, великого и милостивого к людям.
— Стало быть, Он пришел и для меня, — с заметной грустью проговорил Тит и далеко отбросил голые стебли цветов.
— Да что с тобой, Тит, отчего ты сегодня такой странный? — спросил Стефан, нежно гладя его грубую загорелую руку. — С тобой, может быть, случилось что-нибудь нехорошее, скажи-ка мне?
— Нет, не годится об этом говорить тебе, — сказал Тит, мрачно глядя на белые паруса судов, видневшихся на горизонте. — От этих мошенников всего можно ожидать!
— О чем ты говоришь, Тит?
— Помнишь, как тогда ночью они привалили к нам ватагой, да и ты сам, наверное, слышал их разговор? Они насильно заставили меня совершать такие вещи, о которых я не скажу ни за какие деньги!..
— Нет, пусть лучше язык мой отсохнет, нежели я скажу это! — продолжал с волнением Тит. — Ненавижу я теперь Думаха и всю его шайку, с которой он связался! Это настоящие разбойники, они и меня хотели сделать таким же вором, мошенником, как они сами! Ты посуди, Стефан, каково мне было слушать твои рассказы о Великом Чудотворце! Он исцеляет хромых, слепых, глухих и расслабленных, а мы грабим людей, увечим и иногда даже убиваем!
Последние слова он произнес едва слышным голосом, закрыв лицо руками и зарыдав. Стефан слушал его, и с лица его постепенно исчезало прежнее выражение счастья и блаженства. Наконец, он протянул руки и, положив их на плечи брата, произнес:
— Но ведь ты же должен был поступать против собственного желания. Ведь ты добрый, Тит… Право, добрый! Ты всегда так почтителен и ласков с матерью. А со мной… Вспомни, как ты ухаживал за мной, когда я был еще болен. Нет, Тит, у тебя доброе сердце, — продолжал он, ласково заглядывая к Титу в глаза. — Ты не пойдешь больше к тем людям. Ведь да, Тит? Ты останешься дома со мною и с нашей мамой.
Тит перестал рыдать и, поднявшись с земли, прерывающимся голосом ответил:
— Нет, Стефан, я не добрый! Ты ошибаешься! Вот ты — совсем другое дело! Однако пойдем отсюда!
— Пойдем, я готов, — произнес Стефан, быстро поднимаясь с земли. — Может быть, мы даже встретим Его! От рыбаков, находящихся постоянно около Него, я слышал, будто бы Он намерен был посетить все города и селения вблизи озера.
— О каких это рыбаках ты говоришь? — спросил Тит с видимым оживлением.
Стефан ответил:
— Симон и его брат Андрей. А также Иаков и Иоанн, сыновья Заведея. Ты знаешь их?
— Да, я иногда встречал их на озере, и с одним из них мы обменялись даже парой слов.
— Вот как! Только знаешь, они ведь бросили теперь рыбачий промысел. В народе говорят, будто они уже и не хотят оставить Иисуса. Однажды раввин при мне говорил про них: «Странных людей выбирает Себе в ученики Этот Человек!». Но в народе никто не обратил внимания на эти слова, потому что у всех на уме были чудесные знамения, которые сотворил Иисус.
— Раввины, стало быть, не особенно благоволят к Иисусу? — спросил Тит, улыбаясь. — Да, они, должно быть, страшно самолюбивы, эти льстивые святоши! Они боятся уже, наверное, что не найдут себе больше учеников и последователей! На днях мне случилось проходить по рынку во время их молитвы, и ты представить не можешь, Стефан, с каким страхом они завертывались в свою одежду, чтобы не оскверниться от прикосновения ко мне. Однако что там за толпа народа? Смотри, ведь стекаются туда со всех сторон… Пойдем-ка посмотрим!
И оба юноши пустились бежать по направлению к людям.
* * *
— Что тут такое? — спросил Тит у одного человека, стоявшего неподалеку.
— Разве ты не слышал, что здесь будет проходить сейчас Иисус из Назарета? — ответил ему незнакомый человек. — Да вот Он идет, неужели не видишь? — указал он на легкое облако пыли, поднимавшееся по загородной дороге.
Очевидно было одно: что по дороге двигалась большая толпа людей.
— Народ как стадо валит за Ним, — продолжал незнакомец, — со всех селений стекаются слушатели. Он творит чудеса, исцеляет больных, и, кроме того, Он учит не так, как книжники. И слова Его обладают такой силой, что сами демоны повинуются Ему!
— Меня Он тоже исцелил, — просто заметил Стефан, всегда готовый каждому рассказывать историю своего исцеления.
Незнакомец устремил на него свой вопросительный взгляд.
— От чего же Он тебя исцелил? — спросил он.
— Я был калека… — начал Стефан, но как раз в этот момент громкий крик прервал его рассказ.
— Нечистый, нечистый!.. — послышался крик, такой зловещий и потрясающий, что каждый стоявший в толпе невольно содрогнулся и попятился назад.
Стефан и Тит тоже отодвинулись назад, увидав высокую фигуру прокаженного, который, прихрамывая, с видимым усилием продвигался к толпе, время от времени выкрикивая хриплым голосом: «Нечистый! Нечистый!».
Вся голова его была закрыта грубым покрывалом, и сам он старался не открывать свое лицо, чтобы не так сильно бросалась в глаза людям его болезнь, хотя при первом же взгляде на него было понятно, что он поражен самой ужасной язвой, какие могут быть на земле.
— Прокаженный идет! — вскрикнули разом несколько человек, и в тот же миг большая часть людей, среди которых находился Иисус, от ужаса рассыпалась в разные стороны.
Иисус остался на дороге один. Прокаженный, узнав Иисуса и видя, что Он не удаляется от него, как другие, побежал к Нему, пал пред Ним ниц и умоляющим голосом воскликнул:
— Господи! Если хочешь, Ты можешь меня очистить!
Иисус простер руку Свою, прикоснулся к нему и сказал:
— Хочу, очистись!
В тот же миг прокаженный встал, и все присутствующие увидели, что все следы его болезни исчезли в один миг и тело стало таким же чистым, как и у других людей! Во время наступившей затем торжественной тишины Иисус о чем-то разговаривал с прокаженным, но так тихо, что никто не мог понять, чтó Он говорил. По словам самого исцеленного, Чудотворец сказал ему, чтобы он шел и, дабы не возбудить лишних пререканий, показался священнику, как написано в законе Моисеевом.
Когда же исцеленный удалился, чтобы выполнить все сказанное Иисусом, среди народа внезапно поднялся громкий крик радости и толпа ринулась к Чудотворцу, так что Стефан и Тит вскоре очутились совершенно в другой стороне.
— Это ли не чудо! — воскликнул Стефан, едва оправившись от волнения.
Тит ничего не отвечал, но Стефан успел заметить, что на его больших темных глазах сверкали слезы.
Глава 9. Исцеление расслабленного
— Эй, послушай-ка, малый, у тебя, кажется, крепкая спина-то, не поможешь ли нам немного? — обратился чей-то голос к Титу, который в это время возвращался вместе со Стефаном с рыбной ловли.
Несмотря на то, что они оба уже были порядочно нагружены пойманной рыбой и сетями, они немедленно направились к тому месту, откуда послышался голос.
Человека четыре стояли у носилок с беспомощно лежавшим на них больным.
— Мы вот хотим снести больного в дом рыбака Симона, — сказал один из стоящих, — мы слышали, что у него остановился в доме Иисус из Назарета. Он, наверное, может исцелить нашего больного.
Лежавший на носилках больной громко стонал.
— Вот этот старик помог нам принести сюда носилки, — говорящий указал на одного из четверых, — а сам еле держится на ногах от слабости и не может идти дальше. Вот если бы ты, паренек, помог нам! Сделай милость!
— С удовольствием, — ответил Тит. — Ты, Стефан, перенеси пока сеть и рыбу, если сможешь.
— Давай я понесу что-нибудь, — раздался дрожащий голос старика. — Благословение Отца да почиет на тебе, добрый юноша, за то, что ты не отказался помочь донести моего бедного больного сына к Исцелителю.
— Батюшка, да поскорее! — простонал больной.
И добавил:
— Только какая же в этом польза, ведь священник уже не раз говорил мне, что страдания посланы мне Богом в наказание за мои грехи. Никто, кроме Всевышнего, не может снять с меня этого наказания, и я должен терпеливо переносить свои страдания!
— Ах, эти раввины! Чего только они не наговорят! — пробормотал старик. — Я знаю тебя лучше, чем они. Ты такой же, как и все, и безгрешного совсем человека нет на земле. Все мы грешны! И если бы Всемогущий Бог восхотел поступить с нами по нашим грехам, то мы все лежали бы на одре болезни! Нет никого, кто мог бы сказать о себе, что он без греха! Не правду ли я говорю, молодые люди?
Все согласились с его словами, а Тит почувствовал, как от сознания своей собственной греховности кровь вскипела в его голове, и он заметно покраснел.
— Вперед, живо! — произнес один из стоявших. — Поднимайте, только тише, чтобы не причинить больному лишних страданий.
Молодые люди подняли носилки и быстрыми шагами двинулись по улице. За ними последовали старик со Стефаном.
— Бедный мой сын! — тихо говорил, идя по дороге, старик и качал печально головой.
— Давно он у вас болен? — спросил Стефан участливо.
— Да с восьми лет от рождения. Он попал под лошадей римского гарнизона в Тивериаде. Видишь ли, был тогда языческий праздник или что-то вроде того, и мой мальчик отправился туда посмотреть их игры. Мать, было, не пускала его, но он со своими сверстниками убежал тайно. А к вечеру соседи принесли его домой уже полумертвого. Горю нашему не было границ. До тех пор он был ребенком, но после этого несчастия мы его более не видели на ногах. Он давно уже не сходит с постели, как будто все члены его омертвели. Спустя немного времени мы отправились в Капернаум, его мать непрестанно молилась о его выздоровлении, и Всемогущий Бог услышал бы ее молитву, как некогда услышал молитву благочестивой Анны. Но раввины стали говорить, что он должен терпеть все страдания, как наказание за грехи. И раввины были отчасти правы, потому что если бы он послушался тогда внушений матери и не убежал, с ним не случилось бы этого несчастья, а мы, поверь мне, всегда старались поступать по заповедям Божиим. Но, несмотря на свои страдания, сын мой не ропщет на Бога. Давид в одном из псалмов своих говорит: «Как отец милует сынов своих, так милует Господь боящихся Его!». Он смилуется, конечно, и над моим терпеливым сыном.
— Что ты сказал об Отце сейчас, милующем детей Своих? — с жадным любопытством спросил Стефан. — Повтори мне, пожалуйста, еще раз.
Старик повторил слова из псалма и потом серьезным, почти строгим тоном добавил:
— Что же ты, мальчик, Священного Писания не знаешь? В твои годы я наизусть знал псалмы и, кроме того, еще многое, что написано в Законе.
— К сожалению, я этого ничего не знаю, — ответил Стефан. — Мой отец грек, и я не имел возможности изучать ваше Писание.
— Так ты язычник! — воскликнул старик, отступив немного назад от мальчика.
— Но ты все равно хороший мальчик, — добавил он после недолгого молчания. — Это по твоему лицу видно, а я не так гнушаюсь язычниками, как наши раввины.
— Тот, к Которому мы идем, не различает даже, кто мытарь, а кто грешник. Я сам убедился в этом, — начал с живостью Стефан, — и если бы не Он, я и до сих пор был бы калекой. Он исцелил меня, не спрашивая, знаю я псалмы или нет и хожу ли в синагогу! О себе я Его и не просил, я просил Его только о бедном больном мальчике. Как ты думаешь, Отец, милующий Своих детей, о Котором часто упоминает Иисус, и Отец, о Котором говорится в псалме, одно и то же лицо?
— Да, конечно, это Бог Авраама, Исаака и Иакова, — ответил старик.
— Кто были эти люди? — простодушно спросил Стефан.
— Ты — язычник, юноша! — с сердцем произнес старик. — Ходил бы ты сам в синагогу слушать Писание!
— Я непременно буду ходить! Раньше я ведь совсем ничего не мог делать, был полным калекой и не мог двигать ни одним членом своего тела! Как же тут было ходить в синагогу!
В этот момент оба собеседника заметили, что несущие больного остановились и положили носилки на землю. Старик приблизился к сыну и с любовью взглянул на его исхудалое лицо.
— Может быть, тебе от тряски стало больно? — ласково обратился он к нему с вопросом.
— Нет, батюшка, тряска не может причинить такой боли, как мысль о грехах. Иисусу, конечно, нельзя будет исцелить меня, потому что я зол и нечист пред Богом. Несите меня домой, дайте мне умереть спокойно.
— Смотри на меня! — воскликнул в это время Стефан своим ясным, детским голосом, наклоняясь над носилками. — Я — язычник, как назвал меня сейчас твой отец, и все-таки Он меня исцелил! Исцелил Он также нашего соседа Филиппа — слепца, которому за какое-то преступление выжгли глаза. Я не знаю, в чем именно он провинился, но ясно, что он великий грешник, если заслужил такую кару по закону. А кроме того, Иисус исцеляет множество других больных, и ни один из них не был ни священником, ни раввином, ни фарисеем. Так почему же Он не может исцелить тебя? Ты мало знаешь Его, Он так же милостив к людям… как Отец Небесный милостив к Своим детям. Он любит людей больше, чем мать любит детей своих.
Больной поднял на Стефана свои большие печальные глаза и внезапно спросил:
— Кто ты? Уж не ангел ли ты?
И в самом деле, при лунном свете мальчик, любезно склонившийся над постелью больного, походил на ангела.
— Нет, сын мой, это не ангел, — ответил старик за Стефана. — Он действительно язычник, как он сам говорит, и не знает даже, кто были Авраам, Исаак и Иаков. Ободрись же, дитя мое! Великий Чудотворец исцеляет и не таких грешников, как ты, мой бедный мальчик! Выпей-ка вот глоточек вина, это немного подкрепит тебя.
С этими словами он снял со своего пояса маленький мех с вином и подал его больному.
Вскоре шествие снова возобновилось. Недалеко уже был дом Симона, но чем ближе они подходили к нему, тем яснее для них становилось, что попасть туда будет очень трудно, даже почти совсем невозможно. Им уже встретились по дороге несколько человек, которые горько жаловались на то, что за множеством собравшегося народа нельзя даже увидеть и услышать Иисуса.
— А вдруг в конце всего окажется, что мы только даром тащились сюда? — отчаянно воскликнул старик. — Кто знает, может быть нам не удастся даже увидеть Его!
— Тише, больной может услышать, — остановил Стефан старика. — Попробуем сначала пробраться к Нему. Может быть, нам это удастся.
Между тем, толпа становилась все плотнее, и вскоре они могли продвигаться вперед только медленными шагами. Наконец, носильщики опустили бедного страдальца и стали совещаться между собой, как им лучше добиться своей цели.
— Что это у вас? — спросил в это время один из проходивших мимо. — Опять больной…
И с этими словами прохожий взглянул на носилки.
— Вот что я вам посоветую, — продолжал он, — несите-ка вы его лучше поскорее домой. Уверяю вас, сегодня Учитель никого не исцеляет. Он сидит в верхней горнице у Симона и занят беседой со священниками, раввинами и фарисеями, которых много собралось сюда со всех сторон, даже из Иерусалима. Дом и сад давным-давно заполнены людьми, так что ни один человек не сможет пробраться к дверям, а тем более вы со своими носилками!
— Жаль, — промолвил один из носильщиков, — я совсем не рассчитывал, что нам придется нести нашего больного назад.
— О, Вениамин, мой бедный сын! — зарыдал старик, ломая в отчаянии руки.
— Подождите немного! — произнес Стефан, приблизившись к носилкам. — Я уверен, что мы увидим Его, нужно только постараться как следует. Тит, сходи, пожалуйста, посмотри, неужели никаким образом нельзя проникнуть в дом?
Тит пошел, но через несколько минут возвратился, тяжело переводя дыхание от сильного напряжения.
— Невдалеке от садовой калитки есть лестница, которая ведет на кровлю дома. Мне думается, что если бы взойти туда, можно было бы приподнять несколько брусьев в потолке над той комнатой, где находится Учитель, и опустить больного вместе с носилками вниз, — сказал Тит.
— Это хорошая мысль, — воскликнул Стефан, — нужно сейчас же и попытаться исполнить ее!
— Но кто нам дал право портить кровлю ближнего? — сказал старик. — Кроме того, разве прилично отвлекать Учителя, в особенности теперь, когда Он занят серьезной беседой с важными учеными мужами? Один Бог знает, как страстно я хочу, чтобы мой бедный Вениамин был исцелен, но все-таки твой план мне не особенно по душе!
— Батюшка, — проговорил больной, сдерживая рыдания, — я боюсь, что если нам придется воротиться домой, я едва ли перенесу эту дорогу. Я чувствую, что от пережитого напряжения силы совсем оставляют меня. Батюшка, позволь им снести мои носилки вниз?
Старик все еще колебался, но тут Стефан наклонился к его уху и настойчиво шепнул:
— Позволь же скорее исполнить его волю!
— Ну, хорошо, пусть попробуют, — промолвил старик. — Наконец, я уплачу потом Симону за порчу кровли. Да и ущерб-то невелик…
Четверо молодых людей осторожно подняли носилки и двинулись за Стефаном и стариком, которые на этот раз пошли вперед, чтобы расчистить немного путь.
До садовой калитки идти было сравнительно не трудно, но в самом саду им буквально пришлось протискиваться сквозь густую толпу народа. Наконец, после неимоверных усилий они достигли лестницы, а через несколько минут были уже на кровле Симонова дома.
Некоторые из стоявших внизу заметили их маневр.
— Зачем вы туда забрались? — крикнул им снизу кто-то из толпы.
— Хотим немного разобрать кровлю и спустить к Учителю больного, — ответил Тит.
— Вот отсюда и нужно начинать разбирать, — сказал снизу тот же голос. — Учитель находится как раз под этим местом, и, коли угодно, я вам помогу.
Вскоре дюжина сильных рук уже была за работой, и в невероятно короткое время в кровле образовалось отверстие, вполне достаточное для того, чтобы спустить вниз носилки с расслабленным.
— Ну вот, все готово! Держите крепче, — произнес Тит, обращаясь к сотоварищам.
Больного с носилками осторожно подняли и медленно, на веревках, начали опускать в отверстие на кровле.
В комнате, где находился Иисус, мгновенно воцарилась тишина. Конечно, все присутствующие здесь понимали, что люди, разбирая кровлю дома, жаждали слышать слово Учителя. Но поняв, что происходит, они были так поражены, что не могли выговорить ни слова! Оставшиеся на кровле тоже, затаив дыхание, с напряжением ожидали, чем окончится их смелое предприятие…
Учитель, все время сидевший при разговорах фарисеев, встал, наклонился над больным и пытливо посмотрел ему в лицо. По бледным, исхудалым чертам, по глазам, устремленным с мольбою на Него, Иисус прочел всю повесть страданий несчастного. Ни о чем не спросив больного, Иисус ласково возложил на его чело Свою руку и произнес:
— Чадо! Отпускаются тебе грехи твои!
Громкий ропот негодования раздался в комнате.
— Он богохульствует! Ведь только Бог имеет власть отпускать грехи! — шептали друг другу длиннобородые раввины с высокими тюрбанами, сидевшие вокруг Иисуса.
Но Учитель обратился к ним и, спокойно глядя им в глаза, произнес:
— Что легче сказать? «Прощаются тебе грехи» или сказать: «Встань и ходи»? Но, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тебе говорю, юноша: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
Больной тотчас же встал и, взяв постель, вышел пред всеми. Все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видели»…
Глава 10. Тит у Иаира
Именитый начальник капернаумской синагоги Иаир только что окончил подробный обзор своих владений. Иаир не только пользовался всеобщим почтением и уважением, но и обладал довольно значительным по тому времени состоянием.
Он всегда строго следил за тем, чтобы во всех его владениях поддерживался самый образцовый порядок. Теперь он отдавал различные указания и распоряжения стоявшему пред ним его главному управителю:
— В саду, что около дома, я нашел у тебя беспорядок, Бенони, — говорил он со строгостью. — На траве везде кучи сухих листьев, теплицы тоже не в порядке. Очевидно, произошли какие-нибудь упущения?
— Осмеливаюсь доложить тебе, господин мой, что у меня не хватает слуг, — сказал управитель. — И мне кажется, что нам необходимо будет принять еще одного работника. Если тебе угодно, то я могу купить раба или нанять работника в городе. Новый виноградник действительно нуждается в заботливом уходе и требует много времени и сил, поэтому не было доселе никакой возможности следить за порядком в саду. Поверь мне, что это произошло не от лености твоих слуг или моего нерадения.
— Верю, верю, — перебил Иаир управителя, — я было и забыл про новый виноградник. Так вот, тогда ты выбери себе подходящего слугу, и пусть он наблюдает за порядком в саду. Только будь осмотрителен в выборе работника, так как моя маленькая Руфь часто гуляет по саду, и она может случайно увидеть что-нибудь непристойное, а я этого вовсе не желаю.
— Все твои приказания будут исполнены в точности, мой благородный господин! — ответил Бенони с низким поклоном и отправился на рынок.
Остановившись на рынке на видном месте, он объявил, что ищет молодого парня для работы в саду его господина, досточтимого Иаира. Вскоре вокруг него собралась уже целая толпа молодых людей, желавших получить место, но своим опытным взором управитель сразу же нашел, что все они не подходят к делу.
Совершенно случайно невдалеке от этого места стояли Стефан с Титом, занимаясь продажей своей рыбы. Продавал, по обыкновению, Тит, а Стефан задумчиво смотрел на пеструю толпу, теснившуюся на рынке. Мир, доселе неизвестный ему вследствие его болезни, теперь с каждым часом представлял ему все новые и новые картины, сменявшиеся как в чудном калейдоскопе. Мощная фигура Бенони немедленно же бросилась ему в глаза, и он с живым интересом следил за всеми его движениями. И как только Тит закончил свою торговлю рыбой, Стефан схватил его за руку и, взглядом указывая на Бенони, шепнул:
— Смотри, вон тот человек хочет нанять себе молодого человека для работы. Предложи ему свои услуги. Ведь ты мог бы, по крайней мере на время, избежать общества отца и его шайки.
Тит посмотрел по указанному Стефаном направлению.
— Да ведь это еврей! — произнес он, вглядываясь в Бенони. — Ну, уж к нему-то я ни за что не пойду в услужение!
— Да ты не раздражайся, Тит, а рассуди хорошенько, — продолжал убеждать его Стефан. — Ты, по крайней мере, хотя бы переговори с ним!
Через минуту оба юноши стояли уже перед Бенони, и Стефан, видя, что Тит угрюмо молчит, произнес:
— Мы слышали, что ты ищешь себе молодого прислужника?
— Совершенно верно! Только ты для меня еще слишком молод, — сказал Бенони. — Вот если бы ты был таким же, как этот парень, — указал он на Тита, — тогда ты, разумеется, в состоянии был бы служить в саду моего господина, благородного Иаира.
— В чем же должна заключаться работа? — спросил Тит, которому давно хотелось посмотреть тот величественный дворец Иаира, о котором так часто говорила юношам Приска и который всегда был скрыт от посторонних глаз высокими стенами.
— Я уже сказал, что главные занятия будут в саду, и заключаться они будут в том, чтобы поддерживать в нем порядок: подметать дорожки, следить, чтобы не топтали траву, и прочее.
— Мне кажется, все это я мог бы исполнять, — скромно проговорил Тит. Он уже сам теперь вполне ясно сознавал, что ему во что бы то ни стало необходимо уйти от отца.
Бенони, приписав первоначальную нерешительность Тита одной его скромности и оставшись совершенно довольным его внешним видом, после непродолжительного расспроса заключил сделку, с тем, однако, условием, чтобы Тит в тот же день принялся за новую работу…
* * *
Стефан, оставшись один, долго еще смотрел на удалявшихся Бенони и Тита. Горькое чувство одиночества охватило внезапно все его существо. Ему казалось, что никогда уже больше не могут повториться те драгоценные часы, которые он проводил с Титом на озере, их продолжительные прогулки по полям и лесам, их вечерние беседы на кровле дома.
«Лучше бы я совсем не видел этого управителя», — думал он про себя. В один момент ему даже хотелось догнать Тита и упросить его снова вернуться домой, но через несколько минут мысли Стефана уже приняли другое направление. «Нет! Я должен радоваться, что он ушел, для него это необходимо! Научусь сам управлять лодкой, мне ведь уже пятнадцать лет и сил у меня не меньше, чем у моих сверстников. Матери нужна моя помощь. Теперь Тита не будет дома, и я должен его заменить!»
Погруженный в такие думы, он быстро зашагал по направлению к своему дому, чтобы известить Приску обо всем случившемся.
Тем временем Тит и Бенони успели уже достигнуть Иаирова дома. Это было массивное четырехугольное здание из дикого, довольно грубо отесанного камня. Окон в нижнем этаже совсем не было, зато с каждой стороны дома в стенах была большая входная дверь или, вернее, ворота. Тит и его спутник очутились в сводчатом коридоре, по которому они вышли вскоре во двор.
Вспомнив рассказы Приски, Тит понял, что они находились на так называемом служебном дворе. В середине двора находился колодец, по бокам шли стойла для лошадей и мулов, а на противоположной стороне все свободное пространство занимали необходимые в каждом благоустроенном хозяйстве печи и мельницы.
Двор этот представлял чрезвычайно оживленную картину. Все, казалось, здесь находились в самом приятном настроении духа: мужчины за чисткой лошадей смеялись и громко разговаривали друг с другом, а женщины и девушки собирались в кучку у колодца и мирно беседовали. Когда они вошли во двор, все оглянулись на них и с любопытством начали рассматривать нового товарища, а одна девушка, по-видимому, любопытнее всех, подбежала к Бенони и с легким поклоном заговорила:
— А вот и наш Бенони пришел! Госпожа поручила мне отослать тебя к ней, как только ты вернешься. Ты слышал, что на будущей неделе мы все отправляемся на праздник в Иерусалим? Я лично очень этому рада. В Иерусалиме на празднике будет, конечно, веселее, чем в нашем скучном Капернауме.
— Постой, постой! — строго сказал Бенони. — Что это у тебя язык сегодня точно ручей? Ты вот лучше позаботься-ка, чтобы этому молодчику дали чего-нибудь поесть, пока я хожу к госпоже. Я скоро вернусь и потом отведу тебя в сад, — прибавил он, обращаясь к Титу, — и ты должен сегодня же приняться за работу.
— Да, да, чтобы закончить работу до возвращения господина, — заметила Марисса, так звали девушку, насмешливо улыбаясь, — а то со вчерашнего дня, наверное, нанесло целые кучи листьев на дорожки и траву.
Но Бенони уже не слышал ее замечания и быстро скрылся за одной из дверей дома. Девушка оборотилась к Титу и, осмотрев его с ног до головы, заговорила опять:
— Сегодня наш господин опять говорил о чем-то с Бенони, и Бенони сказал, что нужно будет нанять нового работника в сад. Я случайно услышала их разговор об этом, когда сидела с шитьем на террасе. Твоя работа будет — расчищать дорожки в саду и снимать сухие листья с цветочных кустов. Разумеется, если только хватит у тебя сил для такой «трудной» работы, — прибавила она, лукаво улыбаясь.
— Расчищать дорожки и подрезать сухие листья вовсе не трудно, — в сердцах возразил Тит, заметно покраснев в лице.
— Ну вот, уже и рассердился. У, какой ты! — укорила девушка. — Ты должен только радоваться, что получил такое хорошее местечко. На это местечко многие бы согласились! Бенони наш очень добрый человек, ты сам в этом скоро убедишься. Правда, немного глуповат, ну да это не беда. Пойдем, я тебе дам чего-нибудь поесть и покажу наше хозяйство.
Вскоре Тит убедился, что Марисса говорила ему правду: его работа была легкая и приятная, и, кроме того, он всегда находил все новые и новые предметы для своей живой любознательности. Несколько раз он имел случай видеть хозяйку дома, когда она в своем длинном со шлейфом платье выходила на террасу, а маленькая Руфь, девочка лет двенадцати, ежедневно играла в тенистых аллеях сада. Но дороже всего для Тита было то, что Бенони, узнав, как искусно владеет он лодкой и неводом, стал иногда поручать ему доставлять рыбу для господского стола. В этих случаях Тита всегда сопровождал Стефан, и оба они по-прежнему могли вместе проводить на озере по нескольку драгоценных часов.
— Теперь я некоторое время не увижу тебя, — сказал однажды Тит во время одной такой ловли Стефану. — Сегодня утром управитель Бенони объявил, что все семейство хозяина завтра отправится в Иерусалим, и многие из нас, слуг, тоже должны будут идти с ними. Мне придется вести мула, на котором поедет маленькая Руфь. Марисса говорит, что в Иерусалиме мы остановимся во дворце первосвященника, так как наша госпожа — родная сестра жены Каиафы, первосвященника.
— Ты увидишь, значит, много интересного, — задумчиво произнес Стефан, без всякого оттенка зависти. — Как я рад, что научился уже один управлять лодкой. По крайней мере, в твое отсутствие у меня не будет никаких препятствий продолжать наше обычное занятие.
— Да, теперь-то ты превосходно умеешь обходиться с лодкой, — не без некоторого самодовольства сказал Тит, — но возьми во внимание, что ты еще ни разу не испытал бури, а она иногда разражается так внезапно и с такой силой, что таким «опытным» рыбакам, как ты, не трудно и ко дну пойти! Ты не вздумай отправиться на озеро, когда ветер дует не с той стороны, с которой я тебе указывал. Еще больше остерегайся выходить ночью, даже если в лодке вместе с тобой будет кто-нибудь еще. Самое лучшее время для тебя — рассвет.
— Учитель и ученики Его тоже пойдут в Иерусалим. И многие другие с Ним, — проговорил Стефан через несколько минут и затем добавил:
— Ты помнишь, конечно, Вениамина, который был расслабленным и которого Учитель исцелил. Так вот, два дня назад я встретил его, когда он выходил из синагоги. Он узнал меня и стал настойчиво упрашивать, чтобы я шел с ним домой. Он хотел научить меня читать по-еврейски, чтобы я не был язычником и мог сам читать Священное Писание. С этой целью он вручил мне пергаментный свиток, который он сам изучал, когда был таких же лет, как я. Он читал его, лежа на одре своей болезни, будучи не в состоянии даже пошевелиться. Он научил меня читать один псалом. Хочешь послушать?
Тит кивнул головой в знак согласия, и Стефан громко и отчетливо начал: «Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною; Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена. Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни!»[3].
— Не правда ли, какой чудесный псалом? — спросил Стефан. — И у них много таких, и я их все выучу наизусть. Вениамин говорит, что нужно также изучать Закон, но он мне не так нравится, слишком уж много там запрещений, все их не запомнишь.
— А ведь ты, пожалуй, чистейшим фарисеем станешь, — заметил Тит не без горести, — и я вижу, что ты уже пришил к своему платью широкие кисти и на лбу стал носить повязку, как фарисей.
— Да нет же! – скромно возразил Стефан. – Я во всем хочу подражать Учителю, и я уверен, что Он не фарисей!
— Знаешь что, Стефан, — проговорил Тит после небольшой паузы, во время которой они спускали в воду свою сеть, — псалом, который ты мне прочел сейчас, показался мне чрезвычайно знакомым, как будто я слышал его уже бесчисленное множество раз и затем снова забыл. Мне иногда еще кажется, что когда-то, будто во сне, я видел и чей-то дом, подобный дому Иаира…
— Просто ты так часто слышал рассказы матери о богатом доме, где она жила в молодости, вот тебе и кажется, что ты сам когда-то все это видел, — заметил Стефан.
— Ну, а псалом-то как же мог быть мне известен? — спросил Тит. — Разве мать пела так его когда-нибудь…
И он начал медленно, размеренным речитативом петь псалом. После нескольких строк он прервал псалом восклицанием: «Забыл немного!»… и погрузился в глубокое молчание, несмотря даже на то, что Стефан продолжал еще без умолку говорить, не обращая внимания на своего рассеянного слушателя.
Глава 11. Путешествие Иаира в Иерусалим
Утро только началось, на небе не успели еще погаснуть ночные звезды, а на обширном дворе дома Иаира уже наблюдалось большое оживление: слуги то и дело сновали взад и вперед с громкими криками, погонщики выводили мулов и нагружали их узлами и коробами, целыми грудами лежавшими на гладко вымощенном подъезде. Посредине двора стоял Бенони, совершенно спокойно и с некоторым достоинством дававший слугам свои распоряжения и выговоры. Когда вьючные животные были нагружены и выведены за ворота на улицу, Бенони приказал оседлать лошадь и вывести мулов для самого хозяина и его семейства.
— Время-то проходит незаметно, — говорил он слугам, — живее, живее, дети! До полудня мы должны сделать целый переход!
Вскоре был выведен из конюшни великолепный арабский скакун. По его большим темным глазам, маленькой голове и стройным, тонко очерченным членам сразу же можно было догадаться о его благородном происхождении. За лошадью погонщики вели несколько крупных, гладко вычищенных скребницами мулов, увешанных всевозможными украшениями. После этого Бенони отправился в дом сообщить хозяину, что все готово к отъезду, и вскоре вышел в сопровождении самого Иаира, супруги его, благородной Сарры, маленькой Руфи и нескольких служанок, несших различные ковры и покрывала.
— Я так рада, что мы наконец едем! — воскликнула маленькая Руфь. — Ах, вот и моя милая старая Бека!
И с этими словами девочка ласково потрепала белую как снег морду своего любимого мула, стоявшего несколько в стороне от других.
— Ну постой же, душенька, — ласково остановила ее мать, — пусть Бенони подсадит тебя в седло.
Но в это время Тит ловко поднял девочку и усадил ее на спокойное животное.
— Смотри, мама, Тит умеет сажать даже на седло, — радостно говорила Руфь. — Я рада, что ты поведешь мою Беку, — продолжала она, гладя ручкой лоснящуюся шею животного, — мы будем с тобой дорóгой разговаривать, по крайней мере. А то в последнюю поездку мою Беку вел старик Аза и, сколько я с ним ни пробовала говорить, он ни одного моего слова не понял, потому что он глухой.
Тит улыбнулся и ничего не сказал.
Сказать поистине, он чувствовал себя смущенным в присутствии этой девочки, которая своими проницательными темно-карими глазами, золотистыми вьющимися волосами походила на существо какого-то другого мира.
Наконец, все было готово и караван медленно двинулся в путь. Бенони облегченно вздохнул, отер с лица пот и, сказавши еще несколько слов своему помощнику, который в его отсутствие должен был смотреть за домом и оставшимися слугами, вскочил на лошадь и галопом присоединился к остальным всадникам.
Руфь рядом с Мариссой ехала за своей матерью. Впереди них ехал Иаир с толпой вооруженных слуг, а за ними тянулись погонщики с различными навьюченными животными, нагруженными разными дорогими подарками к празднику, дорожными палатками, провизией и вообще всем, что было необходимо для путешествия.
Как ни было еще рано, город кипел уже полною жизнью, и караван, пробираясь по улицам, естественно обращал на себя внимание каждого встречного.
Супруга Иаира плотнее закуталась в вуаль и приказала Руфи сделать то же самое. Девочка обвела вокруг своими блестящими глазками и с видимым неудовольствием исполнила приказание матери.
К своему изумлению, Тит на углу одной из улиц увидел внезапно Стефана, который вместе с другими стоял с сетями на плечах и смотрел на проходивший караван. Увидев Тита, он даже покраснел от волнения и, подняв кверху пойманную рыбу с очевидным намерением показать ее Титу, крикнул ему вслед:
— Прощай, Тит! Да хранят тебя боги!
— Кто этот юноша? — с любопытством спросила Руфь. — И почему он говорит «да хранят тебя боги», как будто их существует несколько?
— Это мой брат Стефан, — ответил Тит, — а говорит, что боги… это потому, что с малолетства привык к таким выражениям. Ведь мы родом греки.
— Полно, Тит, — возразила девочка, — я много видела греков, и ты совсем не похож на них; у тебя черты чистокровного еврея, и ты напоминаешь мне чье-то знакомое лицо, но вот чье только, не могу вспомнить сейчас. Расскажи мне что-нибудь о своем брате, ты его, кажется, назвал Стефаном?
— О, я могу рассказать о нем нечто чрезвычайное. Ведь он был у нас калекой и не мог владеть ни одним членом своего тела, пока не исцелил его Иисус, Великий Чудотворец! Теперь он, как видишь, так же здоров и крепок, как и другие юноши, хотя он до сих пор еще сохранил детское, нежное выражение лица. Мне, по крайней мере, так кажется, — прибавил Тит скромно.
— Да, да, конечно, — произнесла Руфь с оттенком нетерпения. — Но неужели он действительно совсем выздоровел и может бегать и прыгать, как другие? Расскажи же мне, как это произошло. Только, пожалуйста, подробнее!
Тит начал рассказывать со всеми подробностями историю исцеления Стефана и маленького Гого. Руфь слушала внимательно, лишь изредка перебивая рассказ своими вопросами.
— Да, это хорошая история! — воскликнула она по окончании рассказа, захлебываясь от восторга.
— Я точно видела Этого Назарянина, — прибавила она после небольшой паузы. — Мне кажется, Он самый великий Человек, самый красивый, самый добрый во всем свете! Мне очень хотелось поговорить с Ним хотя бы раз, но мать мне этого не позволяла, потому что около Него всегда так много народу!
В это время караван вышел уже из черты города и начал подниматься на небольшой, но крутой отрог гор, которые со всех сторон окружало красивое Геннисаретское озеро.
На дороге часто попадались довольно крупные камни, и Тит должен был напрягать все свое внимание, чтобы провести мула по более удобным тропинкам. Заботливая мать несколько раз оглядывалась назад, чтобы посмотреть на свою крошку, и всякий раз при этом слышала ее веселый смех.
Через час вершина холма была достигнута и караван остановился на несколько минут, чтобы отдохнуть после трудного подъема.
Взорам путников представлялась прелестная картина: на тысячу футов ниже их расстилалась зеркальная поверхность огромного озера, на котором кое-где виднелись пестрые паруса судов. Спускавшийся террасой к озеру холм покрывали блиставшие яркой зеленью деревья, кое-где виднелись живописно расположенные деревушки, а далеко на горизонте сияла снежная вершина горы Ермон.
— «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя»[4], — тихо произнесла Сарра.
Для Тита наступили теперь счастливые дни. При его крепком телосложении путешествие не могло причинить какого-нибудь вреда его здоровью и даже не влекло за собой особенной усталости.
А между тем, постоянная смена впечатлений, новизна обстановки, живописные вечерние костры на ночевках, а главное — все увеличивающаяся привязанность к нему маленькой Руфи служили для него источником неисчерпаемых, неведомых ему раньше наслаждений. Все, что могло огорчать его молодую жизнь, осталось далеко за ними, и его душа все больше и больше открывалась для новых впечатлений окружающей его среды.
На четвертый день пути стала уже заметна близость Священного города, так как все чаще и чаще стали попадаться на пути караваны богомольцев и большие стада овец и быков, предназначенных для праздничных жертвоприношений.
Многие из богомольцев пели на ходу священные песнопения, и ветер далеко разносил по долинам отрывки этих песнопений:
«Вот стоят ноги наши во вратех твоих, Иерусалиме. Иерусалиме, устроенный как город, слитый в одно, куда восходят колена, колена Господа, по закону Израилеву славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова.
Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя! Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих…»[5]
Глава 12. Семья Иаира и Каиафы
— Говорю тебе, что нельзя дальше терпеть подобные вещи. Этот Человек с каждым днем изрыгает все новые богохульства, — сказал сердито Каиафа.
Он беспокойно шагал взад и вперед по кровле своего дворца, а его собеседник и гость, Иаир, полулежал невдалеке от него на мраморной скамье. В некотором расстоянии от мужчин сидели сестры и безмятежно наслаждались свиданием после долгой разлуки. А маленькая Руфь, опершись локтями на перила, с изумлением смотрела своими большими детскими глазами на чудную панораму священного города, расстилающуюся перед ее взором.
— Ты ведь слышал, как Он выразился сегодня по поводу так называемого исцеления хромого при купальне Вифезда: «Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Под Сыном Он разумеет, конечно, Себя Самого. А дальше Он сказал: «Дабы все чтили Сына, как чтут Отца». Как тебе нравятся эти слова? Затем Он начал говорить об Иоанне, которого недавно заключили под стражу. «Есть другой, — говорил он, — свидетельствующий обо Мне. И Я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует обо Мне».
— Действительно, Он говорил все это, — ответил Иаир, который до сих пор лишь молча слушал речь Каиафы. — Но Он сказал еще и нечто другое: «Я имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною творимые, свидетельствуют обо Мне, что Отец послал Меня!» При своем суждении об Этом Человеке ты совершенно оставляешь без внимания те чудесные исцеления, которые Он совершает ежедневно. Что ты можешь сказать, например, против такого исцеления, как исцеление, совершенное над человеком, по достоверным известиям, пролежавшим 38 лет на одре болезни, не будучи в состоянии владеть своими членами? А Назарянин совершенно исцелил его одним только словом Своим!
— Да, все это так. Но ты заметь, — с жаром произнес Каиафа, — что все это происходит в субботу. В субботу Он исцеляет, говоря: «Встань, возьми одр твой и иди в дом твой». Как тем, что Он исцелил его, так и тем, что что Он приказал ему взять на плечи свой одр и идти домой, Он преступил Закон. Он виновен поэтому в богохульстве, так как все это происходит в благословенную субботу. А знаешь, какому наказанию за это Он должен подвергнуться?!
Ни один из собеседников не заметил, как маленькая Руфь незаметно подошла к ним и с боязливым личиком следила за их разговором, пока сама не обратилась к Каиафе с вопросом:
— Ты говоришь об Иисусе Назарянине, дядюшка Иосиф?
— А почему же ты об этом спрашиваешь, душенька? — тихо спросил Каиафа, ласково кладя свою руку на золотистую головку девочки.
— А потому, дядюшка, что я знаю Его и часто видела Его, — ответила девочка, — и если Он действительно Сын Божий, как Он утверждает, то неужели же Он не имеет права исцелять в субботу, ведь суббота установлена Его же Отцом! — с жаром высказалась девочка.
— Дитя рассуждает справедливо, — с нескрываемой гордостью заметил Иаир, — и я тоже хотел предложить как раз этот же самый вопрос.
— А я прямо бы ответил на это, что Он говорит богохульные речи и что вся Его деятельность есть богохульство, — возразил Каиафа, — так как мы хорошо знаем, что Он Сын простого плотника, и даже Сам Он плотник и еще недавно зарабатывал Себе хлеб трудами рук Своих. Он родом из Назарета, а разве может что-то доброе выйти из Назарета?
— Но, дядюшка, — продолжала девочка, — как же Он мог творить такие чудеса, если бы Бог не был с Ним?
— Что бы ни говорили о Нем, я все-таки люблю Его! — продолжала она в волнении и, не дождавшись ответа на свой вопрос, закончила: — Я твердо уверена, что Он Тот, за Кого и выдает Себя, что Он есть Сын Божий.
— Успокойся, доченька, — ласково начала ее унимать Сарра, — девочкам твоего возраста совсем не прилично спорить со своим дядей о таких предметах. Не забывай, что он первосвященник в святом храме Божием. Пойдем со мной, тебе уже пора спать.
С этими словами Анна и Сарра удалились, ведя за собой расплакавшуюся Руфь.
Когда шум шагов и шелест платьев спускавшихся по лестнице женщин затихли, Иаир обратился к Каиафе, который молча смотрел на облитые ярким румянцем вечерней зари башни и стены священного храма:
— Брат мой! Мне кажется, настало время тяжелой ответственности для начальников всего народа. Если то, что высказала моя дочь сейчас, — истина (а я в этом почти не сомневаюсь), то не ужасным ли будет преступление, если мы отвергнем Помазанника Божиего?!
Каиафа несколько минут молчал, потом медленно повернулся лицом к Иаиру и с серьезным видом произнес:
— Ты — богобоязненный человек и брат мой! Не будем же лучше продолжать разговор об этих вещах, чтобы нам окончательно не разойтись с тобою во мнениях. Скажу только тебе раз и навсегда, ясно и определенно: по моему рассуждению, Этот Человек заслуживает смерти, и Он умрет, так как лучше одному человеку умереть, нежели всему народу погибнуть. И, сказав эти пророческие слова, он слегка задрожал и взглянул на небо.
Тем временем Сарра и Анна укладывали в постель маленькую Руфь в одной из прохладных горниц дворца. Девочка, склонившись около матери на колени, прочитала несколько молитв и псалмов и спокойно улеглась на великолепную кровать с резными ножками и золототканым пурпуровым пологом.
— Расскажи мне, мама, какую-нибудь историю, — начала она упрашивать мать. — Вот, например, о Давиде и великом Голиафе, ну пожалуйста.
Мать словами Священного Писания начала рассказывать дочери хорошо знакомую ей с детства историю.
— Это одна из моих самых любимых историй, — воскликнула девочка, когда мать окончила рассказ. — Я очень хотела бы посмотреть на маленького Давида, когда он встал ногой на грудь Голиафа и отрубил огромным мечом его старую, безобразную голову.
На минуту она погрузилась в свои мысли, как бы желая представить себе эту картину, а потом живо продолжила опять:
— А знаешь что, мама, я думаю, что Давид был похож на нашего Тита — слугу!
— Разве это возможно, милая? — возразила мать. — Ведь ты знаешь, что Тит наш родом грек!
— Да, я это знаю, но я часто ему самому говорю, что он не грек, потому что у него не греческие черты лица. Ну скажи сама, мама, — разве он со своим смуглым лицом, орлиным носом и большими блестящими глазами не напоминает еврейского мальчика? Лицо у него, как… как… А… я поняла! Лицо у него, как у дяди Иосифа!
При этом от возбуждения девочка даже поднялась с постели.
— Дитя мое, — произнесла мать ласково, но твердо, — что с тобой сегодня? Ляг опять на подушку и спи, а то тебе в голову лезут разные глупости и бессмыслицы. Я посижу тут недалеко от тебя на террасе, но ты должна дать мне обещание вести себя смирно и спокойно лежать в постели!
— Кто этот юноша, о котором говорит твоя девочка? — спросила вдруг Анна, когда обе сестры вышли из спальни и уселись на террасе.
— Это один молодой человек из Капернаума, которого недавно наш верный Бенони нанял для работы по саду. Интересно то, что моя дочурка сразу же почувствовала к нему большую симпатию и упросила меня назначить его проводником ее мула. Он действительно, кажется, добрый и честный, хоть и грек по происхождению, как я слышала. В последнее время Руфь, вероятно, много волновалась, оттого она и мелет такую чепуху. Надо будет мне постараться найти для нее какое-нибудь полезное занятие.
— Я видела этого юношу, и мне он тоже очень понравился, — задумчиво произнесла Анна. — Ты точно знаешь, что он по происхождению грек?
— Да, хорошо знаю, — ответила Сарра. — По просьбе Руфи я лично через Бенони разузнала о нем. Его отца зовут Думахом.
Угадав мысли сестры и желая дать им другое направление, она начала говорить на другую тему:
— Ну вот, теперь мы одни, и я расскажу тебе все, что узнала об учении Этого Назарянина. Я уже давно хотела поближе познакомиться с Его учением, о Нем ведь ходят различные слухи, так что не знаешь, чему и верить. И вот, когда мы узнали, что Он находится на пути в Тивериаду, мы с мужем немедленно собрались и в сопровождении одного только Бенони, чтобы не привлекать внимания народа, отправились на мулах за Ним. Через некоторое время мы встретили толпу народа, двигающуюся в том же самом направлении. Все они ни о чем ином не говорили, как только о чудесах и исцелениях, совершенных Иисусом. Среди толпы Бенони указал нам нескольких людей, которые были исцелены Им. Примечательно, что Бенони тоже очень заинтересован Этим Человеком. Наконец, мы узнали, что Иисус находится в Гаттине; ты, конечно, припоминаешь это место? Это деревушка в двух часах пути от Капернаума, у подножия горы с двумя вершинами, она и называется поэтому рогами (Гаттина). Из нашего дома в Капернауме ясно можно видеть эту гору. Прибывши в Гаттину, мы увидели большую толпу народа из разных слоев общества, собравшуюся сюда из разных мест. На наш вопрос, где Назарянин, нам ответили, что Он находится наверху горы и что с Ним беседуют сейчас избранные Его ученики. Через некоторое время мы увидели Его спускающимся с горы вместе с учениками, и немедленно же Его окружила толпа ожидавших Его людей, особенно те, которые принесли с собой больных и ждали от Него исцеления. Нам с Иаиром не удалось пробраться к Нему поближе, и мы не видели, какими болезнями страдали принесенные больные, но, судя по особенному возбуждению толпы, громким крикам радости и благодарности и торжественным возгласам «Аллилуйя!», мы заключили, что все больные без исключения были исцелены Иисусом. Между тем, мы все еще старались протиснуться сквозь толпу, и, наконец, нам удалось настолько приблизиться к Назарянину, что мы ясно слышали Его речь. Он сидел на выступе скалы и, когда обращал Свой взор на окружающую Его толпу, лицо Его имело такое необыкновенное выражение, что живо напоминало о небесных ангелах, о которых говорится в Священном Писании. Через несколько времени Он начал говорить… О, Анна! Я хотела бы тебе передать каждое Его слово, если только буду в состоянии это сделать! Речь Его дышала неземной мудростью. Кажется, если бы явился сам законодатель Моисей и спустился прямо со священной Синайской горы, то и Он не мог бы говорить с такой силой! Иисус начал с провозглашения блаженств. К сожалению, я не могла их запомнить все, но одно из них произвело на меня особенно сильное впечатление и потому удержалось в памяти. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся», — говорил Он. Он называл блаженными кротких, милостивых, чистых сердцем и тех, кто ради Христа будет терпеть поношения и даже изгнание. «Блаженны вы, — сказал Он, взглянув на учеников Своих, — когда возненавидят вас люди из-за Меня, когда они будут преследовать вас неправедно. Радуйтесь и веселитесь, ибо награда ваша велика будет на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы — свет мира. Не может город укрыться, стоя наверху горы, и не зажигают светильник и не ставят его под сосудом, но на подсвечник, чтобы он светил всем, находящимся в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Ср. Мф. 5:11-16 — ред.).
— Потом я слышала, — продолжала Сарра, — как Он говорил ученикам Своим, что Он вовсе не имеет намерения разрушить закон или пророков, но что, напротив, Он хочет исполнить их и что не пропадет одна малейшая черта в законе, пока все не будет исполнено. И дальше учил: «Необходимо, чтобы наша праведность превосходила праведность книжников и фарисеев. В противном случае мы не сможем войти в Царствие Небесное!». Затем Он стал подробнее говорить о законе и указывал на то, что всякий, кто без основания гневается на брата своего, так же преступает закон, как и убийца, что кто живет в ссоре с другими, тот не может приносить жертвы Богу, и не нужно противиться силою тому, кто прибегает к насилию, но, наоборот, нужно постыдить его своим великодушием. Он говорил, что мы должны любить не только друзей наших, но и ненавидящих нас и причиняющих нам зло, если мы желаем быть детьми Отца нашего Небесного. Мы должны молиться за врагов наших, потому что Отец Небесный велит восходить солнцу над злыми и добрыми, над праведниками и грешными. И, если мы оказываем приязнь только друзьям нашим и делаем добро только тем, кто сам делает нам добро, мы поступаем нисколько не лучше язычников. Одним словом, мы должны стараться быть такими же совершенными, как совершенен Отец наш Небесный. «Берегитесь, — говорил Он дальше, — раздавать милостыню вашу перед людьми, с тем чтобы они вас видели, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Милостыня, сделанная втайне, а не на глазах людей, будет вознаграждена явно». Также Он осуждал лицемерную молитву…
— Ты ведь знаешь, — с волнением говорила Сарра, — как иногда молятся наши книжники и фарисеи на глазах у всех, и я часто, признаюсь, сомневалась, действительно ли они отдают отчет своим действиям, стоя на молитве на углу улиц. Назарянин объяснил, что они делают это только для того, чтобы их видели и прославляли окружающие. Но такая молитва, говорит Он, не может приносить им никакой пользы. «Если ты хочешь, чтобы молитва твоя была услышана и исполнена, то войди в комнату твою, и затвори за собой дверь, и там помолись Отцу Небесному втайне! И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Молясь же, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Господь, в чем нужда ваша, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же вы так: “Отче наш, Сущий на небесах! Да святится Имя Твое! Да приидет Царствие Твое! Да будет воля Твоя и на земле, как на небе! Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наша, как и мы прощаем должникам нашим! И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого! Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь!”».
— Прелестная молитва! — воскликнула Анна, радостно блеснув глазами. — Его учение совершенно отлично от того, какое известно было нашему народу, с тех пор как Моисей вывел его из Египта. И не правда ли, Его учение как бы запечатлено истиной?
— Да, и мне так кажется, — ответила сестра.
— Расскажи еще что-нибудь, Сарра, я совсем не устала слушать! Мне кажется, я не наслушаюсь вдоволь твоих речей.
— Я боюсь, что не сумею рассказать тебе все по порядку, но я всe-таки постараюсь передать тебе хоть отрывочно Его учение. Он советовал, например, не собирать земных сокровищ, так как они легко уничтожаются молью и ржавчиной и похищаются ворами. И все ведь это сущая правда, дорогая Анна!
— Да, конечно, — проговорила Анна со вздохом, вспомнив о том драгоценном ожерелье, которое у нее украли воры.
— Собирайте себе сокровища на небе, — продолжала Сарра, — там ни моль, ни ржа не истребляют и воры не подкапывают и не крадут. И не заботьтесь о завтрашнем дне, потому что Отец наш Небесный знает Сам, что вы имеете нужду и в пище, и в одежде, и в кровле. Если Он одевает лилии полевые, которые вовсе не трудятся, то может ли Он забыть о детях Своих?
— Прежде всего, — с волнением говорила Сарра, — и главнее всего нужно искать Царствия Божия и правды Его, а прочее же все дано будет нам! Не судите, говорит Он еще, потому что мы часто сами имеем больше грехов, чем другие, и как мы судим теперь наших ближних, так будут судить когда-нибудь и нас. Бог гораздо милостивее и щедрее к детям Своим, когда они молятся Ему, чем земные родители к своим детям. Поэтому, если мы будем нуждаться в чем-нибудь, мы должны просить об этом только Отца нашего Небесного, и, если это нужно нам для истинного блага, мы, несомненно, получим просимое. И если мы хотим исполнять Закон и пророков, — заметь, какая замечательная у Него мысль, — мы должны поступать с другими так, как хотели бы, чтобы поступали с нами. Заключительные слова Его привели нас в изумление, так как в них Он ясно открыл, что Он от Бога послан! «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: “Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?”. И тогда объявлю им: “Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие”. Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое». И, когда Он окончил эти слова Свои, громкий крик изумления вырвался у всех! И действительно, Анна, властная была Его речь! Жаль только, что я не смогла, наверное, тебе передать ее точно. Впрочем, ты сама можешь послушать Его здесь!
— Да, да, мне очень хотелось бы послушать Его! — задумчиво произнесла Анна и затем, понизив голос, прибавила: — Ты знаешь, что думают о Нем мой супруг и наш отец? Поэтому для меня мало остается надежды услышать Его.
— Да, я уже все знаю и жалею тебя, — печально промолвила Сарра.
Глава 13. Болезнь дочери Иаира
Тихо насвистывая какую-то мелодию, Тит крепко привязывал длинные ветви дикого винограда к шпалерам. Работа эта была не из легких, и, когда он окончил ее, на его открытом лбу виднелись крупные капли пота, а лицо его от сильного напряжения стало почти багровым. Медленными шагами он подошел к фонтану, сел на край его мраморного бассейна и в изнеможении опустил свои руки в холодную воду. «Что за благодать эта водица», — тихо говорил он про себя, быстрыми движениями сбрасывая с рук капли воды. Вытерши руки о полу своей одежды, он с видимым удовольствием посмотрел в сторону сада.
С самого раннего утра он работал здесь без устали, и ни на минуту не дал себе отдыха. Теперь его взор быстро перебегал от тенистых, содержащихся в чистоте аллей сада к мягкой, шелковистой траве, к кустам прелестных цветов и к живописным гирляндам дикого винограда.
— Ну, теперь, кажется, все в порядке, — произнес он вслух и тут же подумал: «Как-то это покажется Бенони? Глаза у Бенони орлиные, и он сразу же замечает малейший беспорядок».
В этот момент под одной из мраморных скамеек сада Тит заметил какой-то пестрый предмет. Он быстро наклонился и поднял его с земли. Найденный предмет оказался детским мячом, окрашенным в голубую, розовую и желтую краски.
— Где же это сегодня наша маленькая госпожа? — произнес он, вертя мяч в руках и с улыбкой осматриваясь по сторонам.
— А вот и Марисса, — увидел он и окликнул показавшуюся девушку.
Марисса быстро проходила по двору с пустым жбаном в руках. Услышав голос Тита, она остановилась и повернулась к нему лицом. Подойдя к ней поближе, Тит сразу же заметил, что она была против обыкновения слишком серьезной.
— Вот мячик, который, должно быть, потеряла маленькая барышня, — обратился он к Мариссе, — не передашь ли ты его ей? Я бы и сам мог передать, да сегодня ее что-то не видно в саду.
— Она больна, — ответила Марисса. — Госпожа послала уже за лекарством, а я вот спешила за горячей водой.
Тит раскрыл дверь, соединяющую между собой внутренний и внешний дворы, и пошел за Мариссой.
— Что же сделалось с ребенком? — спросил он участливо, когда Марисса стала наливать в свой жбан воду из кипящего котла.
— Да мы и сами точно не знаем, — ответила Марисса. — У нее лихорадка, и еще она жалуется на головную боль. Ей стало нездоровиться тотчас же после приезда из Иерусалима.
— А где же сам господин?
— Да и он тоже около нее, и мать, и старушка Тавифа, все там. Тавифа с самого детства привыкла ходить за больными, я уверена, что она больше лекаря понимает насчет разных болезней. Мне страшно становится, как подумаю, что маленькая девочка должна будет принимать разную стряпню этих лекарей. Помню, когда я лежала в лихорадке, так они давали мне пить скорпионовую кровь пополам с вином. Но я не стала принимать эту гадость, и, как только мне ее принесли, я взяла да и вылила ее на пол: пусть, думаю, лучше пропадет лекарство, чем пить такую пачкотню!
С этими словами она быстро подняла свой жбан с водой и так же быстро удалилась, предоставив Титу сообщить печальную весть о внезапной болезни маленькой Руфи другим слугам, успевшим уже собраться вокруг них целой толпой. Удовлетворив их любопытство, Тит поспешил оставить их шумное общество; их мрачные предсказания и многозначительные покачивания головами приводили его в отчаяние.
— Точно стадо баранов, — бормотал он про себя. — Только и умеют охать да головами качать. И что за оханье и бестолковая беготня, и дела-то никакого нет, болен ли ребенок или здоров.
Отзываясь так неодобрительно об этих людях, Тит был далеко не прав, и он сам хорошо знал, что ни одного человека нет в доме, который бы не любил маленькую Руфь. Расхаживая в беспокойстве по двору, он вдруг заметил, что двери, ведущие на улицу, отворены, и через несколько минут он почти бессознательно очутился за дверью. Не отдавая себе отчета в своих поступках, он задумчиво направил шаги к тому месту, где был его родной дом.
— Хорошо бы сегодня увидеть Стефана! — говорил он дорóгой.
А маленькая Руфь, между тем, неспокойно ворочалась на своей постельке в одной из комнат, выходивших на внутренний двор.
— Мамочка, мамочка, моя голова! — беспрестанно говорила она.
И с болью в сердце мать видела, как лихорадочная краска постепенно выступала на щеках ее дочери и неестественным блеском горели запавшие глаза.
Добродушная старуха Тавифа стояла подле кровати и время от времени мочила в воде кусок сложенной в несколько раз ткани, которой был обложен пылающий лоб больной девочки.
— Нужно кровь от головы отогнать! — говорила при этом умудренная долголетним опытом старуха. — Эх, нужно бы дать ей настоящего лекарства; одной водой тут не поможешь.
Пока она говорила последнюю фразу, доложили о прибытии лекаря. В комнату больной через несколько минут вошел высокий длиннобородый мужчина в богатой одежде, в сопровождении маленького чернокожего невольника, несшего за ним различные инструменты и медикаменты. Сделавши почтительный поклон Иаиру, лекарь подошел к постели больной, сурово нахмурил брови и, сжав губы, начал ее осматривать. В заключение осмотра он положил свою тяжелую руку на голову ребенка и при этом так громко крякнул, что несчастная девочка вздрогнула всем телом и спрятала свое личико в складках материнского платья.
— У нее сильный жар, — произнес наконец лекарь довольно приятным низким баритоном.
Потом он обратил свой взор на Тавифу и, видя, что она готовится положить на голову Руфи свежий компресс, немым жестом остановил ее.
— Оставь-ка ты эти глупости, старуха, — строго заметил он, — вода хороша только для здоровых людей, а здесь она может принести только вред.
Тавифа в ответ пожала только плечами и в недоумении пробормотала несколько бессвязных слов.
Между тем, лекарь кивком головы подозвал своего раба, взял из его рук маленький оловянный сосудец и стал наливать в него из различных склянок какие-то темные жидкости и примешивать к ним серый порошок. Потом он снова сделал знак чернокожему, тот вынул из своего ящика мертвую змею и передал ее своему господину. Лекарь привычными руками с замечательной ловкостью снял со змеи кожу, еще раз громко крякнул и произнес:
— Вот эту кожу нужно разделить на три части: одну часть нужно положить ребенку на лоб, а две другие к подошвам ног, а из напитка, который я составил, нужно давать девочке каждый час по большой ложке. И если Иегова не судил ей умереть, то через семь дней она будет жива и здорова. Вечером я еще раз зайду попроведать больную. Во всяком случае, было бы хорошо, — добавил он, взглянув на Тавифу, — удалить из комнаты эту старуху!
Отвесив затем низкий поклон хозяевам, он хотел было уже удалиться из комнаты, как его остановил Иаир.
— Господин лекарь! — произнес он умоляющим голосом. — Ради Бога, скажи мне, из чего составлен этот ваш напиток?
— Собственно, у нас не в обычае открывать тайны своего искусства непосвященным, — ответил лекарь, — но для вас, так и быть, сделаю исключение. Слушайте же! Напиток этот, как вы сами вскоре убедитесь, имеет чрезвычайно целебную силу; он содержит, во-первых, желчь кабана, растворенную в уксусе, во-вторых, пепел волчьего черепа, смешанный с жиром ехидны, и, наконец, пепел кости черепа морского орла, пойманного в полнолуние. Эта кость истолчена в порошок вместе с когтями скорпиона. Если даже принять ее одну, все-таки будет большая польза, а взятая вместе с перечисленными уже мною средствами, она будет обладать такими чудесными качествами, что больная непременно выздоровеет, как бы ни была сильна ее болезнь.
Еще раз почтительно раскланявшись, лекарь в сопровождении чернокожего слуги оставил комнату. Как только исчез он за дверью, старушка Тавифа бросилась на колени пред своей госпожой и, всхлипывая от рыданий, проговорила:
— О, ради Бога, не удаляй меня от девочки, госпожа моя! Я сделаю все, что прикажешь, только позволь мне остаться здесь. Клянусь тебе, я не сделала никакого вреда ей, да и вы сами видели, что холодные компрессы облегчали ее страдания. И вообще, разве змеиная кожа может быть полезнее свежей воды!
— Успокойся, Тавифа, — ответила старушке Сарра, быстро вытирая слезы, выступившие у нее на глазах, — я совсем не думаю тебя отсюда удалять. Как же я без тебя обойдусь?
— А ты, Иаир, что думаешь о напитке? — продолжала она, обращаясь к мужу. — Я что-то боюсь его давать Руфи! Ты только посмотри, какая безобразная кожа! Право, не стоит употреблять в дело эту отвратительную слизь, даже прикасаться к этому неизвестному напитку.
— А вот как я думаю об этих лекарствах! — с раздражением проговорил Иаир, хватая змеиную кожу и оловянный сосуд с напитком и выбрасывая их за окно. — Если уж суждено нашей дочке умереть, то пусть она, по крайней мере, не осквернится такой нечистотой! Успокойся и ты, Тавифа, и ухаживай за больной, как сама знаешь. А ты, Марисса, ступай и скажи привратнику, чтобы не впускал больше этого лекаря, и пусть он от моего имени передаст ему вот этот золотой. Довольно с него и этого!
Вскоре девочка, вследствие ли сильного возбуждения, испуга или оттого, что болезнь постепенно все усиливалась, начала бредить. То ей казалось, что она находится в Иерусалиме, и она начинала бессвязно лепетать о процессиях, храме и храмовом пении, то вдруг ей показалось, что она едет на муле на прогулку и что Тит собирает для нее огромный букет полевых цветов. Один раз она даже вскочила с постели, протерла ручкой глаза и радостно воскликнула:
— Тит, я вижу Учителя! Вот Он идет по лугу, посмотри, как склоняются лилии, когда их касаются полы Его одежды! Наконец-то мне можно будет говорить с Ним!
С этими словами она упала на подушку и снова начала шептать какие-то бессвязные слова. И в эту минуту у несчастной матери в голове ярким лучом мелькнула мысль о великом Чудотворце. Она встала и подошла к окну, где стоял с опущенной головой ее супруг, нежно положила к нему на плечо свою голову.
— Дорогой мой, — проговорила она, — в страхе за дочку мы и забыли совсем о Чудном Назарянине! Разве Он не сможет исцелить нашего ребенка, как исцелил Он уже многих неизлечимых больных?
При этих словах Иаир встрепенулся и искра новой надежды блеснула у него в глазах.
— Ты права, милая Сарра, — произнес он с волнением, — я действительно совсем забыл о Нем. Если нам кто-нибудь вообще может помочь, то это только Он! Я сейчас пойду и разузнаю, где Он теперь находится.
Тит неподвижно сидел у колодца, устремив свой взор на ворота внутреннего двора. Почти уже целый час он сидел здесь и все ждал, не выйдет ли кто-нибудь из ворот. Немудрено поэтому, что, когда в них показался Бенони, Тит стремительно сорвался со своего места и подскочил к нему с вопросом:
— Ну, что с нашей больной девочкой?
— Кажется, опасно захворала, — печально ответил слуга. — Если в самом скором времени не будет оказана помощь, смерть неизбежна! И сейчас я пойду искать Назарянина, мы думаем, что только Он поможет!
— Да Его теперь здесь нет! — перебил его Тит голосом, полным отчаяния. — Сегодня я, лишь только узнал, что девочка захворала, побежал тотчас же к своему брату Стефану, у которого всегда найдется добрый совет, и он тоже мне предложил найти Учителя. Мы искали Его всюду, пока наконец не услышали, что Он еще вчера переправился на другой берег озера. Очень возможно, что Он пошел теперь в Самарию или даже возвращается в Иерусалим. И я теперь не знаю даже, где можно Его отыскать!
— Все-таки я должен разыскать Его, — произнес Бенони, — раз мне приказано это. А вдруг Он с сегодняшнего утра опять пришел к нам в Капернаум?
— Как знаешь, Бенони! — ответил Тит, удрученный горем. — Но, если бы Он был здесь, Стефан бы давно мне сообщил об этом, так как я поручил ему стеречь Его и возвестить немедленно мне, если он что-нибудь узнает.
— А все-таки нужно сходить, — настаивал Бенони на своем.
Но через час он возвратился, и по одному его виду можно было заметить, что все его поиски были безуспешны.
Глава 14. Воскрешение дочери Иаира
Часы медленно проходили один за другим. Наконец, наступила и ночь. Тит все еще оставался на своем месте и ждал известий от Стефана. Между тем, все находившиеся в комнате больной ясно понимали, что ангел смерти с каждой минутой подступает все ближе и ближе к девочке. Девочка лежала без движения, с неподвижными, будто остекленевшими глазами, и, если бы не слышно было ее тяжелого, прерывистого дыхания, ее можно было бы принять за умершую.
Мать на коленях стояла у ее ног и по временам судорожно закрывала свое лицо платком. С небольшими перерывами она целую ночь провела в молитве, причем часто приходили ей на мысль слышанные ею слова Учителя: «Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него».
И теперь сердце ее обливалось горечью.
«Вот я молилась, — думалось ей, — искренне молилась, однако же Бог не услышал меня, и, несмотря на мои молитвы, дитя мое умрет. Сколько недостойных нищих исцелил Учитель, а моему невинному ребенку не поможет. Если бы Он действительно был Христос, Он знал бы, конечно, как больна моя маленькая Руфь».
Эти и подобные им мысли как в заколдованном круге роились в ее голове. От горя она пришла в исступление. Наконец, она встала и быстро подошла к своему супругу, сидевшему у кровати больной. Она заговорила с ним торопливо:
— А что, если бы ты сам отправился разыскивать Назарянина? Не медли, мой дорогой! Очень возможно, что Он уже возвратился в наш город.
Иаир поднялся и, не сказав ни слова, немедленно вышел из комнаты. Было уже утро, и яркий солнечный свет заставил его на минуту прищуриться. На террасе расхаживал взад и вперед верный Бенони. Услышав шаги своего господина, он быстро обернулся, но вопрос замер в его устах — так сильно изменилось лицо Иаира.
— Ничего не слышно о Назарянине? — спросил с тревогой Иаир.
— Ни малейшего известия пока еще не получено, милостивый господин мой! — печально ответил Бенони, — Мы с Титом были уже несколько раз в городе, но ничего не узнали.
— Попробую теперь и я сам, авось мне удастся что-нибудь разузнать о Нем, — произнес Иаир. — А ты останешься, Бенони, на случай, если вдруг понадобишься госпоже. А я возьму с собой твоего молодого садовника.
Тит уже чуть ли не двадцатый раз выходил на улицу и был уже почти уверен, что ему снова придется вернуться на свое место ни с чем, как вдруг до его чуткого слуха донесся шум чьих-то легких шагов. Он остановился и прислушался; через несколько минут в конце улицы показался Стефан, несшийся с быстротой ветра к дому Иаира. Увидев Тита, он еще издали испустил радостный крик:
— Пришел!
Тит не стал больше ждать и крикнул только Стефану, чтобы он подождал у ворот, а сам ринулся через двор в сад и только хотел постучаться в калитку, ведущую во внутренний двор, как она сама открылась и показался хозяин дома Иаир.
— Исцелитель пришел в город! — воскликнул Тит, не ожидая даже, пока обратится к нему сам хозяин. — Сейчас только что мой брат принес об этом весть. Он стоит еще там, на улице, и сам сможет показать тебе, где найти Назарянина! Может быть, ты поручишь мне отправиться к Назарянину от твоего имени?
— О нет, паренек! — возразил Иаир, — я лучше сам пойду, а ты можешь сопровождать меня.
И они оба быстро вышли на улицу, где их ждал Стефан.
— По этой дороге можно скорее всего прийти к Нему, — сказал Стефан, поворачивая на ближайшую улицу. — Когда я о Нем услышал, Он только что высадился на берег и находился вблизи восточных ворот.
Все трое молча двинулись в путь. Иаир шел на несколько шагов впереди обоих юношей, как будто хотел непременно первым увидеть Учителя. Никогда еще дорога не казалась ему столь длинной. Он не мог сегодня различать ни улиц, ни домов, ни площадей… Аллеи, дворцы и хижины, амфитеатр и синагога — все сливалось для него теперь в одну массу, безразличную, серую.
Он уже больше двадцати четырех часов оставался без пищи и отдыха, и поэтому ему все казалось как бы окутанным густым туманом.
Наконец, они достигли восточных ворот.
— Что, Назарянин уже прошел здесь? — хриплым голосом спросил он у привратника.
— Нет еще! Он стоит на берегу и беседует с толпой народа, которая собралась вокруг Него, как только Он высадился на берег, — с этими словами привратник показал рукой на восток.
Все трое немедленно отправились к небольшому холму, который весь уже был занят народом. Подойдя к нему ближе, они могли различать теперь фигуру Учителя, стоявшего на небольшой возвышенности в середине толпы.
— Ради Бога, позвольте мне пройти, — умоляющим голосом проговорил Иаир, обращаясь к толпившемуся народу. — Мне непременно нужно видеть Учителя!
Толпа почтительно расступилась перед ним, так как многие из присутствующих лично знали Иаира, и, кроме того, всем было ясно, что он действительно нуждается в помощи Учителя. А Иаир, добравшись до Иисуса, пал к Его ногам и, умоляя Его, проговорил:
— Иисусе, Сыне Давидов, молю Тебя, малолетняя дочь моя лежит при смерти, но прииди, возложи на нее руку Твою, и она выздоровеет!
Тотчас же Иисус простер руку Свою к нему, поднял его с земли и направился с ним к городским воротам. А толпа следовала за Ним и с каждой минутой увеличивалась. Каждый старался пробраться к Учителю поближе, в надежде услышать или увидеть от Него что-нибудь новое. Они медленно продвигались вперед, но вдруг Иисус остановился, обернулся назад и спросил:
— Кто прикоснулся сейчас ко Мне?
Никто не отвечал, так удивлены были все Его неожиданным вопросом. Но так как Иисус все еще стоял и ожидал ответа, то один из учеников Его, Петр, сказал Ему:
— Наставник, почему спрашиваешь Ты, кто прикоснулся к Тебе? Ведь народ окружает и теснит Тебя со всех сторон, и как можно знать, что кто-то коснулся Тебя?
Иисус ответил:
— Кто-то прикоснулся ко Мне, и я ясно почувствовал силу, исшедшую из Меня.
При этом Он обратил Свой взгляд на бедно одетую женщину, стоявшую возле Него. Она задрожала, приблизилась к Нему, упала перед Ним на колени и с трепетом проговорила:
— Учитель, прости меня! Двенадцать лет я страдала неизлечимой болезнью, и врачи не могли помочь мне. Все мое имение я истощила на врачей и лекарства, но болезнь не только не прекращалась, а, наоборот, еще больше усилилась! И вот я подумала в сердце своем: кто знает, может быть, от одного только прикосновения к Твоему платью я выздоровею; так и случилось: как только я прикоснулась к краю Твоей одежды, я сразу же почувствовала облегчение. И теперь я чувствую, что совершенно исцелилась!
Выслушав ее, Иисус поднял ее с земли и сказал:
— Дерзай, дщерь! Вера твоя спасла тебя, иди с миром.
В то время, когда Иисус стоял и разговаривал еще с женщиной, Иаир заметил вдали бежавшего к нему Бенони; одежда верного слуги в знак сильной скорби была разорвана.
— Господин мой! — воскликнул он, увидев Иаира. — Умерла дочь твоя, не утруждай Учителя!
Лицо несчастного отца сделалось вдруг бледнее полотна, он зашатался и, наверное, упал бы, если бы его не поддержал Сам Иисус.
— Не бойся, — кротко сказал Он Иаиру, — только веруй.
И затем, повернувшись к толпе, Он велел всем оставаться на месте, а Сам в сопровождении Иаира и Бенони направился к дому, где лежала умершая. Тит и Стефан также последовали за Ним, но только держались от Него в некотором отдалении.
— Наверное, теперь уже поздно, — с заметной горечью проговорил Тит своему брату. — Вот если бы эта краснобайка не задержала Учителя, Он бы вовремя пришел и спас нашу девочку!
— Зачем так говоришь, Тит? — заметил Стефан, — разве ты не слышал, как Учитель сказал Иаиру: «Не бойся, только веруй»? Вот увидишь, Он еще спасет ребенка.
— Да как же Он спасет его? — нетерпеливо прервал его Тит. — Ведь девочка уже умерла!
— Ну, если даже Он не сможет оказать помощь девочке, то, наверное, сможет дать родителям силу перенести волю Отца Его Небесного!
В это время они подошли к воротам дома. Двор, на который они ступили, был совершенно пуст. Все точно вымерло здесь, и только по временам из окон комнаты, где лежала умершая, доносились до их слуха громкие рыдания. Это плакала мать, сидя у постели своей любимой дочери. Все попытки Тавифы увести ее отсюда в другую комнату ни к чему не привели. Широко раскрытыми, полными слез глазами она, казалось, впилась в бледное личико своей Руфи. «Может быть, она только заснула? — пронеслось в голове несчастной матери. — Нет, нет, ее скоро возьмут от меня!»
Вдруг ей показалось, что кто-то вошел в комнату, и в то же время приятный звучный голос произнес:
— Не плачь так! Девочка не умерла, она спит!
При этих словах мать быстро вскочила, наклонилась над телом ребенка и стала напряженно прислушиваться к дыханию. Да, дитя спало, но только это был последний, холодный сон смерти, от которого нет пробуждения, по крайней мере, в этом мире.
— Ты не знаешь, что она мертва, Учитель… — вырвалось из ее уст.
Она обреченно замолчала. Но в то же время что-то глубокое, неизъяснимое, дышавшее бесконечной любовью поразило ее в Иисусе. Подойдя к постели, Он взял маленькую, холодную, как лед, руку ребенка и громко произнес:
— Девица! Тебе говорю — встань!
И нежный румянец внезапно появился при этих словах на красивом бледном личике девочки; дрогнули реснички, и глазки, которые недавно были навеки закрыты последним сном смерти, широко раскрылись и засияли, счастливые, а девочка устремила свой взор на Лик Спасителя, и радостная улыбка озарила ее лицо.
— Ах, наконец-то я увидела Тебя! — тихо проговорила она. — Как часто я думала о Тебе!
Кто опишет сцену, последовавшую вслед за чудом? Кто выразит словами счастье и благодарность, внезапный переход от глубокой скорби к избытку радости и восторга?
Девочка пришла в глубокое изумление, увидев, как вдруг ее родители пали к ногам Иисуса и стали покрывать их своими слезами и поцелуями. А юная Руфь ничего не понимала, ей просто казалось, что она долго спала и видела какой-то страшный сон, и вот наконец проснулась. Но почему плачут родители и отчего эта толкотня вокруг? Неужели она еще грезит? Иисус же, заметив выражение изумления на лице девочки, обратился к ее матери со словами:
— Дитя проголодалось, дайте ей чего-нибудь поесть.
И, настрого запретив присутствующим разглашать обо всем виденном и слышанном, Он оставил дом Иаира.
Глава 15. Чудесное насыщение пяти тысяч человек
В одной из красивых зеленых долин на берегу Геннисаретского озера вокруг большого костра собралась кучка людей, представляющая поразительную противоположность с прелестью окружавшей их обстановки. Это была шайка известного уже нам Думаха, состоявшая из десяти или двенадцати парней с нависшими лбами и загорелыми, обветренными лицами, обезображенными глубокими шрамами и рубцами от ножей и мечей. В описываемую минуту они сидели и лежали вытянувшись во всю длину у костра и лениво посматривали, как на вертеле поджаривалась рыба. На траве возле них лежало несколько наполовину уже пустых винных мехов.
— Думах, а малый твой, как видно, прожога! Сам увидишь, он мог бы тебе еще пригодиться, — произнес один из сидевших, наклонясь вперед, чтобы подбросить в костер хворосту. — Скажи только на милость, где ты его подобрал? Ведь сразу, брат, заметно, что он вовсе не родственник тебе.
— Говорю тебе, что он сын мой, вот и все, — грубо перебил его Думах.
— Э, полно, товарищ, зачем скрывать такие пустяки, да еще от добрых друзей! Право, не стоит! Лучше откройся нам: если ты украл его у какого-нибудь богача-иудея, почему до сих пор не потребовал выкупа за него? Таких, как твой Тит, немало нашлось бы у нас, а денежки-то в руках никогда не лишние!
Думах немного помолчал, а потом с ядовитой усмешкой произнес:
— А ты, я вижу, рад погреться у чужого огонька. Да и сам, чай, при случае обделал бы делишки и обменял малыша на выкуп?
— А что же, думаешь, буду ждать? — со смехом сказал собеседник. — Скажи только, как зовут его отца?
— Дурень ты, я вижу! — ответил Думах. — Если бы я хотел взять выкуп за парня, я давно бы уже это сделал! Нет, нет! Месть в тысячу раз дороже для меня всех денег на свете. Он не уйдет от меня, и, когда наступит время…
Он не договорил, но в его лице мелькнуло такое зверское выражение, что даже товарищи его невольно вздрогнули и отодвинулись от него назад.
— А я нисколько не завидую Титу, что у него такой опекун, как ты! — не унимался его первый собеседник. — И, я думаю, во всей Галилее не найдется более грубого родителя, чем ты! Ну, смотри, если ты не сложишь на кресте свою буйную головушку…
Говоря последние слова, он схватился за рукоять своего большого обоюдоострого меча, так что Думах, вскочивший со своего места с очевидным намерением броситься на своего собеседника, проговорил себе под нос какую-то угрозу или проклятие и снова опустился на землю.
— Будет вам грызться-то! — промолвил один из шайки. — Что вы, обалдели, что ли! Или мало крови пролили, что вздумали еще бросаться друг на друга? Давайте-ка лучше пообедаем, — с этими словами он снял с костра вертел с рыбой и с жадностью принялся утолять свой голод.
Остальные последовали его примеру, и вскоре вся компания занялась едой. Думах, бледный, опустился на траву и замолчал. Грубые песни и хохот раздавались в тишине пустынной долины. Вдруг один из разбойников остановился, не доев даже куска рыбы, и показал товарищам знак молчать:
— Тс-с… кто-то идет…
Все участники трапезы мгновенно вскочили со своих мест, а один, более других предусмотрительный, юркнул тотчас же в небольшой, густо поросший кустарник, который стоял рядом, чтобы высмотреть оттуда раньше всех, что за опасность грозит шайке. Но вскоре он вернулся из кустов и сообщил шепотом:
— Раввин из Назарета, и с Ним Его ученики. Они только что высадились в бухте.
— Что им тут нужно? — сказал другой.
— Давайте-ка их… — прибавил он с многозначительным жестом, хватаясь за нож.
— Эко, что взбрело тебе в глупую башку, — прервал его Думах, — какая же нам выгода их резать, коли они как нищие, и у них нет ничего с собой?
— Да кто знает, — прибавил Думах, — может быть, Человек Этот и пригодится нам когда-нибудь? Ведь вы знаете, сколько у Него приверженцев, и число их возрастает с каждым днем. Если бы нам удалось Его поставить себе Царем, тогда бы мы целый мир покорили! Говорят, все тайные силы в Его власти: вот скажет Он, например, чтобы все травяные стебли на поле превратились в мечи, и все исполнится… Даже римляне боятся Его!
— А говорят еще, — заметил один из шайки, — будто Он силой веельзевула творит чудеса. Так, по крайней мере, мне объяснил в Иерусалиме один раввин.
— Для нас все равно, какой Он силой действует, — вмешался третий разбойник, — лишь бы Он принес нам выгоду. Но что значит этот шум? Надо посмотреть.
С этими словами он быстро взобрался на высокое дерево.
— О! Да там целые тысячи народа, пешком и на животных, двигаются по дороге! — послышалось вскоре с дерева.
— Они, наверное, ищут Этого Человека, — вполголоса произнес Думах. — Посмотрим, что дальше будет.
Не успел он еще договорить, как в соседнем кустарнике послышался шум шагов и через минуту на поляне появился незнакомый человек. Увидев костер и шайку разбойников, он робко попятился назад, но потом, вспомнив, наверное, что за ним идет целая толпа, ободрился и неестественно громко спросил:
— Не знает ли кто из вас, где Иисус Назарянин?
— Я сам Иисус, а вот мои ученики, — с язвительной усмешкой ответил Думах. — Что тебе от меня нужно?
Незнакомец в недоумении посмотрел на него, а вся шайка разразилась громким хохотом.
— Вот там, на холме твой Назарянин! — пробурчал наконец Думах, видя, что незнакомец собрался уходить.
Услышав слова Думаха, он взглянул на холм, увидел на нем Иисуса и с нескрываемой радостью крикнул:
— Вон там, идите все сюда!
Через несколько минут на поляне появились еще три человека, а потом целая толпа народа, и все с громкими криками радости ринулись по направлению к холму, тесня и толкая друг друга. Пестрой вереницей перебегали через поляну мужчины и женщины, старики и дети.
Увлеченные возбуждением толпы, Думах и его товарищи также примкнули к бежавшим и вскоре все очутились у холма.
Тем временем в укромном месте на склоне горы Иисус спокойно отдыхал со Своими учениками. Утомленные, они искали уединения, чтобы собраться с силами для дальнейших трудов, когда вдалеке послышались незнакомые человеческие голоса.
Симон-Петр тревожно вскочил со своего места, быстро поднялся на вершину холма и посмотрел по направлению к месту, откуда доносился говор и шум.
— Что там такое? — спрашивали ученики.
Но Петр не отвечал ни слова; он спустился со своего наблюдательного места, подошел к Учителю и вполголоса проговорил:
— Наставник, сюда идет большая толпа народа. Очевидно, они ищут Тебя! Не лучше ли нам удалиться отсюда? Мы смогли бы подняться выше, на самую гору, или спуститься к нашим лодкам и по озеру переплыть в них на другое место.
Иисус ничего не ответил на эти слова. Он встал, подошел к самому склону холма и взглянул вниз. Шум толпы становился постепенно все сильнее и все больше походил на рокот разбушевавшихся морских волн. Сквозь зеленую листву деревьев можно было видеть пестревшую всеми цветами движущуюся толпу народа. Иисус вздохнул и с выражением божественного сострадания на лице тихо произнес:
— Они — как овцы, не имеющие пастыря.
— Но Тебе нужен отдых, Учитель, идем скорее отсюда! — попробовал еще раз уговорить Иисуса Петр, но он не дождался ответа.
На склоне холма показались несколько человек, составлявших, очевидно, передовую часть толпы, и вскоре весь холм был занят собравшимся народом.
Драгоценные для людей часы, последовавшие за этим, были наполнены таинственными притчами Учителя о Царствии Божием, Его учением о заповедях блаженства и о Спасении всех человек… Он исцелял всех, требовавших исцеления, утешал страждущих и давал надежду отчаявшимся. Между тем, наступили сумерки, а народ все еще с затаенным дыханием слушал своего Божественного Наставника; лишь изредка крик утомленного и голодного ребенка прерывал торжественную тишину. Но вот ученики Иисуса, отойдя в сторону, переговорили между собою о чем-то, затем подошли к Учителю, и один из них, по имени Филипп, сказал Ему:
— Место здесь пустое, а время уже позднее, отпусти народ, чтобы они отошли в окрестные деревни и селения и купили себе пищи, ибо им нечего есть.
Но Иисус ответил:
— Вы дадите им есть!
— Двухсот динариев не хватило бы на покупку им хлеба, чтобы каждому досталось хоть понемногу, — заметил Филипп. — Как же мы можем дать им есть?
Иисус же говорит им:
— Сколько есть у вас хлебов? Пойдите, посмотрите!
Тогда один из учеников Его, Андрей, брат Симона-Петра, говорит:
— Здесь есть один мальчик, который имеет пять хлебов ячменных и две печеных рыбки, но для такого множества народа это крохи!
— Рассадите народ на траве по группам, — произнес Иисус.
— Что же будет еще? — спрашивал народ, когда ученики стали рассаживать всех в кучки по сто и пятьдесят человек.
Глаза всех присутствующих устремились на Иисуса. Он взял пять хлебов и две рыбы, взглянул на небо, благословил их и, разломив на куски, стал отдавать ученикам Своим, чтобы они раздавали народу. С благоговением все ждали, что же будет. И чудо свершилось. В руках Наставника хлеб и рыба не уменьшались. Множество раз уже подходили к Нему двенадцать учеников Его и всякий раз возвращались от Него с хлебом. Наконец, пять тысяч человек, множество женщин и детей совершенно удовлетворили свой голод. Тогда Иисус приказал собрать оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало, и наполнили кусками двенадцать коробов.
Что же делали в это время Думах и его сотрапезники? Заняв при помощи кулаков и пинков по бокам место, откуда хорошо было наблюдать, и раскрыв рты от изумления, они смотрели, как Иисус исцелял принесенных к Нему больных.
Когда же Он обратился к народу, разбойники поспешили выбраться из толпы на свободное место, за исключением одного, которого звали Гестом. Гест прислонился спиной к дереву, вероятно, утомившись от дневного зноя, склонил свою голову на грудь и погрузился в глубокий сон. Вследствие этого он не расслышал ни одного слова Учителя.
При чудесном насыщении народа Думах со своей шайкой все-таки присутствовали.
— А ты прав, — говорил один из них, именем Кай, атаману, — лучшего человека нам не найти себе в цари. Если уж Он смог дать нам сегодня в таком множестве ячменных хлебов и рыбы, то сможет, конечно, вдоволь доставать меда и вина, денег и вообще всего, что только мы пожелаем! Давайте-ка в самом деле сделаем Его своим царем!
А в народе израильском, присутствующем здесь и все видевшем, говорили между собой : «Это истинно Тот Пророк, Которому надлежало прийти в мир! Ибо Он дал нам хлеб в пустыне, подобно Моисею, питавшему тоже в пустыне наших отцов!» — и верили в Него.
Иисус же, узнав мысли разбойников, которые хотели прийти и силою взять Его и сделать своим царем, тотчас понудил Своих учеников войти в лодки и отправиться прежде Его на другую сторону озера к Вифсаиде.
Отпустивши народ по домам, Он взошел на гору, чтобы помолиться в уединении.
Часть народа послушалась увещеваний Иисуса и разбрелась по домам, но многие из толпы стояли еще здесь в надежде снова увидеть Пророка. Чем дальше шло время, тем сильнее возрастало народное возбуждение и нетерпение.
Пользуясь этим напряженным ожиданием, Думах, недолго думая, вскочил на одну из стоявших по близости скал и оттуда обратился к народу с такою речью:
— Послушайте меня, мужи галилейские! — начал он громким голосом. — Вы сами видели, как Этот Человек пред очами нашими из ничего произвел пищу в изобилии для такого множества народа! Если Он в состоянии был сотворить такое чудо, то столь же легко, полагаю я, Он может даже из подножных трав этих создать столько оружия, чтобы каждый из нас обладал своим мечом. И что, если бы мы поставили Его царем себе? Ведь мы могли бы прямо с этих гор броситься с оружием в руках на наших врагов! Мужи галилейские, я убежден, что жители всех городов и селений, через которые пойдем мы, немедленно присоединятся к нам, и тогда никто не в состоянии противостоять нам! Римляне должны будут обратиться в постыдное бегство, а в добычу нам останутся их великолепные дворцы. Слава Назарянину! Слава царю нашему!
При последних словах Думаха громкий крик восторга и одобрения вырвался из уст народа и звучным эхом повторился где-то в горах, на другой стороне озера.
Для Иисуса же, в молитвенной позе склонившегося на самой вершине горы, этот восторженный крик прозвучал голосом искусителя, раз уже осмелившегося приступить к Нему в пустыне. Царство мира, и всю прелесть его, и пышный трон царский предлагал он Ему вместо Креста!..
Вечером лодка с учениками была посреди озера, Учитель же оставался на берегу, но, увидев их, бедствующих в плавании, потому что ветер был им противный, около четвертой стражи ночи пошел к ним по морю, как посуху. Они же, увидевши Его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и закричали от страха. Но Иисус в ту же минуту заговорил с ними:
— Не бойтесь, это Я!
Петр же сказал Ему в ответ:
— Господи! Если это Ты, вели мне прийти к Тебе по воде.
Иисус сказал:
— Иди!
И Петр пошел по воде к Иисусу. Но, видя сильный ветер, усомнился, испугался и стал тонуть, и тогда закричал снова:
— Господи! Спаси меня!
Иисус сразу же протянул ему руку, поддержал его и сказал:
— Маловерный, зачем ты усомнился?
И, когда они вошли в лодку, ветер утих. Все же бывшие в лодке поклонились Ему и сказали:
— Воистину, Ты — Сын Божий!
Глава 16. Отец-мучитель
— Повторяю вам, нет Его на горе, — говорил Думах собравшейся около него толпе галилеян. — Уж коли мои молодцы не нашли Его, стало быть, Его вовсе нет здесь, ведь мы здесь знаем каждую щель.
— Так как же это так? Кажись, лодки у Него не было, а между тем Он исчез, — простодушно воскликнул один из толпы. — Не мог же Он перебраться без лодки на другую сторону озера? Наверно, Он перешел эту гору и теперь отдыхает, быть может, в какой-нибудь деревушке по ту сторону горы.
— Давайте-ка лучше вернемся в Капернаум, — предложил другой, — там теперь и Его ученики. Рано или поздно Он должен туда прийти.
Этот совет всем пришелся по душе и потому решено было немедленно же отправиться в город. Кстати, в это время в ближней бухте стояли на якорях два больших рыбацких судна из Тивериады, заброшенных сюда в предшествующую ночь внезапной бурей. Все кое-как разместились в этих рыбацких лодках, а через несколько часов, благодаря попутному ветру, показался Капернаум. По пути же в город Думах заметил, что в городе царило какое-то особенное оживление. По узким улицам со всех сторон города толпами стекался народ и понемногу запружал («заполнял» — ред.) собою всю площадь.
— Что тут такое случилось? — громко спросил Думах, подходя к одной кучке народа. — Мы только что высадились сейчас на берег и ищем Чудотворца. Не знает ли кто из вас, где Он теперь находится?
При звуке его голоса несколько человек обернулись к нему и сказали:
— Назарянин здесь! Он уже целое утро среди нас и творит чудеса одно за другим. Еще по пути сюда, где Он проходил по деревням, к Нему выносили больных и клали Ему на пути, чтобы они могли прикоснуться хотя бы к полам Его одежды, и, кто прикасался, немедленно выздоравливал. — Не Тот ли Он Человек, Который должен спасти Израиль?
— Да известно только всем, что Он обладает силою творить чудеса, — заметил Думах. — Кто знает, быть может, Он в состоянии творить чудеса еще более важные, чем те, какие мы уже видели. Хорошо бы нам попытаться у Него выудить более важные знания, чем эти исцеления. Он мог бы осыпать нас золотом и драгоценностями, мог бы отнять у богатых их дома и имущество и поделить между нами! А мы, Его слуги, зажили бы тогда превосходно: пили бы и ели да благодушествовали.
— Если Он поистине Мессия, то это будет легко для Него сделать! — заговорил один из толпы, обращаясь к Думаху. — По крайней мере, пророки нам предвозвестили об этом. Мне кажется, что не подлежит и сомнению, что настало время, когда Израиль снова получит себе Царя и подчинит своей власти все народы земли!
— Аминь, аминь! — воскликнули слушатели при последних словах и, увлеченные этой мыслью, быстро двинулись к синагоге.
В этот день совершалось богослужение, и поэтому синагога была открыта с самого утра.
— Он, наверное, там? — кричали люди по дороге.
— Может быть, нам сегодня же удастся поговорить с Ним.
По мере приближения к синагоге общее возбуждение все больше и больше возрастало. Лишь с крайним трудом можно было пробираться сквозь толпу. Синагога была уже битком набита народом, хотя до начала богослужения оставалось еще довольно много времени.
Книжники и фарисеи, раввины и саддукеи, мытари, рыбаки и простые поденщики с женами и детьми — все, от мала до велика, заняты были одним разговором о Чудотворце Иисусе из Назарета.
— Идет, идет! — раздался в толпе чей-то голос, и вся толпа внезапно заколыхалась, как спелая нива.
Протиснувшись кое-как вперед, Думах занял место у самого входа в синагогу, где, по его расчёту, непременно должен был пройти Иисус. Увидев Иисуса, поднимавшегося вместе с учениками в синагогу, Думах бросился к Нему и остановил Его вопросом:
— Когда же Ты пришел сюда, равви, и каким путем, ведь у Тебя же не было тогда ни одной лодки для переправы через озеро?
Иисус взглянул на него, но тотчас же отвернулся и посмотрел на толпу. Ненасытная жадность, любопытство, самолюбие, тщеславие, жестокость, ненависть, неверие ясно светились в глазах некоторых из толпы, и могло ли это укрыться от Божественного Сердцеведца?
— Истинно, истинно говорю вам, — обратился Он к народу, — вы Меня ищете не потому, что видели чудеса, а потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь же думать не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил Свою печать Отец Бог.
В ответ на это из толпы спросил кто-то юным, свежим голосом:
— Что же нам делать, чтобы мы могли творить дела Божии?
По тону голоса заметно было сразу, что вопрос этот долго занимал молодую голову и вылился теперь от чистого сердца. Лицо спрашивающего среди омраченных злобным неверием окружающих его лиц казалось как бы яркой звездочкой в темноте, и Божественный Пастырь сразу понял, что этот будет один из Его двора. С надеждой взглянув на него, Он ответил:
— Вот дело Божие: чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал.
— Какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? — перебил Его Думах.
Раввин с высоким тюрбаном на голове внимательно прислушивался к предшествующему разговору. Он выступил из толпы и лукаво заметил:
— Отцы наши ели манну в пустыне, как сказано в Писании: «Хлеб с небеси дал им есть» (Пс.77:24). Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с небеси, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небеси. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небеси и дает жизнь миру.
Послышался ясный голос мальчика:
— Господи, подавай нам всегда такой хлеб.
Вслед за этим Учитель скрылся в дверях синагоги.
Наступила торжественная тишина. В синагоге началось богослужение.
По приказанию смотрителя синагоги люди стали отступать от главного и боковых входов в синагогу, и на площади снова начались толкотня и шум.
— Как это Он осмеливался говорить, что Он никто иной, как Бог! Он же Иисус, сын плотника; так и мне, пожалуй, можно говорить, что я с неба пришел, — сказал один из толпы, — но я ведь серебряник, а Он простой плотник, разница-то большая.
— А, наконец-то вы за ум взялись, любезные, — вкрадчиво начал посланный из Иерусалимского верховного совета. — Человек Этот непрестанно богохульствует, ставя Себя наравне с Богом, будто Он пришел с неба, но об этом и речи быть не может!
— Он одержим бесом и безумствует! Если бы Он был Мессия, то Он пришел бы к нам могущественным царем, и большой грех считать Его Мессией! — продолжил тот самый раввин, который уже разговаривал с Иисусом, обращаясь к серебрянику. — Почитай-ка закон и пророков да послушай, что говорят об Этом Иисусе люди поумнее тебя, и ты сам поймешь, как Он опасен народу. Он в союзе с князем бесовским и потому может только зло творить!
— Нельзя больше хладнокровно слушать это! — раздался вдруг звонкий детский голос. — Ты лжешь, говоря такие вещи о Назарянине!
Все с удивлением обернулись к говорившему.
— Хорошо, малый, только скажи, что ты сам думаешь? — раздались из толпы несколько голосов. — Вылезай же сюда и поговори с почтенным раввином.
Дюжина сильных рук схватила мальчика и подняла его на уступ бывшей вблизи каменной стены, так что он возвысился над толпой и мог быть виден со всех сторон. Минуту он стоял в смущении на своем неожиданном месте.
— А ведь в самом деле это ты, брат! — проговорил над его ухом Думах, дотрагиваясь до его плеча. — Так ты правда теперь здоров и крепок, как другие твои сверстники?! Прямо глазам не верится. Ну, клянусь олимпийцами, теперь-то я сделаю из тебя человека. Пойдем-ка лучше домой, паренек!
Некоторое время они шли молча друг подле друга. Наконец Думах разразился грубой бранью.
— Что же ты сразу замолк? Неужто не рад, что видишь своего отца? Мне, брат, известно все. Мать старалась всегда внушать тебе ненависть ко мне. Пока ты был калека, для меня это было совершенно безразлично, ну а теперь, брат, шалишь! Теперь ты узнаешь, что у тебя есть отец, которому ты обязан повиноваться!
— Мама никогда не внушала мне ненависть к тебе, — тихо проговорил Стефан.
— Я, брат, слышал, с каким задором ты спорил с важным раввином, а со мною-то чего же, и рта не хочешь открыть? Значит, тебя, говоришь ты, Назарянин исцелил? А ну, расскажи мне, как Он это сделал?
Лицо Стефана сразу озарилось радостной улыбкой, лишь только речь коснулась Назарянина. С необычайным оживлением он начал подробно рассказывать о своем исцелении, совершенно забыв, кто был его слушателем.
— Так вот оно как вышло-то, — промолвил Думах, когда мальчик окончил свой рассказ. — Я должен быть благодарен, стало быть, Ему за твое исцеление. Хотя Этот Назарянин, Стефан, мог сделать для тебя гораздо больше, если бы ты попросил у Него об этом. Как ты думаешь?
— Да, конечно! — радостно воскликнул Стефан, вспомнив вдруг, как благосклонно посмотрел на него Иисус при входе в синагогу.
— Ладно, если ты в этом уверен, попроси у Него денег для нас, чтобы мы могли купить себе новенький домик с виноградником, чтобы мы зажили мирно, без нужды и заботы, как живут римляне. Слышишь, Стефан?
— Никогда я не буду просить у Него денег, — внезапно весь вспыхнув от гнева, проговорил Стефан, — потому что я знаю, что Он Сам Человек бедный!
— Дурак ты, я вижу! — крикнул Думах. — Если Он творит столько знамений и чудес, неужели ты думаешь, что Он не сможет сотворить золота? Да ведь я сам видел, как Он из пяти маленьких ячменных хлебов и двух рыбок сотворил столько хлебов и рыбы, что вдоволь хватило пяти тысячам человек и осталось еще много! Он ведь в союзе с темной силой, она помогает Ему творить чудеса.
Последние слова отца привели Стефана в ужас; он отступил от отца на шаг назад и, взглянув на него с немой укоризной, твердо произнес:
— Если ты серьезно сказал это, то я не могу больше ни слова говорить с тобой.
— А, ты не желаешь говорить со мной? — передразнил его Думах. — Впрочем, нечего с тобой толковать зря, говори мне, где Тит?
При этом вопросе лицо Думаха приняло такое злое выражение, что Стефан от страха в первую минуту не нашелся даже, что ответить отцу.
— Ну, говори же, ведь ты знаешь, где он? — снова спросил Думах и при этом так толкнул мальчика, что тот едва не упал. — Ты смеешь, молокосос, еще перечить мне, твоему отцу?
— Нет, отец, послушай, — начал Стефан, глядя своими темными невинными глазами в искаженное злобою лицо Думаха, — я охотно исполнил бы твою просьбу, но Тит рассказывал мне, что, когда он в последний раз сопровождал тебя и твоих друзей, ты принудил его принять участие в ужасных преступлениях, и теперь он служит в одном доме…
— А, в одном доме, — с язвительной усмешкой повторил Думах и, внезапно обернувшись к Стефану, с дикой яростью крикнул:
— Ах ты, несчастный калека! Назарянин Своей дьявольской силой исцелил тебя, так ты уже выше отца лезешь! Да если ты сейчас не скажешь мне, где Тит, я тебя так хлопну, что и костей не соберешь! Что озираешься-то, от меня не больно скоро, брат, уйдешь!
Только теперь Стефан ясно понял весь ужас своего положения. За разговором он и не приметил, что они вышли уже в какое-то незнакомое и пустынное место за городской стеной.
— Ну, скоро ты мне скажешь, где Тит?
Но потом, как будто что-то сообразив, Думах внезапно переменил свой угрожающий тон и насколько мог ласково заговорил:
— Ну отчего же ты не хочешь сказать мне ничего? Мы бы стали с тобой друзьями-приятелями, если бы ты мне все рассказал без утайки. Ты теперь еще пока ребенок, но погоди, уж я тебя человеком сделаю! А посмотри-ка сюда, Стефан, нравится тебе эта вещь?
И с этими словами Думах вынул из складок своего плаща прелестную золотую цепь.
— Я подарил бы тебе ее и много других хорошеньких вещиц, ведь недаром же я твой отец, а для своего единственного сына я…
— Единственного сына? — с изумлением переспросил Стефан. — А Тит, он разве тебе не сын?
— Тебя не касается совсем, кто для меня Тит! — сурово сказал Думах и, устремив свой гневный взгляд на мальчика, с расстановкой добавил:
— Я уже тебя порядочно колотил, и еще придется поколотить. Если уж словами нельзя выбить упорство из твоей глупой башки, так я тебе каждый член раздроблю и оставлю лежать здесь, в чистом поле, чтобы тебя дикие собаки сожрали!
Стефан побледнел как полотно, но не проронил ни одного звука. Думах, тоже не говоря ни слова, грубо схватил Стефана, подвел к ближайшему дереву и крепко привязал ребенка веревкой к стволу. Затем сломал с того же дерева довольно толстый сук и начал обрывать с него ветки и листья.
В это же самое время Тит возвращался в Капернаум с хутора, куда посылал его по хозяйственным делам Бенони. Быстрыми шагами он шел по тропинке, изредка останавливаясь лишь за тем, чтобы сорвать какой-нибудь цветок на лугу. Он непременно собирался принести маленькой Руфи букет полевых цветов.
«Вон там, внизу, наверное, уже расцвел шиповник», — подумал он про себя и начал спускаться с небольшого, поросшего маленькой травкой холмика.
Едва он успел протянуть руку за цветком шиповника, как его слух поразил какой-то пронзительный крик. Подойдя поближе в направлении, откуда доносились жалобные звуки, он остановился и внимательно прислушался.
Снова раздался душераздирающий крик, затем удар.
— Пощади, отец! — явственно донесся до слуха Тита голос, показавшийся ему знакомым.
Он яростно сжал кулаки и кинулся вперед. Раздвинув кусты, он внезапно увидел картину, от которой кровь в его жилах застыла.
В первую минуту он хотел было сразу броситься на мучителя, но потом понял, что, как он ни силен, ему не справиться с этим озверевшим человеком. Раздался еще удар и, как его отголосок, — жалобный крик невинной жертвы. Еще раз поднялась дубина — и снова раздирающий душу крик. Не помня себя от гнева, Тит схватил увесистый камень, лежавший у его ног, и со всей силы пустил в голову Думаха. Камень угодил прямо в висок, и Думах, взмахнувши руками, упал на землю. Отвязав от дерева Стефана, он усадил его, обессилевшего от ударов. Думах не обнаруживал никаких признаков жизни.
— Неужто ты убил его, Тит? — дрожащим голосом воскликнул Стефан, с непритворным сожалением глядя на своего мучителя.
— Убил, как же! — ответил Тит. — Так его и убьешь. Конечно, было бы гораздо лучше убить его, да нет, я только его сильно оглушил! Пока мы доберемся до дому, пусть он еще полежит здесь!
С этими словами он крепко связал неподвижно лежавшего Думаха той самой веревкой, которой был связан Стефан.
— Ну, бежим живей, — обратился Тит к Стефану. — Как ты попал в руки этого дьявола?
Стефан коротко передал ему все, что произошло.
— А ведь он убил бы тебя, если бы я вовремя не подоспел, — заметил Тит, когда тот закончил рассказ.
— Ну нет, — возразил Стефан, — наверное, он хотел просто меня попугать.
— О, ты его совсем не знаешь! — серьезно ответил Тит. — Слышишь?
Оба остановились и прислушались; сзади них раздались хриплый крик и грязная брань.
— Вперед, Стефан! Нам нужно спешить изо всех сил! В такой ярости у него сила будет на десятерых теперь!
Через несколько минут быстрой ходьбы юноши были уже у городских ворот. Очутившись в полной безопасности, Тит ласково положил на плечи Стефана свои руки и, немного подумав, сказал:
— Иди скорее к матери, расскажи ей обо всем, и вместе с ней уйдите куда-нибудь из дома, на некоторое время, конечно. Во всяком случае, сегодня ночью вам нельзя оставаться дома. Да, тебе нужны будут деньги, а у меня, кстати, при себе мое жалование. Вот, возьми и ступай к матери.
С этими словами он сунул в руку Стефана кошелек с деньгами и быстро зашагал по улице.
Глава 17. Исцеление слепорожденного
— Мало подают нам сегодня, всего лишь две лепты в нашей чашечке, — грустно проговорила девочка и, увидав прохожего, снова затянула свое жалобное: «Подайте на пропитание слепенькому, добрые люди!».
Но тщетно, никто из прохожих не обращал внимания на бедственное положение слепца и его маленького поводыря.
— Эх, не хули людей ты, детка, — произнес слепой, моргнув своими страшными, белыми глазами. — Ты ведь сама знаешь, сколько нищих в Иерусалиме.
— Да, знаю, но слепорожденного ни одного нет среди нищих! — заметила девочка своим жалобным голосом.
Они сидели под одной из крытых галерей храма. Местечко, выбранное ими, было довольно удобное: в жаркие, знойные дни, когда в городе было невыносимо душно, сводчатая крыша галереи защищала их от солнца и легкий ветерок, всегда гуляя между огромными колоннами галереи, доставлял им приятную прохладу.
Каждый день здесь сидели слепец и маленькая девочка с бледным красивым личиком, обрамленным темными локонами. Каждое утро они ожидали, пока отворят храмовые двери, и, получив позволение храмовых прислужников, занимали место у главного входа между колоннами и ждали подаяний. В полдень у них был обед из хлеба со смоквами, а вечером с несколькими полушками в оловянной чашке они возвращались усталые и измученные в свое убогое жилище.
Для слепца, в сущности, настоящим жилищем был храм, и к нему тяготел он всей душой. По его просьбе малютка-поводырь рассказывала ему чуть не каждый день о чистом белом мраморе, из которого построен храм, о его блестящих, золоченых вратах и о священниках в великолепных облачениях. С их обычного места можно было иногда слышать во время богослужения звуки священных гимнов и обонять тонкое благоухание священных кадильниц. Утром и вечером девочка подводила слепца в преддверие храма, и здесь, опершись спиной о колонну, он мог вместе с другими принимать участие в Божественной службе.
Вот и теперь до его слуха доносились священные гимны: «Слава и честь Тебе, мир сотворившему словом Своим, слава и честь во вся веки! Слава Тебе, из ничего создавшему все! Слава Тебе, милующему землю и тварей ее! Слава Тебе, святых достояние! Слава и честь Тебе, вечно живому и вечно единому! Слава и честь Тебе, Спаситель Израиля! Слава Твоему имени, Высочайший! Слава Тебе, вечный наш Боже, Царь всей вселенной, Бог и Отец наш Всемилостивый!».
— Ах, если бы Он смилостивился надо мной! — невольно вырвалось у слепца. — Что я, слепой, бесполезный обрубок? А по годам-то еще много придется жить и питаться подаянием.
— Стой, богомольцы идут, — шепнула ему на ухо девочка. — Подайте слепенькому, добрые люди! Подайте слепорожденному!
Чутким ухом слепец слышал, как по мраморному полу двигалась густая толпа народа. Но лишь раздался жалобный голосок девочки, толпа остановилась и кто-то громко, отчетливо спросил:
— Равви, кто согрешил: слепец или его родители, что он родился слепым?
Услышав такой вопрос, слепец печально склонил на грудь голову, так как этот вопрос мучил его всю сознательную жизнь. «Проклят я, — думал он, — ведь говорят, что Бог милостив к Своим созданиям, но Он же и наказывает невинных за виновных. Как понять это? Но что же, однако, скажет на этот вопрос равви?»
— Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии, — говорил чей-то спокойный и умиротворяющий голос. — Мне дóлжно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе Я в мире, Я свет миру!
«Свет миру?..» Слепец снова поднял голову и устремил свои мутные, белые глаза в том направлении, откуда шел этот голос. В тот же миг он почувствовал нежное, освежающее прикосновение к своим больным векам, и тот же голос ласково продолжал:
— Пойди, умойся в купальне Силоам!
Вскоре шаги затихли в отдалении.
— Пойдем, — проговорил слепец, вставая и протягивая девочке руку.
— Ни полушки не дали нам, — печально заметила девочка. — Равви только помазал тебе глаза грязью…
— Подожди, детка! — остановил ее слепец. — Веди меня к купальне, я там вымою глаза себе, как Он велел.
И они начали молча спускаться по ступеням мраморной лестницы.
— Я слышала, что Этого Равви в народе называют Иисусом, — заметила дорогой девочка.
— Ну, вот и купальня, дядюшка! — воскликнула она через несколько минут. — Встань на колени, а я поддержу твой плащ, чтобы он не упал в воду. Ну, вот так, сейчас протяни руку и мойся!
Слепец протянул руку вниз, зачерпнул ею воды и омыл глаза, затем, не говоря ни слова, он обернулся назад; девочка даже испугалась, взглянув на него. Так внезапно изменился его вид!
— Что такое? — спросила она. — Что с тобой случилось, дядюшка?
Но слепец как будто не слышал ее голоса. Ничего не отвечая на ее вопрос, он воздел руки к небу и громким голосом произнес:
— Хвалим и благословим Тебя, Господи Боже наш! Будем прославлять и воспевать Имя Твое Святое, Царю и Боже наш, вечно живый и вечно царствующий! Хвально и славно по всей земле Имя Твое, Господи! Рукою Отрока Твоего исцелил Ты болезнь мою и извел меня из тьмы и мрака ночного! Отпущены грехи мои, и беззакония родителей моих покрыты! Ты оказал на мне дивную милость Твою, и хвальны да будут чудеса Твои во веки веков!
Во время этой молитвы девочка с благоговением смотрела на бывшего слепца. Теперь она ясно видела, что его доселе поблекшие, безжизненные глаза внезапно ожили и засветились, как ее собственные.
«Его имя Иисус», — тихо проговорила она про себя, не сознавая даже хорошо, чтó она говорит. Исцеленный повернулся к ней и пристально посмотрел на нее.
— Так это ты, дитя… — проговорил он в раздумье.
— Да, это я все время водила тебя, дядюшка! — с дрожью в голосе ответила девочка.
— Сегодня ты последний раз водила меня, — ласково проговорил исцеленный. — Слава Вышнему Богу! Теперь я могу ходить и один, а о тебе я всегда буду заботиться, как ты раньше заботилась обо мне.
— Ты бы сходил к фарисеям и рассказал им обо всем случившемся! — проговорил один из толпы, слушавший рассказ бывшего слепца о его чудесном исцелении.
— Что же, я пойду! — ответил радостно исцеленный. — Я очень хочу, чтобы люди узнали, как я после долгих лет слепоты прозрел и увидел свет солнечный. О, если бы мне увидеть своего Спасителя и поцеловать хотя бы край Его одежды!
— Я вовсе не верю в эту историю, — проговорил один из окружавших слепца. — Он, наверное, только похож был на слепорожденного, а больные глаза часто исцеляются.
— Но зачем же тогда ему выдумывать небылицы? — спросил другой. — Какая ему была бы польза от этого?
— Да нет же, я не лгу! — разволновался бывший слепой. — Я на самом деле слепорожденный. Все видели, что я уже много лет сижу каждый день у ворот храма. И Равви открыл мне глаза именно так, как я вам рассказывал.
* * *
— Достойнейшие и высокочтимые члены совета! — так начал свою речь в синедрионе раввин, в котором по благочестивому виду, широкой повязке на лбу и длинному платью сразу можно было опознать одного из самых строгих ревнителей фарисейской секты. — Представляю вашему вниманию человека, который утверждает, что над ним совершено сегодня чудо. Особенного внимания заслуживает это дело потому, что оно совершено в субботу, а это прямо против закона!
— Ты хорошо сделал, что привел его сюда, — ответил Каиафа с легким кивком головы и затем, обратившись к бывшему слепцу, продолжал:
— Расскажи нам, как все случилось, чтобы мы имели возможность правильно обсудить дело.
— Мне не о чем много рассказывать, — начал исцеленный слепой. — Человек, называемый Иисусом, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: «Пойди на купальню Силоам и умойся». Я пошел, умылся и прозрел…
Сообщение это у многих членов синедриона вызвало многозначительные кивки головой.
— Не от Бога Этот Человек, — воскликнул наконец один из фарисеев. — Он не хранит субботы. Всем нам известно, что Он уже не раз нарушал закон о покое субботнего дня.
— Как может человек грешный творить такие чудеса? — спросил один из членов синедриона по имени Никодим. — Что ты скажешь о Том, Кто отверз тебе очи? — обратился он к исцеленному.
— Я твердо верю, что это Пророк, — ответил прозревший.
— По моему мнению, — заговорил другой член синедриона, — нужно будет послать служителя синедриона за родителями исцеленного и расспросить их обо всем подробно.
Предложение это было единогласно принято всеми присутствующими, и тотчас же был послан слуга с приказанием привести в собрание родителей исцеленного.
В ожидании новых свидетелей члены синедриона мирно разговаривали друг с другом, а бывший слепец скромно стоял в стороне и с интересом всматривался ясными глазами в лица своих судей. Немного спустя в залу собрания вошел посланный слуга, а за ним старик и его жена с лицом, закрытым покрывалом. Войдя в комнату, оба супруга бросили беглый взгляд на сына, а затем подобострастно поклонились в пояс верховному собранию. Каиафа молча окинул их пристальным взглядом и, нахмурив брови, спросил:
— Этот ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?
Старик снова поклонился, развел руками и, пожав плечами, ответил:
— Досточтимейший господин наш! Мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым, а кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам он в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет.
— Пойди сюда! — повелительно обратился к слепцу Каиафа.
Исцеленный робко приблизился и стал подле родителей. Первосвященник с угрозой посмотрел ему в лицо и с расстановкой произнес:
— Если ты не образумишься и не придешь в себя, ты должен будешь подвергнуться строгой каре по закону. Сознайся лучше, как было дело, и воздай славу одному Богу за свое исцеление. Конечно, если ты действительно исцелился… Ибо мы знаем, что Человек Тот грешник.
Нищий поднял голову, и его глаза засветились каким-то особенным светом.
— Грешник ли Он, я не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу! — проговорил он с воодушевлением на всю залу.
В собрании на минуту воцарилась глубокая тишина. Но вот один из присутствующих вытянул шею и с каким-то фанатическим задором спросил прозревшего:
— Что же, собственно, Он сделал с тобой? Как отверз твои очи?
— Я уже сказал вам, — ответил слепой, — и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или вы хотите сделаться Его учениками?
— Мы Моисеевы ученики! — гневно сверкая глазами, проговорил Каиафа. — Только нищие и убогие и могут следовать за Этим Человеком. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, а про Этого Человека, Кто Он Такой и откуда пришел, мы не знаем!
— Как вы говорите, что «не знаем, Кто Этот Человек»? — с усмешкой спросил слепец. — Это-то и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи! Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает! От века не слыхано, чтобы кто-то отверз очи слепорожденному. Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего!
— Презренный нищий! — крикнул Каиафа с яростью, соскочив со своего места. — Во грехах ты родился, и ты ли нас учишь? Вон из этого священного места и, если тебе дорога жизнь, не возвращайся сюда никогда!
И выгнал его вон.
С болью в сердце удалился исцеленный от священного храма, в одном из приделов которого происходило описанное заседание синедриона. Печально устремив глаза на белые мраморные стены храма, весело сверкавшие на солнце, он шел, ничего не замечая вокруг.
Вдруг ему показалось, что Кто-то говорит с ним. Обернувшись, он увидел пред собой Человека, смотревшего на него таким серьезным и вместе с тем невыразимо ласковым взглядом, что бывший слепец сразу почему-то растрогался до глубины сердца. И, когда Незнакомец заговорил с ним, он тотчас узнал голос, который приказал ему омыться в Силоамской купели.
— Веруешь ли ты в Сына Божия? — спросил Незнакомец.
И нищий ответил с волнением:
— А Кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него?
Иисус сказал ему:
— И видел ты Его, и Он говорит с тобою!
Он же сказал:
— Верую, Господи, — и поклонился Ему.
Случайно невдалеке стояли фарисеи, выгнавшие исцеленного из храма, и слышали разговор с ним Иисуса. Иисус заметил, конечно же, те злые взгляды, которые они бросали на нищего, и, зная все, что происходило в сердцах их, сказал им:
— На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы.
Услышавши эти слова, фарисеи с усмешкой спросили:
— Неужели и мы слепы?
И Иисус сказал им:
— Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха, но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас.
Глава 18. Бегство в Назарет
Вечером одного субботнего дня двое путников с трудом поднимались по узенькой каменистой тропинке, ведущей в горное селение Назарет. Это был неровный и в высшей степени трудный путь. Женщина чуть не на каждом шагу спотыкалась, и юноша, ее спутник, всякий раз при этом оборачивался к ней и озабоченно всматривался в ее лицо, казавшееся в сумерках совершенно белым.
— Ты устала, мама? Сильно устала? — говорил он. — Нам бы лучше уж сойти вниз и переночевать там в какой-нибудь деревушке. Присядь и отдохни немножко!
Юноша снял с себя плащ из овечьих шкур, постлал его на ближайший камень, и женщина опустилась на него со вздохом облегчения.
— Верно ты говоришь! Я правда очень устала, — проговорила она, тяжело переводя дыхание, — уж и не знаю, хватит ли у меня сил взойти на гору.
— Вот немножечко посидишь, отдохнешь здесь и тебе легче будет идти, — ласково заметил юноша.
— Слишком уж много нам приходится странствовать за последнее время, — заговорила она снова.
— Может быть, нам еще можно будет остаться там, в деревушке, пока ты вновь не соберешься с силами. А не правда ли, как здесь красиво? Посмотри, какая чудесная зелень на этих холмах вокруг и как они все усеяны цветами! Пока ты отдыхаешь, мама, дай-ка я пойду и нарву тебе цветов, хочешь?
Мать ласково улыбнулась.
— А не лучше ли и тебе отдохнуть, сынок? До города ведь еще далеко.
— О, я совсем почти не устал! — весело ответил мальчик и принялся собирать цветы.
Глаза матери неустанно с любовною лаской следили за ним, когда он карабкался за каким-нибудь хорошеньким горным цветочком, соблазнительно выглядывавшим из расщелины. «Дитятко мое, — шептала она про себя, — как скоро, однако, он вырос! А привязан ко мне по-прежнему, как мальчик!»
— Смотри, мама, сколько набрал! — еще издали кричал Стефан, показывая матери огромный букет цветов, переливавшийся всеми красками. — Вот смотри: розы — белые, красные, какие душе угодно! Не правда ли, как прелестно пахнут! Вот дряква. А вот эти маленькие желтые цветочки точно звездочки горят! Эх, в деревне-то, наверное, в каждом доме есть сад. Вон с той высокой скалы, где я нарвал роз, видны внизу гранатовые и померанцевые деревья, и все они сейчас в цвету! Согласилась бы ты, мама, жить в таком прекрасном уголке? Ведь я мог бы теперь своим трудом зарабатывать столько денег, что нам, пожалуй, и хватило бы на покупку себе земли в этой местности.
— Он раньше жил в Назарете… — продолжал мальчик, немного помолчав. — Нам непременно нужно посмотреть дом, где Он вырос.
— Я думаю, нам пора уже подниматься, Стефан, — проговорила мать. — Солнце уже с час как зашло, скоро ведь ночь.
— Правда, мама, пора уже! — ответил мальчик и, быстро встав, помог матери подняться.
После получасовой утомительной ходьбы путники достигли черты города. При самом входе в город бил ручеек, который мелодично журчал по своему каменному желобу. Подойдя к нему, женщина вдруг остановилась и, тяжело вздохнув, упала на траву со слабым криком:
— Не могу больше…
— Мама, мы ведь уже почти пришли, — испуганно проговорил Стефан, склоняясь над ней, — еще одно маленькое усилие, и мы будем иметь ночлег! Выпей глоток свежей воды! Ты, мама, увидишь, как это освежит тебя.
Но мать ничего уже не могла отвечать. Голова ее склонилась бессильно на землю, и, когда мальчик внимательно посмотрел ей в лицо, он увидел, что она лишилась сознания.
— Что теперь делать? — воскликнул Стефан, беспомощно ломая руки. — Мама, мама!
— Она без сознания, — раздался в ту же минуту сзади Чей-то тихий, ласковый голос. — Ничего, ей надо побрызгать водой в лицо: тогда она придет в сознание.
Стефан оглянулся и увидел за собой Незнакомку с водоносом на голове. Еще раз посмотрев на лежавшую без чувств Приску, Она быстро сняла с головы водонос, зачерпнула им воды из источника и затем, наклонившись над бесчувственным телом Приски, стала кропить водой ее бледное лицо.
— Вот, она уже приходит в себя! — проговорила Незнакомка. — Зачерпни-ка воды и дай ей пить!
Стефан мигом исполнил, что ему было сказано, и немного спустя, к его великой радости, Приска пришла в себя. Тяжело вздохнув, она посмотрела кругом, попробовала было подняться, но снова со стоном упала на траву.
— У вас есть в городе родственники или знакомые? — спросила у Стефана Незнакомка.
— Мы не знаем здесь ни одного человека и хотим поэтому остановиться в гостинице. Есть здесь где-нибудь поблизости гостиница?
— До гостиницы твоя мать сегодня не дойдет, она находится на другом конце города. А Мой дом совсем близко отсюда…
С этими словами Женщина указала на слабый свет, пробивавшийся сквозь листву дерева.
— До дверей Моего дома всего лишь несколько шагов. Вы оба можете переночевать у меня…
— О, какая Вы добрая! — радостно воскликнул Стефан. — Чем я могу отблагодарить Вас?
Общими силами обессилевшую Приску поставили на ноги и, поддерживая ее с обеих сторон под руки, благополучно довели до гостеприимного крова.
— Поспит она и, Я уверена, завтра же почувствует себя лучше, — проговорила Хозяйка, выходя из Своей маленькой спальни, где Она уложила на покой больную Приску.
Между тем, Стефан успел уже ознакомиться немного с домом, отметив его скромное, но в высшей степени опрятное убранство. Теперь он более внимательно присмотрелся к доброй Хозяйке этого жилища. Она была средних лет, а лицо Ее с темно-голубыми глазами, обрамленное красивыми, уже серебрившимися сединой волосами, не утратило еще необыкновенной целомудренной красоты.
— Ведь ты тоже устал, мальчик? — обратилась Она к Стефану с ласковой улыбкой. — Вот покушай немного и отдохни!
И с этими словами Хозяйка дома подала Стефану кружку молока и несколько ячменных лепешек.
— Как же это вышло, — спросила Она, когда Стефан немного подкрепился пищей, — что вы так далеко зашли от дома? Твоя мать сказала Мне, что вы из Капернаума.
В ответ на это мальчик с видимым удовольствием начал рассказывать свою историю, особенно подробно остановившись на рассказе о своем исцелении Чудотворцем Назарянином.
— Как видите, нам ничего не оставалось делать, как уйти из Капернаума, — закончил Стефан свой рассказ. — Мы отправились именно в Назарет, потому что я очень хотел посмотреть родной город Иисуса, к тому же я надеялся еще увидеть Его когда-нибудь здесь! Вы знаете этого Иисуса?
При этом вопросе на глазах Незнакомки блеснули слезы, и в это же время лицо Ее озарила та же лучезарная улыбка, придававшая всему Ее облику поистине неземную красоту.
— Это Сын Мой, — скромно ответила Она, — и это Его родной дом!
Глава 19. Тит попадается разбойникам
— Уже давно собирался поговорить с тобой по душам, Тит. Скажу без обиняков: ты, брат, пользуешься особым благоволением нашего хозяина! Да и, нужно отдать честь, я всегда готов засвидетельствовать, что под моим надзором ни разу еще не было такого честного и трудолюбивого работника, как ты! Я от души к тебе расположен. Сам я служу здесь уже много лет и скоро не в состоянии буду исполнять свой долг как следует. Ну да и у меня прикопились за долгую службу кой-какие деньжонки. И вот теперь я думаю идти на покой: куплю себе небольшой виноградник и заживу на старости лет в своем домике. Да… Ну так вот, я хотел тебе сказать, что если ты и впредь также честно будешь служить хозяину, то я не вижу никаких оснований, почему бы тебе не заступить на мое место. Понял?
Такую приблизительно речь держал Бенони пред почтительно стоявшим пред ним Титом. Молодой человек весь покраснел, слыша такие лестные для него слова, но не сказал в ответ ничего, так как видел, что старик хочет что-то прибавить.
— У меня есть для тебя важное поручение, — продолжал Бенони после небольшой паузы, — и я возлагаю на тебя это поручение по особому желанию нашего хозяина, высокочтимого Иаира. — Искренне говоря, я скорее поручил бы это кому-нибудь другому, а не тебе. Не потому, конечно, чтобы я не доверял тебе чего-нибудь, а потому, что у тебя при твоих молодых летах еще мало опытности. А поручение вот какое. У нашего хозяина недалеко от Тивериады есть виноградник, и вот ты должен будешь отправиться туда и отвезти деньги его управителю Калебу. Вместе с этим мешком ты передай ему письмо от меня: здесь указано подробно — кому, сколько нужно выдать жалования. Денежный мешок ты прикрепи себе к поясу, да возьми еще на всякий случай и оружие! Я велю тебе дать быстроногого мула, так что если ты сейчас же отправишься в путь, то еще до восхода луны успеешь возвратиться домой.
— Самое позднее через полчаса я буду готов! — проговорил Тит, поклонившись. — Ах, вот еще, только будь добр, расскажи мне подробней, как я могу попасть в виноградник?
— С удовольствием, только я лучше дам тебе в проводники старика Азу. Он уже часто ездил туда и отлично знает дорогу.
— А когда он ездил туда, его ведь, конечно, никто не сопровождал? — с улыбкой спросил Тит.
— Разумеется, никто.
И Бенони хотел, было, идти, но видя, что Тит покраснел, в примирительном тоне сказал:
— Ведь ты же сам знаешь, Тит, что наша местность не совсем безопасна от разбойников: двоим, во всяком случае, лучше будет, чем одному.
— Пошли лучше старика Азу с деньгами, если ты не доверяешь мне одному, — вырвалось у строптивого Тита.
— Нечего обижаться, Тит! — проговорил Бенони. — Неужели ты не веришь, что у меня к тебе полное доверие? Больше того, я люблю тебя, как сына, и мне не хочется, чтобы ты подвергался опасности.
— Неужели у меня не хватит сил разделаться с двумя-тремя негодяями? Поверь мне, я знаю все уловки и приемы разбойников гораздо лучше, чем ты думаешь, и уж не дам провести себя. Да если бы, на беду, мы действительно попались в руки ворам, то старый Аза послужил бы мне только помехой. Ну что он сделает при своем старом телосложении и немощи, если попадет, например, в лапы Думаху?
— Что ты говоришь?.. — рассеянно переспросил Бенони, видимо что-то соображая.
Тит вовремя закусил губу.
— Ну, мне пора в путь, — торопливо заговорил он, — и, не в обиду будет тебе сказано, но я предпочел бы отправиться один, без Азы.
— Ну, как хочешь. Я уж не стану противоречить твоему желанию. Да хранит тебя Бог от всякого зла и да возвратит Он тебя невредимым.
— Ну в этом-то и сомневаться нечего. Не стоило бы и молиться об этом: недаром же я беру с собой пару ножей да еще здоровенную дубину, — ответил с усмешкой самоуверенно Тит.
Старый Бенони неодобрительно покачал при этих словах головой и добавил со вздохом:
— Эх, сразу видно, что ты язычник!
Через полчаса Тит выезжал уже со двора. На его поясе виднелись мешок с деньгами, дорожная сумка с провизией и два огромных ножа.
— До восхода луны еще буду дома! — крикнул он, оборачиваясь в последний раз к Бенони, который с озабоченным видом несколько раз уже повторял ему свои предостережения.
Старик еще раз покачал головой и, запирая ворота, долго еще охал и сожалел, что отпустил Тита одного.
А Тит, между тем, достиг городских ворот и поехал по тропинке, ведшей к горам.
Было прелестное весеннее утро. Солнце весело и ярко освещало поля и виноградники, сверкающие под его лучами чудною изумрудною зеленью. По обеим сторонам дороги тянулся красивый луг, испещренный множеством самых разнообразных цветов. Пестрые бабочки и букашки летали от цветка к цветку, и их жужжание и трескотня в лазури своими крылышками сливались для слуха в один радостный гимн весны.
Тит ехал молча, полною грудью вдыхая в себя аромат цветов, пропитавший, казалось, весь воздух, мечтательно вслушиваясь в звуки весеннего гимна, и во всем существе своем ощущал блаженство молодой, здоровой жизни.
К полудню вид местности начал постепенно изменяться. Вместо цветущих полей и зеленых виноградников началась теперь пустая, однообразная гористая местность. Путь с каждым шагом становился все труднее и поворотил, наконец, в узкое скалистое ущелье, довольно густо заросшее дикими олеандрами и тамариндами.
Въехав в ущелье, Тит внимательно осмотрелся по сторонам, затем сошел с мула, привязал его к дереву, а сам ползком стал пробираться сквозь частый кустарник на небольшую котловину, где меж деревьев журчал ручеек с прозрачной, как кристалл, холодной водой.
Тит приложил ухо к земле и стал прислушиваться. Не расслышав никаких подозрительных звуков, он быстро взобрался на одно из самых высоких деревьев в котловине и осмотрелся вокруг. С высоты ему видна была пройденная уже им дорога.
Извиваясь тонкой лентой, она постепенно поднималась в гору, пока не заканчивалась в описываемом ущелье. На несколько сот футов ниже тихо перекатывались голубые волны Геннисаретского озера, а на далеком горизонте поднималась, подобно исполинскому облаку, вершина Ермона. Совершенно успокоившись, он с прежнею быстротою спустился с дерева, пробрался сквозь кустарник назад к тому дереву, где привязан был его мул, и взял его за узду.
— Пойдем-ка, я угощу тебя такой водицей, какой ты, наверное, сроду не пил! — проговорил он, ласково потрепав животное по шее.
Напоив мула, Тит пустил его на лужайку, а сам уселся под деревом и принялся утолять свой голод. Местечко, избранное им, было прелестным, уютным уголком, покой которого прерывался лишь щебетанием птичек да мирным журчанием воды в ручейке.
Тит вскоре почувствовал, как постепенно под влиянием полной тишины и окружающей обстановки сладкая истома разливается по его телу и легкая дремота заволакивает глаза какой-то туманной дымкой. Убедивши самого себя, что мул недостаточно отдохнул, Тит растянулся на траве во всю длину своего тела, положил руку под голову и через несколько минут спал уже крепким сном.
Долго ли он спал, неизвестно, только внезапно он проснулся от ощущения какой-то странной тяжести или тесноты. Сделавши безуспешную попытку повернуться на другую сторону, он открыл глаза и тотчас же понял, в какую ужасную ловушку он попал. Он был связан по рукам и ногам. В нескольких шагах от него, прислонившись к стволу дерева, сидел Думах и насмешливым, торжествующим взором смотрел на него; вокруг него в разных позах отдыхали на траве его свирепые сотрудники.
Пробуждение Тита было встречено громким хохотом и язвительными насмешками.
— Что, выспался, паренек? — спрашивал один.
— А ведь мы так и знали, что ты будешь здесь! — говорил другой. — Местечко-то хорошее, знакомое тебе. Ты, наверное, совсем нас заждался?
Тит сделал отчаянную попытку освободиться от уз и с нескрываемой злобой осмотрелся вокруг.
— Приятная сегодня добыча у нас: мешок с деньгами да и ты еще впридачу, — проговорил Думах с громким смехом, потрясая сумкой с деньгами в воздухе.
— Не все же одни неудачи! — пробурчал сквозь зубы один из лежавших разбойников, ближайший к Думаху.
— Ну, живо! Надо поворачивать в Иерусалим, — крикнул Думах. — С вами, пожалуй, впрямь беду наживешь!
Деньги-то вот они, — добавил он, снова потрясая мешком. — Хватит пока на всех!
— Развязать его? — спросил в это время Кай, кивком показывая на Тита.
— Ты что, не в своем уме сегодня? Не курица же я, чтобы поступить так с ним. За несколько дней перед этим, — продолжал он прерванный ранее разговор, — мне нужно было немного проучить своего сына Стефана, а то он из рук, было, выбился. Так вот, когда я стал его стегать помаленьку, кто-то угодил мне камнем в голову, да так ловко, что я без чувств свалился на землю, а потом тот же негодяй связал меня беспомощного по рукам и ногам и оставил на съедение зверям.
— Ловко все это было обделано, я сам могу засвидетельствовать, — перебил Кай с усмешкой. — Ты кричал как бесноватый, когда я случайно шел по дороге и освободил тебя от твоих уз. А если бы не я, собаки давно бы съели тебя!
— Так тебе и надо! Я бы тебе еще не так… если бы не Стефан, — весь дрожа от бессильной злобы и недоговаривая слова, глухо пробурчал Тит, вспомнив виденную им картину истязаний Стефана.
— Так это ты был, негодная тварь, иудейская собака! Ну попомнишь меня! — побледнев от ярости, вскричал Думах, подскакивая к Титу.
Не в силах больше сдерживаться от бешенства, он выхватил свой нож и, широко размахнувшись, с силой опустил его на беспомощного юношу. К счастью, Кай вовремя подтолкнул Думаха под руку, и удар миновал голову Тита, угодив в ствол дерева.
— Что с тобой? — закричал Кай, хватая Думаха за руку. — Ошалел ты, что ль? Что из-за таких пустяков рубишь мальчишке голову, да еще собственному сыну?!
— Не сын он мне! — скрежеща зубами от ярости, пробурчал Думах. — Он проклятый иудей, я ненавижу его!
— Да что же ты думаешь, мы раньше не знали этого? — с улыбкой проговорил Кай. — Ну, да кто бы он ни был, ты не должен его убивать! Скажи лучше, отпустить ли его и позволить ему убежать отсюда, или взять его с собой в Иерусалим?
— Да уж, конечно, с собой надо взять, — нахмурившись, проговорил Думах, вытаскивая из дерева свой нож. — Развяжи его. Только, если в дороге он сделает хоть одну малейшую попытку бежать, немедленно умертвить его!
Немного спустя, вся шайка двинулась в путь. Впереди в качестве лазутчиков следовали двое самых проворных из всей шайки и внимательно прислушивались к каждому сколько-нибудь подозрительному шороху. За ними шел Тит со связанными сзади руками; по бокам его шли двое разбойников. Остальные, во главе с сидевшем на муле Думахом, заключали шествие.
Тит гораздо больше был занят своими грустными думами, чем окружавшими его личностями. «Эх, хватило же у меня ума заснуть на этом месте! — думал он про себя. — И зачем я не избрал другой дороги! Что подумает обо мне Бенони, когда не дождется меня к назначенному сроку и узнает, что я совсем и не был на винограднике? О, зачем это случилось слишком рано? Пусть бы попался я потом этим негодяям, на обратном пути, когда деньги были бы уже отданы по принадлежности!»
И он тихо застонал.
— Что, верно, трут руки веревки? — участливо спросил Кай, шедший рядом с ним.
— Нет, — кротко ответил Тит и сейчас же под приливом какой-то безумной надежды на спасение умоляющим тоном прибавил вполголоса:
— Ты всегда, Кай, относился ко мне ласково и дружелюбно, не поможешь ли мне теперь бежать?
— Не говори, парень, таких глупостей! — строго заметил Кай. — Зачем тебе от нас уходить? Ведь мы уже давно друзья-приятели тебе, а с нами, брат, не соскучишься! Постарайся только угодить Думаху, а там весело уж заживем с тобой!
— Никогда, ни за что на свете я не соглашусь угождать Думаху, — возразил Тит с мрачным видом, — он ненавидит меня, как и сам не раз говорил, и я тоже плачу ему той же монетой! Я жалею теперь, что не убил его, когда он мучил Стефана!
— Конечно, свет и без него мог бы отлично обойтись, — с улыбкой заметил на это Кай. — Невелика была бы потеря в нем! Да кто знает, может быть, и для него это, в конце концов, было бы гораздо полезней.
Спустя немного времени, Тит снова обратился к своему спутнику с вопросом:
— Не можешь ли ты мне сказать, откуда украл меня Думах? Ты ведь слышал сам, как он назвал меня сейчас евреем?
— Меня самого занимает этот вопрос, и я с удовольствием хотел бы узнать от кого-нибудь, что ты за человек, — задумчиво проговорил Кай. — Я убежден только, что за тебя заплатили бы Думаху кругленькую сумму, если бы он захотел. Я всегда думал, что он украл тебя у какого-то знатного и богатого иудея в Иерусалиме. А думал я так потому, что, когда я узнал его в первый раз, он недавно еще прибыл из Иудеи и между нами считался иностранцем; тогда тебе было года три всего. Я как сейчас помню, как ты колотил своими ручонками Думаха за то, что он назывался твоим отцом.
Тит ничего не ответил. «Утешительно хоть то, — подумал он про себя, — что я сын не простого иудея. Однако чьим же сыном я мог бы быть? А Думах сначала научил меня ненавидеть евреев, зная, что я иудей! Стало быть, Стефан не брат мне… А мать? Матери я совсем не знаю… Она меня тоже, конечно, ненавидит, иначе она сказала бы мне когда-нибудь, кто я такой, и чей сын».
Наступила, между тем, ночь. Над темными массами скал поднималась блестящая полная луна. Тит поднял голову, и слезы невольно выступили у него на глазах.
«Бенони каждую минуту теперь ждет меня, — с сокрушением подумал он. — А когда я не приду, то он, конечно, подумает, что я украл деньги».
Глава 20. Неудачная попытка
Разбойничья шайка с пойманным Титом посередине быстро подвигалась к Иерусалиму. Вперед шли, впрочем, лишь при свете месяца, а днем вся шайка располагалась где-нибудь в чаще или во рву и подстерегала свою обычную добычу. Уже несколько несчастных путников попались им таким способом в лапы. Разумеется, их немедленно же обирали, и, если они не противились грабителям, их выпускали полураздетых на волю. Но горе было тому, кто делал попытку к сопротивлению или кричал о помощи: острый нож тотчас же приканчивал его существование.
«Мертвец не поднимает лишней тревоги!» — говорил в таких случаях Думах.
На четвертый день с восходом солнца они достигли холмов, тянувшихся с западной стороны Иерусалима, и решили устроить стоянку в одной из узких лощин меж холмами, чтобы отдохнуть от пути и собраться с силами для новых походов.
— Вот что, молодцы, — промолвил Думах, подкрепившись пищей, — я хочу сейчас отправиться в город, и пойду один, а вы здесь ждите меня; смотрите только не расходитесь друг от друга, а то прогорит наше дело, еще и не начавшись как следует!
После этих слов он отвел в сторону Кая и начал вполголоса говорить с ним о чем-то. Тит был убежден, что речь шла о нем, но на лице его не было и следа какого-нибудь волнения. Он питал даже надежду уйти как-нибудь незамеченным во время общего возбуждения, которое должно было вскоре наступить от бурдюков с вином; в его голове роились уже планы, как он станет отыскивать в Иерусалиме своих настоящих родителей и как он первый откроется им.
По истечении нескольких часов Думах возвратился.
— Все в порядке! — коротко заметил он на вопросительные взгляды своих товарищей, осушил затем залпом несколько кубков вина, завалился под дерево и вскоре заснул глубоким сном.
Остальная братия продолжала еще вполголоса переговариваться друг с другом. До Тита долетали иногда обрывки их разговоров.
— Пятьсот человек уже согласились, — говорил один, — в успехе нечего и сомневаться!
— Так что же решили сегодня? — спросил другой.
— Да как только взойдет луна, через храмовые ворота нетрудно перебраться. А там Варавва собственной рукой сорвет орла. Говорят, в храме много всякого добра, так не мешало бы и нам поживиться.
— Подожди только, товарищ, еще не то будет, говорят… — тут говоривший понизил голос и наклонился к уху собеседника, так что конца фразы Тит не мог слышать.
— Так он еще здесь? — переспросил разбойник вслух.
— Здесь. Пилат до сих пор еще не смел наложить на него рук, хотя рано или поздно должен будет сделать это.
— А велика ли сумма?
— Еще бы не велика! Да, если бы нам с тобой удалось оборудовать это дельце, то-то зажили бы мы под старость. Нужно только как-нибудь вовремя выбраться из суматохи да попасть поскорее к морю. То-то весело зажили бы мы с тобой в Греции!
— Да, план вполне достоин нашего атамана! Варавва знает?
— Все? О нет, даже не предчувствует, верно. Ведь ты же сам знаешь: он благочестивый иудей и даже сын раввина… Он пылает только желанием поскорее сорвать римский орел с храма, так как считает его оскорблением святыни. Во всяком случае, он дельный малый.
— Тем лучше для нас! Нас никто не знает в стране, и мы можем совершенно легко скрыться, ну а его, беднягу, наверное, заберут и распнут на кресте. Помоги нам Юпитер! — задумчиво проговорил Гест. — Со своей стороны, если все удастся, обещаю принести золотую цепь к его алтарю.
— И я тоже, — воскликнул собеседник.
Очевидно, от их разговора проснулся Думах и потребовал снова вина. Его дикий взгляд остановился внезапно на Тите.
— Что ж нам с этим молодчиком делать? — спросил после некоторого молчания один из разбойников, заметивший взгляд своего атамана.
— Вот об этом-то я и думаю, — проговорил Думах со злой улыбкой, от которой Тит невольно побледнел и инстинктивно вздрогнул.
Кай, с одного взгляда понявший своего атамана, не дал ему говорить дальше:
— Вот попробуй-ка этого винца! — заговорил он, наливая ему кубок и стараясь отвлечь его мысль от Тита. — Прелестное вино! Об заклад готов биться, что ты такого не пивал! Держи еще… Ну, каково?
Думах не торопясь осушил кубок…
— Вино это чего-нибудь стоит! — воскликнул он, причмокивая губами. — Да откуда оно у нас взялось?
— Эге, а вчера-то мы самарянского виноторговца обворовали, забыл? — говорил Кай, наливая до краев другой кубок.
— Мне думается, сегодня ночью лишняя пара рук не помешает? — заговорил он тише. — Смелее и отважнее твоего Тита трудно найти. Вспомни-ка, как он расправился в прошлом году с эфиопом, несмотря на то, что тот был великан в сравнении с ним! Право, он очень нам пригодится!
— А ты что скажешь? — добавил он, обращаясь к Титу. — Хочешь с нами сегодня идти на римлян?
— Хочу! — воскликнул Тит с неожиданным возбуждением. — Только дали бы мне хороший меч в руки!
Думах в четвертый раз подставил Каю свой кубок.
— Я думаю оставить его здесь! — проговорил он медленно. — И потому именно, что он легко может ускользнуть от нас в суматохе, а то еще опять станет мне поперек дороги.
— Не советую тебе этого делать, — возразил Кай, дружески кладя руки на плечи Тита, — если мы его оставим здесь, для нас же больше опасности будет! Я беру его на эту ночь под свой присмотр, и да «хранят» его наши боги, если он сделает какую-нибудь попытку бежать.
— Что бы с ним ни случилось, мне все равно, — проговорил Думах, сильно охмелевший. — Если ночью будет удача, то я буду вполне отмщен за ту несправедливость, какую причинил мне его отец… Ха-ха-ха! Ну, а теперь вперед! Пора отправляться; чтобы не возбудить никаких подозрений, нам нужно будет входить в город кучками человека по три, по четыре; ожидать друг друга будем у винной лавки Клеопы, что на верхнем рынке. Туда придет и Варавва, а как только стемнеет, подойдут и другие. Давайте-ка еще раз выпьем за успех нашего дела.
* * *
Узкая полоса света падала на улицу из дверей лавки Клеопы, когда Тит с Каем подошли к группе других разбойников, рассуждавших о том, действительно ли это место назначено было для сбора.
— Э, знакомый дом! — воскликнул вдруг Иока. — Немало веселых деньков я провел в нем!
— Да разве ты родом из Иерусалима? — спросил Кай.
— Конечно, здесь родился, здесь и воспитывался; мой отец был золотых-серебряных дел мастером. Да еще каким мастером-то! Даже и в храме есть много сосудов его работы. А вот в этой винной лавочке впервые я познакомился с Думахом. Посмотрел бы ты на него тогда, что это за красавец был. Потом с ним что-то случилось, что именно, не знаю, только он бежал в Галилею с женой и с этим ребенком, с этим Титом. Сначала жена называла ребенка Давидом, а потом все стали звать Титом, хотя я вполне убежден, что настоящее его имя Давид.
Тит с напряженным вниманием ловил каждое слово рассказчика и надеялся узнать от него какие-нибудь новые подробности. В руках у него был теперь меч, который дал ему Кай, и он надеялся убежать в темноте от разбойников. Ему страстно хотелось узнать как можно больше подробностей о своем происхождении и о своих настоящих родителях. Кроме того, ему хотелось увидеть Варавву, сына раввина. Совсем непрочь был он, однако, и принять участие в готовившемся нападении на римлян.
«Ну что же, уйду я отсюда, — рассуждал он про себя, — вернусь в Капернаум, придется ведь сознаться, что Бенони был прав. Кроме того, откуда взять денег в уплату за мула и за убытки? А тут подождать часа два — и все же что-нибудь перепадет!»
Между тем, вся компания направилась в винную лавку.
— Смотри, вот Варавва, — шепнул Титу Кай, когда они вошли в лавку. — Вон тот, который разговаривает с Думахом.
Тит посмотрел по указанному направлению и увидел человека с богатырским телосложением, со смелыми чертами лица и живыми, блестящими глазами. Вся фигура его представляла резкий контраст с обрюзгшей от пьянства грубой физиономией Думаха. С первого же взгляда Тит почувствовал невольное уважение к тому человеку и, пробравшись сквозь толпу, стал подле него, чтобы можно было слышать все, что он говорил.
— Он не осмелится снова поставить орла, раз он будет свергнут, — говорил Варавва приятным, звучным голосом. — Довольно уже символ римского могущества осквернял храм Иеговы. О, когда он попадется мне в руки, я его в куски разобью и лично брошу его перед дворцом! В сущности, Пилат трус, каких мало!
— Верно, верно! — одобрительно закричали вокруг.
— Долой проклятого орла!
С громкими криками в каком-то слепом возбуждении все ринулись на улицу.
Титу удалось выскользнуть из лавки почти рядом с Вараввой. Весь рынок уже был заполнен толпой заговорщиков с оружием и факелами в руках.
При появлении вождя воцарилась на несколько минут тишина. Варавва в коротких словах изложил порядок и план нападения. Погасивши факелы, вся толпа двинулась под покровом темноты по направлению к храму. Но, не прошли еще и половины пути, как послышался лязг оружия и чей-то громкий голос спросил у них пропуск.
— Мы погибли, — прошептал Титу Кай (они шагали вместе за Вараввой), — это римская стража!
— Люди, вперед! На римлян! Их всего тут кучка! — закричал Варавва.
С громким криком толпа бросилась вперед. В то же мгновение послышался конский топот, звон мечей и военные крики римлян. Варавва уже был в самом центре схватки и сражался с отчаянною храбростью, но ясно было, что беспорядочной шайке мятежников не удастся прорваться через ряды римских всадников.
— Нам изменили, — шепнул Думах Каю, — бежать надо поскорее отсюда, сегодня уже ничего не выйдет! Римляне, как пчелы, лезут на нас.
Почти в тот же момент из передних рядов раздался чей-то неистовый крик:
— Гарнизон идет! Варавва в плену! Спасайтесь…
Беспорядочная толкотня поднялась среди мятежников, каждый думал только о себе и о своей собственной безопасности. Тит быстро отделился от других и бросился в темноту, в одну из улиц города. Видя, что никто его не преследует, он остановился передохнуть на минуту. Крики солдат и мятежников все больше и больше терялись вдали.
«Теперь я спокоен, — подумал он. — Если удастся до утра пробыть где-нибудь незамеченным, мне легко будет завтра уйти из города, лишь только отворят ворота. Прямо приду к Бенони и расскажу ему все, как было: он мне поверит. Однако почему моя туника стала такой теплой и влажной?» Раздумывая об этом, он почувствовал внезапно жгучую боль в голове. «Ранен!» — подумал он прежде всего, и действительно, он нащупал рукой довольно глубокий шрам на голове, из которого обильно лила кровь.
— Странно! — прошептал он. — Я и не заметил, как меня ранили.
Через несколько минут он почувствовал сильную слабость и головокружение; опираясь о стенку, он стал осторожно двигаться вперед вдоль по улице…
Взошла луна, и при свете ее Тит заметил, что он вышел на обширную площадь; на противоположном конце ее пылал костер, вокруг которого двигались темные силуэты людей. «Если никто не поможет мне, все равно истеку кровью на улице!» — подумал Тит и медленно направился к тому месту, где виднелся огонь, не подозревая даже, какой опасности он подвергается.
Не дойдя несколько шагов до костра, он почувствовал себя дурно и, испустив болезненный крик, без чувств упал на землю.
— Что там за крик еще? — спросил один из сидевших у костра солдат римского гарнизона.
— Я ничего не слышал, — ответил другой.
— Кто-то вскрикнул сейчас совсем близко отсюда. Это, наверное, кто-то из мятежников, — обратился к ним начальник отряда. — Наши люди преследовали их до городских предместий, взяли при этом многих пленных. Захватили между другими и самого Варавву. Будет на что посмотреть нам теперь на иудейской пасхе.
— А что такое? — спросил один из солдат.
— Кресты, конечно. Ведь ты знаешь, что Пилат распинает иудеев-бунтовщиков, и умно делает! На праздник в город собирается их несметное количество, и кресты им внушают гораздо больше почтения и страха, чем все наши легионы!
— Тсс… опять стон! — проговорил один из собеседников.
Он быстро зажег факел, и, подняв его над головой, осветил им окрестность.
— Сюда, сюда! — крикнул он, направляясь к Титу. — Это, кажется, раненый! Помогите немного поднять его!
Несколько дюжих рук перенесли раненого Тита к костру и все с любопытством столпились вокруг.
— Кто бы это мог быть? — спросил один.
— Судя по лицу — иудей… И, по-видимому, из бунтовщиков, — произнес начальник отряда.
— Оторви-ка от его платья кусок материи да перевяжи ему рану! У него глубокий шрам и он непременно истек бы кровью. Подай-ка сюда вина и дай ему глоток!
Под влиянием теплоты от костра и нескольких капель вина Тит понемногу пришел в себя.
— Можешь встать или нет? — поднимаясь с земли, спросил начальник.
Вместо ответа Тит встал с земли, хотя со значительным трудом.
— Ты принимал участие в мятеже? — начал допрос офицер.
— Да, — тихо ответил Тит, — принимал. Только…
— Эй, Кай, Брут! Отведите его в темницу! — перебил его офицер.
И прежде, чем Тит успел выговорить хоть одно слово в свое оправдание, двое солдат схватили его под руки, и вскоре он очутился уже в темнице. Здесь он упал на пук гнилой соломы, лежавшей на каменном полу, и, несмотря ни на страх за будущее, ни на жестокую боль в голове, тотчас же заснул как убитый!
Глава 21. Приговор над Титом и Думахом
Больше недели томился Тит в сырой и мрачной, как могила, тюрьме. Но вот однажды утром его разбудили несколько человек тюремной стражи и, приказав ему следовать за ними, быстрым маршем повели по улицам проснувшегося Иерусалима, ко дворцу римского правителя. Пройдя через охраняемые многочисленной стражей ворота, они очутились в судилище, или претории.
Тит осмотрелся вокруг: весь зал уже был битком набит всякого рода людьми: иудеями и язычниками, мирными жителями и воинами.
Возвышаясь надо всеми, в великолепном кресле сидел римский наместник Понтий Пилат. На мгновение под наплывом беспорядочных томительных мыслей Тит, кажется, совершенно забыл, что происходило вокруг него. Дикий, хотя и сдержанный шум страшно возбужденных голосов окружавшей его толпы заставил его прийти в себя. Оглянувшись еще раз, Тит заметил недалеко от себя мощную фигуру Вараввы. Скованный по рукам и ногам, со стражей по сторонам, стоял он на каком-то возвышении прямо перед судьей.
— Ты обвиняешься в том, что вечером в 27-й день месяца адара (марта — ред.) поднял мятеж и собственными руками умертвил нескольких римских солдат при исполнении ими своих обязанностей. Что ты скажешь в свое оправдание?
— Где же мои свидетели? Пусть они выступят! — смело произнес Варавва, глядя прямо в лицо правителю.
— Приведите свидетелей! — отдал приказ Пилат.
Через несколько минут в зал суда вошло несколько человек, среди которых Тит, к немалому своему удивлению, узнал Геста. Свидетели показали, что обвиняемый в ночь на 28-й день месяца адара устроил заговор против правительства, что он действительно виновен в смерти многих римских воинов.
— Что скажешь на показания свидетелей? — спросил Понтий Пилат.
— А что сами свидетели делали в тот вечер? — с ядовитой усмешкой спросил в свою очередь Варавва.
— Тебя это вовсе не касается! — строго заметил Пилат. — Говори, что ты можешь привести в свое оправдание, или я произнесу над тобой приговор!
— Я хотел бы сказать, — начал Варавва, хорошо понимая безнадежность своего положения, — что я сожалею только об одном: что нам не удалось сорвать с храма Иеговы вашего ненавистного орла! Если бы все римляне, оскорбившие храм Божий, имели бы одну общую шею, я без всякого сожаления перерубил бы ее одним взмахом меча, чтобы освободить землю от них.
Эта пылкая речь была встречена тотчас же громким шиканьем и свистом со стороны римлян и сдержанным шепотом одобрения со стороны присутствующих иудеев.
Пилат побледнел как мертвец и дрожащим от гнева голосом произнес:
— Ты сам объявил себе приговор, мне остается только повторить его. В ближайший пяток, то есть 15 нисана (апреля — ред.) ты будешь пригвожден ко кресту и останешься на нем до тех пор, пока не испустишь дух. Кроме того, тебя подвергнут страшному бичеванию: один раз теперь, при выходе из претории, другой раз — перед распятием.
И с этими словами Пилат дал знак страже увести осужденного.
Тит едва не лишился чувств, услышав жестокий приговор Пилата, но на Варавву он, по-видимому, не произвел никакого впечатления, и он оставил залу суда с тем же гордым, бесстрашным выражением лица, какое было у него в ту ночь, когда он готовил восстание.
После этого перед Пилатом предстали человек пятьдесят других лиц, обвинявшихся в мятеже. После некоторого расспроса прокуратор велел их отпустить, подвергнув предварительно жестокому бичеванию и продержав затем ночь в колодках.
Когда их увели, Пилат, поговорив немного со своими чиновниками, приказал привести других обвиняемых. Солдаты, стоявшие рядом с Титом, грубо втолкнули его на возвышение, и здесь, к величайшему своему удивлению, Тит очутился лицом к лицу с Думахом. Со своей стороны и Думах, как видно, вовсе не ожидал встретить здесь Тита. Увидев его, он с изумлением раскрыл глаза, и в то же время злорадная улыбка засветилась на его лице.
— Обвиняемые, — обратился к ним Пилат, — вы повинны в трех различных преступлениях: в открытом грабеже, убийстве, мятеже против правительства. Выслушайте сейчас показания свидетелей, и потом пусть каждый скажет, что знает, в свою защиту!
Первым из свидетелей выступил тот самарийский купец, вино которого удостоилось таких высоких похвал от Думаха. Он рассказал о том, как путешествовал по делам из Самарии в Иерусалим, как напали на него разбойники и как они отняли у него весь его товар, состоявший из нескольких мехов превосходного вина. Снявши с него одежду, избивши его и вдоволь надругавшись над ним, они оставили его полумертвого на дороге. К счастью, той дорогой проходил один из его соплеменников, который и спас его от неминуемой смерти. В заключение он заявил, что узнает в предстоящих судье обвиняемых тех самых злодеев, которые ограбили его и избили.
Второй свидетель с клятвой утверждал, что в ночь, когда произошел мятеж в городе, он видел этих людей в сообществе Вараввы в винной лавочке Клеопы и затем в схватке мятежников с римской стражей.
Последним свидетелем оказался Гест. Давая показания, он старательным образом избегал смотреть на Думаха и все время не сводил глаз с Пилата.
— Что ты можешь сказать против этих людей? — обратился к нему Пилат.
Гест опустил глаза в землю, потом поднял их на Пилата и боязливо посмотрел на стражу. Казалось, он чувствовал на себе призывающий взгляд Думаха.
— Мне обещали дать свободу, — заговорил он наконец робким голосом, — если я открою всю истину об этих людях. Могу ли я рассчитывать на свободу, ваша милость?
— Римляне всегда исполняют свои обещания. Переходи скорее к делу! — нетерпеливо вскричал Пилат.
— Слушаю, ваша милость! — с низким поклоном ответил Гест и тотчас начал свои показания:
— Обвиняемый Думах, который стоит перед судом, был атаманом нашей шайки. Всех нас было двадцать человек, но делом занимались только двенадцать. Постоянное место жительства наше было в Капернауме, занимались же мы большею частью на проезжих дорогах к Иерусалиму. Для грабежей здесь не было, конечно, недостатка, и часто мы приносили домой богатую добычу. С пойманными на дороге мы обращались, как когда вздумается: иной раз выпускали на волю, а иного приканчивали там же.
— А сколько примерно жертв было убито вами? — прервал рассказ Пилат.
— Не могу точно сказать этого, ваша милость. Мы никогда не считали убитых.
— Этот юноша тоже из вашей шайки? — спросил Пилат, указывая на Тита.
— Раньше он принадлежал к нам. Его зовут Титом, атаман выдает его за своего сына, но мы все были твердо убеждены, что Думах украл Тита, когда он был еще ребенком, и что он вовсе ему не родня.
— Я об этом не спрашиваю! Мне нужно знать, принимал ли он личное участие в ваших разбоях?
— По природе он добрый малый, — помолчав с минуту, ответил Гест. — Из него вышел бы хороший, честный человек.
— Отвечай прямо на вопрос: убил он кого-нибудь?
— Один только раз он с эфиопом разделался, да и то это было в честном бою, потому что тот сам его сначала затронул.
Но Пилат уже его не слушал.
— Вы слышали, что высказали против вас свидетели? — обратился он к обвиняемым. — Как атаман, ты говори первым. Что можешь сказать в свое оправдание?
Думах выступил вперед и жалобным, гнусным голосом начал:
— Последний свидетель говорил одну ложь, ваша милость, постыдную ложь! По своим занятиям я рыбак и совершенно честный человек. Юноша этот мой сын, своевольный и упрямый мальчишка, который не раз уже строил мне всякие пакости. В его характере много дурного, к несчастью. Я и в Иерусалим нынче пришел только для того, чтобы отбить сына от компании разных негодяев, с которыми он связался здесь; потому-то я и очутился в винной лавке Клеопы. Моему сердцу больно, что я должен свидетельствовать против собственного сына.
— Довольно, довольно! — остановил его Пилат. — По твоей физиономии видно ведь, что ты прекрасный гражданин и примерный отец, но все же нам придется пожертвовать тобой в угоду гостям, которые придут на праздник в Иерусалим. В пятницу, пятнадцатого апреля, ты будешь висеть на кресте вместе с Вараввой.
— Отведите его, — приказал он солдатам. — А ты, недостойный сын, что скажешь в свое оправдание?
Тит растерянно осмотрелся вокруг, как бы ища защиты и поддержки. Но он увидел перед собой лишь насмешливую физиономию своего судьи да враждебные лица стражи по бокам. Голова его отяжелела, силы его оставили и с разрывающим душу криком он крикнул:
— Стефан! Мама! — и упал на колени.
Но Пилату уже надоела длинная процедура суда.
К тому же, время приближалось к обеду, а он ожидал сегодня гостей. После всего пережитого утром он чувствовал особенную потребность в отдыхе.
— Довольно, — с явной досадой произнес он, поднимаясь с кресла, — здесь не место слезливым сценам! Тебя распнут с остальными злодеями. Одним негодяем меньше будет на свете! Уведите его назад в темницу!
Титу снова пришлось лечь на гнилую солому в сыром подвале тюрьмы. С виду он был спокоен и не думал, по-видимому, ни о прежних сценах суда перед римским наместником, ни об ожидавшей его ужасной участи. Перед ним вставали теперь сцены из мирной жизни на берегах Геннисаретского озера, живые образы Стефана и Приски, миленькое личико маленькой Руфи и добродушная физиономия старого Бенони.
Вместе с другими, длинной вереницей проносившимися в его памяти, как яркий луч света предстал вдруг пред его умственным взором образ Великого Назарянина, — образ прекрасный, полный величавой таинственности, исполненный любви Божественной, превосходящей всякую земную любовь. Титу показалось даже, будто он слышит обращенные к нему слова Учителя: «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Слова эти успокоили измученный дух Тита, он закрыл глаза и через несколько минут заснул.
Он видел сон. Ему казалось, будто он снова со Стефаном. Они вышли вместе гулять на какой-то красивый луг. Прелестное было это местечко: под ногами их пестрели цветы всяких видов и запахов, а над головами в необозримом просторе неба виднелись жаворонки и весело щебетали своим звонким, как серебро, голоском.
Стефан говорит ему:
— Слышал ты, как говорил Учитель: «Посмотрите на лилии полевые, как они растут. Не трудятся, не прядут, но говорю вам, что и Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякая из них»? Отец наш Небесный любит и заботится о нас больше, чем об этих лилиях, ведь мы — Его дети! Учитель не раз говорил об этом.
— Ты — Его дитя, — с неописуемой грустью ответил Тит. — А я даже не знаю, чей я сын!
Он поднял вверх глаза и увидел впереди себя Человека в белоснежной одежде.
— Кто это? — спросил он Стефана.
— Господь, Господь!.. — радостно воскликнул Стефан и бросился к Нему навстречу.
А Тит остался на прежнем месте, не смея прямо взглянуть в лицо Спасителю. Стефан в избытке радости и благоговейного восторга припал к ногам Его. Иисус же простер Свою руку, поднял его с земли, и оба они среди лилий полевых стали приближаться к Титу.
«Чадо Мое!» — прозвучал голос Спасителя.
В ту же минуту вся скорбь, вся горечь, накопившаяся в душе Тита, сменилась светлым чувством любви и благоговения. Учитель наклонился над ним, ласково коснулся чела его и снова произнес:
— Ты — Мой, Божий…
Глава 22. Смерть Приски
Прошло уже больше месяца с тех пор, как Стефан со своею матерью поднимался по скалистой тропинке к Назарету, а они все еще жили в гостеприимном доме Марии, Матери Назарянина. С того вечера, когда Приска в первый раз попала в дом Марии, она уже не поднималась с постели, и опытный взор Хозяйки дома уже ясно видел, что дни больной сочтены. Однажды, склонившись над постелью умирающей, чтобы помочь ей приподняться, Мария ласково сообщила ей о Своем намерении известить о ее болезни Иисуса и просить Его, чтобы Он исцелил ее.
— О, нет! — воскликнула вдруг с неожиданными слезами больная. — Я скоро умру… Но я нисколько об этом не сожалею, сердце мое радуется, что мне придется умереть в этом мирном, благословенном жилище.
И действительно, Приска, видевшая слишком мало светлых часов в своей жизни, чувствовала себя совершенно счастливой в мирном домике Марии. Часто, окончив дневные заботы по хозяйству, Мария приходила с каким-то рукоделием в руках в комнату, где лежала больная, садилась у ее изголовья и подолгу беседовала с ней. Она рассказала однажды о том великом, чудесном событии, которое произошло в Вифлееме; рассказала о путеводной звезде, о славословиях Ангелов, о поклонении волхвов, пришедших с дальнего востока… В другой раз, когда в комнате был и Стефан, Мария поведала им, как Ангел Божий предупредил их об опасности со стороны Ирода, и как они бежали затем с Младенцем Иисусом в Египет. Рассказывала Она и о жизни в Египте, о стране, о людях… И о Своем возвращении из Египта в Палестину. И о том, как они поселились в Назарете. Стефан с жадным вниманием вслушивался в рассказы Марии.
— Вот на той скамье, что под пальмой, — рассказывала Мария, — любил сидеть в детстве Иисус. Я же обыкновенно приходила туда с какой-нибудь ручной работой. Бывало, в то время как другие сверстники шумно толпились где-нибудь у колодцев или лазили по деревьям и разоряли птичьи гнезда, Он предпочитал оставаться подле Меня. Однако никто не мог бы сказать, чтобы Он был скучен или угрюм. Нет, все считали Его, наоборот, самым счастливым ребенком.
— Когда кто-нибудь плакал, — продолжала Мария, — Он утешал его и всем одинаково готов был помочь и всех привлекал к Себе лаской и любовью. Дети соседей, бывало, как пчелки вьются около Него… Сядет Он вот там, на скамье, а около Него уже целая дюжина деток: кто на руках у Него, кто — прислонившись к коленам Его, кто — сидя на земле… И все слушают с затаенным дыханием Его речь. Он же рассказывал им о птицах, которые с любовью терпеливо вьют себе гнездышки и без отдыха трудятся, чтобы вырастить своих деток; о красивых и нежных цветах, растущих в уединенных долинах, где никто, кроме Бога, не видит их… А по субботним дням Иисус читал иногда псалмы или рассказывал деткам истории из библейских времен: о Моисее в тростниковой корзинке и о египетской царевне; об огромном Голиафе и смелом отроке Давиде; о силаче Самсоне и о многих других героях Священной истории.
— Ах, — невольно воскликнул при этих словах Стефан, — как я хотел бы быть тогда в Назарете!
Ласковая, нежная улыбка озарила лицо Марии.
— Ты знаешь, — сказала Она, гладя рукою его волосы, — иногда ты напоминаешь Мне отроческие лета Иисуса, потому Я так часто говорю с тобой о Его детстве.
Так проходило время в доме Марии. К больной Приске Она относилась с глубоким состраданием. Но от Ее проницательного взора не укрылось, что Приска имеет какое-то тяжелое воспоминание о своей жизни. Однажды, сидя по обыкновению у постели больной, Мария заметила, как на сомкнутых ресницах Приски выступили слезы и медленно покатились по ее иссохшим щекам.
Мария встала, наклонилась к больной и, взяв ее похолодевшую руку, ласково проговорила:
— Почему ты не хочешь Мне доверить своего горя?
Больная раскрыла усталые веки и пристально посмотрела в лицо Марии.
— Хорошо, — произнесла она, тяжело вздохнув, — я поведаю его Тебе. Много уж лет назад совершила я тяжелое преступление; оно-то и тяготит меня всю мою жизнь, потому что не хватило у меня смелости вовремя исправить его.
Вслед за этим Приска стала рассказывать Марии известную уже нам историю похищения Тита.
— Зачем же ты взяла с собой чужое дитя? — спросила Мария во время паузы в рассказе.
— Думах приказал мне это сделать, а сама я и в помыслах никогда не имела украсть ребенка. Я очень любила его. Сначала я все думала как-нибудь возвратить его матери, но когда однажды я, было, заикнулась о своем намерении Думаху, то он до полусмерти избил меня. Вот теперь Ты знаешь, какая я грешница! Я недостойна быть под Твоим кровом!
Мария помолчала с минуту, потом поцеловала больную в лоб и спокойно и уверенно проговорила:
— Не печалься! Еще можно исправить твою ошибку. Пошли немедленно Стефана в Капернаум, чтобы он привел Тита. Он, без сомнения, придет сюда, когда услышит, что ты больна и хочешь переговорить с ним о близко касающемся его деле. Ведь ты могла бы представить доказательства его настоящего происхождения?
— Конечно! — с живостью воскликнула Приска, доставая из-под подушки небольшой, завернутый в платок сверток. — Вот та самая одежда, которая была на Давиде, когда я похитила его. Я берегла ее до сих пор; ее вышивала сама мать. А вот эту серебряную цепь подарили мне его родители, когда избрали меня няней маленького Давида. Ах, как подло отплатила я им за их доверие! Что будет со мной?!
— Конечно, вина твоя велика, — заговорила Мария, — но если ты искренно, от всего сердца раскаешься перед Богом, Он простит тебе твой грех, как простил некогда Давиду убийство Урии.
— Богу известно, как искренне я раскаиваюсь! — вздохнула Приска, и слезы снова покатились по ее щекам.
— Ты знаешь Моего Сына, Иисуса, как Его все называют? — спросила внезапно Мария.
— Я видела Его и все время ожидала удобного случая поговорить с Ним и поблагодарить Его за исцеление Стефана. Но я ни разу не решилась окликнуть Его, так как сознавала всегда тяжесть моих грехов.
— Разве ты не слышала, — задумчиво проговорила Мария, — что Он пришел в мир для того, чтобы спасти грешников?
— Как Он спасет их? — в видимом возбуждении спросила Приска.
— Он часто говорит: «Верующий в меня не погибнет, но будет иметь живот вечный», — ответила Мария.
— Но во что же нужно верить, чтобы спастись? — дрожащим от волнения голосом допытывалась Приска.
— Нужно верить, что Он пришел из Небесного Царствия, чтобы изыскать и спасти погибших.
— Да разве я могла думать о Нем что-нибудь другое после того, как Он исцелил моего Стефана от болезни, которая была бы для него мучением до самой смерти! — радостно воскликнула Приска.
От сильного возбуждения она ослабла, опустилась на подушку и несколько минут лежала с закрытыми глазами, так что Марии показалось даже, что она заснула. В это время в комнату вошел Стефан, приблизился к постели и пытливо стал всматриваться в бледное лицо матери.
— Ну что, — обратился он вполголоса к Марии, — лучше ли теперь маме?
При первом же звуке его голоса Приска открыла глаза и повернулась лицом к сыну.
— Я большая грешница, Стефан, — начала она, — но Он пришел спасти грешников… и душа моя покойна. Прошу тебя только об одном: сходи, разыщи Тита и передай ему вот этот узелок! Мария расскажет тебе после обо всем.
Умирающая закрыла снова глаза и впала в забытье.
Мария и Стефан всю ночь бодрствовали у постели Приски. При наступлении дня бледные губы несчастной еще раз зашевелились, и Стефан, склонившись над матерью, расслышал ее последние слова:
— Стефан, Стефан!.. Иисус!..
Через несколько минут она отошла в вечность.
Когда же совершен был обряд погребения, Стефан услышал из уст Марии историю Тита, которая сильно взволновала его.
— Бедная мама, — с грустью проговорил он, — что ей пришлось только вытерпеть!
Затем он начал рассказывать Марии, чтj сам знал о поведении отца и о его издевательствах над Приской…
— Однако же он один у меня остался на свете! — не без горечи закончил он свой рассказ.
— Неужели только один? — с ласковой улыбкой переспросила Мария.
— Нет, нет, тысячи раз нет! — воскликнул Стефан, поняв внезапно смысл Ее вопроса. — В тот момент, когда мама перед самой смертью вместе с именем Учителя произнесла и мое, я понял, что нужно мне делать. Ему я посвящу мою жизнь!
— И ты изберешь благую часть! — добавила Мария, задумчиво обратив Свой взор к вершинам видневшихся вдали гор. — Не знаю, что готовит Ему будущее. Насколько мне известно, у Него много ожесточенных врагов, так что я опасаюсь иногда даже за Его жизнь!
— Но разве Он не возлюбленный Отца, не единородный Сын Его? — просто заметил Стефан. — И разве не может Отец чудесно спасти Его от рук врагов?
— Нет, как написано, Он приведет всех врагов Его к подножию ног Его, — ответила так же просто Мария, — и Он славно прославится…
— Завтра утром, — обратилась она через несколько минут к Стефану, — ты должен отправиться в Капернаум, как говорила твоя мать. Там разыщи Давида и передай ему все, что знаешь. Я же отправлюсь в Иерусалим…
На следующее утро они были уже в дороге.
Глава 23. Предательство Иуды
Опустив голову и заложив за спину руки, Каиафа быстрыми шагами ходил по своей комнате. Глаза его гневно сверкали из-под нависших бровей, а из уст время от времени вырывались угрожающие возгласы:
— Богохульник, вот Кто Он! Он должен погибнуть, во что бы то ни стало! Я, первосвященник, клянусь в этом. Он не должен мне больше служить помехой.
За стеной в это время послышались шаги и раздался легкий стук в дверь. Каиафа открыл двери и впустил в комнату слугу.
— А, это ты, Малх! — обратился он к вошедшему. — Ну, что ты узнал нового?
Слуга почтительно поклонился:
— Досточтимый господин, — начал осторожно рассказывать Малх, — согласно твоему желанию я съездил в Вифанию. Жилище Лазаря я нашел без всякого труда: на улицах я встретил целые толпы народа, которые спешили пробраться к дому Лазаря. Домик у него, правда, скромненький, но по виду очень опрятен; стоит он в нижней части города.
— Да что мне в том, каков дом у твоего Лазаря, — нетерпеливо прервал словоохотливого рассказчика Каиафа. — Я хочу узнать поскорее о самом Лазаре. Видел ли ты его собственными глазами?
— Видел, видел! — подтвердил Малх. — Он теперь совершенно здоров; когда я пришел к нему, он стоял в саду и разговаривал с народом.
— Так-так, разговаривал с народом! — со злобной усмешкой повторил Каиафа. — Много нынче проповедников развелось в нашей стране. О чем же он говорил?
— Он рассказывал историю своего воскресения. Говорил, например, что в гробу ему казалось, будто он спит. С трудом он припоминает какие-то чудные видения, бывшие ему во гробе, хотя он и не может определенно сказать, чего касались эти видения. Больше всего, однако, он благодарит Назарянина, Которого называет Сыном Божиим…
При этих словах Каиафа даже побледнел от ярости.
— А народ что? — спросил он.
— Все присутствующие громко восклицали «Аллилуиа!» и «Осанна Сыну Давидову!». Вся Вифания только и толкует об этой истории. С тех пор, как мир стоúт, такого чуда еще не было.
— Это явная ложь и больше ничего! — воскликнул Каиафа, вне себя от гнева. — Назарянин и его ученики просто выдумали эту историю, чтобы как раз к празднику привлечь к себе общее внимание. А у других ты допытывал, как произошло все дело?
— В Вифании все считают его, безусловно, чудом. Как ты мне приказал, я старательно расспрашивал всех, и в особенности людей умных и ученых. В городе все считают это чудом. Я даже сам осматривал гроб, в котором лежал Лазарь. Что бы там ни случилось, для меня осталось ясным одно: он, несомненно, был мертв и четыре дня заключен был в пещере! Остается только загадкой, как мог Назарянин, не имея власти и силы Божией, пробудить его!
— И тебя, видно, лукавый опутал! — гневно воскликнул Каиафа. — Смотри у меня! Берегись же!
— Да я вовсе не приверженец Его! — оправдывался Малх. — Мне только непонятно, как все это произошло?
— Ну, довольно, — перебил его Каиафа, — оставь меня в покое, иди, приготовь зал для заседания. Через час чтобы все было в порядке!
— Долго мы слишком снисходительно смотрели на Его дела. Теперь без всяких промедлений нужно покончить с Назарянином!
Человек, говоривший эти слова, был не кто иной, как почтенный Анна, — самая выдающаяся личность среди членов верховного судилища, заседавших в одной из зал обширного дома первосвященника Каиафы.
— Если мы оставим Его в покое, как делали последние три года, то, чего доброго, и мы все уверуем в Него. Тогда придут римляне и отберут у нас землю и людей. Если бы раньше все устроилось по моему совету, никогда это дело не разрослось бы до таких размеров. В самом начале было бы гораздо легче избавиться от Него. А теперь у Назарянина множество последователей, так что будет очень трудно уничтожить Его!
— Я не согласен с тем, что Этот Человек достоин смерти, — мягко заметил Никодим. — По моему мнению, Он все-таки ничего не сделал, чтобы заслужить смерть.
— Э, ты ничего не понимаешь, я вижу, — вскипел Каиафа. — Гораздо лучше ведь одному человеку умереть, чем целому народу погибнуть!
— Ты — первосвященник Бога Вышнего, и Сам Иегова говорит твоими устами, но Боже упаси нас присудить к смерти невинного! Я, по крайней мере, не берусь разрешить это дело.
— Мы давно подозревали, что ты принадлежишь к Его ученикам! — язвительно заметил Никодиму Анна. — Тебе давно уже не следует иметь место в синедрионе. Ступай лучше к своему Учителю, Сыну плотника. Присоединись к сонму Его учеников, набранных Им из подонков общества… Ступай!
Никодим ничего не ответил на слова Анны. Он поднялся со своего места и с достоинством оставил зал совета.
— Пускай уходит, — проговорил Иоханан, — к чему же теперь тратить слова, если дело для всех очевидно. Не так ли?
Послышались громкие возгласы одобрения присутствующих. Только один Иосиф, родом из Аримафеи, не высказал своего одобрения и опустил глаза в землю.
— Какого вы, например, мнения о так называемом чуде, которое будто сотворил Назарянин над известным Лазарем из Вифании? Как я слышал, дело это произвело сильное возбуждение во всей окрестности, — продолжал Иоханан. — Мне кажется, самое лучшее было бы — положить Лазаря снова в гроб, откуда его вынули. Если он был действительно мертв, то на это была воля Божия и он должен остаться мертвым. Поэтому, если мы погребем его в землю, мы только приведем в исполнение приговор Иеговы и не допустим этим ничего противного закону. Правильно ли я рассудил?
— Совершенно правильно, — ответил Анна. — Все сказанное тобою разумно. Очевидно, человек окончил предназначенный ему Богом срок жизни, и в высшей степени вероятно, что телом его овладел дух нечистый и продолжает теперь через него различные богохульства. Он немедленно должен быть предан смерти, об этом не может быть споров. Только нужно скорее действовать, пока не ходит за ним народ! Заметьте еще: как бывший труп, он не имеет права жить на земле, и каждый, кто войдет с ним в какое бы то ни было соприкосновение, осквернится через него.
— Оставьте вы Лазаря в покое! — раздался вдруг голос Иосифа Аримафейского. — Я лично знаю его как честного и благочестивого человека и видел его вскоре же по воскресении его из мертвых. Уверяю вас: никакого беса в нем нет! Он глубоко верит, что Назарянин воскресил его из мертвых, и ничего дурного не делает, а славит лишь Бога и Назарянина, спасшего его от смерти.
— К этому вопросу мы еще успеем воротиться, — примирительным тоном заговорил Анна. — Не знает ли кто из вас, где находится Этот Иисус из Назарета?
— Он живет в Вифании, в доме Лазаря, — ответил Каиафа, — я узнал об этом при входе в залу заседания. Но Он намеревается прийти на праздник в Иерусалим. Нам нужно будет действовать против Него осторожно и по возможности тайно, чтобы не произвести ропота в народе. Кроме того, всем нам, конечно, известно, что мы не имеем права присудить Его к смертной казни, поэтому нужно отыскать в Нем какую-нибудь вину, за которую можно было бы обвинить Его перед римским судом.
При напоминании о римском иге недобрые огоньки блеснули в глазах большинства присутствующих. Заметив это, Анна поспешил смягчить слова Каиафы:
— В сущности, римляне во всем, что касается нашей святейшей религии, являются нашими пособниками. Доказательством их расположения является хотя бы наш храм. Никакого насилия от них нам не надо опасаться: наоборот, нужно стараться как можно ближе сойтись с ними. Иисуса же следует только обвинить в попытке поднять народное волнение, и все будет готово! Мы сможем преспокойно передать Его в руки Пилату, чтобы он судил Его на смерть. Завтра нужно только в особенности строго следить за тем, чтобы не упустить Его из вида. Завтра суббота, но по нужде можно отложить закон.
Громкий стук в дверь прервал речь Анны. Каиафа мрачно насупил брови и встал со своего места.
— Кто осмелился нас беспокоить?
— Наверное, что-нибудь важное, иначе прислуга не впустила бы никого.
По его знаку один из членов отворил дверь, но тотчас же снова захлопнул ее и, возвратившись назад, с таинственным видом сообщил присутствующим, что за дверью стоит один из приверженцев Назарянина и что он, наверное, желает переговорить с первосвященником.
— Не прикажешь ли ему войти сюда? — обратился к первосвященнику Анна. — Кто знает, быть может, он раскаялся в том, что последовал за Назарянином, а в таком случае для нас он как нельзя кстати: он может доставить нам какое-нибудь свидетельство против Него.
— Пусть войдет! Я ничего не имею против этого, — отозвался Каиафа и сделал знак войти.
При глубоком молчании присутствующих в комнату медленной поступью вошел человек среднего роста, с мрачным, отталкивающим выражением лица. Анна ласково улыбнулся ему и слащавым тоном произнес:
— Ну, подойди поближе, приятель, и расскажи, в чем ты нуждаешься!
Вошедший пытливо осмотрел все стороны.
— Ты первосвященник? — спросил он хриплым голосом.
— Первосвященник я! — нетерпеливо отозвался Каиафа. — Чего ты от меня хочешь?
— Ты, наверное, пришел поговорить с нами насчет Назарянина? — спросил Анна.
Глаза пришедшего странно блеснули при этом вопросе и злобная улыбка показалась у него на губах.
— Да, да, — громко заговорил он, — я не могу выносить Его больше! Случайно я узнал, что ты Его смертельный враг, потому я и пришел сюда.
— Ага, — снисходительно улыбнулся Анна, — захотел снова возвратиться в лоно церкви своих отцов, вместо того чтобы хромать на правую и левую ногу, так?
— К церкви отцов моих не тянет меня, — почти грубо ответил незнакомец. — Мне нужны деньги. Что ты дашь мне, если я предам в твои руки Назарянина?
При этих словах Каиафа порывисто вскочил с места, и радостная улыбка озарила его лицо.
— Что я тебе дам? — воскликнул он. — Слушай…
Но Анна не дал ему договорить.
— Позволь мне с ним разделаться, сын мой, — шепнул он ему на ухо, — я умею лучше тебя обходиться с такими людьми!
И затем как ни в чем не бывало обратился к гостю:
— Твои показания, любезный, не могут быть для нас слишком дороги, так как мы сами знаем точно, где бывает Назарянин. Но, может быть, ты будешь полезен нам в ином отношении, и уж тогда, конечно, за сребрениками дело не станет. Хочешь получить двадцать серебряников?
Незнакомец покачал головой:
— Слишком мало! Ведь я ежедневно бывал при Нем и знаю все Его укромные местечки гораздо лучше, чем ты.
— Я с этим не спорю, зато себе самому я и половину не заплатил бы, что предлагаю тебе, — с хитрой улыбкой возразил Анна. — Ну вот что, доставь нам Этого Человека в руки так, чтобы об этом никто не узнал, понимаешь? Тогда дам тебе тридцать сребреников, сумму слишком крупную для твоих заслуг, хе-хе-хе!
Незнакомец, видимо, колебался и растерянно смотрел на присутствующих. Каиафа хотел было вмешаться в разговор и покончить сделку, но Анна предупредил его и спокойным, почти строгим голосом произнес:
— Ну, что же? Или решайся, или ступай отсюда! У нас ведь здесь и другие есть дела, а Учитель твой и без тебя погибнет!
С минуту продолжалось молчание.
— Ну ладно, согласен за тридцать сребреников, хотя и маловато это. Я человек бедный и с большим трудом добываю себе хлеб для пропитания, а тут еще я пропустил без дела много месяцев, странствуя с Этим Иисусом. Глупец, я считал Его сначала за Мессию! Но Он не Мессия! Не Мессия!
— Правильно и умно ты поступил, как по отношению к себе лично, так и по отношению к нам, — уже ласково произнес Анна и, приблизившись к дрожащему всем телом негодяю, прибавил:
— Прежде чем уйти, ты получишь от меня сытный обед и кубок доброго вина. Скажи, как тебя зовут и в каких отношениях находишься ты с Назарянином?
— Зовут меня Иуда Искариот, — ответил он так тихо, что Анна с трудом мог понять его. — Я один из тех двенадцати, которые постоянно бывают с ним.
— Так значит, ты Его доверенный ученик? — воскликнул Анна, обводя присутствующих торжествующим взглядом. — Это лучше, чем я ожидал.
— Будь же осторожен, любезный! — продолжал он, обращаясь к Иуде. — Назарянин не должен и почувствовать, что ты был здесь! Ступай снова к Нему и оставайся при Нем, как всегда, до тех пор, пока ты не будешь в состоянии наверняка предать Его в наши руки. Понимаешь ли — наверняка! То есть так, чтобы в народе не возникло ни тени неудовольствия или волнения. Остальное мы уже сами уладим. Деньги тебе будут выданы без задержки. А пока вот тебе задаток!
И с этими словами он сунул в руку предателя золотую монету. Иуда жадно схватил ее и, низко кланяясь, принялся бессвязно благодарить старца.
Анна был в восторге.
— Малх, — проговорил он, открывая двери, — позаботься, чтобы этому «доброму» человеку дали чего-нибудь поесть, да принеси ему кубок вина!
— Я не нищий, — проговорил вдруг с неудовольствием Иуда, — я ничего от вас не хочу, кроме того, что мне следует!
И затем, посмотрев в упор на Анну, дрожащим от скрытой ненависти голосом прибавил:
— Не бойся, Он будет у тебя в руках, потому что я ненавижу Его даже больше, чем ты…
И, повернувшись к присутствующим спиной, Иуда без оглядки оставил зал совета.
Глава 24. Вход Господень в Иерусалим
— Мама, я домой хочу, зачем мы тут стоим еще? — жалобно твердил маленький мальчик, нетерпеливо цепляясь за платье матери.
— Постой, Гого! Одну минуточку еще подождем! — успокаивала мальчика женщина. — На вот кусочек пирожка, скушай, а я тебе расскажу о том, чего ты никогда не должен забывать.
— Расскажи! — весь претворившись в слух, проговорил мальчуган.
— Ну, слушай. Когда ты был еще совсем маленьким, ты упал однажды с крыши и был близок к смерти, и чудесный Учитель исцелил тебя.
— Да ведь это же я знаю, мама! Ты столько раз рассказывала мне об этом! — с видимым разочарованием проговорил Гого.
— Правда, я часто об этом рассказывала, но посуди сам, если бы не было тогда Этого Иисуса и если бы Он не умилосердился над нами, у меня теперь не было бы моего сыночка! Ну, а что бы я без тебя стала делать? — и мать нежно прижала к себе своего сыночка.
— Мама, смотри-ка птичка какая хорошенькая…
— Оставь ты сейчас свою птичку и слушай, что тебе мать говорит! — с напускной строгостью остановила мать Гого. — Слушай, деточка! Этот Иисус — Великий Царь, Мессия, и ты подумай только: Он сегодня будет в Иерусалиме! Как же нам не дождаться Его?
— Мама, ты говоришь, Он — Царь! А есть у Него корона?
— Не знаю, деточка, может быть, и есть. Сейчас мы с тобой увидим Его. Смотри, сколько народа, тысячи целые. Стой смирненько, Гого, с нашего места все видно. А может быть, Он совсем близко от нас пройдет… Тсс… Идет! Слышишь, народ кричит: «Осанна, осанна Сыну Давидову! Благословен грядый во имя Господне! Осанна в Вышних!». Благословенный день сегодня! Смотри, народ сюда движется, срывает пальмовые ветки с дерев.
— А зачем это они ветки рвут? — окончательно заинтересованный, спросил Гого.
— Ты сам можешь увидеть. Давай я посажу тебя на плечи к себе. Вот какой ты большой стал, теперь тебе больше даже видно, чем мне!
— Ой, сколько народу! — закричал мальчик, усевшись у матери на плечи. — Смотри, мама, Кто-то на осле едет в самой середине… На дорогу перед Ним бросают пальмовые ветви! Смотри, смотри, даже одежду кладут на дорогу, чтобы Он проехал по ней!
Между тем, торжественное шествие приближалось уже к тому месту, где стояли Гого с матерью. Проходившие толпы народа радостно славили Бога и громко восклицали: «Подай, Господи, победу Сыну Давидову! Благословен восставляющий во имя Бога царство отца нашего Давида, благословен грядый во имя Господне, Царь Израилев!».
— Слышишь, Гого, Его называют Царем, Мессией! Кричи и ты: «Осанна Царю! Осанна Сыну Давидову!».
— Молчи, глупая женщина, — раздался вдруг голос сзади. — В уме ли ты, что заставляешь богохульствовать невинное дитя?
Женщина с невольным испугом обернулась назад и боязливо посмотрела на человека, обратившегося к ней с таким грубым восклицанием. С первого же взгляда она признала в нем фарисея.
— Я не понимаю тебя, — произнесла она, оправившись от первоначального смущения. — Он спас от смерти моего мальчика, и как же мне не приветствовать Его вместе с другими!
Но фарисей не обратил на ее слова никакого внимания и стал проталкиваться сквозь толпу, ближе к дороге.
— Ты слышишь, что народ кричит? — гневно обратился он к проезжавшему мимо него Учителю. — Скажи же им, чтобы они замолчали!
Иисус обратил к фарисею Свой взгляд, полный неземного величия, и спокойно ответил:
— Истинно говорю тебе: если они умолкнут, то камни возопиют.
«И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего» (Лк. 19:41-44.).
И, когда вступил Он в Иерусалим, весь город пришел в волнение, говоря: «Кто Это?». Народ же говорил: «Это Иисус — пророк из Назарета Галилейского».
Несколько молодых людей в иноземных одеяниях стояли невдалеке от дороги и с изумлением смотрели на проходивший густыми толпами народ. Когда шум народа стал затихать и вся процессия исчезла уже за воротами города, один из иностранцев обернулся к своим товарищам и с тем же изумлением спросил:
— Что же это значит, друзья? Не знаете ли, в чем дело? Во всем что-то необыкновенное, чудесное!
— И прежде всего Сам Назарянин! — отозвался другой. — В выражении Его лица было что-то неземное. Кто бы Это мог быть?
— Я слышал, Аполлон, будто это Царь из дома Давидова, про Которого есть указание в их священных книгах. Простой народ твердо убежден, что Он восстановит Свой трон в Иерусалиме. Если это действительно так, то нам хорошо было бы быть к Нему поближе теперь.
— Конечно, Андроник, — согласился Аполлон, — только возможно ли это? Мы ведь из языческого племени, хотя и обращены к истинному Богу. Станет ли Этот Царь иудеев терпеть нас, бывших язычников, в Своем присутствии?
— Не знаю уж этого. До сих пор Он не окружал Себя царским величием, а женщины и дети без всякого страха приближаются к Нему, — задумчиво протянул Руф. — Если Он подлинно Царь, то уж вовсе не таков, как обыкновенные цари. Его ближайшие приверженцы — люди низкого сословия, простые рыбаки. Одного из них я даже знаю; он, кажется, родом грек. По крайней мере, носит греческое имя Филипп. Вот, кстати, давайте-ка разыщем его да разузнаем обо всем подробно!
С этими словами вся кучка иноземцев направилась к храму в надежде найти там Филиппа. Войдя на передний двор, Руф тотчас же заметил своего знакомого, стоявшего у самого входа в храм. Руф быстро подошел к нему и спросил вполголоса:
— Могу ли я тебя отвлечь на минуту?
При первых звуках его голоса Филипп обернулся, отступил немного назад и с нескрываемой холодностью проговорил:
— Ах, это ты, Руф! Что тебе нужно от меня?
— Я к тебе с просьбой, Филипп, — начал Руф. — Я и мои земляки, перешедшие тоже в иудейство, пришли в Иерусалим на праздник и сегодня увидели Человека, Которого вы называете Пророком из Назарета. Мы присутствовали при Его входе в город и слышали о Нем много чудесного. Теперь нам очень хотелось поближе увидеть Этого Иисуса, послушать Его речей.
Выслушав Руфа, Филипп взглянул на него с изумлением, помолчал с минуту и уже ласковее заговорил:
— Видишь ли, приятель, не знаю, можно ли исполнить твое благочестивое желание. Как бы то ни было, а все же ты, в сущности, язычник, хотя и обратился от прежних идолов к Богу Истинному. Подожди, впрочем, я сейчас же спрошу кого-нибудь из наших.
С этими словами Филипп удалился и скрылся от взоров Руфа в толпе богомольцев.
Оставшись один, Руф кивком головы подозвал к себе своих товарищей.
— А ты прав, Аполлон, — с неудовольствием произнес он, — иудеи никак не могут забыть, что мы были язычниками. Очевидно, и Филипп не из наших, хотя и носит греческое имя.
— Что же, он не хочет, стало быть, допустить нас к своему Учителю? — с разочарованием спросил Аполлон. — Тогда что же стоять здесь попусту? Уйдем отсюда!
— Не спеши, приятель, — с улыбкой остановил его Руф, — подождем еще немного: он обещал узнать, как нам быть, и известит нас.
— Мы говорили с Учителем, — обратился к грекам Филипп, — и так как вам неприлично входить во внутренность храма, то Он Сам выйдет к вам сюда. Он ко всем милостив и снисходителен даже к язычникам!
Гордые, легко подвижные черты лица грека невольно исказились при этих словах, но Аполлон вовремя предупредил его.
— Учитель твой оказывает нам высокую честь, — обратился он к Филиппу, — и хотя мы из язычников, но когда-нибудь и мы в состоянии будем оказать Ему услугу.
Филипп молча наклонил голову в ответ.
— Учитель идет! — произнес он, спустя минуту.
Греки посмотрели в указанном направлении и увидели подходившего к ним Иисуса. Они почтительно наклонили перед Ним головы, и Иисус проговорил:
— Пришел час прославиться Сыну Человеческому.
Проникновенным взором обвел Он присутствующих и продолжал:
— Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой.
И, возведши очи Свои на небо, Иисус продолжал:
— Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче, избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел. Отче, прославь имя Твое!
Тогда пришел с неба глас: «И прославил, и еще прославлю» (Лк.12:24-28).
Глубоко поражены были греки, услышав молитву Иисуса и ответ на нее с неба. Невольно они закрыли руками лица свои и пали на землю.
— Гром прогремел! — во всеуслышание заявил один из иудейских раввинов, стоявших поблизости и с неудовольствием смотревших на коленопреклоненных греков.
«Ангел говорил с Ним!» — передавалось в народе из уст в уста. Иисус же сказал на это:
— Не для Меня был этот голос, но для народа. Ныне суд миру сему; ныне Князь мира сего изгнан будет вон. И, когда вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе.
— Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек, — грубо перебил Его раввин. — Как же Ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну Человеческому? Кто Этот Сын Человеческий?
Тогда Иисус сказал им:
— Еще на малое время свет есть с вами; ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте во свет, да будете сынами света! (Ср. Ин.12:35-36).
Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них.
Греки тоже немедленно оставили двор храма и дорогой долго рассуждали между собой обо всем, что видели и слышали. «Побудем еще в Иерусалиме, — решили они, — может быть, нам еще раз представится случай поговорить с Ним».
Иудеи, напротив, по-прежнему не веровали в Него. Они ослепили очи свои и не могли видеть свет, и души их по-прежнему полны были недовольства и горечи.
Впрочем, из начальников народа многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги: ибо возлюбили они больше славу человеческую, нежели славу Божию.
Глава 25. Тайная Вечеря
— Смотри, Петр, вот человек с кувшином воды!
— Вижу, вижу. Как бы нам его из глаз не упустить, пойдем быстрее!
Апостолы поспешили к незнакомцу и догнали его как раз в то время, когда он остановился перед дверями довольно богатого дома.
— Мы хотим поговорить с хозяином этого дома, — обратился Петр к незнакомцу.
— Подождите, пожалуйста, здесь, я сейчас позову его сюда, — отозвался незнакомец, бросив пристальный взгляд на обоих апостолов, и скрылся за дверью.
Через несколько минут он снова появился в дверях в сопровождении хозяина дома, высокого, благообразного старца.
— Если ты хозяин этого дома, — говорил Петр, обращаясь к старцу, — то мы имеем к тебе поручение от нашего Учителя.
— Да, хозяин, — ответил старец с легким кивком головы, — говори, я слушаю.
— Учитель спрашивает тебя: «Где горница, в которой бы Мне есть пасху с учениками Моими?».
— Странно! — вполголоса проговорил старец. — Как раз то самое поручение, какое было мне во сне!
И, обращаясь затем к ученикам Господа, почтительно ответил:
— Зал у меня готов, пойдите, посмотрите сами.
В сопровождении хозяина Петр и Иоанн поднялись по лестнице и вошли в просторную комнату, приготовленную уже к вечере. Найдя все в порядке и условившись с хозяином дома, они оставили горницу за собою.
Незадолго до захода солнца пришел сюда Иисус со Своими учениками на вечерю. И, когда они все возлежали за столом и Иисус был посреди них, Он воззрел на них и сказал:
— «Очень желал Я есть с вами пасху сию прежде Моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием» (Лк.22:15-16).
И, когда возлежали они и ели, сказал Иисус:
— Истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня.
И сильно опечалились они и стали спрашивать один за другим: «Не я ли, Господи?».
Один же из учеников Его, которого любил Иисус больше других, возлежал подле Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о ком говорит Он? И Иоанн, припадши к груди Иисусовой, сказал Ему:
— Господи, кто это?
Иисус ответил:
— «Тот, кому Я, обмакнув, кусок хлеба подам».
И, обмакнув кусок, подал его Иуде Симонову Искариоту (Ин.13:23-26). И в тот момент, когда Иуда принимал это новое изъявление любви к нему Учителя, ужасные страсти, бушевавшие в его душе, достигли своей крайней степени. К удивлению всех присутствовавших, он порывисто поднялся со своего места и нахмурил чело. С печалью и сожалением взглянул на него Иисус и тихо сказал:
— «Что делаешь, делай скорее!» (Ин.13:27).
Не мог Иуда больше выносить этого кроткого, ласкового взгляда; он незаметно оставил горницу и бросился вон из дому. Когда же он вышел, Иисус сказал:
— Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его. Дети! Недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как сказал Я иудеям, что, куда Я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам, да лю´бите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да лю´бите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.
Симон Петр говорит Ему:
— Господи! Куда Ты идешь?
Иисус отвечал ему:
— «Куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною» (Ин.13:31-36).
— Господи! Почему я не могу идти за Тобою теперь? — с возрастающим трепетом спросил Петр. — Я готов с Тобою в темницу и на смерть идти.
С печалью посмотрел на него Иисус и отвечал ему:
— В сию же ночь все вы соблазнитесь обо Мне; ибо в Писании сказано: «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Но по воскресении же Моем предварю вас в Галилее.
Но Петр продолжал уверять Его:
— Если все и соблазнятся о Тебе, я никак не соблазнюсь!
— Симон, Симон! — ласково остановил его Учитель. — Се, сатана просил, чтобы сеять[6] вас, как пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих!
Петр еще более стал уверять:
— Хотя бы мне надлежало умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя!
То же говорили и другие ученики.
Иисус отвечал ему:
— Душу твою за Меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе: не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды!
И когда заметил Иисус, что весть о близких страданиях Его тяжело поразила сердцá учеников Его, Он сжалился над ними и начал говорить им много ободряющего и утешительного, что впоследствии передано было в достояние всему миру Его евангелистами.
По окончании вечери Иисус воспел с учениками хвалебную песнь и вышел с ними на гору Елеонскую. Они пришли в сад, называвшийся Гефсиманией, то есть точилом масличным, потому что в саду этом было много масличных деревьев и устроен был каменный бассейн для выжимания сока из плодов. В этот угрюмый уголок часто любил приходить Иисус, когда нуждался в покое или хотел помолиться в уединении. Войдя в сад, Он обратился к ученикам Своим:
— Посидите здесь, пока Я пойду, помолюсь там. И, взяв с собою Петра, Иакова и Иоанна, Он отправился с ними в чащу сада.
— Душа Моя скорбит смертельно! — воскликнул Иисус с выражением внутренней душевной муки. — Побудьте здесь и бдите со Мною!
Ученики послушно остановились там, где Он приказал им, и опустились на траву, чтобы подождать здесь своего Учителя.
А Он отошел от них на несколько шагов, пал на лицо Свое, молился и говорил:
— Отче мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия! Однако не как Я хочу, но как Ты!
На учеников же Его напала внезапно тяжелая дремота и усталость, и они начали засыпать, но и сквозь сон они видели, как святой ангел появился внезапно в саду и склонился над их коленопреклоненным Наставником. Смежил ли их очи обыкновенный сон, в котором нуждается каждый человек после тяжких трудов, или Всемогущий Господь не восхотел, чтобы очи смертных созерцали таинственнейший момент земной жизни Христовой, неизвестно. Только когда Сын Человеческий почувствовал нужду в человеческом сочувствии со стороны близких Ему людей и пришел на место, где оставались ученики Его, с челом, покрытым каплями кровавого пота, Он нашел их спящими.
— Симон, ты спишь? — с легким упреком обратился Он к Петру. — Не мог ты одного часа бодрствовать?
— Бдите и молитесь, — добавил Он другим ученикам, — чтобы не впасть вам в искушение! Дух бодр, но плоть немощна.
И в другой раз отошел от них, снова пал на землю и молился:
— Отче Мой! Если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, бýди воля Твоя.
И, возвратившись к ученикам Своим, находит их снова спящими, ибо глаза у них отяжелели; и они не знали, что Ему ответить. И, оставив их, пошел опять и молился в третий раз, а пришедши, говорит им:
— Вы все еще спите и почиваете… Пришел час: вот предается Сын Человеческий в руки грешников!
И сказав это, Он напряженно прислушался. Действительно, час наступил. Слышен был говор идущих людей, и свет факелов пробивался уже сквозь густую листву дерев.
— Встаньте, пойдемте! — обратился Иисус Христос к ученикам. — Вот приблизился предающий меня…
* * *
— А ты верно знаешь, где Его можно найти? — нетерпеливо спрашивал Иоханан, шагая подле Иуды.
Иуда с нескрываемой ненавистью и с презрением взглянул на него:
— Место я знаю хорошо. Если Его и нет сейчас здесь, то Он непременно придет сюда. Его привычки я хорошо знаю: недаром же я был рядом с Ним!
— А как нам узнать, кого нужно брать, если Он здесь будет с учениками?
— Это легко сделать, — с грубым смехом ответил Иуда, — берите Того, Кого я поцелую!
Омерзительный смех Иуды неприятно подействовал на Иоханана; он плотнее закутался в свой плащ, перестал спрашивать Иуду и лишь время от времени отдавал краткие приказания страже, следующей за ним. Пред калиткой сада Иуда остановился.
— Ну вот, мы пришли, следуйте за мной. Я пойду вперед и буду указывать дорогу! — и с этими словами Иуда ступил в темную чащу сада.
— Словно помешанный, — шепнул Иоханан Малху. — Ну мыслимо ли найти в этом месте Назарянина?
Через несколько минут один из слуг первосвященника указал Иоханану на человеческую фигуру, стоявшую на тропинке, и в тот же момент послышался голос:
— Кого ищете?
На мгновение среди суеверных солдат и служителей воцарилась тишина: все думали, что это призрак. Наконец, Иоханан собрался с духом и ответил:
— Мы ищем Иисуса из Назарета!
— Это Я, — послышался ясный ответ.
При звуке этого спокойного голоса грубая толпа, движимая одним и тем же чувством ужаса, попятилась назад и пала на землю.
Опять спросил их:
— Кого ищете?
Ему ответили:
— Иисуса Назорея.
И снова из тех же уст Иисуса из Назарета прозвучало:
— Это Я!
Они же отступили назад и снова пали на землю.
Опять спросил Он их:
— Кого ищете?
— Иисуса Назорея.
Иисус отвечал:
— Я сказал вам, что это Я; итак, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут.
Так исполнилось слово, сказанное Им: «Из тех, которых Ты Мне дал, Я не погубил никого…» (Ин.18:8-9).
Иуда, между тем, своим острым взглядом старался пронзить темную глубь сада. Там, в темноте он увидел учеников Иисуса в страшном смятении и ужасе. При виде их долго сдерживаемая бешеная злоба Иуды прорвалась наружу. Как дикий зверь подскочил он к Иисусу, обнял его и со злорадным смехом громко сказал:
— Здравствуй, Равви! — и облобызал Его.
Иисус же сказал:
— «Иуда! Целованием ли предаешь Сына Человеческого?» (Лк.22:48).
Петр же, бывший с Ним, стремительно бросился на защиту своего Учителя.
— Господи! Не ударить ли нам кого мечом? — проговорил он и, не дожидаясь ответа, извлек из ножен меч и отсек одним ударом ухо у раба первосвященника, Малха, который хотел было наложить руки на Иисуса.
— «Вложи меч твой в ножны!» — остановил Учитель Петра. — «Неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец? Или ты думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего так, что Он пошлет Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? Как же сбудется сказанное в Писаниях, что сему быть должно?» (Ин.18:11; Мф.26:52-54).
И, прикоснувшись к уху Малха, Иисус исцелил его. Иоханан и стражники освободились, между тем, от первоначального смущения и обступили Иисуса.
— «Как на разбойника пришли вы с мечами и дрекольями, чтобы взять Меня… — обратился к ним Иисус. — Каждый день бывал с вами Я в храме, и вы не поднимали на Меня рук. Но теперь — ваше время и власть тьмы» (Лк.22:52-53).
Когда ученики Господа услышали слова эти, великий ужас напал на них. Видя своего Учителя беспомощным в руках стражи, они оставили Его и разбежались…
Глава 26. Иисус — у Каиафы, Пилата и Ирода
— Скажи нам об учениках Твоих и учении, которое Ты предлагал народу. Сознайся лучше во всем. Если утаишь что-нибудь, ты только ухудшишь Свое положение!
Синедрион — верховный совет иудейского народа — был уже во всем составе, хотя день только еще начинался. Посреди полукруга заседавших членов синедриона на особом месте сидел Каиафа в полном первосвященническом облачении. По правую руку его сидел Анна, по левую Иоханан, а за ними в строгом порядке размещались и остальные члены верховного совета. Перед ними со связанными на спине руками под охраной солдат храмовой стражи стоял Иисус.
— Отвечай нам! — повелительно прибавил Каиафа.
Подсудимый поднял глаза и устремил их на первосвященника.
— Я говорил явно миру, — произнес Он спокойно. — Я всегда учил в синагоге и в храме, куда все иудеи сходятся, а тайно не говорил ничего. Что ты спрашиваешь Меня? Спроси слышавших, чтó Я говорил им. Вот они знают, чтó Я говорил.
— Так-то Ты отвечаешь первосвященнику? — гневно воскликнул один из стоявших вблизи служителей и ударил Иисуса по щеке. На минуту Обвиняемый прервал речь, потом с прежним спокойствием, не обнаруживая и признаков негодования по поводу безвинно понесенного оскорбления, заметил обидчику:
— Если я сказал худо, докажи, что это худо; а если хорошо, за что ты бьешь Меня?
— Он требует свидетелей, — насмешливо проговорил Анна. — Приведите их сюда!
Через минуту один из солдат ввел в зал маленького, невзрачного человечка.
— Ты знаешь Подсудимого? — спросил его Каиафа.
— Да, знаю, высокочтимый господин мой, — дрожащим, будто не своим голосом ответил свидетель. — Он родом из Галилеи, Сын назаретского плотника Иосифа. Он везде собирал вокруг Себя народ и учил его…
— А что ты знаешь о Его учении? — прервал Анна.
— О, Он говорил ужасные вещи, господин мой, — заговорил оживленно свидетель. — Я сам слышал, как Он говорил народу: «Берегитесь книжников, и особенно фарисеев: они любят ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях; они вычитывают длинные молитвы, чтобы казаться всем благочестивыми, а между тем поедают имения вдов и сирот; они льстецы безумные и будут ввержены в тьму кромешную вместе со всеми, кто их слушает». Вот о чем проповедовал Этот Назарянин!
Гневный ропот пронесся среди присутствующих. То там, то здесь из разных концов зала раздались негодующие возгласы. Свидетель был вне себя от восхищения, видя, какое действие произвели его показания.
— Да уж если на то пошло, — закричал он, уставясь на Обвиняемого своими подслеповатыми глазами, — я перед почтенным собранием обвиняю Тебя в том, что Ты три года тому назад исцелил меня от ломоты, и с тех пор я чуть не умер от голода. Никто больше не подавал мне милостыни и всякий говорил: иди, мол, и работай. Да, хорошо им говорить: работай. Ведь я же старик! А все потому, что Ты сделал меня здоровым!..
— Выведите его! — приказал Каиафа, останавливая словоохотливого старикашку.
Его вывели, но на дороге долго еще слышался его визгливый, неприятный голос. Вслед за первым выступило еще несколько свидетелей, не сказавших ровно ничего нового и важного. Каиафа терпеливо выслушал их скучные, однообразные показания. Наконец, когда Анна и Каиафа начали уже терять всякую надежду найти какое-нибудь обвинение, за которое можно было бы осудить Иисуса Христа на смерть, явились перед собранием два новых свидетеля.
— Мы слышали, — сказали они, — как Этот Человек говорил в храме: «Могу разрушить храм Божий и в три дня создать его».
Тогда Каиафа встал, устремил строгий взор на спокойно стоявшего Иисуса и грубо сказал Ему:
— Что же Ты ничего не отвечаешь, что против Тебя свидетельствуют?
Иисус молчал. Казалось, Он не слышал, что говорил Ему первосвященник. По-прежнему величавое спокойствие и мир непорочной совести озаряли Его лицо.
— Заклинаю Тебя Богом живым, — торжественным тоном заговорил снова первосвященник, — скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?
Иисус говорит ему:
— Ты сказал. Даже сказываю вам: отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных.
Тогда первосвященник разодрал свои одежды:
— Он богохульствует! На что еще нам свидетелей? Вот теперь мы слышали богохульство Его! Как вам кажется?
Они же сказали в ответ:
— «Повинен смерти».
После этого отвели Иисуса в подвальную комнату дворца первосвященника, куда вскоре собрались рабы и храмовая прислуга, чтобы посмотреть и поиздеваться над новым Осужденным. Они били Его, плевали Ему в лицо и злорадно кричали:
— Вот Человек, Который собирается сидеть одесную силы на облаках небесных! Смотрите, вот Христос, Мессия, Великий Чудотворец!
Один же из слуг полой[7] одежды закрыл Ему голову, и в то время, как другие с разных сторон стали наносить Ему удары, с усмешкой приговаривал:
— Прорецы нам, Пророк Галилейский, Кто ударил Тебя?
Так издевались и насмехались они над Ним, пока сами не устали от своей дикой забавы.
А Каиафа, выйдя из залы суда, направился в свои покои, намереваясь немного отдохнуть, прежде чем идти с осужденным Иисусом к Пилату. Здесь ожидала его супруга Анна. Увидев мужа, она стремительно бросилась к нему и, бледная от волнения, устремив пытливый взор на мужа, заплетающимся языком спросила:
— Что сделал ты с Назарянином?
— Мы нашли Его виновным, как и следовало ожидать. Теперь Ему предстоит дать ответ у римского правителя… Ах, я устал, — неожиданно прервался Каиафа, — не до разговоров теперь мне! Ты — женщина, и ничего не понимаешь в этих делах! Оставь меня, пожалуйста, одного.
— Я должна все-таки сказать, чтó у меня сейчас на сердце, — настойчиво заявила Анна. — Человек Этот — Пророк, и Божие проклятие будет тяготеть над домом нашим, если ты станешь по-прежнему преследовать Его!
— Жена! — крикнул Каиафа вне себя от гнева. — Последний раз говорю тебе: Человек Этот богохульник! В моем присутствии Он осмелился сказать сейчас, будто Он Сын Божий и, как Таковой, будет сидеть одесную Силы! Да разве это не богохульство?
— Иосиф, дорогой мой, — в благоговейном ужасе воскликнула Анна, — а что будет, если Он действительно Сын Божий? Нет, не делай Ему зла, ради Бога, отпусти Его, отошли Его назад в Галилею!
— Глупая женщина, — проговорил Каиафа, — ступай, оставь меня одного!
— Ах, так вот как ты стал говорить с дочерью почтенного Анны! — гневно сверкая глазами, воскликнула Анна. — Хорошо, я оставлю тебя, если ты этого хочешь! Но ты вспомнишь мои советы, кровавыми слезами будешь плакать о том, что попрал их ногами!
С этими словами она повернулась к нему спиной и вышла из комнаты.
* * *
Было еще довольно рано, когда многочисленная толпа иудеев со связанным Иисусом посредине явилась к римскому правителю Пилату. Чтобы не оскверниться, Каиафа не вошел в самый дворец Пилата, а попросил его выйти к народу на двор. И Пилат, отлично понимавший, что ему приходится иметь дело с иудейскими обычаями, не противился народному желанию, тем более что у римлян было даже в обычае производить суд под открытым небом, для чего перед дворцом правителя и устроена была высокая трибуна. Сюда по приказанию Пилата вынесли кресло из слоновой кости, бывшее знаком его достоинства, и он сам появился на трибуне.
Иисуса привели и поставили перед правителем.
Между тем, слух о взятии Иисуса под стражу уже разнесся по городу и ко дворцу Пилата прибывали все новые и новые толпы народа. Потребовался целый отряд римских солдат, чтобы сдержать напор любопытных.
Для Пилата Иисус не был вовсе неизвестною Личностью, как предполагали это, быть может, иудеи. Постоянно опасаясь народных волнений, он давно уже стал рассылать своих шпионов, которые доносили ему обо всех действиях Назарянина. Благодаря этому, он знал хорошо, что Его учение не имело никакой политической окраски и что Сам Иисус всячески остерегался возбуждать народ Своей Личностью. Естественно, что поэтому Пилат не мог ничего иметь против Иисуса и в глубине души был к Нему даже расположен, тем более что главных врагов Иисуса, фарисеев, Пилат видел насквозь и отлично понимал истинную причину их вражды к Иисусу.
— В чем обвиняете вы Этого Человека? — спросил он первосвященника.
— Если бы Он не был злодеем, мы не предали бы Его тебе! — высокомерно заявил Каиафа.
— Этого Иисуса я достаточно знаю и понимаю, почему вы привели Его ко мне. Возьмите и судите Его сами по закону вашему!
— То, что мы имеем против Этого Человека, вовсе не так малозначительно, как ты думаешь, — весь вспыхнув от гнева, возразил Каиафа. — Он обвиняется в том преступлении, за которое полагается смертная казнь!
— Что же Он мог сделать такое? — прежним спокойным тоном спросил Пилат.
— Он пытался привлечь к Себе народ, запрещая ему платить указанную пóдать императору. О Себе Самом Он утверждал, что Он Христос, истинный Царь.
Прочие иудеи громкими криками подтвердили его обвинение. Злобная усмешка искривила лицо Каиафы. Он, да и все прочие фарисеи не сомневались больше, что преданный интересам императора Пилат не замедлит произвести скорую расправу с ненавистным Назарянином. Но они ошиблись. Не дрогнув ни одним мускулом, Пилат поднялся и, приказав вести за собой Иисуса, направился в залу суда.
— Ты Царь Иудейский? — спросил у Него Пилат, усевшись на свое место.
Иисус отвечал ему:
— От себя ли ты это говоришь или другие тебе сказали обо Мне?
— Разве я иудей? — говорил Пилат. — Твой народ и первосвященники предали Тебя мне. Что Ты сделал?
Иисус проговорил:
— Царство Мое не от мира сего: если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда.
— Итак, Ты Царь? — переспросил Иисуса Пилат и с любопытством посмотрел Ему в лицо.
— Ты говоришь, что Я Царь, — отвечал Иисус. — Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает голос Мой.
— Истина! — слегка ироническим тоном повторил Пилат. — Что есть истина?
Для римского эпикурейца[8] слово это казалось звуком, лишенным всякого значения. Не произнеся больше ни слова, Пилат встал со своего места и возвратился снова к народу, жадно ждавшему его решения. Он обвел толпу высокомерным взглядом. В глубине души он глубоко презирал эту чернь, хотя и не смел этого обнаруживать. Он снова уселся в свое кресло и, выждав минуту, когда шум толпы несколько приутих, громким голосом отчетливо заявил:
— Я никакой вины не нахожу в Нем!
Эти слова для иудеев равнялись приговору. Неужели всем их планам суждено было рухнуть? Неужели им придется снова выпустить из своих лап давно намеченную Жертву? Нет, не может этого быть!
Подсудимый, между тем, был выведен из зала суда и занял прежнее место перед Пилатом.
— Слышишь ли, что они говорят против Тебя? — спросил Его претор. — Почему Ты не оправдываешься? Ты имеешь полное право говорить в Свое оправдание!
Но Иисус молчал.
Пилат в недоумении покачал головой.
«Странный Человек! — подумал он про себя. — Тут бы для Него всего уместнее обнаружить теперь Свое удивительное, как говорили мне, красноречие, а Он молчит! Нужно все-таки, наверное, спасти Его!».
В это же время Иоханан с жаром что-то говорил претору, но из всей его речи только заключительные слова долетели до слуха Пилата:
— Везде, где Он только появляется, Он возбуждает народ, от Галилеи до Иерусалима!
— От Галилеи? — переспросил Пилат.
В уме его внезапно блеснула новая мысль:
— Так Он галилеянин?
Иоханан ответил утвердительно.
— Тогда я Его отправлю к Ироду. Кстати, он сейчас в городе, и именно ему следует судить Обвиняемого из его собственной провинции!
С этими словами Пилат встал, отдал соответствующий приказ служителям и спокойно удалился во дворец, вполне довольный своей хотя и дипломатической, но хитрой уверткой.
«Таким путем я и от толпы этих надоедливых иудеев отделаюсь, да и Ироду лестно будет, что я отсылаю к нему Подсудимого».
При не так давно возникших в Иерусалиме беспорядках Пилат приказал умертвить нескольких галилейских богомольцев, что и подало повод к вражде между Пилатом и Иродом, правителем Галилеи. Теперь же представился удобный случай помириться с Иродом.
* * *
— Пилат прислал ко мне Назарянина? — воскликнул Ирод и оживленно вскочил с пурпуровых подушек, на которых он проводил большую часть дня, умирая от бездействия и скуки.
— Со стороны Пилата, — продолжал он, — это — Вестник мира, я так понимаю! Мне давно хотелось увидеть Назарянина! Вот, кстати, Он и сотворит предо мною какое-нибудь из Своих чудес, о которых так много говорят. Из воды Он произведет мне, например, кубок превосходного вина, залечит мои раны на ноге. Потом… Э… ничего не придумаешь, как нарочно. Ну все равно, приведите Его ко мне! Сначала все-таки пусть соберутся сюда придворные; они, наверное, тоже умирают от скуки.
— Вот и Назарянин! — прибавил он, увидав Иисуса в сопровождении первосвященников и иудейских старейшин, которые, не опасаясь уже на этот раз осквернения, толпой ввалились во дворец Ирода.
— Что за люди? — в изумлении воскликнул Ирод.
— Это начальники иудейского народа, ваше величество, — ответил один из придворных.
— Скажите, чтобы они не мешали! Я хочу говорить только с Назарянином! — нетерпеливо заметил царь и, обратившись к Иисусу, стал задавать Ему различные вопросы, начиная с того, как Его зовут, кончая тем, умеет ли Он творить чудеса, как везде о Нем говорят, и, если умеет, может ли Он сотворить чудо какое-нибудь здесь, в присутствии его, царя, и царской свиты?
Но Иисус молчал.
Сначала это даже польстило Ироду.
— Он нас боится, бедняга! — произнес он, снисходительно улыбаясь.
— Послушай, любезный, — прибавил он, — Ты не бойся нас, мы Тебе никакого зла не сделаем. Мы хотим видеть от Тебя какое-нибудь чудо. Не бойся, говори смело! Эй, дайте-ка Ему вина для смелости!
Движением руки Иисус отклонил от себя поданный кубок и снова погрузился в глубокое молчание. Тогда выступили один за другим иудеи и злобно начали обвинять Его. Один кричал одно, другой другое.
— Так Он называет Себя еще и Царем? — перебил их Ирод. — Ну нельзя сказать, чтоб вид у Него был царский! Впрочем, если уж Он не хочет сотворить перед нами чуда, мы сыграем с Ним веселенькую шутку! Я забыл только, какого цвета одежда была у иудейских царей?
— Белая, ваше величество! — предупредительно заметил один из придворных, глядя на нахмуренные лица иудеев.
— Так, так… белая, — подхватил Ирод. — Ну, вот что, принесите сейчас же белые одежды и облеките Его в них, пусть хоть с виду будет похож на царя!
Когда приказание Ирода было исполнено и Иисус облечен был в белый плащ, Ирод со злорадной усмешкой посмотрел на старейшин и членов синедриона и произнес:
— Ну, господа, как находите? Не правда ли, какой величественный вид? Царь — что надо! Кланяйтесь Ему!
Солдаты и придворные столпились вокруг Иисуса и с насмешкой преклонили перед Ним колена. А Ирод, со смехом наблюдавший эту недостойную сцену, заметил вдруг в спокойном лице и всей фигуре Страдальца что-то такое, что возбудило в нем необъяснимый страх…
— Уведите Этого Человека! — произнес он внезапно, приняв серьезный вид. — Отошлите Его снова к Пилату!
Глава 27. Осуждение Господа
С мрачным челом, обнаруживавшим явное недовольство, Пилат снова уселся на своем судейском кресле.
— Вы привели ко мне Этого Человека, — заговорил он, — и обвиняете Его в том, что Он возмущает народ; но, вопреки этому обвинению, я не нашел ни малейшей вины в Нем. Ирод тоже не нашел ничего предосудительного. Я с вами же посылал к нему обвиняемого, и вот он отпустил Его, не осудив ни за что. Итак, я прикажу бичевать Его, а затем выпущу на свободу!
Претор говорил это в надежде удовлетворить иудеев таким страшным наказанием, каким по справедливости считалось бичевание, но толпа, которая разрослась теперь до нескольких тысяч голов и состояла во многом из самых последних отбросов общества, подняла при этих словах невыразимо дикий крик недовольства.
— Что они кричат? — спросил Пилат у окружавших его римских чиновников.
— Они требуют себе Обвиняемого, ваша милость! — ответили ему.
Тут Пилат вспомнил, что был у иудейского народа обычай отпускать к празднику Пасхи одного из осужденных. Ухватившись за эту мысль, он быстро поднялся со своего места и громко произнес:
— Хотите, отпущу вам Царя Иудейского?
Но первосвященники и старейшины иудейские заранее, очевидно, предвидели подобный исход дела и постарались его предупредить. Они знали, что Варавва, обвиняемый в возмущении народа, лежал связанный в темнице и должен был умереть на кресте 15 апреля. Поэтому Иоханан и некоторые другие лица той же партии незаметно рассеялись в толпе и везде старались внушить черни, что Варавва страдает за привязанность и любовь к своему народу. Естественно поэтому, что предложение Пилата не привело к желанным результатам. Вся толпа почти единогласно закричала:
— Варавву, Варавву отпусти нам!
Крик этот пронесся почти по всему городу, и вскоре новые тысячи народа собрались к месту суда, чтобы узнать, что случилось. Приходившие вновь тоже стали выкрикивать имя Вараввы.
Тогда правитель спросил их:
— Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?
И первосвященники, не задумываясь, прорекли:
— Распни Его!
А возбужденная, жаждущая крови толпа подхватила эти слова, и священный город огласился неистовым ревом многоглавого чудовища:
— Распни Его! Распни Его!
В ту же минуту к Пилату пробрался один из его рабов и подал ему дощечку из слоновой кости, на которой было написано: «Не делай ничего Праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него. Клавдия». Смущенный письмом жены, Пилат еще более стал стараться каким-нибудь способом спасти Иисуса.
— За что же мне Его распять? — в третий раз обратился он к разъяренной толпе. — Он не сделал ничего дурного. Я ни малейшей вины не нашел в Нем. Я велю Его бичевать и затем отпущу, как сказал!
Первосвященники, однако, хорошо заметили, что несмотря на это решительное, по-видимому, заключение, Пилат боится раздражать толпу, и еще более стали возбуждать народ кричать слова: «Распни Его!».
Пилат окинул взором бушующую толпу народа, и мужество стало покидать его. «Я не могу спасти Этого Человека без опасности для своего звания и даже для жизни, — подумал он, — слишком поздно, да, в сущности, если рассудить хорошенько, вовсе не важно ведь, что в Иерусалиме одним иудеем станет меньше!».
— Принесите мне сосуд с водой! — приказал он.
И, когда вода была подана, он встал перед лицом всего народа, умыл себе руки и торжественно произнес:
— Неповинен я в Крови Праведника Сего. Смотрите вы!
И весь присутствующий народ отвечал Пилату страшными, по своим последствиям, словами:
— «Кровь Его на нас и на детях наших!»
После этого Пилат отпустил иудеям Варавву, а Иисуса велел бичевать и предать крестной казни — смерти.
Варавва был выпущен из темницы. Услышав, что произошло, он пренебрежительно сказал, обращаясь к своим товарищам:
— Ну, не говорил ли я вам, что правитель трус? Теперь сами можете убедиться!..
* * *
Пилат, произнеся роковые слова, с тяжелым сердцем возвратился во дворец. На пороге его покоев встретила его жена Клавдия.
— Вовремя ли ты получил мое предостережение? — тотчас же спросила она.
— Да, я получил его, но, к сожалению, слишком поздно!
— Слишком поздно? — с испугом переспросила Клавдия. — Что же, Он умер?
— Он еще жив, но я приговорил Его к крестной смерти. Сейчас Его бичуют. Я не мог поступить иначе! О, если бы ты сама видела эту разъяренную толпу! Ее дикие крики и теперь еще у меня в ушах!..
И Пилат закрыл руками лицо.
Оцепеневшим от ужаса взором смотрела на мужа Клавдия. Ее лицо побледнело, как у мертвеца.
— Что, ты осудил Его? — глухим голосом проговорила она. — И ко кресту притом?
— Да будут боги к нам милостивы, — и со слезами на глазах она бросилась вон из комнаты.
Когда окончился суд над Иисусом, воины совлекли с Него верхнюю одежду и плотно привязали Его к позорному столбу. Потом они взяли бичи, состоявшие каждый из нескольких крепких, грубых ремней с железными наконечниками, и начали бичевать Его обнаженную спину, и бичевали до тех пор, пока не устали их руки.
Вслед за этим они взяли Его, облачили снова в одежду, данную Ему Иродом, и потащили Его назад к месту суда. Кто-то из солдат предложил воздать Иисусу Христу царскую почесть, как делали это у Ирода. Предложение пришлось по душе дикой толпе; они сняли с Него окровавленную белую одежду и облекли Его в ветхий плащ красного цвета, принадлежащий одному из воинов. Некоторые из особенно ревностных достали откуда-то ветвей терновника, сделали из них подобие венца или короны и возложили его на голову Страдальца.
В довершение всего дали в руки Ему палку вместо царского скипетра, и все с грубым смехом опускались перед Ним на колени, восклицая: «Радуйся, Царь иудейский!». Потом брали у Него скипетр из рук и били Его по голове без жалости, и без стыда плевали Ему в лицо.
В то время как продолжалась эта грубая расправа, Пилат снова вышел к народу.
— Приведите Его сюда! — приказал он страже и сам сел на свое место в надежде еще спасти Праведника.
Ради своей супруги Клавдии он хотел, по крайней мере, еще раз сделать попытку спасти Его. К этому же побуждал его неизъяснимый внутренний голос и неведомое ранее и страшившее его чувство ответственности за допущенную несправедливость.
Судилище битком набито было людьми, и не одна сотня злобных, враждебных глаз была устремлена на Пилата. Сам Пилат ясно видел это. Подле него стоял Иисус, одетый в пурпурного цвета мантию, с терновым венком на голове, с лицом, оплеванным и обагренным кровью, с выражением тяжелой душевной муки в очах, но с таким Божественным величием во всей фигуре, что Пилат почувствовал невольное, необъяснимое уважение к поруганному Страдальцу.
— Се, Человек! — воскликнул Пилат, движимый чувством глубокого сострадания, и движением руки указал народу на Иисуса.
Своим жестом и кратким восклицанием он, казалось, говорил толпе: «Скажите, что вы с Ним сделали? Он невиновен ни в чем! Неужели Он мало еще страдал? Неужели у вас нет сострадания к Невинному?»
Но первосвященники храма жаждали крови Иисуса! Недаром они целых три часа ждали под солнечным зноем, пока Его снова выведут! Многозначительное восклицание Пилата, а еще более, — кроткий вид Самого Страдальца, лишь привели их в бóльшую ярость.
— Распни Его! Распни Его! — завопили они в ожесточении.
При диких воплях толпы, повторявшей слова своих начальников, последний остаток мужества и терпения покинул Пилата. Он поспешно поднялся со своего места и холодно произнес:
— Возьмите Его и судите по закону вашему, ибо я не нахожу никакой вины в Нем!
— Мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим! — отвечали на это первосвященники и старцы, желая показать народу, что они поступают вполне законно.
Услышав эти слова, Пилат еще больше испугался и невольно вспомнил слова предостережения своей жены. Он отвернулся от народа и направился во внутреннее помещение судилища, приказав в четвертый раз привести к себе Иисуса.
— Откуда Ты? — спросил он Его, оставшись с Ним наедине.
Но Иисус не дал ответа ему. Да и что мог Он ответить на такой вопрос тому человеку, который из позорного малодушия не мог оправдать Его даже после того, как он трижды предоставил ему возможность увериться в Своей полной невиновности?
Пилат же говорит Ему:
— Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?
И Иисус, видя борьбу, происходившую в душе его, сжалился над ним.
— Ты не имел бы надо Мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше: посему более греха на том, кто предал Меня тебе.
Пилат вздрогнул от этих слов. Еще раз он вышел к народу с целью попытаться сделать что-нибудь в пользу Того, Кого он осудил уже дважды. И ничего нет удивительного в том, что поведение его казалось смешным в глазах толпы, а словам его никто не придавал большого значения.
— Если отпустишь Его, ты не друг кесарю! — раздались крики, когда Пилат снова появился перед народом.
Для Пилата довольно было одного имени кесаря, чтобы малодушие и страх его превзошли всякие границы. Тогда он приказал воинам вывести Иисуса и сдавленным голосом произнес:
— Вот Царь ваш!
Но иудеи закричали:
— Возьми, возьми, распни Его!
Пилат говорит им:
— Царя ли вашего распну?
Первосвященники отвечали:
— Нет у нас царя, кроме кесаря!
Тогда наконец он предал Его им на распятие.
И взяли Иисуса и повели…
Глава 28. Распятие
С тяжелым сердцем очнулся Тит от ночного тяжелого сна в пятнадцатый день месяца апреля — в тот день, когда он должен был быть распятым. Открытыми, почти бессмысленными глазами он упорно смотрел в одну точку на стене своей темницы и все время тихо повторял про себя: «Сегодня, сегодня…»
Но вот слышен шум шагов… Неужели уже за ним?! Он быстро вскочил и забился в самый отдаленный угол своего каземата. Но это был темничный сторож, принесший ему дневную порцию хлеба и воды. Тит жадно выпил принесенную воду, до хлеба же не дотронулся.
Он снова напряженно прислушивался. Рана на его голове не была перевязана и причиняла ему ужасные страдания. В напряженном своем состоянии он не замечал, как тянулись один за другим часы его заключения, а когда, наконец, повернулся тяжелый засов и дверь широко растворилась, он очнулся внезапно от своих дум и неестественно, с громким смехом крикнул: «Наконец-то!»
Восклицание юноши удивило, казалось, начальника стражи и он испытующе посмотрел на Тита.
— Выведите его, — приказал он страже, — и привяжите ему на спину крест.
— А что же, бичевать его не будем? — спросил один из солдат.
— Нет, не стоит тратить на это времени, да и приказа особого не было. Все равно ведь к солнечному заходу они все будут мертвы, а теперь уже шестой час!
Быстро привязали Титу на спину крест и выволокли его за дверь темницы. Очутившись на свежем воздухе, Тит понемногу начал приходить в себя и вскоре узнал в своем соседе Думаха, который так же, как и он, был нагружен тяжелым деревянным крестом.
По забрызганному кровью платью Думаха видно было, что его подвергли продолжительному бичеванию.
— Ага, жиденок! — воскликнул он, увидев Тита. — Теперь ты точно выглядишь сыном самогó первосвященника…
Сильный удар кулаком со стороны одного из солдат прервал его речь. Под охраной отряда римлян осужденные направились по улицам. Слышны были только мерные шаги солдат да громкие, быстрые приказания. Когда же достигли городских ворот, раздалась команда остановиться.
— Что там еще такое? — спросил один из солдат, охранявших Тита.
— Да вот, Один там пал под тяжестью креста, — ответил ему сосед, поднимаясь на цыпочки. — Ага, догадались, задержали какого-то прохожего и взвалили на него крест. То-то, чай, удивился, бедняга! — прибавил он, разражаясь смехом.
Перед городскими воротами кишели уже толпы народа. По обеим сторонам дороги густыми рядами теснились любопытные. Мужчины и женщины стояли на кровлях домов плотными кучками; некоторые любопытные взобрались даже на деревья и стены заборов, чтобы только получше все видеть.
Тит безучастно смотрел кругом и никак не мог понять, чтó привело сюда так много людей. Неужели всем им так интересно посмотреть на предсмертные страдания трех несчастных людей, двое из которых были осуждены как воры?!
Вдруг из смутного гула толпы до слуха Тита долетел знакомый голос:
— Отец!.. Тит!.. Иисус!..
На мгновение взгляд его остановился на бледном личике Стефана, которое вскоре же исчезло в общей массе человеческих голов.
После продолжительных, но бесплодных поисков Тита в Капернауме Стефан снова прибыл в Иерусалим. Он намеревался уже пойти к Каиафе, с тем чтобы собственноручно передать ему вышитую рубашку Давида и сообщить ему, что знал о Тите. Однажды в минуту особенного голода и усталости от долгой ходьбы он осмелился постучаться в ворота дворца первосвященника. Неприветливая служанка не захотела впустить Стефана, одетого в худую, запылившуюся одежду.
— Ступай прочь отсюда! — сказала она ему. — Что тебе нужно от первосвященника?
— Я хочу непременно видеть его! — заявил Стефан. — У меня есть дело чрезвычайной важности, не терпящее отлагательств.
— Все-таки я не пущу тебя! Что у тебя там за дело может быть? — и с этими словами служанка захлопнула ворота перед самым носом озадаченного Стефана.
Испытав одну неудачу, он решил направиться в храм, в надежде увидеть здесь разыскиваемое лицо.
— Где первосвященник? — нетерпеливо спросил он одного из храмовых служителей.
— Первосвященник? — переспросил страж с изумлением. — Да что тебе, нищему, от него нужно?
— Мне непременно нужно поговорить с ним! А в его дом меня не впустили.
— Правда? Так и не пустили? — насмешливо подхватил страж. — Вот это странно! Они должны были принять тебя с распростертыми объятьями и отвести тебе лучшую комнату во дворце.
Стефан с негодованием взглянул на стража, и щеки его стали покрываться густым румянцем.
— Я вовсе не нищий, — произнес он с достоинством, — хотя и выгляжу нищим. Я должен говорить с первосвященником и сообщить ему важное известие о его сыне.
— О его сыне? — переспросил страж. — Ты, малый, с ума сошел! У него нет сына. Проваливай-ка отсюда подобру-поздорову! Да сегодня ты все равно не увидишь первосвященника, сегодня для Каиафы и для всех нас великий день вкушения пасхального агнца. Кроме того, нам предстоит сегодня редкое зрелище: распятие Назарянина!
— Назарянина? — воскликнул Стефан вне себя. — Распятие! Да это невозможно!
— Вот же возможно стало! Целый город уже на ногах, да и я…
Но Стефан не дослушал своего собеседника; изо всех сил он пустился бегом вперед, не сознавая, куда и зачем он спешит, и очутился наконец посреди толпы, собравшейся у городских ворот. Толпа прибывала к городским воротам целыми тысячами и увлекала Стефана все дальше, к холму, где тройной ряд солдат еле сдерживал напор многочисленной толпы.
— Скажи мне, — обратился Стефан к стоявшей возле него женщине с печальным выражением на лице, — что все это значит? Правда ли, что… — но тут слезы помешали ему договорить. — Правда ли, что будут распинать Назарянина?
— К несчастью и к стыду всего народа, это — правда! — ответила женщина. — Впрочем, здесь виноваты одни первосвященники. Они давно уже ненавидели Пророка! Наконец, им удалось взять Его в Гефсиманском саду, а утром они представили Его Пилату, и вот…
Женщина также не смогла докончить своей речи.
— В Гефсиманском саду? — переспросил Стефан. — Это там, где оливковая роща?
— Да, Он имел обыкновение приходить туда, когда нуждался в покое или хотел помолиться.
— Вот как, — задумчиво протянул Стефан. — Так значит, я слышал шум воинов, посланных за Ним… Я спал недалеко от сада, у стены…
— Стой… — прервала его женщина. — Идут…
Среди общего гама и шума до Стефана донеслись мерные шаги приближающихся солдат и, немного спустя, показался отряд римской пехоты в блестящем вооружении. За отрядом медленно продвигались осужденные, с орудиями позорной смерти на плечах, каждый под охраной четырех человек. На груди у каждого, по обычаю, висела дощечка с обозначением вины осужденного, а на груди Назарянина была дощечка с надписью: «Иисус Назорей, Царь Иудейский!».
Стефан взглянул на печальную группу и, испустив отчаянный крик: «Отец… Тит… Иисус!..» — без чувств упал на землю.
Женщина тотчас же перестала плакать и, склонившись над Стефаном, закричала:
— Посторонитесь немного, добрые люди! С мальчиком сделалось дурно, не раздавите его!
— Стоит ли заботиться о нищем мальчике? — презрительно отозвался один из близко стоящих и грубо толкнул Стефана ногой. — Пускай он лежит здесь, он и без тебя придет в чувство. Из-за него ты и сама ничего не увидишь. Я слышал, Назарянин раньше всех будет распят.
Женщина, между тем, проворно достала из-за пояса маленький сосудик с водой и стала брызгать в лицо лежавшему без чувств мальчику. Затем, повинуясь какому-то непреодолимому влечению, она устремила свой взор на ужасное зрелище…
Солдаты-римляне быстро исполняли свою грязную работу. Назарянин уже лежал на кресте. Несколько глухих, тяжелых ударов молота прорезали общий шум, и длинные гвозди впились в Пречистое Тело. Вслед за тем дюжина сильных рук подняла крест вверх и опустила его нижним концом в заранее приготовленную яму.
— Отче, отпусти им, не ведают бо, что творят! — раздалось с креста.
Черед наступил и для остальных осужденных. Жадными глотками пили они одуряющий напиток, облегчавший мучения, но отвергнутый Иисусом.
Думах вздумал было сопротивляться солдатам, но вскоре уже упал на землю и после ужасных, отчаянных криков и проклятий очутился на кресте по левую сторону от Назарянина. Оставался только Тит.
— Почти еще мальчик! — говорили сочувственно в толпе.
Он молчал, как и его Великий Учитель. Лишь по временам нестерпимая боль вырывала из его груди подавленные стоны, заставляющие самых суровых зрителей пожалеть юношу.
Вдруг чья-то фигура бросилась к ногам распятых.
— Иисус!.. Брат мой!.. Отец мой!.. — раздался знакомый Титу голос.
Это был Стефан. От чрезмерного волнения он снова готов был потерять сознание.
— Где первосвященник? — не своим голосом воскликнул он снова, озираясь по сторонам. — Этот молодой человек — его сын! Быть может, еще можно будет спасти его!
В изнеможении Стефан снова упал на землю. В продолжение уже многих часов он ничего не ел; в голове его все перепуталось, он едва сознавал, где находится.
Будто сквозь сон слышал он голос черни, издевавшейся над Иисусом:
— Эй, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси Самого Себя и сойди со креста!
А другая группа богато одетых людей, стоявшая у креста, с презрительной насмешкой рассуждала:
— Других спасал, а Себя не может спасти. Если Он Христос, Царь Израилев, пусть сойдет теперь со креста, чтобы мы видели, — и уверуем! Он уповал на Бога, пусть же Бог спасет Его, если благоволит к Нему!
— Вот первосвященник, — вполголоса проговорила уже знакомая Стефану женщина, склоняясь над ним.
Но Стефан уже не слышал; солнце было почти посредине неба и немилосердно палило.
Вдруг стало совершаться что-то непонятное: свет солнечный постепенно мéркнул, а в воздухе распространялось какое-то страшное удушье.
В порыве жадного любопытства народ сначала было не заметил чудесного явления; но потом то здесь, то там стали устремляться в небо недоумевающие взоры…
На небе не было ни облачка, ни другого какого-нибудь признака надвигавшейся бури, а между тем, свет все больше и больше меркнул.
Невольный ужас охватил присутствующих.
— Что это такое? — спрашивали люди друг друга и боязливо обращали свои взоры на Крестную Жертву.
Иисус висел распятым на Кресте, без движения, склонив голову на грудь.
Висевший по левую сторону от Него Думах изрыгал страшные проклятия и брань. В наступившей тишине слышно было, как он со своей стороны поносил Невинную Жертву.
— Если Ты Христос, — кричал он, сопровождая свои слова бранью, — спаси Себя и нас!
Молодой человек по правую сторону Назарянина молчал до сих пор и лишь изредка стонал от боли. Услышав же слова Думаха, он внезапно встрепенулся и с укором посмотрел на него.
— Или ты не боишься Бога, — заговорил он слабым голосом, — когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли. А Он ничего худого не сделал!
И, обратившись с верой к Иисусу, умоляющим, покаянным голосом добавил:
— Помяни мя, Господи, когда приидеши во Царствие Твое!
Окровавленное, смертельно бледное лицо Иисуса осветилось Божественной благодатью, и ласковый голос Его прозвучал твердо и ясно: «Истинно, истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю».
Радостная улыбка озарила лицо умирающего юноши. Что ему теперь позор, страдания, самая смерть? Сегодня же — с Ним, в раю!
Стефан, слышавший слова Христовы, поднялся с земли и, протягивая руки ко кресту, молил:
— Возьми и меня с Собою!
Вдруг около самого креста Христова он заметил Марию, Мать Иисуса, и двух других женщин, а также Иоанна — ученика, которого особенно любил Иисус.
Несмотря на сгущающийся мрак, он сразу узнал их, тем более, что вблизи креста осталась только римская стража, остальной же народ держался поодаль…
Стефан подошел к Марии и, ничего не говоря, опустился к Ее ногам.
— Сын Мой!.. Сын Мой!.. — взывала Мария…
И усталые глаза Страдальца еще раз засветились неземным светом и любовью. Взглянув на Свою Мать, Он произнес слабым, тихим голосом:
— Жено! Се, сын Твой!
Затем, устремив взор на Иоанна, сказал:
— Се, Матерь твоя!
Время тянулось медленно.
И вдруг вокруг потемнело, как в беззвездную и безлунную ночь. Народ, пришедший в разряженных одеждах на зрелище крестной казни, с ужасом ожидал теперь, чем все закончится.
Воцарилась глубокая тишина, лишь изредка нарушаемая слабыми стонами умирающих.
Около девятого часа Иисус громким голосом возгласил:
— Элои! Элои! Ламма савахфани?
В эти последние минуты земной жизни совершенно естественно вырвалось у Него восклицание на галилейском диалекте — языке, на котором Он говорил с детства. Слова эти выражали самое ужасное, что только может представить человек: «Боже Мой! Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?».
Некоторые же из стоявших здесь, расслышав первое слово Его, вообразили, что Он призывает Илию. Немного спустя Он еще раз возгласил уже более слабым голосом:
— Жажду!
Вблизи стоял сосуд с вином, который принесли себе для питья воины, охранявшие казненных. Услышав восклицание Иисусово, они обмакнули губку в вино и, насадив ее на конец длинной трости, поднесли к губам Назарянина. Другие же отговаривали, говоря, что «Он Илию зовет, посмотрим, придет ли Илия помогать Ему».
Снова настала мертвая тишина, затихли даже стоны умирающих. И вдруг по лицу умиравшего Иисуса пробежало выражение несказанной радости, и, подняв глаза настолько, насколько было возможно, Он воскликнул:
— Совершилось!
И вслед за тем тихо добавил:
— Отче, в руки Твои предаю Дух Мой!..
Затем Он склонил голову и тихо скончался.
Едва испустил Он Дух Свой, как с громким треском стали распадаться скалы и земля потряслась и камни рассеялись…
Стоявшие вокруг оцепенели от ужаса и, воздевая руки к небу, молили Бога о помиловании. Даже римские солдаты, закаленные в боях, дрожали от ужаса и непреодолимого страха. Сотник же их, видя происходившее, прославил Бога и произнес:
— Истинно, Человек Этот был Праведник!
Темнота исчезла так же быстро, как и появилась. Снова в полном блеске выглянуло солнце, и оставшийся народ стал молча расходиться по домам, с ужасом припоминая свои прежние вопли: «Кровь Его на нас и на детях наших!»…
Глава 29. Сын первосвященника
Распятые вместе с Иисусом Тит и Думах были еще живы. Тит находился в бессознательном состоянии и мало обнаруживал признаков жизни. Зато Думах все время поворачивал голову то в одну сторону, то в другую и говорил без умолку.
— Пошлите ко мне первосвященника! — произнёс он неожиданно, обращаясь к солдатам. — Я близок к смерти и хочу сообщить ему очень важное для него дело. Слова эти были переданы Малху, который с самого раннего утра стоял здесь у крестов и охранял казненных.
— Что же ты хочешь передать первосвященнику? — обратился он к Думаху, подходя ближе к крестам. — Я слуга первосвященника и могу ему передать, что нужно.
— Дай мне сначала пить… — со стоном вырвалось у преступника. — Я изнемогаю от жажды.
Малх, смочив в вине губку, несколько раз поднес ее к иссохшим устам несчастного.
— Где первосвященник? — снова обратился Думах к Малху, утолив немного свою предсмертную жажду.
— Он возвратился в город, — ответил Малх. — Скажи мне, что ты хочешь ему передать? Я пользуюсь его доверием и по совести исполню твое поручение. Ты можешь быть совершенно покоен насчет этого!
— Жаль. Так я, значит, не могу с ним переговорить? Все равно, тогда я скажу тебе…
Думах глубоко вздохнул, испустил стон и затем продолжал, с видимым усилием выговаривая слова:
— Молодой человек, что распят здесь на кресте, есть сын первосвященника Каиафы.
— Ты лжешь, негодяй! — гневно воскликнул Малх.
— Нет, не лгу, — спокойно ответил Думах. — Ты подумай, к чему мне лгать? Жить мне осталось немного, до лжи ли мне теперь? Я сам подговорил тогда Приску, няньку младенца, украсть его; я хотел отомстить этому Каиафе за то, что он подверг меня бичеванию. Со своей стороны я ничем не заслужил такого позора, а между тем именно это бичевание и толкнуло меня на дорогу, окончившуюся на кресте.
Услышав имя Приски, Малх невольно изменился в лице и, дрожа от сильного волнения, почти вскрикнул:
— Где же Приска?
— Не знаю сам, — ответил преступник, еле выговаривая слова. — Она перед этим находилась в Капернауме. У нас еще был сын, по имени Стефан, о нем я тоже не могу сказать, где он находится. Но поклянись мне, что ты передашь это Каиафе! Он, наверно, вспомнит еще бичевание! — добавил он, скрипя в бессильной ярости зубами даже в предсмертной агонии.
Малх буквально подскочил к другому кресту и впился своим пристальным взором в лицо молодого человека. И чем больше он смотрел на него, тем больше омрачалось его чело и тем больше убеждался он, что преступник Думах сказал правду.
Он поднялся ко кресту и приложил свою руку к сердцу юноши: оно еще билось, но так слабо, что его с трудом лишь можно было почувствовать. «Он, к счастью, обратился на путь истины», — подумал он, и слышанные им слова Назарянина, обращенные к юноше, невольно встали в его памяти.
— Он близок к Раю! — прошептал Малх, со вздохом отходя от креста.
Затем он подозвал к себе одного из стражников и, вручив ему золотую монету, тихо произнес:
— Позаботься-ка, чтобы когда все кончится, тело этого молодого человека было доставлено ко мне! Если ты все сделаешь аккуратно, так чтобы об этом никто не узнал, то получишь втрое больше.
Воин качнул головой в знак согласия.
— Куда же мне его принести? — так же тихо спросил он.
— Ты здесь оставь его, а я приду и сам возьму его! Не давай никому снимать его с креста, пока я не приду!
— Будь покоен, все будет, как ты сказал! — ответил воин.
Малх быстро пустился домой. Придя во дворец, он тотчас же направился в комнату своего господина. Каиафа был один. Он сидел неподвижно в своем большом, великолепном кресле и задумчиво смотрел куда-то вдаль.
— Господин мой! — с дрожью в голосе начал Малх, глядя в мрачное, как будто окаменевшее лицо первосвященника. — Я должен тебе нечто сообщить, что имеет отношение к твоему сыну.
Малх замолчал, ожидая, как примет это известие его повелитель, но Каиафа ничего не отвечал: казалось, он даже не слышал, что ему говорили.
— Я нашел твоего сына, — воскликнул Малх, подступая ближе к первосвященнику, — но он уже при последнем издыхании и, быть может, уже умер.
Каиафа наконец пошевельнулся. Медленно устремил он свой взор на слугу и, как будто еще не ясно соображая, о чем идет речь, спросил:
— Ты нашел моего сына? Ты говоришь, что он при последнем издыхании? Что ты этим хочешь сказать?
Тогда Малх в последнем порыве отчаяния стал рассказывать осиротевшему отцу всю ужасную в своей правде историю. Каиафа по-прежнему не выражал никаких признаков особенного волнения и тем же глухим тоном спросил по окончании рассказа:
— Он распят, ты говоришь, с Назарянином? Мой сын и Сын Божий вместе пригвождены ко крестам?
Но наконец болезненная окаменелость несчастного отца прошла и страшная перемена в несколько секунд исказила его лицо… С неестественно сверкающими глазами он вскочил вдруг со своего кресла и крикнул:
— Ты лжешь! Ты хочешь меня испугать только за то, что я распял Назарянина! И ты думаешь, что я испугался? Нет! Нисколько! Напротив, я рад, от всего сердца рад, что Его нет на свете! Слышишь? Ступай с глаз моих и не смей ко мне больше являться! Убирайся, иначе я тебя убью!
И, как бешеный, он бросился на Малха, но Малх был уже за дверями. Выйдя на улицу, Малх опустился на камень, сжал до боли свои дрожащие руки и простонал:
— Боже, Боже мой! Помилуй меня по молитве моей! Прости меня по милосердию Твоему!
Затем он встал и поспешил снова к Голгофе. По дороге он купил в лавке тонкого полотна и благовонных мастей для погребения. Повернув в ближайшую улицу, он встретил вдруг двух людей, из которых один окликнул его по имени. Он остановился и узнал в незнакомце Иоанна, любимого ученика Назарянина.
— Я веду к тебе юношу, который имеет сообщить твоему господину очень важные сведения, — тихо сказал Иоанн. — Сведения эти касаются давно пропавшего сына первосвященника. Сейчас я думал провести его во дворец, куда он не мог раньше получить доступа…
— Разве он уже был там? — жадно допытывался Малх.
— О да! Я вчера несколько раз был там, — подхватил Стефан.
Малх только тяжело вздохнул в ответ.
— Я знаю все, что ты хочешь сообщить моему господину, — произнес он после минутного молчания. — Сейчас будет бесполезно еще раз говорить ему об этом. Что же касается его жены, то лучше пока не говорить ей… У нее и без этого много горя!
И затем он рассказал своим собеседникам обо всем, что произошло между ним и Каиафою.
— Теперь я иду, чтобы позаботиться о приличном погребении моего молодого господина. Это единственное, что для меня возможно в настоящее время. О, как я рад был бы отдать за него свою кровь!
— Я его тоже любил, — заметил Стефан, — и радуюсь теперь за него, потому что он сейчас со Христом в раю, где ему гораздо лучше быть, чем здесь с нами.
Все трое молчаливо двинулись дальше по направлению к тому месту, где были водружены кресты.
Тело Господа незадолго до их прихода было бережно снято со креста. Подойдя ближе ко кресту, Малх узнал между стоявшими вокруг Тела Иисусова двух членов синедриона: Иосифа из Аримафеи и Никодима.
— Теперь, когда уже слишком поздно, они веруют в Него… — печально заметил о них Иоанн.
— Нет, они давно уже веровали во Христа, но не осмеливались перед всеми исповедовать Его, — возразил Малх.
— То же самое, к прискорбию, случилось и со мной, — с огорчением добавил он.
В это время подошел к ним воин, которому Малх ранее обещал золотую монету, и почтительно проговорил:
— Юноша, о котором ты приказал мне позаботиться, умер уже, ровно как и старший его товарищ. Прикажешь помочь тебе? Во всяком случае, нужно снять труп как можно скорее, потому что скоро солнце уже зайдет!
— Да, помоги, помоги! А вот тебе то, что было обещано! — еле удерживая слезы, ответил Малх, подавая вознаграждение.
* * *
Прежде чем солнце скрылось за горизонтом, трое распятых почили в мире смерти.
Иисуса положили в новом гробе Иосифа Аримафейского, в пещере в прекрасном саду, недалеко от места Его страданий. Двоих других — в месте общего погребения…
Когда уже в сумерках они возвращались с места погребения, Малх спросил юношу, куда он теперь пойдет.
— Не знаю, — с глубокой грустью ответил мальчик, — у меня нет теперь родного крова, нет человека, к которому я мог бы пойти…
И он громко зарыдал.
— Так останься навсегда со мной! — вырвалось от всего сердца у Малха.
— А разве ты не хочешь пойти со мной? — ласково проговорил Иоанн, незаметно присоединившийся к ним по дороге. — Мать Иисуса будет и тебе Матерью, а мне ты будешь братом.
Стефан с глубокой признательностью взглянул на любимого ученика Христова и без колебаний принял его предложение.
Естественная скорбь и сожаление об отце и распятом брате уступили теперь место светлой радости и надежде. Вместе с Иоанном они пришли в Вифанию и остались здесь до первого дня недельного…
Глава 30. Воскресение Христово
Солнце еще не всходило. Луна не успела исчезнуть на небосклоне и обливала землю слабым потоком своих непостоянных лучей.
По улицам святого города спешила женщина по направлению к саду, где погребен был распятый Господь. Это была Мария Магдалина. Она хотела почтить своего усопшего Учителя и Господа и несла ко гробу драгоценное миро, намереваясь возлить его на Его Пречистое Тело.
Не без робости вступила она в огороженный небольшою стеною сад. Осмотревшись несколько раз кругом, Мария направилась торопливо к гробу по тропинке, обросшей густым кустарником. Здесь было совершенно темно и стояла такая невозмутимая ничем тишина, что Мария могла слышать биение своего собственного сердца.
Но вот она остановилась и внимательно прислушалась: какой-то тихий, таинственный шелест внезапно нарушил торжественную тишину молчаливого сада. Быть может, это был ветерок, пробежавший по листочкам дерев. Но нет, ей как будто послышался тихий взмах ангельских крыл. Приятное благоухание лилий наполнило воздух, и это благоухание охватило Марию священным невольным трепетом. Долго стояла она на одном месте, боясь пошевельнуться, едва дыша и напряженно вслушиваясь в таинственные звуки…
Вдруг слабый луч розоватого света прорезал темноту, и почти в ту же минуту высоко в воздухе раздалась хвалебная песнь жаворонка.
С удивленным восклицанием и изумлением бросилась Мария вперед. Этому изумлению не было границ, когда она увидела, что камень от входа в гроб был сдвинут с места. Со смущением заглянула она внутрь пещеры и, торопливо оглянувшись вокруг, быстро направилась в Вифанию.
Гроб оказался пустым!..
* * *
— Кто отвалит нам камень от входа во гроб?
Женщины остановились и вопросительно посмотрели друг на друга. Их было четверо: Мария Клеопова[9] Иоанна[10], Саломия[11] и Мария, сестра Лазаря. Они тоже вышли из города еще ранним утром, чтобы посетить священное место.
— Мы сами не в состоянии будем сдвинуть его, ведь он очень велик и тяжел, — заметила Саломия.
— Кто знает, может быть, ученики Господа придут сюда, тем более, что им известно было наше намерение прийти сюда рано и помазать миром Тело Учителя, — ответила ей Иоанна.
Между тем, с каждой минутой становилось все светлее. Ночной туман, окутывавший поля и нивы, постепенно рассеивался, оставляя на траве и листочках капельки блестящей, как драгоценные камни, росы.
Из зелени молодой листвы красиво выделялись белым и розовым цветом миндальные деревья. С веселым щебетаньем просыпались птички и порхали с ветки на ветку. Вся природа, казалось, в этот незабываемый день принимала участие в Божественной тайне неба.
Но торжествующая радость новой зари — обновления — не находила покоя, отклика в сердцах опечаленных жен-мироносиц. Мария подняла свои заплаканные глаза к небу, но лишь за тем, чтобы снова немедленно опустить их со словами:
— Как это могут птицы, которых Он так любил слушать, веселиться и радоваться сегодня, когда Он…
И она залилась слезами, не докончив фразы. Другие женщины молчали; опустив головы, они медленно двинулись дальше. Но вот и сад. Они вошли в калитку и, не оборачиваясь по сторонам, пошли по направлению ко гробу. Приблизившись к пещере, они вдруг заметили, что камень был отвален от гроба и лежал у входа.
Мироносицы вошли вовнутрь пещеры и в молчаливом изумлении посмотрели друг на друга: углубление, где было положено Тело Господа Иисуса, было пусто. По правую его сторону мироносицы увидели сидящего юношу, от одеяния которого исходил таинственный свет, ярко озаряющий темную пещеру, в которой они стояли. Когда же они от страха потупили взоры в землю, Ангел сказал им:
— Не бойтесь! Я знаю, вы ищете Назарянина распятого. Что ищете живого между мертвыми? Нет Его здесь, Он Воскрес! Вот место, где положили его. Но пойдите и скажите ученикам и Петру, что Он встретит вас в Галилее! Там Его увидите, как Он говорил вам, еще будучи в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданному в руки человеков-грешников, и быть распятому, и в третий день воскреснуть.
И, вышедши из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его все, что видели и слышали…
* * *
— Что бы могли значить эти страшные слухи, как ты думаешь, — говорил Петр Иоанну, идя с ним ко гробу Спасителя, — кто бы мог украсть Тело Господа? Неужели враги, лишившие Его жизни? Неужели им еще недостаточно того, что они сжили Его со света?
— Пойдем-ка лучше скорее, — перебил его Иоанн, — женщины, наверное, ошиблись, они вне себя от горя.
Ученики зашагали быстрее. Вдруг точно молния блеснула в уме Иоанна странная мысль — о том, что говорил им Учитель незадолго перед Своими страданиями, и даже несколько раз говорил!
— В третий день! В третий день! — воскликнул он радостно. — Вот что это значит! Сегодня третий день…
И с этими словами он устремился вперед.
Петр последовал за ним, и вскоре оба они, один за другим, прибежали ко гробу. Да, действительно, камень был отвален точно так, как передали об этом женщины, и когда Иоанн наклонился и заглянул в пещеру, то увидел лежащие полотняные одежды, в которые завернуто ранее было Тело Господа Иисуса. Когда он, пораженный, стоял у входа в пещеру, не осмеливаясь в нее опуститься, подошел Петр и, опустившись в пещеру, увидал сложенные одежды, а плат, которым повязана была голова Господа, оказался не вместе с одеждами, но в стороне — свернутым и отложенным на особое место.
Тогда вошел другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и поверил.
— Его нет здесь действительно, правда, — проговорил он благоговейно. — Он воскрес!
И, удивляясь всему произошедшему, ученики опять возвратились к себе.
* * *
Вслед за апостолами пошла снова Мария Магдалина ко гробу, и стояла у входа его, плача и рыдая, и, когда плакала, наклонилась посмотреть во гроб. И видит двух Ангелов, в белых одеяниях сидящих, — одного в головах, а другого в ногах, где лежало Тело Иисусово, и они говорят ей:
— Что ты плачешь? Кого ищешь?
Она отвечает:
— Унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его.
Потом она оборотилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала Его. Тогда Он обратился к ней и так же, как и Ангелы во гробе, спросил Её:
— Женщина, что плачешь? Кого ищешь?
Она, думая, что Это садовник, говорит Ему:
— Господин, если ты унес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я пойду и заберу Его.
Иисус говорит ей:
— Мария!..
Тогда только она узнала Иисуса Христа по голосу и с радостным восклицанием: «Раввуни!» — простерла к Нему руки свои, чтобы прикоснуться к Нему и убедиться, что Это Он! Но Иисус остановил ее:
— «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему, а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему и к Богу Моему и Богу вашему» (Ин.20:14).
И, сказав это, Он оставил Марию.
Мария же, преисполненная радости, поспешила к ученикам и рассказала им о происшедшем.
* * *
В этот же день шли двое учеников Господа в местечко, называемое Эммаус, отстоявшее от Иерусалима стадий на шестьдесят. Они разговаривали между собой обо всех сих приключениях, и, когда они рассуждали между собою, Сам Иисус, подошедши, пошел с ними. Но очи их были удержаны, и они не узнали Его. Он же сказал им:
— Что это за происшествие, о котором вы рассуждаете между собою, и отчего печальны?
Один из них, по имени Клеопа, сказал Ему в ответ:
— Неужели ты один, будучи в Иерусалиме, не знаешь о случившемся в нем в эти дни?
И сказал им:
— О чем?
Они сказали Ему:
— Об Иисусе Назорее, Который был Пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом… Как предали Его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть, и распяли Его… А мы надеялись было, что Он избавит Израиль, но уже третий день ныне, как это случилось. Еще же некоторые женщины из наших удивили нас, ибо, бывши рано у гроба, не нашли тела Его, и, пришедши, сказали, что видели явление Ангелов, которые говорят, что Он жив… И ходили некоторые из наших ко гробу, и нашли так, как и женщины говорили, но Его не видели…
Тогда Он сказал им:
— О, несмысленные и косные сердцем в веровании тому, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало Христу пострадать и войти в славу Свою?
И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании.
Между тем, приблизились к тому селению, в которое они шли. Он показал вид, что хочет идти далее, но они удерживали Его, говоря:
— Останься с нами, потому что уже поздно и день склоняется к вечеру.
И, вошедши, остался с ними. И когда возлежал с ними за столом, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тут отверзлись у них очи и они узнали Его. И Он стал им невидим.
Тогда стали они говорить друг другу:
— Не горело ли сердце в нас, когда Он говорил с нами по дороге и изъяснял нам Писание?
И, вставши в тот час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь точно воскрес и явился Симону.
И они рассказали о происшедшем на пути и как они узнали Его в преломлении хлеба.
Когда они говорили об этом, Иисус стал посреди них и сказал:
— Мир вам!
Они смутились и, испугавшись, подумали, что видят духа, но Он сказал им:
— Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и ноги Мои: Это — Я Сам. Осяжите Меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня!
Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им:
— Есть ли у вас здесь какая пища?
Ибо сердца их были открыты перед Ним, и Он хорошо знал, что при всей их любви к Нему по немощи плоти их они не могли понять тайны Воскресения. Он хотел поэтому показать им, что среди них находится теперь Тот же Иисус, Который любит их и о них заботится.
С радостью, хотя и не без некоторого недоумения принесли Ему ученики печеную рыбу и сотового меда, составлявших ту обычную простую пищу, которую Он так часто разделял с ними во дни земной Своей жизни.
И Он взял предложенное и ел перед ними.
Тогда со слезами все столпились вокруг Него и припали к ногам Его. И Он еще долго говорил с Ними и разъяснял им то, чего они, по человеческой слабости и немощи, не могли раньше уразуметь. И говорил, между прочим:
— «Так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему» (Лк.24:45).
Заключение
У окна небольшой, скромно обставленной комнаты сидела Мария, Матерь Господа, и задумчиво смотрела на далекий горизонт. Она должна была выстрадать больше, чем дано в удел обыкновенному человеку, и при всем том небесный мир не оставил Ее чистой души.
Когда Она сидела так и вспоминала те дни, когда Сын Ее еще жил на земле, отворилась дверь Ее комнаты и кто-то тихо вошел. Это был Стефан. Он склонился к Ее коленям, осторожно взял Ее руки и осторожно прижался к ним.
— Мать Иисуса моего, — заговорил он, — Ты знаешь, что Тит, которого я искал в Иерусалиме, был пригвожден ко кресту и что теперь он вошел в рай, чтобы всегда быть с Иисусом, Которого мы так сильно любили. И вот еще: до сих пор настоящая мать Тита не знает ничего о его судьбе.
Он рассказал Ей затем, что произошло, и как Малх не решился сразу объявить обо всем матери Тита, чтобы не увеличивать еще больше ее горя.
Мария обратила на Стефана Свой божественно-светлый взгляд и о чем-то задумалась.
— По моему мнению, — произнесла Она после минутного раздумья, — не нужно дальше оставлять ее в неведении; и не кто иной, как ты, должен сообщить ей о сыне. Ступай же к ней!
* * *
Супруга первосвященника Каиафы сидела в одном из покоев его дворца, выходившем на террасу и бывшем ее любимым местом в часы отдыха. Как и прежде, солнце ярко светило, журчал фонтан, птички весело пели и чирикали, порхая с ветки на ветку, а в комнату с каждым порывом легкого прохладного ветерка доносилось благоухание лилий и роз. Но, несмотря на эту чудную обстановку, лицо Анны было печально. Работа давно уже вывалилась из рук ее, в широко раскрытых очах блестели слезинки.
В комнату вошла служанка и с поклоном остановилась перед своей госпожой.
— Что тебе нужно, раба? — обратилась к ней Анна.
— Госпожа моя, — ответила девушка, — там, на дворе, стоит какой-то юноша и желает поговорить с тобой. Я сказала ему, что ты никого не можешь теперь видеть, но он не хочет уходить и уверяет, что не сойдет с места, пока не поговорит с тобой.
— Зачем же ты сказала, что я никого не могу видеть? — с легким упреком обратилась к служанке Анна. — Я не поручала тебе говорить обо мне. Позови же сюда этого юношу!
Девушка еще раз поклонилась и вышла. Через несколько минут она снова возвратилась в сопровождении Стефана.
— Вот юноша, о котором я говорила тебе, госпожа моя! — проговорила она, подводя к ней Стефана, и, по знаку своей госпожи, удалилась, оставив их наедине.
Стефан с глубоким уважением смотрел на Анну.
«Так вот она, мать моего Тита! Как сообщить ей теперь эту печальную весть?» — думал он. Анна тоже с любопытством смотрела на юношу; по-видимому, она почувствовала к нему какую-то симпатию. Серьезное выражение его больших голубых глаз странно подействовало на ее сердце, и она ласково спросила:
— Что ты хочешь, юноша? Быть может, ты в чем-нибудь нуждаешься?
И ласковая улыбка, столь редкая у нее за последнее время, озарила бледное лицо Анны. Стефан узнал эту улыбку: точно улыбка Тита! Он подошел к ней поближе и произнес голосом, дрожавшим от внутреннего волнения:
— Ты — мать моего Тита! И я пришел рассказать тебе о нем. Его нет на земле, теперь он с Иисусом…
— Я не понимаю тебя, юноша! Что ты хочешь сказать? — с удивлением и с невольною дрожью в голосе спросила Анна. — Кто этот твой Тит?
— Сын твой! Он назывался, собственно, Давидом, — ответил Стефан, едва осмеливаясь прямо взглянуть на несчастную мать.
Услышав имя сына, она невольно испустила громкий крик, но быстро удержалась и простонала:
— Рассказывай дальше! Рассказывай все, что знаешь!..
Просто, совершенно по-детски Стефан стал рассказывать краткую, но печальную историю Тита.
В заключение же своего рассказа он сказал:
— Подумай, насколько лучше ему там, на небе! Учитель обещал, что он будет с Ним в раю… А могут ли обетования Учителя остаться без исполнения?
— Да, конечно, если он в раю… Но что я одна буду делать здесь, на земле? Кто может поручиться мне за то, что я когда-нибудь соединюсь с ним?
— Если ты веруешь в Иисуса, умершего и воскресшего, то и ты будешь с Ним в раю!
Удивилась Анна и вопросительно посмотрела в лицо Стефану:
— Как это ты говоришь?.. «Умершего и воскресшего»?..
— Я говорю, что Иисус воскрес из гроба, в который положили Его после распятия! Он жив! Я собственными глазами видел Его и слышал Его голос! А если Он жив, то и мы живы будем с Ним. Он ясно и определенно изрек, что Его воля в том, чтобы и мы, уверовав, были там, где и Он. Итак, можно ли сомневаться, что ты, исповедуя Иисуса Распятого, снова увидишь своего сына? Щедр и милостив Господь!
Анна ничего не ответила, но по всему видно было, что слова Стефана глубоко ее растрогали. Она поднялась со своего места, плотнее завернулась в свою верхнюю одежду и проговорила:
— Я должна видеть Марию, Мать Иисуса. Сведи меня к Ней.
И знатнейшая из еврейских женщин скромно последовала за Стефаном в жилище Марии.
Стефан открыл дверь, и она вступила в комнату Божией Матери. Увидя Марию, Анна с громким рыданием бросилась к Ней на шею и от слез волнения не могла в первую минуту сказать Ей обычное приветствие.
Стефан тихо вышел из комнаты и оставил обеих матерей наедине. Через некоторое время, впрочем, его снова позвали в комнату. И, когда он заметил, что на лице Анны сквозь прежние слезы сияет тихая улыбка, ему легче стало на сердце.
— Пойди сюда, Стефан, — ласково проговорила Мария.
Он подошел, и Анна, потерявшая сына, устремила на него долгий, пристальный взгляд.
— Ты ближе всех был к моему Давиду, — проговорила она, — и он любил тебя больше всех, живя на земле. Мне очень хотелось бы оставить тебя у себя, но, к сожалению, я не в силах этого сделать.
И, обращаясь к Марии, продолжала:
— Я знаю, что Мать Иисуса больше имеет прав опекать тебя. Я же буду считать тебя моим сыном, раз ты был братом моему Давиду!
Она встала, нежно прижала к себе Стефана и поцеловала его в голову.
Так нашел Стефан себе новую опору в жизни; впрочем, ненадолго!.. Мир не принял его, а Бог взял его к Себе, благоволив ему еще на земле открыть славу Свою.
* * *
— О! Как хотелось бы мне еще раз увидеть Его! – говорил Петр Иоанну.
Они ходили вдвоем в собственном саду Петровом, в Капернауме, в то время как другие апостолы сидели у самого берега озера, которым оканчивался сад с одной стороны. Они возвратились в Галилею, как положил им на сердце Господь, собрали здесь вокруг себя прежних учеников Его и проповедовали им о воскресении Христовом.
В этот мирный весенний вечер они говорили между собой о чудесном явлении Господа на горе, где Его видели сразу пятьсот братий.
— Ведь ты же не можешь принадлежать к сомневающимся? — серьезно спросил Иоанн.
— Конечно, нет, — ответил Петр. — Уж мне вовсе было бы неприлично сомневаться в Его милости.
Но голос его внезапно упал:
— Ты ведь знаешь, что это было как будто небесное видение, и многие присутствовали там. Но если бы мне хоть раз поговорить с Ним лицом к лицу и ясно услышать из Его уст, что Он простил мне мое постыдное отречение, я был бы счастлив!
Он обернулся и, глядя на тихие волны Геннисаретского озера, в которых разноцветными огоньками отражались лучи заходящего солнца, в полноте своей прирожденной живости воскликнул:
— Идем рыбу ловить!
Иоанн посмотрел на него с удивлением:
— И нам идти с тобой?
— Конечно! Пойди, предложи другим, а я пойду принесу сети.
И вышли они, как прежде, на работу.
И когда лодка скользила уже по водам, вися, так сказать, между двумя небесами, Иоанн задумчиво посмотрел на ясную поверхность вод, в которых отражался красноватый отблеск заката, и тихо промолвил:
— Вода-то — будто стекло!
И все снова погрузились в молчание. Проработали они целую ночь, но ничего не поймали. Когда наступило утро, они направились к берегу, потому что сильно устали и проголодались за ночь. Приблизившись к берегу, они увидели вдруг Человека, стоявшего на берегу, и так как утро было туманное, они не узнали Его.
Иисус, а это был Он, говорит им:
— Дети Мои, есть ли у вас какая пища?
Они отвечали Ему:
— Нет!
Он же сказал им:
— Закиньте сети по правую сторону лодки и поймаете.
Они последовали тотчас же Его совету, потому что подумали, что Он знает лучше места, где водится рыба.
Когда же они стали извлекать сеть, то оказалось, что она полна была рыбою, и они еле в состоянии были вытащить сеть.
Тогда Иоанн привстал в лодке и, движимый каким-то предчувствием, направил долгий, пристальный взгляд на Человека, стоявшего на берегу. Ему вдруг стало ясно, Кто был таинственный Незнакомец, и он испустил радостный крик:
— Это Господь!
Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо был наг, и бросился в море.
Через несколько минут он был уже на берегу и лежал у ног своего Божественного Учителя, от Которого он недавно так позорно отрекся. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от берега, таща сеть с рыбою.
Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Как забилось у них от радости сердце, когда они узрели своего Воскресшего Учителя! И они могли воочию убедиться, что Он даже в славе Своей Божественной не забыл их человеческих потребностей, но знал, что они голодны, и собственными руками уготовил им трапезу. Иисус говорил им:
— Принесите рыбу, которую вы теперь поймали!
Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три, и при таком множестве не порвалась сеть.
Иисус говорит им:
— Придите, обедайте!
И Сам Он взял хлеб и дал им; также и рыбу, и они ели и насытились.
И во время обеда Иисус, устремив испытующий взор Свой на Петра, спросил его:
— Симон Ионин, любишь ли ты Меня больше, нежели они?
Петр говорит Ему:
— Так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя.
Иисус говорит ему:
— Паси агнцев Моих!
Еще говорит ему в другой раз:
— Симон Ионин! Любишь ли ты Меня?
— Так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя.
Иисус торжественно сказал снова:
— Паси овец Моих.
И в третий раз спросил Он Петра:
— Симон Ионин, любишь ли ты Меня?
Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли Меня?», хотя в глубине души понял, почему Учитель так делает. Разве не трижды он отрекся от Него, и не надлежало ли теперь трижды же исповедать Его? Он бросился к ногам Иисуса и сквозь слезы воскликнул:
— Господи, Ты все знаешь! Ты знаешь, что я люблю Тебя!
Иисус посмотрел на него взглядом, в котором светилось столько любви и милосердия, что Петру сразу стало ясно, что прощен грех его.
Снова торжественно изрек Иисус:
— Паси овец Моих.
И вслед за тем прибавил:
— «Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь» (Ин.21:15).
Много лет спустя, когда враги Господни предали Петра мученической смерти, слова исполнились в точности, но любовь апостола к своему Учителю и Господу помогла ему претерпеть все до конца.
Спустя несколько дней ученики возвратились в Иерусалим, как повелел им Иисус, чтобы они ожидали в Иерусалиме обещанного Утешителя от Отца. Там снова явился им Иисус и говорил с ними. И они, воспользовавшись удобным случаем, спросили Его:
— Не в сие ли время, Господи, восставляешь Ты царство Израилю?
На это Он ответил им:
— «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли» (Деян.1:7-8). «Итак, идите, научите все народы, крестя их во Имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам — и се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф.28:20). Аминь.
И, говоря это, Он вывел их вон из города до Вифании, и, простерши руки Свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отделяться от них и возноситься, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белых одеждах, которые и сказали им:
— «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на Небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян.1:9-11).
Тогда они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. И пребывали всегда в храме, хваля и благословляя Бога. Аминь.
Дитя из Вифлеема
Старинное предание[12]
Перед городскими воротами Вифлеема на часах стоял римский воин. Он был в шлеме и тяжелых латах, сбоку висел короткий меч. В руках воин держал копье. Целый день стоял он почти без малейшего движения и можно было подумать, что это не живой человек, а железная статуя.
Горожане проходили через ворота туда и обратно, нищие садились отдохнуть в тени под сводами ворот, продавцы фруктов и вина ставили свои корзины на землю, чтобы слегка передохнуть у самых ног воина. А он все стоял неподвижно, едва давая себе труд слегка повернуть голову, чтобы посмотреть им вслед.
«Тут нет ровно ничего интересного, — казалось, говорил взгляд часового. — О чем мне тревожиться? Неужели меня могут занимать все эти люди, нищие, торговцы, погонщики? Вот если бы я мог полюбоваться на стройные ряды войск, идущих на врага, тогда другое дело. О, как бы посмотреть на жаркую битву, на горячую схватку, на молодецкую атаку конницы, которая стремительным натиском мнет отряд пеших воинов. Как хотелось бы мне участвовать в штурме города вместе с отважными смельчаками: первым забраться на каменные стены осажденной крепости. Ничто, кроме войны не может доставить мне радости и удовольствия. Я тоскую без царственных орлов моей далекой родины — Рима. Как хотелось бы мне увидеть одного из них, парящих в голубой выси неба. Я томлюсь без воинственных звуков труб, призывающих в бой. Меня влечет и манит звук оружия и алые потоки пролитой крови врага».
Сейчас же за воротами начиналось широкое поле, все поросшее белыми лилиями. Римский воин каждый день стоял на часах у этих ворот, каждый день взор его устремлен был на это поле, но ему и в голову не приходило полюбоваться на удивительную красоту и пышность белоснежных цветов. Он даже не замечал их. Иногда видел он, как прохожие останавливались и восхищались, наклоняясь над цветами. Это вызывало у воина только досаду.
«Глупые люди, — думал он. — Они отвлекаются от своего дела, задерживаются на пути, чтобы полюбоваться такими пустяками. Они не понимают, в чем истинная красота».
Мало-по-малу часовой переносился мыслями в другие страны: он уже не видел ни поля, ни холмов, покрытых зелеными оливковыми деревьями.
Перед глазами его рисовались другие картины…
По знойной раскаленной пустыне Ливии длинной линией двигались по желтому песку легионы войск. Нигде нельзя укрыться от палящих лучей солнца, нет границ песчаной пустыне, нигде не видно источника, нет конца томительному пути, воины изнемогают от голода и жажды… Колеблющимися шагами, усталые, едва двигаются они вперед. Один за другим, обессиленные, опускаются они в изнеможении на песок, сраженные немилосердным солнечным зноем. Но, несмотря на все страдания, все муки, воины идут все вперед и вперед, не допуская мысли о том, чтобы малодушно отстать от своих вождей…
«Это действительно прекрасно, — думал воин, отрываясь от своих сладких впечатлений. — Вот какие картины должны веселить взор храброго человека».
Во время своих ежедневных дежурств у городских ворот воин мог бы любоваться прелестными детьми, которые приходили играть на лугу. Но к детям воин относился, как к цветам, и с возмущением удивлялся, как проходившие мимо люди с улыбкой останавливались, чтобы посмотреть на детские игры.
«Удивительно, как некоторые могут из ничего сделать себе удовольствие, — думал, глядя на них, воин. — Что тут интересного или заслуживающего внимания?»
Однажды, когда воин, как и всегда, стоял на своем посту за городскими воротами, он увидел маленького мальчика лет трех, который пришел погулять на лугу. Это был бедный мальчик; несомненно, — сын простых родителей, потому что одет он был очень скромно и играл совсем один.
Воин, сам того не замечая, внимательно смотрел на мальчугана. Ему бросилось в глаза, какой легкой поступью ребенок бегал по траве. Он совсем не мял травы, точно парил над нею, не касаясь ее. А когда ребенок начал играть, он возбудил еще большее удивление римского легионера.
«Клянусь мечом, — подумал он, — этот мальчик играет совсем не так, как другие дети. Чем это он так забавляется?»
Ребенок играл всего в нескольких шагах от воина и тот мог свободно наблюдать за ним. Он увидел, как мальчик протянул руку, чтобы поймать пчелу, которая сидела на краю цветочного лепестка и была так отягчена цветочной пылью, что не могла расправить крылышки, чтобы лететь.
С изумлением воин увидел, как пчела нисколько не старалась ускользнуть от руки ребенка и не думала его укусить, но спокойно дала себя поймать, и мальчик крепко зажал пчелку в кулачке, побежал с ней к трещине в городской стене, где жил пчелиный рой, и там посадил пленницу на край улья. Потом мальчик снова прибежал к цветам, и так целый день носил усталых пчелок в их жилище.
«Какой неразумный ребенок, — думал воин. — Я, право, еще и не встречал такого. Ему доставляет удовольствие помогать пчелам, которые могут отлично обойтись без его помощи, да еще, того и гляди, ужалят. Что за человек выйдет из этого мальчика, когда он вырастет?».
Ребенок каждый день приходил на луг, и воин не мог удержатъся, чтобы не наблюдать за ним и за его играми.
«Как удивительно, что за все три года, что я здесь стою на страже, — думал воин, — ничто так не привлекало моего внимания, как этот ребенок!».
Но не радостные мысли возникали в голове воина, когда он смотрел на ребенка. Невольно вспоминалось ему предсказание одного иудейского пророка, что наступит время, когда мир и тишина будут царить на земле, утихнут войны, и люди будут любить друг друга, как братья.
Эти мысли были тягостны и ненавистны для воинственного римлянина, он боялся, что такое время может действительно наступить на земле, судорога пробегала по его телу, и он крепче сжимал копье, как будто готовясь броситься на врагов. И чем больше наблюдал воин за играми удивительного ребенка, тем чаще приходило ему в голову, что время братской любви и мира может скоро наступить на земле. Он был далек от мысли, что заветы братской любви уже принесены на землю, но даже мысль о возможности такого печального, с его точки зрения, времени, приводила его в уныние и возбуждала негодование.
Однажды, когда мальчик по обыкновению играл в поле, покрытом лилиями, вдруг налетела страшная туча, и разразился сильнейший ливень. Когда мальчик увидел, как крупные дождевые капли били, мяли прелестные цветы, он на минуту задумался, как помочь своим любимцам, а потом стал подбегать к самым высоким стеблям, на которых было больше цветов, и наклонял их до земли так, что дождевые капли, ударяясь в нижнюю часть чашечки цветка, не могли вредить им.
Мальчик спешил от одного цветка к другому и скоро все стебли, как скошенная трава, лежали один возле другого, покорно подчиняясь воле ребенка.
Римский воин с усмешкой следил за мальчиком.
«Боюсь, что лилии не слишком будут благодарны этому наивному мальчику, — подумал он. — Он, очевидно, не знает, что растения с такими крепкими стеблями, как лилии, нельзя перегибать. Они все, конечно, теперь сломаны на перегибах.
Однако, как только дождь утих и солнце снова выглянуло из-за туч, мальчик побежал к лилиям и стал их поднимать. И к неописуемому удивлению воина, он увидел, как ребенок, без малейшего труда и усилия, стал поднимать стебель за стеблем, и, казалось, что ни один из них не только не был сломан, но даже хотя слегка поврежден.
Так переходил мальчик от одного цветка к другому, и вскоре все поле по-прежнему сверкало ослепительно прекрасными нарядами белых цветов.
Когда воин увидел то, что происходило перед его глазами, душой его овладел сильный гнев.
«Что это за ребенок! — С озлоблением думал римлянин. — Как могло прийти ему в голову спасать никому не нужные цветы? Какой из него может выйти воин, если в нем сейчас такая сильная жалость, что он не может видеть даже гибели цветка? Что же с ним будет на войне? Что он будет делать, если ему велят поджечь дом, в котором скрылись женщины и дети, или потопить корабль, вышедший в море с отрядом воинов?».
Снова пришло ему на память древнее пророчество иудейского мудреца о царстве мира и любви на земле. У воина явилась мысль, что действительно это время может скоро наступить, раз могло появиться на свете такое удивительное дитя с нежной и чувствительной душой.
«Может быть, уже настает это время и навсегда умолкнут звуки орудий, никогда больше не будет доблестных кровопролитных войн?! Люди будут опасаться повредить один другому и даже более того, не только человек человеку, но будут оказывать помощь даже животным и растениям, как этот мальчик заботится о пчелах и лилиях. Не будет больше славных подвигов на земле, не будет великих побед и победителей-героев. Храброму воину негде будет показать свою доблесть, применить свою силу, упиться кровавым опасным боем…».
Эти мысли были так тягостны для римского воина, который только и мечтал о войне и о геройских подвигах, что бессильный гнев против кроткого ребенка поднимался в нем и душил его. Когда мальчик пробегал мимо него, воин даже пригрозил ему в след своим копьем.
Через несколько дней необычный ребенок еще больше удивил воина…
Был особенно жаркий день, и солнечные лучи так раскалили шлем и латы воина, что римскому легионеру казалось, будто на нём были доспехи из пламени.
Проходящим мимо него людям думалось, что воин должен невыносимо страдать от такого палящего зноя. Глаза его налились кровью и готовы были выскочить из орбит, губы пересохли. Но воин был закален в знойных африканских пустынях, так что этот день не казался ему невыносимо знойным, и ему и в голову не приходило отойти от своего поста хотя бы на несколько шагов в сторону, чтобы укрыться в тени. Наоборот, ему было приятно сознавать, что прохожие удивляются его выносливости, видя его доблесть.
В то время как воин стоял под палящими лучами солнца на своем посту, точно готовый заживо спечься, мальчик пришёл на луг и вдруг, оставив игру, близко подбежал к воину. Он понимал, что воин недружелюбно к нему относится, и обычно играл где-нибудь на небольшом расстоянии от его поста. Но тут ребенок подошел к легионеру совсем близко, пристально и внимательно посмотрел ему в глаза и вдруг во всю мочь пустился бежать через дорогу. Спустя несколько мгновений, он опять показался на дороге, но шел медленно и осторожно, ручки его были сложены как чашечки: он нёс в горсточке несколько капель воды.
— Только этого еще не доставало, — проворчал воин.
«Неужели, — думал римлянин, — мальчишке пришла в голову мысль принести мне воды? У него, по-видимому, нет ни малейшего разума. Как он мог подумать, что римский легионер может принять помощь! Какое может он находить для себя удовольствие бегать за водой для тех, кто совершенно не нуждается в этом, и где милосердие его совершенно неуместно и никому не нужно? Что касается до меня, я не только не испытываю благодарности к нему за желание помочь мне, но наоборот, ненавижу его и всеми силами души желаю, чтобы он и подобные ему исчезли навсегда с земли».
Мальчик озабоченно подходил к воину. Он крепко сжимал свои крошечные пальчики, чтобы ни одна капля не пролилась между ними. Глаза его были опущены, он пристально смотрел на свою ношу, точно нес что-то чрезвычайно драгоценное, и не видел, что воин следит за ним суровым, жестоким взглядом, что брови его сдвинуты от сильного гнева и недовольства.
Наконец, мальчик подошел к римлянину вплотную и протянул ему воду. Во время ходьбы тяжелые, светлые локоны ребенка сбились и закрыли собою лоб и глаза, и мальчик несколько раз встряхнул головкой, чтобы откинуть их назад. И когда волосы перестали мешать ему, он взглянул на воина…
Ясный, приветливый взгляд ребенка встретился с жестоким взглядом римлянина, но мальчик не испугался этого взгляда, не убежал, а продолжал спокойно стоять перед ним с протянутыми ручками, и лучезарная улыбка не сходила с его лица.
Но воин упорно не хотел принимать помощи от мальчика, которого он в эту минуту искренно ненавидел и считал своим врагом. Он старался не смотреть вниз, чтобы не видеть прелестного личика малютки, и стоял прямо и твердо, как будто не замечал мальчика и не понимал, чего тот хочет.
Но ребенок, казалось, не хотел верить и понимать, что воин отвергает его помощь. Он, по-прежнему улыбаясь ясно и приветливо, поднялся на цыпочки и протянул ручки как только мог высоко, чтобы рослому человеку было легче достать до воды.
Легионеру была невыносима мысль, что ребенок хочет оказать ему помощь, ярость стала овладевать им, он готов был схватиться за копье, чтобы прогнать мальчика. Но как раз в это время лучи солнца начали с таким ожесточением палить голову римлянина, а воздух так раскалился, что красные круги замелькали перед его глазами и воину показалось, будто в голове его расплавляется мозг. Он испугался, что солнечный удар убьет его на месте и, вне себя от ужаса, теряя сознание, бросил на землю копье, схватил обеими руками ребенка, поднял его и глотнул воды, которую он принес в ладошках…
Лишь несколько капель досталось воину, но больше и не требовалось. Язык, губы освежились, живительная влага разлилась по телу, утишая палящий жар и возвращая силы. Даже шлем и латы точно сразу перестали быть раскаленными, а солнце стало более милосердным и отклонило свои лучи от стражника. Пересохшие губы снова стали мягкими и влажными, а красные круги перестали плясать перед воспаленными глазами.
Прежде, чем воин все это заметил, он уже поставил ребенка на землю, и тот убежал на луг к своим чудным лилиям и пчелам.
С удивлением воин стал приходить в себя и вспоминать, что с ним случилось.
«Что это за удивительную воду принес мне мальчик? — рассуждал он. — Это был какой-то чудесный напиток и какой-то странный ребенок! Я действительно должен быть благодарен ему».
Но римлянин так не любил всех местных детей, что тотчас же отбросил свои мысли как чужие…
«Этот ребенок совершенно такой же, как и другие дети, — успокаивал он себя. — Он делает все, что придет ему в голову, не давая себе отчета в этом, потому что он и поступает так, а не иначе. Он во всем видит лишь игру и забаву. Разве лилии и пчелы чувствуют к нему благодарность? Он забавляется с ними так же, как сегодня пришла ему охота сбегать за водой для меня. Он не предполагал, какую оказал мне услугу…».
И воин еще с большим гневом взглянул на мальчика, который спокойно играл невдалеке.
В это время из ворот вышел начальник римских легионеров, которые были на страже в Вифлееме, и направился к нему.
«Подумать только, какой я страшной опасности подвергался из-за этого мальчишки, — с ожесточением подумал воин. — Если бы Вольтигий проходил здесь чуть раньше, он увидел бы меня с этим ребенком на руках».
Начальник легионеров подошел к воину и спросил его, могут ли они здесь побеседовать, так чтобы никто их не услышал, потому что Вольтигий должен поведать ему важную тайну.
— Нам стоит отойти лишь шагов десять от ворот, чтобы не слышали прохожие, тогда ты можешь говорить спокойно, никто нас не услышит, — ответил он.
— Ты знаешь, — начал Вольтигий, что царь Ирод ужe не раз старался захватить одного младенца, который живет тут в Вифлееме. Мудрецы и пророки предсказывали, что этот ребенок овладеет царством Ирода и положит на земле начало царству мира и любви. Ты понимаешь, что Ирод хочет помешать этому?
— Конечно, я всей душой сочувствую, — ответил воин. — Но ничего не может быть легче, чем схватить его.
— Это было бы чрезвычайно просто и легко, если бы Ирод знал, который именно из Вифлеемских младенцев тот, о котором делались предсказания.
— Жаль, что мудрецы не могут дать Ироду на этот счет точных указаний, — с досадой сказал легионер, напрягая мысль, чтобы придумать, как тут быть.
— Ирод придумал теперь хитрость, — снова заговорил Вольтигий, — с помощью, которой он надеется погубить будущего Царя мира и любви. Он обещает хорошую награду каждому, кто поможет ему осуществить этот замысел.
— Все, что ты прикажешь, будет исполнено, — с готовностью ответил воин. — Награды мне не надо.
— Благодарю, тебя, — продолжал начальник легионеров. — Послушай же, в чем состоит план Ирода. Он хочет в день рождения своего младшего сына устроить пышный праздник, на который будут приглашены все мальчики с матерями, но только те дети, которым не меньше двух лет и не более трех… На этом празднике… — Вольтигий остановился и расхохотался, увидя выражение крайнего отвращения на лице воина.
— Добрый друг, — продолжал он, — уж не думаешь ли ты, что Ирод приглашает нас няньками к этой детворе? Нагнись-ка ко мне, я скажу тебе на ухо, что должно произойти дальше…
Долго шептались начальник легионеров с воином. Наконец, когда все было условлено, Вольтигий сказал:
— Ты, конечно, понимаешь сам, и мне нет надобности напоминать тебе, что ты не должен никому обмолвиться ни единым словом, если хочешь, чтобы все удалось.
— Ты знаешь, Вольтигий, что на меня можешь положиться, — твердо ответил воин.
Начальник легионеров ушел, а воин остался один на посту. Взор его невольно снова остановился на ребенке, который по-прежнему играл возле цветов и так легко и нежно, как мотылек, касался их, что не причинил цветкам ни малейшего вреда.
Вдруг воин разразился недобрым смехом:
— Погоди, недолго ты еще будешь надоедать мне своими играми, недолго еще мне придется терпеть тебя, как досадную занозу в глазу. И ты будешь в числе других детей приглашен на праздник в честь сына царя Ирода…
II
Воин дождался на своем посту вечера, когда надо было запирать городские ворота на ночь, после чего по узким темным закоулкам он отправился в город и наконец вышел на площадь, где красовался великолепный дворец Ирода. Внутри этого величественного здания был двор, вымощенный камнем, кругом его было множество построек, к которым прилегали три широкие галереи, одна над другой. На самой верхней из них должен был состояться праздник в честь сына Ирода, на который были приглашены все Вифлеемские мальчики от двух до трех лет. Эта галерея, по приказанию Ирода, была украшена к празднику и представляла из себя как бы крытый, защищенный уголок в прекрасном саду.
По потолку вились виноградные лозы, с которых спускались спелые сочные гроздья. Возле стен и колонн стояли небольшие гранатовые и апельсиновые деревья, сплошь увешенные спелыми плодами. Пол был усыпан розовыми лепестками, которые покрывали его, как мягкий пушистый ковер, и наполняли воздух тонким ароматом, а вдоль балюстрады (ограждение — ред.) над столами и низкими скамьями висели гирлянды из белоснежных сверкающих серебристых лилий.
В этом прекрасном цветочном шатре здесь и там журчали в бассейнах прозрачные струи фонтанов, где плавали золотые и серебряные рыбки, сверкая и искрясь в воде своей яркой чешуей. На ветках деревьев сидели диковинные пестрые птицы, привезенные из далеких чужих стран, а в клетке тут же сидел старый ученый ворон, который безумолку болтал.
К началу праздника матери с детьми стали наполнять галерею. При входе во дворец мальчиков облачали в белые длинные одежды, окаймленные пурпуром, а на темно-кудрявые головки надевали венки из ярких душистых роз. Женщины были одеты в живописные красные и синие одежды; белые прозрачные покрывала спускались на плечи с их остроконечных уборов, украшенных золотыми монетами и цепями. Некоторые несли своих сыновей на плечах, другие вели их за ручки, третьи, чьи мальчики были слабее и нежнее, несли их на руках. Женщины опускались на пол галереи: тотчас рабы ставили перед ними низкие столики с изысканными кушаниями и редкими напитками, какие подаются на царских пирах. И все эти счастливые матери начинали пить и есть, не теряя при этом горделивой, полной достоинства осанки, которая составляет лучшее украшение Вифлеемских женщин.
Вдоль стен галереи, за гирляндами цветов и фруктовых деревьев, почти скрытые за ними, стояли двойные ряды воинов в полном боевом вооружении. Они стояли беззвучно и неподвижно, как будто им не было никакого дела до того, что происходило вокруг них. Но женщины не могли удержаться, чтобы время от времени не кинуть боязливый взгляд в сторону воинов.
— К чему они здесь? — беспокойно спрашивали матери друг друга. — Неужели Ирод думает, что мы не умеем вести себя с достоинством? Неужели он считает, что присутствие этих грубых людей необходимо, чтобы наблюдать за нами и держать нас в строгом порядке?
Некоторые женщины успокаивали друг друга тем, что так подобает быть на царском празднике во дворце. Когда царь Ирод устраивает пир для своих друзей, дворец бывает полон легионерами. Воины присутствуют для большей торжественности, для большего почета.
В начале празднества дети стеснялись и робко жались к матерям, испытывая смущение в непривычной для них обстановке. Но мало-по-малу любопытство и беспечность взяли верх над робостью, и мальчики с восторгом предались приготовленным для них развлечениям.
Ирод действительно по-царски принимал своих маленьких гостей и приготовил для них целый ряд чудес.
Тут же на галерее дети находили пчелиные ульи, полные сот со свежим душистым медом, и ни одна сердитая пчелка не мешала малюткам лакомиться их райским медом.
Деревья же как будто специально к празднику приготовили свои отягченные плодами ветки, и дети сами срывали и ели спелые апельсины, гранаты и другие фрукты. В одном углу галереи дети нашли чародея, который в один миг наполнил их карманы прекрасными игрушками; в другом углу укротитель зверей показывал двух тигров, таких ручных и кротких, что дети забирались к ним на спины и катались…
Но в этом волшебном царстве ничто так не привлекало малюток, как длинные ряды легионеров в блестящих латах. Воины стояли так неподвижно, точно были не живые люди, а железные статуи. Дети с любопытством рассматривали оружие и строгие лица железных людей и все время, пока мальчики играли друг с другом в разные игры, они то и дело посматривали на воинов и говорили о них между собою. Мальчики не осмеливались подойти близко к воинам, но их мучило любопытство убедиться, настоящие это люди или нет, могут ли они двигаться и говорить, как все.
Игры и празднество становились все шумнее и оживленнее, детские гололса веселее и звонче, а воины по-прежнему стояли неподвижно, как безжизненные статуи. Детям и их матерям стало казаться странным, что если это настоящие люди, как могут они так долго стоять возле сочных кистей винограда и других лакомств и ни один из них не протянул руки за такими вкусными угощениями?
Наконец один из малюток не смог сдержать своего любопытства. Осторожно, готовый тотчас обратиться в бегство, мальчик подошел к «каменному» легионеру. Тот продолжал стоять неподвижно, а ребенок подходил все ближе и ближе. Малютка очутился у самых ног железного человека и протянул ручку, чтобы дотронуться до его сверкающих лат. В тот миг, как по волшебству, все железные люди сразу зашевелились, и началось что-то дикое, ужасное…
С необычайной яростью бросались воины на детей и хватали их. Они размахивали нежными детскими телами над головой и с гневом и злобой бросали их через гирлянды, через перила, а несчастные малютки, ударяясь о каменный пол двора, мгновенно умирали; другие вонзали острые мечи в сердца малышей или разбивали о стену их головы и уже мертвых сбрасывали с галереи на каменный пол двора, объятый ночной мглой…
В первое такое мгновенье наступила вдруг мертвящая тишина… Изуродованные тела малюток мелькали в воздухе, а женщины, оцепенев от ужаса, безмолвствовали… Но вдруг несчастные матери, поняв дикий ужас того, что происходило на их глазах, в отчаянии и с безумными воплями бросились к легионерам. На галерее и на ее ступенях находились еще дети, которых не успели схватить жестокие воины. Легионеры гонялись за несчастными малютками, пытавшимися убежать и куда-нибудь спрятаться, а бедные матери бросались защищать детей и хватали голыми руками острые сверкающие мечи, стараясь отклонить смертельные удары от своих сыновей.
Те несчастные, чьи дети были уже мертвы, в безумном отчаянии бросались на жестоких убийц и старались отомстить за смерть невинных жертв. Они хватали тяжелых воинов, стараясь впиваться пальцами в их горло и задушить… Бедные женщины издавали душераздирающие крики и заглушали стоны и плач невинных младенцев.
Во время этого всеобщего страшного смятения и ужаса, когда весь дворец огласился детским плачем и отчаянными криками и воплями обезумевших несчастных матерей, видевших кровавую смерть своих крошек, воин, обычно стоявший на страже за городскими воротами, стоял теперь на страже верхней площадки лестницы, у входа в галерею. Он не принимал участия в избиении младенцев. Только если какой-нибудь матери удавалось схватить своего ребенка и несчастная спешила бежать из дворца, едва женщина приближалась к лестнице, воин протягивал навстречу ей свой острый меч. Лицо его и весь облик был так суров и беспощаден, так ужасен, что несчастные беглянки предпочитали броситься сверху на каменный пол или возвращались назад: им казалось, что там было больше надежды на спасение, чем избежать острого меча беспощадного воина.
«Вольтигий был прав, поставив именно меня на этот ответственный пост, — говорил себе воин. — Молодой, неопытный легионер мог растеряться, увлечься, покинуть свой пост и броситься в общую свалку. Если бы я двинулся с этого места, то по крайней мере дюжина младенцев избежала бы смерти».
В то время, как воин размышлял, он вдруг заметил молодую женщину, которая, крепко прижав к груди младенца, бежала прямо к лестнице. Ни один из легионеров не пресекал ей дорогу, все были заняты борьбой с другими матерями, и она добежала до конца галереи.
«Вот как раз одна из тех, которой непременно удалось бы спасти ребенка, если бы я не стоял тут».
Женщина так быстро приближалась к воину, как будто не бежала, а неслась по воздуху. Воин даже не успел разглядеть ни ее лица, ни младенца, которого она укрыла под одеждой. Он успел только протянуть руку с мечом, готовясь пронзить мать и ребенка: женщина неминуемо должна наткнуться на него в таком стремительном бегстве и воин ждал, что она тотчас падет мертвой у его ног. Но в это мгновение суровый легионер услышал какое-то жужжание над самым ухом и почувствовал острую пронизывающую боль в глазу. Боль была настолько сильной и неожиданной, что он, не помня себя, бросил меч на пол и схватился рукой за глаз…
В руке у него оказалась маленькая мохнатая пчелка. Именно она ужалила его в самый «неподходящий» и ответственный момент. Опомнившись, легионер с быстротой молнии нагнулся за мечом, надеясь, что еще не поздно настигнуть женщину-беглянку с ребенком. Но пчела прекрасно исполнила свое дело и как раз вовремя: нескольких мгновений, на которые она ослепила легионера, было вполне достаточно для молодой матери, чтобы спуститься с лестницы и перебежать двор. И когда воин с яростной ненавистью бросился за ней, она была уже далеко и скрылась в темноте.
Она исчезла, так что никто уже более не мог разыскать ее.
III
На следующее утро воин, как всегда, стоял на страже за городскими воротами. Было еще совсем рано, и тяжелые ворота были только что открыты. Но, казалось, никто не ждал, чтобы в это утро открылись ворота. Ни один работник не вышел из города в поле, как бывало обычно каждое утро: все жители Вифлеема были охвачены ужасом минувшей кровавой ночи и никто не решался выйти из дома.
— Клянусь мечом, — воскликнул воин, стоявший на страже, — Вольтигий сделал большую ошибку. Было бы несравненно лучше, если бы он велел запереть городские ворота и обыскать все дома. Тогда можно было бы непременно найти ту женщину, которой удалось скрыться с праздника и спасти своего младенца от смерти. Вольтигий рассчитывает, что родные того мальчика постараются бежать из Вифлеема, как только узнают, что ворота открыты. Он надеется, что я схвачу их как раз в воротах. Но я боюсь, что это неразумный расчет. Как легко можно укрыть ребенка и пронести его незамеченным.
Воин стал представлять себе, что родные могут спрятать ребенка в корзине овощей, какие возят на ослах, или в мехах от вина, или среди тюков, навьюченных на верблюдах большого каравана. В то время, когда легионер так рассуждал, он заметил мужчину и женщину, которые торопливо шли по улице по направлению к воротам. Они шли и, видимо, спешили, то и дело бросая боязливые взгляды по сторонам, как будто ожидая на пути опасности. Мужчина держал в руках большой посох и так крепко сжимал его, как будто готов был каждую минуту им защищаться и проложить себе дорогу, если бы кто-нибудь вздумал встать на пути. Но воин не так внимательно присматривался к мужчине, как к женщине. Он сразу заметил, что эта женщина была совершенно такого же роста, как та молодая мать, которая вчера успела скрыться с праздника. Длинный плащ был переброшен через голову и вся ее фигура была закрыта им. Легионеру тотчас пришла в голову мысль, что она не спроста так закуталась, несмотря на жару: так было чрезвычайно удобно скрыть под плащом ребенка.
Чем ближе подходили мужчина и женщина, тем яснее стал различать легионер, что она действительно несла на руках ребенка — очертания детской фигуры даже выступили под тяжелой материей плаща.
«Я совершенно уверен, и нисколько не сомневаюсь, что эта женщина именно та, которая убежала вчера из дворца, — решил римский воин. — Я не мог различить и запомнить ее лицо, но я узнал ее осанку. Как странно. Она идет мимо меня со своим ребенком и даже не позаботилась спрятать его. Поистине, я даже не мечтал, что мне удастся так счастливо и легко открыть беглецов с младенцем».
Мужчина и женщина были уже совсем близко. Очевидно, им не приходило в голову, что могут их задержать именно у городских ворот. Они вздрогнули и с испугом переглянулись, когда римский воин протянул копье и остановил их, преграждая дорогу.
— Почему ты нам мешаешь идти в поле? — спросил мужчина.
— Вы можете идти спокойно, куда вам надо, — отвечал воин, — но прежде я должен посмотреть, что твоя спутница прячет под плащом.
— Зачем тебе смотреть? — возразил мужчина. — Она несет хлеб и вино, чтобы мы могли весь день поработать в поле.
— Может быть, ты говоришь и правду, — сказал римлянин, — но почему же она не хочет показать мне то, что держит под плащом?
— Не она, а я не хочу, — ответил мужчина, и я даю тебе добрый совет пропустить нас.
Мужчина с гневом замахнулся палкой, но женщина поспешно положила ему на плечо свою руку и сказала:
— Не вступай с ним в ссору. Я знаю, что надо сделать. Я покажу ему, что несу под плащом, и уверена, что он пропустит нас, не причинив нам ни малейшего зла.
Женщина с ясной, полной доверчивости улыбкой подошла к воину и приподняла край своего плаща. В то же мгновение легионер отскочил назад, закрыв глаза и, ослепленный сильным ярким светом, какое-то время не мог ничего различить. То, что женщина несла под плащом, так ослепительно сверкало белизной, которая превосходила солнечное сияние, что воин был в полном недоумении, пока не понял, что это за чудо…
— Я думал, что ты несла ребенка, — сказал он.
— Ты видишь сам, что я несу, — спокойно сказала женщина.
Наконец-то смог различить римский легионер, что свет и сияние исходило от снопа ослепительно-белых прекрасных лилий — таких, какие росли в поле за городскими воротами. Но они были гораздо ярче и крупнее, а белизна их была так ослепительна, что глаза едва могли выносить их сияние.
Воин засунул руку в середину снопа. Он никак не мог отказаться от мысли, что женщина несла ребенка, он сам различал его очертания под плащом еще издали, но пальцы воина нащупали лишь мягкие, нежные лепестки цветов. Бессильная злоба и гнев клокотали в груди воина, он с радостью задержал бы и мужчину и женщину, но с досадой понимал, что не было никаких причин и оснований их останавливать.
Женщина поняла колебание и досаду легионера и спросила:
— Теперь ты пропустишь нас?
Воин молча опустил копье, которым он все время преграждал ворота, и отошел в сторону. Женщина снова закуталась в плащ, улыбнулась воину и сказала:
— Я знала, что ты не сможешь причинить нам ни малейшего зла…
Тотчас незнакомцы снова пустились в путь и стали быстро удаляться, а воин стоял на своем посту и смотрел им вслед до тех пор, пока они не скрылись из виду.
И опять совершенно ясно различал он под плащом женщины очертание не букета цветов, а ребенка.
В недоумении воин размышлял над тем, что видел, пока далекие крики на улице не привлекли его внимания. К нему бежал начальник римских легионеров Вольтигий с несколькими воинами.
— Держи… Держи их… — издали кричали они. — Запри перед ними ворота… Не пускай их.
Когда бегущие воины приблизились к легионеру, стоявшему на страже у ворот, они рассказали, что напали на след спасенного во время вчерашнего праздника мальчика. Они разыскали дом его родных и хотели схватить их всех, но оказалось, что уже поздно — его родные только что покинули дом и скрылись, вероятно, спасаясь бегством. Соседи видели, как они вышли из дома: их не трудно узнать. Мужчина — высокий бодрый старик с окладистой белой бородой, в руке у него большой посох. Женщина — стройная, высокая, в длинном темном плаще, под которым она несет ребенка. В то самое время, как Вольтигий все это передавал воину, в воротах появился бедуин на прекрасном коне. В один миг, не произнося ни слова, легионер бросился к нему, сбросил всадника на землю и, пока тот не успел даже опомниться, воин был уже на коне и мчался по дороге.
IV
Прошло два дня. Римский легионер скитался по бесплодной горной пустыне, которая протянулась у южных границ Египта. Он все преследовал беглецов, но тщетно, и был вне себя от гнева и досады, что нет конца его утомительным поискам.
«Можно подумать, что эти люди обладают способностью скрываться под землей, — негодовал он. — Сколько раз за эти два дня я видел их и мне показалось, что я их настигаю, что стоит мне лишь протянуть копье, чтобы сразить младенца, но все это вдруг оказывается каким-то чудесным, непостижимым обманом зрения или игрой воображения. Мне начинает казаться, что я никогда их не найду…»
Он почувствовал себя бессильным, как тот, кто борется с могущественной силой и никогда не сможет одолеть ее, и что сам он признает ее превосходство.
«Уж не боги ли покровительствуют этим людям и укрывают их от меня? — спрашивал себя легионер. — Есть что-то сверхъестественное, непостижимое в этом бегстве. Напрасный труд их искать. Лучше вернуться назад, пока я не погиб в этой ужасной пустыне от голода и жажды».
Но страх быть судимым и наказанным пугал и удерживал воина. Он совершил двойное преступление — два раза именно он пропустил женщину с ребенком, не сумев задержать ее. Не могло быть сомнения, что ни Вольтигий, ни Ирод не простят ему такой вины и подвергнут суровой и жестокой каре.
«Царь Ирод знает, что один из Вифлеемских мальчиков избежал смерти, а потому не может быть спокоен за свою власть, — рассуждал воин. — Вероятно, Ирод захочет утолить и сорвать свой гнев на мне, виновнике его теперешнего беспокойства и велит распять меня на кресте, чтобы насладиться видом моих страданий».
Был чрезвычайно жаркий полдень. Воин невыносимо страдал, блуждая под палящими лучами солнца по раскаленной каменистой пустыне, где не пролетал ни малейший ветерок, и знойный воздух замер кругом на бесконечном пространстве. И всадник, и лошадь были так изнурены, что силы их слабели с каждой минутой и были близки к полному истощанию. Некуда даже укрыться, найти хоть небольшую тень. Несколько часов назад воин совершенно потерял след беглецов, и настроение его было мрачнее и безотраднее, чем когда-либо.
«Я должен прекратить свою погоню, — говорил себе воин. — Мне кажется, что она бессмысленна и не нужна, потому что эти люди все равно не минуют смерти. Кто может перейти пешком без проводника и запасов пищи и воды эту страшную пустыню в такой зной? Они, наверное, давно уже мертвы».
В то время, как воин так рассуждал, он вдруг заметил недалеко от дороги пещеру в скале, куда вел сводчатый вход. Тотчас воин направил свою лошадь к пещере.
«Отдохну немного под каменным прохладным сводом пещеры, — решил легионер. — Мне тогда легче будет продолжать погоню… Со свежими силами…».
Римлянин подъехал к входу в пещеру и хотел уже было войти в нее, как вдруг остановился в немом изумлении — по обе стороны входа пышно цвели две прекрасные белые лилии. Оба растения были стройны и крепки и даже не гнулись, хотя были отягчены множеством белоснежных цветов.
Нежный медовый аромат разливался вокруг, и множество пчел жужжали над душистыми головками лилий. Это зрелище было так необычайно, так удивительно в дикой выжженной солнцем пустыне, что воин совершил совсем не свойственный его натуре поступок, — сорвал большой белый душистый цветок и взял его с собой в пещеру.
В пещере, глубокой и темной, царил полумрак, но приглядевшись, воин увидел, что трое путников, опередивших его, уже расположились под сводами скалы.
Мужчина, женщина и ребенок лежали на земле один возле другого и крепко спали.
Никогда еще сердце легионера не билось так сильно и часто, как в это мгновение. Перед ним были как раз те беглецы, которых он так мучительно искал. Они были объяты глубоким сном и даже не позаботились оградить себя от опасности, ведь они должны были бодрствовать по очереди, чтобы быть настороже. И сейчас они были в полной его власти.
Воин стремительно выхватил меч из ножен и нагнулся над мальчиком. Тщательно наметил он удар — как раз в сердце ребенка, чтобы сразить его насмерть. Он еще медлил, ему захотелось разглядеть лицо своей жертвы. Воин нагнулся к спящему младенцу, и тут радость его перешла все границы: он узнал в нем того самого мальчика, который часто приходил за ворота Вифлеема и играл с лилиями и пчелками.
— Конечно, это он, — со злобой, со злой радостью сказал себе римлянин. — И удивительно, как я сам раньше не догадался, что именно этот странный ребенок должен быть ненавистен для Ирода?.. Он должен быть Царем мира и любви. Недаром я его всегда ненавидел.
Воин еще крепче сжал в руках свой меч…
Ему пришла вдруг в голову мысль:
«Если я принесу Ироду голову этого ребенка, царь должен щедро наградить меня. Может быть, он сделает меня начальником легионеров вместо Вольтигия, или начальником своей личной охраны».
Он все ближе и ближе опускал меч. Острие его уже почти касалось тела ребенка.
«На этот раз никто не встанет между мной и им, — злорадно подумал воин, — я доведу до конца свое дело».
Но воин все еще в руке держал лилию, которую сорвал при входе в пещеру, и едва он только так подумал, вдруг вылетела маленькая пчелка из чашечки цветка и стала жужжать, кружась вокруг головы легионера.
И тотчас вспомнил воин совершенно отчетливо, как помогал мальчик пчелам перелетать с цветов в улей, и именно пчела помогла мальчику спастись из дворца Ирода и скрыться с кровавого пира.
Эти мысли удивили римского легионера: он остановился и тихо прислушался к жужжанию пчелы. Она покружилась и улетела, но в то же мгновенье его поразил сильный аромат лилии, которую он держал в руке. Никогда ему не приходилось ощущать такой сильный приятный и нежный запах. И тотчас снова отчетливо вспомнилось воину, что именно лилиям помогал мальчик укрыться от ливня, и лилии укрыли ребенка, когда мать проносила его через городские ворота. Цветы помогли мальчику спастись.
Все большее волнение и удивление овладевало воином, новые и новые мысли наполняли его голову.
«Пчелы и лилии не забыли добрых дел, которые он им оказывал, — размышлял воин, опустив меч, и в нерешительности не зная, что же ему делать. — Пчелы и лилии добром отплатили мальчику за помощь…»
Яркая краска стыда залила вдруг лицо воина. Ведь и ему однажды пришел этот ребенок на помощь, и, может быть, спас от неминуемой гибели.
«Неужели римский легионер может отплатить злом за оказанное ему добро? — мучительно думал воин. — Неужели он окажется неблагодарнее пчел и цветов?»
Он недолго боролся с собой: с одной стороны страх перед Иродом и соблазн хорошей награды толкали его на убийство, с другой — им все более и более овладевало сознание долга перед этим ребенком.
«Я не могу убить его», — наконец решил воин.
Он положил меч рядом с мальчиком, чтобы беглецы, проснувшись, узнали, какой опасности они подвергались и счастливо ее избежали. Воин видел, что ребенок проснулся и спокойно смотрел на него светлыми прекрасными очами, которые горели, как звезды.
В порыве восторга римский легионер опустился на колени перед Младенцем и сказал:
— Господи. Ты могущественный Царь на земле. Ты — всесильный Победитель. Ты — Владыка небес. Ты можешь наступать на змей и скорпионов, и они будут послушны Тебе. Ты — Всемогущий Царь.
Он поцеловал ноги младенца и быстро вышел из пещеры, в то время как мальчик смотрел ему вслед удивленными детскими очами.
Выписано из книги «Сказания о Христе» — приложение к журналу «Отдых христианина»
Из книги «Легенды о Христе»
Ветер Иисуса
Тогда Иисус, распятый на кресте, в полном изнеможении уже закрыл глаза, вдали словно зашумели крылья птицы. Стража повернула головы в ту сторону. У последних городских домов деревья наклонили ветки под неожиданным порывом ветра. Через мгновение ветер дул на проклятой пустынной горе, где стояли три креста. Стража обернулась спиной к ветру и ждала, когда он промчится. Ветер коснулся холодеющего лица Иисуса. Иисус открыл глаза на миг под свежим дуновением и тотчас закрыл их… Ветер помчался дальше.
С этого мгновения этот ветер носится вечно по земле. Он не треплет вершины деревьев, не сбивает, играя, тяжелых золотых плодов, не гремит по крышам, как гром, не поет тоненько в трубе зимою, точно замерзающий прохожий — он дует в странах, где солнце всегда стоит над головою, как золотая разящая насмерть стрела. Шум его — как шум множества летящих птиц.
Проводники караванов знают этот необыкновенный шум в густом воздухе пустыни — они приказывают тотчас расседлать верблюдов и заготовить посуду для сбора воды. Сухой воздух благодатно синеет, закрывая солнце, маленькие росинки пестрой сеткой покрывают людей, верблюдов, желтые пески…
— Ветер Иисуса! — шепчет караван в восторге.
Игры маленького Иисуса
Иисусу было всего два года. Мария, Его Мать, занята была весь день хлопотами — помогала нареченному мужу, стирала белье, ходила за водой к роднику. Иисус оставался дома. Он не плакал, не болел, не смеялся… Это был необыкновенный ребенок, по мнению назаретских женщин.
Однажды Мария ходила вечером за водою. Когда Она вернулась в дом с сосудом на голове, то увидела, что Сын Ее, сидя на полу, ловит ручкой серебряный луч звезды в воздухе.
— Дитя, что ты делаешь? — изумленно спросила Она.
— Я играю с звездами, — отвечал маленький Иисус.
Иисус любил писать перстом на земле. Когда Он был в пустыне, Он много писал на каменных глыбах, и под его перстом камень делался мягок, точно расплавленное золото. Эти письмена остались навеки. Но люди не могут видеть их, как путник не может видеть большую гору, подойдя к ней слишком близко. Но с звезд, которые окружают землю, видны эти письмена. Они блестят, словно сделанные из жемчуга. И все они, разбросанные по разным местам пустыни, изображают одно и то же:
— Любите друг друга!
Таинственный последователь
Когда Иисус учил народ, все внимали Ему, точно истощенное сухое поле под далекой тучей. Но когда Он оканчивал учение, вокруг тотчас поднимался шум, крики, давка: каждый хотел пробраться к Нему, рассказать про свою нужду и попросить помощи.
Только один слушатель всюду ходил за Иисусом, но ни разу ничего не попросил у Него.
Раз Иисус, показывая Своим ученикам на этого слушателя, спрятавшегося от людей в зеленую чащу кустарника, сказал:
— Это мой любимый слушатель. Он — ученый, испытывающий все своим умом…
Тень Иисуса
Иисус сидел над озером, и тень падала от Него на воду. Он был печален — люди только что изгнали Его из своего города. В тени, отпечатывавшейся на воде, собирались быстро обитатели озера — рыбы. Здесь были всякие рыбы — страшные хищники и добродушные толстые рыбы, питавшиеся только водорослями. Все они собрались в тени Иисуса и весело резвились.
Иисус заметил эту веселую игру рыб и сказал:
— Вот, для бессловесных рыб достаточно одной моей тени, чтобы они забыли вражду и перестали есть друг друга. А люди Меня едва не побили камнями…
Воробей
Это было во вторую ночь после смерти Иисуса.
Богоматерь сидела в Своей горнице у окошка, глаза Ее были полны слез, ведь Она понесла великую скорбь!
К окошку подлетела маленькая черно-серая птичка, воробей, которая везде летала и все знала. Она села на окошко и зачирикала весело: «Христос Воскрес, Христос Воскрес!
— Будь благословенна, милая птичка, — сказала Богоматерь, — ты принесла матери самую радостную весть, какая может быть дня нее на земле. Лети во все концы мира и чирикай свою весть, — отныне все будут любить тебя!
С тех пор воробья видят везде — в каждом уголке земного шара. Он верно исполняет приказ Богородицы: чирикает весело, где бы он ни был, возвещая людям о победе жизни над смертью. Даже зимою, когда все его друзья улетают в теплые края, он остается, чтобы среди холодной зимы чирикать людям о Воскресении!..
Р. К. Усть-Медведицкий
К святым мученикам
Святые воины Христа!
Да славят вас мои уста!
Вы ужас мук в ничто вменили,
В страданьях бодрый дух явили.
Иной из вас, сраженный вмиг,
С кончиной вечных благ достиг;
Тот — сильным был, огнем палимый,
Иного зверь пожрал иль змей;
Иной в руках жестоких палачей,
Мучительным орудием язвимый,
Терпеньем муки одолел,
И светлою душой на небо отлетел!
Так ваша кровь лилась реками,
Как платье ветхое, клочками
Казалась ваша плоть очам;
А ваши члены и утробы
По улицам валялись, по полям!..
Но бешенная ярость злобы
Не сильна вас нимало испугать!
Так сладко было за Христа страдать!
Своими муками, скорбями вы стяжали
Нетленные венцы и жизнь на Небесах,
Блаженны со Христом, Которого желали.
Что ждет меня? Мне утопать в слезах!
Затем, что во всю жизнь я тратил дарованья
В грехах — на суету, на пагубу мою.
И не принес еще доселе покаянья!
Принесшие Христу на жертву жизнь свою,
Молитеся Ему прилежными мольбами,
Чтобы спас и нас премудрыми судьбами!
Подвиг
«Врагу — прощать…
И мстить ему за зло — любовью…»
Исторический рассказ Красницкого
I
Густой, едкий, угарный дым клубящимися облаками поднимался над тем местом, где было село Жерновка. Ярко-багровые языки пламени прорывались то там, то сям сквозь клубящуюся пелену, сверкая среди нее, как молнии, на покрытом тучами небе, и опять прятались в дыму.
Иногда там, где еще не все превратилось в уголья и огню оставалась добыча, вдруг вспыхивали огненные снопы и высоко поднимались к небесам, ветер налетал на них, метал из стороны в сторону, и тогда в закутанной ночною тьмою небесной выси начинало багроветь зарево, а ветер разносил заалевшие от огня облака, казавшиеся с земли безбрежным огненным морем.
Все сгорело. Несчастная Жерновка погибла в безжалостном пламени. Даже ее убогий храм превратился в груду тлеющих бревен, балок, досок, по которым, как огненные змейки, бегали синевато-желтые огоньки. Все сгорело, все, что не было перед этим разрушено, разграблено, осквернено, — все.
Вокруг пожарища не было видно никого из ее бывших жителей. Стояла зловещая тишина, которую нарушало только злорадное потрескивание догоравшего дерева. Жерновцы, очевидно, успели разбежаться. Недалеко от сожженного села протянулась на несколько верст лесная глушь. Там было много всякого зверя; стало быть, и жителям сгоревшей деревни было, где укрыться от поджигателей, которым они не сделали ничего дурного, но которые для них были хуже самого лютого зверя.
Шла жестокая, кровопролитная война.
Наполеон со своей армией шел к Москве.
Тогда еще решительно ничего не предвещало, что это было уже последнее победное шествие великого завоевателя. Думали тогда, что Русь погибла. Еще бы не думать, ведь сердце Руси — Москва — было обнажено, и неукротимый француз уже решил нанесть в него последний смертельный удар. За Наполеоном шла армия, столь огромная, что доселе такой не видывали еще никогда поля европейских битв. Отправляясь в Россию, завоеватель собрал все, что мог. В рядах его полков шли даже дети — барабанщики и флейтисты. За полками следовали женщины — маркитантки («походные жены», сопровождавшие войска в походах) и жены офицеров. Словом, шла не армия, а вооруженный народ, — «двенадесять языков». Пока еще в наступающей армии сохранялась дисциплина и был кое-какой порядок, но уже явились симптомы растления. Поход стал утомлять и наскучивать европейским воякам, — слишком длинен был путь, слишком долго приходилось идти.
Русские уклонялись от битв и были постоянно впереди, а как только французы начинали энергично наступать, русские сейчас же отходили.
Менее стойкие не выдержали. Дезертирство в наполеоновской армии стало заурядным явлением. Сами собой являлись в тылу и на флангах шайки мародеров. Эти шайки нападали на мирные селения, неистовствовали в них и более губили дело своего императора, чем проигранные его полководцами сражения. Они бесславили Наполеона и восстанавливали против него русский народ — народ кроткий, терпеливый, привыкший к безропотной покорности, но страшный в своем гневе.
Одна из таких шаек забрела и в злополучную Жерновку. Жерновцы вовремя узнали о появлении вблизи их села вражеской шайки. Они уже знали, чем грозит им появление французов, но дать отпор врагу не могли, — не с голыми же руками лезть на вооруженных солдат, ставших разбойниками? Делать было нечего, волей-неволей приходилось уходить от напасти, и жерновцы, собрав кое-какие пожитки, а кое-что зарыв в землю, всем селом, с бабами и ребятишками, удалились в лес. Там им были известны все тропинки, все луговинки и прогалинки, можно былo кое-как приютиться до поры до времени и переждать, пока не минует невзгода.
Выбрав полянку попросторнее, жерновцы стали на ней цыганским табором и тут только заметили, что не все они в сборе. По табору пробежался староста, пытливо оглядывая всех беглецов и спрашивая чуть не у каждого:
— А отца Павла не видали?
Ответ был один и тот же:
— Нет.
— Нетути бати, — объявил староста, возвратившись к кучке стариков, державшихся в некотором отдалении от сельчан помоложе. — И сивого мерина тоже не видно.
— Неужели на селе остался? Надо полагать, что так.
— А попадья?
— Тоже сгинула, не видно. И попович, видно, тоже с ними, — сообщил подошедший к разговаривавшим молодой жерновец. — Нигде не видно, как скрозь землю провалились…
На лицах стариков отразилось волнение, кое-кто из них стал утирать увлажнившиеся вдруг глаза.
Во всех умах так и зазмеилась ужасная, наполнявшая трепетом эти простые души мысль:
— Остались там, в Жерновке, остались.
II
Отца Павла жерновцы искренно любили, а вместе с ним и все его небольшое семейство, состоявшее всего только из матушки да окончившего семинарию сына Андрея. Любить это семейство было за что.
Еще молоденьким священником пришел отец Павел в Жерновку. И состарился здесь, среди своей паствы.
Был он кроткий, с незлобивой душой, но разумный пастырь. Всех-то он в Жерновке крестил, венчал, многих проводил в могилу, а состарившись, мечтал лишь о том, чтобы сдать приход сыну Андрею, — кроткому, как и он, незлобивому, сердечному юноше, а самому жизнь свою «в мире и покаянии скончати». Об этом часто молился он втайне, об этом только и мечтал. И вот жерновцы, когда на них нахлынула беда, в суете да в отчаянном положении своем упустили из виду отца Павла и даже не знали, что с ним, куда он делся.
— Попрошать бы у кого, — вырвалось восклицание у одного из юрких стариков, — может, кто и видел батю-то. Ведь, чай, со своими… Не иголка, так вот, скрозь землю в стог сена не уйдет.
Поискали меж собой и нашли старуху, которая последняя из всех видела отца Павла.
— Видела, ой видела батюшку, — докладывала она старикам, когда ее привели в круг, — там остался, в Жерновке, не захотел святыни спокинуть…
Трепет пробежал по толпе мужиков. Они поняли, в чем дело, и на мгновение поникли головами. Что-то кольнуло в их сердца, совесть заговорила, и ее укоры язвили их души. Боязнь за жизнь заставила их при первом намеке на опасность побросать избы, где каждый из них родился, прожил всю свою жизнь. Многие из них так засуматошились, что даже святые иконы оставили и не вспомнили о них. А вот он, их батя, остался около того престола, у которого он служил всю свою жизнь, у которого совершались, по его молитвенным призывам, великие тайны. Он не ушел от своей святыни — святыня была ему дороже жизни.
— И матушка с ним, с отцом-то Павлом остались, — голося и чуть не воя, рассказывала старуха, — всю жизнь вместе прожили, так не расходиться же, когда умирать пора пришла… А сынок их, Андрюша, выгнал меринка-то их сивенького в поле, огрел его хворостиной «беги, дескать, животное, на все четыре стороны, куда хочешь, не доставаться же тебе нечестивому нехристю»… А меринок будто что чувствует, заржал столь жалобно и поскакал прочь. Только как будто не далеко убег; когда Андрюша с хворостиной ушел, встал и траву щипать принялся. Вот и все, что знаю, все сказала…
Мужики, понурив головы, слушали этот рассказ. Нехорошо было на душе у каждого из них. Сердце ныло, а упреки совести становились все сильнее и сильнее.
III
Отец Павел действительно остался в обреченной на гибель Жерновке. С ним осталась и матушка, не ушел и сын Андрей.
— Зачем? — только сказал он отцу. — От Бога-то все равно не убежишь. Волос с головы без Его святой воли не упадет.
Отец Павел почувствовал в словах сына в одно и тоже время и упрек, и одобрение. Он ничего не сказал Андрею и только с особенным выражением посмотрел на него.
Чтобы не смущать переполошившихся жерновцев, все трое затворились в церкви, и потому-то беглецы, не догадавшиеся заглянуть туда, и не видели своего батюшку. Впрочем, земное всегда о земном думает.
Матушка, улучив минуту, пробралась в дом и кое-что попрятала, что ей было дорого и казалось ценным. Отец же Павел так и оставался в церкви. Только когда по дороге потянулись к лесу возы жерновцев, он в облачении вышел на паперть и издали благословил уходивших. На одно мгновение слезы проступили на его глазах: ведь не чужие ему уходили, побросав родные гнезда, ведь там была его паства, его дети. Чуть не каждого из уходивших он молитвенно встречал при появлении на свет. Он знал жизнь каждого. Всех их он исповедовал; они рассказывали ему с детской откровенностью обо всем, что тяготило их, открывали ему свои души.
И вот они уходили…
Уходила жизнь, впереди оставалась смерть…
— Вот, Андрюша, — тихо и кротко сказал отец Павел сыну, — опустела наша Жерновка. Все ушли. Даже собачонки и те за хозяевами последовали.
— Что же, батюшка, от беды уходят. Слабы люди, мало в них веры и надежды на великое Божие милосердие…
— Не осуждай. Не от маловерия они: им Бог внушил мысль уйти. Да, ушли, а мы остались. Что-то нас ждет?
— Кто знает. Думать не хочется, чтобы бонапартовы воины хуже зверей были. И они по образу и подобию Божьему сотворены, — отвечал Андрей.
Отец Павел с грустью на лице покачал головой.
— Слыхал я, что французская нация отшатнулась от Бога, — сказал он, — а где нет Бога, нет там света и любви, и милосердия… Там тьма первозданная и нет ни единого луча… Но да будет над нами воля Господня. Будем, сын, ко всему готовы, и если приходит конец нам, если ударил наш смертный час, то встретим его без ропота, как подобает христианам. Пойдем-ка лучше помолимся, да мать позови…
Однако, земное сказалось и в отце Павле, несмотря на всю его покорность небесной воле. Но он страшился не за себя. Ужас охватывал его при одной только мысли, что его святыни могут быть осквернены, поруганы, и он будет не в силах защитить их. А он знал, что от врагов всего ждать можно. И в Жерновку доходили кое-какие вести о неприятельской армии. Рассказывали нередко, что, нападая на беззащитные деревни и села, французы глумились над святынями, обращали в свою забаву, и это было всего ужаснее для отца Павла.
— Осквернят наш храм, — чуть лепеча, говорил он сыну, — надругаются, Андрюша.
IV
Отец Павел открыл царские врата, исповедовал жену и сына, причастил их и причастился сам запасными дарами, отслужил краткий молебен.
Теперь он уже был готов ко всему.
— Сколько времени у нас осталось, того неведомо, батюшка, — сказал с мрачной решимостью Андрей, — так не потеряем же его напрасно. Душой и сердцем мы ко всему готовы, свершим же наш долг до последнего конца…
— Что ты хочешь сказать, Андрей? — С тревогой воскликнул отец Павел.
— А то, батюшка, что мы должны свершить величайшее жертвоприношение…
— Какое?
Юноша мрачно указал на стены старого храма.
— Пусть лучше огонь пожрет все, чем святыни будут поруганы врагами.
— Ты хочешь сжечь храм? — удивился отец Павел.
— Священное место, Бог пребывает здесь незримо, но стены — это дело рук человеческих, — сказал Андрей. — Огнем Бог поруган не будет, в огненной купели родится новое, святое… Не оскудеет рука дающего. Пройдет невзгода, и новый храм создастся на сем месте краше нашего…
— Впрочем, — резко прибавил юноша — прости, батюшка, я уже решился на это великое жертвоприношение. Везде подложены сухие дрова. Решись, дозволь, прости и благослови, отец…
Отец Павел весь дрожал. Кружилась его голова и темно было в глазах. То, что говорил сын, было столь необычно, казалось столь дерзким, что мысли не связывались, и от напряжения душевного старик ослабел и даже не замечал, как катились по его морщинистым щекам слезы.
Матушка, слышавшая, что говорил сын и уразумевшая его слова, плакала навзрыд.
— Да что ты, Андрюшенька, задумал-то, — выкрикивала она, всплескивая руками. — Уж не ума ли ты рехнулся от французской напасти? Бог-то, Бог что про такое дело скажет?
— Взгляни, мать, — остановил ее Андрей, указывая на опустевшее село, — люди ушли. Придут враги и заберут все бывшее достояние ушедших. Чего не возьмут, то перепортят, так что после все равно никуда годно не будет. А то, быть может, и предадут все пламени. Hо что же будет?.. Возвратятся люди и снова выстроят себе жилища свои. И будут их дома великолепнее, чем прежние. И достояние вновь наживут, ибо станут трудиться… Вот что будет.
— Но там, — он снова указал на село, — все человеческое. Здесь, — указал он на храм, — Божие. Ежели человек в силах из пепла возвести новое, великолепное, то неужели же для Бога это невозможно? А что будет, ежели придя, враги надругаются над святыней, а потом уже ее, поруганную и оскверненную, все равно предадут огню? Опять говорю, огонь святыню не оскорбит. Бог в огненной купине явился. Благослови, отец…
Подействовали ли убеждающие слова сына, или увидел отец Павел волю свыше в его предложении, но он весь выпрямился, взглянул на храм, поднял благословляющую руку и сотворил крестное знамение.
Тут силы покинули старика, и он без памяти грохнулся на землю.
Когда отец Павел пришел в себя, то храм уже пылал. Старое сухое дерево сразу поддалось огню. Огненные языки так и лизали стены, выбивались снопами из окон. С грохотом рухнула крыша, и святой крест, венчавший одинокую главу, погрузился вместе с нею в огненное море. Старому священнику казалось, что это не ужасная явь, а скверный, тяжелый сон, и только громкий жалобный плач матушки вернул его к ужасной действительности.
— Ой, горюшко… Ой, последние времена настали… Ой, Божье попущение, — рыдала женщина. — Храм-то, храм святой в огне. Своими руками спалили… Что только нам, окаянным, на том свете будет?
— Молчи, мать, — строго сказал отец Павел. — Великое жертвоприношение сейчас совершается. Где Андрей?
V
Голос старика звучал сурово и торжественно. Он только что пережил ужасную душевную бурю, и спокойно готов был встретить все невзгоды, которые готовила ему впереди злая судьба.
— Где Андрей, мать, спрашиваю! — сурово повторил он.
— За мéрином в поле побег, — услыхал он ответ. — Теперя святыни спалили, так чего же нам тут стеречь? И мы в лес уйдем…
Брови старика вдруг нахмурились.
— Это как же так? — вихрем пронеслось в его голове, — Чтобы я покинул, малодушия ради, то место, где священные останки святые лежат? Нет, нет, не совершу я этого… Здесь каждый уголок священен. Пусть будет, что будет, а не покину… Не страшна мне смерть, не ужасают меня муки земные. Святыня моя погибла, да погибну с нею и я, многогрешный иерей. Пусть Андрей мать увозит… Оба они спасены будут, а меня да спасет Сам Господь, Бог мой…
Отчаянный вопль матушки оторвал отца Павла и от его мыслей, и от созерцания догоравшего храма. Он оглянулся назад — вся Жерновка была в огне. Пламя, раздуваемое ветром, так и гуляло по соломенным крышам крестьянских изб, слышался явственно характерный треск загоравшегося дерева. Пищи огню было много, с каждым мгновением ничем и никем не сдерживаемый пожар разгорался все сильнее и сильнее.
— Ох, Андрюшкиных рук это дело, — вопила не своим голосом матушка. — И не за мерином он вовсе в поле побежал, а Жерновку поджигать, чтобы французу не досталась… Ой, побегу я скорее туда, убьют они его, сыночка моего единого. Убьют, злодеи. Останемся мы со стариком тогда сиротами горемычными.
Только теперь отец Павел расслышал, что к треску дерева примешиваются ружейные выстрелы; не могло быть сомнений, что враги уже были где-то совсем близко от Жерновки, если уже не в ней…
Отец Павел взглянул на далекое безоблачное небо, так все сиявшее в солнечных лучах, и перекрестился. Наступили решительные мгновения, может быть, последние. Смерть уже витала вокруг, но на душе старого пастыря не было страха, он был готов ко всему, — земное оставило старика, душою он уже был в небесах.
— Ой, ой, — вдруг дико выкрикнула матушка, — Андрюшу поймали… Что теперь с ним будет?..
И женщина в неописуемом порыве материнского ужаса, с недоступной, казалось бы, для ее лет быстротой ринулась вперед по полыхающей огнем Жерновке.
Отец Павел взглянул туда же и кровью облилось его сердце. Он услышал громкие непонятные крики. Язык был ему непонятен, но он по тону голосов угадал в них брань и угрозы. Кричали люди в военных мундирах — они потрясали ружьями и, видимо, все были в яростном гневе. Среди них был Андрей…
Они тащили его, даже волокли, хотя он шел, не думая сопротивляться. Все платье его было в лохмотьях и окровавлено. Отец Павел ясно разглядел, что кровь струится из раны на правом плече Андрюши. Лицо юноши было в кровавых царапинах, но, казалось, он и не чувствовал боли. Он шел с высоко поднятой головой, глаза его сияли внутренним блеском, губы сами собой сложились не то в презрительную, не то в восторженную улыбку.
Как разъяренная львица кинулась матушка на солдат. Она что-то хрипло кричала и как будто старалась вырвать сына из рук его палачей. На какой-то момент ее появление вызвало замешательство, но в следующее мгновение она отлетела далеко прочь, отшвырнутая ударами прикладов, и грохнулась на землю. Отец Павел инстинктивно рванулся вперед, но кто-то сзади грубо схватил его за плечо, и он сейчас же услышал иностранный, незнакомый ему голос. Старик быстро оглянулся. Позади были французы. Он, охваченный ужасом, не услышал, как они подошли. Тот, который схватил священника, был одет лучше других, с галунами на рукавах и без ружья. Отец Павел понял, что это был офицер. А по тому, что другие обращались к офицеру с заметною почтительностью, понял, что он был начальником явившегося в Жерновку отряда.
Старику показалось, что сына можно еще спасти.
Он поднял свой крест, указал сперва на него, потом на Андрея. Француз понял по одежде, что перед ним духовное лицо. Понял он также, что старик молил о пощаде пленнику. У него уже готов был ответ на эту мольбу. Француз жестоко засмеялся, показывая на пожарище, и отрицательно покачал головой.
— Батюшка, — раздался голос Андрея, — брось, не унижайся. Приму мученический венец, но все-таки им ничего не достанется. Все во огне. Это я сжег Жерновку… Я…
Андрея подвели к офицеру.
Двое солдат, держа руки у козырьков, что-то говорили своему командиру. Тот слушал, и брови его хмурились. Он быстро повернулся, когда услыхал, что Андрей говорит, но юношу как раз в это мгновение заставил смолкнуть сильный удар прикладом по спине. Андрей качнулся вперед и едва не упал. Отец Павел, в душе которого нестерпимой болью отозвался этот удар, вскрикнул и кинулся былo к нему, но сейчас же его ухватило несколько дюжих рук и он забился в них, как бьется попавшая в сети птица.
Но надежда все еще жила в сердце отца Павла.
Старик заметил, что солдаты закончили свой доклад и стояли, ожидая приказаний. В страшном волнении отец Павел так и впился взглядом в лицо офицера. Каждая его черта, как ножом, врезывалась в его память. Отец Павел искал в нем хотя бы тень милосердия, но французский офицер глядел спокойно и даже улыбался.
Он взглянул на старика, пожал плечами и сказал несколько слов солдатам. Те с какой-то свирепой радостью схватили пленника и опять потащили его.
— Прощай, отец… — только и успел крикнуть Андрей. — У Бога встретимся… Жив будешь, отслужи панихиду… И сорокоуст справь по новопреставленному…
Отец Павел слышал слова сына, но кротость оставила его. Он с яростным порывом рванулся, было, вперед, но не по его старческим силам было освободить себя из вражеских рук.
Офицер что-то крикнул и в тот же момент удар прикладом по голове свалил старика с ног. Падая, он слышал залп, потом отдельные выстрелы, и тут кровавая пелена закрыла его глаза. Отец Павел снова лишился чувств…
VI
Когда отец Павел вновь очнулся, были сумерки. В лицо ему пахнуло ароматной прохладой. В удивлении батюшка приподнялся и оглянулся. Он был в лесу, лежал на мужицких армяках, укрытый сверху овчинными полушубками. Стараясь понять, что с ним, отец Павел стал глядеть вокруг себя. Он увидел догоравшие костры, возы´ с поднятыми вверх оглоблями, людей, лежащих у костров и у возов.
— Очнулся, батя, — услыхал он около себя знакомый голос одного из жерновских стариков. — Ишь, как тебя оглушили окаянные нехристи, мы и то уж думать стали, что и ты преставился…
Жерновцы, не отыскав среди себя ни любимого своего пастыря, ни его семейных, забыли весь страх и двинулись на выручку. Они пришли, когда французов уже не было в деревне, а отец Павел был найден ими валявшимся без сознания недалеко от того места, где стоял сожженный храм.
— А матушка? А Андрей, сын мой? — весь так и трепеща от волнения, спрашивал отец Павел. — Где они?
Он вспомнил уже все, что произошло, и теперь в его душе жила безумная, последняя надежда: может быть, сын только ранен, может быть, спасена и его верная супруга?
— Где, — спрашивал он, — где они?
— Тоже привезли, — тихо отвертываясь, чтобы не встретить взгляда старика, отвечал жерновец. — Вон, тамотко лежат…
— Живы?
— Где уж… Ты бы, батя, панихидку справил, да потом предать земле нужно… Что поделать! Видно, новопреставленным мученическая кончина Господом приуготована была.
— Где они? Покажите их мне.
Откуда и силы взялись у старика. Он быстро вскочил. Вместе с ним поднялось и несколько стариков.
— Вот, тамотко, — тихо говорили они. — Идем, чтоли. Только ты не убивайся, мы всем миром тебя беречь будем, не пропадешь в сиротстве своем.
Старик вряд ли слышал, что говорили вокруг него. Вот он уже около дорогих мертвецов. Мать и сын лежали рядом, прикрытые оба одной холстиной. Отец Павел, весь трепеща, без памяти склонился над ними. У несчастной жены его был расколот череп, она так и умерла с выражением яростного гнева на лице — того гнева, с которым она, бессильная, забывая все на свете, кинулась на защиту своего дитя, Андрея. Андрей лежал спокойный, красивый, со странной восторженной улыбкой, застывшей на его мертвом лице.
— Вот, с Андреевой груди сняли, — протянул отцу Павлу старик какую-то вещь.
Это был весь окровавленный, весь изрешеченный пулями антиминс с престола сожженного храма. Отец Павел почувствовал, как слезы подступают неудержимою волною к его горлу. Он понял, что Андрей спас святую драгоценность, и вражеские пули прошли через нее, прежде чем впиться в его сердце.
С глухими рыданиями припал отец Павел к дорогим покойникам. Слезы душили его, и он снова видел и переживал ужасные мгновения их смерти, и перед ним, словно живой, вставал француз-офицер, пославший на расстрел его единственного любимого сына.
VII
Жерновцы не решались возвращаться на старое пепелище. Если появилась одна шайка французов, могла появиться и другая. Строиться заново не было расчета и они решили остаться в лесу, пока так или иначе не будет покончено с невзгодою. Зима не пугала их, к ее морозам они были хорошо привычны. Зерно и мука у них были припрятаны в надежных местах. Были в большом запасе и овощи, а неподалеку от их лесного становúща протекала река, — стало быть, под руками было все, что являлось необходимым для жизни.
Лéсу кругом было видимо-невидимо. На полянке, где построились мужички, очень скоро выросли землянки, правда, с виду неказистые, но теплые и для жилья пригодные.
Скоро пошли слухи, что Москва сгорела…
Так и запылали, так и закипели жерновцы. До сих пор все, что ни случилось, было только их бедою, но пожар Москвы уязвил каждую русскую душу до глубины ее. Если прежде они ненавидели французов за самих себя, за свою беду, то теперь они уже ненавидели их за поругание своей Родины, и эта нежданно вспыхнувшая ненависть к дерзкому врагу была чувством, покрывавшим все остальные их чувства.
Потом пошли слухи, что «француза погнали» из Москвы. День, когда пришла весть об этом, был праздником для жерновцев. Как в Светлое Христово Воскресение, они целовались друг с другом. Теперь уже никто из них не сомневался, что злой нахальщик изничтожен, и снова Бог, всемогущий, всеправедный, вступился за Русь православную.
Наступила после мерзкой гнилой осени ранняя зима. Особенно сильных морозов не было, зато часто бывали снежные метели, снег падал в небывалом изобилии. Русские только радовались всему этому: и мороз, и снег были их любимыми гостями, да при том же в эту страшную пору они стали союзниками русских в борьбе за Родину, за веру…
* * *
Никита Тихонов, недавно еще зажиточный и степенный мужик, выбрался из лесного становища еще под сумерки. Он хотел сгонять на старое пепелище — в сгоревшую Жерновку. Там у него на том месте, где был двор его избы, оставались закопанными глубоко в земле мешки с зерном. Когда он выехал уже на большую дорогу, было темно и началась метелица. Снег так и бил в глаза лошаденке и скоро она сбилась с пути, а Никита не заметил этого сразу. Только мало спустя, он понял, что потерял дорогу и блуждает по полю, занесенному снегом. Волей-неволей пришлось промаяться до утра под снегом. Он остановил лошаденку, покрыл ей спину захваченным под зерно мешком, а сам умостился в розвальнях, стараясь лишь, чтобы снег не очень его заметал.
Когда забрезжил рассвет, Никита кое-как выбрался из-под снега и отправился разыскивать дорогу. Он скоро нашел ее и сразу увидел, что совсем недалеко отъехал от своей лесной трущобы. Видно, что, кружа в метель, лошаденка, руководимая инситинктом, шла назад, а не вперед, а он этого не замечал, да и заметить не мог по той причине, благо, что не видно было ни зги среди мрачной и темной зимней ночи. Таким образом, для Никиты все наладилось и теперь оставалось только вывести из-под снега подводу да гнать поскорее в Жерновку за зерном. Возвращаясь к тому месту, где были оставлены лошадь и розвальни, Никита шел безпечно (старорусск. грамматика), насвистывая и даже напевая какую-то песню. Вдруг он, как вкопанный, встал на месте. Волосы зашевелились от ужаса под шапкой, на лбу выступили капли холодного пота, дрожь так и побежала по его спине, песня замерла в горле.
Он стоял, бессмысленно глядя перед собою и совсем не понимал, что такое он видит.
Перед ним, на снежной поляне ярко пылал костер, а около него сидели ужасные страшилища, такие, каких никто не видал. Что это были не люди, Никита не сомневался ни одно мгновение, уж очень необычен был их вид.
Они сидели, скучившись около огня и жрали его лошадь, развороченную тушу которой Никита видел вблизи. Было что-то дикое в этих существах, пожиравших полусырое мясо и неистово что-то лопотавших между собою.
— Чур, чур меня, — зашептал Никита. — Сгинь, нечистый… «С нами Бог…» и «Расточатся врази Его, яко дым от лица огня…», — путалась у него в отдельных словах молитва. — «Живый в помощи Вышняго…», «в крове Бога небеснаго наречется…». Тьфу, тьфу, дьявольское наваждение…
Но «видение» не исчезало. Страх же, овладевший, было, мужиком, проходил. К нему уже возвращалась способность мыслить. Он сообразил, что перед ним вовсе не исчадия ада, а люди. И тут его словно обухом по голове ударила новая мысль — «французишки»…
«Окаянцы. И Москву сожгли. Так мало им этого — и мою сивку сожрали и розвальни сожгли».
На этот раз Никита не ошибался. Перед ним был французский офицер и его уцелевшие спутники, справлявшие среди снежных сугробов свой ужасный пир…
VIII
Соображение о том, что перед ним не «наваждение», а просто «французская нечисть», быстро вернуло Никите и присутствие духа, и хладнокровие, и сообразительность. Теперь в нем действовал уже не страх, а мстительное чувство, и мужик недолго соображал, что ему следует делать и как должно расплатиться с окаянными и за Москву-матушку, и за съеденную сивку, и за сожженные розвальни, да, кстати, — и за Жерновку, и за батиных матушку и убиенного сына.
Вся ненависть, какая только могла собраться в этой наивно грубой детской душе, направилась против несчастных, полузамерзших людей, которых и без того-то карал Бог за их преступления.
Никита погрозил из-за сугроба пирующим французам кулаком и, сильно пригнувшись, побежал прочь.
Трудно и представить себе, как не увидели его французы. Утолив свой голод, они стали безпечными (старорусск. грамматика), да и то сказать, бдительность их и без того была усыплена безлюдьем и им казалось, что некого им бояться среди этих снежных равнин, где они по целым дням не видали не только людей, но даже зверей и птиц перелетных.
Никита скоро выбрался на дорогу, где все-таки ему легче было идти. С него пот под полушубком так и катил градом, но мужик будто не замечал этого. Злоба и ненависть так бодрили его, что, немного отдохнув, он чуть не бегом пустился к черневшему на горизонте лесу, в котором таились его односельчане. Еще порядочно не доходя до него, он завидел целую толпу их, спешно шедшую от леса к проезжей дороге. Это были жерновцы. Они были обеспокоены отсутствием Никиты, и, сообразив, что он заплутался в метель, направились его отыскивать, вполне уверенные, что далеко он сбиться не мог.
Никита сейчас же узнал своих и, остановившись, заорал, что было силы в легких.
— Ребята… Православные… Ходи поживей.
Крик его донесся до жерновцев, некоторые из них шли на лыжах и скоро очутились около Никиты.
— Эвона ты! — заговорили кругом. — А мы-то думали, что ты пропал в метель. Уж как кружила-то она, словно бешеная. Жив?
— Бог спас.
— То-то. Чего ж пéхом, а сивка где? Замерзла?
— Не, съели…
— Как съели? Кто? Волки?
Никита рассердился.
— Чего волки… — раздраженно крикнул. — Нешто они могут крестьянскую лошадь жрать! Французы окаянные слопали, вот кто. И розвальни мои на костре спалили.
Разом на мгновение все стихли. Сообщение Никиты ударило всех, как нежданный гром. Не хватало слов для выражения мыслей, вдруг забродивших в каждой голове. Но это замешательство продолжалось недолго.
— Французы?
— Где они, окаянные безбожники? — так и вспыхнул кругом взрыв криков.
— Давай их сюда…
— Где Наполеон ихний?
— Пришли-таки, не миновали наших рук…
— Уж теперь не упустим, довольно им по белу свету гулять, будет, достаточно поплясали.
Заслышав крик, подбежали и остальные. Никита, с все возраставшей нервностью и озлоблением, рассказывал, как он наткнулся на французов, поджаривавших его лошадь. Рассказ Никиты был очень несвязный, бестолковый, но всем понятен. То, что не договаривал или не умел выразить Никита, дополняли сами слушатели, и чем дальше шло никак не связанное повествование, тем все более и более нарастал бурный, стихийный гнев, охватывавший души и яростно рвавшийся наружу.
— Гляжу это я, — уже плаксиво жаловался Никита, — а сидят нехристи и так-то мою сивку уплетают, что поди за ушами трещало.
— Ишь ты! — глубокомысленно заметил один из слушателей. — Лошадину жрут.
— И на сей paз подавятся нечестивые нехристи, — как-то особенно грозным тоном произнес рыжий пожилой мужик и вдруг истово перекрестился…
— Православные… — заговорил он тихим, спокойным голосом.
Кругом, глядя на него, крестились и другие.
— Нешто же мы потерпим все обиды вражеские? Ужели не вспомним святые Божие храмы, поруганные и оскверненные нечестивцами? Отцы, деды и прадеды в них Господу молились и во грехах своих каялись, а пришел Наполеон и первым делом их осквернять да жечь начал, чтобы наши христианские души без покаяния оставались…
— Верно твое слово, дядя Трифон, — выступил другой мужик. — Ежели так добро пропадает, или ежели кто живота своего лишается, так что тут поделать — вестимо, война, всяко бывает, без того не обойтись. А вот насчет храмов, так то действительно душ покаяния лишают… да Божьего благословения также… Вон сгорела у нас церковка, так хорошо, что отец Павел уцелел: и крестит, и напутствует… а все не то, что в храме Господнем… Сколько свадеб невенчанных осталось.
— Вот и выходит, что француз неистовствует над храмами, — подтвердил Трифон, — чтобы наши душеньки Царства Небесного лишить… На то он и в Москве соборы святительские в конюшни обращал. Так неужели попустим?
— Ни в жизнь, — закричали со всех сторон. — Постоим за святую веру православную. Веди нас, дядя Трифон, будь нам заместо начальника, вроде как бы командира.
— А теперь, православные, с Богом! — сказал Трифон и перекрестился. — Да не галди, а то еще вспугнем птиц заморских.
Толпа тронулась.
Шли действительно тихо и разговаривали чуть ли не шепотом. Лица были серьезны. Всеми овладело особенное настроение, каждый чувствовал, что идет на большое дело, и никто не думал, что это дело будет кровавым, братоубийственным делом.
— Ишь ведь, — вспоминали некоторые, — когда сюда нехристи под осень приходили, так им попадья помешала… Сущей ангельской доброты матушка-то была. Что она им могла сделать!? А они ей голову на смерть разбили… Нешто так, хоть раскакая война, полагается? А поповича-то? Золото, а не парень был — что красная девушка…
— В Царствии Небесном попович поди теперь пред престолом Всевышнего за нас, грешных, молится. Ведь тогда у него батя с груди святой антиминс снял. Весь от пуль в дырьях святой антиминс-то. Может, по поповичьим молитвам Господь нам и французов-то послал…
— А ежели же это не те самые?
— Все едино. Те или не те, все перед нами виноваты, — и брови тихо разговаривавших людей насупливались, лица принимали грозное выражение.
Готовился ужас. Простые, наивные, но оскорбленные до глубины своей души жерновцы шли с благоговением на ужасное, кровавое дело. И святое милосердие, Христова великая любовь отошла от них, покинула их.
Несчастные французы, которых пощадили мороз, голод, казацкие пики и сабли, были обречены теперь на верную, неизбежную и мучительную смерть в лесу, вдали от родины.
IX
Тихо-тихо, чуть не крадучись подходили мужики к тому месту, где, по указанию Никиты Тихонова, был бивуак французов. Вперед выбежало штук пять парней. Вел их Никита, чувствовавший себя героем этих мгновений. Он скоро вернулся к своим и заявил:
— Хоть голыми руками их бери: нажрались, окаяннные, и дрыхнут.
— Так и нечего времени зря терять, — сказал Трифон, — заберем их, ребята, и вся недолгá.
Эти слова были своего рода сигналом. Толпа мужиков только ухнула, бросилась напрямки по снегу к спавшим врагам и вся разом насела на них. Нападение произошло раньше, чем французы успели проснуться. Они захвачены были врасплох и не успели оказать ни малейшего сопротивления.
Сперва на них посыпались градом удары.
— Не трожь, — крикнул Трифон, — не смей бить.
— А почему, ежели они моего сивку слопали, розвальни сожгли? — подскочил Никита.
— А потому, что над покойниками издеваться нельзя, — закричал на него Трифон. — Мы не французики какие-нибудь там. Эй, вы там, ребята, ежели кто из вас усопшего врага пальцем тронет, того я насмерть уложу.
— Да какие же они усопшие? — усомнился кто-то. — Вишь, живы, лопочут по-своему, пардону просят, а ты, дядя Трифон, говоришь, что усопшие.
— Все равно что усопшие, — ответил Трифон. — У кого, ребята, заступы да лопаты, выходи вперед.
Несколько человек выдвинулись вперед.
— Вон там в снегу трое замерзших лежат, — сообщил один из них Трифону.
— Милое дело, волоки их сюда…
— Мусье, а, мусье, — подошел он к офицеру, — и уж как ты там знаешь, а больше тебе православных не бить, наши избы не жечь, храмов наших не поганить, — и он, сказав это, совсем дружески похлопал француза по плечу.
Говоря так, Трифон улыбался.
Но что это была за улыбка! Это была гримаса, как судорогой сводившая его и без того ужасное от злобы лицо, и даже мужики присмирели, взглянув на него.
Офицер ничего не понял, но Трифон дружески похлопал его по плечу, и это несколько успокоило француза. Он слегка даже засмеялся и с самым дружеским видом тоже потрепал по плечу Трифона.
Трифон громко захохотал, глядя на него. Засмеялись и другие мужики. Офицер искренне удивился этому, но смех всегда заразителен и, чувствуя, что страха нет, засмеялся и он сам. За ним засмеялись и другие французы; русские же так и заливались. Трифон злился, но продолжал все-таки смеяться.
— Гут, гут, мусье, — говорил он.
— Смотри, ребята, — обратился он к своим, — хохочут офицеришки. И напоследок и нас веселят.
— Вестимо, им весело стало, как сивку моего сожрали да розвальни сожгли, — забормотал все еще не примирившийся со своей потерей Никита Тихонов. — Смеются с нами и зубы скалят, безбожники.
— А ты, Никитушка, погоди, — остановил его Трифон, — пусть себе, друзья милые, смеются. Через малое время еще не так их, окаянных, развеселим…
— Слушай-ка, ребята, — прибавил он, — что я надумал.
Мужики так и сдвинулись вокруг. Трифон начал говорить и вряд ли бы офицер или его товарищи стали смеяться. Он велел вырыть могилу.
— Роем. Для троих, что померли… — проговорил Никита.
— Как для троих? — насупливая брови, выкрикнул Трифон. — А эти-то что же? — он махнул рукой на еле державшихся на ногах французов. — На весь десяток.
— Так их еще, тех семерых, дядя Трифон, пришибить нужно.
— Это еще зачем такое? — страшно засмеялся Трифон. — С чего такие нежности с басурманами при нашей бедности?
— Живыми? — Вырвался крик сразу у нескольких мужиков.
— А хоть бы и так. Или жалко стало?
— Да будто так не полагается. И скотину живую не закапывают, а сперва горло перережут.
— Так то скотина, а здесь хуже: враги веры православной. Ну-ну, чего стали. Копай землю-то. Ежели у кого сумление есть, то после бате исповедуетесь, он грех снимет, не задумается. У него самого матушку да поповича эти окаянцы ухлопали. Ну, живее копай.
Сердитый окрик подействовал, минута нерешительности минула. Теперь даже самая мысль о том, чтобы закопать французов живыми, пришлась по сердцу этим людям, убежденным в правоте своего дела. Об ужасе того, чтó они хотели сотворить, никому теперь уже не думалось. Со смехом, шутками и прибаутками принялась мужики и парни за страшную работу
X
Страшная работа быстро подходила к концу.
Яма была уже вырыта и довольно широкая и глубже человеческого роста.
— Вы, ребята, теперь готовы будьте. Сперва мертвую падаль сбросим, а потом и этих окаянцев столкнем… Станьте сзади их, по два на каждого, и как я только шапкой махну, так и спихивай. Да так, чтобы сразу, а потом начинай на них землю валить. Ежели кто выкарабкиваться будет, звездани по башке лопатой, да только, чтобы не до смерти…
Совсем близко вдруг послышался звон бубенцов, скрип полозьев, хрипение и фырканье лошадей.
— Кого еще там несет? — недовольно заворчал Трифон.
— Бaтя наш… Батя!.. Отец Павел, — закричали вокруг и, прежде чем кто-либо опомнился от неожиданности, среди толпы очутился уже старый пастырь жерновцев, отец Павел.
Лицо старика было мертвенно-бледно, грудь вздымалась, губы нервно вздрагивали, старая шубенка распахнулась, шапка сбилась на затылок. Он тяжело дышал и первые мгновенья от волнения не мог вымолвить ни слова…
Едва взглянув на него, офицер невольно вскрикнул, и снова его охватил ужас.
Смертельный, леденящий кровь ужас.
Всякая надежда на спасение мигом исчезла у бедного француза — он узнал этого старика… Ведь это именно он, офицер наполеоновской армии, был отправлен на фуражировку (заготовку — ред.) в эти места.
Он хорошо помнил, как вся деревня горела…
Да, именно по его приказанию пришибли прикладами жалкую, неистовствующую старуху, а затем он приказал расстрелять захваченного в горевшей деревне молодого юношу. Живо припомнился офицеру вот этот самый старик, в котором он и тогда еще узнал по одежде священника. Он стоял тогда перед ним с крестом, умолял за сына и по его приказанию получил сваливший его с ног удар прикладом. Что делать? Тогда он смотрел на все это, как на печальную необходимость, и вот теперь человек, у которого он убил жену и сына, стоял перед ним — гневный, раздраженный…
Офицер дрожал всем телом. Он был уверен, что по крайней мере для него уже все кончено.
Отец Павел тоже сразу узнал молодого француза.
Еще тогда его черты врезались в память старика.
Мало того, он постоянно видел его, как живого, пред собою, — постоянно, каждое мгновение, как только смежал веки… Обезображенный труп жены, изрешеченная пулями грудь сына и это молодое, красивое лицо, лицо их убийцы. Старик-священник смотрел пылающим взором на француза; тот, жалкий, дрожащий тоже смотрел на него. Взгляды их скрещивались, как острые лезвия мечей.
— Что вы задумали? — задыхающимся голосом воскликнул отец Павел. — Ой, детушки, вижу недоброе.
— Что? Да ничего, — грубо, но со смущением ответил Трифон. — Видишь, падаль зарыть нужно, чтобы не смердило потом.
— Какую падаль? — и голос отца Павла задрожал.
— А вот эту, — усмехнулся Трифон.
— Посторонись, не мешай, — и он махнул шапкой.
Раздался дикий, протяжный крик, сейчас же перешедший в душураздирающий вой. Пятеро французов из семи были столкнуты в выкопанную могилу. Туда же полетели вслед за ними и трупы замерзших. Шестой француз, по какой-то случайности, не был застигнут врасплох и оказал сопротивление. Удар лопатой по голове сейчас же без памяти свалил его с ног и он также был сброшен вслед за товарищами в ужасную яму. Из нее раздались вопли, крики, мольбы о пощаде, брань, проклятья, стоны, сумасшедший хохот; поднимались руки, напрасно старавшиеся вцепиться в обледенелые края, но яма была глубока, а боковины ее гладки, и все усилия заживо погребенных пропадали даром — они не могли выбраться: ужасная смерть уже ниспускалась к ним. Офицер, единственно оставшийся на краю ямы, в одно мгновение понял все. Он понял, что значил смех мужиков, и увидел, что спасения уже быть не может, что оставалось только одно: умереть хотя бы с достоинством. В нем внезапно вспыхнул порыв: перестав считаться живым, молодой офицер вдруг оттолкнул от себя деревенских мужиков.
— Товарищи, иду к вам, — звонко закричал он по-французски. — Да здравствует Франция!
С этим кличем, еще недавно раздававшимся на полях французских побед, он сам прыгнул в могилу…
— Окаянные… Звери истые, — кричал, надрываясь до хрипоты, отец Павел. — Не позволю… Не дам. Грех непростимый совершается… Бросьте сейчас же.
— Нечего тут, — грубо старался перекричать Трифон, — дело-то сделано… Засыпай, что ли.
В страшную яму полетела со злобою замерзшая земля.
— Прокляну, анафеме предам, — выкрикивал старик, метаясь между копателями, стараясь прекратить их ужасную работу.
— Ты бы ушел, батюшка, — крикнул ему Трифон, — нечего тут делать тогда, ежели вместе с нами вере и Отечеству послужить не желаешь…
— Ей, братцы, оттащите-ка батю к санкам, чего ему тут путаться-то. Почто остановились, зарывай, зарывай падаль скорей. Уходи, батя.
— Не уйду, — исступленно кричал пастырь, — не уйду, не дам великому греху совершиться… Ежели так, то и меня зарывайте в ту же могилу.
Никто из озверевших мужиков и сообразить не мог, что произойдет. А отец Павел, — откуда только у него юношеская резвость была, — метнулся к страшной яме, на миг задержался на ее краю и, прежде чем кто-либо успел удержать его, свалился в нее. Он упал, но сейчас же вскочил на ноги. Откуда-то в руках у него очутился крест и теперь он стоял, подняв одною рукою его высоко над своей головой, другою простирая над головами «заживо погребенных» свою старенькую епитрахиль.
— Заклинаю вас всех именем Бога Живаго, — громко, отчетливо воскликнул он, — остановитесь. Не принимайте на себя страшного греха, в коем и звери не бывают повинны. Всех я вас крестил, всем я вам отец духовный и пастырь. Заклинаю беса ярости, овладевшего вами. Остановитесь. Иначе будете вы все…
Он прервался. У его ног раздалось какое-то ворчанье. Это офицер, атеист, для которого не существовало Бога, понял, чтó такое происходит. Он уразумел, что этот старец спасает их, в нем заговорила душа просвещенная, вдруг воскресшая в этот страшный миг возвращения из могилы, вдруг познавшая, что есть добро и любовь Христовы, и как ради нее можно прощать врагу.
Забыв об ужасе своего положения, просветленный и умиляющийся француз бросился к ногам служителя Бога Предвечного, обнимая колени старца, и что-то бормотал — что, он и сам не понимал, но в то же время чувствовал: в этом лепете изливаются вся его душа и непонятно откуда накрывшее умиление. На его голову опустилась священная епитрахиль и, вместе с нею, маленькая, дрожащая рука этого чудного старца.
Словно магический ток пробежал по всему телу француза. В новом, еще более сильном порыве умиления, он протянул вверх руки, и отец Павел по-своему понял это движение. С приветливой улыбкой поднес он святой крест, и француз так и впился в прободенные ноги распятого Бога своим дрожащим поцелуем…
Другие несчастные, как ни дик был их ужас, сообразили, что происходит нечто необыкновенное, и они увидали, как ни дико было их отчаяние, в этом, будто с неба свалившемся к ним в могилу старце, ниспосланного к ним, забытыми небесами, спасителя. Они поняли, что только в этом беспомощном по виду, но могучем любовью существе — все их надежды. Они все сбились в кучу у ног православного пастыря, и с плачем, лепеча, тянулись к святому Кресту, а над ямой так и кипел испуг, смятение и ужас жерновских мужиков. Они были поражены увиденным и своей собственной безжалостностью. Стыд заговорил в них, пробудилась совесть, и они поняли весь ужас того, что готовились совершить…
— Батя, наш батя с французами, — кричали на разные голоса, и в каждом голосе звучали отклики душевного переполоха! — Тащи его назад вместе с безбожниками.
— Верно, не пришла им пора карачун[13] получить, маменьки ихние, знать, за них Бога молили…
— Надо, значит, так. Если уже батя наш за них заступился, то не совсем они еще Господа-то прогневали.
— Верно, верно. Он-то все эти дела знает. Недаром столько лет пред престолом предстоит.
— У него, у пастыря, и душа Божья… Его к нам послал Сам Господь, чтобы, значит, великому греху не попустить… А на оный грех нас Тришка-окаянец науськал, зубы ему все за это вышибем.
— Мне-то за что ж, православные, — смушенно оправдывался Трифон, — хотел за Отечество порадеть.
Но его уже не слушали.
Отец Павел и спасенные им от ужасной смерти французы в спешном порядке были извлечены из страшной ямы и несколько мужиков торопливо забрасывали землею оставшихся в ней мертвецов. Взрыв дикой свирепости улегся и на смену ему явились умиление, смирение и раскаяние. Мужики целовали своего отца духовного, лобызались с французами, зачем-то кричали «ура!» и все при этом умиленно плакали…
— Детушки родные, — говорил, вернее сказать, лепетал отец Павел, — от великого греха спасли вы души ваши. Сказано, чтобы врагу прощать и мстить ему за зло любовью… Докончите же свой святой подвиг: к себе возьмите несчастных, напоите их, накормите, успокойте, а там после, что Бог даст…
Яма с замерзшими была зарыта. Отец Павел благословил могилу побежденных «храбрецов» и пошел к оставленным на большой дороге саням. Рядом со старцем шел офицер, как ребенок уцепившийся за полы его рясы и не спускавший с его лица восторженно-умиленного взора.
Следом за ним, сбившись в кучку, шли поверженные французы. Едва только отец Павел сел в сани, они с громким кличем кинулись вперед, моментально выпрягли лошадей, подняли сани на плечи и на руках понесли своего спасителя… Так и шли всю дорогу, меняясь на минуты усталости с жерновскими мужиками.
Герой-мученик
Исторический очерк Михаила Горского
I
Смоленск переживал тревожные дни. Все, кто мог, покидал город, спешно забирали вещи, иногда ненужную рухлядь, торопливо связывали и шумно выезжали за городские ворота, оставляя позади себя земляные валы некогда неприступной крепости. В городе оставались только солдаты и ополченцы да мирные люди, так или иначе не имевшие возможности выехать.
Бежали все, кто мог, бросая свое имущество, с тяжестью в сердце покидая насиженное гнездо.
Во всем Смоленске, кроме отца Якова Соколова, остался еще отец Никифор Мазуркевич.
В Смоленске давно знали этого пастыря. Многие считали его за чудака. Бедный дьякон, обремененный многочисленной семьей, он на последние гроши покупал книги и рукописи для составления своей книги: «История города Смоленска». Некоторые смеялись над «ученым» трудом «неученого дьякона», но нашлись образованные люди, которые помогли ему напечатать труд, а епископ смоленский Парфений за труды и усердие рукоположил отца Мазуркевича во священники и назначил настоятелем Одигитриевой церкви в Смоленске.
Начало 1812 года было тяжким для отца Никифора: умерла жена, осталось семеро детей, сиротка, взятая на воспитание, и старуха мать. А теперь вот новая беда. Беда для всего русского народа. Война с французами…
Когда все бежали из города, отец Никифор растерялся; сначала отправил старшего и дочь в Вязьму, потом и сам с остальными хотел ехать, но не мог побороть в себе чувство долга, ответственности перед Богом за оставление своей церкви. Все было готово уже к отъезду, но кто-то ночью увел лошадь со двора.
— Ну, видно, судьба, — решил отец Никифор, — сам Бог во благости своей указует мне грешному путь к скорбям, испытаниям и подвигу.
И отец Никифор остался. Настало утро 4[14] августа, и завязался бой. Рвались снаряды, грохотали пушки, дым застилал двигавшиеся колонны наших и французов.
Вскоре в город понесли раненых, и с этого момента началась историческая деятельность отца Никифора, которая свидетельствовала о необычайной силе и величии его духа.
Генерал Паскевич пригласил священника на Королевский бастион, где было много раненых. Отец Никифор служил это время в церкви молебны. Немедленно отправился он к умирающим, имея в руках Святые Дары, а на груди икону Богоматери. Следом за ним его малолетний сын нес святую воду. Отец Никифор бесстрашно обходил под градом пуль и тучей орудийных снарядов ряды сражавшихся и напутствовал раненых и умирающих. Вслед за тем пастырь, не вредимый ядрами, обошел всех засевших в крепостном рву солдат, говоря всем слова утешения и ободряя их своей неустрашимостью.
Пятого августа началась бомбардировка Смоленска. Дом отца Никифора был разгромлен ядрами и бомбами, его семья перебралась на житье в церковь, а отец Никифор по-прежнему служил «молебное пение» перед иконою Спасителя. Неожиданно в окно церкви влетает бомба, разрывается, разрушает клирос и отбрасывает священника в алтарь. Молящиеся думали уже, что батюшка убит, но он снова появился у царских врат, среди клубов дыма.
Небо Смоленска тем временем затянуло черной гарью и ярким пламенем и вместо канонады пушек послышалcя треск и разрушительный грохот горевших зданий. В порыве отчаяния бежали из Смоленска оставшиеся жители, еще на что-то надеявшиеся, уходили в безвестную путь-дорогу, полную бедствий и лишений; плача, целовали траву и деревья, прятали в ладонях землю. На стене одного покинутого городского господского дома чья-то дрожащая рука написала: «Прости, моя милая Родина».
Уступая место врагу, люди бежали неизвестно куда, где вдали от родных пепелищ приходилось им целыми неделями вести бродячую одинокую жизнь на развалинах своего Отечества, прятаться в лесах, скитаться без крова… Истерзанный убийствами, кровью, ужасами боев с неприятелем, город пылал. Подымались, как из вулкана, разрушительные столбы огня, росли, ширились, метались по черному небу исполинскими снопами света, превращая ночь в день. В эту ночь, с 5-го на 6-е* августа 1812 года, многочисленная вражеская армия вступила в Смоленск.
Но отец Никифор остался на своем посту — среди покинутых всеми стонущих раненых и умирающих.
II
На заре 6 августа*(19 августа — ред.) в день годового праздника Преображения Господня, отец Никифор с семьей наблюдал через верхние круглые окна собора, как передовые отряды неприятеля, опасливо озираясь по сторонам, занимали опустошенный и опустевший Смоленск.
Перед брошенным русским городом вскоре появился Наполеон и, сойдя в виду Никольских ворот с лошади, стоял, окруженный гренадерами, и отдавал приказания. Но, как признается французский историк Сегюр, кругом были дымившиеся развалины, «не имея, кроме себя, иных свидетелей своей славы. Спектакль без зрителей, победа без плодов, кровавая слава… Дым которой окружал нас, был, казалось, единственным нашим приобретением».
Наполеон остановился сперва на Спасской улице в доме, принадлежавшем ныне семинарии. Отдохнув, он приступил к осмотру города, начиная от Спасской церкви и до церкви Божией Матери над Днепровскими воротами. Утром 7 августа Наполеон посетил собор.
Увечные, старцы, женщины и дети, голодные, оборванные, покрытые грязью и кровью, с воплями отчаяния метались по храму, тщетно отыскивая защиты и утешения. Наполеон вошел в храм в своей треуголке, но, дойдя до средины, пораженный величием собора, он обнажил голову, и его примеру последовала вся его свита.
Неаполитанский король Мюрат остановился вблизи собора в архиерейских покоях.
6 августа Мюрат и его свита вошли в храм с собаками и осматривали его, не снимая шляп и киверов. Солдаты одного из полков Мюрата отбили двери в Предтеченской церкви и начали грабить богатую архиерейскую ризницу. Заштатный Бирюковский архимандрит Иосиф бросился за помощью в собор, но отозвался только один священник Мазуркевич, за которым последовало двое его малолетних сыновей и консисторские писцы — Воронков и Залесский.
Отец Никифор опрометью вошел в каменные архиерейские палаты, где остановились Мюрат и Богарне. В передней — никого. Батюшка открывает дверь дальше и натыкается на множество иностранных и польских генералов. Нимало не смущаясь, он говорит о грабеже церкви, о святотатстве, о том, что русский народ не стерпит этого равнодушно и что за последствия народного гнева он не отвечает.
Самый вид длиннобородого русского священника в широкой черной рясе произвел сильное впечатление на французов, особенно на добродушного Богарне и на отчаянного в битвах, но не злого неаполитанца Мюрата.
Присутствующий здесь Наполеон не препятствовал священнику, и Мазуркевичу выдали свидетельство, которым он разогнал грабителей, хотя, быть может, и несколько поздно.
Сегюр, в записках которого тоже поминается этот случай, приводит даже и разговор, который вел сам Наполеон с отцом Никифором. Именно, выслушав внимательно жалобу, Бонапарт спросил:
— Ваша-то церковь разве сгорела?
— Нет, ваше величество, — отвечал «поп». — Бог более милостив, чем вы. Он сберег ее в качестве убежища для несчастных, которых пожар лишил своего крова.
— Пожалуй, вы правы, — задумчиво произнес Наполеон.
— Да, Бог заботится о несчастных жертвах войны. А за вашу милость вы будете вознаграждены, — добавил смело отец Никифор.
Так или иначе обстояло дело, но отец Никифор сберег собор, сберег и свою Одигитриевскую церковь. Оберегал и остальные.
Тяжело былo оставшимся русским жителям Смоленска во вражьем стане. Союзные войска вели себя очень буйно и жестоко. Наиболее мирным и даже дружелюбным характером отличались отношения к русским французов. Но все-таки убийства и грабежи были обычным явлением в городе. Грабили и солдаты, и мародеры, но особенно — проходящие команды.
К довершению всего, в занятом врагами городе часто происходили пожары и их приписывали русским ополченцам, которых ловили и расстреливали.
Отряды ополченцев много вредили французам.
Однажды французы захватили в плен начальника отряда, смоленского помещика Павла Ивановича Энгельгарда и приговорили к расстрелу. 15 октября, близ Малаховских ворот, состоялась казнь Энгельгарда. Отец Никифор не убоялся расправы и, в полном облачении, с крестом в руках, напутствовал героя, который умер смертью храбрых.
Тяжело было русским в эти страдные дни, и отец Никифор явился в это время перед французским начальством единственным ходатаем за притесняемых русских людей, единственным защитником православной веры и святых храмов. Доступ к французским властям и заступничество перед ними за своих смоличан в большинстве случаев отцу Никифору удавались, отчасти благодаря его священнической одежде. Но главным образом, — вследствие его особой энергии и той вдохновенной настойчивости, которая доходила до дерзости и всегда производила впечатление самого высокого, самоотверженного человеколюбия. Он добивался всего для других, и ничего для себя, всецело отдавшись заботам о страждущих, которыми город был переполнен. Впоследствии свой дневник 1812-го года отец Никифор начал словами из псалма: «Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое даждь нам».
Именно о милости и спасении, прежде всего, молился русский народ в эту годину посланных ему тяжких испытаний. Усердно молились и смоличане, но обычные канонические богослужения по церквам прекратились с 5 августа. Только 15 августа, в день Успения Божией Матери, престольного праздника в соборе, впервые ударили с соборной колокольни в колокола и отслужили обедницу, так как служить обедню было нельзя за неимением просфор. Стройный звон колоколов привлек внимание неприятельских солдат, дивившихся искусству звонарей, и с этого времени церковная служба происходила чаще всего в Одигитриевской церкви, изредка в Вознесенском монастыре и один раз в Спасской церкви.
В соборе служили очень редко, потому что единственный, бывший налицо из соборного духовенства священник отец Василий Шировский в начале октября умер. Собор остался без хозяина и ключи от него были переданы отцу Никифору.
III
Среди горьких обид, причиненных неприятелем русским людям, следует отметить, главным образом, оскорбление религиозного чувства. Обиды эти в период наивысшего напряжения в народе чувства религиозности воспринимались с особою острой болью и залегали глубоко в народную душу. После взятия Смоленска французская армия, раньше встречаемая или гостеприимно, или равнодушно, теперь была окружена ненавистью оскорбленного народа и ощутила суровую атмосферу неприятельской страны.
Народ восстал, покинул родные места, соединяясь в небольшие отряды партизан, повел вооруженную борьбу с неприятелем, действуя как в определенной связи с армией, так и вполне независимо, нападая врасплох на врага и нанося ему значительные уроны.
Наполеон искал русские войска, чтобы втянуть их в генеральное сражение. В его план не входила борьба с народом, невозможная, как он это испытал уже в Испании. Но партизанские отряды наносили его армии вред, и он с ними был беспощаден. Смоленск был центром, куда приводили арестованных партизан. Иногда отцу Никифору удавалось спасти кого-нибудь из этих защитников Отечества, обреченных на верную смерть. Так, например, в числе освобожденных пленных, заключенных в Одигитриевской церкви, находился Вознесенский протопоп Поликарп Зверев.
Но отец Никифор был один, а раздражение французской армии против русских росло с каждым днем, в особенности после отступления из Москвы. В особенности Смоленску было тяжело переносить это раздражение вражеской армии, так как город находился в центре передвижения французских войск и на пути к Москве и обратно, из Москвы.
В конце октября в Смоленске стали готовиться к встрече Наполеона. Отец Никифор был вызван к кригс-комиссару Сиову и интенданту Виллебланжу, которые сперва просьбами, а потом угрозами склоняли его торжественно встретить Наполеона во главе наличного духовенства.
Что довелось перечувствовать отцу Мазуркевичу в своем наболевшем сердце! Какую потрясающую драму пришлось ему пережить! Отказ от исполнения требования влек за собой тяжелую кару не только лично на него, но и на весь город; согласие же исполнить это требование имело своим последствием личное его унижение, горький стыд перед согражданами и даже тягостное обвинение в измене.
Но отец Никифор свою личную судьбу принес в жертву общественному спасению.
Утром 2 октября он с двумя другими священниками, Поликарпом Зверевым и Яковом Соколовым, вышли из собора, где взяли крест и ризы, к Днепровским воротам навстречу Наполеону. Но Наполеон в этот день не приехал. На другой день отец Никифор отправился к Днепровским воротам служить молебен в доме одного больного. Он захватил с собою просфору, а его сын нес за ним ризы. Было ветрено, морозно и скользко. С большим усилием спускался отец Никифор с горы к Троицкому монастырю. Встретившийся французский жандарм предупредил его, что идет сам Наполеон. Священник растерялся, как вдруг подошедший и лично знавший его губернатор Жомини сказал по латыни: «Ессе Наполеон» (вот Наполеон).
Не успел отец Никифор снять шляпу, как увидел возле себя Наполеона.
— Попе? (поп?), — резко спросил Наполеон, взглянув на растерявшегося отца Никифора в епитрахили и с просфорой в руке.
— Сис (так), — ответил отец Никифор и сунул Наполеону просфору.
Так встретились русский священник, скромный пастырь народа, и император французов — могущественный вождь народов. Но для отца Никифора эта встреча оказалась роковой…
IV
Наполеон покинул Россию, оставив на произвол судьбы жалкие остатки голодных, замерзающих солдат, составлявших недавно грозную и великую армию.
Смоленск заняли наши войска и, как писал отец Никифор в своем дневнике от 8 ноября 1812 года, стало появляться городское духовенство в приходах.
10 ноября прибыла в Смоленск из Красного чудотворная икона Смоленской Божией Матери «Одигитрия», которая возвращена была дежурным генералом всей армии Коновнициным по приказанию фельдмаршала Кутузова. В декабре прибыли в Смоленск преосвященный Ириней (Фальковский) и член Синода архиепископ Рязанский Феофилакт (Русанов), назначенный для приведения в порядок разоренных неприятелем епархий.
Собралось в Смоленске начальство, возвратились бежавшие жители, началось восстановление законного порядка. Пошли сплетни, ябеды, доносы и вслед за ними — розыски. На этой почве поднялся вопрос о лицах, служивших неприятелю, возникли дела, и пошел суд.
Не избежал злых наветов недругов и отец Никифор.
Возвратившийся в Смоленск протоиерей Алексей Васильев 16 ноября получил от полицмейстера Мельникова бумагу, в которой сообщалось следующее: «Немец аптекарь сказал, что у него неприятелем истреблено медикаментов тысяч на двадцать». Эту цифру услышал какой-то духовный чин, и через неделю ко всем прочим обвинениям Мазуркевича прибавилось, будто он из соборных денег украл некие 20000 рублей. Архиепископ Феофилакт, энергичный, но крайне самовластный и резкий, вызвал отца Никифора на допрос.
Вот как отметил в своем дневнике отец Никифор эту напасть от 20 декабря.
«По требованию Синодом отчета, по доносу Николаевского протопопа Алексея Васильева, рассказал откровенно все со мною случившееся.
— Зачем встречал Наполеона!
Отвечал: “Чтобы спасти храмы Божии. Первосвященник Иодай встречал язычника Александра Македонского, а папа Лев Святый — Аттилу у врат Рима, угрожавшему граду разорением”».
Но эта отповедь не подействовала на строгого архиепископа Феофилакта. Мазуркевича допрашивали о якобы препорученных ему французским правительством ключах собора; о том, выходил ли он навстречу Наполеону и так далее. Отец Никифор оправдывался и его показания подтверждались. В соборной ризнице нашли спрятанные им 20000 рублей медных денег; аптекарь заявил, что на 20000 рублей взяли у него медикаменты французские войска. Но, несмотря на явную ложь доноса, Мазуркевичу было запрещено священнослужение, благословение рукою, и его предали суду.
Только 8 июля 1814 года, после оправдательного приговора судебной палаты, последовал указ Синода о разрешении отцу Никифору Мазуркевичу священнического служения и об определении его на прежнее место при Одигитриевской церкви.
Такова была жизнь многострадального отца Никифора, перенесшего ужасы войны, напутствующего умирающих, ободряющего живых, защищавшего церковь, за что, как говорилось в оправдательном решении палаты «был бит, дран за волосы и бороду», и, наконец, испытавшего позор обвинения в государственной измене.
Мученик-герой, страдавший и «за всех», и «за вся»!
Его светлый облик останется навеки незапятнанным в сердцах помнящего своих героев русского народа.
Из старой рукописи
Рассказ Р. К. Усть-Медведицкого
Я, смиренный служитель Бога и Господа моего, Иисуса Христа, монах доминиканского ордена Григорий, хочу записать здесь обстоятельства моей жизни.
Разве на могильном кресте не пишут: «Здесь лежит раб Божий…»? И еще из Писания: «Как олень на водяные источники, так стремится душа моя к Тебе, Боже»… Или: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас»…
Эти мои строчки пусть свидетельствуют не обо мне, так как я — прах, поднимаемый ветром, а о славе Бога, которая отражается везде, как солнце в каждой былинке. Аминь…
I
Я родом француз, из города Лиона. С ранних лет я любил шум приозерного тростника, мерцание звезд, аромат трав и цветов — аромат, похожий на фимиам. В поисках всего этого я постучался однажды в тяжелые, обитые железом ворота монастыря.
В это время мне было 16 лет. Когда мне исполнилось 30 лет, меня посвятили в сан священника. Вскоре после этого пришла в монастырь грамота святого наместника апостола Петра с приказанием послать из нашего монастыря в армию императора Наполеона I трех священников, в виду предполагающегося похода в Россию. Настоятель в числе трех священников назначил меня.
Я с кротостью принял назначение. Через неделю за нами приехал уже офицер, и мы отправились в армию.
Армия уже была готова в поход. После тишины монастырской жизни, когда вместо лица видишь только строгий черный глухой покров, спускающийся до подбородка, меня, конечно, поразили шум, музыка, постоянные передвижения и, главное, неперечислимое множество человеческих лиц! Все были настроены бодро, — имя великого императора было для всех как воинское непобедимое знамя.
На следующий день после нашего приезда отряд, в который я был назначен, выступил в поход. Нас провожала многочисленная публика. Сам император, верхом на коне, в треуголке, озабоченный, быстро проскакал вдоль рядов, бегло осматривая их, и солдаты кричали ему «Ура!..». Когда мы переходили русскую границу, я благословил страну, которую видел в первый раз — ее синие леса и редкие селения, похожие больше на пустые гробницы, чем на жилища людей.
Я не буду описывать наш поход, это известно теперь всему миру. Не буду описывать битв — мне кажется, если сейчас представлю себе весь этот ужас, я умру. Если б я знал, когда был ребенком и слушал шум тростника на озере, чтó мне придется увидеть во время сражений, я убежал бы тогда в пустыню, к диким зверям, лишь бы не видеть, чтó иногда делают люди друг с другом!
По долгу службы я был со святыми Дарами на месте боя и напутствовал умирающих именем кроткого Христа. Какие были у умирающих лица! У меня сейчас капают слезы, когда я вспоминаю их. Особенно я помню одно лицо молодого солдата. Солдат был ранен в грудь и быстро умирал. По глазам я понял, что он знает, что рана смертельна. Я начал читать молитву. Он прервал меня и сказал: «Святой отец, дома у меня… матушка…» И еще что-то хотел прибавить, но вдруг поморщился от страшной боли и замер. Я осенил его крестом, прося Бога о упокоении ушедшей души.
Под Смоленском наш отряд был послан на поиски провианта. Мы двинулись в путь ночью. В одном месте дорога сбегала в котловину и скрывалась в молодой лесной заросли. Деревья шелестели подозрительно, точно заговорщики. Я, по обыкновению, ехал сбоку. Вдруг мы услышали резкий свист. Среди ночной тишины он прозвучал, как призыв. Я помню, как бессознательно весь отряд сбился в комочек и замер. Свист повторился совсем близко, в зарослях. Тотчас я увидел около себя вспыхнувший белый огонь, и меня словно ударило палкой в спину. Я свалился с лошади…
Когда я очнулся, было еще темно. Я лежал поперек лошади на крупе. Лошадь шла медленно, но каждый ее шаг остро отзывался в моей ране. Вероятно, я очнулся от этой нестерпимой боли. Я застонал. В ответ всадник громко крикнул на лошадь, и мы поскакали. Я снова потерял сознание. Очнулся я во второй раз в каком-то деревянном строении, на голой земле. Около меня сидели несколько человек наших офицеров и вполголоса разговаривали. Я попросил воды. Мои милые соотечественники грустно пожали плечами.
Увы, у нас не было ни капли! Мы были в плену!
Помню, когда я лежал так, на церкви пробил десять раз колокол, и я вспомнил свой белый монастырь, где колокол на башне отбивал каждую минуту. Я забылся…
Товарищи разбудили меня и сообщили, что, вероятно, скоро всех расстреляют и нужно приготовиться. Я сказал, что готов как священник напутствовать желающих. Мне помогли достать с груди Святые Дары, и я приобщил товарищей. У меня осталась одна облатка, и, хваля Бога за Его милости, я вкусил ее…
В дверях загремел железный запор. Мы стихли.
Очевидно, шли за нами.
II
Вошел старик в мужичьем полушубке, с большим медным крестом на груди. Он постоял некоторое время у порога, очевидно, привыкая к полумраку нашего помещения. Потом снял шапку и поклонился нам. Мои товарищи ответили ему. Он подошел ко мне, наклонился и приложил руку к моей горячей голове. Я видел около себя старческое доброе лицо. Славная белая апостольская борода окружала его, точно лучи. Подержав некоторое время руку на моей голове, он что-то ласково сказал мне. В это время в дверь сильно застучали. Старик приподнялся и прислушался. Стук повторился. Старик взглянул на нас, и мы увидели, что он плачет…
Один из офицеров торопливо подошел к нему, сжал ему руку и сказал по-русски:
— Христос… Хорошо… Христос.
Я догадался, что это русский священник.
В строение вошли неприятельские солдаты с двумя офицерами и окружили нас. Два солдата подняли меня с земли и поддерживали под руки.
Старик подошел к офицерам и, кланяясь, начал рассказывать что-то, указывая на меня. Офицеры подошли ко мне, и один из них спросил меня на ломаном французском языке: священник ли я? Я ответил утвердительно. Тогда он приказал солдатам положить меня обратно на землю.
От страшной боли я потерял сознание в тот миг, когда меня клали на землю. Когда я очнулся, моих прекрасных храбрых товарищей уже не было — около меня сидел знакомый старик с белой бородою и мочил мне голову водой. Заметив, что я открыл глаза, он ласково сказал что-то на своем языке.
В это время в строение вошла старая женщина и принесла хлеба и овощей. Старик предложил мне поесть. Я съел кусок хлеба и несколько вареных грибов. Добрые старики помогли мне встать и под руки вывели из строения. На дворе стояли сумерки.
Оказывается, наша тюрьма была на площади, около церкви. Старик указал рукой на избу, в которой сейчас мерцал огонек. Я догадался, что это его дом.
III
Заслышав наши шаги, на крыльцо выбежала маленькая девочка. Старик что-то сказал ей, вероятно, приказал уйти в дом, так как на дворе было очень холодно. Девочка убежала. Старик открыл дверь, и мы вошли в комнату. Комната была довольно большая, с окнами на всех четырех стенах, из чего я заключил, что она занимала всю избу. Около потолка был сделан настил из досок — оттуда на нас с любопытством смотрела голова мальчика. Свет в комнате давала сальная свеча. Около нее сидела старая женщина в очках, очень похожая лицом на моего нового незнакомого друга, и крутила веретено. Спрятавшись за нее, на нас смотрела девочка, которая выбегала сейчас на крыльцо. Мои спутники усадили меня на табурет. Старушка в очках встала, принесла мне кофту и что-то сказала старику. Старик приподнял меня с табурета, и старушка подложила свою мягкую старушечью кофту. Добрая старушка, пусть небо будет так же милостиво к тебе, как ты ко мне в тот миг!
Я не буду описывать подробно весь этот вечер, когда я сделался гостем своих новых друзей — священника отца Ивана и его семьи: боль умиления переполняет мое старое сердце, и я боюсь, что оно не выдержит…
Я начал быстро поправляться. Обе старушки, жена и сестра отца Ивана, были внимательными и ласковыми сестрами милосердия. Маленькие мальчик и девочка, дети умершего сына моих друзей, часто играли на моей кровати в ногах. Вечерами присаживался ко мне мой друг, и мы разговаривали. Разговаривали не столько словами, сколько жестами и сердцем. О, прекраснейший из всех языков человеческих — язык сердца!
Однажды ночью мы все были разбужены страшным стуком. Оказывается, кто-то бросил в окно камень. Толстая деревянная рама была разбита, большой камень упал около кровати детей. Мы все сильно перепугались, особенно маленькая девочка. Я узнал только впоследствии, что мои хозяева пострадали из-за меня: народ мстил им за то, что они укрыли у себя французского священника.
Когда я начал выходить из комнаты, я прежде всего пожелал посетить храм, где служит мой друг. Это было деревянное узенькое старое строение, перегороженное высокой стеной почти пополам: в одной половине находился престол, а в другой были молящиеся. Я стоял около престола. Когда мой друг приобщился, он подошел ко мне и спросил, не желаю ли я принять Тело и Кровь Христовы? Я ответил, что желаю, но меня мучает совесть, так как я католический священник. Он спросил:
— Веруешь ли, брат?
— Верую, брат, — сказал я.
Он подвел меня к престолу, и я с великим благоговением вкусил Святого Хлеба и Святой Крови.
После литургии я попросил отца Ивана показать место, где похоронены мои несчастные товарищи. Он повел меня на кладбище. Здесь, около забора, среди замерзшей прошлогодней травы, был насыпан холм, и на нем стоял маленький деревянный крест. Мы оба склонились на землю и помолились об упокоении почивших…
Этот день сблизил меня еще больше с моим новым дорогим другом.
Меня сильно стесняло, что я, большой, рослый человек, живу у моих хозяев даром, тем более, что я видел, как малы их достатки и как тяжело они трудятся все время. Я попросил отца Ивана дать мне какую-нибудь работу. Он задумался и спросил, что я умею делать? Увы, я ничего не умел! Видя мое смущенное лицо, он сказал, что работа мне найдется, как только научусь хорошо говорить по-русски. А пока, если я хочу, я могу помогать им по хозяйству — например, ходить за лошадью: старушкам это трудно, а ему самому некогда из-за дел прихода. Я, конечно, с радостью согласился.
Каждый день утром и вечером я водил лошадь поить на маленькую речку. В это время здесь обыкновенно поили лошадей местные крестьяне. Встречаясь с ними, я кланялся, они отвечали. Сначала мы чуждались друг друга, но потом привыкли и иногда даже разговаривали.
Раз один мужичок, видимо в душевной тоске, поведал мне о своем горе: жена у него лежит без памяти! Я спросил, какая у нее болезнь? Мужик не знал. Желая принести больной хотя маленькую пользу, я попросил его повести меня к себе. Он охотно согласился. Больная, оказывается, действительно сильно страдала. Я осмотрел ее и пришел к заключению, что у нее тиф. У нее был тиф, а около нее стояла тарелка с мелко накрошенными солеными огурцами, и жажду она утоляла кислым деревенским квасом! Я приказал не давать ей есть и пить до завтрашнего дня и пообещал зайти утром.
Когда я возвращался домой, я сожалел, отчего со мной нет моей аптечки из трав, которые я собирал когда-то на горах около своего монастыря!
На другой день я опять был у крестьянина, как обещал. Больная лежала в забытьи. Крестьянин признался, что не утерпел и ночью дал больной кружку квасу! Я рассердился и заявил, что сам буду сторожить больную. Это мое дежурство около больной — точно кошмарный сон. Сколько я пережил! В течение трех недель я переходил от отчаяния к надежде и от надежды к отчаянию. Наконец, кризис миновал. Я сказал крестьянину, что жена будет жива, и тотчас повалился на нары и заснул, как убитый. По селу пошли слухи, что я спас от смерти больную. Ко мне начали приходить с разными болезнями. Неожиданно работа у меня нашлась.
IV
О войне мы знали немного. Еще до заморозков мужики говорили, что русские оставили без боя Москву и французы расположились в ней на зимовку. Настроение мужиков было угнетенное. Именно тогда был брошен камень в окно избы отца Ивана.
В январе было получено известие, что французы покинули Москву и бегут обратно по той дороге, которой пришли из своей страны. В это время я был уже лекарем, и мне приходилось нередко замечать, как в моем присутствии торжествующее лицо мужика деликатно принимало обычное выражение — ведь в их глазах я был, прежде всего, французом.
Прошло еще полгода. Отец Иван ездил в город и привез самые последние известия: война окончена, Наполеон заточен, пленных высылают обратно, на родину.
Село на радостях шумело и пело целую неделю.
Я же начал собираться в дорогу.
Я прекрасно помню день своего отъезда. Когда мы с отцом Иваном вышли из церкви, на площади толпился народ. При виде нас все сняли шапки. Я был глубоко растроган. В последний раз вошел я в дом моих друзей и принял угощение. Маленькие дети, глядя на меня, плакали. Милые голуби!
Трапеза окончена. Мы молимся и выходим на крыльцо. Около ворот стоит крестьянская телега, запряженная пегой худенькой лошадью. В последний раз целуюсь я с моим другом, прощаюсь с его семьей, кланяюсь низко крестьянам и сажусь в тележку.
Отец Иван наклоняется к моему уху и шепчет:
— Бога ради, простите, брат, но в ваш молитвенник я положил две ассигнации — в дороге пригодятся!
Я ничего не вижу от слез, застилающих мне глаза.
Я снимаю шляпу и шепчу:
— Ах, Боже мой! Ах, Боже мой!
Телега трогается.
V
Бьют часы на монастырской башне, и бой их бесконечен, как бег солнца по своему кругу. Все отходят под этот бой к Богу: трава, спелые плоды, люди, события…
Давно прекратилась война. Великий император французов недавно умер как пленник, на голой пустынной скале в открытом море. Я имел духовное утешение два раза быть в Риме…
Но на земле я чувствую себя, как вставший из гроба мертвец: все незнакомое, все чужое! Окно моей кельи выходит на гладкую глухую стену часовой башни. Я знаю на ней каждую извилину, каждый маленький бугорок. Моя молитва в частых упражнениях сократилась до самых нужных слов: «Слава Тебе, Боже!»
На монастырском кладбище я давно вырыл себе могилу и обложил ее камнем. Утром и вечером я люблю ходить к ней, сесть около и думать, как я здесь буду лежать до трубы Архангела.
Чем ближе к осени, чаще и чаще золото летнего дня тускнеет под дождем, и стелется туман. Моя осень близка — болезни держат меня подолгу в постели. Когда я лежу так одиноко, среди молчания, вся моя жизнь проходит предо мной, точно древний свиток, испещренный черными буквами. Мне страшно читать в одинокой комнате этот свиток: буквы для меня — точно тяжелые железные вериги. Раз днем я заснул. И мне приснилось, будто я перебегаю свою жизнь, как всегда, и темный ужас нападает на меня. Вдруг отворяется дверь, и входит отец Иван. Я очень обрадовался и кричу:
— Дорогой брат! Как ты пришел сюда?
— Я услышал, что ты болен, — ответил он, садясь рядом на табурет.
— Боюсь, что скоро я явлюсь пред лицом Бога, — сказал я, — а свиток моей жизни исписан черными буквами.
Но он посмотрел на меня скорбными глазами:
— Христос милосерд!
«Христос милосерд», — в первый раз подумал я, чувствуя, что эти слова его в моем сознании, точно роса, павшая на выжженную степь.
Он скоро собрался уходить.
— Посиди со мною еще, милый, милый брат!
— Надо идти. Паства ждет. Я буду приходить к тебе, — ответил он.
Я проснулся. На душе было легко.
И стал он часто приходить ко мне во сне. Войдет, присядет на табурет и смотрит на меня скорбными глазами.
— Брат мой милый! — сказал я раз в одно время. — Вот, ты трудишься, ходишь ко мне. Я же не могу пойти к тебе. Я болен.
— А ты потрудись, — загадочно сказал мой гость, — потрудись, брат мой во Христе!
— Ведь дорога к тебе далека! — сказал я.
— Далека, — согласился он.
— И селение твое убого и незаметно!
— Убого и незаметно!
— И я забыл язык твоей родины!
— Ты потрудись, — повторил он.
Проснувшись, я пошел к настоятелю и рассказал ему о своем сне. Настоятель был мудрый старец, соединявший в себе возвышенное богословие со знанием человеческого сердца. Он сказал мне:
— Не противься видению. Тебя зовет Бог!
На другой день я покинул свой монастырь, направляясь в далекую страну. Не скрою: тревожные мысли волновали меня. Я думал: «Отец Иван был древен годами и теперь, быть может, уже отошел к Господу. Я тоже дряхл и одержим болезнями, я могу внезапно упасть на дороге и умереть без покаяния. Наконец, я почти не знаю русского языка. Как я буду отыскивать в огромной стране маленькое село, где служит мой собрат?»
Эти мысли были тяжелы, как тучи на небе осенью.
Перешел я границу и благословил новую страну прекрасным именем Иисуса.
Мое путешествие было трудно, главное, — я не знал языка! В довершение всего, на одном переходе меня захватил дождь. Я промок и сразу изнемог так, что не мог идти дальше. Меня подобрал проезжий торговец и привез в больницу маленького городка. Вот, я нахожусь здесь уже месяц. Сейчас у меня одно развлечение — писать эти убогие строчки.
Сейчас весна. Ручьи журчат, точно трубы, хвалящие Господа. Теплый ветерок доносится до меня через открытое окно. Я забылся в легком сне. И вдруг, как в монастыре, открылась дверь и вошел отец Иван.
— Идешь, брат мой милый? — ласково спросил он.
— Иду, — ответил я радостно.
— Иди. Мы все ждем тебя!
Когда я проснулся, я почувствовал смертельную усталость. И вдруг я понял, куда зовет меня отец Иван.
«Скоро смерть!» — подумал я.
На душе стало радостно! «Мы скоро увидимся с тобой, мой милый далекий собрат!..»
* * *
На рукописи сделана приписка другой рукой:
«Помер 3-го апреля сего 1824 года. По выдаче полицейского разрешения, похоронен сбоку кладбища, рядом с сапожником Гаврюшкой, помершим скоропостижно от водки… Судя по обличью, покойник был естественный немец.
Штаб-лекарь Михайло Фролов».
Великое…
Рассказ Р. К. Усть-Медведицкого
За горами, за долами, за дремучими лесами есть уездный городок Царанов, в нем газета «Царановская жизнь», а в газете заведующий городской хроникой — Федор Иванович Туников.
Во дни молодости Туников скитался по всей России, как парус в море, но попал в Царанов и здесь осел — женился, облысел, потерял жену и в минуты меланхолии заблаговременно выбрал себе место на новом кладбище под зеленой шумящей липой… И кажется, он не мог уже представить себя в другой обстановке — где-нибудь вдали от этих просторных светлых улиц, то зияющих грязными недрами, то засыпанных сухими белыми снегами.
Талант его был несколько жестокий, насмешливый, за который его знали в городе очень хорошо и который принес ему друзей и особенно врагов. И последними он гордился более, нежели первыми, так как был честен и искал от своей профессии не выгод и друзей, а истины, и врагами своими исчислял свои добрые дела и заслуги перед Родиной и человечеством.
И так прожил он в своем городке век газетного работника и склонился к закату: побелел и в появившиеся бессонные ночи стал испытывать какую-то странную неопределенную тоску.
«Чего мне недостает?» — в тысячный раз спрашивал он себя в такие ночи. И под утро, измученный, смутно чувствовал, что ему недостает чего-то такого, что берет у старого сердца не желчный плевок, а теплую умиленную слезу. Недостает того, что на языке человеческом называется «великим»…
И начал он уединяться от городской жизни, как старый лев, поднимающийся перед смертью в одинокую горную пещеру. И в уединении стал перебирать, как бледный послушник стучащие деревянные четки, дела и дни свои — в поисках того последнего, к которому хотелось жадно прильнуть, как истомленный путник в пустыне к журчащей влаге.
Но тщетно — «великого» не было в его жизни!
В смятении духа бросал он невидимые гремящие четки и прилипал красными глазами к окну: не в текучей ли жизни спасение от быстро растущего, как тень после полудня, страха смерти? Но в окна виднелись закопченные фонари да унылые редкие фигуры обывателей. И в жизни этого заброшенного городка, похожего на остров в пустынном море, не было избавления его потревоженной душе!
* * *
Однажды, когда он сидел так, в своей пещере одиноких старых строгих мыслей, зашел старый приятель, редактор Бабанин, и пригласил прогуляться до земской больницы, где лежала его больная жена.
Туников угрюмо спросил:
— А не грязно ли за городом?
И, узнав, что нисколько не грязно, и вечер как на заказ, буркнул:
— Что ж, пойдемте!..
Вечер был хорош: за заборами пахла невидимая распускающаяся ситцевая сирень, и зеленовато-фиолетовое небо было похоже на обнажившееся дно моря. И чувствовалось в воздухе, что где-то в березовом лесу, у озер, набухают на тонкоствольных былинках белые ландышевые шарики…
В больнице сказали, что в женском отделении сейчас консилиум и придется обождать. В маленькой, пахнувшей карболкой приемной сидело несколько человек: штабс-капитан в мундире с синим воротником, нотариус Фелицын и три студента.
— Ба! Знакомые лица! — вскочил нотариус с диванчика. — А мы с штабс-капитаном узнали, что Марья Ивановна больна и решили посетить ее… Что она? Не опасно?
— Доктор говорит — пустяки, — ответил Бабанин.
— И отлично! А я тут повествую последний городской анекдот… Знаете ли вы, милостивые государи, кто написал в «Губернские Ведомости» о некоторых пикантных обстоятельствах жизни нашего городского головы?
— Кто? — насторожился Бабанин.
Городская молва считала автором нашумевших корреспонденций редактора «Царановской Жизни».
— Писал сам голова!
— Иван Анисимович? — пролепетал Бабанин.
— Врешь, Вася! — хрипло выкрикнул Туников.
Но глаза его ожили и были, как два ястреба, завидевшие с высоты добычу: он чуял тему для злого фельетона.
— Ей-Богу… — как мальчик перекрестился Фелицын. — Я докажу, так сказать, с фактами в руках… Это целая история во вкусе Конан-Дойля, как мне удалось раскрыть хитроумную интригу головы против своей супруги…
— Супруги? — недоумевая, протянул редактор.
— Супруги, — твердо повторил рассказчик. — Иван Анисимович в думе — орел, а дома — курица.
— Это как водится, — вздохнул штабс-капитан.
— Здорово, Вася! — в восхищении потрепал по колену рассказчика оживший Туников.
В это время открылась дверь из палаты, и сторож Иван сказал, что в палату можно, но ненадолго, в виду тяжелого состояния одной больной.
Подойдя к студентам, сторож добавил что-то тихо, глядя на них соболезнующе. Студенты с самой Пасхи ходили каждый день к той самой больной девушке, о которой был консилиум.
Студенты встали и застучали тяжелыми каблуками по белому холстинному половику.
За ними двинулись наши приятели.
Когда поздоровались с больной Марьей Ивановной, Туников попросил нотариуса продолжать рассказ.
Тот продолжил:
«В результате своего негласного расследования, я убедился, во-первых, что уволенный из городского ломбарда оценщик Гаврилов не мог быть автором корреспонденций, и, во-вторых, что тайна корреспонденций кроется в недрах семейной жизни самого головы!
Путем опроса рассчитанной горничной Даши удалось установить, что в августе прошлого года у головы вышел с супругой серьезный разговор из-за того, что как-то после обеда кухарка выбросила содержимое помойного ведра около балкона… Голова как раз сидел на балконе в своем халатике, когда кухарка разбрасывала в живописном беспорядке арбузные корки.
— Как ты смела, негодница!
— Барыня разрешили, потому до помойницы далеко, а корки свиньи подберут.
— Как свиньи, раз есть Думское постановление о выгребных ямах?
Баба, конечно, выпучила глаза и молчит.
Он к барыне. А та:
— Глупости, — кричит, — глупости. Повадился в своей Думе!..
Обратите внимание, господа, на простую хронологическую последовательность: случилось это в конце августа, а 3-го сентября в “Губернских Ведомостях” появилась первая корреспонденция об антисанитарном состоянии двора городского головы!».
— Врешь, Вася! — хрипел Туников и смотрел на рассказчика невидящими зачарованными глазами.
Этими глазами сейчас он видел другое: Иван Анисимович на балконе, после обеда, в халате; глупую толстую бабу с помойным ведром; разбросанные арбузные корки…
В это время около койки, где стояли студенты, послышался разговор.
— Валя, проснулась? — осторожно спрашивал один из студентов.
— Поправишься, — продолжал тот же бережный и напряженный голос через короткий промежуток. — Надо будет отдохнуть после болезни. А осенью и будешь держать экзамены. И Галя, должно быть, осенью будет держать. Она пишет, что готовится мало — московское солнце мешает! И будем мы осенью опять своей компанией на Бронной, будем дежурить у художественного театра, в Новодевичий, к Чехову пойдем…
— Валя, Валя!.. А мы думали, что ты заснула… Что, тебе плохо? А о тебе справлялась твоя сестра из Калуги, — мы ей писали о твоей болезни. Пишет, что ты гордый, упрямый человек, да, да, честное слово! Я письмо покажу. Но что тебя жалеет и, если надо, вышлет немного денег, но немного, так как у самой муж нездоров и должен летом ехать на Кавказ, и дети учатся…
— Надо думать, что понравился нашему голове этот способ воздействия на жену путем периодической печати, потому что вслед за первой корреспонденцией появляется вторая! И обратите внимание, господа, на извивы человеческой психологии — как нарастает дерзость этого своеобразного домашнего революционера! Сначала — антисанитария. Дальше — костюмы городских дам «несколько нескромные», причем толстый намек на головиху и ее последний костюм. И мы вправе ожидать от таинственного корреспондента новых, более грандиозных откровений. Действительность оправдывает наши ожидания…
Какое-то невидимое замешательство пробежало по палате, как ветер по листве из-под надвинувшейся тучи. Чей-то старушечий испуганный голос крикнул из темного дальнего угла:
— Сестрица!
Прежде других обратила внимание на замешательство больная Мария Ивановна, потом ее муж.
— Погодите, Василий Осипович, — тронул рассказчика за рукав Бабанин, — там что-то случилось.
— И вот появляется третья корресп…, — нотариус остановился на полуслове и взглянул туда, куда показывал Бабанин.
За ним потянулся зачарованными глазами Туников.
— Божья воля, — тихо сказала в это время около койки больной девушки сестра и перекрестилась…
Проклятое дитя
Рассказ В. Янг
Тихо шумели деревья большого, темного леса, точно рассказывали сиявшим над ними голубым, чистым небесам неведомую никому, кроме них, диковинную историю; колокольчики, росшие вдоль чуть заметно пробивавшейся через чащу тропинки, в одном внимании склоняли до самой земли свои лиловые головки. Тропинка шла из убогой деревушки, отстоящей верстах в пяти от села Покровского, расположенного на берегу живописного, большого озера, носившего название Лазурного, за свой необыкновенно прозрачный и чистый цвет бирюзовой воды, отражающей небеса во всем их великолепном, чарующем величии. К этому Лазурному озеру медленно и осторожно шла молодая женщина, боясь оступиться, чтобы не уронить дитя, которое она несла на руках. Ребенок ласково и доверчиво держался обеими своими малыми ручонками за ее шею. Издали можно бы подумать, что мать и дитя, столько нежности во всей позе и во всех движениях взрослой, маленькой фигурах, на самом же деле женщина с вдохновенным лицом, сиявшим необыкновенной добротой, была женою сына священника отца Михаила, Ивана Михайловича, окончившего духовную академию и готовившегося так же быть священником. Дитя же, которое несла матушка, был прелестный мальчик с кудрями, сын умирающей крестьянки из деревушки, из которой она только что вышла по неторной тропинке, пролегавшей через лесную чащу. Елена Николаевна, как звали молодую женщину, пять месяцев назад была повенчана с Иваном Михайловичем, который привез жену познакомиться с ее свёкром и вместе провести лето в родном гнезде.
Кое-что еще манило его в родные края, кое-что было нужно ему устроить, но пока он не знал, как лучше за это приняться. Дело было мудреное, трудное, страшное. Иван Михайлович ходил последнее время сумрачный и молчаливый, почти не обращая внимания на молодую жену. Редко удавалось ей вызвать на лице его улыбку. Расспросы же жены причиняли ему невыносимое страдание. «Тут что-то есть», — думала Елена Николаевна, — что-то тяжкое, трудное. Надо помочь». И она начала осторожно, с тактом, присущим только любящему сердцу, доискиваться настоящей причины грусти и озабоченности мужа. Судьба ей помогла, и простой случай открыл все. По приезде своем к свекру, Елена Николаевна быстро заслужила любовь крестьян своим сердечным к ним отношением, простым и милым душевным к ним обхождением. Бывало в ранний час утра, шла она по росистым тропинкам, с нагруженными чем-либо руками, смотря по обстоятельствам: либо одеждой какой, лекарством, но чаще съестным для бедной, вечно недоедающей и голодной детворы, заворачивая то в ту, то в другую деревеньку, где больше всего, в данную минуту, была потребность в ее присутствии.
* * *
Чуть первые лучи яркого летнего солнышка показались над горизонтом, молодая женщина торопливо вскочила со своей теплой постели. Быстро, быстро оделась, собрала все нужное и тихонько, боясь разбудить домашних, вышла на улицу. Золотое солнышко осветило ее целым снопом своих теплых розовых лучей, заставив ее зажмуриться. Прекрасная, радостная улыбка какого-то неземного счастья засияла на ее красивом лице и, поставив на землю корзиночку с провизией и лекарством для больной крестьянки, она, в невольном порыве молитвы, опустилась на колени и, подняв глаза к небу, сиявшему над нею глубокой, прекрасной лазурью — точно видя в этой красоте утра Самого Творца вселенной, — с восторгом прочла она «Отче Наш». Несколько секунд, не меняя позы, оставалась она в немом созерцании величия Божия. Затем, положив глубокий земной поклон, встала и торопливо направилась через густую чащу благоухающего леса, под славословящий гимн пичужек, к убогой деревушке, где в полуразвалившейся избе умирала молодая женщина от страшной, беспощадной, разрушающей ее болезни — чахотки.
Сильный приступ кашля встретил, вместо приветствия, Елену Николаевну. Миловидный, лет двух, ребенок с белокурыми, вьющимися волосами, здоровенький, пухленький сидел посреди грязного пола, беззаботно играя в щепочки.
Увидев вошедшую, мальчик потянулся к ней… — Тетя, тетя, на ручки… лепетал он, протягивая свои пухленькие ручонки и радостно улыбаясь, предчувствуя полное удовлетворение своей детской просьбы.
Но на этот раз мальчику пришлось разочароваться. Добрая тетя, высоко приподняв его, расцеловала его розовые, неумытые щечки и быстро опустила на пол, на время забыв о его существовании и всецело отдав себя заботам о больной. Приведя, насколько было возможно, в порядок туалет больной и, разгрузив корзиночку с провизией, она налила ей свежего парного молока, которое больная с жадностью выпила, решительно отказавшись от чего-либо, более твердого съестного. Голодный мальчуган, с жадным любопытством следивший за происходившим, наконец, не выдержал и требовательно обратился к Елене Николаевне:
— Тетя, а Мише? Миша хочет молочка.
И Миша получил и молочка, и пирожка, и даже сладкий пряник в придачу и, присмирев, принялся уплетать свою порцию за обе щеки.
Елена Николаевна решила добиться у больной причины ее безысходного горя, приведшего к тяжкой болезни и заставившего проклинать единственного, хорошенького, как ангел, сынишку и упорно отказываться от предложения принять напутственное причастие.
— Доверься мне. Ты же видишь, как я люблю тебя, доверься мне, и не будешь так ужасно страдать. Ты облегчишь душу, что случилось с тобой? Что произошло в твоей жизни такого, нестерпимо ужасного, заставляющего тебя даже отказываться от Святых Даров?
Наташа озлобленно взглянула на говорившую. Лицо милое, доброе, красивое дышало таким близким сочувствием. Прекрасные глаза сияли таким настоящим светом, что Наташа не выдержала, горькие, но облегчающие слезы потекли из ее глаз, и она рыдала, как ребенок.
Елена Николаевна успокаивающим движением гладила Наташу по ее темной головке и, мало-помалу больная успокоилась, попросила приподнять ее на подушках и начала:
— Мне жаль, моя добрая, огорчать тебя. Но ты так добра и мне осталось так мало жить, что я скажу тебе, как на духу, вместо священника, свое отчаяние, потому что священник проклял меня и проклял дитя мое, когда оно еще было во мне. А когда я, в страшных мучениях, произвела его на свет, то сама прокляла дитя.
Наташа снова горько зарыдала. Оправившись, она опять продолжала:
— Я любила твоего мужа. Любила горячо, страстно, до самозабвения. И он говорил, что любит. Он хотел жениться, сказал отцу, но батюшка страшно рассердился. А когда узнал, что я должна произвести на свет ребенка его сына, то проклял и меня, и будущего малютку. А муж твой, убоявшись проклятия отца, отрекся от меня. Вся деревня от меня отвернулась, боясь гнева священника и, вот, я осталась совершенно брошена и одна-одинешенька. Работу крестьяне боялись мне дать и я, еле волоча ноги, ходила из деревни в деревню, выпрашивая корку хлеба, во всякую погоду, и в снег, и в дождь. Здоровье не выдержало, и вот через два года я уже обратилась в живой труп, и ты хочешь, чтобы священник, который проклял меня, пришел ко мне со Святыми Дарами напутствовать?
Приступ сильного кашля прервал ее разговор, и кровь алым потоком хлынула из горла. Елена Николаевна сидела бледная, как полотно, лицо строго сосредоточено, только глаза светились с теплым состраданием на больную.
— Успокойся, постарайся заснуть. Ты так страшно мучилась, что грех твой искуплен и проклятие снято. Благослови сына твоего, я его возьму себе. А сегодня, к вечеру, ты причастишься Святых Тайн и перестанешь страдать.
* * *
В большой просторной горнице, с растворенным настежь окном, из которого открывался великолепный вид на зеленые, волнующиеся зрелым хлебом поля, залитые горячим летним солнышком, под куполом теплых голубых небес, утопая в лазури которых заливался звонкой песней жаворонок.
При каждом дуновении ветерка врывалась в горницу волна ароматов цветущего под окном шиповника, которую, с видимым наслаждением, полной грудью вдыхал отец Михаил, сидевший у большого стола, перед раскрытой священной книгой. Его седые волосы серебрились под пробивавшимися сквозь листву деревьев золотыми лучами солнца. Хотя книга, лежавшая перед ним, и была открыта, но глаза священника задумчиво глядели куда-то вдаль.
— Жена знает? — спросил он, не поворачивая головы, сына, ходившего, как маятник, из угла в угол, внимательно отсчитывая шаги, как будто он задался целью непременно измерить площадь, занимаемую комнатой.
— О, нет. Я не могу решиться на это, — отвечал он, наконец, присаживаясь в более отдаленный от окна угол, точно стыдясь дневного света. Батюшка всем корпусом обернулся к нему.
— Виделся ты с ней?
— Нет еще.
— Что же ты думаешь предпринять? Сегодня нужно сказать Елене все. Она поймет, простит и поможет.
Говорят, Наташа при смерти, ребенок остается один.
— Что же? — спросил, хмуря брови священник. — Взять бы хотя, — нерешительно как-то уронил Иван Михайлович.
— Я проклял его и прокляну так же всякого, кто возьмет его, — раздраженно сказал отец Михаил. — Неужели ты не понимаешь, какой это будет великий соблазн для паствы. Ты, будущий священник, и, вдруг — с прошлым. В это время на пороге появилась Елена Николаевна. Умытый и приодетый, как херувим, хорошенький мальчик весело улыбался, доверчиво сидя у нее на руках. Горячая краска вместе и смущения, и радости залила будущего священника. Он понял все, и смутная надежда на успех пробралась в душу. Отец Михаил строго взглянул на невестку.
— Что это?
— Это дитя твоего сына. Это дитя бедной, всеми отвергнутой, умирающей крестьянки, которая ждет тебя, чтобы ты снял с нее ужасную печать проклятия, преграждающую ей свободный вход в Царствие Божие. А это дитя — твой внук, прими его.
— Я проклял дитя и того прокляну, кто признает его своим.
— Не проклинай, отец, невинного ребенка. Он проклят был в зачатии своем, он проклят был в рождении, он проклят и в недолгой жизни своей. Не проклинай того, о ком сказал Спаситель: «Сих есть Царствие Небесное. Кто примет одного из малых сих, тот Меня примет. Аминь».
Священник взглянул на невестку.
Лицо ее дышало строгим вдохновением, прекрасные глаза сияли небесным светом. Ее золотые волосы, как корона, обрамляли красивую головку. Во всей ее фигуре было какое-то неземное величие.
Старик был смущен.
У Ивана Михайловича текли обильные слезы.
— Отец, прости…
Все, что он мог сказать.
Елена поднесла к старику младенца, и тот, широким крестом осенив малютку, проговорил:
— Да будет воля Твоя, Господи.
А затем взял на руки и поцеловал.
* * *
К вечеру несчастная Наташа, благословленная простившим ее отцом Михаилом, исповеданная и причащенная Святых Христовых Тайн, тихо отошла в тот прекрасный мир, где нет болезней и печали.
Троичные березки
Родная быль В. П. Лебедева
I
Троицын день в 1642 году приходился на 29 число мая месяца. Старая богомольная Москва, с богоизбранным, благочестивейшим царем и великим князем Михаилом Федоровичем, радостно готовились к встрече светло-весеннего праздника, который наставал в яркой зелени юной душистой листвы, в аромате пестроцветных весенних цветов.
Собирался богомольный люд московский идти в Кремль — глядеть, как великий государь пойдет в троицын день к обедне в собор Успенский…
Выйдет царь-государь в «большом наряде», а за ним «в золотых ферязях», ближние бояре, а перед его царским величеством — стольники особо понесут «веник цветочный» — целый сноп душистых цветов весенних, а под тем веником — густо-густо насыпан будет свежий зеленый «лист троичный», все больше — березовый, без стеблей и сучков…
И как отпоют в соборе обедню, как начнется «вечерня троицкая», поднесут ключари соборные благоверному государю и великому князю от просветителя Московского — такой же свежий душистый «лист троичный». И смешают тот и другой лист, прибавят всяких трав пахучих: цветов алых, желтых, лазоревых, туда же положат…
И царское место, соборное плотно-плотно, часто-часто усыплют той мешаниной, и окропят дорогой «водкой гулифною», что из розового цвету в аптекарской палате выгоняется… и когда будет творить царь-государь коленопреклонение, станет он на тот лист троичный и будет на нем истово, степенно поклоны бить… И благоговейно будет смотреть московский люд, как государь и великий князь за троицкой вечерней «на листу лежит»…
Так из седой старины ведется. А пойдет государь из собора в свои палаты царские — понесет перед его царским величеством ближний стольник тот — «веник цветочный», как и сюда идучи нес. Испокон веку так велось на Руси, и не при одном лишь дворе царском, не в одном пышном соборе Успенском.
По всей земле московской, во всех храмах городских да сельских в светлый праздник весенний на троичном листу молитву творят, поклоны бьют; православный люд везде свежие цветы пахучие в церковь Божию в дар Богу несут.
II
Издавна подмосковное красивое село Коломенское излюблено было великими князьями московскими. И было за что любить те места привольные, красы полные. Среди бархатно-зеленых пойменных лугов, словно нежась в шелковой мягкой траве, в свежей душистой тиши прохладных дубовых, кленовых и березовых рощиц, — лежало оно на самом берегу Москвы-реки и отражалось в синей спокойной, тихо, плещущей глади речной. Облюбовал село Коломенское еще блаженной памяти, великий князь Василий Иванович: воздвиг там богатую, красивую церковь Вознесения и казны на новый храм не жалел… По сказаниям летописцев, была та церковь «вельми чудна высотою и красотою и светлостию»; великий князь — родитель Иоанна Четвертого, Васильевича Грозного — «Возлюби ю и украси всякою добротою».
И Грозный царь не меньше любил красивое село подмосковное, и он Божий храм соорудил от избытка своего — Дьяковскую церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи; в августе 29-го дня, в день ангела своего, всегда наезжал царь Иван в Коломенское, обедню стоял, потом пиром тешился со своими боярами и любимцами в хоромах коломенских, прихотливо и пышно украшенных. Воцарился на Руси Михаил Федорович Романов — и он возлюбил свое поместье Коломенское. Два года назад, в 1640 году, поставил он здесь новые хоромы царские; 17 сентября в них новоселье справил… Накануне Троицина дня и в храмах, и в палатах коломенских большая суета была. С утра наехал из Москвы ближний боярин царский Василий Петрович Шереметьев, а с ним стольник Алексашка Левонтьев.
Обошли они во дворце царском все подклеты, повалушки, вышки, чердаки, сени да переходы; потом протоиерея дьячковского отца Корнилия позвали, долгий с ним совет держали.
— Тако и сделаем, — молвил Шереметьев, кончая беседу. — На самой-то Троице государь вряд ли будет… Однако, весь убор церковный, лист и цвет троичный, по обычаю, изготовить надобно… Ты своих причетников да пономарей не тревожь, отче Корнилий. Тут при дворце в истопниках парень поставлен — шустер и сметлив. Он все «обладит». А я ему доподлинно накажу.
Одернул боярин, поправил лазóревую[15] однорядку[16] атласную с шитым воротником жемчужным, проводил протоиерея на крыльцо и крикнул зычно:
— Подать сюда Лужина Наумку. Тот же час чтобы был. Есть ему, холопу, мой наказ боярский.
Заметалась челядь дворцовая: мигом предстал перед властным боярином русокудрый, синеглазый молодец, поясной поклон чинно отвесил, очи робко потупил.
— Слушай, Наумка, наказ мой. Наутро, как рассветет, коня спроси добротного, телегу уемистую, поезжай за Поречные луга в Красное угодье, там березняку молодого вдоволь. Набери цвету всякого духовитого, а пуще всего — листу троичного… С березняка лучше собирай, что посвежей, да помоложе. Ранешенько привези все отцу протоиерею для убранства церковного. Смотри же, все обладь хорошенько. Буду на тебя в надежде. Снова в пояс поклонился молодой истопник. Боярин в хоромы ушел. Еще много у него было забот и хлопот.
III
Росы алмазные сверкали на пойменных лугах коломенских. Навстречу красным лучам восходящего солнышка раскрывали лепестки цветы луговые: белые, алые, синие, желтые, фиолетовые; первым вздохом душистым встречали они зарю ясную, праздничную. А вдали зеленели рощи молодняка лиственного, где росли вперемежку липки, клены, дубки, березки, осинки. Гнедой добрый конь с конюшни дворцовой легко вез телегу тяжелую, длинную, истопник Наумко Лужин торопливо подгонял коня вожжей ременной; прохладный ветерок утренний обвевал его лицо; с кустов капали капли, и брызги росы серебряным частым роем летели. Ни облачка не было на темно-голубом, мягком и прозрачном куполе небес радостных, весенних… Денек наступал погожий… Мало-помалу перестал Наумко Лужин коня подгонять — загляделся на приволье-красоту весеннюю, залюбовался, задумался. Словно в душу самую, в сердце молодое скользнули ему молодые лучи солнца красного, весеннего; обдали теплом, светом, радостью яркие заиграли зеленью изумрудной, свежей, душистой, томление сладкое, сладкая нега весенняя охватили, опьянили молодого истопника.
— Эх, вы, цветики лазоревые, алые, — шептал он про себя, — пестреете вы, красуетесь под солнышком ласковым. Эх, ты, травушка-муравушка шелковая, серебришься ты росою жемчужною… Эх, вы, листики свежие, — моложа зеленая… Сладко вам под ветерком шелестеть, под лучом утренним блестеть, нежиться… Ох, вы, луга поемные, гладкие, неоглядные… Ох, ты, реченька синяя, белопенная… Сладко с вами дышится, сладко глядится-думается… Краса вешняя, духовитая, ясная.
Даже слеза горячая прошибла молодца на приволье весеннем. И не стал утирать ее Наумко Лужин.
Мягко стучали колеса грузные по дороге узкой, заросшей, что змейкою бежала округ лугов зеленеющих. Развалистым, неспешным ходом шел добрый конь, пофыркивая, вздрагивая, косясь на кусты придорожные, алмазной росой, словно дорогой подвязью, осыпанные…
Вот рощицы молодые пошли по сторонам; чем дальше, тем рослее и гуще деревца, свежие, изумрудные… Красота-загляденье кругом; не оторвешься взором. Лучи красноватые, низкие, зелень светлую, что стрелы огненные пронзают друг за другом, спешат, дробятся, на росистых веточках искрятся-переливаются… Там и здесь уголок укромный, тенистый, темный попадается; да недолго в нем тень прохладная лежит-сумерничает; подкрадется ясное, красное солнышко и зальет луговину-проселину живым золотом… Все жарче и жарче становится, а запахи сладкие, медовые так и льются и так и веют-расходятся… Знай, дыши себе — ненадышишься…
Доехал Наумко Лужин до Красного угодья… Подлинно красен лесок молодой, ровный, чистый, кудрявый… И все-то березки белоствольные, словно красные девицы в уборе праздничном.
Разгорелись-разнежились молодые листики березовые: сверху глянцем горят, снизу беловатым, мягким пушком пестрят… Одна с другой тихо шепчутся, шелестят березки-красавицы…
Выпряг молодой истопник коня, в тень поставил. Вынул потом топор, остро отточенный, к чаще подошел, широко размахнулся во всю силу свежую, молодецкую… Раз ударил, другой, третий. Треск пошел по лесу, хрустнуло что-то, словно застонало-охнуло по всему пригреву весеннему.
Три березки-красавицы в густую траву рухнули, и роса светлая каплями, словно слезы крупные, с них полились-заструились. На обрубе сок березовый клейкий выступил; сгустился-застыл под лучами, будто кровь, свежепролитая… И жалобно-жалобно затрепетали-зашевелились листочки молодые, предсмертной истомой охваченные… Умирать да погибать пришло.
Поглядел на срубленные деревца молодой истопник, и сердце у него тонкой болью защемило, и очи застлало дымкой какою-то… тут ветерок дунул сзади — и листы на березках соседних пугливо зашевелились, зашептались между собой, откинулись: гибель свою почуяли.
Еще раз взмахнул топором Наумко Лужин. Вот, вот острие блестящее в кору белую врежется; вот-вот еще деревцо молодое задрожит-охнет, рухнет в траву густую.
Но не опустился топор острый, ослабела рука молодца. Постоял Наумко, сам на себя подивился, рукою по глазам провел. Опять топором взмахнул, зубы стиснув. И вновь не ударило острие по стволу белому.
Бросил топор молодой истопник и шепнул устами дрожащими: «Не могу».
И без сил опустился на траву влажную.
IV
Светло разгорелся Троицин день над селом Коломенским, над расписными вышками, точеными и золочеными теремами дворца царского. Ярко горели купола на церкви Вознесения, на церкви Дьяковской — Усекновения главы Иоанна Крестителя.
Проснулся-зашевелился и весь причт церковный. Расчесал отец Корнилий власы свои густые, елеем их умастил, новую шелковую рясу надел, осенился широким крестом и вышел на резное крыльцо избы своей двухярусной. Глядь — встречу ему бледный, испуганный пономарь Пимен бежит, запыхался весь, растерялся…
— Беда, отче, беда. Чем будем храм Божий украшать? Вот напасть. Вот беда-то нежданная.
— Что приключилось? — вопросил тревожно отец Корнилий, — и видит: стоит у крыльца пустая телега; видит: истопник Наумко Лужин прямо в ноги ему валится — очи словно безумные, речь несвязная, глухая…
— Что ж, ты, молодец, — встревожился протоиерей. — Ничего не привез из лесу. Аль приключилось что?
— Не мог, отче, — лепетал Наумко. — Рука не поднялась дерева губить. Солнышко светит, лист зеленеет… Благодать такая. А я словно душегуб какой стою себе с топором. Не смог, отче. Прости, смилуйся.
— Что за притча, — в изумлении молвил отец Корнилий. — Никак ты, парень, в уме помутился? Идем-ка к боярину Шереметьеву. Сам уже ты боярину ответ давай.
Проведал про случившееся царский боярин — страсть разгневался. Грознее тучи вышел он к истопнику виновному. Посох тяжелый засвистел уже в руке боярской, готов был упасть удар, карающий на ослушника. Но помедлил на миг боярин, вслушался в тихие, жалобные речи молодца испуганного, глянул в его глаза, слезою залитые. И вдруг опал гнев боярский, рассеялась туча, опустилась-дрогнула рука грозная.
— Дух сладкий в лесу-то, — жалобно говорил Наумко. — Солнышко золотом по травке зеленой льется. Березки-то стоят свежие, светлые; листочками дрожат-шепчутся, словно бы живые. А я-то, милостивец-боярин, иду на них с топором, словно душегуб какой… Не мог.
Поглядел еще боярин, послушал, и вдруг улыбка ласковая засветилась на лице его суровом… Махнул он рукою, отвернулся. И безгневно уже вымолвил:
— Пустите его… Не то он блаженный, не то…
Не приискал боярин словечка подходящего. Головою покачал, глубоко вздохнул, опять усмехнулся и уже строго потом наказал остальной набежавшей челяди:
— Пошлите в лес-то кого другого. Не быть же храмам Божиим без листа троичного. Еще успеете привезти. Живо, не мешкайте. Ни мига единого не упустите.
Троицын день
В этот день я ранним утром —
Только вспыхнет грань небес
Предрассветным перламутром —
Убегу, бывало, в лес!
На траве лежу росистой
Средь проснувшихся цветов,
Да внимаю голосистый,
Томный рокот соловьев.
Надо мной стоят березы,
Предо мною — гладь ручья…
В те мгновенья что за грезы
Ты таила, грудь моя!
Я впадал в тот миг душою
В чуткий, яркий полусон…
Мне казалось — надо мною
Льется дивный «красный» звон…
Стали пни берез светлее,
Как парча они блестят;
От цветов встает сильнее
Их кадильный аромат!..
Всё кругом так дышит странно,
Словно всё Кого-то ждет;
И согласное «Осанна!»
В тихом воздухе растет!..
И в лазури безконечной,
Средь плывущих облаков
Властно шествует Предвечный
Царь безчисленных миров!
И, когда промчится мимо
Перелетный ветерок,
Раздается голос Сына —
Грустен, нежен и глубок!
И над мирными полями,
Окропленными росой,
Реет светлыми крылами
Утешитель — Дух Святой!..
Иван Гребенщиков
Пресветлый звон
Рассказ В. Полянского
I
Светлая печаль плывет над землей…
Она коснулась моего сердца еще в Великий четверг вместе с первым ударом колокола к «Страстям» и потом жила в нем, все светлея, все больше и больше заставляя душу трепетать от радостных ожиданий.
Ближе и ближе Светлая радость.
Уходит уже из души скорбь от грустных повествований о Божественных страданиях, от надрывных напевов, вслед за которыми тоже хотелось рыдать, но светлыми слезами, как миро ароматными от печали.
На утрени Великой субботы я шел вокруг церкви за плащаницей с посветлевшим уже лицом. Радостно по-весеннему светило солнце, пахло готовившимися распуститься на деревьях почками, звонко чирикали на крыше и на окнах церкви воробьи, ведь скоро, скоро уже раздадутся радостные благовествования о Воскресшем Христе. Скоро уже черные ризы на отце Алексие сменятся белыми, блестящими, как серебро.
Вот это и свершилось… Слушая Евангелие о женах- мироносицах, пришедших ко гробу Воскресшего Христа, я трепещу уже от преддверия радости и, подобно им, возвращаюсь от обедни домой, храня в душе эту тайную радость, еще не всем ведомую, еще не всех озарившую своим светом, но близкую-близкую для всех. Нужно к ней приготовиться. Времени остается немного, а дел так много у меня. Нужно заняться окраской яиц, нужно освидетельствовать, как зарумянились вынутые из печи куличи, хорошо ли пахнет только что приготовленная матерью пасха. Нужно глянуть на улицу, на весеннее солнце, на журчащие ручьи, поставить на них мельницу. Но нужно также побыть и в церкви — помочь отцу и дедушке с приготовлениями в ней к светлой заутрени.
Я тороплюсь, разбиваю несколько яиц, не оканчиваю начатого дела и, предоставив сестре и старшему брату заниматься окраской яиц, выбегаю на улицу.
Оттуда я спешу в церковь. Двери ее широко открыты: они не будут уже закрываться весь день, весь вечер, всю ночь. Дедушка еле ходит. Ему уже под восемьдесят лет, волосы его стали совсем белы, трясется голова, дрожат руки. Но всю Великую субботу он хлопочет в церкви; часто садится, отдыхает, но за всем следит, указывает, как и что сделать: как снять и повесить паникадила, как нужно их вычистить, куда расставить лампочки.
И лет десять, как только один раз в году он звонит в пасхальную службу. Как звонит! Никто в приходе, даже отец, не может так звонить, как звонит дедушка.
— Вот и Гришуха пришел помогать, — говорит он, встречая меня веселой улыбкой, и ласкает высохшей, дрожащей рукой голову своего любимца.
Гулко гудят шаги по чугунным плитам пола в пустом храме. Блестят вычищенные паникадила, сверкают золотом и серебром новые хоругви. Вот привезли уже и два воза еловой хвои — ею у нас устилают на всю Пасху полы храма. Как волнует мое сердце запах ели, сколько поднимает он в душе светлых воспоминаний!
Помогаю носить хвою и исцарапываю себе руки.
После того принимаюсь за расстановку лампад, но так как в непродолжительном времени успеваю одну из них разбить, то берусь за установку в подсвечники паникадил толстых-толстых, в мою руку, великопраздничных свечей. А вечер все ближе и ближе…
Благостной становится тишина. Расплываются нежные тени, тихо меркнет свет, и в весенних, чутких сумерках плывет над землей светлая печаль, зажигающая в небе яркие звезды.
II
На чистой половине дома все уже по-праздничному. Светятся пред иконами лампады, в слабомерцающем свете их белеют на столах чистые скатерти, видны расставленные куличи, пасхи, разноцветные яйца, и так хорошо пахнет чем-то, раздражающим аппетит два дня строго постничавшего маленького человека… Лучше уйти от великих соблазнов.
Я и дедушка сидим на крыльце. Тише, чем днем, но журчат еще ручьи, ведут свои детски болтливые весенние разговоры и сладко становится на душе от их болтовни, от первых весенних шорохов, что слышатся среди только что развертывающих свои почки деревьев.
Потянет, порой, теплый ветерок, обдаст тогда запахом леса, свежестью и бодростью просыпающихся полей — и грудь сжимается вздохом… О чем? Сам не знаешь и не знаешь, зачем бродит тогда по лицу улыбка, обращенная к далеким полям, к их ласкающему простору.
— Вот, скоро уж, скоро, — говорит дедушка.
Мы ждём, считаем минуты, и, кажется, вместе с нами, в тишине, в мягких сумерках вечера все проникнуто настроением того же ожидания: и затушеванное вечерними тенями село с кротко мигающими в окнах огоньками, и нежными очертаниями вырисовывающаяся рощица, и светлою грустью своею манящее к себе взоры тихое небо.
Тихое, благостное ожидание и в небе, и на земле…
И вот тихая грусть земли соединилась со светлою грустью неба, и понеслась она дрожащими, рассыпающими тихие серебряные звоны волнами над селом, над далью к ожидающему их замирающих разливов небу.
Зазвонили к «Деяниям». Дедушка и я благоговейно крестимся. Дождались. Вот уж и праздник, вот и первый звон пасхальной ночи. И стоим, и слушаем, как с вышины колокольни несется, дрожит, разливается серебром и где-то далеко-далеко в сумраке замирает светлая грусть.
— Эх, колокол. Ну, что это за колокол! — восклицает дедушка, тряся седой своей головой. — Я знаю его…
А это второй после большого колокола. Один так звонит он: грустно-грустно льет дрожащие волны звуков, такие же тихие и с той же радостью, и вместе оба грустью отзываются в душе, как и весенние сумерки. И звон в него бывает только в вечер Великой субботы. Слушаешь и хочется плакать радостными, светлыми слезами. И никогда не забывается потом этот звон.
— А превыше его все-таки пресветлый звон Святой заутрени и обедни, — говорит потом дедушка.
Один раз в году бывает такой пресветлый звон. И ждет его все на земле: и всяк человек, и зверина лесная, и пичужка поднебесная, и трава-былинка, мошка-букашка. Понесется пресветлый звон по земле к небесам и встрепенется, возликует все живое и неживое, восславит Воскресшего Пресветлого Христа. Вот он какой звон: преславный, великий звон.
Знаю я это — много раз уже рассказывал мне о том дедушка. И я не сомневаюсь, что звон в пасхальную ночь — особый звон; недаром же дедушка, совсем старый, совсем слабый, еле двигающийся, все-таки каждый год в великую ночь взбирается на колокольню и звонит…
Всю ночь звонит. И как звонит! Как будто сил у него собирается больше, чем у любого молодого.
— Дедушка, а не тяжко тебе звонить всю ночь? — спрашиваю я.
— Это в Светлую-то службу, для Воскресшего Пресветлого Христа?! Ах ты, несмышленыш, — отвечает он, улыбаясь. — Да ведь Он и Сам трудился и в посте, и в молитве. Ho прилетали к Нему светлые Ангелы, трепетали над ним своими крылышками белоснежными, убрусами отирали Его пресветлое лицо… И укреплялся Спаситель наш Христос.
— А к тебе, дедушка, прилетали Ангелы?
— Ко мне-то Ангелы не прилетают, но легкость такую в теле чувствуешь, что звонишь всю ночь — труда в этом не знаешь. Только и тяжко, что на первый раз большой колокол раскачать… А там — и пошло, и пошло… Светлое Христово Воскресение ведь восславляешь, всему миру радостную весть посылаешь — как же можно утруждение какое в теле чувствовать? То-то и есть великий, пресветлый этот звон. И ежели Господь сподобит кому умереть под этот звон — превеликая Божья милость для того: и поднимут тотчас же Ангелы его душу на свои светлые крылышки и не будет она знать мытарств, и понесется вместе со звоном прямо к Святым Небесам. И предстанет она тогда пред лучезарное сияние Воскресшего Пресветлого Христа! Вот как, брат малыш!
И дедушка светло задумался и смотрит своими старческими глазами на тихо сияющее звездами, полное благодатной тишины небо. Последний удар колокола серебристым разливом замирает около нас, но долго еще несется и дрожит в сумрачной дали недавно оголившихся от снега полей, над прозрачными водами речек и озер. Вслед за тем в селе заметнее становится движение: слышны голоса, по двое и по трое люди движутся в сумраке с белыми узлами в руках, направляясь к церкви.
Замелькали кое-где разноцветные бумажные фонарики, то скрываясь за избами, то вновь появляясь. Это веселой гурьбой идут к церкви ребятишки.
— Пора и нам, Гришуха, собираться, — говорит дедушка, уходя с крыльца.
Мы забираем завязанные в белую салфетку и стоявшие до того на столике под иконами кулич и пасху, предназначенные для освящения, затем, хотя нам идти до церкви совсем недалеко, я захватил все-таки специально сооруженный мною к этой ночи складной фонарик, склеенный из бело-синей и красной бумаги, зажигаю вставленный в него огарок свечи, кладу в карман несколько окращенных яиц и вместе с дедушкой отправляюсь в церковь.
III
В церкви уже много народу, но в ней еще полумрак.
Теплятся пред иконами лампады да две-три свечи бросают трепетный свет. Пахнет елью, слышится сдержанный говор прихожан. У всех праздничные выражения лиц, праздничные одежды и целые горы белых узелков с куличами.
А над всем дрожат, подымаясь к высокому куполу церкви, звонкие, молодые голоса чтецов «Апостольских Деяний». Как хорошо, как радостно!
С сильно бьющимся сердцем я тоже подхожу к аналою с раскрытой на нем толстой книгой и жду очереди, чтобы сменить последнего предо мною чтеца: дедушке очень хочется послушать, как я буду читать «Деяния». Когда же настает моя очередь, свеча начинает прыгать в моей руке, прыгают пред глазами большие славянские буквы и, чувствую, голос мой начинает так звенеть и дрожать, что я сам не узнаю его.
— А хорошо ты читал… хорошо, — говорит все-таки потом дедушка и гладит меня по голове. А ему пора уж и на колокольню. Конечно, я сопровождаю его.
— Илья Ефимыч, потрудишься, позвонишь, а? — слышатся со всех сторон голоса. — В Светлую-то ночь… Пресветлый-то звон?..
— А то как же, — отвечает дедушка.
— Ну, то-то, то-то… — радостно говорят вокруг него. — Уж ежели сам не взберешься, мы тебя и на руках взнесем.
— Ну-ну… Для пресветлого-то звона не взберусь?
Лестница на колокольню освещена. На самом верху ее под колоколом ярко горит большой фонарь. Медленно, с частыми отдыхами, чуть ли не через каждые две ступени, поднимается дедушка по крутой лестнице колокольни. На площадке он сидит долго.
— А ослабел я что-то сегодня, Гришуха. Ой, как ослабел. Старость, а? — говорит он, но, отдохнувши, все-таки продолжает взбираться.
Вот мы, наконец, и на колокольне.
— Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, — произносит дедушка, крестится и кладет земной поклон в одну сторону, потом обращается лицом в другую сторону, третью, четвертую и каждый раз снова крестится и снова кладет земной поклон. После этого он усаживается под колоколами и ждет. А я спешу опять в церковь. Там идут последние уже приготовления, зажигаются над арками лампады, к свечам люстр и паникадил прикрепляются пороховые нити…
Церковь совсем уже полна народу. Вот, наконец, замечается общее движение: вошел в церковь отец Алексий и среди расступающейся толпы направился в алтарь.
А немного после начинается полуночница.
Ударил большой колокол… Дрогнула церковь, хлынули густые, могучие волны звуков и все затопили собой, встрепенув сердце первым ликованием.
— «Волною морскою»… — под гул колокола несется по церкви печальный, вызывающий в другое время рыдания мотив; теперь же он вещает лишь радость.
Сердце полно верою, что смерть побеждена. Нет тления — есть пресветлая жизнь воскресших…
Колокол гудит и гудит, несет эту весть встрепенувшейся ночной дáли, всему живому и неживому на земле, всякому человеческому сердцу. Потому так светло, и сияет радость на всех лицах. Вот поднимается, наконец, плащаница со средины церкви и уносится в алтарь. Среди сплошь наполняющей церковь толпы людей усиливается движение, говорящее о приближении самых торжественных минут. Выстраиваются пред алтарем хоругвеносцы с хоругвями, крестами и иконами. Вот-вот, и начнется крестный ход; вот-вот, и ликующим торжественным звоном огласит дедушка всю ожидающе затихшую окрестность.
Отец Алексий уже в белоснежных, блистающих серебряными отливами ризах. В таких же стихарях выходят из алтаря дьячки, Платоныч и Степаныч. Всего раз в год одевают они стихари. Именно на пасхальную службу вспыхивают в руках свечи, огнями их до самого купола озаряется вдруг церковь.
Я чувствую, как от приближающегося к душе восторга, от радостного волнения по телу пробегает дрожь. Но вспоминаю все-таки и о дедушке, беспокоюсь, как бы не пропустил он вовремя тронуть старческими руками все колокола, заставить их ликовать в пресветлой, наполняющей всю землю радости.
— Воскресение Твое, Христе Спасе… — раздается торжественное громогласное, наполнившее всю церковь радостное пение.
И тут же дрогнули опять стены, опять хлынули могучие звуки теперь всех уже колоколов в таком ликующем перезвоне, в таких радостных аккордах, что сердце, казалось, готово было выпрыгнуть из груди.
Дедушка-таки угадал, начал трезвон точь-в-точь в самый раз. Крестный ход уже на паперти. Огненным потоком льется за ним толпа с горящими в руках свечами. Вот он уже и в ограде церкви. Колышется пламя свечей, огненный поток их озаряет всю церковь, растущие в ограде деревья и шлет свой свет далеко в темноту ночи, хранящей тайну и Великую Радость.
— «Ангели поют на небесех…» — торжественно несется в ту же далекую тишину ночи.
И льется, льется перезвон, постепенно стихающий, как будто поднимающийся, улетающий в необозримую даль полей и лесов… Дальше и дальше несется он над лесами и горами, над тихими, только что пробуждающимися к жизни долинами, над безбрежным разливом рек. Все выше и выше поднимается… Он уже несется к сияющим звездам, полным благодатного торжества небесам, чуть-чуть слышен, и совсем замирает там, далеко, где поют светлокрылые Ангелы…
И потом снова ближе и ближе становится ликующий звон, ближе к земле… Его радость в самое сердце просится своим ликованием.
— «И нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити»…
Тут дедушка приводит колокола в такой перезвон, такими могучими аккордами потрясает ночную тишину, что, кажется, вся земля, от края до края, начинает трепетать одним чувством, одним ликованием.
— Ну, уж и звонит. О, Господи, что это за звон? Ну, уж и Илья Ефимович, — слышу я около себя чей-то восторженный шепот.
Еще один аккорд с каким-то чудесным, непередаваемым перезвоном, потом все колокола разом оглушительно вздрагивают и смолкают, только гул их долго еще расстилается, мягко колыхаясь над темною далью… Крестный ход снова на паперти. Стоят полукругом хоругвеносцы пред запертыми дверями в храм. Теснится толпа, меня почти сдавливает. Ярко пылают свечи. Минуты тишины, безмолвия. И моему детскому воображению рисуется ароматный сад глубоким утром, тихая пещера, озаренная сиянием светоносных Ангелов, пустой Гроб… Вот-вот сейчас умиляющая душу радость станет известна всем близким, по земной жизни, Христу и всему миру.
— Слава Святей, Единосущней, Животворящей и Нераздельней Троице, — прочувственно начинает отец Алексий среди глубокого безмолвия.
Но сердце уже трепещет. Лица всех уже сияют.
Отец Алексий приподнимает трехсвечник и торжественно и радостно, идущим к самой душе тоном возглашает «Христос Воскресе из мертвых…». Момент я еще волнуюсь — не запоздает ли дедушка? Но колокола уже грянули, все затопили, все заполнили своим единым, могучим, трепещущим радостью гулом.
И все сливается в одно торжество, в одно ликование: разливающийся неумолчно трезвон, пение певчих левого клироса, всей толпы молящихся…
— «Смертию смерть поправ…» — могуче несется под сводами паперти, вылетает за ограду, несется в трепещущую той же радостью даль, в снова всколыхнувшуюся тишину ночи…
Двери храма распахиваются, вспыхивают пороховые нити, разом воспламеняются свечи люстр и паникадил. Церковь залита слепящим глаза светом…
— «И сущим во гробех живот даровав», — оглашает радостное пение уже внутренность храма по пути направляющегося к алтарю крестного хода.
Толпа густым потоком вливается в храм. Меня сдавливают в дверях, прижимают к стене. Чувствую что-то треснуло в одном из моих карманов; догадываюсь — пострадали, вероятно, как я ни охранял их, положенные туда яйца. Пробую освидетельствовать, опускаю руку в карман: яйцо всмятку, выпачкиваю им пальцы рук, потом одежду, но… разве это обстоятельство может хоть сколько-либо уменьшить ликование в душе моей? Легко утешаюсь тем, что у меня остается еще три яйца: хватит и похристосоваться, и побиться на биток…
Когда я вместе с толпой безвольным со своей стороны движением вношусь во внутренность храма, идет уже светлая заутреня. Клиросы полны: на правом — певчие и Платоныч, на левом — Степаныч с целым десятком человек любителей. Я знаю, что будут петь «партесное». Иван Матвеевич, регент, целый месяц до Пасхи изо дня в день обучал певчих. И вот он машет рукой, взволнованно наклоняется вперед, но через минуту успокаивается и одобрительно покачивает головой.
— «Воскресения день. Просветимся, людие»… — усиленно, приподняв вверх свои личики, выводят первый и второй дисканты, и голоса их взвиваются к куполу и звенят там, радостно трепещут, подобно ангельскому пению.
Вторит дедушка им — чудесно переливается трезвон; кажется, звенят светлые воды, шелестят только что одевающиеся листвой деревья, звенят и щебечут птицы, и все тише и тише, выше и выше улетают звуки ликующей светлым торжеством земли; они уже под небесами, сливаются с благостным ангельским восхвалением. И ширится, замирает в благостном восторге душа…
Потом ликование правого клироса подхватывает левый, за ним снова ликует хор, трепещут под куполом голоса дискантов и альтов.
— «Сей нареченный и святый день, един Царь и Господь»… — восхваляют в своем соло ангелоподобные, нежные детские голоса, и моя детская душа со всею полнотою чувства, со всею трогательностью отвечает им: «О, да». «Праздников Праздник и Торжество из торжеств». Плывут светлые облака, расходятся лучезарные сияния, клубами поднимается благовонный дым из кадильницы и, подобно Ангелам в белоснежных одеяниях, отец Алексий, идя среди расступающейся толпы, возвещает:
— Христос Воскрес… Христос Воскрес…
— Воистину Воскрес… Воистину Воскрес… — гудит в ответ, как один человек, толпа и, кажется мне, громче всех отвечаю на приветствие я.
А хоры ликуют, вторит им дедушка пресветлым звоном. Как светлый сон, как сияние радости проносится служба пасхальной заутрени.
Вот уж и последняя стихира.
— «Воскресения день. И просветимся торжеством. И друг друга обнимем» — радостно восклицает хор.
На солее уже стоит отец Алексий и весь клир, и под многократное пение «Христос Воскресе…» начинается христосование. Христосуюсь с отцом Алексием, с дьячками, отыскиваю в алтаре своего отца, чтобы похристосоваться с ним, радостно открываю свои объятия всем и каждому и спешу, наконец, на колокольню.
Звуки гудящих колоколов оглушают меня.
Не слыша собственного своего голоса, я изо всех сил кричу: «Христос Воскрес, дедушка!».
Дедушка смотрит на меня и только улыбается, не переставая звонить. Все качается и качается из стороны в сторону его старое тело, треплются руки и ноги, треплется седая голова, под небесной радостью заливаются под руками дедушки маленькие колокола и, переплетаясь с их вьющимся под небесами трезвоном, большие колокола так чудно вызванивают мотив: «Христос Воскрес! Христос Воскрес!».
IV
Начало обедни я еще бодрствую. Но потом чаще и чаще подплывает ко мне светлое, в туманном сиянии облако, окружает меня, заволакивает стоящих около меня людей, мои собственные мысли. И ресницы глаз делаются тогда тяжелыми-тяжелыми; на каждую из них садится по такому же светлому облаку, они неодолимо опускаются книзу, мне их уж не поднять…
Пахнет елью. Улыбается просветленный, весь в цветах лес, переливаются-звенят звоны: чудесно так поют птицы. Чудесно в душе моей и радостно ей безмерной, неземной радостью. Вот и дедушка кивает мне головой, весело смеется, куда-то зовет. Иду за ним и чем дальше, тем светлый туман все гуще и гуще. И странно, что он толкает меня. Еще толчок, и я открываю глаза. Сосед мой, приклонясь к плечу которого я вздремнул, крестится, отвешивая поклоны и своими движениями заставляет меня проснуться. Снова слышу ликующее пение, звон колоколов, вижу вокруг себя светлые, радостные лица и, проснувшись окончательно, не перестаю чувствовать в душе ту же умиленную сладость. Но опять и опять наплывают светлые облака, захватывают меня лучистым сиянием, смыкают туманом мои глаза. К концу обедни, когда нужно святить пасхи, я, наконец, совершенно овладеваю собой. В окна церкви уже смотрит рассвет — наступает день. В ограде, вокруг всей церкви, ряд белых разложенных на земле узлов, из которых выглядывают куличи, пасхи, крашеные яйца.
Светлее и светлее становится. Золотится уже краешек неба на востоке. Светлая заря пресветлого дня улыбается земле. Я стою пред своим узлом и жду, когда подойдет к тому месту отец Алексий. Светлое, как ни одного другого дня, утро глядит мне в лицо, светлым ликованием несется звон пресветлой пасхальной службы.
Гудят колокола под старческими руками дедушки неземным торжеством, гремят чудесными аккордами, сменяющимися затейливыми перезвонами и переходят снова в ликующий гул пробужденной светлым торжеством и осиянной солнцем земли. Звуки плывут и плывут, несутся, светлея с каждой минутой, все дальше, все выше, стихают, наконец, в вышине и чуть слышной радостью ликуют под светлыми небесами. А потом и совсем замирают.
Жду, что вот дедушка начнет теперь тихими, постепенно приближающимися к земле переводами и кончит последними торжествующими аккордами, гулким ликованием. Жду — и не слышно звона. Я удивляюсь, что дедушка окончил на этот раз так, как никогда не кончал.
— Совсем, видимо, устал дедушка, — думаю я.
Вместе с отцом с освященным куличом и пасхою в руках взбираюсь потом на колокольню, чтобы похристосоваться с дедушкой и помочь ему сойти по лестнице.
— Христос Воскрес! Христос Воскрес! — говорим я и отец Алексий.
Но дедушка молчит. Он сидит на дощатом помосте под колоколом, прислонившись к стене между пролетами и склонив на плечо голову. Он молчит, но лицо его светло и благостно улыбается, и смотрит он открытыми глазами мимо нас, туда, где бывает вечная радость. Светлая заря ласкает его лицо, его белую, всю точно в серебряном сиянии, голову…
Дедушка светло уснул вечным, непробудным сном.
Он сподобился того, чего так желал.
Вместе с последним, замеревшим в небесах пресветлым звоном поднялась его душа к лучезарному сиянию Воскресшего Пресветлого Христа.
Три Пасхи
Звон гудит, весь день не умолкая,
Над проснувшейся от сна землей,
И от края он идет до края
Перекатной резвою волной.
Славит он Святое Воскресенье
Ради нас распятого Христа;
И под гул его во всем твореньи
Неземная радость разлита…
Жизнью смерть побеждена сегодня,
Зло гнетущее низложено Добром,
Светом — тьма! Так Ангелы Господни
Хором хвалят в небе голубом.
И под эти радостные звуки
Позабыл о мести злобный враг,
Позабыл страдалец боль и муки,
Позабыл нужду и грусть бедняк.
Этим звукам — хором поднебесным,
С радостью восторженной внемля,
Приоделась вся ковром чудесным
Из цветов и зелени земля!
I
Виден чуть под дымкою тумана
Выходящий из морских пучин
На седое лоно океана
Островок неведомый один.
Словно рай, осыпан он цветами;
Средь травы, журча, бегут ручьи.
Скрытые роскошными ветвями
Распевают звонко соловьи.
Среди пальм, лианами обвитых,
Бродят стаи ловких обезьян,
И играют резво средь залитых
Ясным солнцем золотых полян!
Ходят по лугам в траве росистой
Диких коз пугливые стада,
Хор пернатых, звонко-голосистый,
Не смолкает, словно, никогда.
Чудный остров — чудное творенье
Прихотливой розовой мечты,
Светлое, живое воплощенье
За душу берущей красоты!
Светлым раем кажется безпечный[17] (ст.русск)
Остров этот всем на первый взгляд,
Но давно царит здесь безконечный*,
Полный зла и ужаса разлад!
Войны безпощадны* и жестоки,
К брату злым врагом приходит брат,
Братской крови, детских слез потоки
Превратили дивный остров в ад.
Вот опять сраженье закипело,
Слышны вой и крики дикарей,
Тучей затемняют солнце стрелы,
Град идет от брошенных камней!
Мэн-дикарь, — ужасный и злой воин,
Выше всех в отряде головой,
В самой жаркой битве он спокоен,
Для врага является грозой!
Враг пощады просит, но напрасно:
О, никто не увернется цел
От руки безтрепетно-ужасной*,
От певучих, смертоносных стрел!
Горе тем, кто, жизнь свою спасая,
Отдается злому Мэну в плен:
Ждет их смерть, мучительная, злая, —
Тени жалости не знает Мэн.
Выпадают муки на их долю —
Казни, от которых стынет кровь,
Тешится злой Мэн: возьмет — на волю
Выпустит врага и словит вновь…
Мэна радуют врагов страданья —
Зло блестит его суровый взгляд…
Их проклятья, стоны и рыданья
Слаще музыки ему звучат.
Ад кругом, и смерть, и разрушенье,
Срублены деревья на корню,
Вытоптаны нивы и селенья,
Преданы все жрущему огню…
В жертву богу — злому богу Ору —
Гению разбоев и войны —
По жестокому героя приговору,
Все враги его обречены.
В рабство взяты жены, девы, дети,
Пир идет среди густых лесов,
Пляшут победители при свете
Сложенных из мертвых тел костров.
Сердце Мэна твердо и жестоко,
Недоступен состраданью он:
Зуб за зуб отдай, за око — око,
Труп — за труп, — вот весь его закон!
Встанет утром солнце золотое,
Отразится в светлой глади вод,
Бросит взгляд на поле роковое,
И в безмолвном ужасе замрет!..
II
Быстро мчатся годы, и вот снова,
Установленной на век чредой,
Воскресения идет Христова
Чудный день, заветный и святой…
Снова звон несется колокольный,
Дивный сон вновь снится наяву,
Снова мир небесный и мир дольный
Возвещают Господу хвалу.
Солнце ясное опять ласкает
Островок живительным лучом,
И как встарь ярится и пылает
Безконечная* вражда на нем.
Люди в каждый миг на бой готовы…
Муки, казни, грабежи и плен,
Распри, стрелы, ненависть, оковы…
Где ж герой, непобедимый Мэн?!
Нет следов великого героя
Средь полей, лесов и диких скал…
Где же он теперь — пал жертвой боя,
Иль добычей мирной смерти стал?
Нет, он жив! Но только в этой жизни
Уж ничто его не веселит.
Безполезен* Мэн теперь отчизне,
Ныне он — убогий инвалид…
Как-то было страшное сраженье,
Мэн упал, совсем лишенный сил,
Победитель, в диком озлобленьи,
Павшего героя ослепил.
Свет угас для Мэна. Ночь немая
В вечную его повергла тьму,
И в безсильной* (ст.русск) злобе изнывая,
Бродит он — нестрашный никому.
И рычит как лев, попавший в сети,
Злой слепец, негодный для борьбы, —
От него ушли жена и дети,
Убежали бледные рабы…
Бродит он, лишенный Божья света…
Где теперь его дружина-рать?
Слова ласки, дружбы иль привета
Ни откуда Мэну не слыхать…
Мальчик лишь один, с душой открытой
Для добра, к нему порой зайдет
И его тропинкою изрытой
К океану тихо отведет.
Сядет Мэн там на валун прибрежный,
Весь тоски, щемящей думы полн,
и сливает он с мечтой мятежной
Ропот диких безприютных* волн.
Как и встарь, его желанья грубы;
Также зол и безпощаден* (стар. яз.) он,
«Смерть и мщенье!» — злобно шепчут губы,
«Смерть врагу» — свирепый рвется стон.
«Если б враг, меня лишивший зренья,
В руки мне когда-нибудь попал,
Я бы выдумал ему мученье,
О каком никто и не слыхал!
Долго бы он ждал своей могилы,
Трепеща перед моим ножом,
Из него я вытянул бы жилы,
Сжег его бы медленным огнем!»
Вся душа, как бы сплошная рана
Нестерпимо ноет и болит,
Влажный ветер, дуя с океана,
Как кошмар, и душит, и томит!
«Если б знал я, где шатер поставил,
Где живет злодей коварный мой,
Я б поля и рощи все обшарил!
И уж он бы не ушел живой!
И дрожал бы он передо мною,
Как пред львом пугливая коза,
И я вырвал бы своей рукою
Ненавистные его глаза!»
Ближе волн таинственное пенье…
Подойдут — и убегут назад,
Слышит Мэн их опыт: Мщенье, мщенье!
Волны словно тоже говорят.
Тьма в глазах; душа — темнее ночи,
Тьма кругом царит — надежды нет:
Не увидят больше солнца очи,
Не прольется в душу Божий свет!
Злоба, грусть идут тоске на смену,
Мыслей злых неодолима рать,
Светит свет другим, любовь, а Мэну
Ни любви, ни света не видать!..
III
День за днем, за годом мчатся годы,
Исчезая, как ночная тень;
Снова Пасха: снова те же воды,
Тот же остров освещает день.
Снова Пасха; снова все творенье
Забывает злобу, горе, страх.
В мире — мир, в людях — благоволенье,
Слава Богу в вышних Небесах!
Дикий остров стал неузнаваем, —
Жизнь свою он так переменил,
И теперь он может зваться «раем»,
Как названье «ада» встарь носил!
Не узнать теперь былого Мэна, —
Образец гнетущей силы зла, —
Отчего ж такая перемена
С островом теперь произошла!
Здесь зажглось Христовой веры пламя, —
Нет войны, злодейства и измен,
Под святое светлой веры знамя
Все стекло, — пришел и бедный Мэн!
Стал он кротким, ласковым ребенком,
Позабыв былое зло и гнев, —
Стал ручным, незлобивым ягненком
Наводивший прежде ужас лев!
Грусть, тоска, вражда, печаль и злоба
Уступили место для любви,
Мэн стоит уже пред дверью гроба,
Вспоминает все грехи свои.
В сердце Мэна — только всепрощенье
И любви животворящий пыл,
Что такое ненависть и мщенье, —
Ослабевший воин позабыл!
Вот лежит в предсмертной он истоме,
Слабый, обезсиленный*, слепой,
На почти согнившей уж соломе,
Брошенной небрежною рукой!
Ворвалась давно в его владенья
Чужеземцев лживых, хитрых рать,
Отняла у Мэна все именье,
Бросивши в лачугу умирать!
Перенес он все без огорченья, —
Скоро ждет его иной приют…
Слышит он уже, как в отдаленьи
Неземные хоры гимн поют!
Светлый гимн торжественный победы
В честь любви воскреснувшей — Христа.
Мэн забыл свои печали, беды —
Славят Бога бледные уста.
И под радостное гимнов пенье
По чертам спокойного лица,
На которое ложится тленье,
Разлилось блаженство без конца!
К ближнему, к врагу любовь живая
На лице страдальца разлита,
И несет ее он, уповая
Положить к святым ногам Христа!
Изстрадался* бедный Мэн без меры, —
С радостью, с весельем он умрет,
Но его горячей, чистой веры
Не умрет животворящий плод.
Для любви безмерной и высокой
Ничего не значат смерть и тлен,
И в преданьях старины глубокой
Будешь жить, не умирая, Мэн»
На другой день яркое светило,
Выходя на синий небосклон,
Озарило свежую могилу, —
В той могиле Мэн был погребен.
А кругом природа ликовала,
Стройным хором смерти говоря:
Где теперь твое, смерть, жало?
Где победа адского царя?
Люди, чистые душою, трепетали,
Чуя жизни вечной торжество,
И с природой вместе восхваляли
Непостижное Христово Божество.
С твердою надеждой возложили
Все свои печали на Него,
И всем чутким сердцем возлюбили
Светлое явление Его!
Иван Гребенщиков
«Отдых христианина». Май, 1903 г.
Странички войны
Пасхальный рассказ Н. Р. Политур
I
«Буль… Буль… Буль…» — монотонно и глухо работал деревянный насос, выкачивающий воду из передовых окопов N-го стрелкового полка. Спины солдат, одетых в одни форменные рубашки цвета «лягушки», так же монотонно-равномерно раскачивались вместе с длинным изогнутым рычагом.
«Буль… Буль… Буль…» — порывистыми скатами выбрасывалась вода из широкой трубы на черную, грязную землю, смешивалась с водой от тающего снега и широкой лентой быстро бежала по канавке к неглубокому оврагу.
Солнце сильно припекало. Серый рыхлый снег оседал, и слышно было, как он с глухим вздохом, точно жалея о своем зимнем блестящем наряде, плотнее прилегал к очнувшейся груди земли. Десятки игривых, мутно-светлых ручейков шумно вырывались из-под высоких, плотных снежных сугробов, бежали, подпрыгивая, среди ими же размытых снеговых стен и пропадали.
Черная, густая вода в окопе местами доходила до дощатого помоста. Мерзлая земля стен окопа таяла; липко-желтая, сырая, она точно набухла, вылезала и падала на дно окопа большими и маленькими комьями. Кругом было грязно, даже в землянках весенняя грязь, нанесенная тяжелыми сапогами, смешалась в липкую массу с крепко-убитым земляным полом.
Даль золотилась прозрачным весенним светом. Талый снег под лучами солнца отливал матовой белизной, а на небольших холмах уже чернела оголившаяся, сбросившая с себя зимнюю броню, мягкая, пахучая земля, и оттуда при ветерке тянула густым, знакомым стрелкам, запахом полевой прели.
Стрелки, казалось, не замечая грязи и воды, по-детски шумно и искренно радовались приходу светозарной весны; радовались тихой весенней радостью, от которой щемило сердце, слегка кружилась голова, и все тело, усталое, озябшее от зимнего сидения, точно пьянело, хотело двигаться, кричать, плакать.
Плотный, черный лес стоял в стороне. Голые ветки деревьев резко чернели, вытягивались и тоже точно трепетали, хватали теплый весенний воздух и золотистые лучи солнца. На пригорках, по черной, мягкой земле спокойно ходили важные вороны и легкие красавцы-грачи, а из лесу доносилось беспокойно-нервное чириканье первых прилетных гостей.
— Вишь вы, черномазые! — улыбаясь, проговорил стрелок Тележников, когда грачи, чего-то испугавшись, с криком шумно взлетели с пригорка.
— Что твоя деревня. Эх… — Он снял шапку, вытер потный лоб рукавом рубашки и посмотрел кругом радостными, затуманенными глазами.
— Что и говорить, благодать Господня, — шумно вздохнул кто-то.
— У нас теперь в деревне, поди, чижи да щеглы прилетели, — тихо, точно про себя, заговорил стоявший рядом ефрейтор Тростин и замолчал…
Стрелки бродили от нечего делать по окопу, пригретые солнцем, курили, лениво перебрасывались между собой незначительными словами, подходили к краю окопа и долго, не мигая, с какой-то блаженно-мечтательной улыбкой на сильно исхудалых лицах, смотрели вдаль.
— Таперича, поди, старики с бабами бороны ладят да сохи, — ни к кому не обращаясь, проговорил пожилой запасной. — Эх, кабы на денек съездить поработать по-крестьянски.
— Вишь ты, что надумал! — засмеялся Тележников и, шумно вздохнув, замолчал.
Громкий крик наблюдателя всполошил окоп. Стрелки точно проснулись, сбросили с себя чары весны и схватились за винтовки. Через минуту все стояли на местах. Солнце, клонившееся к западу, бросало снопы лучей на наши окопы, а неприятельские, тянувшиеся почти параллельно нашим, были почти не видны. В насторожившемся окопе сразу стало тихо. Только насос после большого перерыва снова отбивал свое монотонное: «Буль… буль… буль…»
Сквозь золото солнечных лучей смутно было видно какое-то движение у неприятеля. Поручик Растеряев с прапорщиком Нечаевым, почти высунувшись из окопа, в бинокли наблюдали за ним. Набежавшее серое облако закрыло солнце, и все увидали, что несколько немцев возятся над каким-то шестом.
Раздался резкий звук нервного выстрела.
— Не стрелять! — громко крикнул поручик, не отрываясь от бинокля.
Прозвучал еще выстрел. В группе копошившихся немцев кто-то замахал белым полотенцем.
Стрелки с пытливым, недоверчивым любопытством наблюдали за врагом.
— Непременно какую ни на есть пакость задумали, — хмуро проговорил унтер Красноперов.
— А ты думал, нет?
— Пусть сунется, не впервые!
Немцы, продолжая махать белым, подняли высокий шест с большим черным щитом и боязливо, осторожно двинулись к нашим окопам.
Стрелки не стреляли.
Дойдя до середины своих и наших проволочных заграждений, немцы остановились, воткнули в землю шест, выстроились в ряд, козырнули; быстро, как на учении, повернулись и широким шагом дошли до своих окопов и скрылись.
Вся рота вопросительно посмотрела на офицеров. Прапорщик опустил бинокль и с улыбкой проговорил:
— Сегодня у немцев Христово Воскресение, просят не стрелять.
Несколько минут длилось молчание. Стрелки посматривали друг на друга, на офицеров.
— Так вот, ваше благородие, и в прошлом году было, — глухо проговорил унтер Груздев. — Тоже просили не стрелять, а ночью туман был и пошли в атаку. Тогда и штабс-капитана Шелкоперова убили.
Вправо, против окопов другой роты, появился еще плакат, а с левого фланга неожиданно дробно и нервно заговорили винтовки и пулеметы. Стрелки вздрогнули, вновь бросились к ружьям. Огонь скоро прекратился. Наступила тишина и опять один насос властно и громко выбрасывал свое скучное: буль… буль…
Решили послать в штаб донесение о просьбе немцев. Стрелки отошли от насыпи и снова лениво бродили по грязным доскам настила, валялись на нарах в землянках, а унтер Груздев с некоторыми солдатами вышел из окопа в поле и с наслаждением расправлял усталые, онемевшие от окопной тесноты члены. Немцы не стреляли.
Скоро с их стороны тоже вышли группы солдат в поле.
Солнце сильно клонилось к западу, скрываясь в серых, разорванных тучах. Враги с любопытством разглядывали друг друга сквозь проволочные заграждения, молчали и о чем-то думали. Это была не обычная окопная дума, от которой болит тело, тихо ноет, точно плачет, душа и невольно хочется выстрелов, битвы, рукопашных штыковых схваток. Теперь при одном напоминании о Пасхе в сердца стрелков вошло что-то тихо-радостное, что заставило их забыть войну. Необыкновенно ярко вспоминался дом, жены, дети, вся несложная трудовая жизнь, и от этих воспоминаний, казалось, кто-то тихий, светлый коснулся их сердец краем мягкого крыла, и грязь окопов, ужас войны пропали, забылись и на минуту открылась душа чистая «хрестьянская».
Пришел вестовой из штаба. Стало известным, что стрелять не будет даже артиллерия.
Это простое известие у всех вызвало тихую радость и смутную тревогу.
— Придется усилить посты и выслать секреты, — говорил в своей землянке поручик Растеряев унтеру Груздеву, заменяющему тяжело раненого фельдфебеля.
— Так точно, ваше благородие. Потому неровен час…
Поручик лениво потянулся и зевнул.
— Скоро и у нас, брат, будет Пасха, — точно про себя проговорил он.
— Будет, — протяженно ответил унтер, смотря в сторону, и, подумав, добавил. — Скоро и бой начнется.
Поручик вздрогнул.
— Скорей бы! — махнул он рукой и почему-то засмеялся, но вдруг оборвал смех и устало бросил:
— Так ты, брат Груздев, посматривай за немцами.
— Не сумлевайтесь, ваше благородие! — козырнул унтер и вышел.
Солнце в бледно-красноватом тумане, ныряя среди серых облаков, быстро катилось к земле. Отдельные лучи, прорываясь сквозь плотные облака, ослепительно ярко скользили по талому снегу, по кочкам, буграм и быстро-быстро бежали золотистой лентой по верхушкам дерев.
Подымался туман.
Серая плотная масса тумана из соседнего оврага подвигалась тяжелыми волнами и закрывала неприятельские окопы, проволочные заграждения, лес… Последний блестящий луч солнца слабо скользнул по темному небу и погас. Зарево заката в гуще серых облаков дрожало слабым голубым отблеском и таяло. Улетели грачи. Стало холодно.
Талый снег зазвенел тихим звоном чистого хрусталя. Сумерки вечера, сливаясь с туманом, закрывали все. Тихо, необыкновенно тихо для вечера на передовых позициях; даже обычное вечернее приветствие артиллерии не прогремело протяжным залпом ни с неприятельской, ни с нашей стороны.
Страшная, нервная жуть нападала на стрелков.
Рассказы старых солдат про неожиданно коварные нападения немцев в прошлую Пасху взвинчивали нервы. Осторожно позвякивая ружьями, как тени, вышли из окопа солдаты секрета и сейчас же пропали, растаяли в густом, холодно-мокром тумане. С кошачьей осторожностью отправились вперед разведчики. Окоп опустел, все, кто был свободен, ушли в жарко натопленные землянки.
В густом свете лампы, подвешенной под потолок, лежали на нарах солдаты; согнувшись, сидели на скамейках; дремали и прислушивались. Все почему-то ждали чего-то страшного от немцев, и у всех в тайниках души жило горячее желание, чтобы ночь прошла спокойно, без «интриги» врага, как говорил Груздев. И не потому что боялись смерти; смерть ежеминутно сидела над головой, к ней все привыкли — боялись вынужденными выстрелами нарушить святость вражьей Пасхи.
Не шелохнувшись, сидят насторожившиеся секреты; неслышно, как тени, скользят разведчики, неподвижно, как каменные изваяния, стоят на своих местах часовые. Луна бледная, точно больная, окутанная туманом, показалась и спряталась в темных облаках. Редко, редко блестит звездочка. Туман клубится, движется, точно живет, принимает очертания каких-то сказочных чудовищ…
Вдруг тихое пение донеслось со стороны неприятельского окопа. Дрогнули секреты; остановились разведчики. Часто, тревожно-сладко забилось сердце в груди солдат, пахнуло чем-то радостным, дорогим, забытым.
Пение растет, стелется по земле, плывет в густом тумане. Из землянок выползают солдаты; вышел поручик, прапорщик; слушают…
Торжественно звучит пение на непонятном языке; в нем чувствуется тихая радость, любовь… Пение оборвалось. Тишина… Опять поют… Широко крестятся русские солдаты.
Громкое ликующее «Hoch» прорезало туман еще и еще…
Пропала тайна пения чужой Пасхи.
— Теперь пьянствовать начнут, — покачал головой ефрейтор Тростин, и в его голосе послышалось презрение.
Крик с неприятельской стороны, и громкое пение все сильнее и сильнее. И вдруг, прорезая туман, раздался с неприятельской стороны резкий ружейный выстрел, за ним другой, третий, и частый ружейный огонь пробежал по окопу. Стрелки стоят у насыпи, не стреляя.
— Спьяна! — с досадой бросил кто-то.
Огонь стих, опять вспыхнул и вновь стих.
Стрелки уходят в землянки, а вдогонку им несутся громкие крики врага.
Ночь прошла спокойно.
II
Весенняя распутица надолго задержала большие боевые действия. Мелкие стычки передовых частей, партий разведчиков, артиллерийские упорные бои наполняли будничные боевые дни.
Когда вернулась наша рота N-го стрелкового полка, после короткого отдыха на позиции и заняла свои прежние окопы в передовой линии, там было все по-старому. Тот же большой журавлинообразный насос, монотонно дыша, откачивал окопную воду, та же грязь была на дощатом помосте. Даже приплетенная кем-то к стене землянки картина из иллюстрированного журнала осталась на своем месте. Но громадное поле, изрытое глубокими воронками разорвавшихся снарядов, было чисто от снега и только в глубине оврагов, ям и в тени холмов сиротливо лежали и таяли серые, рыхлые снежные пятна.
Едва заметный для глаза бледно-зеленоватый пушок покрывал лес. Кое-где среди камней по скату окопной насыпи вылезала из земли редкая ярко-зеленая травка, а справа в мелком кустарнике, который тянулся к низине реки, стрелки нашли нежные подснежники и душисто-пряные фиалки. Они набрали их целые букеты и украсили грязные стены своих и офицерских землянок.
Нежные цветы скрашивали сырые землянки, белыми радостными пятнами ярко выделялись на почерневшей соломе, и тонкий аромат их нежной волной вливался в тяжелый запах прели, копоти и грязи.
Время шло томительно долго. С утра, как только затепливался на востоке едва заметный свет, начинала ухать артиллерия. К ней так привыкли, что даже не слышали выстрелов, не просыпались. Потом, когда лучи солнца золотили верхушки деревьев и густой туман редел, волнуясь, поднимался к небу и таял, — суетливо трещали винтовки. Редко-редко после ураганного артиллерийского огня немцы выходили из окопов и густыми колоннами шли в атаку. Атака велась вяло, нехотя, без обычного боевого подъема и легко отражалась нашим ружейным и пулеметным огнем.
После «обеда» опять начиналась долгая артиллерийская дуэль, и только когда голубевшие, весенние сумерки окутывали наши и вражьи окопы, орудийная и ружейная стрельба замолкала. Это было самое счастливое время окопного дня. Стрелки отдыхали, пили чай и прислушивались к чириканью новых прилетных гостей. Накануне впервые зачирикали чижики, и разведчики ранним утром, несмотря на усталость, смастерили скворечник и поставили его на длинный шест, воткнутый среди кустов. Теперь прилетели пеночки…
— Рано больно, — прислушиваясь к их щебетанию, покачал головой бородатый запасной. — Замерзнут бедняги.
— Спрячутся, аль по дуплам заночуют, — отвечали другие.
По утрам еще держались сильные заморозки, земля покрывалась налетом белого инея, лужи замерзали хрустящим под ногами тонким льдом.
У маленького костра сидел унтер Груздев и мастерил из тростника дудку. Тележников рядом писал письмо и громко-протяжно читал каждую написанную строку. Прапорщик, облокотившись руками на край окопа, смотрел в синеющую даль и слушал ряд бесконечных поклонов Тележникова. В толстых пальцах солдата как-то странно прыгало перо и выводило на бумаге тоненькие бледные полоски букв.
— Тележников! — проговорил прапорщик, оборачиваясь к нему.
Тележников поднял голову и посмотрел на него задумчивыми глазами.
— Что много поклонов?
— Нельзя, ваше благородие, обидятся, потому сродственники.
И Тележников опять стал усердно выводить буквы.
Неожиданно для всех запела искусно сделанная Груздевым дудка. Все оглянулись, а он, полузакрыв глаза и раздувая щеки, продолжал высвистывать. Знакомый веселый мотив запрыгал, залился по окопу. Прыгающие звуки дудки сразу внесли в обыденную скуку оживление. Слушал прапорщик, слушали солдаты и улыбались. Даже неподвижные, вечно зоркие часовые повернули головы и на минуту забылись.
Дудочная мелодия росла. Груздев из тростника выдувал все новые и новые мотивы. Из землянок выглянули удивленные стрелки, вышел поручик, все столпились вокруг музыканта, а Груздев с полузакрытыми глазами, слегка раскачиваясь туловищем, свистел и свистел и вдруг, оборвав мелодию, с удивлением посмотрел на тесный круг слушателей.
— И мастер же ты, собачий сын! — громко заговорили довольные солдаты. — Заливается, что твой соловей.
Груздев встал, слегка смущенный, красный, потный.
— Пра, соловей.
Солнце садилось, и как всегда, когда голубоватые сумерки вливались в свет гаснувшего дня, раздались отдельные выстрелы артиллерии. Они точно спугнули радостное настроение солдат, вернули их к суровой действительности. Стрелки расходились. Очередные дозоры готовились к ночи. Прапорщик Нечаев вышел из окопа и тихо, задумчиво шел кустами. Он ни о чем не думал. Весна, неожиданные, наивно-красивые звуки дудки точно размягчили его крепкое, мускулистое тело. Громкое, испуганное птичье чириканье заставило его поднять голову. В скворечнике на шесте бился чижик. Прапорщик грустно улыбнулся, вынул из земли шест, снял тесную западню, открыл дверцы и смотрел на забившегося в самый угол чижа, потом спугнул его оттуда рукой.
Чижик вскочил на дверцы и не улетал.
— Пошел, глупый! — опять спугнул его прапорщик.
Чижик взмахнул крыльями, затрепетал в воздухе, громко и радостно закричал и улетел. Прапорщик долго стоял, улыбался и слушал, потом глубоко вздохнул и пошел дальше. Пройдя несколько шагов, он заметил серую фигуру, сидящую под одинокой сосной с оторванной снарядом верхушкой. Прапорщик насторожился, вынул из кобуры револьвер и тихо, крадучись, пошел и сейчас же узнал в слабом лунном свете унтера Груздева.
— Ты что тут делаешь? — тихо, точно боясь нарушить тишину ночи, спросил он.
Унтер быстро вскочил на ноги, вытянулся и растерянно смотрел на офицера. Прапорщик отнял его руку от козырька и, улыбаясь, смотрел в задумчивые, затуманенные глаза унтера.
— Так что, ваше благородие, уж очень хорошо, — тоже улыбнулся унтер, и быстро, с каким-то внутренним восторгом, заговорил:
— Ночь-то какая тихая, теплая, слышно, как трава растет. Стоит только пригнуться к земле, не дышать, а она, милая, шепчется, точно просит землю выпустить ее на волю. Кусты тоже играют, кровь забилась в них. Жизнь, значит, пробудилась, почки наливаются. Вот так, бывало, на зорьке в деревне выйдешь в лес. Большой у нас лес, ваше благородие, хороший… Сядешь на пень и слушаешь. Грешен человек, многого не понимает, а вот древние старики сказывают: в ночь на Христово Воскресение, коли человек чист, открывается ему язык деревьев и травы. У нас, ваше благородие, был древний дед. Я маленьким мальчишкой его помню, а уже тогда ему, почитай, годов за сто перевалило, могутный дед. Да, коли чист, значит…
Прапорщик закурил папиросу и сел на пень.
— Садись, — тихо проговорил он.
Унтер сел. Молчали, смотря в трепещущую в слабом лунном свете даль.
— Ну что же дед? — спросил прапорщик.
— Так вот сам слышал от него: выйдет он на заре в поле… Стоит, глухой, дед, а слышит… Долго слушает… Молитву какую-то особенную шепчет, теперь ее никто и не знает… Из глубины она, от дедов, древняя. А потом и рассказывает, какое лето будет, как уродится трава, овес аль рожь. Будут ли грозы. И что ж ты думаешь, точь-в-точь, без ошибки. И смерть свою предсказал. Сказывал, что ему ворон весточку принес. Тоже умная птица, вещая. Оделся дед во все чистое, затеплил восковую свечку и лег на лавку под образа. Народ заходит в избу, смотрит, усмехается, а то спрашивать зачнет. Лежит дед, не отвечает, шепчет молитвы. Мы тоже, ребята, грешным делом под окном песни пели… Ну, известно дело: ребята глупые. А как солнышку закатываться, позвал внучку. Верой звали, любил ее дед очень, да и то сказать, красавица была, высокая, белая, а нрава кроткого, никогда в бабьи пересуды аль ругань не совалась. Велел ей образ положить на грудь и свечку в руки вставить… И помер, час в час. Да, был народ. По-честному, значит, жили, — задумчиво закончил Груздев и опять замолчал.
Тихий, загадочный звук, не то вздох, не то обрывок далекой, тихой песни прокатился в тихом воздухе и замер. Опять звук долгий, дребезжащий, точно зовущий кого-то.
— Сказывают, — тихо заговорил унтер, — так душа с телом прощается, — и он пугливо оглянулся.
Оглянулся и прапорщик. И вдруг этот знакомый лесок, мелкий кустарник, черное, бесконечное поле, залитое тихим холодным лунным светом, показались прапорщику странно-таинственными. Природа точно сбросила с себя обычную обманчивую маску дня и на минуту открыла свое таинственное настоящее лицо и заговорила…
Теперь прапорщику казалось, что он слышит глубокие вздохи талой земли, слышит, как бухнут, растут, наливаются почки кустов, как радостно развертывается маленький, жирный, ярко-веселый лист, и таинственно растет под землей трава, просится на свет, на простор. Ему даже на минуту показалось, что он видит, как поле покрывается острыми, смеющимися головками травы. Легкий игривый ветерок пролетел над полем, шевельнул кустами, мягко ударил в лицо, прошептал что-то в уши и улетел. Опять тихо, опять рождаются странные, таинственные звуки, дрожат и пропадают.
Вот где-то звонко и часто зазвенел нежный колокольчик… Кто-то захохотал… Унтер схватил прапорщика за руку и, смотря в его глаза каким-то остановившимся чудным взглядом, прошептал:
— Лесовик проснулся, хохочет, звенит. Ищет кого-то, а кого, неизвестно… А может быть, и кто другой — много нечисти шляется перед Воскресением, потому им потом надолго капут. Вот у нас так-то в деревне одну девку замотал. Катериной звали…
Резкий звук, точно от удара бича, прорезал воздух и замер где-то далеко в лесу.
Они невольно вздрогнули. Тишина чуткой ночи тоже насторожилась. Опять удар дальше, глухой, протяжный. Унтер, что-то быстро бормоча, широко перекрестился.
Слабый лунный свет месяца и больших мигающих звезд делали ночь серебристо-прозрачной. Мертвый, холодный свет заливал все: дрожал, дробясь, среди кустов, бегал по черной земле и корням, дрожал и жил.
Офицер и унтер сидели неподвижно-зачарованные, придавленные тайной ночи и чувствовали, что кто-то, мистически-страшный, сидит рядом. Ночь жила таинственной жизнью, странные звуки неведомого языка природы рождались и пропадали. Тихо, глубоко дышала земля, и что-то сильное, радостное, как жизнь, шептала речка, сбросившая с себя оковы смерти — зимы.
III
В ружейной перестрелке, в грохоте артиллерии, как-то незаметно подкралась Страстная неделя и наложила свою грустно-торжественную печать на лица стрелков. Перестала свистеть веселая дудка Груздева, редко раздавался сдержанный смех, какая-то скрытая сдержанность звучала в разговорах. Разведчики избегали кровавых встреч с неприятелем, стараясь, насколько позволял долг, не стрелять, точно боялись пролитой кровью врага разрушить, осквернить святость Недели.
Зато немцы проявляли усиленную деятельность и часто бешеный ружейный огонь опоясывал окопы.
Весна окончательно одолела зиму. Снегу совсем не было, но грязное, изрытое поле по-прежнему было непроходимо. Стрелки радовались непролазной грязи, задерживающей ожидаемые крупные стычки. Полюбили даже надоедливый насос, а он по-прежнему, как живой, дышал все тем же монотонным стуком: бум… бум…
Лес и кусты густо покрылись маленькими жирными листьями. С утра Страстной пятницы окоп прибрался, насколько мог. С риском для жизни стрелки из глубоких воронок, вырытых снарядами, натаскали красного песку и густо засыпали им окопную грязь. Целые букеты сильно распустившейся вербы, связанные с ярко-зеленой травой и первыми полевыми цветами, украшали стены и даже холодную сталь смертоносных пулеметов. Стрелки мылись, чистились и ждали священника, с боязливой досадой и опаской поглядывая на неприятельский окоп. Немцы таинственно молчали целый день. Смутная тревога и непонятное раздражение захватывало стрелков.
Батюшка отец Алексей пришел в седьмом часу, когда громадный круг солнца в ярко ослепительном свете весеннего дня закатился за лес. Немцы встретили его отдельными резкими выстрелами. Священник, привыкший к опасности, спокойно спустился в окоп, придерживая рукой наперсный крест. Его окружили стрелки, радостные, возбужденные.
— Ну что, детки, — сильным, слегка хриплым «окопным» голосом спросил батюшка. — Много нагрешили? — и он грустно улыбнулся, смотря на исхудалые лица солдат.
— Грешны, батюшка, — густым хором ответили стрелки и потупились.
— Ваши грехи огненным крещением отпускаются, — серьезно продолжал священник и, промолчав, добавил: — Сегодня будем исповедаться, а причастимся на Пасхе, когда на отдых придете, а то не поспеть мне ко всем, ребятушки. Да, вот еще завтра из штаба гостинцы пришлют. Чего только там нет.
Священник радостно улыбнулся:
— Пасхи, куличи, яйца красные, всего прислали…
Засветились радостно и лица солдат.
— Вишь ты! — точно удивились солдаты и только теперь необыкновенно ясно вспомнили домашнюю Пасху, к которой готовятся там, где-то далеко за огненной гранью войны.
Справа от окопа громко заговорили винтовки и пулеметы. Все оглянулись в сторону неприятеля, замерли в каком-то тоскливом, злобном ожидании.
Неприятель замолчал, и вновь проснулось чувство радости, благодарности к врагу. Священник, казалось, поймал этот момент общей любви и прощения и раздельно и громко начал читать слова исповедальной молитвы. Стрелки забыли о неприятеле, опустившись на колени на ярко-красный песок. Низко опустив головы, жадно ловили святые слова, и слова эти казались новыми, полными глубокого смысла и тайны.
— «Се чадо, Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое, не усрамися, ниже убойся, и да не скрывши что от меня, но не обинуяся рцы, елика соделал еси…».
Глухой гул голосов повис над неподвижно склоненными стрелками. Слова священника падали на обнаженные головы, проникали в душу, и он смотрел поверх стрелков в темное небо и казалось, просил силы вместить в себя несложные грехи роты.
«… Прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь», — тихо уронил священник, осеняя широким крестом стрелков.
Тихо разогнулись спины, молча, сосредоточенно, с просветленными лицами прикладывались солдаты ко кресту и отходили. Священник снял епитрахиль, попрощался и ушел…
Вечер, кроме обычной артиллерийской перестрелки, прошел спокойно. В землянке унтер Груздев у света поставленной на стол лампы протяжно и внятно читал «Страсти»:
— «… Да не смущается сердце ваше: веруйте в Бога и в Мя веруйте. В доме Отца Моего обители многи суть: еще ли же ни рекл бых вам. Иду уготовати место вам: и аще уготовлю место вам паки прииду, и поиму вы к Себе, да иде же есть Аз, и вы будете…»1) (Ин, зачало 46.)
Стараясь не дышать, слушали стрелки святые слова. Полутьма вечера, сгущаясь, переходила в тьму ночи. На небе загорались звезды и издалека доносился тихий, раскатистый артиллерийский гром. Из-за туч выглянул острый серп месяца. В воздухе повеяло бодрящим холодком…
Прапорщик Нечаев утром долго нежился под теплым одеялом. Он видел полузакрытыми глазами, как осторожно взошел в землянку прислуживающий ему стрелок Захарчук и ушел, слышал смутный говор солдат в окопе и, лениво потягиваясь, улыбался. Ему почему-то казалось, что он совсем маленький, и вот-вот сейчас откроется дверь и войдет старуха-няня Ильинишна, а за ней легкой поступью, в венце пышных, слегка седеющих волос, матушка…
Дверь скрипнула и в землянку вошла не старуха Ильинишна, со сморщенным лицом, а широкоплечий стрелок Захарчук и поставил на стол до блеска вычищенный чайник и искоса, с усмешкой посмотрел на прапорщика.
Нечаеву стало смешно и почему-то весело.
Светлое бодрое утро радостно встретило его. Окоп, украшенный вечно зеленеющей хвоей, выглядел совсем по-праздничному. Солдаты, чисто вымытые, с расчесанными волосами, франтоватые, бодро и легко ходили по окопу, а в углу, там, где стояли пулеметы, унтер Груздев прикреплял на большой шест плакат.
«Просят не стрелять. У нас сегодня «Христос Воскрес!» — прочитал прапорщик наивную надпись и улыбнулся.
— Кто это написал? — спросил он.
— Кузьма. Он мастер рисовать, — ответили солдаты и стали подымать шест.
Груздев, махая «белой гимнастеркой», осторожно выглянул в поле. Неприятельский окоп молчал. Груздев вылез из окопа и остановился. Из немцев кто-то тоже махнул белым. Груздев весело рассмеялся и, окруженный солдатами без винтовок, с шестом, живо прошел наши проволочные заграждения. Все с напряженным вниманием следили за ним. Из неприятельских окопов показались головы. Груздев вбил в землю шест, отдал честь неприятелю и вернулся.
— Вишь ты, немец памятует, — добродушно говорили стрелки.
— А ты думаешь что, не человек он, немец-то…
— Человек, да вишь ты… — задумчиво проговорил Груздев, закуривая «цигарку». — Коли прикажут…
— Оно точно, — согласились товарищи.
День прошел незаметно. К вечеру принесли подарки, и тоже ни единый выстрел не раздался с неприятельской стороны, когда к окопу приехала двуколка.
Стрелки, радуясь, как дети, разбирали слегка помятые пасхи и куличи, побитые красные яйца. Чем-то далеким, давно прошедшим пахнуло на них от этих незатейливых подарков, и невольно припомнились давно забытые большие города, села, деревни, большие толпы народа, которые несли свои пятачки на «красное яичко солдату». И эти чужие люди, хорошие и худые, стали для них близкими, дорогими; хотелось крикнуть из окопа туда, в далекий тыл: «Большое спасибо». Обнять крепко, уверить всех, что здесь, на виду у врага, они смело смотрят в лицо смерти, что смерть не страшна им, была бы только жива Родина, которую они познали только теперь, на передовых окопах, в кроваво-огненном крещении жестокой битвы. Чтобы и там работали…
Солнце скрылось. Кроваво-красный закат зажег половину темного неба.
— Быть ветру, — покачал головой Груздев и достал из мешка три тоненькие свечки желтого воска.
Стрелки, громко стуча, мастерили в окопе длинный узкий стол. Что-то тихое, милое было в их неторопливых движениях, радостное, светлое в лицах. И только когда они оглядывались к неприятельским окопам, в их глазах загоралась невольная тревога и грусть.
Кроваво-красная полоса заката суживалась, бледнела, пропадала. Бледно-розовая тьма скрыла все: лес, неприятельский окоп, отдельные деревья уходили в темную даль. Ярко, радостно зажглась в небе первая звездочка. Стрелки смотрели на нее — долго, не отрываясь, забывши про подарки. Казалось, яркая звезда говорила им что-то.
— И у нас так же смотрят на звездочку, — мечтательно проговорил Груздев.
Казалось, что это сказала вся рота; и поручик, и прапорщик смотрели на звезду.
— Сказывают, — продолжал Груздев, — коли два человека издалека смотрят в одно время на звезду, то можно друг другу весточку дать.
— Никак звонят, — прошептал кто-то.
Все прислушались, оглянулись, посмотрели друг на друга, и всем показалось, что они слышат далекий церковный звон.
— Вы слышите, прапорщик? — с каким-то недоумением спросил поручик.
— Слышу, — тихо ответил прапорщик, и его слегка побледневшее лицо засветилось радостью.
Тихий, мелодично-красивый церковный звон несся по земле, и сквозь его нежный трезвон точно звучало тихое, мелодичное пение.
Все знали, что за много верст кругом нет церквей, что штабная походная церковь не имела колокола, и все-таки слышали звон. Слышали ясно, отчетливо и чудный напев пасхальных песнопений…
В небе загорались все новые и новые звезды, радостные, блестящие. Тихо. Церковный звон точно тает в тишине, пропадает… Пропал. Стрелки стоят неподвижно, ловят его чутким ухом и задумчиво смотрят друг на друга. В глазах светится неземная радость и еще что-то, о чем боятся даже думать. Точно сейчас вот тут в грязном окопе, совершилось что-то великое, чудесное…
Тьма ночи густеет; слабые лучи звезд тонкими нежными нитями тянутся к земле. Из-за леса поднялся месяц; сразу стало светло. Длинные, черные тени легли на поле.
Как-то неожиданно громко заговорили далекие выстрелы. Все сильно вздрогнули, вздохнули, зашевелились, заговорили. Нервно-торопливо стали прибирать стол, устанавливать пасхи, куличи, яйца. Поручик с часами в руках стоял у края стола. Груздев смотрел на него, и когда тот поднял на него глаза, Груздев махнул рукой.
Торжественно тихо запели солдаты величавую песнь:
— Христос Воскресе из мертвых…
Пение крепнет, захватывает всех. Поют, смотря на темное небо, на блестящие звезды, и кажется, что открывается небесный свод, реют тихие крылья ангелов и вот-вот польется с вышины победная песнь…
Оглушительный залп неприятельской артиллерии потряс воздух; замкнулись небеса, оборвалось песнопение.
В ярко-кровавом пламени разорвался громадный снаряд у самого края окопа. Частый дождь свинца, камней и песку засыпал стрелков. Груздев с тихим стоном схватился за грудь и упал. Когда унтер очнулся, перед ним на коленях стоял поручик.
— Христос Воскресе, ваше благородие! — с трудом проговорил Груздев, силясь улыбнуться.
— Христос Воскресе, братцы! — и, помолчав, добавил: — А немец-то нас насупротив не стрелял.
И закрыл глаза. И вдруг, вздрогнув всем телом, приподнялся, посмотрел на всех гаснувшим взглядом и с тихой улыбкой проговорил:
— Братцы, вынесите меня в поле, там легче… Простор…
Его подняли на носилках и опустили среди кустов. Прапорщик сидел рядом и держал его холодеющую руку.
— Умру я, ваше благородие, — тихо говорил унтер, пожимая руку офицера, — только немец, что напротив, не при чем тут; приказали.
И он забылся, и все пропало у него в глазах.
И вдруг понемногу, точно через тихо поднимающуюся завесу Груздев увидал бегущие от звезд лучи; они опускались с неба, как лестницы. Груздев глядел на их мигающий свет и боль от раны в груди не чувствовал. Тихий покой, радость охватывали его, а там, на самом верху темного неба загорался какой-то странный, неземной свет. Лучи звезд становились плотнее, и в свете их замелькали тени каких-то людей. Они идут, длинной вереницей, все ближе, ближе… Теперь Груздев ясно видит, что идут солдаты в серых шинелях.
— Агапыч! — кричит он, узнав убитого земляка. Агапыч повернулся, посмотрел на него тихими радостными глазами, улыбнулся светлым лицом и уплыл.
— Ваше благородие, — кричит Груздев, узнав умершего командира. — Степаныч, Ильин…
Много их — знакомых, давно убитых, теперь живых, светлых, радостных… Они плывут к далекому свету.
Как-то неожиданно почувствовал Груздев необыкновенную легкость во всем теле и стал отделяться от земли.
— Хорошо… Ваше благородие, прощайте… — прошептал он и вытянулся.
Груздев тихо плыл в свете звезд к далекому, чудному свету, а оттуда доносился тихий звон и радостное пение.
Прапорщик точно поймал последний вздох солдата, и вдруг ему тоже послышалось чудное небесное пение.
Он упал на колени, молился и плакал.
Ж. «Отдых христинина» №4, 1916 г.
Иоанн Дамаскин
Поэма Алексея Константиновича Толстого[18]
I
Любим калифом Иоанн:
Ему, что день, почет и ласка;
К делам правления призвáн
Лишь он один из христиан
Порабощенного Дамаска.
Его поставил властелин
И суд рядить, и править градом,
Он с ним беседует один,
Он с ним сидит в совете рядом:
Окружены его дворцы
Благоуханными садами,
Лазурью блещут изразцы,
Убрáны стены янтарями,
В полдневный зной приют и тень
Дают навесы, шелком тканы,
В узорных банях ночь и день
Шумят студéные фонтаны.
Но от него бежит покой,
Он бродит сумрачен, не той
Он прежде мнил идти дорогой,
Он счастлив был бы и убогий,
Когда б он мог в тиши лесной,
В глухой степи, в уединенье,
Дворца волнение забыть
И жизнь смиренно посвятить
Труду, молитве, песнопенью!
И раздавался уж не раз
Его красноречивый глас
Протúву ереси безумной,
Что на искусство поднялась
Грозой неистовой и шумной.
Упорно с ней боролся он,
И от Дамаска до Царьграда
Был, как боец за честь икон
И как художества ограда,
Давно известен и почтéн.
Но шум и блеск его тревожит,
Ужиться с ними он не может,
И, тяжкой думой обуян,
Тоска в душе и скорбь на лике,
Вошел правитель Иоанн
В чертог дамасского владыки.
«О! Государь, внемли! Мой сан,
Величье, пышность, власть и сила —
Все мне несносно, все постыло,
Иным призванием влекóм,
Я не могу народом править:
Простым рожден я быть певцом,
Глаголом вольным Бога славить!
В толпе вельмож всегда один,
Мученья полон я и скуки:
Среди пиров, в главе дружин
Иные слышатся мне звуки;
Неодолимый их призыв
К себе влечет меня все боле. —
О! Отпусти меня, калиф,
Дозволь дышать и петь на воле!»
И тот просящему в ответ:
«Возвеселись, мой раб любимый!
Печали вечной в мире нет
И нет тоски неизлечимой!
Твоею мудростью одной
Кругом Дамаск могуч и славен.
Кто ныне нам величьем равен?
И кто дерзнет на нас войной?
А я возвышу жребий твой —
Недаром я окрест державен —
Ты примешь чести торжество,
Ты будешь мне мой брат единый;
Возьми полцарства моего,
Лишь правь другою половиной!».
К нему певец: «Твой щедрый дар,
О, государь, певцу не нужен:
С иною силою он дружен:
В его груди пылает жар,
Которым зиждется созданье;
Служить Творцу его призванье;
Его души незримый мир
Престолов выше и порфир.
Он не изменит, не обманет;
Все, что других влечет и манит:
Богатство, сила, слава, честь —
Все в мире том в избытке есть.
А все сокровища природы:
Степей безбережный простор,
Туманный очерк дальних гор,
И моря пéнистые воды,
Земля, и солнце, и луна,
И всех созвездий хороводы,
И синей тверди глубина —
То все — одно лишь отраженье,
Лишь тень таинственных красот,
Которых вечное виденье
В душе избранника живет!
О, верь, ничем тот неподкупен,
Кому сей чудный дар доступен,
Кому Господь дозволил взгляд
В то сокровенное горнило,
Где первообразы кипят,
Трепещут творческие силы!
То их торжественный прилив
Звучит певцу в его глаголе —
О! Отпусти меня, калиф,
Дозволь дышать и петь на воле!».
И рек калиф: «В твоей груди
Не властен я держать желанье,
Певец! Свободен ты, иди,
Куда влечет тебя призванье!».
И вот правителя дворцы
Добычей сделались забвенья:
Оделись пестрые зубцы
Травой и прахом запустенья;
Его несчетная казна
Давно уж нищим разданá,
Усердных слуг не видно боле,
Рабы отпущены на волю,
И не укажет ни один,
Куда их скрылся господин.
В хоромах стены и картины
Давно заткáны паутиной,
И мхом фонтаны заросли;
Плющи, ползущие по хорам,
От самых сводов до земли
Зеленым падают узором,
И мак спокойно полевой
Растет кругом на звонких плитах,
И ветер, шелестя травой,
В чертогах ходит позабытых.
II
Благословляю вас, леса,
Долины, нивы, горы, воды!
Благословляю я свободу
И голубые небеса!
И посох мой благословляю,
И эту бедную суму,
И степь от краю и до краю,
И солнца свет, и ночи тьму,
И одинокую тропинку,
По коей, нищий, я иду,
И в поле каждую былинку,
И в небе каждую звезду!
О, если б мог всю жизнь смешать я,
Всю душу вместе с вами слить!
О, если б мог в свои объятья
Я вас, враги, друзья и братья,
И всю природу заключить!
Как горной бури приближенье,
Как натиск пенящихся вод,
Теперь в груди моей растет
Святая сила вдохновенья!
Уж на устах дрожит хвала
Всему, что благо и достойно, —
Какие ж мне воспеть дела?
Какие битвы или войны?
Где я для дара моего
Найду высокую задачу?
Чье передам я торжество
Иль чье падение оплачу?
Блажен, кто рядом славных дел
Свой век украсил быстротечный;
Блажен, кто жизнию умел
Хоть раз коснуться правды вечной;
Блажен, кто истину искал,
И тот, кто, побежденный, пал
В толпе ничтожной и холодной,
Как жертва мысли благородной!
Но не для них моя хвала,
Не им восторга излиянья!
Мечта для песен избрала
Не их высокие деянья!
И не в венце сияет Он,
К Кому душа моя стремится;
Не блеском славы окружен,
Не на звенящей колеснице
Стоит Он, гордый Сын побед,
Не в торжестве величья — нет.
Я зрю Его передо мною
С толпою бедных рыбаков,
Он тихо мирною стезею
Идет меж зреющих хлебов;
Благих речей Своих отраду
В сердца простые Он лиет,
Он правды алчущее стадо
К ее источнику ведет.
Зачем не в то рожден я время,
Когда меж нами во плоти,
Неся мучительное бремя,
Он шел на жизненном пути!
Зачем я не могу нести,
О, мой Господь, Твои оковы,
Твоим страданием страдать
И крест на плечи Твой принять,
И на главу венец терновый!
О, если б мог я лобызать
Лишь край святой Твоей одежды,
Лишь пыльный след Твоих шагов,
О, мой Господь, моя надежда!
Моя и сила, и покров!
Тебе хочу я все мышленья,
Тебе всех песней благодать,
И думы дня, и ночи бденья,
И сердца каждое биенье,
И душу всю мою отдать!
Не отверзайтесь для другого
Отныне, вещие уста!
Греми лишь именем Христа,
Мое восторженное слово!
III
Часы бегут. Ночная тень
Не раз сменяла зной палящий,
Не раз, всходя, лазурный день
Свивал покров с природы спящей.
И перед странником вдали
И волновались, и росли
Разнообразные картины:
Белели снежные вершины
Над лесом кéдровым густым,
И Иордан сверкал в степном просторе,
И Мертвое чернело море,
Сливаясь с небом голубым.
И вот, вия´сь в степи широкой,
Чертой изогнутой легло
Пред ним Кедронского потока
Давно безводное русло.
Смеркалось. Пар струился синий.
Кругом царила тишина.
Мерцали звезды, над пустыней
Всходила медленно луна.
Брегов сожженные стремнины
На дно сбегали крутизной,
Спирая узкую долину
Двойной отвесною стеной.
Внизу кресты, символы веры,
Стоят в обрывах здесь и там,
И видны странника очам
В утесах рытые пещеры.
Сюда со всех концов земли,
Бежав мирского треволненья,
Отцы святые притекли
Искать покоя и спасенья.
С краев до высохшего дна,
Где спуск крутой ведет в долину,
Руками их возведенá
Из кáмней крепкая стена,
Отпор степному сарацину.
В стене ворота. Тесный вход
Над ними башня стережет.
Тропинка вьется над оврагом,
И вот, спускаясь по скалáм,
По свете звезд усталым шагом
Подходит странник к воротáм.
«Тебя, безбурное жилище,
Тебя, познания купель,
Житейских помыслов кладбúще
И новой жизни колыбель,
Тебя приветствую, пустыня,
К тебе стремился я всегда!
Будь мне убежищем отныне,
Приютом песен и труда!
Все попечения мирские
Сложив с себя у этих врат,
Приносит вам, отцы святые,
Свой дар и гусли новый брат!»
IV
«Отшельники Кедронского потока,
Игумен вас сзывает на совет!
Сбирайтесь все! Пришедший издалека
Вам новый брат приносит свой привет!
Велики в нем и вера, и призванье,
Но должен он пройти чрез испытанье!
Из вас его вручаю одному:
Он тот певец, меж всеми знаменитый,
Что разогнал иконоборства тьму,
Чьим словом ложь попрана и разбита,
То Иоанн, святых икон защита —
Кто хочет быть наставником ему?»
И, лишь назвал игумен это имя,
Заволновался весь монахов ряд,
И на певца дивятся и глядят,
И пробегает шепот между ними.
Главами все поникнувши седыми,
С смирением игýмну говорят:
«Благословен сей славный Божий воин,
Благословен меж нас его приход,
Но кто же здесь учить того достоин,
Кто правды свет вокруг себя лиéт?
Чье слово нам, как колокол, звучало —
Того ль приять дерзнем мы под начало?».
Тут из толпы один выходит брат:
То черноризец был на вид суровый,
И строг его пытýющий был взгляд,
И строгое певцу он молвил слово:
«Держать посты уставы нам велят,
Служенья ж мы не ведаем иного! —
Коль под моим началом хочешь быть,
Тебе согласен дать я наставленье.
Но должен ты отныне отложить
Ненужных дум безплодное (ст. русск) броженье;
Дух праздности и прелесть песнопенья
Постом, певец, ты должен победить!
Коль ты пришел отшельником в пустыню,
Умей мечты житейские попрать,
И на уста, смирив свою гордыню,
Ты наложи молчания печать!
Исполни дух молитвой и печалью —
Вот мой устав тебе в новоначалье!»
Замолк монах. Нежданный приговор
Как гром упал средь мирного синклита.
Смутились все. Певца померкнул взор,
Покрыла бледность впалые ланиты.
И неподвижен долго он стоял,
Безмолвно, опустив на землю очи,
Как будто бы ответа он искал,
Но отвечать недоставало мочи.
И начал он:
«Моих всю бодрость сил,
И мысли все, и все мои стремления —
Одной я только цели посвятил:
Хвалить Творца и славить в песнопеньи.
Но ты велишь скорбеть мне и молчать —
Твоей, отец, я повинуюсь воле:
Весельем сердце не взыграет боле,
Уста сомкнет молчания печать.
Так вот где ты таилось, отреченье,
Что я не раз в молитвах обещал!
Моей отрадой было песнопенье,
И в жертву ты, Господь, его избрал!
Настаньте ж, дни молчания и муки!
Прости, мой дар! Ложись на гусли, прах!
А вы, в груди взлелеянные звуки,
Замрите все на трепетных устах!
Спустися, ночь, на горестного брата
И тьмой его от солнца отлучи!
Померкните, затмитесь без возврата,
Моих псалмов звенящие лучи!
Погибни, жизнь! Погасни, огнь алтарный!
Уймись во мне, взволнованная кровь!
Свети лишь ты, небесная любовь,
В моей ночи звездою лучезарной!
О, мой Господь! Прости последний стон,
Последний сердца страждущего ропот!
Единый миг — замрет и этот шепот,
И встану я, Тобою возрожден!
Свершилось. Мрака набегают волны,
Взор гаснет. Стынет кровь. Всему конец!
Из мира звуков в мир безмолвный
Нисходит к вам развенчанный певец!».
V
В глубоком ущелье,
Как гнезда стрижей,
По желтым обрывам темнеют пустынные кельи,
Но речи не слышно ни чьей:
Все тихо, пока не сберется к служенью
Отшельников рой.
И вторит тогда их обрядному пенью
Один отголосок глухой.
А там, над краями долины,
Безлюдной пустыни царит торжество,
И пальмы не видно нигде ни единой,
Все пусто кругом и мертво.
Как жгучее бремя,
Так небо усталую землю гнетет,
И кажется, будто бы время
Свой медленный звучно свершает над нею полет.
Порой отдаленное слышно рычанье
Голодного льва…
И снова наступит молчанье,
И снова шумит лишь сухая трава.
Когда из-под камней змея, выползая,
Блеснет чешуей;
Крылами треща, саранча полевая
Взлетит иногда. Иль случится порой:
Пустыня проснется от дикого клика,
Посыпятся камни, и там, в вышине,
Дрожа и колеблясь, мохнатая пика
Покажется в небе. На легком коне
Появится всадник; над самым оврагом,
Сдержав скакуна запененного лёт,
Проедет он мимо обители шагом
Да инокам сверху проклятье пошлет,
И снова все стихнет. Лишь в полдень орлицы
На крыльях недвижных парят,
Да вечером звезды горят,
И скучною тянутся длинные дни вереницей.
VI
Порою в тверди голубой
Проходят тучи над долиной:
Они картину за картиной,
Плывя, свивают меж собой.
Так, в нескончаемом движеньи,
Клубится предо мной всегда
Воспоминаний череда,
Погибшей жизни отраженья:
И льнут, и вьются без конца,
И вечно волю осаждают,
И онемевшего певца,
Ласкаясь, к песням призывают.
И казнью стал мне праздный дар,
Всегда готовый к пробужденью,
Так ждет лишь ветра дуновенья
Под пеплом тлеющий пожар.
Перед моим тревожным духом
Теснятся образы толпой,
И в тишине над чутким ухом
Дрожит созвучий мерный строй.
И я, не смея святотатно
Их вызвать в жизнь из царства тьмы,
В хаоса ночь гоню обратно
Мои непетые псалмы.
Но тщетно я в бесплодной битве
Твержу уставные слова
И заучéнные молитвы —
Душа берет свои права!
Увы, под этой ризой черной,
Как в оны дни под багряцем,
Живым палимое огнем,
Мятется сердце непокорно!
Юдоль, где я похоронил
Броженье деятельных сил,
Свободу творческого слова —
Юдоль молчанья рокового!
О, передай душе моей
Твоих стремнин покой угрюмый!
Пустынный ветер, о, развей
Мои недремлющие думы!
VII
Тщетно он просит и ждет от безмолвной юдоли покоя,
Ветер пустынный не может недремлющей думы развеять.
Годы проходят один за другим, все безплодные годы!
Все тяжелее над ним тяготит роковое молчанье.
Так он однажды сидел у входа пещеры, рукою
Грустные очи закрыв и внутренним звукам внимая.
К скорбному тут к нему подошел один черноризец,
Пал на колени пред ним и сказал: «Помоги, Иоанне!
Брат мой по плоти преставился; братом он был по душе мне!
Тяжкая горесть снедает меня. Я плакать хотел бы —
Слезы не льются из глаз, но скипаются в горестном сердце.
Ты же мне можешь помочь: напиши лишь умильную песню,
Песнь погребальную милому брату, ее чтобы слыша,
Мог я рыдать, и тоска бы моя получила ослабу!».
Кротко взглянул Иоанн и печально в ответ ему молвил:
«Иль не ведаешь ты, каким я связан уставом?
Строгое старец на песни мои наложил запрещенье».
Тот же стал паки его умолять, говоря: «Не узнает
Старец о том никогда, он отсель отлучился на три дня,
Брата мы ж завтра хороним: молю тебя всею душой,
Дай утешение мне в безпредельно горькой печали!».
Паки ж отказ получив, «Иоанне! — сказал черноризец —
Если бы был ты телесным врачом, а я б от недуга
Так умирал, как теперь умираю от горя и скорби,
Ты ли бы в помощи мне отказал? И не дашь ли ответа
Господу Богу о мне, если нынче умру безутешен?»
Так говорил, колебал в Дамаскине он мягкое сердце.
Собственной полон печали, певец дал жалости место:
Черной тучей тогда на него снизошло вдохновенье.
Образы мрачной явились толпой, и в воздухе звуки
Стали надгробное мерно гласить над усопшим рыданье.
Слушал певец, наклонивши главу, то незримое пенье,
Долго слушал, и встал, и с молитвой вошедши в пещеру,
Там послушной рукой начертал, что ему прозвучало.
Так был нарушен устав, так прервано было молчанье.
Над вольной мыслью Богу неугодны
Насилие и гнет:
Она, в душе рожденная свободно,
В оковах не умрет!
Ужели вправду мнил ты, близорукий,
Сковать свои мечты!
Ужель попрать в себе живые звуки
Насильно думал ты?
С Ливанских гор, где в высоте лазурной
Белеет дальний снег,
В простор степей стремяся, ветер буйный
Удержит ли свой бег?
И потекут ли вспять струи потока,
Что между скал гремят?
И солнце там, поднявшись от востока,
Вернется ли назад?
VIII
Колоколóв унылый звон
С утра долину оглашает.
Покойник в церковь принесен:
Обряд печальный похорон
Собор отшельников свершает.
Свечами светится алтарь,
Стоит певец с поникшим взором,
Поет напутственный тропарь,
Ему монахи вторят хором.
Тропарь
«Какая сладость в жизни сей
Земной печали непричастна?
Чье ожиданье не напрасно?
И где счастливый меж людей?
Все то превратно, все ничтожно,
Что мы с трудом приобрели, —
Какая слава по земли
Стоит тверда и непреложна?
Все пепел, призрак, тень и дым,
Исчезнет все, как вихорь пыльный,
И перед смертью мы стоим
И безоружны, и безсильны (ст.русск. яз. — ред.).
Рука могучего слаба,
Ничтожны царские веленья —
Прими усопшего раба,
Господь, в блаженные селенья!
Как ярый витязь, смерть нашла,
Меня, как хищник, низложила,
Свой зев разинула могила
И все житейское взяла.
Спасайтесь, сродники и чада,
Из гроба к вам взываю я,
Спасайтесь, братья и друзья,
Да не узрúте пламень ада!
Вся жизнь есть царство суеты,
И, дуновенье смерти чуя,
Мы увядаем, как цветы, —
Почто ж мятемся всуе?
Престолы наши суть гробá,
Чертоги наши — разрушенье,
Прими усопшего раба,
Господь, в блаженные селенья!
Средь груды тлеющих костей
Кто царь? Кто раб? Судья иль воин?
Кто Царства Божия достоин?
И кто отверженный злодей?
О, братья, где сребро и злато?
Где сонмы многие рабов?
Среди неведомых гробов
Кто есть убогий, кто богатый?
Все пепел, дым, и пыль, и прах,
Все призрак, тень и привиденье —
Лишь у Тебя на Небесах,
Господь, и пристань, и спасенье!
Исчезнет все, что было плоть,
Величье наше будет тленье —
Прими усопшего, Господь,
В Твои блаженные селенья!
И Ты, Предстательница всем!
И Ты, Заступница скорбящим!
К Тебе о брате, здесь лежащем,
К Тебе, Святая, вопием!
Моли Божественного Сына,
Его, Пречистая, моли,
Дабы отживший на земли
Оставил здесь свои кручины!
Все пепел, прах, и дым, и тень!
О, други, призраку не верьте!
Когда дохнет в нежданный день
Дыханье тлительное смерти,
Мы все поляжем, как хлеба,
Серпом подрезанные в нивах —
Прими усопшего раба,
Господь, в селениях счастливых!
Иду в незнаемый я путь,
Иду меж страха и надежды;
Мой взор угас, остыла грудь,
Не внемлет слух, сомкнуты вежды,
Лежу безгласен, недвижим,
Не слышу братского рыданья,
И от кадила синий дым
Не мне струит благоуханье.
Но, вечным сном пока я сплю,
Моя любовь не умирает.
И ею, братья, вас молю,
Да каждый к Господу взывает:
Господь! В тот день, когда труба
Вострýбит мира преставленье, —
Прими усопшего раба
В Твои блаженные селенья!»
IX
Так он с монахами поет.
Но вот меж ними, гость нежданный,
Нахмуря брови, предстает
Наставник старый Иоанна.
Суровы строгие черты.
Главу подъемля величаво,
«Певец! — он молвит, — так ли ты
Блюдешь и чтишь мои уставы?
Когда пред нами бренный прах,
Не петь, но плакать нам пристойно!
Изыди, инок недостойный —
Не в наших жить тебе стенах!».
И, гневной речью пораженный,
Виновный пал к его ногам:
«Прости, отец! Не знаю сам,
Как преступил твои законы!
Во мне звучал немолчный глас.
В неодолимой сердца муке
Невольно вырывались звуки,
Невольно песня полилась!».
И ноги старца он объемлет:
«Прости вину мою, отец!»,
Но тот раскаянью не внемлет,
Он говорит: «Беги, певец!
Досель житейская гордыня
Еще жива в твоей груди —
От наших келий отойди,
Не оскверняй собой пустыни!».
X
Прошла по лавре роковая весть,
Отшельников смутилося собранье:
«Наш Иоанн, Христовой Церкви честь,
Наставника навлек негодованье!
Ужель ему придется перенесть,
Ему, певцу, позорное изгнанье?».
И жалостью исполнились сердца,
И все собором молят за певца.
Но, словно столб, наставник непреклонен,
И так в ответ просящим молвит он:
«Устав, что мной однажды узаконен,
Не будет даром ныне отменен.
Кто к гордости и к ослушанью склонен,
Того, как терн, мы вырываем вон.
Но, если в нем неложны сожаленья,
Епитимьей он выкупит прощенье:
Пусть он обходит лавры черный двор,
С лопатою обходит и с метлою;
Свой дух смирив, повсюду грязь и сор
Он непокорной выметет рукою.
Дотоль над ним мой крепок приговор,
И нет ему прощенья предо мною!».
Замолк. И, вняв безжалостный (ст. русск) отказ,
Вся братия в печали разошлась.
Презренье, други, на певца,
Что дар священный унижает,
Что пред кумирами склоняет
Красу лаврового венца!
Что гласу истины и чести
Внушенье выгод предпочел,
Что угождению и лести
Безстыдно (ст. русск) продал свой глагол!
Из века в век звучать готово
Ему на казнь и на позор
Его безсовестное (ст. русск) слово,
Как всенародный приговор.
Но ты, иной взалкавший пищи,
Ты, что молитвою влеком,
Высокий сердцем, духом нищий,
Живущий мыслью со Христом,
Ты, что пророческого взора
Пред блеском мира не склонял, —
Испить ты можешь без укора
Весь унижения фиал!
И старца речь дошла до Дамаскáна.
Епитимьи условия узнав,
Певец спешит свои загладить вúны,
Спешит почтить неслыханный устав.
Сменила радость горькую кручину;
Без ропота лопату в руки взяв,
Певец Христа не мыслит о пощаде,
Но униженье терпит Бога ради.
Тот, Кто с вечною любовью
Воздавал за зло добром, —
Избиен, покрытый Кровью,
Вéнчан тéрновым венцом.
Всех, с Собой страданием сближенных,
В жизни долею обиженных,
Угнетенных и униженных
Осенил Своим Крестом.
Вы, чьи лучшие стремления
Даром гибнут под ярмом,
Верьте, други, в избавление,
К Божью свету мы грядем!
Вы, кручиною согбенные,
Вы, цепями удрученные,
Вы, Христу сопогребенные,
Совоскреснете с Христом!
XI
Темнеет. Пар струится синий.
В ущелье мрак и тишина.
Мерцают звезды, и луна
Восходит тихо над пустыней.
В свою пещеру одинок
Ушел отшельник раздраженный.
Всё спит. Луной посеребренный,
Иссякший видится поток.
Над ним скалистые вершины
Из мрака смотрят тут и там,
Но сердца старца не влекут
Природы мирные картины:
Оно для жизни умерло.
Согнувши строгое чело,
Он, чуждый миру, чуждый братьям,
Лежит, простерт перед Распятьем.
В пыли седая голова,
И смерть к себе он призывает,
И шепчет мрачные слова,
И камнем в перси ударяет.
И долго он поклоны клал,
И долго смерть он призывал,
И наконец в изнеможенье,
Безгласен, наземь он упал.
И старцу видится виденье:
Разверзся вдруг утесов свод,
И разлилось благоуханье.
То из невидимых высот
В пещеру падает сиянье.
И в трепетных его лучах,
Одеждой звездною блистая,
Явилась Дева Пресвятая
С Младенцем спящим на руках.
Из света чудного слиянный,
Ее небесно-кроток вид.
«Почто ты гонишь Иоанна? —
Она монаху говорит. —
Его молитвенные звуки,
Как голос Неба на земли,
В сердца послушные текли,
Врачуя горести и муки.
Почто ж ты, старец, заградил
Нещадно тот источник сильный,
Который мир бы напоил
Водой целебной и обильной?
На то ли жизни благодать
Господь послал Своим созданьям,
Чтоб им безплодным (ст. русск) истязаньем
Себя казнить и убивать?
Он дал природе изобилье
И бег струящимся рекам,
Он дал движенье облакам,
Земле цветы и птицам крылья.
Почто ж певца живую речь
Сковал ты заповедью трудной?
Оставь его глаголу течь
Рекой певучей неоскудно.
Да оросят его мечты,
Как дождь, житейскую долину,
Оставь земле ее цветы,
Оставь созвучья Дамаскúну!».
Виденье скрылось в облаках,
Заря восходит из тумана…
Встает встревоженный монах,
Зовет и ищет Иоанна.
И вот обнял его старик:
«О, сын смирения Христова!
Тебя душою я постиг —
Отныне петь ты можешь снова!
Отверзи вещие уста,
Твои окончены гоненья!
Во имя Господа Христа,
Певец, святые вдохновенья
Из сердца звучного излей;
Меня ж, молю, прости, о, чадо,
Что слову вольному преградой
Я был по глупости моей!».
XII
Воспой же, страдалец, воскресную песнь!
Возрадуйся жизнию новой!
Исчезла коснения долгая плеснь,
Воскресло свободное слово!
Того, Кто оковы души сокрушил,
Да славит немолчно созданье!
Да хвалят торжественно Господа Сил
И солнце, и месяц, и хоры светил,
И всякое в мире дыханье!
Блажен, кому ныне, Господь, пред Тобой
И мыслить, и молвить возможно!
С безтрепетным сердцем и с теплой мольбой
Во имя Твое он выходит на бой
Со всем, что неправо и ложно!
Раздайся ж, воскресная песня моя!
Как солнце взойди над землею!
Расторгни убийственный сон бытия´
И, свет лучезарный повсюду лия´,
Громи, что созúждено тьмою!
Не с диких падает высот
Средь темных скал поток нагорный,
Не буря грозная идет,
Не ветер прах вздымает черный,
Не сотни гнущихся дубов
Шумят главами вековыми,
Не ряд морских бежит валов,
Качая гребнями седыми, —
То Иоанна льется речь,
И, сил исполненная новых,
Она громит, как Божий меч,
Во прах противников Христовых!
Не солнце красное встает,
Не утро светлое настало,
Не стая лебедей взыграла
Весной на лоне ясных вод,
Не соловьи в стране привольной.
Зовут соседних соловьев,
Не гул несется колокольный
От многохрамных городов, —
То слышен всюду плеск народный,
То ликованье христиан,
То славит рéчию свободной
И хвалит в песнях Иоанн,
Кого хвалить в своем глаголе
Не перестанут никогда
Ни каждая былинка в поле,
Ни в небе каждая звезда!
1858 г.
Азбука для начинающих духовную жизнь
- Проснувшись, вспомни о Боге и положи на себе крестное знамение.
- День свой начинай лишь после молитвенного правила.
- В течение дня молись краткими молитвами.
- Молитва — это крылья души, она делает душу престолом Божиим.
- Чтобы Бог услышал твою молитву, надо молиться не языком, а сердцем.
- Не бросай молитвы, когда враг нагоняет на тебя бесчувствие. Кто принуждает себя к молитве при сухости души, тот выше молящегося со слезами.
- Новый Завет тебе надо знать разумом и сердцем, поучаться в нем постоянно. Непонятное не сам толкуй, а узнавай из творений святых.
- Святую воду с каждого освящения не забывай пить.
- «Богородице Дево» произноси на каждый час.
- Читай творения святых отцов. Если у тебя нет их, попроси, кто имеет.
- Во искушениях и напастях твоих читай Псалтирь и молебные каноны.
- При нападении демонов и приближении греха пой песнопения Страстей Христовых и Пасхи. Читай канон с акафистом Иисусу Христу — Он разрешит узы оковавшего тебя мрака.
- Если не знаешь, не можешь петь и читать, то в минуту брани поминай имя Иисусово, стой у Креста Его и врачуйся плачем своим.
- Начинающий духовную жизнь должен помнить, что он больной: ум заблуждается, воля клонится ко злу, сердце в нечистоте от клокочущих в нем страстей. Поэтому духовное совершенствование должно быть в приобретении душевного здоровья.
- Постись и знай, что Богу угодно не только воздержание чрева, но паче воздержание сердца и страстей.
- Духовная жизнь — постоянная брань с врагами спасения души. Не спи, дух твой должен быть бодр. В брани сей призывай на помощь твоего Спасителя.
- Не соглашайся с греховными помыслами, знай, что согласие — это греховное дело.
- Помни, что погибают только нерадивые.
- Постоянно проси: «Страх Твой, Господи, всели в сердце мое». О, как блажен тот, кто имеет постоянный трепет перед Господом нашим Иисусом Христом.
- Все сердце без остатка отдай Богу — и ощутишь рай на земле.
- Вера укрепляется от всегдашнего покаяния и молитвы, а также от общения с людьми глубокой веры.
- Запиши всех знакомых, любящих и ненавидящих тебя, страдальцев века сего нашего и тех, о которых некому помолиться, живых и мертвых, и поминай их ежедневно в своих молитвах.
- Ищи неустанно дел милосердия и любви сострадательной; без этих дел невозможно угодить Богу.
- Без неотложной необходимости никуда не ходи.
- Как можно меньше смейся и говори поменьше.
- Не будь никогда празднен, а в праздник почитай Святое Писание.
- Люби святое уединение.
- Все обиды — терпи: сначала молчанием, потом укорением себя, потом молитвой за обидчика.
- Смирение побеждает всех бесов, а терпение побеждает страсти души и тела.
- Не показывай на молитве твоей ревности, твоих слез умиления.
- Православного священника почитай ангелом, благовестником, посланником.
- С людьми общайся осторожно — как с огнем; внимательно — как с наследниками Царствия Божия.
- Всем все прощай и всем сочувствуй в их страданиях.
- Не забывай ближних.
- Кто ищет покоя, в том не может быть Святой Дух.
- Тоска и смущение нападают на человека от недостатка молитвы.
- Всегда и везде призывай на помощь своего Ангела-хранителя.
- Храни всегда плач сердечный о грехах своих, а после Святого Причастия радуйся тихо об освобождении своем.
- Знай свои грехи, а чужих тщательно берегись. Не губи себя осуждением. Осуждающий — антихрист.
- Каждый вечер исповедуйся Господу во всех своих грешных делах, словах, мыслях.
- Перед сном мирись со слезами, земным поклоном.
- Не рассказывай снов другим людям.
- Усни с крестным знамением.
- Ночная молитва дороже дневной.
- Не теряй связи с духовным отцом, страшись его оскорбить или обидеть, ничего не таи от него.
- Внутренняя скорбь о грехах спасительнее всех телесных подвигов.
- Всегда и за все благодари Господа.
- Нет лучше слов на нашем языке, как «Господи, спаси меня».
- Полюби церковные уставы и сближай их с жизнью твоею.
- Внимай внешним чувствам — через них входит враг.
- Когда познаешь бессилие в творении добра, то помни, что тебя спасает Спаситель.
- Вера должна быть неприступной крепостью. Знай, что враг не дремлет, а стяжи каждый твой шаг.
- Скорби, теснота, труды, болезни сближают нас с Богом; не бойся и не ропщи.
- Никто не восходит на небо, живя благополучно.
- Как можно чаще причащайся, в этом твоя жизнь.
- Никогда не забывай, что Господь при дверех, что скоро суд и воздаяние.
- Помни, что Господь уготовал любящим Его.
- Не верь каким-либо (даже добрым) пожеланиям своим; не верь своему сердцу, пока не одобрит духовник.
- Отделяй от себя греховное начало, внимай себе, избегай желаний твоих — внутреннего врага.
- Читай «Азбуку» раз в неделю.
Сто вопросов и сто ответов на запросы христианской души
(Собрано и составлено для наставления духовным чадам)
«Душевными очима ослеплен, к Тебе, Христу, прихожду».
«Господи, пошли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое»
(молитва святителя Иоанна Златоуста).
«Многие сейчас недоумевают, огорчаются, смущаются при мысли, что условия жизни так мало соответствуют желаниям; что в постоянной суете трудно сосредоточиться; что в сложных вопросах духовной жизни не разобраться, а спросить некого; что усталость гасит всякое стремление ввысь, а раздражение мешает видеть доброе во всем.
И все-таки: «Се время благоприятное, се день спасения» (2 Кор.6:2).
Собрав некоторые вопросы и ответы на них духовно опытных, постараемся помочь себе встать и пойти к Отцу, не оглядываясь назад».
Из архива протоиерея Григорий Пономарев
Вопрос 1
Почему все вокруг так мешает внутренней жизни?
Ответ: Потому, что надо больше смотреть[19] внутрь, в свою душу, а не тратить внимание и силы на то, чего мы не можем изменить. Мы часто забываем о Боге, очень часто, и в этом причина такого состояния.
Еще преподобный Исаак Сирин говорил: «Умирись сам с собою, и умирятся с тобою небо и земля».
Вопрос 2
Как же помнить о Боге, если все так рассеивает и мешает?
Ответ: Что же все?
Это все — в нас.
Очень кратко об этом сказал Исаак Сирин, назвав все наши отвлечения близким общением с землей.
От этой близости ум занят совсем не тем, что требуется, то есть — не Богом, и потому не приходит на мысль добродетель, и ничто не побуждает помнить о Боге. Опять же, — проследи за собой:
во все ли случающееся рядом надо вникать?
все ли известия слушать?
все ли разбирать и во всем ли участвовать?
Иногда достаточно удерживать мысль от того, чтобы согласиться с неприятным мнением о ком-то (пусть и верным, фактически), чтобы услышанный разговор не тронул сердца и забылся.
Вопрос 3
Как же помочь себе?
Ответ: Следить за собой и держать себя в руках.
Думать прежде, а потом говорить.
Не позволять себе во все входить, что вокруг делается и говорится.
И конечно, молиться, просить Господа помочь, умудрить, просветить «светом разума Евангелия!»
В одной из утренних молитв (святого Макария Великого) просим: «Сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творити волю Твою».
— Читаем?
— Да, каждый день.
Вдумываемся ли в то, что и о чем просим?
— Чаще всего — нет.
Кто же тогда будет за нас думать, хотеть обращаться к Богу?
Всё в себе?
Вопрос 4
Что же может помочь собраться внутренне?
Ответ: То, что в аскетике святыми отцами названо «трезвенным надзором за помыслами».
Ум, пребывая в сердце на страже помыслов, должен заключать внимание в слова молитвы.
Даже некоторое время, небольшое, проведенное с полным устремлением к Богу ума и сердца, дает душе силу делать обычные дела и не тонуть в них, как это бывает (чувствуешь себя разбитым, ни на что не способным).
Вопрос 5
Если молитва утомляет?
Ответ: Утомляет она потому, что мы вносим «свое» в то течение, которое может вознести душу к Богу.
«Свое» заключается в стремлении уйти в себя, сопоставить свое состояние с тем, о чем читают или поют в храме. Обычно это напряжение сказывается на настроении, и человек уходит из храма уставшим и даже раздраженным. Не зря есть в храмовой молитве предел: вот теперь все свои прошения оставь, только внимай просимому Церковью и с ней благодари Бога.
Этот порядок не просто установлен, а для того, чтобы человек унес из храма мир, тишину, ясность; запасся силами и радостью. Если есть в душе неудовлетворенность, досада, желание большего при неимении и меньшего, то надо себя проверить: что-то в себе неверно.
Вопрос 6
Что в себе может мешать церковной молитве?
Ответ: Мы слышим и поем:
«Сподоби чистым сердцем Тебе славити!»
Всякая нечистота и мешает.
Наша страстность, наше внутреннее неустройство, неподготовленность, тем более — осуждение людей, превозношение, презрение, пустословие…
Вопрос 7
В храме порой так трудно стоять и молиться: ходят, толкают, разговаривают…
Ответ: Да, трудно! Но на храм, как прежде и на монастырь, надо смотреть как на больницу. И молитвы читают: «Пришел во врачебницу». Отец Варсонофий Оптинский говорит, что на больных не обижаются. Кто чем болен: кто унынием страдает, кто — раздражением, кто — гневом, кто — нетерпением. И всех надо в жизни и в храме терпеть; все пришли к Богу и жаждут исцеления.
И, конечно, посмотреть на себя: может быть, и от меня кому-то трудно, и я кому-то мешаю.
Вопрос 8
Когда душа рвется, надо успеть сделать то и другое, а времени нет, — как быть?
Ответ: — Осознать, что такое устроение неверное — при нем только и будет одна досада и обвинение других.
Надо делать все по совести, хорошо и быстро, не терять времени на ненужные занятия или разговоры.
Но рваться не надо. Мир души теряется, дело все равно на месте, а с молитвой будет еще хуже. Да и на людей в любой момент вспыхнет недовольство, а то и зависть или неприязнь. Пусть лучше дело пострадает, но не мир своей души, или мир с людьми. Об этом часто напоминал отец Никон Воробьев.
Вопрос 9
Трудно хранить память о Боге не только среди дел, на работе, при разговорах, но и по дороге в храм и даже в самом храме. Что же делать?
Ответ: Как правило, именно там, где надо было бы наиболее усердно помнить Бога, молиться Ему, вами овладевают совершенно ненужные мысли. Бороться с ними трудно, но нужно.
Наша беда в том, что мы тогда начинаем это замечать, когда они прочно устроились в нашем сознании и приходят к нам, по образному выражению преподобного Марка Подвижника, как старые знакомые. Мы должны всегда следить за своими мыслями, а на пути в храм тем более заботиться и готовиться к молитве, тогда было бы легче.
Вопрос 10
Почему так часто бывает тяжело на душе, безрадостно?
Ответ: Легкость душе дает мир Божий.
Благословение Божие душа воспринимает как полный радостный покой и готовность принять все от Бога.
Когда этого нет, тогда мрачно и тяжко.
Как только потеряет душа мир, надо искать: почему это произошло?
Преподобный Серафим Саровский говорил: «Для сохранения мира душевного надо всячески избегать осуждения других».
Хотя мы и не хотим терять свой мир, но мало заботимся об этом и часто, не отдавая себе отчета, беремся за то, чего следовало бы тщательно избегать.
Вопрос 11
Чем вызваны постоянные ошибки, грехи, упущения?
Ответ: Гордостью!
И за отсутствием глубокого смирения мы допускаем и осуждение, и пустословие, и превозношение, и многое другое. Когда старец Захария уже был тяжело болен и почти не говорил, то и тогда обращал внимание приходящих на тяжесть таких грехов, как осуждение.
Осуждающий ни в какой мере не может быть смиренным, а без смирения нет спасения.
Вопрос 12
Такие тяжкие грехи, как осуждение, превозношение, зависть и прочие за один день не одолеешь в себе. Чем помочь и как начать с ними бороться?
Ответ: Первое, что под силу нам в этой борьбе — удерживать язык. О молитве и речи нет, это само собой разумеется: без помощи Божией ничего не сделать.
А вот из доступных нам средств очень важно начинать следить за языком. Еще в древности Псалмопевец сказал: «Смутихся и не глаголах».
Пусть сразу сдержать сердце не удастся, но смолчать и не ранить другого можно.
К сожалению, осуждение так вошло в привычку, что ни один разговор без него не обходится, а потом на душе — пустота и тяжесть.
Вопрос 13
Иногда в церкви смущает поведение верующих, даже священников: например, — небрежно крестится или читает скороговоркой: не успеваешь расслышать, глотает слова молитвы…
Как избежать осуждения?
Ответ: Лучше всего встать так, чтобы меньше видеть.
И вообще поставить себе закон: «Идти в храм к Богу, и только!» Остальных не видеть и не слышать…
Когда с подобным вопросом пришел монах на исповедь к отцу Арсению Оптинскому, тот не сказал ему ничего, а, закрыв мантией, обратился к другому. И монах понял, что вредит ему привычка смотреть за каждым движением служащих.
Вопрос 14
Если возникает зависть к людям, имеющим лучшие условия, время, возможности, силы, здоровье, способности, — то как быть с этим?
Ответ: Напоминать себе, что Господь дает нам каждому свое; мы видим только часть, и ту часть — искаженно, из-за своей испорченности.
К тому же отец Александр Ельчанинов говорил, что преодоленное искушение умножает в нас силу духовную. Значит, не завидовать, а радоваться надо, что нам дается возможность множить духовные силы, преодолевая трудности и препятствия…
Вопрос 15
Иногда находит такая мрачность, все кажется противным, все раздражает. Как избежать этого?
Ответ: У преподобного Исаака Сирина говорится, что самоограничение во всем приводит в душу целомудрие.
«Тщеславие, по причине непрестанного мятежа и смущения помышлений своих, из всего случающегося собирает скверные сокровища и оскверняет сердце».
Когда все скверно, значит, не опуская рук, не унывая, надо откапывать сердце, смиряя себя и прося Божией помощи:
«Очисти ны от всякия скверны».
Вопрос 16
Когда читаешь о святых, то приходят мысли: хорошо в монастырях или в пустыне молиться, а тут помолись, когда кругом один шум, да еще какой. Даже во сне одни и те же слова слышны: ругательства, издевательства друг над другом… Да, не хочешь, а они в ушах звучат! Попробуй тут помолись! Что же делать?
Ответ: Предать всё и себя — воле Божией.
По силе молиться, окружающих не осуждать.
И еще учитывать одно: Господь допустил внешние трудности, значит — не допустит той страшной мысленной брани, которую знали подвижники, живущие в тишине своих келий.
Это легче, там бы мы не вынесли.
Господь это знает и посылает каждому по силе его.
Вопрос 17
Если бывают колебания: «Времени мало, надо успеть кому-то помочь. Или помолиться? Молитва ведь важнее, а другого времени, если сейчас не пойти по просьбе, не будет». Что выбрать?
Ответ: С таким вопросом однажды монахиня Амвросия обратилать к отцу Агапиту (в Оптиной пустыни).
Он ей сказал: «Сама с собой будешь, если отказывать людям ради уединения и молитвы, — (матушка Амвросия была врачом и не знала, как поступить, если обращаются за помощью), — помыслы пойдут, а доброе дело для ближнего заменяет молитву».
Вопрос 18
Что делать: в храме мысли разбегаются, дома молиться некогда; если удастся что почитать, то все наспех, в делах все мысли и чувства. Когда и как спасать свою душу?
Ответ: Преподобный Серафим Саровский однажды сказал послушнику Тимофею (будущему оптинскому архимандриту Моисею): «Стоя в церкви, надобно творить молитву Иисусову, тогда будет внятно и церковное Богослужение».
Это не одному послушнику полезно помнить, но и всем нам. Может быть, нам — еще более.
Потому нам об этом постараться надо усерднее, что у нас нужда больше. Среди всех трудностей одна надежда и защита — Господь.
Вопрос 19
Многие раньше и теперь обращаются с вопросом: как жить?
Ответ: Отец Антоний (в Оптине) в первые годы нашего века сказал на это:
— Живи просто по совести, всегда помни, что Господь видит, а на остальное не обращай внимания.
Вопрос 20
Как извне избежать смущения, резкости или сухости в обращении с теми, кто нам не нравится?
Ответ: Нам не приходится выбирать себе окружение. Нравится или нет, мы со всеми должны вести себя так, чтобы не давать людям повода ко греху.
Кстати, отец Никон (Беляев) на подобный вопрос отвечал: «Не надо давать воли своим чувствам, надо принуждать себя обходиться приветливо и с теми, кто не нравится».
Вопрос 21
При суете и занятости более всего страдает молитва. На все дела как-то найдешь время, на молитву же остаются минуты, в которые уже почти нет сил осознать, что читаешь, о чем просишь Бога. Или же совсем сваливаешься, как сноп, на постель, надеясь завтра быть усерднее.
Что можно изменить в таком случае?
Ответ: Свое отношение к ней (молитве).
Нельзя позволять себе делать так, оправдываясь усталостью и занятостью. Если и бывает так, то должно с покаянием и осуждением себя относиться к этому, напоминая себе, что молитва необходима.
В беседе с шамординскими монахинями отец Никон предупредил: «Если оставите молитву, то незаметно дойдете до такого состояния, что при желании молиться, при сильной потребности помолиться уже не сможете».
Вопрос 22
В церкви поют «Заповеди блаженства» и среди них ублажаются чистые сердцем, которым обещано счастье увидеть Господа. Возможно ли теперь при всех слабостях наших сил духовных думать об этом?
Ответ: Преподобный Исаак Сирин сказал всем:
«Кто желает видеть Господа внутри себя, тот прилагает усилие очищать сердце свое непрестанным памятованием о Боге». Сразу уточнил мудрый подвижник, что увидеть Господа возможно здесь, на земле. Увидеть не в мечтании, не во сне, не в особых видениях, а в собственом сердце. Увидеть, конечно, не физическим зрением, а «очами веры».
— Как достигнуть этого?
— «Прилагать усилие очищать сердце»
— Чем же?
— «Непрестанным памятованием о Боге».
Вопрос 23
Как учиться молиться?
Ответ: Старец Захария учил своих духовных детей: «Для водворения в сердце постоянной молитвы требуется, чтобы молящийся:
1) не говорил ничего лишнего, праздного;
2) не мечтал;
3) не беспокоился;
4) не делал ничего необдуманно, что захочется, но старался бы во всем творить волю Божию».
Вопрос 24
Если слова молитвы стали такими привычными, что произнося их, не удержишь посторонних мыслей: языком читаешь верно, а внимание неизвестно где, — чем помочь себе?
Ответ: Епископ Феофан в одном из своих писем советовал: как-нибудь выбрать время (не на молитву) и отметить для себя, о чем говорят, например, утренние молитвы в молитвеннике. Есть там слова благодарности, есть просьба благословить наступающий день и тому подобное. Вот тогда можно своими словами сказать о том же Господу, только не лукавить: не выпалить 2-3 фразы в минуту, — а постоять столько, сколько обычно уходит на утренние молитвы.
Вопрос 25:
Находясь среди людей, невольно можно обидеть того или другого… Всего не учтешь, а потом — себе неприятность и людям. Как избежать этого?
Ответ: В беседах старец Зосима просил вопрошающих его позаботиться о даре рассуждения, который дается тем, кто стяжал постоянную молитву. Как пример, он приводил святителя Иоанна Златоуста, умеющего каждого любить той любовью, которая способствует благу души его. Немощи человеческие не позволяют всех любить одинаково, надо с разумом разнообразить форму и выражение этой любви. Здесь-то и необходим дар рассуждения, чтобы вместо добра не причинить вред.
Вопрос 26
В праздники особенно легко и быстро может улетучиться хорошее молитвенное настроение. Если его не было, то возникает ощущение тяжести; и то, и другое — дело вражие. Можно ли избежать этого?
Ответ: Отец Никон (Беляев) предупреждал своих духовных чад, чтобы не суетились, не тонули в помыслах житейских; и, особенно во время молитвы и после нее, береглись пустословия. Для облегчения и чтобы сохранить умиление после молитвы церковной, он благословлял расходиться по домам поодиночке.
Мы теряем все доброе от невнимательности и несерьезности; еще оттого, что мало благоговения в душе.
Вопрос 27
Когда станет тяжело при мысли, что трудно идти по жизни без руководства, как быть?
Ответ: «Духовный руководитель, — говорил отец Никон (Беляев), — только, как отец, указывает путь. Идти надо самому. Если духовный отец будет указывать, а ученик не будет двигаться, то он никуда не уйдет».
Когда были такие руководители, они вели своих духовных чад. Когда нет непосредственного руководства — тоже нет причин горевать: есть слова святых отцов… Если кто их имеет, то есть: Евангелие, Апостольские Послания, — читай и делай. Не ошибешься.
Если и это не удовлетворяет, то посмотри на себя: не лень ли твердит о неудовлетворенности?
Кто делает, тот при любой форме руководства одолевает трудности.
Кто же ищет себе оправдания, тому и живое слово не поможет: все будет на своем стоять.
Вопрос 28
Если задуматься над тем, что же должно быть целью христианской жизни, то как себе ее представить? Нельзя же об этом не знать, не думать.
Как образно себе уяснить формулировку преподобного Серафима Саровского, ведь он сказал, что цель — стяжание Святаго Духа. В чем же она выражается?
Ответ: В храме очень многие песнопения отвечают на этот вопрос. Если прислушаться, — сколько раз о невещественном свете поют и читают в Церкви.
И это было ясно всем, кто искал «во свете Твоем узреть свет»; кто жаждал: «Да знаменася на нас свет лица Твоего»; кто просил Царицу Небесную: «Просвети нас светом Сына Твоего».
Святой Григорий Палама считал, что цель и путь христианина — совлечь с себя умерщвленную кожу и облечься в благодать Святаго Духа! Первобытное безгрешное состояние Адама представляется особенно совершенным. Адам был облечен «Божественным сиянием и облистанием» и причастен был Божественного света.
Вернуться от земли, от власти страстей к Божественному преображению — вот так и можно себе уяснить это высокое понятие цели христианской жизни.
«Стяжать благодать Святаго Духа» тогда только станет возможным, когда сердце откроется Богу, отвернется от земли. Только выбор — в нашей власти. Довершить его делом помогает — Господь.
Вопрос 29
Вот здесь суетимся, спешим, а там все это может оказаться ненужным. Что можно еще успеть сделать и можно ли, если все равно нельзя изменить внешние условия?
Ответ: Главное внимание надо обращать на условия и на то, чем мы живем и чего ищем.
Здесь важно успеть и суметь посеять то, что там взойдет и принесет плоды. У святых отцов есть уверенность в том, что «после смерти не приобрести в земной жизни ни нужных сил, ни чувств; человек будет пользоваться небесными благами, но будет как мертвый и несчастный в блаженном бессмертном море» (архиепископ Николай Кавасилла, ХIV век).
Вопрос 30
Если еще здесь что-то можно сделать для будущего, то что конкретно?
Ответ: Важны не так дела сами по себе, как то, с каким чувством и во имя чего они делались.
Если мы добро делаем, оказывая его другому в рассчете (ориг.), что он когда-нибудь нам сделает нужное, — тут просто рассчет (ориг.).
Если мы сможем, вспомнив слова Христа, дать тем, кто не имеет, чем воздать, — это будет во имя Божие дело.
Если по заповеди простим, не укорив больше никогда, — тоже дело хорошее.
Если поступим по совести, когда этого никто не увидит и не оценит, только потому, что так Господь велел, то все это ради послушания Господу будет изменять нашу душу.
Богу нужен не перечень и не количество дел, а новое отношение. Его отношение к жизни, к людям, к Его ценностям, которые мы приняли и сделали своим мерилом во всех поступках.
Вопрос 31
Кроме своего усердия, выраженного в делах, может ли еще что помочь в будущем веке?
Ответ: Прежде всего для обновления ветхого человека необходимо взаимодействие воли человека и благодати Божией.
Проявляя волю к добру в делах, мы приобщаемся благодати в таинствах Церкви.
Вот как об этом писал архиепископ Николай (Кавасилла): «Только под действием таинств и могут родиться органы восприятия духовной жизни, которые и дадут возможность в “день оный” войти в общение со Христом».
Вопрос 32
Теперь, среди обстановки, совершенно чуждой молитве, можно ли идти к Богу, не изнемогая от страшных усилий?
Ответ: Путь к Богу — через познание себя. Антоний Великий говорил: «Никто не может познать Бога, не познав себя». Когда условия не соответствуют нашим желаниям, и мы рвемся преодолеть это несоответствие, то, естественно, устаем страшно.
Но в этом рвении мы же не знаем главного: не противопоставлять надо наше понимание тому, что вокруг, а приглядеться: что оно несет мне? А принести оно может самое существенное — помочь увидеть себя. Увидеть «во всей красе»; увидеть те недостатки, каких мы в себе при лучших условиях не заметили бы.
Если идти так к Богу: через познание своих немощей и откровения лучших качеств других людей, — то и усталости такой не будет, и срывов, и внутреннего противления окружению, и недовольства, и многих других помех на пути к Богу.
Вопрос 33
Говорят часто: «Без смирения нет спасения». Может быть, от этого; или уже по привычке говорят, а как себе представить это смирение — почти не берутся объяснить. Почему так?
Ответ: Потому, что такие понятия могут быть ясны только из опыта. Степеней углубления в смирение не сосчитать. Преподобный Иоанн Лествичник говорил, что в основном эти степени делятся на три группы.
Первая обязательна для всех, без нее христианин не будет Христовым. Она заключает в себя познание беспомощности, вместе с ощущением помощи свыше, которую так легко потерять от самонадеянности и самоуспокоенности. Вторая — дается лишь мужественным душам, а третья — открывается бесстрастным.
Вопрос 34
Как учиться смирению?
Ответ: Не со слов оно начинается и не видом подчеркивается. Ни себя, ни окружающих не стоит убеждать словами: «Я хуже всех». От этого смиреннее не будешь. Не надо и свои грехи без конца перебирать с той же целью. От этого смиреннее не станешь.
Смирение рождается от сопоставления того, что Господь дает, и что человек может: ты — и Бог!
Чем ярче ощущение близости и величия Божия, тем очевиднее свое, истинное место. И опять Бог не ставит преград. До смерти любому грешнику можно вернуться к Богу, и все принимаются, кто захочет.
Но слова никогда не дадут того впечатления, какое может дать опыт. «Прииди и виждь!»
Попробуй на деле, и не нужны будут описания; ясно станет.
Вопрос 35
Отчего так редки теперь примеры подлинной духовности, которая бы влекла душу одним примером?
Ответ: Возможно от того, что теперь очень распространен грех любостяжания. О нем преподобный Исаак Сирин говорил: «Кто связан любостяжательностью, тот раб страстей».
Редко думают об этом, и очень мало тех, кто не мыслит воспользоваться хоть чем-нибудь при знакомстве с ближними. Получается совершенно противоположное тому, о чем апостол Павел говорил: «Он искал “не вашего, а вас” (2 Кор.12:14)». Теперь же нужно — «ваше, а не вы». При таком положении меняется способность воспринимать небесное, если целиком занят земным.
Вопрос 36
Мысли без конца разбегаются, можно ли остановить их, особенно на молитве?
Ответ: Еще очень давно святые отцы заметили, как легко разлетается внимание, как быстро оно увлекается разными помыслами, как ум порхает с одного на другое.
«Хранить ум» преподобный Исихий Иерусалимский предлагает с помощью:
1) трезвения (внимания); 2) смирения; 3) молитвы Иисусовой.
То, другое и третье составляет единое целое; нельзя иметь одно и не упражняться в другом. И внимание вводит в молитву, и молитва невозможна без смирения и внимания.
Поэтому нужен труд и постоянное понуждение себя, чтобы увидеть в себе благую перемену.
Вопрос 37
Как определить трезвение?
Ответ: Разные святые отцы по-разному называли это состояние. Сущность его одна — это трудом, опытом приобретенное внимание ума к тому, что происходит в сердце, или неослабное напряжение сил с целью хранить сердце от других движений для достижения чистоты.
У епископа Феофана это — «сердечное делание, самособрание, собрание внутрь».
У Макария Египетского — «подвиг и труд ума».
У преподобного Исихия Иерусалимского — «сокровенное делание», «духовное делание».
Вопрос 38
Когда говорят о спасении души, то создается впечатление, что это так трудно и требует столько сил, труда, что для нас это кажется невозможным. Что же тогда делать?
Ответ: Невозможного ни с кого Бог не требует.
Другое дело, что мы считаем так.
Но и на это есть свои причины. Одна из них в том, что мы увязли в попечении о земном сверх меры.
Преподобный Исаак Сирин говорит: «Если мы постараемся иметь попечение о том, что служит к славе имени Господня, то Господь попечется о духовном и телесном для нас по мере подвига нашего».
Мало мы думаем о Божием, больше — о земном, потому и страшно слышать о любом понуждении для себя.
Вопрос 39
Когда кажется нестерпимо трудно на работе, а сразу не найти полегче другой, — как быть?
Ответ: Посмотреть, чем вызвана такая нетерпимость.
Преподобный Серафим Саровский сказал одному начальнику, тяготившемуся работой: «Положи упование на Бога и проси Его помощи. Да умей прощать ближним своим, и тебе дастся все, о чем просишь».
Вопрос 40
Если человек не очень уже печется о земных благах, довольствуясь тем, что есть, и все-таки живет в суете и тяготится, то ему что делать?
Ответ: Попечение о земном — это не только забота о богатстве, об удовольствиях, выгодах и так далее.
А желание настоять на своем?
А неуступчивость?
А привычка к пустословию?
А быстрая реакция на чужие грехи с разглашением и осуждением?
А неуживчивость?
Нетерпение, болтливость, раздражительность, подозрительность, недовольство всем и так далее.
Что, это всё — небесное?
Не это ли всё — земля и близкое к ней обращение, по слову Исаака Сирина?
Конечно, если не заботиться об искоренении этого «наследия» греховной жизни, то какого мира ждать и радости искать?
Вся беда в том, что и здесь от обилия таких качеств всем плохо, и там они не нужны.
Вопрос 41
Когда читаешь или слышишь о необыкновенных видениях, откровениях, то невольно возникает и удивление, и интерес к небесному, и в то же время — двойственное чувство…
Как это понять?
Ответ: Хотя бывали и, возможно, есть люди, достойные необыкновенных озарений, но следует знать всем, что целью всех трудов должно быть очищение сердца от страстей.
Что же затем дает Господь очищенной душе — воля Его, и только Его. Ни желать, ни просить, ни искать этого нельзя — чтобы не повредиться.
Для всех Божиих откровений надо быть во «свете благодати», как говорил святитель Григорий Синаит.
Он же предупреждает: «Сам от себя не строй воображений, а которые сами строятся, — не внимай тем и уму не позволяй запечатлевать их на себе. Ибо все сие, во сне будучи впечатляемо и воображаемо, служит к прельщению души».
Вопрос 42
Какой основной признак правильного духовного устроения?
Ответ: Смирение.
Тот, кто искренне ищет Божиего, а не своего, тот не будет ни видом, ни словом, ни чем внешним подчеркивать свою исключительность, даже если и одарен Богом необычно щедро.
Чем смиреннее человек, тем надежнее и вернее его слово и дело. Чем выше он духовно, тем острее чувствует и видит Бога во всем и не ждет себе внимания и чести, а только — Богу.
«Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даждь славу».
Вопрос 43
Часто в книгах святых отцов встречается предупреждение: опасаться прелести.
Что это и как ее избегать?
Ответ: Само слово «прелесть» обозначает самообольщение — то есть желание ума и сердца получить, испытать то, чего оно не может вместить.
Всякое усилие на молитве, не основанное на покаянии, может привести к прелести. Степеней ее много.
Самое страшное ее выражение — в исступлении, нередко кончающемся самоубийством.
Епископ Игнатий так характеризует это:
«Все виды прелести возникают от того, что покаяние не сделалось душой и целью молитвы.
Всякий, усиливающийся взойти на брак Сына Божия не в чистых и светлых брачных одеждах, устраиваемых покаянием, а прямо в рубище, в состоянии самообольщения и греховности, извергается вон, во тьму кромешную, в бесовскую прелесть».
Избегать ее, не мечтать в себе, не считать себя достойным (прежде очищения сердца) особых дарований.
Вопрос 44
Если люди с грехами, хотя бы с внутренними (гордостью, которую сразу можно и не распознать), все-таки явно наделены особыми данными, то как это понять? Откуда они у них, если не от Бога?
Ответ: Человеку всякому свойственно стремление к Богу до полного (в меру каждого, естественно) обожения. Человек, не очищенный покаянием, духовное зрение которого не просвещено бесстрастием, не обладает даром «различения духов» и легко может прийти в состояние самообольщения, иметь общение с силами зла.
Как ни странно на первый взгляд, но были и, может быть, есть такие из числа подвижников, отшельников, монахов. Они могли увлечься своим влиянием на других или собственным любованием или мечтанием в себе, и не тем самым, не от Бога, а от врага Его получать способность видеть то, что не доступно обычным людям: ходить в легкой одежде в холод, почти не есть и мало спать и так далее.
Зачем врагу нужно участвовать в этом?
— Чтобы окончательно уверовал человек в свою исключительность и в ослеплении гордостью погиб.
Вопрос 45
В творениях Иоанна Лествичника, Марка Подвижника, Аввы Дорофея и многих других говорится о необходимости откровения помыслов. Как и в чем заключается польза этого откровения?
Ответ: Основная польза в том, что за смирение Бог даст проходить свой путь наиболее прямым и кратким путем, то есть скорее очищается сердце от страстей. «Без этого, — святой подвижник Марк учит, — самочиние, недорассуждение». И то, что они не искали от ближнего наставления, соделало труды подвижников тщетными.
Как должны строиться истинно-духовные отношения?
1) на полном доверии;
2) на истине; то есть не допускаются никакие ложные слова, изворотливость, хитрость;
3) на отсечении своей воли;
4) на полном отказе от споров, прекословия и неверия;
5) на совершенном и чистом исповедании грехов и тайн сердечных.
Полнее и глубже прочитать об этом возможно в наставлениях Игнатия и Калиста (Добротолюбие, том 5-й).
Вопрос 46
Как может ощутить человек пользу откровения помыслов?
Ответ: Очевидец рассказывал об откровении помыслов монахами Оптиной Пустыни старцу Анатолию (Потапову): «Сосредоточенные, благоговейно подходили монахи, один за другим, к старцу. Они становились на колени, брали благословение, обменивались с ним в этот момент несколькими короткими фразами. Некоторые проходили быстро, другие задерживались. Все уходили успокоенные, умиротворенные, утешенные. И это совершалось два раза в день — утром и вечером».
Поистине, «жити» в Оптиной было беспечально, все монахи были ласково-умиленные или сосредоточенно-углубленные.
Нужно видеть своими глазами результат откровения помыслов, чтобы понять все его значение.
Вопрос 47
Не все и не всегда могут иметь такую возможность — часто и лично открывать свои помыслы. Что тогда делать?
Ответ: Можно и так, как делал авва Дорофей.
Вот его слова: «Я не имел никакой скорби, никакого беспокойства. Если случалось, что приходил мне какой помысл, я писал старцу и не успевал оканчивать письма, как чувствовал пользу и облегчение».
Вопрос 48
Кто может быть духовным руководителем?
Ответ: Не всякий, кто берется, и не всегда тот, кто нравится. Даже не обязательно тот, кто явно наделен такими высокими дарованиями, как чудотворения, прозорливости и так далее.
Святой Макарий Египетский предупреждал: «Бывает и то, что в ином есть благодать, а сердце его не чисто, потому и падали падавшие; они не верили, что с благодатью пребывает в них дым и грех».
Бывает и так, что подвижник с детства сохранил чистоту душевную и без особых усилий получил благодатные дары, но не знает путей борьбы и не может помочь в этом другим. О таких говорят: «Свят, но неискусен!»
Для духовного руководства необходим человек, наделенный даром рассуждения! Это первое и необходимое условие. Необходимо и то, чтобы он достиг бесстрастия, мог видеть устроение другой души, появления в ней зла, причины появления и способы борьбы.
Вопрос 49
Если ошибешься в выборе, то как тогда быть?
Ответ: Не спеши разобрать: действительно ли руководитель приносит вред душе, или это только мнение — действие вражие, стремящееся лишить нас жизни.
Вред в том заключается, что воля руководителя, не очищенная от страстей, стремится подчинить себе волю другого человека. Здесь хорошего не будет. И тому и другому от взаимного общения только плохо будет.
Епископ Игнатий Брянчанинов говорил: «Если нет хорошего руководителя, то лучше остаться вовсе без него, чем подчинить себя неопытному».
Вопрос 50
Если не может себе человек найти руководителя, то что делать?
Ответ: Когда старец Паисий Величковский в молодости искал себе руководителя и не нашел, то в последствии советовал: «Умоли Бога, чтобы послал тебе если уж не старца, то одномысленного брата».
Преподобный Нил Сорский советовал руководствоваться Священным Писанием и творениями святых отцов, но не в одиночестве, а при совете преуспевших братий, с осторожной и благоразумной проверкой этого совета Писанием.
Вопрос 51
Если и «единомысленных» братий нет близко, неужели тогда совсем нет надежды на спасение?
Ответ: И тогда нельзя отчаянию давать места в душе.
Бог знает, что человек хотел бы, но не видит рядом тех, кто искренне пути Божию учил бы. В таком случае совет преподобного Исаака Сирина может быть направляющим: «Идти к своей цели (стяжанию благодати Святаго Духа) покаянием и смирением стяжать плач о грехах своих и молитву мытаря. Столько раскрыть в себе греховность, чтобы сама совесть свидетельствовала нам, что мы — рабы непотребные и нуждаемся в милости, и тогда “Божие приходит само собой”, в то время как ты и не помышляешь о нем. Ей, так! Но если место чисто, не осквернено» (Исаак Сирин, Сл. 55).
Вопрос 52
Если видишь примеры особенной устремленности к своему старцу, то как понять: верно ли это отношение или, может быть, за этим кроется ошибка?
Ответ: Со стороны, не зная близко, легко ошибиться, а если знаешь факты, то надо помнить основное отличие правильного ведения старцем по пути спасения от ложного. При ложном — воля одного человека порабощается воле другого, вопреки указанию апостола Павла: «Вы куплены дорогой ценой, не делайтесь рабами человеков» (1 Кор.7:23).
Это сопровождается чувством угнетения и подавленности, уныния. Иногда наоборот — нездорового пристрастия к старцу. Истинное руководство хотя и основано на полном послушании, но не лишает человека чувства радости и свободы в Боге, так как подчиняется человек не человеческой воле, а Божией через человека. В таком случае человек опытно знает, что указанный его старцем совет — лучший выход из создавшегося положения.
Благодатный истинный старец является проводником воли Божией, а лже-старец заслоняет собою Бога.
Вопрос 53
Если нет благодатных старцев где-то близко, а хотелось бы просто посоветоваться, то как на совет смотреть?
Ответ: Некоторые наши святые отцы еще раньше прозревали, что будет время, бедное духовными наставниками. Но это не значит, что никому и ни у кого не следует спрашивать совета.
Епископ Игнатий, изучая этот вопрос, говорил, что старцам нашего времени надо всегда помнить, что теперь нельзя равняться с прежними наставниками, а следует говорить приходящим словá святых отцов и Божественного Писания.
Приходить, спрашивать и делать по советам; желательно сверить его слова со словами святых отцов.
Несомненно полезно, когда совет не собственного сочинения, а на основании опыта святых.
Вопрос 54
У святых отцов много внимания уделяется чистоте сердца. Как яснее себе представить: в чем выражается эта чистота?
Ответ: Можно одним словом сказать:
— В неосуждении.
Вот как отец Макарий Оптинский характеризует чистоту сердца: «Христиане не должны никогда никого осуждать: ни явную блудницу, ни грешника, ни людей бесчинных, но взирать на всех с простодушием и чистым оком. В том и состоит чистота сердца, чтобы видя грешников или немощных, иметь к ним сострадание».
Вопрос 55
Когда читаешь святых подвижников, то становится страшно — где уж нам: не только так, а даже во много раз меньше для нас тяжело. Как при этом избежать уныния?
Ответ: У святых, какими бы разными внешними путями они не шли, одно главным было и оставалось всегда — самоотречение и следование за Христом по следу Его: «Иже не приимет креста своего, не в след Мене грядет, несть Мене достоин» (Мк.10:38). Это единственно правильный путь и возможный каждому по мере его сил и способностей. Если мы не можем многого, то это не значит, что не надо и того, что можем. Кто сколько может, пусть делает во славу Божию, а не унывает.
Вопрос 56
Как бы кто и что бы ни говорил, а спасаться надо. Как удержаться от крайностей: и унынием не плениться, и бесстрашию не поддаться?
Ответ: «Спасение содевается между страхом и надеждой», — говорил преподобный Петр Дамаскин.
«Пусть вы не видите в себе ничего доброго, — говорил старец Макарий Оптинский, — и находитесь в духовном пленении, сие должно вас смирять, но не смущать, так как при смущении невозможно чувство раскаяния, ибо нет греха, побеждающего Милосердие Божие».
Значит, надо идти; и идти, каясь во грехах и по силе стараясь их не делать.
Чтобы не опускать рук, надо не ждать чего-то особенного в себе, а только помилования от Господа. И нести свой жизненный крест без ропота и уныния.
Вопрос 57
Если испорчено настроение, потерян мир душевный, то как его вернуть?
Ответ: Первое, что надо сделать — это проверить себя: за что душа лишилась мира.
Одной из наиболее частых причин этой потери по справедливости считается осуждение других; и еще — возмущение чужими недостатками, невоздержание языка.
Бывает и от того, что душой овладело уныние.
С осуждением, возмущением и болтливостью преподобный Серафим советует бороться обучением себя «вниманию». «Должно внимать себе», — говорил он.
Уныние же преподобный советовал одолевать и посредством строгого и беспрекословного исполнения всех обязанностей.
Преподобный Исаак Сирин считал уныние чадом «малодушия и праздности». То же утверждал и Паисий Величковский, говоря братиям, что некогда ему унывать, так как он всегда занят.
Вопрос 58
Почему Господь лишил наш век (вопрос был задан в ХХ-м веке — ред.) истинных старцев?
Ответ: Такой вопрос задали некогда одному подвижнику. Он сказал: «Потому, что нет истинных послушников! Ответственность, с которой старцы вели своих духовных детей, легла бы еще с большей силой на слабые души самовольных и самолюбивых людей».
Господь, зная слабость нашу, слепоту нашу и зараженность гордыней, для руководства оставил нам слова святых отцов.
Вопрос 59
Почему так получается, что умом хотелось бы любить Бога, а сердце не отзывается на это?
Ответ: Преподобный Серафим говорил: «Кто любит себя, тот Бога любить не может».
Собой душа полна, себя жалеть привыкла, вот и нет Богу того простора, какого хочет ум; едва ли тесный уголок отыщется, и то не всегда.
Вопрос 60
Постоянно находясь среди толпы и молвы, не избежишь того, чтобы не услышать совсем неподходящего. Как уберечься от действия всякого зла чужого на свою душу?
Ответ: Преподобный Исаак Сирин назвал это: «чужими сквернами непотребства». Избегать осквернения возможно лишь при упражнении и размышлении, читая Божественное Писание с точным разумением. Он же считает, что «прилипают» эти скверны лишь при праздности ума.
Творить Иисусову молитву.
Вопрос 61
Если все-таки очень задело из услышанного касающееся знакомых, возможно, близких людей, и трудно оторвать это, вырвать из памяти сердца, то как одолеть?
Ответ: Себя повинить, что душа не накопила сил противиться любому известию, несущему в себе огорчение, смущение и так далее, и в смирении обратиться к Богу и Божией Матери с молитвой, всеми силами не допуская разгореться огню своих уже страстей, своих грехов при осуждении, нетерпении, раздражении и так далее.
Вопрос 62
Почему так получается, что просим «да будет воля Твоя», а в жизни творим и свою волю, и вражию под видом своей, а уж Божию-то — реже всего?
Ответ: Когда к старцу Захарии обращались за советом, он говорил: «Все, все надо Ему, Господу, передать, и жизнь надо вести такую, чтобы Господу дать доступ…»
Вот оказывается в чем причина: в соответствии жизни — будет в жизни доступ Господу, будет и Его воля, благая и совершенная, действовать в нас.
Вопрос 63
Читаем Евангелие, знаем, казалось бы, все притчи, все примеры, все слова Господа… Почему же в нужный момент не приходят они на память?
Ответ: Если бы мы ими жили, ими проверяли себя, ими судили свои мысли и поступки, в них искали совета, то мы привыкли бы к ним, сжились, сроднились бы с ними. У нас же больше мусора в голове, мы еще не умеем сразу выбрасывать его, чтобы чисто было в уме и на сердце.
Кстати, святые отцы не зря заповедовали ограничивать себя, отбирать, сколько можно, впечатления, чтобы их не было очень много и не были они очень сильными, рассеивающими внимание вокруг.
Так, кто не откажет себе в удовольствии разобрать последние новости, узнать какие-то подробности о соседях или сотрудниках, тот сразу не сможет встать на молитву и забыть весь мир.
И во всем необходимо, прежде всего, — осмотрительно взвесить, сравнить все с Евангельскими словами и тогда только выбирать себе нужное и полезное. И будет Евангелие и в уме, и в сердце, и в словах.
Но это не сразу. Терпение, постоянство и время «привьет» эту память.
Вопрос 64
Говорят всегда: «Наш век».
В любой век были трудности и горести.
Можно ли без них обойтись и как, зная, что весь путь — через терния, не терять мужества и бодрости?
Ответ: Мужество будет воспитываться в душе, если человек принимает этот путь и готовится к трудностям «всею крепостию своею». Преподобный Исаак Сирин говорил, что «вне их невозможно приблизиться к Богу, потому что среди них уготован Божественный покой».
Те, кто думают устроиться так, чтобы миновать все трудности, огорчения, прожить без затруднений, полегче, то не только не будет знать сокровенного покоя в Боге, но и будут удаляться от Бога. Возможно, внешне это проходить будет незаметно, а в душе будут копиться неудовлетворенность, недовольство всеми и всем — тягостный мрак, из которого не видно выхода.
Вопрос 65
Когда говорят о чьей-то святости, то как это вернее себе уяснить?
Ответ: По учению Ветхого и Нового Заветов, святость — это отражение и осуществление в человеке Божественных совершенств. Для согрешившего человека такое освящающее общение с Богом возможно стало только во Христе, силой Его искупительной Жертвы, чтобы люди смогли быть «святы и непорочны перед Ним в любви» (Ефес.1:4).
На примере определенного человека можно только сказать, что святее и чище тот, кто больше старается победить в себе всякую самость, чтобы можно было по совести сказать с апостолом Павлом: «И уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал.2:20).
Вопрос 66
Почему так трудно одолевать свое нежелание, почти восстание в себе всех своих склонностей? Хотя умом человек понимает, что надо и как, но преодолеть себя не всегда удается.
Ответ: Потому, что в человеке две стихии, и одна восстает на другую — жажда себялюбия и жажда Богообщения.
Внутренний раскол личности — это древнее следствие греха. Бог сотворил человека таким, что он не знал, не имел в себе таких противоречий. Воспользовавшись свободой выбора, человек не послушался предупреждения и «добился» этого мучительного внутреннего разделения. Тогда сказал Господь: «…Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною» (Мф.16:24), чтобы люди знали, где выход из этого состояния.
И опять: тот, кто неуклонно, собрав все свои силы, следует этому — знает по опыту, что такое мир, тишина. Кто себя жалеет — тот мучается этим раздвоением и чаще всего винит в нем кого угодно и что придется, только не себя.
Вопрос 67
Как же приблизиться к Богу?
Ответ: Во все времена был один закон на этом пути — «ОТВЕРГНИСЬ СЕБЯ». В первые века христианства, в эпоху гонений, внешние обстоятельства помогли высшему напряжению всех духовных сил и отречению от мира. Когда изменилось положение, настало «мирное и благоденственное» житие, то сразу же неизбежно и неуклонно стал понижаться высокий уровень первого христианства.
Исторически возникла потребность добровольного мученичества — отречения от мира и жизнь в пустыне в трудах и лишениях. Сочетать нестесняемое, ничем не ограниченное наслаждение благами мира и жизни и приближение к Богу — нельзя.
Предстоит выбор: или Бог с принятием своего креста и отвержением себя, или самоугождение, со всеми последствиями забвения Бога. Это не значит, что спасение возможно лишь для мучеников или монахов; но без внутреннего «искреннего согласия» — невозможно.
«Взять свой крест и идти к Богу».
Поводов, трудностей хватит в любых условиях.
Решение и решимость зависят только от человека.
Вопрос 68
Почему, так мучительно переживая свою духовную слабость, все-таки продолжаешь тонуть в ней?
Ответ: У святых Варсонофия и Иоанна на этот вопрос есть ответ: «Уклоняйся от бесед о многом, ибо от них рождается нерадение, расслабление, непокорство и лютая дерзость».
Современная жизнь с ее шумом, многословием, обилием информации уже берет массу сил и разбрасывает внимание. К этому мы сами добавляем: у себя же берем и разбрасываем на ветер остатки внимания, и удивляемся, почему от пустословия сил не пребывает.
От нерадения ревность не множится.
Вопрос 69
Когда чего-то хочешь испросить у Бога хорошего, полезного, то как не ослабеть, не просить прежде, чем Бог даст просимое?
Ответ: Василий Великий говорил в таких случаях: «Проси того, что достойно Бога; не переставай просить, пока не получишь.
Пока не получишь, не отступай, но проси с верой, непрестанно делай добро».
Значит, для получения дара от Бога надо:
1) просить достойного, то есть не маловажного, незначительного, но действительно ценного;
2) просить постоянно, неотступно;
3) просить с верой, что это возможно Богу;
4) просить, «делая добро», то есть подготавливая себя к достойному принятию желанного.
Вопрос 70
Заповедь любить ближних многие понимают неверно: как единственную любовь к родственникам, домашним, друзьям.
Что может быть признаком настоящей Евангельской любви?
Ответ: По природе каждому человеку дана любовь к «своим», то есть к ближним. Если это только так, то в эту любовь (при падении человечества в первородный грех) вошло много от земли. Мусор ее, а именно: пристрастие, нетерпение, подозрительность, ревность, зависть и другие пороки, — смешали добро с грязью.
Господь принес заповедь о любви к ближнему и указал на другую точку зрения человека: «Люблю не потому, что мне нравится, или это мое (ребенок, друг, муж, жена, родители), а потому, что этот человек любим Богом, Его образ, и Он благоволил мне принять его со всем добрым участием, на какое способен, поставив его на пути моей жизни».
Вот если через этот Завет Христа смотреть на каждого, кто рядом, тогда уже не будет того дымного угара, который сначала лишит человека благоразумной рассудительности, потом отравит и изранит так, что справиться трудно.
Вопрос 71
Если любить человека как образ Божий, то не призрак ли только эта любовь?
Не будет ли такая любовь лишь фразой, скрывающей равнодушие и безразличие?
Да и хватит ли сил на любовь ко всем, кто рядом? Даже простого внимания на всякого встречного не наберешься, не только уж любви.
Ответ: Если смотреть и думать: «Вот, я внимателен и старателен…», — то не спасешься. И не любовь это к людям, а — любовь к себе; внутреннее лицемерие и самообман.
Любовь христианская — венец добродетелей, и, естественно, венцом не начинают, а кончают труды…
То живительное, легкое, радостное чувство даст Бог. Когда даст, хватит всем, и не истощится. А искренность — это уж от человека.
Искать дары от Бога — если не чувством любви, которого может не быть, то делами любви, которые целиком в воле каждого, и ими человек может свидетельствовать свое желание иметь совершенную любовь от Бога.
О ней преподобный Ефрем Сирин писал:
«Блажен человек, все тленное презревший и любовь приобретший, в ней ему — венец и награда, рай открывается; в Царство Небесное входит с радостью и Самим Богом венчается и соцарствует с Ним во веки».
Вопрос 72
Отовсюду — искушения, соблазны и трудности. Неужели нет другого пути?
Ответ: «Есть, — говорит преподобный Исихий Иерусалимский. — Пребывай во внимании ума, и не будешь перетружден искушениями. Удаляясь же оттуда, терпи, что найдет».
Вопрос 73
Все время быть внимательным тоже нелегко.
Ответ: Если искать, что легко, тогда ложись и спи, но нельзя всю жизнь проспать.
Что бы сказали шахтеру в забое, рабочему на стройке, у станка, где угодно, если бы он, поработав немного, бросил свое дело и пошел спать, объясняя тем, что устал?
Если смотреть на жизнь, на труд, как на путь, то забота вся не в том, как пройти, прожить полегче, а как вернее и правильнее выйти к цели.
Вопрос 74
Когда хочется потеплее помолиться, а сердце сковано, то что делать?
Ответ: Теплоту душевную, сердечную дает Бог трудящемуся, длительно стоящему вниманием на страже сердца.
Просто так, одним желанием не одолеть скованности сердца. Преподобный Исихий Иерусалимский говорит: «Насколько бдительно внемлешь уму, настолько с теплым желанием будешь молиться».
Вот как все связано.
Усердия, терпения и постоянства ждет от нас Господь. Если этого нет, придется все от себя терпеть и на ошибках учиться.
Вопрос 75
Почему среди верующих так много больных?
Ответ: Всевозможные расстройства нервной системы.
Во-первых, их в храме виднее. Нигде больше их так не будут терпеть, как в храме. И двери храма открыты для всех: иди, кто хочешь. Никто не спорит: здоров ли, все ли в норме, кто… какой…
Но это, конечно, не главное.
Видимо, основная причина — неправильная постановка духовной жизни.
Очень трудно с руководством; современные руководители должны учитывать крайнюю поврежденность едва ли не всех — гордостью.
Очень слабая постановка домашнего воспитания, если не полное его отсутствие, уже калечит душу, вместо того, чтобы учить владеть собой.
Школьное обучение только раздувает соревнованием тлеющее с детства самолюбие, тщеславие, всевозможные дурные наклонности: упрямство, зависть, превозношение и многое другое. И в духовном плане [человек] оставлен на себя или только считает себя на верном пути, что очень часто сомнительно.
Гордыня, разъедающая постепенно его душу, даже добрые намерения портит и обращает во вред, например — усилия в молитве.
Владыка Вениамин (Милов) в своем дневнике писал, что нельзя требовать от Бога только чудесного восполнения сил и одоления всех немощей.
Чудесные благодатные действия силы Божией изливаются «только на смиренных и в меру смирения».
Когда этого нет, то и добросовестные потуги ума на молитве, при глубокой самонадеянности, способны лишь расшатать нервную систему, губительно отразиться на общем физическом состоянии и привести даже к срыву.
Вопрос 76
Когда приходится читать или слышать о спасении, все говорят, что это очень трудно.
Нет ли пути проще и яснее?
Ответ: Есть.
Трудно почему?
— Потому, что человек в зарослях своих страстей запутался.
У святых отцов, например у Варсонофия и Иоанна, сказано просто: «Приобрести крайнее смирение и послушание во всем, ибо они и искоренители, и насадители великих благ».
Если все, случающееся не по нашей воле, принимать с молитвою и доверием Промыслу Божию, то, подчиняясь обстоятельствам, можно научиться одолевать все «хочу» и «не хочу», и путь жизни будет яснее и проще. Как старец Силуан говорил:
«Борьба — упорна, но только для гордых; смиришься — и всем скорбям конец».
Вопрос 77
Когда кто-нибудь начинает говорить о возможности трудных времен (например, на работе), изменений к ухудшению дома и так далее, — то как хранить душу в мире?
Ответ: Чтобы никаких перемен не бояться, хорошо помнить слова Василия Великого: «“Бог нам прибежище и сила” (Пс. 45). Не убегай, чего должно, и не прибегай, к кому не должно; пусть будет у тебя одно избегаемое — грех, и одно Прибежище — Бог».
Если так себя настроить и просить только укрепления веры и преданности Богу, то все внешние перемены ничего не полезного душе не принесут.
Вопрос 78
Когда кажется: «Так страшно снова обращаться к Господу, Которого без числа обижали, обманывали, забывали», — то что делать?
Ответ: То, что говорил Иоанн Златоуст:
«Как приклонить на милость Господа? Вот как: водрузим молитву в сердце своем и к ней приложим смирение и кротость».
Ничего так не любит Господь, как душу кроткую и смиренную.
Вопрос 79
От жизни устаешь, от молитвы устаешь…
Где же искать себе силы и мира?
Ответ: Преподобный Ефрем Сирин говорил: «Не вдавайся в непомерную работу, потому что хорошо и полезно все делать в меру и в порядке».
Он прав.
Мы устаем не столько от своих дел, сколько от излишней торопливости, желания успеть больше, чем можем. Надо уметь себя сдерживать во всем.
Вопрос 80
Есть ли какой обязательный порядок в молитве? Или все равно, как и о чем просишь?
Ответ: Есть.
Преподобный Иоанн Лествичник говорил, что одному монаху Ангел Господень показал лучший чин молитвы:
во-первых, — благодарение;
во-вторых, — исповедание своих грехов и чувство сокрушения;
и уже после этого можно сказать Богу свои прошения.
Вопрос 81
Иногда люди говорят друг другу: «Вот такому-то легко, он умеет сказать все и в молитве, и на исповеди. А у меня и слов не находится ни каяться, ни молиться»…
Верно ли это?
Ответ: Нет.
Преподобный Иоанн Лествичник говорил: «Не мудри словами в молитве своей».
Значит, не от слов зависит сила молитвы, а от того чувства, с каким человек молится.
Если был явный грех, о нем есть и определение словом. Если беспокоит чувство греховности, пусть оно будет всегда. И в молитве словá — не самое главное…
Завидовать же в этом другим — явное неразумие.
Вопрос 82
Когда устанем (особенно к вечеру), то особенно трудно сосредоточиться на словах молитвы, если они очень длинные, многословные.
Отчего это?
От нерадения? Или как?
Ответ: Это естественное явление.
Святые отцы знали это и не смущались.
Преподобный Иоанн Лествичник говорил:
«Не старайся многословить, чтобы при искании слов не рассеивался ум твой».
Одно слово мытарево умилостивило Бога; и одно, полное веры изречение, спасло разбойника.
Многословие в молитве обыкновенно ввергает ум в мечтание и рассеивает.
Вопрос 83
Если нет возможности часто посещать храм или долго и часто молиться, или читать псалмы и каноны, или заниматься молитвой Иисусовой, то чего же себе ждать?
Ответ: Милости Божией.
Себя извинять невозможно, опасно — изленишься.
Нельзя считать себя пропащим — в унынии утонешь.
Надо делать по совести все, что можешь, и помнить, что все: и в храме молитва, и дома, и в пути, — это лишь средства к стяжанию памяти о Господе.
Вот это — главное.
Епископ Феофан писал: «Что хочешь делай, только добейся того, чтобы быть всегда в памяти Божией». Вот это и надо чаще себе напоминать и от себя делать все, что в силах, оставляя довершить всё благодати Божией.
Вопрос 84
Если рассеиваешься на работе, уходят мысли в неполезные дела, по дороге опять все видишь и слышишь, чего лучше не видеть и не слышать, то откуда возьмется сосредоточенность на молитве? И когда она будет, если ничего лучшего не происходит: изо дня в день — одно и то же? Почему же так?
Ответ: По недостатку решимости и твердости.
Постоянное упражнение в преодолении своего блуждания по ненужному в конце концов даст желанные плоды, хотя, может быть, и не скоро.
Епископ Феофан часто повторял в своих письмах, что людям мешает не злоба или какое другое отрицательное качество, а больше всего недостаток решимости и ревности к достодолжному.
Вопрос 85
Если условия жизни не дают побыть в тишине, уединиться, помолиться от души, чтобы никто и ничто не мешало, то что же делать? Значит, так и не удастся научиться помнить о Господе?
Ответ: Нет, не всё от условий жизни зависит.
Многие имеют и тишину, и красоту вокруг, и уединяться трудов не стоит — и все-таки недовольны: скучно им.
А тому, кто хочет научиться помнить о Господе, вполне достаточно, как можно чаще мысленно обращаться к Богу среди своих обычных дел.
Так делал монах Лаврентий на своей кухне, где не было никаких удобств и «уединения».
Спросим себя, всегда ли мы мысленно просим благословения или вразумления у Господа перед началом каждого дела своего? Не забываем ли поблагодарить после завершения всех работ вообще и каждого конкретно, ведь на это надо так мало времени и совсем никаких условий не требуется — только понуждение себя.
Вопрос 86
Есть ли среди обычных наших слабостей такие, которые незаметно для нас самих топят нас в грехах?
Ответ: Есть. Авва Пимен назвал всего одну: как раз ту, которую мы ни за грех не считаем, ни бедой не зовем, но от которой много теряем.
Он сказал: «Начало всех зол — рассеянность».
Вопрос 87
Если нет среди знакомых людей духовно опытных, то как сохранить душу от уныния и безнадежности в своем спасении?
Ответ: Есть такие добродетели, которые будут защитой от врагов и привлекут покрывающую и спасающую силу Божию. Их три. При всех условиях стараться укреплять их в душе, молиться и просить помощи в них — доступно каждому.
Авва Пимен назвал их путеводительницами души.
Они вполне заменят неимущему руководство в духовной жизни. Вот они:
1) хранение себя; 2) внимание к себе; 3) рассуждение.
Вопрос 88
Когда советуют пойти к человеку «особенному, прозорливому», то как и на истинного подвижника не подумать лишнего, и ложного не принять за истинного?
Ответ: В житии старца Леонида Оптинского был такой случай. В его молодые годы случалось ему быть в обители, где жил подвижник, слывший прозорливцем. Он действительно некоторым предсказал отдельные события. Старец Леонид побывал у него, и увидел, что тот в заблуждении. Предупреждая, он напомнил ему мнение святых отцов об опасности доверять всевозможным явлениям. На это «прозорливец» рассердился, обидно ему показалось, что пришедший стал его учить.
Уезжая, старец сказал настоятелю, чтобы поберегли своего «прозорливца», потому что он в беде. Не успел отец Леонид доехать до своей обители, как дошел слух, что бедный «прозорливец» повесился.
Жизнеописатель говорит об этом так: «Пока не говорили прямо об опасном положении «прозорливцу», Господь хранил его, желая ему покаяться и в «разум истины приидти». Когда же он отверг всякое указание с обидой, то Господь оставил его, чем воспользовались враги его — губители».
Основной признак истинного подвижника — смирение!
Вопрос 89
Если докучливые мысли не мешают, и страсти не восстают, то как это можно объяснить?
Ответ: В Древнем патерике авва Аполлос однажды сказал старцу, не знавшему силу брани, чтобы он ни в коем случае не превозносился этим, а считал себя даже от бесов презираемым (по слабости неспособности бороться).
Господь покрывает немощи, зная, что мы не одолеем напасти вражией.
Но эта защита до тех пор, пока человек не станет приписывать себе несуществующих качеств и превозноситься ими или осуждать других. Если же кто забудется и возомнит о себе, то тем призывает себе брань и бывает постыжен врагами.
Вопрос 90
Какие грехи опасны в нашем положении, когда и слабостей много, и трудов мало, и усердием не богаты, и в терпении не сильны?
Ответ: Уныние и ропот.
От этого могут и последние силы оставить, и от решимости не будет и следа.
Самое трудное — подняться, когда уже страшной тяжестью придавит уныние.
Нельзя до этого допускать свою душу. Зорко надо смотреть, чтобы не поддаться этим душегубам.
Вопрос 91
Есть ли способ избежать уныния, когда одолевают всякие мысли, пропадает желание терпеть и трудиться, опускаются руки?
Ответ: О способе одолеть уныние в Древнем патерике есть сказание о явлении Ангела преподобному Антонию, который недоумевал, как избавиться от уныния.
Было тогда ясно преподобному, что надо чередовать труд и молитву, чтобы и лени не было, и не было переутомления.
Вопрос 92
Если не хватает сил сразу же заставить себя молиться, когда не хочется трудиться, когда нет желания вообще пересиливать себя, то как быть?
Ответ: Не можешь сделать все, сделай часть дела, но все-таки делай. Тогда мало-по-малу и одолеешь и себя, и дело. Не надо оправдываться трудностью дела, чтобы не оказаться во власти уныния.
Так учили отцы в древности.
В примерах Древнего патерика есть притча об отце, который послал сына прополоть поле.
Сын посмотрел, что работы много, сел, потом лег на межу и незаметно для себя заснул. Отец пришел посмотреть на работу, а сын спит. Разбудил и велел каждый день очишать поле хотя бы настолько, сколько он занимал места, лежа в меже.
Сын так и стал делать, и одолел все поле.
Так и ты, говорят старцы, трудись понемногу и не унывай, и Господь Своею благодатию поможет тебе достигнуть мирного настроения и преуспеть.
Вопрос 93
Когда находит тупое бесчувствие: ни мыслей, ни чувства, ни желаний никаких, — как быть?
Ответ: Епископ Феофан говорит, что это явление неизбежное. Иногда бывает — как результат оставленности Богом в наказание за какой-либо грех.
Чаще же — как мера обучения смирению.
Как все почти заражены тайной гордостью, так и все переживают это состояние в разное время и в разной мере. Внешних средств нет, хотя и приходят мысли сделать себе послабление, чем-то рассеяться, отвлечься.
Это только ухудшит состояние. Придется терпеть себя и молиться, сделав для себя верный вывод: «Вот что я могу испытывать, если удаляется мой Господь и Спаситель».
Кстати, из этого состояния рождается опыт познания благодатного освобождения силой милости Божией.
Вопрос 94
Многие святые говорят, что на молитве можно пережить встречу с Богом. Почему же у меня не бывает этих встреч, хотя я и читаю молитвы каждый день?
Ответ: На такой вопрос митрополит Антоний отвечает: «Надо переменить жизнь, надо переменить внутреннее содержание своего сердца, надо стать достойным тех молитвенных слов, которые мы произносим.
Тогда мы сможем верить правдиво (в молитве), и тогда молитва будет радостью, живой встречей с Богом».
Вопрос 95
Возможно ли при всеобщем недоверии, безразличии сохранять мир в душе и еще любить по заповеди Божией людей, которые явно не стоят этой любви?
Ответ: Если исходить из логических оценок людей и их взаимоотношений, то действительно: не стоит трудиться.
Но для христиан совсем другой закон и другая точка зрения. Отец Александр Ельчанинов говорил: «Всегда в жизни прав тот, кто опирается не на логику, не на здравый смысл, а тот, кто исходит из одного верховного закона — закона любви»
Люди для христиан не делятся на хороших и плохих, стóящих любви и не стоящих, а стоят перед тобой, как посланцы Божии, сами того не зная.
Подойдешь к ним, помня Бога и внутренне молясь Ему — одна цена; отвергнешься, избегая себе лишних забот — другая; и результат, конечно, от этого будет зависеть.
Вопрос 96
Хорошо все святые праведники, подвижники говорили и говорят о любви, но как к ней хоть чуть-чуть подвинуться?
Ответ: И здесь себя не жалеть.
Отец Алексей Мечев писал:
«Любовь приобретается путем работы над собой, путем насилия над собой и путем молитвы».
Вопрос 97
Как же практически подходить к любви, если в душе ничего нет? Ведь силой ничего не выжмешь из себя?
Ответ: У отца Амвросия Оптинского был ответ на этот вопрос. Он говорил, что мы обязаны делать дела любви даже тогда, когда нет соответствуюшего настроения. Силой воли и разума мы должны и можем заставлять себя делать так, как велит Заповедь Божия.
Тогда только, видя наше усердие, Господь дает душе радостное чувство любви, и этой радостью облегчаются все труды и лишения.
Вопрос 98
Если человек ничего особенного людям сделать не может, даже вообще мало с кем связан, мало что от него зависит, — то ему как учиться любви?
Ответ: Владыка Вениамин (Милов) говорил в таком случае так: «Даже безотносительно к людям смирение в одежде, утаение добрых дел своих, выполнение самых черных работ, отказ от болтания в обществе какими-либо преимуществами — чудно и неизъяснимо умножает в душе любовь к Богу и к людям».
Вопрос 99
Дар молитвы — высший дар Божий и венец совершенства. Разве есть возможность упросить Бога дать хотя бы в малой степени этот дар?
Ответ: Есть.
Если хочешь, чтобы Бог дал счастье любить Его, — пожертвуй ради Него если не всем, что имеешь (сразу не сможешь), то хотя бы частью.
Вот как владыка Вениамин (Милов) советует:
«Пожертвуй временем, отдавая его молитве; пожертвуй силами, не жалей их при молитвенном бодрствовании; пожертвуй привычкой есть сладкое вкусно и досыта и при упражнении себя в посте и воздержании пожертвуй склонностью развлекаться; пожертвуй комфортом, приучай себя к скудости; пожертвуй нарядами, стремясь одеваться по возможности скромнее, и так далее, — пусть каждый день приносятся жертвы Богу: от этого будет вложен новый камешек в наше сердечное здание любви».
Вопрос 100
Сосредоточенность на себе при мысли ограничить себя во всем во имя любви к Богу не будет ли отрицательно сказываться на взаимоотношениях с людьми, и не исключает ли в этом стремлении одно — другое?
Ответ: Не должно исключать. Даже наоборот: сдерживая свои потребности, освободишь силы, время и возможности помочь другим. И помощь эту надо принимать, как милость Божию, прежде всего тому, кто дает.
Отец Алексей Мечев говорил: «Случай сделать добро кому-нибудь есть милость Божия к нам. Поэтому мы должны бежать, стремиться всей душой послужить другим. А после всякого дела любви так радостно, так спокойно на душе: чувствуешь, что так и нужно делать, хочется еще делать добро. После этого будешь искать — как бы кого обласкать, утешить, ободрить, а потом в сердце такого человека вселится Сам Господь: “Мы придем и обитель у него сотворим” (Ин.14:23)».
Богу нашему слава! Аминь!
[1] Впервые этот рассказ появился в С.-Америк. Соединенных Штатах, где в течение нескольких месяцев разошелся в 500 000 зкземпляров (прим.ред. — ориг.)
[2] Ср. Втор.8:3; Мф.4:4; Лк.4:4
[5] Ср. Пс.121:2-4.
[6] Что значит: «сеять»? Водить, обводить, колебать, двигать, потрясать, терзать, как бывает с веществами, посеваемыми через решето; но Я, говорит, не допустил, зная, что вы не можете перенести искушения… (Толкования на Лк. 22:31 святителя Ианна Златоустого
[7] Пола одежды — нижняя часть верхней одежды длиной ниже коллена или нижний край полотнища. Термин применим как к женской, так и к мужской одежде — ред.
[8] Эпикуреец — поклонник изощренного сластолюбия — (Большой толково-фразеологический словарь Михельсона).
[9] Мария Клеопова — мать апп. Иакова Алфеева и евангелиста Матфея;
[10] Иоанна — жена Хузы, домоправителя Иродова;
[11] Саломия — дочь Иосифа Обручника от первого брака, мать святых апостолов Зеведеевых Иакова и Иоанна
[12] В книге «Лилии полевые» издания 2006 г., ранее был опубликован рассказ «Вифлеемский младенец» с подобным сюжетом, в другой редакции. Оба рассказа перепечатаны из архива протоиерея Григория Пономарева (1914-1997 гг).
[13] На жаргоне то же, что «кирдык», «хана».
В мифологии, Карачун — языческое божество (один из помощников бога Перуна), управлял подземным миром. В Википедии: «карачун», в переводе с древне-славянского яз. означает «смерть». — ред.
[14] Здесь и далее даты приводятся по старому стилю церковного календаря — ред.
[15] Лазjревая — голубая, бирюзовая, лазуревая, лазурная, синяя, ярко-небесного цвета.
[16] Однорядка — русская верхняя широкая долгополая до щиколотки, мужская и женская одежда с длинными рукавами, под которыми делались прорехи для рук. Застегивалась встык. Носилась внакидку, как плащ. Шилась из одного ряда ткани, то есть не имели подкладки.
[17] Здесь и далее по тексту приставка «бес» пишется с буквой «з», по правилам орфографии русского языка, действующим до «Декрета о введении новой орфографии» от 10 октября 1918 года.
[18] Алексей Константинович Толстой (1817-1875), — писатель, поэт, драматург
[19] От редакции: Слова, выделенные здесь и далее в тексте курсивом, в рукописном дневнике отца Григория подчеркнуты одной и двумя чертами или выделены красным карандашом.
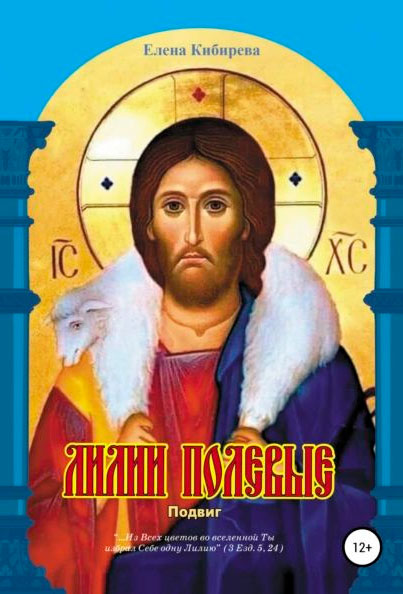



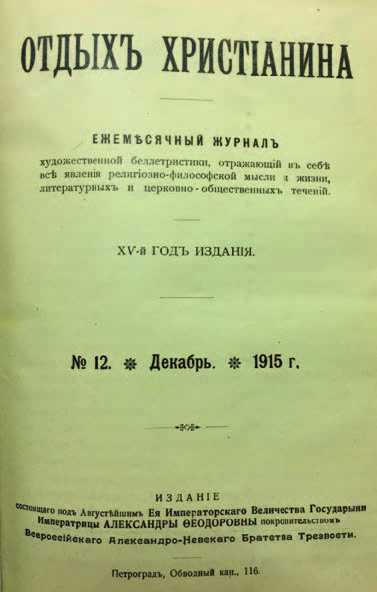
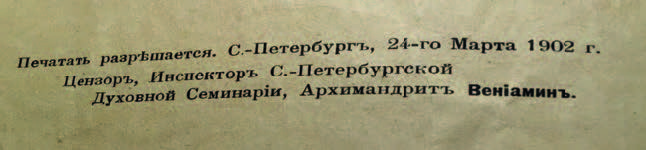












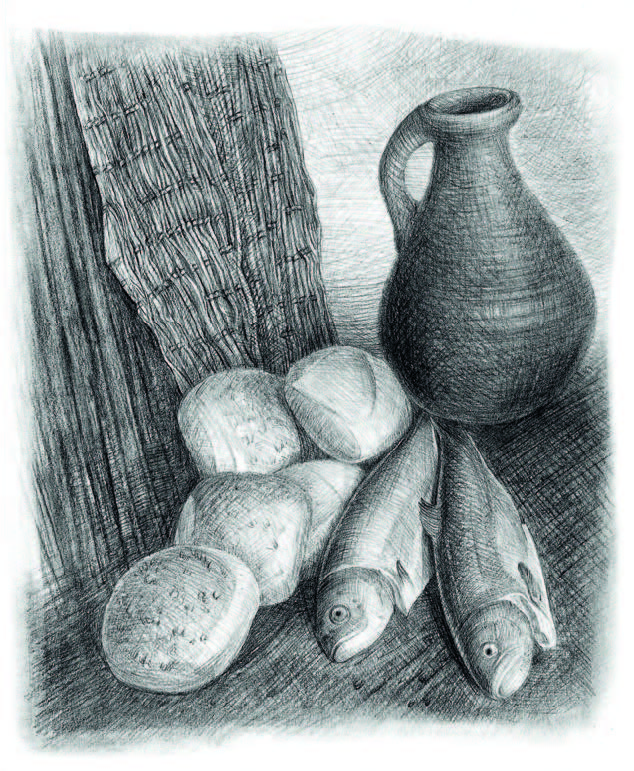














































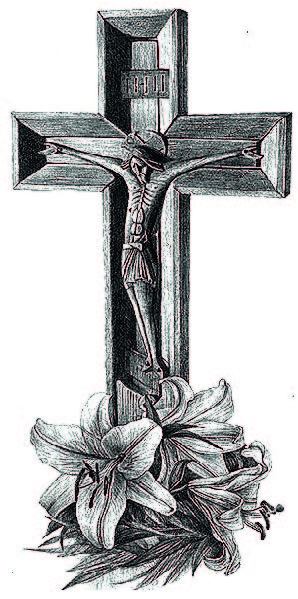






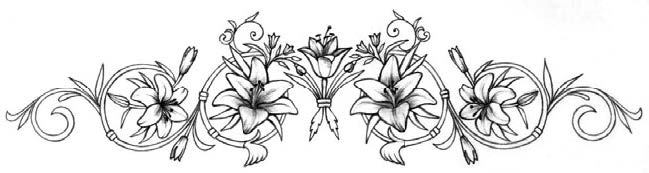































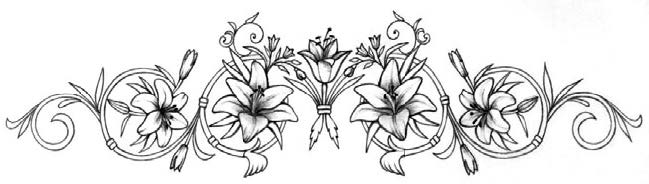












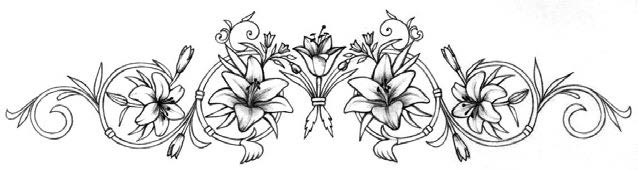


























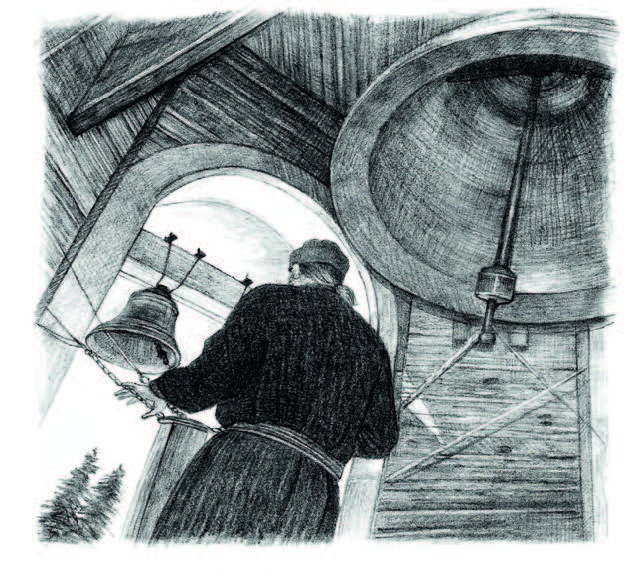







Комментировать