- К читателю
- Часть I
- Арест не по правилам
- «Дела» и люди
- «Диверсант» Каштанов
- «Шпиён» Микита
- «А как насчет Маркса и Энгельса?»
- «Vive Vita!»
- Покушение на Тольятти
- «Академия перепихнизма»
- Следствие. Следователи. Свидетели
- Часть II
- «Этапы большого пути»
- «Столыпин»
- Пересылка
- «Эта аудитория — тоже ведь история»
- Вот мы и «дома» — в Каргопольлаге МВД СССР строгого режима
- В карантине
- Обряд моего «крещения» в «ЗК»
- Член-марионетка
- «Лососина» небывалой свежести
- Любовница Николая II и прочая, и прочая…
- Вступаю в строй работяг
- Неожиданная встреча
- Это страшное слово — «лесоповал»
- Небываемое бывает
- Развод, или «Раньше был у нас режим…»
- Голый индеец на крыше, или Театр одного актера
- Сверхъеврей и бандеровцы
- Бандеровцы решили заговорить на английской мове
- Очень платоническое свидание
- Чье-то третье дыхание
- Кобыла легкого поведения
- Профессор Штейнберг и актриса Окуневская
- Воровской суд
- Русский характер
- Смерть Сталина. Прелюдия
- Предпоследнее известие
- Свершилось
- Запахло свободой
- Амнистия
- Искусство принадлежит «врагам народа»!
- Небывалый доклад о международном положении
- «Обыкновенный» концерт
- Театр под конвоем
- Наш клуб
- Концерты на женском лагпункте
- Новый год — пятьдесят пятый
- Пора домой и мне!
- Постфактум
- Наконец-то я дождался суда и оказался «в законе»
- Приложения
- Стихи и песни про беду
- 3К
- Злые кандалы
- Упреки разума
- Мираж
- Студент-заочник
- Сидор Карпыч похудел…
- Две баллады
- Мать Ивана Грозного
- Прощание
- Стихи, сочиненные и посланные домой малышу-сыну
- Зайка-капризайка
- Фролка-Балаболка
- Мишка-певец
- Песни на мои слова, разрешенные к исполнению на сцене лагерного клуба
- Твоя улыбка
- Машка бесконвойная
- Нелегальный почтальон
- Марш «Пройденный путь»
- На освобождение доктора Брусенцева
- Письмо от заключенных нашего лагпункта, провожавших меня на свободу
«Дела» и люди
Пусть теперь читатель отдохнет от моей персоны, от моих личных переживаний и размышлений. Расскажу о своих сокамерниках. За десять месяцев пребывания в следственной тюрьме я повидал разных людей и наслушался всякого. Запомнились, естественно, наиболее примечательные люди и наиболее интересные «дела», которые им «шили».
Меня привели в 66-ю камеру, где уже находились — а в тот момент спали и были разбужены моим появлением — два заключенных. Одному из них — Берстеневу было двадцать восемь лет, другому — Ефимову — пятьдесят с небольшим гаком. Мне шел тридцать первый год. И мы с Берстеневым, само собой, называли Ефимова «стариком». Берстенев — простой рабочий парень из области — обвинялся в каких-то антисоветских разговорах. Под этим, как мы увидим дальше, могло значиться все что угодно. Хотя в основе всех подобных обвинений лежал определенный стандартный набор. Первым обычно шло: «Клевета на одного из руководителей партии и правительства». Под формулой — «один из» — имелся в виду Сталин. Его святое имя нельзя было ни в каких документах впрямую связывать с какими бы то ни было критическими высказываниями. Считалось, видимо, что сама бумага не может такого стерпеть, а рука следователя не может повернуться, чтобы такое записать. Главное же соображение состояло, скорее всего, в том, чтобы не накапливать в архивах распространенные в миллионах протоколов хулы на «отца всех народов и наций». А вдруг какие-нибудь будущие читатели поверят в то, что все эти высказывания действительно имели место. И тогда вместо картины всенародной любви к великому вождю возникнет из самих же эмгэбэшных протоколов картина всенародной к нему ненависти, всеобщего, по крайней мере массового, понимания того, что во всех бедах и безобразиях нашей жизни виноват именно он — Сталин. Затем обычно шли обвинения вроде: «неверие в возможность построения социализма в одной стране», «восхваление западного образа жизни», «космополитизм» и, конечно, «клевета на советский политический и государственный строй». Под эту резиновую формулировку подходило все, что было угодно душам оперативников, стряпавших протоколы допроса свидетелей «антисоветских» высказываний, и следователей, добивавшихся признания этих «фактов» от обвиняемых. Кстати сказать, удивительную категорию — свидетель — то есть очевидец высказывания, породила именно наша советская действительность. В древности на Руси употребляли куда более точное слово: послух. Не очевидец, а ухослышец.
Шли в «дело» любые разговоры о малой зарплате, об отсутствии продуктов в магазинах, критика своего непосредственного начальства и т. д. и т. п.
Что именно говорил в действительности Берстенев, я не помню. Какие-то явные пустяки.
Ефимов сидел по той же нашей, или как ее называли в лагерях — «народной статье» — 58–10, то есть за антисоветскую агитацию. Однако суть дела у него была особенная, совсем не такая как у нас — обычных «антисоветчиков». Он был «повторником».
На этом слове я хотел бы остановиться, чтобы разъяснить его удивительную сущность, а затем рассказать несколько новелл — иначе не назовешь — о «делах» тех из «повторников», с кем мне довелось сидеть.
«Повторниками», как легко догадаться, называли тех политзаключенных, которые сидели повторно, по второму разу. В основном, это были люди, сидевшие в тридцатых годах, но получившие в то время слишком «малые» сроки: три, четыре, пять лет. Теперь, в 1949–1950 годах, их по специальной директиве сажали снова и добавляли к прежнему сроку еще несколько лет, обычно до десяти. Если раньше отсидел четыре года — получай еще шесть лет. Если раньше отсидел всего два года, получи еще восемь. Вроде бы все просто. При этом, однако, предъявлявшееся каждому из них теперешнее, новое обвинение было настолько диким и иезуитским, что при всем трагизме положения этих несчастных людей — вторичное заключение уже в пожилом возрасте — о нем нельзя было без смеха рассказывать, как нельзя было без смеха об этом слушать.
Общая формула обвинения повторников была такова: «антисоветская агитация, выразившаяся в клевете на органы государственной безопасности». В каждом конкретном случае эта клевета состояла в том, что человек рассказывал дома, знакомым, сослуживцам, за что он был осужден тогда, в тридцатых. Теперь тогдашние обвинения, за которые человек получил срок, объявлялись клеветническим вымыслом. Некоторые следователи конца сороковых−пятидесятых годов искренне возмущались рассказами повторников о своем прежнем деле и действительно считали их клеветническими выдумками. Никто из этих следователей не спешил, однако, запросить из архива прежнее дело своего подследственного с тем, чтобы проверить, правдив или ложен его рассказ. Все они знали, что есть директива посадить этих неисправимых «врагов народа», значит, они заведомо виноваты и должны быть осуждены.
Итак, несколько примеров из числа дел повторников.
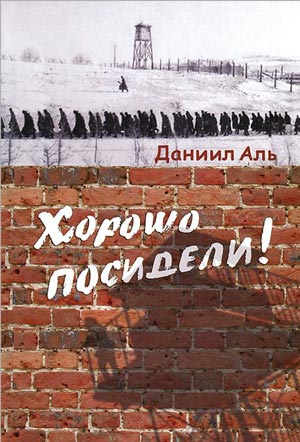
Комментировать