- От редакции
- В. И. Щипин. Об этой книге и её авторе
- По волнам житейского моря. История моей жизни
- Предисловие
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Глава 4
- Глава 5
- Глава 6
- Глава 7
- Глава 8
- Глава 9
- Глава 10
- Глава 11
- Глава 12
- Заключение
- Переписка Ивана Степановича Карпова и Сергея Зосимовича Трубачёва
- № 1. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
- № 2. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
- № 3. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
- № 4. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
- № 5. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
- № 6. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
- № 7. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
- № 8. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
- № 9. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
- № 10. С. З Трубачёв — И. С. Карпову
- № 11. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
- № 12. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
- № 13. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
- № 14. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
- № 15. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
- № 16. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
- № 17. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
- № 18. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
- № 19. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
- № 20. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
- № 21. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
- № 22. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
- № 23. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
- № 24. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
- № 25. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
- № 26. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
- № 27. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
- № 28. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
- № 29. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
- № 30. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
- № 31. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
- № 32. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
- № 33. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
- № 34. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
- № 35. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
- № 36. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
- № 37. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
- № 38. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
- № 39. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
- № 40. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
- № 41. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
- № 42. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
- № 43. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
- № 44. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
- № 45. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
- № 46. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
- № 47. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
- № 48. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
- № 49. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
- № 50. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
- № 51. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
- Приложения
- Беседа со старообрядцами в 1910 году, 20 июля
- Биография гр[аждани]на Ивана Ст[епановича] Карпова
От редакции
«По волнам житейского моря» Ивана Степановича Карпова, простого крестьянина с русского Севера — редчайшее явление в нашей мемуарной литературе. Среди огромного объёма воспоминаний и записок о пережитом, среди множества исторических свидетельств она уникальна не жанром, а авторством: любой, интересующийся трагической российской историей XX века, прекрасно знает, как редки в мемуарной литературе крестьянские воспоминания. Мир русского крестьянства, ещё в начале XX столетия казавшийся бескрайним и вечным, в результате почти непрерывной цепочки трагедий фактически канул в небытие. Две революции, гражданская братоубийственная война, коллективизация и раскулачивание, Великая Отечественная война, хрущёвские «укрупнения» деревень, окончательное обнищание и разорение деревни в послеперестроечные годы и сегодняшние пустые заколоченные избы в некогда процветающих местах… Этот огромный слой русского народа — а перед революцией крестьянство составляло более 80% от 160-миллионной России — ушёл под волны истории молча, не оставив о себе частных свидетельств. Мы знаем исторические факты, статистику и директивы, но только в редких случаях мы можем заглянуть во внутренний мир русского крестьянина, увидеть жизнь его глазами, оценить события его взглядом. Это не удивительно: это результат не только неграмотности, сословной робости и привычно скромной самооценки, это отсутствие традиции — не только в России, но в России особенно. За редким исключением даже очень грамотному крестьянину не приходило в голову, что его частная жизнь с её повседневными тяготами могла быть кому-то интересной, более того — заслуживать увековечения.
Крестьяне о себе не писали, хотя не просто разделили со всеми трагическую судьбу страны, но оказались в итоге раздавленными историей. «Век-волкодав» оставил нам множество свидетельств, мемуаров о драматических, страшных страницах жизни профессоров и священников, князей и фрейлин, красных командиров и театральных режиссёров. Но крестьянство исчезло безгласно, опубликованные воспоминания крестьян — единичны. Тем ценнее для нас каждое сохранившееся свидетельство: его практически не с чем сопоставить.
Однако даже не историческими реалиями уникально описание Ивана Карпова, хотя за свою долгую, почти вековую жизнь ему довелось увидеть и пережить многое. Рукоположенный в своё время в диаконы и несколько лет прослуживший в Церкви, он знал разную жизнь, но никогда не знал лёгкой. И нищета, и голод, и невозможность прокормить семью, и заключение в лагерь, и «поражение в правах», и гонения со стороны односельчан — всё это было в его жизни, и обо всём этом он рассказывает просто и бесхитростно, спокойно и немного отрешённо, словно со стороны. И эта интонация отстранённости, смиренное, терпеливое приятие ниспосланного Богом, отсутствие особой рефлексии по поводу своих персональных страданий, превратности своей, отдельной судьбы, без которых не обходятся даже самые значительные воспоминания, как правило, отражающие эпоху как события, лично переживаемые автором, создают в этой книге особое настроение. Как раз эта интонация, начисто лишённая привычной для нас «интеллигентской» особенности описывать события, прежде всего, как знак своей личной судьбы, невольно вызывает в памяти слова библейского многострадального Иова: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» (Иов.2:10). Парадокс, но, рассказывая о своей жизни, автор постоянно убирает самого себя из фокуса, рассказывает именно о событиях, не вычленяя себя и свои страдания из общей трагедии страны. В этом есть какая-то высшая объективность, поразительное человеческое достоинство встречи со своей судьбой. Автор знает, «от Кого это было», и принимает всё, ниспосланное Им.
«В Боге мой покой», — завершает свою книгу крестьянин Иван Карпов, по сути, повторяя знаменитые слова св. Иоанна Златоуста: «Слава Богу за всё». Спасибо ему за этот удивительный духовный урок!
В. И. Щипин. Об этой книге и её авторе
Воспоминания Ивана Степановича Карпова, простого северного крестьянина, которые держит сейчас в руках читатель, являются уникальным документом эпохи, эпохи уничтожения святой Руси и создания безбожного, жестокого, беспощадного государства, ломки традиционного крестьянского уклада, всех сторон жизни русского народа. Но воспоминания в то же время показывают, как их автор смог пронести через всю свою нелёгкую жизнь, полную драматических, а порой и трагических событий, светлую, чистую веру в Бога.
Крестьянские воспоминания — чрезвычайно редкое явление в русской литературе. Известно лишь о нескольких десятках таких произведений, тогда как мемуары дворян, чиновников, купцов насчитываются тысячами. Тем ценнее книга И. С. Карпова, в которой слышен голос не только автора, но и десятков тысяч униженных и оскорблённых, кто не оставил ни единой строчки о своей жизни.
Весь жизненный путь Ивана Степановича был усеян отнюдь не розами, но шипами, а многие события и повороты судьбы были глубоко символичны.
Иван Степанович Карпов родился 21 февраля 1888 года и прожил долгую жизнь, умерев 1 апреля 1986 года в возрасте 98 лет. Появился на свет Иван Степанович в обычной крестьянской семье в деревне Звягинской Ляховской волости Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. С первых минут рождения мальчика было ясно, что уготована ему нелёгкая судьба. Жизнь новорождённого висела на волоске, сначала он не подавал признаков жизни, и только когда повитуха положила его к тёплой печке, младенец ожил.
Религиозная мать с ранних лет воспитывала сына в православии, в глубоком уважении к Церкви. Когда Ваня закончил четырёхклассное земское училище, и ему исполнилось 14 лет, мать по ранее данному обету отдала мальчика в Соловецкий монастырь, где Иван стал певчим. Это первый символ: Соловки определили всю дальнейшую жизнь юноши. Активное участие в церковной жизни, каждодневное, ежечасное общение с монашествующими. За два года пребывания в монастыре он овладел нотной грамотой, сольфеджио, познакомился с основами литургики. Было время и для размышлений о будущей жизни на родине. О том, как рассуждал 15-летний отрок за полгода до отъезда из монастыря, свидетельствует письмо, написанное им в 1903 году другу и односельчанину Афанасию Карпову:
Господину любезному другу А. И. Карпову.
Благодарю тебя за твои письма и желаю Вам от Господа Бога по молитвам преподобных Зосимы и Савватия здоровья и благополучия. Здесь осень: то растает, то заморозит, и теперь всё обледенело, и берегись, чтобы не ушибиться. Погоды записываю с сентября. Очень жалко, что глупы наши мужики и рубят пихту, ведь от этого можно испортить весь ручей. По-моему бы, общими силами нужно насадить во весь ручей. От суеверия и неведения дети вырастают дикарями, вкоренёнными во все глупости. Как можно старайтесь при Божьей помощи на пользу деревни, хотя бы кто и обругал за это и осмеял. Насчёт опытов постарайтесь. Если даст Бог, приеду, так выпишем «Сельский вестник», «Крестьянское хозяйство», «Русское чтение». Старайтесь и других увлекать и уговаривать выписывать газеты. Я намерен насеять на новину гороха для удобрения и опыта. Волосы не обстриг ещё, потому что ещё коротки.
Друг твой И. Ст. Карпов. 1903 года 15 декабря[1].
Письмо не мальчика, но мужа! В письме он сообщает, что ведёт наблюдения за погодой, записывая в дневник; озабоченный общими нуждами родной деревни, сожалеет о вырубке пихты вдоль ручья; призывает друга делать полезные дела для однодеревенцев. Здесь же он, видимо, отвечая на какое-то сообщение Афанасия, указывает на необходимость правильного воспитания детей. Из послания видно, что Иван по возвращении намерен экспериментировать в полеводстве. Круг его интересов уже достаточно широк: помимо обычного крестьянского труда он собирается много читать, выписывая три газеты.
В мае Иван вернулся на родину. Чем можно заняться ещё, кроме работы на своём земельном наделе, чтобы прокормить семью? Он принимает решение пойти в ученики к столяру. Это второе символическое событие. Ведь он мог стать кузнецом или заняться сапожным ремеслом, так развитым на его родине — в богатейших северодвинских волостях Ляховской и Черевковской. Но почему-то тянуло к дереву: мягкому, податливому материалу, который в то же время мог быть твёрже железа, как, например, северная лиственница. Нет, он хочет взять в руки рубанок. Вспомним, что рубанок — атрибут плотника Иосифа, который стал символом самоотверженного, смиренного в своей участи человека!
Овладев ремеслом, он делал столы, стулья, табуретки, оконные рамы, продавал свои изделия на ярмарках села Черевково, что находилось неподалёку. Спустя какое-то время он был назначен псаломщиком одной из сельских церквей на Северной Двине.
Грянула мировая война. И опять символическое событие. Не дал Господь ему в руки оружия, ни разу он не выстрелил в человека: не убий! Двадцативосьмилетний И. С. Карпов был призван в армию 16 февраля 1916 года. Дома осталась жена с тремя малолетними детьми. В уездном городе Сольвычегодске Карпов прошёл медицинскую комиссию, был признан годным к военной службе и, наконец, вместе с ещё тысячей новобранцев отправлен через Котлас в город Рыбинск. В Рыбинске их разместили в казармах 87-го запасного пехотного полка. Служба в Рыбинске началась достаточно удачно: командир полка поручил Карпову как бывшему псаломщику организовать полковой церковный хор. Карпов справился с этой задачей. Два раза в неделю он проводил спевки хора, в эти дни певчие освобождались от строевых занятий. После спевок они отправлялись в баню, а потом, получив увольнительные, выходили познакомиться с городом, послушать образцовый хор в Крестовоздвиженском кафедральном соборе. Иван Степанович писал: «С увлечением слушаешь архиерейский знаменитый хор, иногда знакомое песнопение или концерт, и дорого для меня то, что я вижу свою недоучку и замечаю свои ошибки».
Спустя полгода молодые солдаты приняли присягу. Полк был отправлен на фронт, а Карпов в составе команды из 15 человек получил назначение во 2-й запасный пулемётный полк под Петроград. И ему вновь повезло. Узнав об увлечении Карпова работой с деревом, его направили в мастерскую столяров и резчиков по дереву.
Из воспоминаний: «Построена в казарме церковь, и из армии направляют специалистов создавать иконостас. Четыре столяра уже заканчивают свою работу, так же и токари, а резьба по дереву только начинается. Художники-иконописцы в отдельном помещении спешат кончить свою работу к назначенному сроку. Резчики с удовольствием пригласили меня на свою работу, поручая мне не очень сложные рисунки, но, видя моё увлечение, стали давать более сложные рисунки». Кроме того, Карпова назначили денщиком к полковому священнику и определили псаломщиком полковой церкви. Для проживания ему определили церковную сторожку.
Жизнь наполнена до предела, Карпов занят целый день: служба в церкви, спевки церковного хора, выполнение обязанностей денщика полкового священника, занятия резьбой по дереву, а вечерами и по ночам ещё и переписывание песнопений с партитур. По субботам он был обязан ездить в Александро-Невскую лавру за просфорами, где мог наслаждаться пением монашеского хора, пожалуй, лучшего в Петрограде. Как это ни странно, но при чтении воспоминаний Карпова возникает впечатление, что он был счастлив!
Февральская революция, октябрьский переворот. Но Карпову удалось демобилизоваться и вернуться домой только в конце 1918 года. Вновь служба псаломщиком, а затем и рукоположение в дьяконы. Именно тогда началось «хождение по мукам» Ивана Степановича. Лишённый избирательных прав как служитель культа, он не мог дать своим детям полноценного образования. По той же причине ему отказывали в медицинской помощи, облагали непосильным налогом, не принимали в колхоз.
Как добыть деньги на пропитание семьи? И тут происходит ещё одно символическое событие: он начинает заниматься пчеловодством, весьма редким на Русском Севере занятием. Вспомним, как премудрый Соломон отзывается о пчеле: Пойди к пчеле и познай, как она трудолюбива, какую почтенную работу она производит; её труды употребляют во здравие и цари и простолюдины; любима же она всеми и славна; хотя силою она слаба, но мудростию почтена (ср.: Притч.6:8). Пчела стала его кормилицей, а иногда и защитницей. Когда деревенские комсомольцы в очередной раз пытались разрушить пасеку, рой разъярённых пчёл набросился на хулиганов, так что те едва остались живы от сотен укусов.
Но несчастья продолжают преследовать Ивана Степановича. В 1937 году И. С. Карпов трудился столяром в архангельской артели «Северный художник». В ночь с 10 на 11 декабря вдруг раздался резкий и требовательный стук. Наспех одевшись, Иван Степанович открыл дверь и увидел перед собой вооружённого человека в форме НКВД и ещё каких-то людей: мужчину и женщину. Недолгий обыск, арест и архангельская тюрьма. Громоздкий механизм НКВД крутился неспешно. 11 декабря арестовали, 15 декабря вызвали для составления анкеты арестованного, и, наконец, 19 декабря был проведён допрос, один-единственный за всё время так называемого следствия. Приведём весь текст допроса, это не утомит читателя, так как он состоит из одного вопроса и одного ответа!
Итак, единственный вопрос следователя, старшего лейтенанта госбезопасности: «Вы арестованы за контрреволюционную агитацию, систематически проводимую вами».
Ответ Карпова: «В контрреволюционной агитации виновным себя не признаю».
И всё! У следствия больше вопросов не было. А зачем — всё и так предельно ясно. Так решением тройки Управления НКВД по Архангельской области 5 января 1938 года получил Иван Степанович десять лет исправительно-трудового лагеря за «антисоветскую агитацию». Спустя девять месяцев пребывания в лагере к Ивану Степановичу обратился заключённый-экскаваторщик, который под конвоем отправлялся в командировку в Киров. Он предложил Карпову: «Ты пиши заявление Верховному прокурору Вышинскому, дай мне семь рублей, и я твою жалобу спущу в почтовый ящик». Тот согласился, хотя слабо верил в осуществление задуманного.
Прошло семь месяцев, и случилось чудо! Вспоминает Карпов: «Третьего мая все ушли на работу, и я занялся приведением в порядок палатки. Вдруг вбегает человек из конторы и немедленно вызывает меня в контору: сейчас домой поедешь! Я онемел, потерял равновесие и пришёл в контору почти без рассудка». Здесь ему наскоро объявили постановление особоуполномоченного Управления НКВД по Архангельской области: «Произведённой проверкой материалов следственного дела и передопросом свидетелей установлено, что предъявленное Карпову Ивану Степановичу обвинение в контрреволюционной деятельности не подтверждено. На основании изложенного <…> Карпова Ивана Степановича от отбывания им меры наказания в лагере освободить». Тут же вручили запечатанный пакет с документами и практически вытолкали растерянного и плохо понимавшего происходящее Ивана Степанович за ворота. Начальник караула на прощанье погрозил Карпову пальцем: «Ты позабудь своего Иисуса, а то опять сюда же придёшь».
Итак, позади более полутора лет лагерей. А потом опять — жизнь впроголодь, отправка детей нищенствовать, чтобы хоть как-то прокормиться, потеря двух сыновей на фронтах Великой Отечественной войны. Через всё прошёл Иван Степанович, но сохранил светлую веру в Бога и веру в человека, доброту и справедливость.
Что заставило Ивана Степановича в возрасте 82-х лет вдруг взяться за перо и начать писать мемуары? В 1969 году произошла знаменательная встреча с симфоническим дирижёром и церковным композитором Сергеем Зосимовичем Трубачёвым, заведующим кафедрой оркестрового дирижирования Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных. После единственной встречи завязалась переписка, которая велась в течение 17-ти лет и составила более трёхсот писем! Все они бережно хранятся у детей Сергея Зосимовича: сына — игумена Троице-Сергиевой лавры Андроника и дочерей — Марии Сергеевны Трубачёвой (научного сотрудника Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря), и Ольги Сергеевны Никитиной (преподавателя фортепиано Школы искусств).
Письма Карпова интересны сами по себе, но когда тут же можно прочитать ответы на них Трубачёва, читатель становится свидетелем интереснейшего диалога собеседников, увлечённо обсуждающих вопросы и проблемы духовной и оперной музыки, книги классиков и современников, вопросы Трубачёва об особенностях исполнения церковных песнопений в Соловецком монастыре и обстоятельные ответы Карпова об особенностях соловецкого распева, исполнения по крюкам и многое-многое другое. О письмах Ивана Степановича Сергей Зосимович писал: «Письмо Ваше и удивило меня, и обрадовало. Удивило ясностью мысли, свежестью памяти, своеобразием слога и твёрдостью почерка».
Именно С. З. Трубачёв подтолкнул Карпова к написанию воспоминаний. В одном из писем он процитировал строки из книги Шаляпина «Маска и душа»: «Много горького и светлого в жизни человека, но искреннее воскресение — песня, истинное вознесение — песнопение». Иван Степанович нашёл эту книгу в сельской библиотеке и, прочитав, тут же в письме от 14 июля 1970 года ответил: «Я питаю мысль описать всю свою жизнь, с детства несчастную, до невероятности трагическую, но по малограмотности сомневаюсь, чтобы удовлетворительно что-нибудь получилось. Придётся описывать невероятно печальные факты и жизнь деревни 80 лет назад. И получилась бы непревзойдённая история, охватывающая жизнь и события в течение 80 годов».
Трубачёв высказал свои соображения на этот счёт в письме от 18 июля 1970 года: «В последнем письме Вы говорите о желании написать воспоминания о своей жизни. Если только найдутся у Вас силы… непременно возьмитесь за этот труд. <…> Очень интересно видеть, как постепенно возникает и развивается личность. Интересны и факты окружающей вас жизни — из живых впечатлений создаётся неповторимо живая картина действительности, хотя бы и в очень ограниченном отрезке места и времени. <…> Описать всю Вашу жизнь за 80 лет — труд непосильный. Пишите частями. Пишите только о том, чему лично Вы были свидетель и очевидец. Как интересно будет прочитать Ваши воспоминания, да и не только мне… Убеждён, что запись воспоминаний увлечёт Вас, ведь в них — живая жизнь, о которой Вам есть что сказать, но сказать надо правдиво и просто, так, как Вы думаете и переживаете». Так в 1970 году и родилась идея воспоминаний Карпова «По волнам житейского моря».
Огромное место в переписке занимает обсуждение музыки как церковной, так и светской. 7 ноября 1969 года Иван Степанович писал: «Музыка и пение — это моя страсть». Он играл на фисгармонии: «Хотя я не достиг совершенства <…> но, заучивая, пробегая десятки раз одно песнопение, играю для себя удовлетворительно». В репертуаре старика, жившего в маленькой деревне на Северной Двине, в убогом домике, были произведения Бортнянского, Ломакина, Веделя, Архангельского, Турчанинова, Соколова, Дегтярёва и других известных композиторов. Только партитур концертов Дмитрия Бортнянского в его собрании насчитывалось 35! Сергей Зосимович направлял Карпову бандероли с граммофонными записями опер «Иван Сусанин», «Сказание о невидимом граде Китеже», «Борис Годунов», «Демон» и др. Особо оценил Иван Степанович подарок Трубачёва — запись «Реквиема» Моцарта. В письме от 14 мая 1970 года он писал: «Моё восприятие выше и сладостнее музыки «Реквиема» Моцарта уже вместить не может». Сергей Зосимович отвечал: «Согласен с Вами, что в музыке самое прекрасное — это «Реквием» Моцарта». И. С. Карпов не оставался в долгу, он переписывал для С. З. Трубачёва партитуры имевшихся у него музыкальных произведений. Тот писал в ответ: «От Вас <…> на память у меня <…> есть ноты, едва ли кому-либо из Ваших близких захотелось бы их иметь, а для меня хоровые партитуры — большая ценность».
Тяга к знаниям и чтение были второй страстью Карпова. С детства чтение стало необъемлемой частью жизни Ивана Степановича. В переписке Карпова и Трубачёва обсуждаются произведения Пушкина, оба с осуждением относятся к позиции Льва Толстого по отношению к религии. Иван Степанович сообщает, что в его личной библиотеке есть книга Джона Мильтона «Потерянный и возвращённый рай» с иллюстрациями Густава Доре, которую он с удовольствием перечитывает. Узнав, что Сергей Зосимович не читал книгу архимандрита Павла (Леднёва) «Беседы со старообрядцами», И. С. Карпов заботливо переплёл свой экземпляр и отправил в Москву.
Корреспонденты не обходили стороной и бытовую сторону своей жизни. Иван Степанович подробно описывал свои заботы по уходу за пчёлами, садом и огородом, в суровую зиму 1985–1986 года рассказывал о двухметровых заносах вокруг дома, о том, как соседям приходится чуть ли не ежедневно откапывать их маленький домик от снега.
Для И. С. Карпова эта переписка стала духовно-нравственной отдушиной, своеобразным дневником, катализатором мысли и неким черновиком, подготовительным материалом для его воспоминаний. И тот, и другой, увидевшись только один раз в жизни, уже не мыслили себя без этих писем.
Переписка И. С. Карпова и С. З. Трубачёва является ярким примером неразрывной духовной связи окраины и центра, продолжающей поддерживать культурное единство России. Несомненны взаимовлияние, взаимодействие и взаимообогащение двух глубоко религиозных людей, совершенно разных по воспитанию, образованию, образу жизни, возрасту, которых объединила общая страсть — любовь к духовной и классической музыке.
В конце 1969 года умерла жена Ивана Степановича — Мария Ивановна. Горю старика не было предела. «Со смертью Маруси всё стало в другом свете, не стало иметь никакой цены», — писал он в письме от 8 января 1970 года. В следующем письме: «А всё-таки одинок я, не с кем поделиться занимающими меня вопросами. Если бы увидеться с Вами, то, кажется, на неделю хватило бы беседовать». Одиночество заполнялось заботами по хозяйству, молитвой и игрой на фисгармонии. Вскоре из Котласа приехала дочь Галина помочь отцу. С этого момента они и жили вместе вплоть до кончины Ивана Степановича в 1986 году. Без дочери он обойтись не мог, с каждый годом силы уходили. А хозяйство было большое. Главное богатство — пчёлы. Большой огород и, главное, сад, вернее, ягодник. Иван Степанович выращивал землянику, смородину, малину, черноплодную рябину. На огороде — картофель, свеклу, морковь. В теплицах росли огурцы и помидоры. «Все сорта высшего качества, выведенные вновь, несравненно урожайнее прежних сортов, — писал садовод в одном из писем. — Земляника выведена несколько лет назад в Вологде селекционером Антоновой. Малина у меня приобретена из Устюга от садовода инженера Шапирова, очень урожайная, крупноплодная». Значительная часть мёда, ягод и корнеплодов продавалась. Все доходы и расходы тщательно записывались, учитывалась каждая копейка. Но чему тут удивляться? Вплоть до 1975 года Иван Степанович получал пенсию 28 рублей. Кое-кто из соседей считал Карпова скупым человеком, но в его приходно-расходных тетрадях встречаются записи о взносе на сооружение мемориальной доски воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны, о переводе ста рублей в Фонд мира, регулярных расходах на милостыню во время посещения Красноборской церкви и т. п. Из того немногого, чем он располагал, Иван Степанович, не задумываясь, делился с ближним, чем мог, а сам жил, руководствуясь словами апостола Павла: Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть (Евр.13:5).
Казалось бы, что жизнь, полная невзгод и лишений, должна была превратить И. С. Карпова в человека нелюдимого, замкнутого, чёрствого. Но люди, хорошо знавшие Ивана Степановича, вспоминали, что он был общительным человеком, любящим поговорить и умевшим внимательно слушать собеседника.
С момента кончины И. С. Карпова прошло уже более четверти века, но память о нём жива, и прежде всего благодаря оставленным им воспоминаниям. Жизнь и судьба этого удивительно чистого человека, кроткого и вместе с тем твёрдого в своих убеждениях, позволяют нам, живущим в XXI веке, ещё раз утвердиться в том, что только Вера может помочь вынести все те испытания, которые посылает нам Господь Бог.
Искренняя благодарность и признательность всем, кто помогал в работе по сбору материалов об И. С. Карпове и подготовке к печати его воспоминаний и переписки:
Аксеновской Татьяне Ивановне, внучатой племяннице И. С. Карпова, с. Красноборск Архангельской обл.,
Андронику (Трубачёву), игумену Троице-Сергиевой лавры, Сергиев Посад,
Благодарёвой Марине Валерьевне, учителю истории Пермогорской основной общеобразовательной школы, Красноборский район Архангельской обл.,
Бударагину Владимиру Павловичу, завудующему Древлехранилищем ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, Санкт-Петербург,
Дудаладовой Наталье Александровне, сотруднику архива УФСБ по Архангельской обл., Архангельск,
Зуевой Елене Владиславовне, директору Красноборского историко-мемориального и художественного музея, Архангельская обл.,
Варсонофию (Чугунову), игумену Антониево-Сийского монастыря, Архангельская обл.,
Копыткову Василию Викентьевичу, историку, Москва,
Кузнецовой (Самойловой) Елене Николаевне, правнучке И. С. Карпова, г. Барвиха Московской обл.,
Ладкиной Ольге Юрьевне, внучке И. С. Карпова, дер. Калинка Гридинская Красноборского района Архангельской обл.,
Лапиной Татьяне Владимировне, заведующей Черевковским филиалом Красноборского историко-мемориального и художественного музея, Архангельская обл.,
Ноговицыну Владимиру Валерьевичу, журналисту, Сольвычегодск, Архангельская обл.,
Пановой Елене Савватьевне, главному хранителю Красноборского историко-мемориального и художественного музея, Архангельская обл.,
Рашеву Геннадию Изосимовичу, г. Коряжма, Архангельская обл.,
Санакиной Татьяне Анатольевне, начальнику отдела публикации и использования документов Государственного архива Архангельской обл.,
Трубачёвой Марии Сергеевне, научному сотруднику Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря, Москва,
Шумилову Николаю Алексеевичу, заместителю директора Государственного архива Архангельской обл. по научной работе.
По волнам житейского моря. История моей жизни
Житейское море, воздвизаемое… напастей бурею.
Ирмос[2] 6-й песни Канона покаянного ко Господу нашему Иисусу Христу
Предисловие[3]
Исполняя задачу столь для меня трудную, как описание своей жизни, считаю обязанным объяснить причину, побудившую меня на этот труд.
Будучи служителем Церкви, со дня революции, во время ломки старого быта и построения нового советского общества, пришлось пережить все гонения на церковнослужителей и на себе лично испытать вплоть до ужасов тюрьмы. И последующая жизнь моя в новом советском обществе выделяла меня как бывшего служителя Церкви, отставшего от современной культуры.
Вот это и навело меня на мысль оставить после смерти своё писание для любознательных, может, и прочитают и вынесут свой суд обо мне, грешном. Современный, беспристрастный, хотя и не верующий человек прочтёт как историю времени построения нового советского общества, а верующий — как борьбу со старыми традициями и гонение на Церковь во время революции.
Настоящее моё описание своей жизни если случится прочесть человеку образованному, пусть не удивляется, что написано не грамматически, с орфографическими ошибками[4], как у человека малообразованного, кончившего начальную школу в 1899 году, 71 год назад[5]. Я писал о фактах кратко и насколько мог ясно. При пространном описании получилась бы большая книга, требующая большого времени для чтения.
Глава 1
Начало моей памяти 1891 год. Запомнил я, что в весеннее время меня, маленького, трёхлетнего, на руках вынесла девушка на крыльцо, чтобы охладить меня, я болел корью, была сыпь, и сильно болела голова. Я знал, что эта девушка не наша, а нищая, и нет у ней ни отца, ни матери — она найдёныш, внебрачная. Она проживала у нас и помогала маме в работах. Звали её Федосьей.
Отца я мало видел днём дома, не знаю, где он днём находился, а приходил домой поздно вечером, поужинав, ложился спать рядом со мной на полу, потому что у нас ни кроватей, ни стульев не было, были около стен лавки и обеденный грубо сделанный стол. От отца сильно пахло табаком.
Был дедушка 80-ти лет, спал он на лавке с подставленной скамейкой. Помню, летом в избе никто не спал, все спали на повети[6] на сеновале, так как в избе было много клопов.
Был у нас очень смирный старый конь Рыжко, очень я любил Рыжка, и меня часто садили ему на спину, и я только и ждал этого случая. Дедушка чистил Рыжка железной щёткой. Была у нас корова и несколько овец.
Мама, проснувшись, вставала на молитву перед иконами и клала земные поклоны. Дедушка почему-то, если позволяет погода, выходил на крыльцо и молился на часовню, читая молитву «Спаси, Господи, люди Твоя»[7]. Не знаю, знал ли он ещё какую молитву. Федосья тоже молилась, мама учила её молиться.
Все были неграмотные, а мама какими-то судьбами научилась славянским буквам и умела складывать слова и стала меня учить алфавиту: аз, буки, веди, глаголь, добро, есть, живете, зело, земля, иже, и, како, люде, мыслете, наш, он, покой, рцы, слово, твердо, ук, ферт, хер, кси, пси, ер, юс, фита, ижица. Это мне, малышу, было под силу.
А вот складывать слова долго не мог научиться, но наконец одолел и эту премудрость. Например, как сложить слова Иван, Степан, Семён? Иже, веди, аз, наш, ер — Иван. Слово, твердо, есть, покой, аз, наш, ер — Степан. Слово, есть, мыслете, есть, наш, ер — Семён. Приходилось складывать слова и читать очень медленно. Сначала учили из Псалтири псалом «Блажен муж»[8]: буки, люди, аз, живете, есть, наш, ер — блажен; мыслете, ук, живете, ер — муж. Мама часто при свете лучины садилась с Псалтирью и пальцем водила по буквам (Федосья, видимо, не интересовалась грамотой).
Спать ложили меня рано на полу, а мама и Федосья сидели с лучиной до полуночи за прялкой, дым от лучины ел глаза.
Дедушка вечером приготовлял для лучины плахи[9] и садил в печь для просушки. Отец в это время уходил к соседям покурить табаку и возвращался домой, когда ложились спать.
Окна у избы были маленькие, не окосяченные, размером 32х32 сантиметра, вставлялась рамочка с одним стеклом, замерзала, в избе темно и сыро, к ночи в наружной стороны в окна вкладывалась соломенная мата, и стекло в течение ночи оттаивало.
Не было дровяных пил, и дрова заготовляли на топор. Вечером на заре у всех почти домов раздаётся стук топора, идёт заготовка дров к следующему утру.
Не знаю, дедушка или отец смастерил мне салазки, сделали горку, и вечером Федосья садила меня себе на колени в салазки, и мы катились.
У мамы было очень много работы: прясть, пряжу белить на снегу, ткать холст — и Федосья к этой работе приучилась.
Отец ездил за сеном, за дровами, но наш добрый Рыжко стал старый, стал спотыкаться, обессилел. Поехали отец и дедушка на Крещенскую ярмарку в Красноборск[10] и променяли карька на вороного коня. Поставили в конюшню, пришёл дедушка утром к коню, а он лежит ногами под яслями и весь укатался в навозе. Дедушка каждое утро чистил коня, но повторялось одно и то же. Для работы конь неплохой. И решили отец и дедушка, что коня мучит домовой, «дедушка». Этот «дедушка» в каждом доме живёт и одних коней любит, а других мучит. Решили и этого вороного променять. Поехал отец в Красноборск на Алексеевскую ярмарку[11] (17 марта старого стиля). Не знаем подробности мены конями, а нам сосед привёл не на узде, а на верёвке коня на трёх ногах, а через сутки привезли пьяного мертвецки отца без саней, дуги и хомута. Трое мужиков втащили отца в избу пьяного до бессознания.
Я уже чувствовал тяжесть положения, хотя был четырёх-пяти лет, утрату коня, саней, сбруи, и слёзы мамы, и угрозы дедушки.
Ранним утром отец ушёл в кабак (кабак был в деревне через полверсты[12]), а дед взял увесистую рябиновую палку и так отколотил в кабаке отца, что, проспавшись, отец показал на теле все синяки. С этого времени я стал уже понимать, что все мы не живём, а мучимся.
Отец редко стал находиться дома — то у соседей курит табак, то в кабаке. Дома отец иногда чинил свои развалившиеся валенки (хорошие-то уже променял).
Мама ходила по церквам, заказывала молебны, сама усердно со слезами молилась. Но, видимо, Богу нужно было судить иначе. И вот мама решилась идти пешком в Киев[13], к старцу Никодиму[14], пошли с ней две девушки и две женщины, всякая со своим горем. Путеводителем был старичок Лука Бережной, который восемь раз ходил и знал, где лучше идти и где есть дома для паломников, где можно отдохнуть, помыться и починить обувь. Каких жертв стоило такое путешествие! Конечно, питались в дороге подаянием, так как с собою ни хлеба, ни денег не было. Девушки шли за советом, как устроить свою жизнь, а женщины излить своё горе. Все были приняты и получили совет. А маме сказал старец, что ничего тебе не поделать, твоя скорбь велика, и Бог всё видит, но отчаяние Иуды[15] велико и отчаяние твоего мужа велико. С таким загадочным, нерешённым предсказанием и камнем на сердце вернулась мама домой.
Пять лет тому назад одна старушка рассказала мне о путешествии в Киев, и она была свидетельницей слов, какие сказал маме старец Никодим.
Годы шли. У мамы было 11 детей, в живых осталось нас двое: я и мой брат моложе меня на десять лет.
Хозяйство наше постепенно разрушалось. Отец, хотя на время просыпался и домашнюю работу выполнял, но на хромом коне ничего не заработаешь, разве дров для себя кой-как привезти. Да и вообще в то время негде было найти работу дома, кроме города Архангельска.
Меня уже стали летом брать с собой на работу, чтобы не оставлять одного дома.
Федосья прижилась у нас, и, видимо, ей неплохо было у нас, ведь она круглая сирота и внебрачная, а в то время тяжкое клеймо висело на таком человеке.
Хлеба для себя у нас хватало, потому что были раскопаны полянки, не входящие в душевые наделы. Пашни и жатвы было много, все жали и мне давали маленький серп.
Со мной был чрезвычайный случай. В сентябре, уже на жатве, было холодно, и для меня был разведён костёр, и я на огне пёк репу. Грея на огне спину, я не чувствовал никакого ожога, а чувствовал тепло, а мама увидела: полушубок мой огнём горит. Отец бежит тушить мой пожар, а я убегаю от него, думая, что побить меня хочет. Кой-как сорвали с меня полушубок, и я ничуть не пострадал, только вшили в спину кусок овчины с большую тарелку.
Когда дожинали последний сноп овса, оставляли немного овса несжатого, навивали пучок и приговаривали кому-то в подарок, не знаю кому, вероятно, какому-то дедушке-домовому. Последний сжатый сноп дедушка приносил домой и ставил под божницу за столом. Мама зажигала лампадку и благодарила Бога. Хотя стол наш был самый скудный, но по обычаю в день окончания жатвы готовили какие-либо жиры с толокном или ячменной крупой.
Ни слёзы мамы, ни угрозы дедушки отца не трогали, и он не мог остановиться, не пьянствовать.
Дедушка ухаживал за трёхногим конём, и конь был тяглый, опахивал нашу пахотную землю. Дедушка стал дряхлеть, часто лазил на печь отдыхать, но и по силам работал, ему было тогда 83 года. Он был мастером складывать рожь в скирды и знал какой-то волшебный заговор против мышей, чтобы они не трогали хлеба. Его самая главная работа при молотьбе: сушить овины и выбрасывать сухие снопы из овина, причём он вылезал из овина весь чёрный и плевал сажей. Так шла обычно наша жизнь до 1895 года.
В 1895 году у нас в Ляхове открылась первая школа грамоты с четырёхгодичным обучением, с вывеской «Земское начальное училище». Здания для школы не было, поэтому для неё арендовали двухэтажное здание крестьянского дома. Во втором этаже вместилось всего 60 человек. Объявили запись учеников, и мама повела меня записывать. Много родителей повели записывать своих детей. Много было взрослых до 16–18 годов. Записывали не моложе восьми лет, а мне было семь. Мама сказала учителю, что мне восемь лет, а тут кто-то сказал учителю, что я грамотный. Учитель подал мне азбуку и заставил читать: «Коля пошёл к бабушке, бабушка дала ему две груши». Я начал: како, он, люди, юс — Коля; покой, он, ша, он, люди, ер — пошёл. Учитель, улыбаясь, взял у меня азбуку и сказал: «На будущий год приходи». Мама заплакала, и я всю дорогу, идя домой, плакал.
На следующий день в школе был водосвятный молебен о начале учения. Народу собралось очень много, до тесноты. Завидно было счастью других, ведь не все попали из-за тесноты здания. Учитель разрешил желающим родителям посещать и стоять на уроках, и я много раз бывал.
Каждый месяц в субботу либо на праздник служили всенощную, и это было для нас с мамой радостное событие. Я уже ранее с дедушкой и мамой молился и знал молитвы.
Дедушка каждый год в Великий пост в церкви говел целую неделю, и один раз и меня, малыша, отправили с ним. Я не мог выстаивать длинной великопостной службы и садился на лавку у церковной сторожки. Дедушке очень тяжело было класть земные поклоны. Меня причащали без исповеди. В церкви по правую сторону не было клироса, а в каменном углублении (ниша) стоял резной из дерева в рост человека св. Николай Чудотворец с евангелием в руках. (Почему-то церковные власти приказали взять из дерева резную статую в Великоустюжский музей, и черевковские прихожане очень жалели). Моя поездка с дедушкой кончилась неблагополучно — я потерял хорошие рукавички, подаренные мне тётушкой Ольгой. Их вытащил из кармана один мальчик-нищий, это видели, но где его найдёшь. Хотя стоили они восемь копеек, но я остался в мороз без рукавиц, а у дедушки не на что было купить другие.
Я уже в 1896 году в школу ходил, когда дедушку пришёл исповедать отец Харлампий[16] — наш законоучитель. И вскоре дедушка умер. Теперь состояла наша семья из пяти человек: отца, мамы, меня, девочки, сестры Марии, двух лет, и Федосьи[17]. В том году была эпидемия скарлатины и дифтерита, и сестра Мария и многие дети померли от скарлатины и дизентерии, да и все мои братья и сёстры, которых у мамы было одиннадцать, умерли от оспы и скарлатины.
Мама мне говорила, что я родился мёртвым, так как роды были без всякой посторонней помощи, и я мог бы погибнуть, но Федосья подняла меня на голбец[18] к тёплой печке, и я оказался с признаками жизни. А отец в это время был в кабаке. Жизнь мамы была в опасности, и в этот момент она дала обещание Богу: если я останусь жив и она останется жива, послать меня на год к преподобным Зосиме и Савватию, Соловецким чудотворцам[19].
Отец извлекал из хозяйства всё, что стоило хоть ничтожные копейки. А мама забеременела. Летом в 1899 году я ночью услышал стон и крики в избе (спал я на сеновале), в этот момент мама родила мальчика, тут находился при родах отец. Он взял мальчика, поднял на голбец к печке и сказал мне: «Ну, Ванька, придётся тебе идти в солдаты, ведь родился-то парень». Такое ужасное положение было у всех женщин — не было медицинской помощи при родах. Родили на жатве, уборке сена, до последней минуты работали, а на другой день после родов за работу принимались.
Видимо, мама при этих родах дала обещание съездить к преподобным Зосиме и Савватию и меня взяла с собой, а двухлетнего братца моего сдала на попечение своей сестры — моей тётушки.
С нами поехала из соседней деревни женщина со своим сыном, тоже учеником школы. Ехали мы на барже целую неделю, платили по 50 копеек, а на пароходе надо платить рубль. За билет в Соловки нужно четыре рубля, но у нас денег не было, и мама подала в кассу 15 аршин[20] белого холста.
Пароход «Михаил Архангел» небольшой, нас посадили в трюм. Поднялась такая качка, что людей и вещи кидало, как щепки, из стороны в сторону. Никто не остался цел, все ублевались и укатались в блевотине и изгадили весь трюм.
В гостиницу нас не пустили, а отправили в купальню на Святое озеро[21], где после купания дали ярлык для входа во Святые ворота монастыря. Нашу нищенскую одежду мама вымыла и высушила на солнце на берегу моря. Пробыли мы в монастыре пять дней, ходили к дяде[22] в келью. На обратном пути абсолютная тишина, море как зеркало.
В Архангельске ночевали на Соловецком подворье. Мама с вечера узнала, что рядом с подворьем в церкви будет служба по случаю именин настоятеля[23]. Мы пришли в церковь к началу обедни, и услышал я такое невыразимо приятное пение, что у меня волосы вставали от восхищения, а пели две барышни, а молодой мужчина дирижировал и пел жиденьким баском. Видимо, пели хористы певчие. Пение монастырское мне было малопонятное, напевы под диктовку канонарха[24], но знакомые слова понимал.
Обратно домой ехали на буксирном пароходе, где нет места для пассажиров, а одна голая без крыши палуба. Холодно. Мама приспособила меня около машины, где было тепло, и я уснул, но меня одна страшная на вид старуха стащила с тёплого места и сама на то тёплое место легла. На уговоры мамы она отвечала грубыми ругательствами.
Отец в наше отсутствие мало пил, да и не на что — из дому взять было нечего. Тётушка с братцем Васей домовничала хорошо — кормила его молоком.
Управились в этом году и с полевой работой; люди, управившись со своей, помогли и нам управиться. На хромом коне с поля хлеб убрали, да хлеба на три надела немного и было. Приближалась осень и молотьба хлеба. Нужно овины сушить и молотить.
С Воздвижения[25] мне в школу идти, а кто будет дома с братом, ведь ему всего два года? Наняли в няни девушку из соседней деревни, самую бедную, родители отпустили её, лучше всё же, чем идти кусочки побирать. Хромой конь и тут помог: сосед повозил на нём дров и отработал за коня молотьбой.
После Воздвижения молебен в школе и начало учения. Приехала на помощь учителю учительница для первого и второго классов Любовь Николаевна Светлосанова[26]. Учитель Иван Дмитриевич Евтюхов[27] стал заниматься с третьим и четвёртым классом. По субботам служили всенощную.
Девушка (няня) была больна припадками падучей болезни, а мы этого не знали, она стала падать и в судорогах стонать, пришлось отправить её, бедную, домой. Теперь по приходе из школы мне пришлось одновременно качать люльку и учить уроки. Братец от скарлатины уцелел. Я кормил его варёным молоком из коровьей соски, натянутой на коровий рог (у всех тогда был такой способ кормления). Соска закисала и сильно воняла. У братца, вероятно, от кислой коровьей соски болел желудок, братец плакал, а я думал, что он голоден, лил ему в рот молоко, а он не желал принять и захлёбывался.
Каникулы у нас начинались за пять дней до Рождества, и у нас начинался самый радостный праздник — идти со звездой и славить Христа. Звезда у нас была сделана четыре года тому назад, и ежегодно ходили славить в деревни за пять километров от дома, начиная с двух часов ночи. Подходя к дому, мы стучали по стене палкой и кричали: «Не надо ли Христа прославить?» Отвечают: «Не надо!» Мы говорили: «За копейку споём». — «Нет копейки». — «За краюшку хлеба споём». Отвечают: «Краюшку сами съедим». Но если ворота дома не заперты, тогда мы без всякого разрешения входим со звездой в избу и начинаем петь, не рассчитывая на то, дадут или нет чего-нибудь. А пели-то мы как Бог на душу положит тропарь и кондак[28] Рождеству и ранее кем-то сочинённую бессмыслицу: «Как хозяин выходил, по рублёвке нам дарил, как хозяйка выходила, по полтине нам дарила, а кухарка выходила, помелом нас прогонила, как собаки набежали, все подолы оборвали». Хозяин раскошеливался, давал копейку, а хозяйка, если испеклись пироги, давала нам в корзинку пирог либо краюшку хлеба. И так славили с двух часов ночи до 12 часов дня. В своей деревне все без исключения принимали нас со звездой. Хлеба краюшек и пирогов собирали две корзины, хлеб продавали по одной копейке фунт[29], и вся сумма с хлебом и копейками достигала до 80 копеек — присчитывалось по 15 копеек на каждого. Лишались голоса, все охрипли, ведь орали из всех сил. Я неделю времени шёпотом говорил, так охрип.
Ещё до школы я научился рыбу удить. А рыбы в реке было так много, что она на виду у берега стаями ходит, в реке плещется. Всё время уходило на ловлю мух, которыми начинял крючок, и не успевал дёргать рыбу. В праздники и в воскресенья по закону запрещалось работать, поэтому в хорошую погоду все кому не лень шли с удочками на реку, так что не хватало удобного места на берегу сесть с удочкой. Домой уходили все с уловом. У меня был дядя — часовой мастер и специалист по всем механизмам, но он во время лета бросал свою работу, садился с удочкой на берег и запасал себе рыбы на круглый год.
Прошло с тех пор 70 лет, и в настоящее время, сидя с удочкой на берегу, не увидишь всплеснувшейся рыбки, случайно выудишь одну-две. Исчезла рыба в Двине.
В Великий пост нас, школьников, в числе 60 человек водили в черевковскую церковь на исповедь, шли пешком 14 километров. Какой торжественный для нас день был тогда, когда мы бегом бежали из захолустья Ляхова в большое село Черевково с церковью, богатыми домами, большими окнами и рядом торговых магазинов. Но где ученикам разместиться ночевать? Квартир не было. Ищи ночлег себе у знакомых или просись где-нибудь переночевать. Всякий нёс с собой на четыре дня хлеба. Мама всегда пекла для этой ходьбы гороховые шаньги[30] и давала мне две копейки — одну священнику за исповедь, а другую копейку на калачи. Но я предпочитал на копейку покупать четыре конфеты-леденца с картинками: Дуня, Ваня, Сеня, — они с загадками. Развернёшь конфету и загадку прочитаешь.
В церкви нас ставили рядами, учителя за порядком и стройностью следили. Посмотрели бы на нас ученики современной школы, на нас, учеников того времени, и удивились бы бедности обуви и одежды. И не удивительно, что некоторые с голоду не утерпели — проворовались исповедники. Учителям, конечно, неприятность, но приходится только пожалеть воришек.
Ближние две школы привели к обедне учеников и в церкви едва поместились. Заходя в церковь через паперть, едва пройдёшь улочкой до двери церкви — вся паперть занята оборванными нищими, их не сосчитаешь. Протягивают руки, просят: «Дяденька, дай копеечку!» Но, как видно, копеечек им мало дают. Нищих в черевковскую церковь влечёт богатство прихода. Три священника, служба ежедневная, ежедневно в гробах умерших три-пять человек. Принято в Черевкове по умершим подавать на паперти церковной пироги и ломти хлеба и копейки, и в ожидании подаяния нищие стоят на паперти несмотря ни на какой мороз. Тяжела доля нищего. В лохмотьях, с сумой и в лаптях приходится голодному ждать случайного подаяния. А где ночлег?
В Черевкове купцы Гусевы открыли богадельню[31] для четырёх-пяти человек, в ней живут инвалиды-старухи, и эта богадельня служит ночлегом для приходящих издалека в церковь. Да авторитет этой богадельни плохой: много клопов, блох и тараканов.
Черевковский район считается богатым по хлебу, церковь (приход) — самым богатым приходом по всей Двине. Ярмарки: 1-я — Девятая[32], 2-я — Ильинская, 3-я — Введенская, 4-я — Крещенская, 5-я — Алексеевская. Нищих стекается со всех малоурожайных хлебом мест. В зимнее время с Пинеги, Выи, Тоймы выезжают в Черевковскую волость на лошадях семьями, чтобы прокормить и семью, и лошадь.
И сидим мы с мамой и братом Васей на печи от холода, и вдруг вваливается семья нищих и просит милостинку Христа ради: «А для лошади, дедюшка, Христа ради сенца не найдётся ли?» Мама отрежет ломоть хлеба, разрежет по числу просящих, они приложат кусочки ко лбу и скажут: «Спаси, Господи». Сена-то у нас не было. Не успели уйти первые, идут другие, калеки слепые. Как слепых, их водит за палку поводырь. Не спрашивая разрешения хозяина дома, они поют: «Как архангел Михаил вострубит во трубу золотую, как Христос будет судить тех, кто во церковь Божию не ходили, нищего не приютили, середу-петницу не чтили. Святии апостоли Петр да и Павел, да отпирайте вы райские двери, да только трёх душ да не пускайте. Первая душа тяжко согрешила — во утробе младенца задушила, вторая душа тяжко согрешила — отца и матерь по-матерно ругала, третья душа тяжко согрешила — из хлеба и соли спорину вынимала[33]. Тем душам не будет вовеки прощенья — только одно покаяние. Дедушка — денежку, тётушка — пирожок да шанежку». За такую длинную, заунывную песню иная хозяйка почерпнёт чашку муки и сыпнет в мешок, который носят они с собой, и краюшку хлеба отрежет.
На хромом коне я уже сам стал привозить понемногу дров, если отец подготовит, и полен и чурок нарубить мог, лучины к зиме заготовить, снять берёсто и оскоблить кору.
Приближался Ильин день и ярмарка в Черевкове. Отец ещё накануне приготовился ехать на ярмарку. Не додумались мы с мамой, почему отец на сеновале снимает хранящиеся вилы, недоделанные лопаты и складывает на телегу, а оказалось, он решил продать этот инвентарь за какие-нибудь копейки и пропить. Поехала мама, и я поехал. Народу на ярмарке непроходимо. Мы ушли с мамой в церковь к обедне, пришли к телеге, но скарб наш цел, видимо, никому не нужен. Отец связал верёвкой весь скарб и на плечах унёс куда-то в ближайшую деревню. Долго мы ждали, и вернулся он не вовсе[34], но пьяный — видимо, сбыл свой товар.
По приезде домой хромой конь был выпряжен, и я свёл и навязал на траву. Отец ушёл к соседям покурить, а время позднее — пора спать, и мы уснули. Вернулся отец, лёг возле меня не раздеваясь, в жилете. Проснувшись, мы отца не нашли — он куда-то ушёл. Вероятно, как обычно, ушёл к соседям. Не приходил до вечера, в кабаке справлялись — не был. Прошли сутки, двое — нет и нет. На четвёртый день заявили уряднику[35], он дал распоряжение искать по баням, овинам, во ржи, и сельисполнители[36] искали в такое дорогое время — сенокос, жатва.
Прекратили поиски. На заборах и домах появились объявления: «20 июля среди ночи пропал человек без вести. Приметы: без шапки, босой, на нём серый жилет и серые брюки, рост средний, небольшая рыжая бородка. По обнаружении сообщите уряднику второго участка».
Прошла неделя, другая, никаких сведений об отце нет. Мама пошла заказывать молебны в черевковскую, ягрышскую, ракульскую церкви. Наконец из Ягрыша один человек сообщил, и то через людей заказал, что на речке Авнюге на сенокосе он видел человека, который собирает малину, весь оборванный и без шапки. Без сомнения, это — отец.
Наняли мы соседа по деревне, охотника, который все зимы на Авнюге ловил зверей и рыбу, знал там все охотничьи избушки и каждый пень. Охотник выследил отца, но сам себя не обнаружил. Отец скрывался в заброшенной охотничьей избушке.
Объявили уряднику, который дал наряд четырём десятникам взять и привести домой отца. Взяли длинную рубаху, верёвку, отправились за 18 вёрст болотами в сопровождении охотника. Пришли усталые к избушке вечером, даже с осторожностью не решались подойти к избушке, ведь леший увёл человека и с таким дело иметь опасно, но надо же приступать к делу. Охотник, конечно, смелее. Подойдя, услыхал храп, значит, уснул — надо как-то разбудить. Да отец и сам, услыхав шорох и открыв дверцу, швырнул в них доской, и все в испуге отступили от избушки, но, подготовившись, схватили его и связали. Вели с ним нормальный разговор, и отец нормально стал разговаривать, и его развязали. На костре наварили пищи, наужинались и с наступлением рассвета пошли домой, надев на отца привезённую рубаху. Восемнадцативёрстную дорогу шли целый августовский день болотами.
Мы и вся наша деревня были в ожидании, скоро ли приведут. До лесу — открытое поле, и уже в сумерки увидели в поле группу людей, медленно двигающихся. Идут по деревне, на отце вместо шапки котелок[37]. С какими чувствами встречали мы отца? С чувством позора и обиды. Мама истопила баню, упросила всех идти помыться, помылся и отец. Поужинали. Мама настелила соломы на пол, и все улеглись спать. С устатку все быстро заснули.
Отец лёг возле меня, худой, постаревший. Когда он стал засыпать, мама сняла распятие с божницы и положила под подушку отца. Вздремнули мама и я, а отца нет, встревожились, обыскали всё в доме, разбудили спящих соседей, но нигде не нашли. Никто не заметил, что на сеновале через главную слегу перетянута верёвка, а отец, видимо, услышал тревогу и спрятался под пустой чан, не успел совершить самоубийство. Сам пришёл, и мама приготовила какой могла обед.
Наш сенокосный надел продан отцом с условием выставки[38], и в лугу почти всё скошено, а у нас стоит не скошенное. Я, десятилетний, плохой косец, а отец, покосив с полчаса, бросил косу и ушёл домой, оставив меня одного. Я покосил сколько мог и пошёл домой. Отец, пришедши домой в отсутствие мамы, сломал замок в верхнюю комнату, сломал замок у ящика и взял девять белых хороших овчин, а сам скрылся неизвестно куда. Но дом и комнату он оставил незапертыми, растворёнными — хотел вину сложить на воров.
Снова начинать поиски отца никто не соглашался, предполагая, что сам придёт домой, но отец не приходил. Уже всё убрано с луга, с полей убирают, и наш участок на лугу сам купивший хозяин убрал. Идёт молотьба хлеба, октябрь, ноябрь, а отца всё нет. Оглавился[39] в Ракулке, на другой, правой, стороне Двины, там с собутыльниками пирует. Мама с дядей поехали, нашли его, но он домой не поехал. Пришёл домой за пять дней до Рождества. Соседям рассказывал, что дорогой пытался два раза повеситься. В первом остожье[40] сена уже перекинул со стога на стог жердь, но приехали за сеном и его отогнали. Пошёл к другим стогам, но там уже наложены возы сена. Подходя к берегу, хотел броситься в прорубь — женщина с ведром идёт за водой, так и пришёл домой.
В этот день в школе отпуск на каникулы до 10 января. Я собирался в школу и, посолив ломти хлеба, жарил в топящейся печке себе на обед в школе. Отец подошёл к печке, погладил меня по голове и сказал маме: «Ты у меня Ваню и Васю не обижай». Я ушёл в школу, начался урок Закона Божия, пришла соседка, принесла обед своему сыну и сообщила, что Стёпа[41] повесился. Отец Харлампий[42] отпустил меня домой. Подходя к дому, я вижу, что у нашего дома много людей из соседних деревень. Ворота на поветь (на сеновал) раскрыты, народ, сгрудившись, смотрит на отца в петле. У него под одной ногой высокая колодка, а другая не хватает земли. Никто не осмелился прикоснуться к отцу, проверить, бьётся ли пульс и есть ли хоть теплота.
Было сообщено уряднику, он приехал, составил акт, приказал сделать гроб и положить тело отца. Всё сделали. Велел урядник сделать две треноги, чтобы поставить гроб наравне с окнами нашего дома. Поставили гроб, как приказано. Урядник назначил ночной караул по два человека, и к вечеру к нам приходили два человека и караулили. Через два дня приехал судебный следователь, опросил всех соседей деревни о том, не сами ли мы его положили в петлю. Гроб стоял на треногах до 8 января по старому стилю. Похоронную нужно получать от пристава[43].
Мама с дядей ездили к приставу два раза, он не хотел и говорить с ними. Священник объяснил, что самоубийц Церковь не поминает и на церковном кладбище хоронить не разрешает. Один добрый старичок из Черевкова знал нашу беду, он сказал маме, что не ходите напрасно с пустыми руками к безбожному взяточнику, ничего вам не добиться без взятки. Пришлось продать за семь рублей маленький амбарчик, в котором ранее хранили хлебное зерно. Крёстный отца дал три рубля и учительница Любовь Николаевна пять рублей. Не знаю, все ли 15 рублей взял пристав, но лошадей нанять везти гроб денег хватило. Вот и поехали мама и дядя со взяткой к приставу. Пристав вышел в сени, и дядя вложил ему в руку золотую[44]. Тогда же пристав написал похоронную, назначил место кладбища: выше Черевкова два километра на лугу под названием «Вересник», куда вода никогда весной не заходила и [где] хоронили в вересник павший скот.
8 января старого стиля мама, дядя и три соседа поехали с гробом в 10 часов вечера, чтобы доехать до места, а ехать 16 километров. Гроб замаскировали. Приехали, принялись за могилу и, только что начали огребать снег, увидели, по дороге идёт человек, волокёт лыжи, на плечах несёт пешню[45], вероятно, рыбак. «Что делаете?» — закричал человек, и тогда пришлось не могилу копать, а немедленно уезжать. Быстро уехали, оставив гроб, чуть-чуть покрытый снегом, и уехали совершенно в другую сторону, в Ракулку, чтобы не знали, откуда привезён гроб. Приехали иззябшие, и на столе появилась бутылка с вином, вероятно, от денег, данных на взятку, три рубля осталось. Я с полатей смотрю на мужиков, а Вася ещё мал, ничего не сознаёт.
Создалось суеверное мнение, что возле нашего дома ночью страшно ходить. Леший увёл в лес, а потом человек удавился, тут будет нечистая сила пугать! И действительно, к нам многие соседи и дальние опасались ходить. Федосья изредка навещала нас, она батрачила в богатом хозяйстве в двух километрах от нас. При переделе земли её, как внебрачную, не наделили.
Всё грозное свершилось. Остались мы от отца втроём: мама, я, брат и хромой конь, он кормилец, он пахал нашу землю и землю соседа.
Я школу кончил в 1899 году с похвальным листом. Приложить руки, ещё слабые, к какому-нибудь труду ещё рано. Вот и решила мама в 1902 году отправить меня на год на Соловки. И это не так было страшно для меня, потому что у меня там был дядя, мамин брат, он был уже рясофорный монах[46].
Со мной собрался ехать сосед, тоже ученик школы, и ещё из соседней деревни старик 60-ти с лишним лет. Этот старик в возмещение того, что не выполнил обещания в молодости, выкормил красавца жеребца рыжей масти и повёз его в Соловецкий монастырь. Поставили жеребца в баржу с сеном, и мы все трое плыли на барже за пароходом восемь дней. Жеребца с баржи приняли на Соловецкое подворье в Архангельске. Прибыли в Архангельск рано, море не очистилось от льда, и соловецкие пароходы ещё не пришли. Наш товарищ-старик нашёл всем работу. Проводилась очистка улиц, и таких, как мы, свободных людей, искали. Сколько разного хламу и нечистот мы убрали и такой щедрой платы не ожидали, без нашей просьбы хорошо платили и благодарили. Ночевали на Соловецком подворье. Наконец, дождались соловецкого парохода. Поездка была при умеренном ветре, немного покачивало, но мы не ублевались. Оказалось, что мы ещё молоды и нас на работу в монастырь не возьмут. А требуются люди в Трифоно-Печенгский монастырь. О, горе! куда за океан увезут — со скуки помрёшь![47]
Глава 2
Явился я к своему дяде Прокопию Петровичу, теперь отцу Прокопию, со своим горем, что молод я и не принимают на работу в монастырь. «Не печалься, Бог всё устроит к лучшему. Станем учить какому-нибудь мастерству». А рядом была келья уставщика клироса церкви Святителя Филиппа, и уставщик посоветовал направить меня к регенту соборного хора. Привёл меня дядя, а тут сидят ещё двое в ожидании, когда впустят в келью. «Рабы Божии, войдите!» — но это впустил не регент, а его служитель. Регент, как видно, не монах, а ещё только готовился к монашеству — только носит один подрясник. Стоит фисгармония, и висит на стене скрипка. Нажимает клавиши и заставляет тянуть тот же самый звук: а, о, и. Потом берёт скрипку, тоже просит тянуть тот же самый звук, но просит — через открытый рот, а не через зубы.
Дядя дожидается результатов. Регент двоим из нас велел приходить на клирос в собор, а одного никуда не назначил. Боже мой, какое удовлетворительное чувство я испытал тогда, а не менее и дядя. Но всё время был в страхе.
Меня поместили в Зосиминском[48] корпусе в числе 19 человек под наблюдением дядьки, бывшего офицера. Слово «дай» совершенно исключено в монастыре и заменено словом «благослови». И мы, малыши, обращаясь между собой, при просьбе говорили, например: «Благослови, отец Иоанн, мне эту книгу». Слово «отец» обязательно прилагать к имени. Например, мы идём огребать снег и просим у мужика Семёна лопаты и говорим: «Отец Семён, благослови лопату», а он скажет: «Бог благословит».
В нашем Зосиминском корпусе жили так называемые «вкладчики». Это богатые люди, желающие доживать свой век под кровом обители. Они внесли в монастырь свой капитал, и за это обитель предоставила им жильё и все бытовые условия. Они свободно ходят по всей территории монастыря и ездят по Соловецким островам. У каждого слуга-послушник. Вот блаженная райская жизнь! Эти вкладчики любили нас, озорников, и дарили в праздник гостинцы — конфеты. Рядом с их кельями жил инженер-немец (забыл имя), он руководил работами по соединению со Святым озером 52 озёр, чтобы давать в судостроительный док[49] нужное количество воды. Он часто приглашал нас к себе на пение и часто приходил на спевку, дарил конфеты.
В 1902 году, 23 декабря, началась русско-японская война[50]. Япония напала и потопила наших три крейсера[51]. Инженер говорил, что победа будет на нашей стороне, Япония крошечная держава, мы её шапкам закидаем[52]. 23 декабря был совершён молебен о даровании победы, и так по воскресеньям служили молебен с многолетием христолюбивому всероссийскому воинству.
За разные недозволенные шалости наказывали нас поклонами. Налагать наказания уполномочены дядька и регент. Если подрались двое, то они должны пасть друг другу в ноги и просить прощения: «Отец Иван, прости меня ради Бога». Обиженный говорит: «Бог простит! Ты меня прости», — и этим ссора должна кончиться. Но были из нас способные на разные пакости. По моём приезде, неделю спустя, приняли в наш хор маленького, девяти лет, цыгана с хорошим дискантом. Он беспрестанно просил у всех нас всего, что было съестное. Был он наравне с нами обеспечен, но прежде всех спешил съесть, а потом идёт просить: «Благослови трошку» (немножко). Но потом нам надоело благословлять, и стали давать по маленькой крошке.
Тогда цыган улучал время брать тайно. У одного певчего вагана[53] Гриши он стянул печенья из посланной из дому посылки. Гриша был большой сорванец и решил отомстить цыгану. Он взял конфет, вынул начинку, вместо начинок положил человеческого кала и аккуратно заделал, что никому не заметить, и держал на виду для соблазна. И цыган соблазнился и украл одну конфету, раскусил её и закричал: «Ой, горько! Ой, вонько!» Дядька и все встревожились: в чём дело? Обследовали конфету, а она начинена калом. Преступление налицо. Гриша, недолго запираясь, сознался. Тут вина падала и на дядьку, что не смотрит за нами. Преступление преступлением, а главная беда в том, что это выйдет наружу, позор будет всему хору. Доложили регенту. Он опасался более всех, что за стенами люди могут услышать эту пакость. Решили регент и дядька дать такой наказ: если кто вынесет это дело наружу, будет исключён из хора и отослан в Муксалму[54] на скотный двор возить навоз. Хотели дать самое позорное наказание: снять с Гриши подрясник, халат и колпак и одеть в дырявый серый халат, и в таком виде, в виде пугала, стал бы он ходить на клирос, стали бы монахи допытываться, чем Гриша заслужил такое наказание. Решили дать в наказание 300 земных поклонов по десять поклонов в день пред иконой преподобных Зосимы и Савватия. Так это дело и не вышло наружу. Но много было волнений у дядьки и регента, боялись, если дойдёт до настоятеля.
По принятии меня в хор, через неделю или около того, приняли на клирос два человека. Бритые, один — высокий, белый, с рыжей небольшой бородой, другой — высокий, черноусый, с большим носом. Белый с рыжей бородкой — контроктава, приятно слушать. Чёрный с большим носом — высочайший тенор с приятным тембром. Контроктаву звали отцом Василием, а тенора — отцом Павлом. Ходят в своей одежде, но заметно, что регент и все басы относятся к ним с особенным почтением. Потом стали говорить, что они из Москвы. Получили они халаты, подрясники и колпаки, и разнеслась молва среди монахов, что они много украсили хор. И, действительно, справедливо. Их поместили в наш Зосиминский корпус, в маленькую келью с двумя окнами, с фасадом на большую дорогу. Из окон видно весь монастырь, обе гостиницы. Пользовались они полной свободой, гуляли по всем замечательным местам, ходили в купальню купаться и знакомились с паломниками. Прогуливаясь по достопримечательным местам, зашли они в длинный коридор, ведущий в Успенский собор, на стенах коридора изображены знаменитыми художниками картины жизни святых, чудеса из евангельской истории и из жизни преподобных Зосимы и Савватия. Прогуливаясь, они не заметили, видимо, настоятеля, а настоятель их заметил и всё выслушал, как они, щёлкая пальцами и посвистывая, напевали какой-то романс.
Вскоре был дан приказ регенту снять со знаменитых певцов подрясники, халаты и колпаки и одеть их в дырявые серые кафтаны. И никто не знал их преступления, кроме настоятеля. Сами-то виновные, может быть, и догадывались или, может быть, чувствовали себя терпящими напрасно вопиющую обиду. Без смеха мы, малыши, не могли смотреть. И кто-то сумел дать им прозвище «Васька-швабра» и «Пашка-нос». И мы между собой привыкли так их называть, конечно заочно. Вся братия удивилась и недоумевала, за что такие знаменитые певцы наказаны. Были или нет огорчены такими наказаниями, но они по-прежнему были веселы и шутили. Догматики[55] восьми гласов пели среди церкви по большой книге, ноты очень крупные, видно издалека, знаменитый напев без изложения на голоса в унисон. И вот выходят в таких кафтанах, похожих на пугало, на середину церкви, и нас тянуло на смех.
В воскресенье сырной недели (масленица) в 6 часов вечера бывает великая вечерня с великим прокименом[56] «Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю». Это в высшей степени торжественный прокимен и умилительный. После стихир[57] на стиховне поются стихиры Пасхи: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его» и до последнего стиха «И тако возопиим», — но «Христос воскресе» не поётся, и настоятель делает отпуст[58] и «Христос истинный Бог наш» и т. д. Настоятель в царских вратах становится на колени лицом к народу и говорит всей братии: «Отцы честные, простите меня грешного, аще кого оскобих чем или унизих» и т. д. Тогда находящиеся в храме (клирос выходит в это время на середину церкви) падают ниц и просят прощения у настоятеля: «Прости нас, преподобный отче».
Если бы «Васька-швабра» и «Пашка-нос» поклонились и просили прощения у настоятеля, то, возможно, сняли бы с них кафтаны, но они не вышли поклониться, а ушли с клироса другими дверями. Знали цену себе, наверное, гордились своими кафтанами.
«Да исправится молитва моя» пелось на середине церкви, всегда пели «трио». И вот выйдут такие певцы петь. (Третий певчий в подряснике). Какое исполнение, какой эффект. Мы и ждём, когда назначат их петь «Да исправится» — отца Василия и Павла. Они стали обрастать бородами и волосами. Накануне Пасхи приказано было выдать им халаты, подрясники и колпаки.
Замечательно то, что в Крестопоклонное воскресенье за всенощной поют Пасхальный канон «Воскресения день»[59], о чём в уставе Триоди постной разъясняется, что прошла половина Четыредесятницы, выносится Честный крест, как знамя победы над врагом и плотию, и во имя этого торжества положено в обителях святых петь Пасхальный канон.
Мне неотвязно представлялась поездка домой. До первых весенних пароходов остаётся не более месяца. Стал чаще ходить к дяде. Он очень любезно принимал меня. К нему заходили монахи из соседних келий по-домашнему (без халата, в одних рубахах). У одного я увидел на груди цепь, скрещённую крестообразно и перекинутую через плечи. Я не догадался сам, а дядя разъяснил мне, что многие носят на себе «вериги» — это металлический широкий пояс со словами «Аз язвы Господа моего на теле моем ношу»[60]. На некоторых веригах надпись «Томлю томящаго мя»[61].
Мама пишет: «Живи в монастыре, дома будет делать нечего, дядя устроит в какую-нибудь мастерскую».
Приближается Пасха. Ведутся общие спевки к встрече праздника — к Торжеству всех Торжеств. А нам, малышам, радость — идти к настоятелю с концертом. На спевке повторяется концерт «Да воскреснет Бог»[62] — придётся петь у настоятеля и запричастный [концерт] за литургией. После утрени христосование настоятеля со всеми находящимися в храме. Начинаем петь часы. В Пасху служба идёт поскору. Идём в покои к настоятелю. Заходим в огромно длинно зало, огромные пальмы по ту и по другую сторону дорогих широких ковров, получается пальмовая и олеандровая аллея. Олеандры цветут. В келью мы не входим, а настоятель в епитрахили с крестом выходит из кельи и обращается лицом к иконе «Воскресение Христа» и сам поёт трижды «Христос воскресе» хорошим тембром тенора. После стихир Пасхи, концерта «Да воскреснет Бог», в сей наречённый и святый день прикладываемся ко Кресту, целуя руки настоятеля. Наш дядька дожидается нас у выхода. Монахи и взрослые певчие получают по красоуле[63] красного вина — около стакана — и пьют, благодаряще Бога и настоятеля, а нам келейник раздаёт кульки мятных конфет.
На трапезе братии великое утешение: пироги с сёмгой. Трапеза приготовлена по последнему искусству повара. Монахи (хотя не все) отдают свои порции пирогов нам. Придя домой, нас ждут наши соседи по комнате — вкладчики и инженер, чтобы мы пропели «Христос воскресе» и стихиры Пасхи, а подарки у них заранее приготовлены. Ворох питания, хватит на две недели — торжественная служба всю неделю, и булки, и пироги. Будь же доволен, цыган — не проси и не воруй.
К настоятелю с концертом пришлось ходить в течение года восемь раз: в день кончины преподобных Зосимы и Савватия, в день ангела настоятеля, тезоименитства Государя Императора и супруги его, рождения наследника Алексея[64]. В Вознесение Господне пели концерт «Взыде Бог в воскликновении»[65], а в остальные праздники любимые им концерты: 1-й — «Реку Богу: заступник мой еси»[66], 2-й — «Се, что добро или красно, но еже жити братии вкупе»[67]. Оба концерта неизвестных авторов[68]. Первый концерт минорный — соль минор — трио, а второй — четырёхголосной — до мажор. Последний стих его «Живот до века» повторяется семь раз, и такая очаровательная мелодия, что поёшь и чувствуешь восхищение. Недаром она полюбилась настоятелю и пелась при прежних настоятелях.
Пришла весна. На прогулку стали нас водить на луг к морю: поиграть мячиком с расчётом времени, чтобы не отрезан нам был путь вернуться обратно домой. Прилив воды затопит дорогу, и нам придётся сидеть шесть часов до спада воды. Наиграемся, лисиц и оленей насмотримся, возвращаемся в пять часов к чаю. В шесть часов благовест к вечерне, а на праздники — к всенощной. Зима была тёплая: ниже 15 градусов холода не было. Море замёрзло, но приливы и отливы не давали льду окрепнуть, и ветром и течением лёд отрывало и уносило в море. Все с нетерпением ждали очистки моря ото льда и наблюдали в бинокли с колокольни, есть ли лёд около берегов Соловецких островов.
Монахи хотя порвали с миром и исключены из мирского светского общества, но как люди не лишены всех человеческих влечений и немощей. У них есть близкие друзья в мире, которые посещают их летом и привозят предметы и вещи, удовлетворяющие их большие и не остывшие ещё потребности, — табачок. И во славу Божию для праздника можно выпить и винца. А богомольцы, а может и спекулянты, ждут навигации к Соловецким и научились, как провозить и сдать свой запретный товар.
Вот уже отправился первый пароход в Архангельск, и все с радостью ждём возвращения с паломниками — людьми светского мира. Зимой монахам скучно однообразие монашеской жизни, а тут полный храм молящихся, непроходимая масса людей перед раками св. мощей Преподобных, беспременно продолжающееся пение молебнов перед раками Преподобных. Богомольцы говеют и причащаются св. Тайн. Лошади стоят с экипажами весь день, готовые представить паломников на любой скит.
В семь часов утра регент объявил, что едем встречать в склепе гроб и колокол. В восьмом часу сели мы на соловецкий пароход «Вера» и пристали к огромному пароходу «Ксения», стоящему на рейде в 20–25 верстах от пристани. Палуба парохода «Ксения» выше парохода «Вера» на два метра. Сначала спустили с парохода «Ксения» широкую, гладкую площадку под уклоном 45–50 градусов и по ней спустили длинный ящик, размером около 50–60 сантиметров, обтянутый материей. Отпели литию по усопшем боярине Кельсии.
По выгрузке на пристани гроб-ящик распечатали, в нём находился хрустальный гроб и над ним хрустальный колпак. Готова была на пристани особенная телега с балдахином, и поставили гроб с футляром на телегу.
Распечатали ящик, в нём оказался колокол весом предположительно около пуда[69], блестящий, чистый.
Привезённый гроб внесли в Преображенский собор и поставили на левой стороне храма. После литургии поставили на середину храма и совершили отпевание. Могила приготовлена на площади в четырёх метрах от стены храма Святителя Филиппа. В могилу спущен бревенчатый сруб. Гроб опустили и наложили на него футляр, земли не кидали, а сверху набрали бревенчатый потолок. Замечательно то, что никаких скорбных сожалений родственников и плача мы не заметили. А откуда и кто был боярин Алексей или Кельсий, нам, малышам, такая мысль не пришла в голову.
Приехавшие хоронить гости обедали за настоятельским столом. А откуда и чей колокол? Об этом никто из нас не поинтересовался, и, по-моему, можно безошибочно предположить, что это жертва боярина Алексея, удостоенного чести быть погребённым не на общем кладбище, а в ограде монастыря, видимо, похоронили не как простого смертного, но как заслужившего такое благоволение от святой обители. О колоколе говорили, что он серебряный. Им заменили сигнальный колокол, в который трижды ударяли перед благовестом в большие праздники. Звук его не рассеянный, очень высокий, приблизительно такой же, если ударить на пианино в голос дисканта.
Я позабыл написать про купальню на Святом озере (ведь в ней должен искупаться каждый из паломников)[70]. В первое посещение нами монастыря [в] 1895 году нас с мамой отправили в купальню, где нам дали ярлык-удостоверение, что мы купались и можем ночевать в гостинице и вступить во Св[ятые] ворота монастыря. В последнее посещение нами[71] монастыря в 1914 году обычай этот, видимо, не соблюдался.
Пришёл, наконец, первый пароход с паломниками, и чем-то радостным повеяло на нас, кажется, и воздух переменился. Мы не знали, почему нам регент категорически объявил, что нам не разрешается в одиночку без дядьки ходить не в строю и знакомиться с паломниками. А паломники многие, увидав маленького долговолосого монашка, наперерыв[72] зазывали в гостиницу, и готовые задарить чем угодно. Многие из нас, получив увольнение от дядьки, по какой-то либо причине гуляя среди паломников, возвращались домой с подарками. Всё это было некоторым из нас очень лестно. Очень соблазнительно это было для цыгана, но ему почему-то не очень везло, он не воздерживался от своей цыганской привычки просить и этим отвращал от себя богомольцев.
Знаменитые певцы без предупреждения и не попрощавшись с клирошанами уехали неизвестно куда, и хор и монастырь лишились знаменитых певцов. Это ощутила вся братия и, вероятно, настоятель Иоанникий. Многие из нас, мальчишек, готовились домой на родину и стали уезжать, но нельзя же всех сразу распустить — необходимо одного или двух самостоятельных певцов в партии оставить хотя бы ещё на один год. Пришлось договариваться и жить в монастыре с согласия родителей и платить по согласию с ними.
Рейсировали три парохода, «Зосима и Савватий»[73], «Михаил Архангел» и «Вера», в Архангельск, Кемь и Онегу. Приходили частные пароходы с паломниками, столько паломников, что не помещались в гостинице. Привозили больных всевозможными болезнями, чтобы получить исцеление от мощей Преподобных.
За богослужением хор поёт. Вдруг открывается дверь храма и ведут иногда связанного, безумно кричащего, иногда богохульными словами. С клироса взрослым всё это видно — они высокого роста, а мы не можем ничего видеть — стенки клироса высоки. Крики смешиваются с пением хора и возгласами священнослужителей, и таких больных приводили по несколько человек. Не всех могли подводить к самой раке, а прикоснуться тем более — он может всё опрокинуть и пролить все лампадки, поэтому таких буйных всегда связывали и клали на пол вблизи раки, не отходя от больного. По окончании пения вечерни мы, все певчие и все монахи, прикладывались к раке св. мощей (это было обязательно) и часто видели таких больных, связанных и покрытых особым покрывалом, а что далее с ними было, я не знаю.
Только при посещении нами с женой Соловецкого монастыря в 1914 году я насмотрелся на такого больного у раки мощей, покрытого таким покрывалом. И стоящий у раки и благословляющий людей схимник подошёл с книгой и стал читать продолжительную молитву и в конце молитвы громко прочитал: «Именем Господа нашего Иисуса Христа повелеваю тебе, нечистый демон, изыди из него и не входи в него». Глухо, с каким-то шипящим звуком отвечает: «Не изыду, не изыду никогда». Схимник: «Изыдешь, изыдешь». Мы вышли из храма последними, а дальше не знаем, что было с этим больным. Я неоднократно рассказывал об этих событиях врачам, и врачи с уверенностью утверждают, что это артисты, они берут на себя такую роль за громадные деньги, которые платят богатые монастыри артистам, чтобы утвердить веру в чудеса и вообще поддержать религию. Но я возражал, что не может взять на себя такой роли никакой артист, так как больной абсолютно бессознательный и ведёт себя бессознательно, он может убить человека или натворить худших бед, весь он в слюне, пене, весь омочится на полу. Такое мнение настоящих врачей, что всё-таки мнимобольные и мнимые их путеводители, проведя такого больного по богатым монастырям, получают огромную сумму денег. Не могу согласиться с таким выводом современных врачей.
Самый большой наплыв паломников был в 1903 году ко дню 8 июля[74], ко дню памяти нападения англичан на Соловецкий монастырь в 1854 году во время Крымской войны. Народ съезжался для участия в крестном ходе вокруг (внутри) крепости монастыря. Внутренний простор крепости не вмещал всех людей, а окружность стены[75] одна верста 250 сажен, так что первые вышедшие уже обошли по крепости, а задние только начинают входить. Архангельская гостиница, расстрелянная, как решето, стоит и служит доказательством жестокости англичан — сколько они могли выпустить пушечных ядер, но каменная монастырская стена устояла.
Кроме своих монастырских пароходов приходили с паломниками и частные пароходы, и тут привозили таких свирепых больных, и как раз во время богослужения. Крики больных и шум ведущих нарушали богослужение. Каких только больных тогда не привозили: и безногих, и безруких, трясущихся, слепых. У одной женщины был рот не на месте, не тут, где должен быть, а около уха на щеке. Всех не перечислишь. Но зачем сюда к мощам Преподобных привели их? Видимо, никакая медицинская наука не могла оказать им никакой помощи, и вот по вере их и по вере путеводителей привезли их сюда.
В Великий четверг происходило омовение мощей. После литургии в Великий четверг посредине церкви ставился стол, приносили из алтаря щит, в котором вделаны золотые и серебряные дощечки. В эти дощечки вделаны мощи св. угодников самые крошечные. Есть тут часть древа Креста Господня, миро от мощей св. Николая Чудотворца, св. великомученицы Варвары, но всех не запомнишь, нужно было записывать. Иеромонах (ризничий) опоясывается длинным полотенцем, из сосуда наливает воды, окропляет отдельно освящённой водой каждые мощи и вытирает полотенцем. Так же омывают мощи Преподобных Зосимы и Савватия, св. Филиппа в Филипповской церкви. Но это омовение совершается в присутствии только начальства: настоятеля, наместника, ризничего, благочинного, духовника. Рама со стеклом с раки снимается, доски с изображением ликов Преподобных снимаются, вынимаются пелены, а как происходит омовение, нам не показывали. После омовения всё водворялось на своё место: пелены, доски с изображением лика Преподобных и стеклянная рама. Ко всем мощам с коленопреклонением прикладывались. В пятницу Великую трапезы не было. В субботу трапеза с растительным маслом и вином труда ради бденного.
В Вологодской губернии по всем уездам в 1902 году летом была страшная засуха: травы засохли, хлеба сгорели от жары. Мама пишет: «Хлеб не уродился, сена очень мало, люди сбывают коров и лошадей. Воз сена стоит 25 рублей и корова 25 рублей. Я продала своего хромого коня за 90 копеек и с уздой свела коня на скотобойню. Целого рубля не дали за коня. Домой не езди, оставайся в монастыре, так как дома с голоду помрёшь. Я приеду посмотреть тебя, когда посеют яровые и посадят картофель. Вася чуть не умер от скарлатины».
У многих певчих приезжают матери взглянуть на своих детей. Матери хорошо одетые, а некоторые по виду культурные женщины. А мне хочется домой. Последние два месяца я всё думал о приезде мамы и поездке домой. Мама написала, что такого-то числа из дому выедет. Несколько раз отпрашивался встречать маму. Приехала одетая в ветхое рубище. Со мной пришли два моих товарища-певчих, а мне тяжело смотреть на нищую. А товарищам в насмешку, что я нищий — мать кусочки собирает. Пошли к дяде в келью, поплакали.
Дядя и мать убеждают меня не ездить домой. Если голоса не будет, будем учить мастерству. Но ничего со мной не поделали — не убедили меня. Сходил к настоятелю за благословением, получил два рубля денег на билеты для проезда в дороге и свою деревенскую одежду.
Приехали с мамой домой. В течение года я вырос на целую голову, головой ударялся о брусья полатей и грядки[76]. В избе убожество, темнота, окна — маленькие дыры. Деревенские соседи пришли смотреть: Ваня-монах приехал, волосы отрастил ниже плеч. Вася мало подрос. Не знаю, чем они жили, питаясь зиму, ведь хлеба не хватило, да ещё нужно было платить государственную подать с трёх наделов около четырёх рублей. Сенокосные наделы мама отдала за пашню трёх наделов. Положение безвыходное. В таком положении нестарые соседи уходят подальше от дома и, не найдя никакой работы, нищенствуют, собирают кусочки подаянием. К весне являются домой к посеву яровых и посадке картофеля.
Вернувшись домой из Соловецкого монастыря в 1903 году, отбыв годовое обещание, я увидел и понял своё убогое нищенское положение. В хозяйстве нет ни лошади, ни коровы, сенокосные наделы отданы мамой за пашню трёх земельных наделов. Рабочих рук нет, так как брату Васе ещё всего пять лет, а мне, 15-летнему, тоже не к чему рук приложить, а мама, исхудалая 50-летняя постница-богомолица, плохая работница. Да и земля без удобрения и при плохой вспашке наёмными руками начала пустеть — зарастать сорняками. Сам собой напрашивался вопрос, что без лошади и скотины хозяйство — пашня — запустеет. Но как приобрести лошадь?
Посоветовали нам обратиться в уездную Сольвычегодскую кассу взаимопомощи. Написали заявление о выдаче ссуды на покупку лошади. По правилам требовалось иметь трёх поручителей, но никто из соседей не согласился быть поручителем за наше нищенское хозяйство.
Получили извещение из кассы, что наше заявление передано на рассмотрение смотрителя для обследования нашего хозяйства. Приехал на почтовых лошадях красивый, толстый барин. Мы, нищие, с мамой вышли к кибитке, я снял шапку, не зная, как почтить барина. Рассказали с мамой свою нужду, да он и сам хорошо видел нашу некультурность и нищету. Сказал, что о выдаче ссуды решит сессия через неделю.
Получили извещение: за несостоятельность хозяйства и отсутствие поручителей в ходатайстве отказать. Как выйти из безвыходного положения?
Додумались предположить так: в случае приобретения лошади я дал обязательство соседу, который летом ездил в Архангельск на работу, вспахать его землю, четыре надела, и получил 12 рублей задатка. Мама, падая с поклоном в ноги доброй учительнице Любови Светлосановой, получила пять рублей (взаимообразно), и крёстный погибшего отца, капитан парохода Александр М. Журавлёв, дал пять рублей. Тётушка, сестра мамы, дала пять рублей.
В соседней деревне купили кобылу за 25 рублей. Сельскохозяйственный инвентарь был в сохранности свой. И вот с полной молодой энергией я начал обеспечивать себя отоплением и не упускал случая заработать себе копейку на удовлетворение своих нищенских нужд.
Пришла весна, вместе и заботы пахать и обсеять землю соседа и свою. Лошадь хотя невидная, но для работы хороша.
Лето в 1905 году было жаркое, в Петров пост при вывозе на пары навоза оводы заедали до крови лошадей. Пахать приходилось ночами, а днём отдыхать. За два дня до Петрова дня, 26 июня старого стиля, около десяти часов вечера поехал я пахать ночью — не жарко. Допекают комары. Приехав домой и закусив чего нашлось, мама положила на пол полено, на него подушку, и я с устатку уснул крепким сном[77].
Приснилось мне, что иду я по вытоптанной скотом глинистой дороге, едва перешагивая за высокие глинистые высохшие бугры, и несу на плечах всю с оглоблями соху. Колечко, за которое привязана лопатка для очищения сора с лемеха, при перешагивании за бугры издаёт звук: тиль, тиль, тиль. Вижу: открыта кузница Ивана Егоровича Ладкина. Дошёл до двери и снял с плеч соху и поставил к стене. Заглядываю в дверь и вижу: Иван Егорович лопатой кладёт угли в горно[78], в котором находится коса-горбуша. Потом взялся за рычаг и начал мехами надувать воздух в горно. Коса накалилась добела, он вынул косу, положил её на наковальню и начал обрабатывать её молотом, причём искры с треском полетели и на меня. Проделав такой приём три раза, он положил косу в воду. Подошёл ко мне и спросил густым басом: «Что у вас?» Я говорю: «Вот что случилось. Лемехи отлетели с деревом. Этакая беда-то, как лошадь-то цела осталась?» На этом сон мой кончился.
Мама разбудила меня, приготовила поесть что пригодилось[79], и, пока не жарко и не поднялись овода, часов около четырёх-пяти поехал пахать. Приехав на пашню и проехав борозды две-три, вижу: лошадь моя фыркает, сторожится и дрожит — чего-то боится, остро глядит в стороны. Доезжая до межи, она направляется идти домой, но я поворачиваю её обратно, и, наконец, несмотря на мои усилия удержать её, бросилась бежать домой, а я, уцепившись за вожжи, хотел остановить её, но из опасения быть изрезанным острыми лемехами отпустился от вожжей. От быстрого бега образовался столб сухой пыли, а лошади в пыли не видно. Неизбежно лошадь должна отрезать себе ноги, так как лемехи были у самых ног лошади. Сознавая эту опасность, я с рыданием бежал вслед лошади и вижу: один лемех (ральник) глубоко уткнулся в землю, отломившись со всем деревом, второй лемех, зацепившись за бревном, отломился и отлетел через изгородь в сторону. Лошадь цела, стоит у ворот сарая, вся трясётся. Выпрягли лошадь, привязали к столбу и начали с мамой бичевать лошадь ивовыми прутьями, толкнули во двор и в наказание оставили без корма.
Сейчас же взвалил соху на плечи и, взяв лемехи, пошёл в кузницу по вытоптанной скотом глинистой дороге, едва перешагивая высокие глинистые засохшие бугры, неся на плечах всю с оглоблями соху. Колечко, за которое привязана лопатка для очищения земли с лемехов, при шагании от сотрясения издаёт звук: тиль, тиль, тиль. Кузница Ивана Егоровича открыта. Дошёл до двери и снял с плеч соху и поставил к стене. Прихожу к двери и вижу: Иван Егорович лопатой кладёт угли в горно, в котором находится коса-горбуша. Потом взялся за рычаг и начал мехами надувать воздух в горно. Коса накалилась добела. Он вынул косу, положил на наковальню, предупредил меня — поберегись — и начал обрабатывать молотом косу, причём искры с сильным треском полетели на меня. Произведя такую операцию три раза, он положил косу в воду. Подошёл ко мне и спросил густым басом: «Что у вас?» Я говорю: «Посмотри, что случилось, лемехи отлетели со всем деревом. Этакая беда-то, как это лошадь-то цела осталась?»
Когда серьёзно и здраво вдумался в происшедшее, и благоговейно перекрестился, да ведь это не сон, это свыше — Перст Божий, вразумляющий меня и укрепляющий веру в Бога. Во-первых, обыкновенные, простые сны не сбываются, и им верят простые суеверные люди. Да и вообще, сны у всех людей беспорядочны, неразумны, сбивчивы, и верить им неразумно. По опыту высоконравственных людей достоверно фактически доказано, что бывают сны особенные, пророческие, которые сбываются в абсолютной точности с виденным и, по утверждению св. Феофана, Затворника Вышенского, и других богословов, бывают только один или два раза в жизни. Чтобы сбылся такой сон в точности, неизбежно приходится признать, что Кто-то, какое-то всевидящее Око свыше знает сцепление всех причин и обстоятельств, проникает в сокровеннейшие мысли и изгибы человеческого сердца и определяет будущие желания всех людей — эти требования не может выполнить никакой человеческий ум.
Следовательно, когда мы видим, что виденный сон сбывается в абсолютной точности с виденным, в той самое обстановке, с теми людьми и их действиями и предметами, в абсолютной точности с виденным, тогда мы без всякого сомнения должны или даже вынуждены признать, что сон послан по вдохновению от Бога и воспринять его может только душа человека. Кроме области материальной есть область высшая — духовная, к которой ум человеческий, как не совершенный, не может войти с ней в общение и применить свои научные исследования. Но Бог в помощь человеку Сам открывает Себя достойным людям в сновидениях для поддержания веры или для предупреждения какой-либо опасности, и это так неопровержимо и достоверно, как достоверно и неопровержимо само наше существование.
Виденный мною сон сбылся в абсолютной точности. Через полтора часа. И поражает чудесностию в том, что, если бы не отломились лемеха, неизбежно погибла бы лошадь, изрезавшись остриём лемехов, и отломились лемеха в таком прочном месте, где никак невозможно отломиться.
Висела над нами большая беда и горе. Лошадь ещё не оплачена, и мы остались бы без лошади и должны 25 рублей. Нестерпимая утрата, нестерпимое горе. Приходится признать неизбежно, что нас сохранило от беды какое-то всевидящее и вездеприсутствующее Око, которое видит и знает все наши будущие мысли и намерения. Это для меня так утешительно, что приходится вспоминать каждый день в текущих ежедневных делах и задавать себе вопрос: смотри, какую милость явил тебе Бог, ты узнал и увидел всеведение и вездеприсутствие Божие, что дороже всякой мудрости человеческой.
Как необходимо и плодотворно это знание, оно даёт человеку неописуемую радость, успокаивает страсти в минуту жизни трудную, когда теснится в сердце грусть, с души как бы бремя скатится, и будет легко, легко[80]. Не будь у меня этого откровения, натворил бы я немало безнравственных дел, но благо мне, что у меня есть в памяти это всевидящее Око и я вынужден радоваться и благодарить, что открыто мне свойство божества и вездеприсутствие.
Послушает мою такую исповедь современный учёный-атеист и подумает: «Лишился ты, неграмотный старик, ума, проповедуешь сказки»; посмотрит на меня с презрением или с сожалением и скажет: «Отстал ты, старина, от современной культурной жизни».
Не отвергаю учёности, напротив — благоговею перед ней. Но в то же время подумаю: «Жалок ты — прошёл все науки, а не узнал самого драгоценного, что я знаю, малограмотный мужик».
Глава 3
Рук приложить мне было не к чему — в хозяйстве нет ни лошади, ни коровы. Сенокос отдан за пашню наделов. Как мне жить далее? Нужно чему-то научиться, чтобы добывать кусок хлеба. Часто, выходя из церкви после обедни, вижу на площади рынка привезённые из Вятки товары: стулья, шкафы, столики, наблюдники[81], ложки.
Где же научиться такому прекрасному мастерству? В соседней деревне был столяр — работал оконные рамы, деревенские стулья и столы, что требовалось в небогатой крестьянской обстановке. Он слыл богатеем — имел ларёк мелочных товаров: чай, сахар, табак и часть мануфактуры. Человек он был непьющий и экономный. Вот к нему я и решил обратиться с просьбой принять меня в ученики столярному делу. Он не нуждался и не интересовался научить кого-либо, но меня решил принять на тех условиях, чтобы мне на моём содержании отработать одну зиму бесплатно, а если я буду работать у него и другую зиму, тогда он положит мне плату по десять копеек в день. Я охотно согласился, сознавая, что я пользы ему не принесу.
Так я и работал у него зиму, обстрагивая доски и бруски. Старался от всей души угодить своему учителю. С собой из дома на обед я брал поджаренные ломти хлеба с солью и больше ничего. Во время обеда я хлеб обливал горячей водой и съедал. Мне хотелось бы поесть картошки с постным маслом, но они, такие недогадливые, не понимали этого (семьи у них не было: муж и жена). К чаю приносили по одному калачу, сушки, а я обливаю свой жареный ломоть и ем. Видимо, и соседям нечего было делать зимой, и они целый день просиживали у моего верстака и курили. Я так много настрагивал стружек и уставал, что до утра спал на стружках, мягко! Ранним утром ходил домой за хлебом. Я присматривался, как мастер чертит рамы, ящики, зарезает шипы и долбит проушки. К концу зимы я уже вязал рамы и вязал к комодам ящики. Успехи радовали меня.
На вторую зиму мой учитель обманул меня: предложил учиться на прежних условиях — бесплатно. Правда, и у него заработок невелик, 10–15 копеек в день, но это для нас клад — в тёплом углу заработать 10–15 копеек в день. Хотя бы часть питания дал, ведь у него ларёк продуктов питания. Пришлось мне согласиться ещё зиму работать бесплатно за выучку.
В субботы и праздники в школе изредка служили всенощную, и я не пропускал ни одной всенощной.
Приехал на смену молодой учитель-скрипач и поёт жиденьким баском. Любовь Николаевна — альто-сопрано[82], поёт вся школа. Чувствую, у меня образовался тенор, с учителем и учительницей я подпевал аккорд, и они чувствуют это и знают, что я был в соловецком хоре. Они стали всегда извещать меня о служении всенощной.
Я начал работать дома, насколько позволяли инструменты: делать наблюдники, табуретки, обеденные и кухонные столы. Сработанное в течение недели на салазках везу в Черевково на рынок и выставляю свой товар. Цена табуретки — 15 копеек, наблюдника — 15 копеек, стол обеденный — один рубль. Не всегда удаётся сбыть свой товар, оставляю до следующего воскресенья, когда ещё привезу столько же. А если выручить один рубль или один [рубль] 50 копеек, тогда чувствую себя богачом — могу обеспечить себя на неделю или более питанием и купить чего-нибудь для хозяйства.
Учитель мой разбогател, обстановку в доме завёл с комфортом, резные фоторамы позолотил. Устроил ветряную мельницу для обдёргивания[83] и размола зерна, изобрёл очень практичную льномялку — всё это стало давать доход и без того богатому хозяйству. Поставил огромную мачту для радиоприёмника[84] и слушал сколько угодно.
Учитель и учительница — страстные любители музыки и пения. А скрипка — это душа музыки и пения. Они стали приглашать меня для того, чтобы составить полный аккорд в пении. Они под скрипку пели разные гимны. Но более, я думаю, они видели моё сиротско-бедняцкое положение. Я, стеснительный, нетактичный, боялся сесть за стол, когда предлагали закусить или стакан чаю. Моя нечёсаная голова и неуклюжая одежда стыдили меня. Но они, оказалось, нуждались в моём голосе.
Так шло время. Учительница очень жалела мою маму. Она не раз заходила в нашу убогую и тёмную избу, приносила маме и брату белого хлеба и калачей.
Однажды я делал токарный станок для обтачивания дерева, ученик приносит мне записку с подписью учителя и учительницы такого содержания: «Вчера нашу школу посетил обозреватель училищ протоиерей Смелков[85]. Мы доложили ему о тебе, как о бедном сироте, чтобы походатайствовать перед епископом Великоустюжским Алексеем[86], не разрешено ли будет явиться мне в город Великий Устюг в архиерейский хор на испытание, и принять его, если окажется достойным, он участвовал в хоре Соловецкого монастыря. Протоиерей вписал их ходатайство в свой памятный блокнот»[87].
После этого прошло более трёх месяцев, вероятно, позабыли и учителя, а я увлёкся своей столярной работой, да и мало верил в осуществление такого счастья. В декабре месяце, 12 или 13 числа, меня вызвали в школу и объявили, что от протоиерея Смелкова получили письмо, в котором упомянуто и обо мне, что епископом Алексеем разрешено мне явиться на испытание, и если будет полезен для хора — будет принят.
Пришедши домой, я объявил матери и брату, что я завтра ухожу[88]в Устюг. Что тут повелось у нас! Мама голосит: «Никуда не пойдёшь»; брат катается по полу, кричит: «Ваня, не ходи, образумись!» Мать говорит: «Тебя не примут, потому что ты оставляешь нас беспомощных на голод». Любовь Николаевна успокоила маму: «Ведь это всё к лучшему, архиерей-то Алексей очень добрый, он и Васю устроит в Духовное училище, а Ване даст где-нибудь при церкви место псаломщика». Решение моё неотвратимо. Сложил в котомку имеющиеся сухари, целые, без заплат, валенки (в дорогу надел старые, заплатные[89]), тужурку поношенную. Помолились в слезах Богу, и я отправился. Любовь Николаевна послала со мной письмо в Устюг знакомому учителю с просьбой, чтобы он пустил меня переночевать, и заранее изготовили удостоверение моей личности с подписью священника. Денег на дорогу нашлось целый рубль.
В первый день я отошёл 25 вёрст. Пустили ночевать в богатом доме, вероятно, с подозрением, как нищего. Хозяин — кузнец. Я смиренно приютился на лавке у двери. Хозяйка и хозяин справляются с вечерней хозяйственной работой. Кипит самовар. На столе появилась сушка, сахар и конфеты. «Молодец, садись кипятку пить!» Я развязываю свою котомку, но они возражают, что, у нас хлеба хватит! «Так скажи, откуда ты и куда пошёл?» И я со всей откровенностью сказал: «Иду в Устюг поступать в архиерейский хор». — «Поди-ка ты, молодец, домой, разве примут таких в архиерейский хор? Ты, наверное, жениться хочешь, невеста молода, и идёшь с прошением к архиерею». — «Нет, иду в хор поступать». Не знаю, поверили или нет мне. Точно такая же картина на следующей ночёвке. Вечером я попил чаю со своими сухарями. Спал на полатях. Утром расспросы: куда и откуда — и недоверие. От такого недоверия и советов вернуться домой я стал иметь неуверенность в себе. Но удостоверение личности и ходатайство протоиерея Смелкова подкрепляло меня.
Наконец на пятые сутки дошёл до Устюга и добрался до Михайло-Архангельского монастыря. Я явился в дом архиерея Алексея. Вышел келейник, и я рассказал причину прихода и отдал ему свои документы — удостоверение личности с ходатайством. Келейник смерил взглядом мою деревенскую фигуру и одежду, не пустил меня, думая, что неприлично пускать таких некультурных, взял мои документы и показал архиерею. Но епископ потребовал меня лично налицо. Келейник — светское лицо, в изящной городской одежде, учит меня: «Войдёшь, по правую сторону икона Успения, когда услышишь шаги, что Владыка идут, ты помолись на икону и сложи вот так руки. Владыка благословит тебя, поцелуй его руку, низко поклонись и расскажи ему, кто ты и за чем явился». Келейник думал, что я совершенно не знаю, как подойти к архиерею. Я, получив благословение, подал свои документы, а там начинается: «Сим свидетельствуем, что это тот гражданин Иван Степанович Карпов, о котором ходатайствовал протоиерей Смелков». — «Протоиерей Смелков, протоиерей Смелков, а, помню, помню, так вот какой ты! Так что же вам нужно?»
Я с полной ответственностью, как мог, рассказал своё бедственное положение, [что] был в хоре Соловецкого монастыря и прошу Вашего Преосвященства испытать меня по пению и принять меня в хор. «Доброе дело! Спевки у нас в храме, завтра приходи. А где вы будете жить? У нас квартир нет. В хоре у нас певчих мало, поют ученики духовного училища. В Соловецком монастыре — это хорошо! Это хорошо! Бог благословит!»
Я поклонился низко и вышел. Келейник и говорит мне: «Я думал, что ты Преосвященного увидишь и рассмешишь».
Пошёл я по адресу письма искать учителя, меня приняли, и я прожил целую неделю, на спевке был два раза. Рубль свой, взятый из дома, уже скоро израсходуется. Учитель сказал, что мне надо где-то прописаться, иначе меня и вас оштрафуют[90], ведь здесь город, а не деревня.
На спевке был бас иеромонах Нифонт. Он просил навести порядок в его келье: вымыть пол, выхлопать на снегу ковры, протереть стёкла оконных рам, наготовить дров.
Результатов я не получил, не знаю, что скажет регент: идти домой или меня примут. Отец Нифонт спросил регента, и я был принят. Но где жить?
В монастырском братском корпусе была одна узкая, в два с половиной метра шириной комната, в ней было по три кровати и по ту, и другую сторону стены, одно большое окно. В ней помещалось 12 человек, спали по двое на одной кровати. Жили в ней три опальных священника, посланные на епитимию за поведение[91], два послушника, исключённые из духовной семинарии, семинаристы и ещё такие, как я, сироты, но только духовного сословия. Вот в эту квартиру и поместил меня о[тец] Нифонт. Священника срок епитимии кончался, и одна кровать предполагалась быть свободной. Все находящиеся в этом помещении выполняли работы по бытовым требованиям монастыря, состав которого был: четыре иеромонаха, два дьякона, два пономаря, пекарь, повар, два звонаря. Всех иеромонахов нужно обеспечить водой и другими услугами. Из всех здесь находящихся пел в хоре, кроме меня, один молодой парень из области Коми[92].
Служба ежедневная, в будни на клиросе пел один человек, остальные выполняли ежедневные по хозяйству работы. Я захватил из дома алмаз, и как он пригодился. Битых стёкол уйма — в коридорах, в кельях, в бане и в церкви, и всё это моё дело — вставить и замазать. За чистотой храма следил иеродиакон, он давал всем работу: обтирать павлиновой щёткой пыль с иконостаса, с паникадил и люстр, со стёкол на иконах и киотах — следы, остающиеся при целовании.
В восьми верстах от монастыря был монастырский земельный участок, и мы ходили жать, копать картофель и молотить.
Трапеза была для всех одинакова: первое — рыба с квасом, второе — пюре картофельное и в мясоед — молоко. Питание скудное, но небольшую долю получали из церковной кружки. Хор брал со ставленников в священники по 25 рублей, не знаю, куда поступали эти деньги, но за пение «Кирие элейсон»[93] и «Аксиос»[94] певчим слишком велика плата, если всё спустить в кружку. От просфор в поминовение — пять копеек. От этого много не наберётся. Делили кружечные деньги между иеромонахами, а нам доставалось около трёх рублей в месяц.
Мама и братец прозябали одни, питались чем Бог послал. Вася успешно окончил школу, и учитель и учительница решили ходатайствовать перед Владыкой о принятии Васи в Устюжское духовное училище. Мама и Вася приехали с заявлением к Преосвященному. Пошли мы к Преосвященному втроём, одежда на них нищенская, речь и поступь некультурная, нетактичная. Но Владыка, невзирая на это, добродушно рассуждал с нами, принял заявление и подал надежду, что Васю примут и это выяснится через неделю или около того. Маме нашли работу — помогать старушке-пекарке печь булки, носить воду, дрова, а главное — помогать месить квашню с тестом. Теперь мы собрались всей семьёй в монастыре.
Брату Васе разрешили обедать с нами. На доске-киоске духовного училища было объявлено: в числе принятых был и мой брат, принят на бесплатное обучение. Ясно, что милость архиерея к тому ещё, что мы не духовного звания, а черносошные крестьяне. Брат мой не уронил себя — все четыре класса кончал с наградой денежной, хорошими книгами: Катехизис большой[95], Поучения, жизнь и труды апостола Павла[96], Палестина[97], Святой Димитрий Ростовский и его труды. Бесплатно учился Вася в Вологодской духовной семинарии до четвёртого класса, до закрытия семинарии во время революции.
В начале ноября мама ушла домой в Ляхово справлять дела в своём хозяйстве. Хлеб с полутора наделов получила, отопление — из дров старого овина и старой бани. Мама пишет, что ей одной жить невозможно — в избе мороз, дрова приходят к концу. Ей в питании помогала тётушка, сестра маме, у неё была корова и овцы, хозяйство исправное.
Время подходило к Рождеству. Неизбежно приходила мысль, что надо устраивать свою судьбу, матери и брата. И я решился со страхом спросить Владыку, не благословит ли он назначить меня псаломщиком какой-либо церкви, так как на моих руках и мать, и брат.
Жду выхода Владыки из церкви и протягивают руки, он подаёт, но думаю, что и архиерею не хватит денег, если ежедневно подавать по копейке. Я низко поклонился и, получив благословение, высказал своё положение и просьбу назначить меня в псаломщики в свободный приход. — «Благословляю! Можешь писать заявление». — Я, не медля ни минуты, написал по форме: «Желаю послужить Господу Богу и Его святой Церкви, осмеливаюсь просить Вас, милостивый отец и Архипастырь, назначить меня исправляющим должность псаломщика при какой-либо церкви и буду ожидать милостивого Вашего Архипастырского удовлетворения».
И тотчас же снёс заявление и отдал келейнику. На доске-киоске значилось свободное псаломническое место, и я ежедневно и ежечасно ходил смотреть. Прихожу и вижу, что приход зачёркнут, а в другой рубрике написано: назначен послушник монастыря И. Ст. Карпов. Побежал к келейнику советоваться, как попасть на место, и он разъяснил, что прежде всего получишь указ о назначении, а потом напишешь прошение заведующему Стефано-Прокопьевским братством[98] о выдаче ссуды на такой случай и по своему материальному необеспечению. Одежды у меня не было никакой, кроме принесённой с собой из домашнего холста тужурки. Из Братства по заявлению выдали мне восемь рублей. Принял во мне участие добрый келейник, купили на толкучке (рынке) поношенное сильно пальто, починили, и денег осталось два рубля. Как — ехать или идти пешком? Но и тут счастливый случай помог мне. Надумалось мне искать на постоялом дворе приезжающих, и нашёл я человека из Красноборска, и он охотно увёз меня [из Устюга на Ляблу] до самой церкви за два рубля.
11 декабря я на месте назначения, явился с указом к священнику — старику 76-ти лет. Давно псаломщика ждут. Исповедные[99] не написаны, петь некому. Подъезжая к полуразвалившемуся дому, вижу: крыльцо покосилось, скоро упадёт. В доме живёт дьяконица[100] — 80-ти лет старуха.
Отец Пармен не дал отдохнуть с дороги, посадил за письмоводство. Сам он едва делал свою подпись, руки скорчило ревматизмом, ноги отказываются. Нужно было переписывать население прихода в шести экземплярах: один в Синод, второй в Консисторию, третий кафедральному архиерею, четвёртый викарному архиерею, пятый благочинному, шестой в свой церковный архив. Я со страхом и трепетом сидел писал на квартире о[тца] Пармена и мало спал и жил на одном чаю.
Наконец, одолел в течение двух недель эту спешную работу, и о[тец] Пармен немедля направил меня в Белую Слуду к отцу благочинному с исповедными. Благочинный о[тец] Алексей Вохомский[101] принял меня радушно, особенно его матушка, и письмоводство похвалил, и то, что я был в Соловецком монастыре в хоре.
Стоит большая богатая фисгармония.
— На фисгармонии не можешь ли чего-нибудь?
Я во сне не видал фисгармонии.
– А вот Спасский Орест Васильевич[102] играет. Сам ещё недавно купил, выписал за 90 рублей.
Я удивился такому простодушному приёму.
На другой день по моём приезде является ко мне женщина средних лет — акушерка Красноборской районной[103] больницы; услышала, что на Ляблу приехал псаломщик на место её пропавшего без вести сына, и горько плачет. И я наплакался вместе с нею.
Она рассказала, что сын её Дмитрий Александрович Венецкий в 1910 году кончил духовную семинарию, в январе месяце назначен был к сей церкви псаломщиком. Прослужил всего восемь месяцев и пропал без вести. А 30 августа вышел указ о назначении священником цывозерской церкви. На Лябле он снял урожай хлеба, измолотил и зерно продал богатому мужику Александру Яковлевичу Попову. Деньги, 80 рублей, он получил не все, так как зерно ещё не сдано. Для рабочих по молотьбе и для клирошан он устроил угощение — пирушку. Все изрядно напились и поехали за Двину к дояркам с гармонью, но псаломщика с собой не взяли — был очень пьян и остался дома. На следующий день он дома не оказался, бесследно исчез.
Прошло девять месяцев, и никаких следов. Было два допроса, и все участники пирушки показали одно и то же — никаких расхождений в показаниях не было. «Будь добр, прислушайся к разговорам прихожан, когда пойдёте со славой в Рождество, ведь такое печальное событие без молвы не бывает, а потом мне расскажете». Я обещал рассказать об услышанном. Пошли мы в Рождество по приходу со славой, и почти в каждом доме главный разговор о пропавшем без вести псаломщике. Я внимательно прислушиваюсь и замечаю, что говорят со священником на ушко, шёпотом, опасаясь, чтобы никто из посторонних, а особенно дети не слышали. Многие из соседей деревни знали трагическую историю с псаломщиком, но из опасения привлечения в свидетели молчали по пословице: незнайка дома сидит, а всезнайка по дороге бежит.
Купивший у псаломщика хлеб прихожанин был очень богатый, имел ларёк продуктовых товаров, а главное — снабжал Северо-Двинское пароходство дровами. Для Александра Яковлевича Попова работал на заготовке почти весь приход, так как в то время никаких работ в сельской местности, кроме г[орода] Архангельска, не было. Но репутация Александра Яковлевича была плохая: он обсчитывал и задерживал плату.
Рядом с домом А. Я. Попова был богатый дом водника-капитана Фёдора Васильевича Попова, он был капитаном парохода «Св. Николай Чудотворец». Пароход этот назывался пароходом о[тца] Иоанна Кронштадтского, о[тец] Иоанн ездил на нём в Суру — женский монастырь, будто бы им основанный[104]. Протоиерей Кронштадтский не один раз ночевал у капитана, служил в лябельской церкви и подарил о[тцу] Пармену рясу, в которую при смерти положили о[тца] Пармена в гроб. Бедным прихожанам в виде милостины о[тец] Иоанн раздавал деньги по три-пять рублей, а одной вдове, у которой медведь задрал единственную тёлку, дал на корову 30 рублей.
Этот капитан, то есть Фёдор Васильевич, имел такой же ларёк продуктовых продуктов, и, вероятно, на почве конкуренции между соседями была непримиримая вражда. Они никогда не ходили друг к другу и избегали встречи.
После моего приезда прошло девять месяцев, наступила сенокосная пора — август месяц. По установленному издревле в волости закону никто не имел права начать сенокос ранее Ильина дня (20 июля старого стиля). За четыре дня до Ильина дня собрались все прихожане делить сенокос. Все угодья сенокоса в лугу в списках поименованы, и каждое продаётся с торгов. На этих торгах и нам со священником выделяли сенокос, и священник послал меня находиться среди прихожан, чтобы не забыли и нас наделить.
Александр Яковлевич (Янко) чем-то сильно оскорбил жену капитана Пелагею Павловну, и она при всех собравшихся закричала: «Что ты на меня наступаешь, больно-то я тебя испугалась, это ведь не псаломщика убивать!» — Ах ты, сволочь ты такая, я псаломщика убил!» — «Ты убил, я не боюсь и уряднику скажу это!» Приехал урядник, составил акт с подписью собравшихся, причём и Пелагея Павловна подтвердила свои слова. Ещё нужно было допросить девку Параньку Гришкину, бывшую прислугой Александра Яковлевича, так как детей у них не было, но эта девка ушла от них и уехала в Конецгорье. Были или нет допросы Параньки — неизвестно.
Теперь для всех яснее ясного становился вопрос исчезновения псаломщика. Соседи не скрывали и того, что в ночь, когда была пирушка у псаломщика, они слышали скандал на крыльце дома Александра Яковлевича и стук в ворота дома или сеней. Подозрения на Янке становились вероятнее. А тут ещё слух, что псаломщик пришёл к Янке ночью пьяный просить не уплаченные за проданный хлеб деньги, но Янко пьяному денег не выдал. Тогда псаломщик взял полено и начал бить в филёнку двери и ругаться. Хозяин открыл дверь и ударил псаломщика в висок, и удар оказался смертельным.
Куда девать мертвеца? Втроём с женой и прислугой стащили труп в скотний двор и закопали в навозе, а тёмной ночью стащили труп в Двину и с камнем из лодки опустили в Двину. Все такие слухи о исчезновении псаломщика крепли и принимались за действительность. Но трупа, неизвестно где находящегося, не обследуешь и акта для суда не составишь. Так и остались эти слухи не разъяснены до моего отъезда на родину в 1928 году.
Никакого судебного процесса Янко за клевету со стороны Пелагеи Павловны не возбудил. А тут постигло Янка второе грозное событие. В декабре месяце 1912 года к Александру Яковлевичу пришли ночью воры. Начали отрывать двери с косяков у магазина, но хозяин услышал и сообразил, что вора нужно застигнуть врасплох. Вооружившись железной палкой, он вышел дверями скотного двора, и, пока вор увлёкся сломкой косяка и двери, Янко незамеченным подкрался и ударил вора по шее и перешиб сухожилие, вор был ошеломлён и упал, а караульный не успел подать сигнала и убежал. Так не совершилась кража.
Вором оказался Пётр Макарович Пепельницын — силач, огромного роста, известный взломщик магазинов и амбаров с хлебом. Вор показал свою силу, он нажимал на дверь так, что лопнул косяк двери, и достаточно было одного сильного нажима, и дверь открылась бы. Все приходящие смотрели на дверь, и я смотрел и видел, какие усилия нужны человеку, чтобы расколоть косяк и выдвинуть задвижку замка. Александр Яковлевич задал вору хороший самосуд, вор едва уволок домой ноги, а идти нужно два с половиной километра. Хотя и силач был вор, но слёг.
Молва об этом событии в минуту облетела весь приход, все с удовольствием отнеслись к этому событию, что нарвался же вор на достойную расправу. Лежал вор в агонии. Врач или фельдшер определи около шеи повреждение позвоночного столба и повреждение ребра. Через две недели вор умер. Когда я стал вносить акт о смерти в метрическую книгу, священник велел в рубрике, где озаглавлено «От чего помер», вписать, что от побоев.
Жена умершего Фекла Пепельницына подала на Янка в суд. Для произведения следствия приехали следователь и врач Пьянков. Народу собралось очень много смотреть производство следствия. Откопали могилу, вынули гроб, труп положили на стол. При тридцатиградусном морозе врач Пьянков, надев маску и засучив рукава халата, острым ножом обвёл вокруг черепа, повыше глаз и ушей, разъединил кожу и пилой спилил череп и начал обследовать мозг. Следователь и писец со слов врача всё вписали в свои книги. Потом врач таким же приёмом вскрыл грудь до начала рёбер и спросил, сильно ли умерший курил табак, лёгкие и мозги почернели. Присутствующие подтвердили, что умерший курил из трубки, и беспрестанно. Следствие со слов врача Пьянкова записано. Написали акт обследования и всенародно прочитали и последний вывод: помер от туберкулёза лёгких. Никто публично не возразил, но между собой недовольны были. Высказывали недоверие врачу и следователю, что всей этой историей руководят деньги. Как переживал Александр Яковлевич такие моменты! Но теперь он остался непричастен к смерти Петра Макаровича, не найдено следствием каких-либо признаков побоев.
За два года ранее описанных событий, в 1910 году, в августе месяце, поднялась сильная гроза, опалила позолоту иконостаса, но ничего более не повредила, только вспыхнули и сгорели два суслона[105] ржи. Позолота почернела. В 1912 году пригласили великоустюжских мастеров золотить иконостас. Средств церковных не хватало, и Александр Яковлевич помог осуществить такое святое дело. Кроме него, он за свои средства позолотил огромную икону Михаила Архангела и стал часто посещать храм и коленопреклонно молиться пред иконою, им позолоченною. Стал участвовать неуклонно в крестных ходах на воду и вокруг храма, неся хоругви или икону. Видимо, произошёл какой-то переворот во внутреннем мире Александра Яковлевича.
Глава 4
Пришёл я на первую всенощную. Народу собралось немного. Зимой служили в приделе Михаила Архангела, и никакого клироса не было, а у стены был аналой. Ко мне пристали трое мужчин, поют в унисон своеобразно, искажённо. Я прочитал шестопсалмие, канон и первый час. О[тцу] Пармену, через людей слышу, понравилась моя служба, но сильно не понравилось, что я из мужиков; он говорит, что мужику нужна соха, а не псаломщиком быть. К обедне собралось больше молящихся — смотреть молодого псаломщика из мужиков. В приходе большая часть водников: капитаны, лоцмана, баржевые — народ развитый, бывалый. Богатые шубы, вся одежда, а на мне старое, изношенное, купленное на рынке пальто с облезлым воротником, а при случае и раздеться нельзя, более на мне ничего нет.
Пошли в Рождество со славой. В домах водников роскошь: гардеробы, зеркала, трюмо, граммофоны. Я услышал, про меня идёт молва, что я, мужик, архиерею в Устюге баню устроил, и он дал мне место псаломщика. Угощают нас чаем со всевозможными закусками, и у многих праздничные роскошные обеды. Не знаю, в шутку или всерьёз меня спрашивают, давно ли со скамейки[106]. Я говорю, что я архиерею баню срубил и рамы для бани сделал, мне ничего не платили, а послали сюда к вам, так как у вас давно нет псаломщика.
О[тец] Пармен не мог выходить на крыльцо из-за ревматизма и старости, и я был его поводырём. Мне ничуть не оскорбительно было, что меня, мужика, из-за постройки бани назначил архиерей псаломщиком, а смешно.
Церковь стоит на самом берегу Двины, и под церковью — полой[107], в котором зимуют баржи и пароходы. Крысы, а крыс в баржах кишмя кишит, зимой убегают в деревни, и от крыс весь приход страдал, в каждом доме их кишит. Я ночью слышу, что по мне бегают крысы, и вижу: лазят по рамам и обдирают бумагу, которой оклеены рамы. Старушка-дьяконица беспомощная, ей какая-то за мужа пенсия дана, но маленькая, она нищенствовала — собирала милостины.
Поехал я на родину в Ляхово за мамой, нанял там мужиков погрузить всё её имущество, состоящее из десяти пудов зерна, ушаты, столярный верстак и материал для столярных работ. Приехали, выгрузили, поужинав, уснули. Проснувшись, обнаружили, что взятые на дорогу продукты питания съедены крысами, а кузова и корзины прогрызены.
И стали со мной жить две старушки. Средств у меня никаких и ни одежды, и у мамы как у нищей. До церковного жалованья 96 рублей надо ждать целый год и до урожая год. С Рождественской славы мне присчиталось 12 рублей, из них я послал долг Стефано-Прокопьевскому братству восемь рублей. Если нет службы в будний день, я уходил в лес рубить дрова, ведь надо позаботиться и о будущем. Ближний лес недалеко, нарубаю дров на круглый год, плачу налог на древесину, нанимаю работника с лошадью и обеспечиваю себя отоплением.
С о[тцом] Парменом я служил два с половиной года. Его заменил сын его о[тец] Иоанн, переведён из Вятской епархии по болезни отца.
Мама неспособна стала по слабости ни к какому хозяйственному делу и жувущая с нами такая же беспомощная дьяконица. Мама стала говорить, что мне нужно жениться. А мне жениться не хочется, потому что у меня нет ни одежды, ни стола, ни стула, ни дома, а церковный причтовый дом развалился. Все прихожане советуют мне жениться, а я говорю: «Постройте мне квартиру, ведь старая-то, видите, развалилась». Забота о постройке церковного дома — это дело попечителя. Собрали церковный совет и прихожан и вынесли решение купить для псаломщика в Красноборске недостроенный новый одноквартирный дом. Купили, перевезли, поставили, рамы я сам сделал, остальное оставили в недоделанном виде, потолок не залили, печь — одна русская пекарка, вместо крыльца — ходить по трапу. Сделана была раскладка по 15 копеек с душевого надела, но средств на доделку дома не хватило, деньги ушли на покупку дров к церкви. На свои скудные средства я не мог достраивать не принадлежащий мне дом. Так и жили мы, мучились в доме, пока не выселили меня с семьёй во время революции.
Мама категорически стала заявлять — ищи невесту. В соседнем приходе жил старичок-псаломщик с двумя дочерьми, остальные сыновья и дочери были устроены, старший сын был священником, два сына учителями и дочь в замужестве. 15 августа 1912 года помолились с мамой Богу, и с благословения матери я пошёл посмотреть девиц псаломщика. Явился, откровенно отрекомендовался, рассказал своё семейное положение и что я, мужик-крестьянин, по милости архиерея назначен псаломщиком. Рассказал всю жизнь с самого детства.
Старшей дочери было 35 лет — она в замужество не пойдёт, младшей одни годы со мной — 22 года. Сделал предложение младшей. Отец и говорит, что тебе потребуется приданое, а у меня ничего нет и у дочери так же. Я говорю, что и у меня тоже ничего нет сейчас, заживём так наживём! Кроме псаломщичества я буду столярить и сам себе могу сделать всю мебель и домашнюю обстановку. Старик говорит, что это дело быстро не решается, подожди ответа до тех пор, когда напишем о твоём предложении сыну священнику о[тцу] Николаю на реке Онеге в приходе Пияла и сыновьям учителям, тогда дадим окончательный ответ.
Молва о моём сватовстве быстро разнеслась. Начали приходить ко мне разные бабушки-тётушки расхваливать невест, они жнут и молотят, ткут и прядут, одним словом, чудо — не девки. Дошли до старика-псаломщика и такие слухи, что я девкин сын, мать нищая, по миру ходила, а про невесту разнёсся слух, что она жила в Петербурге и нехорошая и для меня не годится. Я не ожидал таких слухов, и меня смущало это. Была в ближайшей деревне женщина-старушка, век свой прожившая в Питере, пошёл к ней просто поделиться мыслями. «Какой же порок ты усматриваешь, если невеста жила в Питере, ведь Питер не деревня тёмная. Я вот век в Питере прожила, но, думаю, не такая я тёмная-слепая, как все деревенские женщины и девицы. Ты молодой, жизнь только начинается, ты псаломщик, и тебе деревенская девка не подходит. А семья у невесты интеллигентная, а это значит, у них культурные обо всём понятия. Это, Иван Степанович, задело всех прихожан, что вы здешних богатых невест обошли, а посватали дочь бедного дьячка». До того доходили и дохваливали, что я стал говорить: «Мне нужна только одна, а нахвалили мне десять».
Земельный свой участок я засеял ячменем и овсом, треть оставил под посев ржи (пары). Нанял пахаря за 50 рублей. Ячмень и овёс измолотил и продал за 80 рублей и пары засеял рожью для будущего урожая. Сходил к старику проведать, получен или нет ответ на посланные письма. Поинтересовался старик, что архиерей предпочёл мужика определить, а духовных сирот сотни не определены. Я сказал, что был в архиерейском хоре и удостоен такой милости и буду из учеников школы устраивать хор — обучать их нотам, так как меня назначили учителем пения в школе. Наконец получил извещение, что ответ от сыновей пришёл положительный. Пошёл на окончательное решение. Стал спрашивать добровольное согласие невесты связать со мной свою судьбу навек. «Смотри на меня, я открыл себя со всех сторон, кто я есть. Мать моя, бедная мученица, неспособная ни к какому труду. Брат окончил духовное училище с переводом в первый класс духовной семинарии». Договорились мы ехать в Красноборск за покупками материалов для одежды как мне, так и для невесты и тут же отдать на пошив портному. У меня созрела мысль провести свадебный стол без вина, пусть это будет противно обычаю, я заявил, и не отверг этого ни старик, ни невеста. А про себя я скажу, что я боялся вина как смертельного яда. Мой отец из-за вина повесился, два дяди [стали] ужасными алкоголиками, один был часовой мастер и по всем механизмам, работая, он держал вино на столе и пил рюмочкой, без этого работать не мог. Второй дядя шёл с мельницы пьяный, в поле замёрз. Всё это отвратительно действовало на меня.
И в архиерейском хоре ходили в Рождество и Пасху к торговцам Ноготкову и Дербенёву с концертом и к другим, по пропетии концерта приглашают к столу: на одном — стол роскошной кулинарии, на другом — всевозможные сорта вина. И радушное приглашение хозяина: «Пожалуйте, господа, пожалуйте». И вот наши «господа» так нажалуются, что идут весёлыми ногами в церковь и поют пьяными голосами, а молящиеся слушают пьяное пение. Но меня отнюдь ни разу не соблазнило вино, из кулинарных я брал сколько требовалось и дожил до 83-х лет, не пробовал никакого вина, нашёл для себя великое счастие.
И так мы обоюдно решили провести свадебный стол без капли вина. Священнику отнесли вино на дом, хотя он был за брачным столом. Пусть это будет не по традиции, но для меня и для невесты удовлетворительно — нет ни галдежа, ни бессмысленных песен. Достаточно было гармоники и гитары, послушать опытного игрока. И так мы соединились в церкви законным браком. Кончились все нахваливания невест.
Брачная жизнь только начинается. Надо приобретать хозяйство, теперь домашняя бытовая работа легла на супругу. Меня воодушевляла мысль устроить хор. В школе я обучал только молитве перед началом учения и после учения. А на уроках пения от себя решил познакомить учеников с нотами. На классной доске написал гамму и объяснял музыкальные знаки. Нашлись мне сотрудники. Один из прихожан учился ранее в архангельском городском училище и состоял в хоре, и у него первый тенор. Другой прихожанин — такой же обещанный на год в Соловки, но только он пел не в соборном хоре, а в Анзерском скиту на одном из Соловецких островов[108] — у него средний бас. Ноты он знал только по обиходу, и вот я уцепился за них со своей неотвязной мыслью создать хор и достойное храма Божия пение и нашёл в этих прихожанах страстных любителей.
Молодая учительница не любила пения или была неспособна, поэтому и назначили меня учителем пения. Два урока в неделю — небольшой труд, пропеть из «Октоиха» на гласы «Господи, воззвах». Молодую учительницу перевели в другую школу, приехала учительница другая, средних лет — Мария Павловна Беневоленская. Не отказалась и она от нашего общества, знала ноты, и голос альто-сопрано. Учеников она приводила в церковь к обедне, и за всенощной ученики читали шестопсалмие и первый час. Не жалела времени учительница и на спевки, которые бывали раз и два в неделю. Все мы с нетерпением ждали большого праздника, когда наш хор пропоёт обедню или всенощную. Зимний храм у нас маленький-маленький, и нашего «хора» достаточно.
О[тец] Иоанн Кубенский, сам семинарский певчий, сначала был равнодушен, не веруя в наши мужицкие знания, да к тому ещё вводить новости в храме Божием — вызовет недовольство и ропот прихожан, не слыхавших никогда ничего лучшего, кроме своего мужицкого пения, к которому в детства привыкли. Первое наше выступление было в день праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Когда спели, чувствуем, что поём с успехом. Не знаю, как это отразилось на музыкально неграмотных молящихся, но священник просил нас не расходиться, а повторить «Ныне отпущаеши»[109], ему теперь поверилось, что мы, мужики, можем создать. Мы были в восторге. Мария Павловна, единственный пока голос, который был дорог нам. Учеников я готовил шесть человек. За литургией спели «Милость мира» Старорусского[110], задостойник попросту. Супруга моя и мама прислушивались к суждениям молящихся — все одобряют. Но были и такие молящиеся, которые порицали: разве в церкви полагается так петь, затянули ос-а-а-ан-на-а-ан-а, и конца нет.
К Великому посту влились в наш хор и те шесть учеников, которых я готовил. Теперь мы с большей уверенностью в свой успех стали готовиться к Пасхе. О[тец] Иоанн приходил в школу на нашу спевку и своей критикой делал нам пользу. Мы решили, не жалея времени, делать спевки два раза с участием тех шести учеников. Всё это время, проведённое на спевках, было для нас большим наслаждением. Разучивали пасхальный концерт «Днесь всяка тварь веселится и радуется» Дегтярёва. Самое эффектное место перекличка: «воскресе, воскресе» и «ад пленися». Соло «Тебе воскресшаго, Бога нашего, во главе пений величаем, яко Крест и смерть приял еси за род наш». О[тец] Иоанн, приходя на спевку, принялся сам за дирижёрство, но в перекличке у него не получалось — не мог выдержать паузы между тактами.
С большим воодушевлением ждали Пасхи, разучили Пасхальный канон волынского распева, и то редкость — здесь никто его не слыхал. Но, признаться, мы теперь пели не для прихожан, а более для себя.
В Пасху на литургии издревле за причастными пели стихиры Пасхи — «Да воскреснет Бог», а мы во время причастного запели концерт «Днесь всяка тварь веселится и радуется, зовет всех к веселию и радости», а чувствуем это торжество мы, поющие. Священник после обедни пригласил весь хор к себе спеть концерт, и матушка всем участникам подарила по кульку конфет. Прихожане идут на клирос поздравить с успехом не слыханного никогда нового пения. Волостной писарь Якутов предложил устроить подписной лист и сам подписал 30 копеек. Сразу же в три часа утра пошли мы со славою по домам с иконами: крест, Спаситель, Богоматерь. Иконы на древках. Я предлагал подписной лист более зажиточным и сочувствующим пению прихожанам, и все подписывали, хотя небольшую лепту. Один такой любитель (мельник) подписал целый рубль. И так по 10–20 копеек с приходу собрал я девять рублей 80 копеек.
Время шло. Наши страсти к пению не унимались, а росли. Все праздники хор наш отмечал чем-нибудь новым из песнопений. Во время каникул приезжали к о[тцу] Пармену, который доживал последние дни, страдая от ревматизма, все его внуки — ученики духовного училища и сыновья-семинаристы — участники хора Вологодской духовной семинарии. Явилась возможность усовершенствовать хор при наличии новых певчих с голосами. В соседнем приходе Евда, где был псаломщиком Орест Васильевич Спасский[111] с женой Натальей Васильевной, тоже был создан такой же хор из учеников и своих детей, и сами певчие. Мы договорились обоюдно помогать друг другу. В это время Спасские переведены были на Белую Слуду на учительство в белослудскую школу. И теперь удивляюсь их увлечению пением — не пожалеть времени и труда прийти за 20 вёрст на Ляблу с ребёнком на руках ко мне, необразованному, нетактичному, и всё для того, чтобы пополнить наш хор.
Время шло. У нас родилась дочка — первый ребёнок. Дела супруге Марусе прибавилось, появилась люлька, надо качать и кормить ребёнка. Брат Вася с успехом окончил первый класс духовной семинарии и переведён во второй. Он уже шестой год играет на скрипке и уже на четвёртой позиции[112], но в пении не участвует, но в случае моей отлучки меня заменяет. Скрипку ему подарил священник черевковской церкви за успехи в учении. Никаких музыкальных инструментов я пока не приобрёл, но скрипка пленила, и я пожелал начать пока знакомиться с первыми приёмами её овладения. Брат был моим учителем. Он имел школу по обучению игре на скрипке (школа Соколова). Игра сложная, нужно знать, как стоять, как правильно деку упирать в подбородок, строго соблюдать штрихи смычком. Сольфеджио меня не затрудняло, а вот развитие левой руки не вдруг давалось. Целых два года была в моём распоряжении скрипка, и у меня уже облупилась кожа с пальцев левой руки, и я уже одержал победу над гаммами первой позиции и перешёл на гаммы второй позиции. Но, видимо, не судил Бог идти дальше этого. Всё это выяснится из дальнейшей нашей судьбы.
В 1914 году решили мы с супругой съездить в Соловецкий монастырь поклониться преподобным Зосиме, Савватию и Герману. Как люди небольшого достатка, сели в Красноборске на пароход с билетом 4-го класса — палубным. Время летнее, с ребёнком на руках — дочке пять месяцев. Приютились около машины на нижней палубе. Возле нас за столиком четверо: двое мужчин и две женщины занялись картами. По их речи нам показалось, что люди не очень нравственного общества. Принесли газету и громогласно читают: в Соловецком монастыре вспыхнула забастовка, монахи учинили бунт, требуют смены настоятеля, улучшить трапезу и изменить устав. Нас такие вести почти разубедили ехать в Соловки, но желание повидать дядю в Соловках и родственников в Архангельске склонило ехать.
Приехав в Архангельск, узнали, что в действительности уже в Соловках это произошло, и пароходы в Соловки не ходят, а стоит специально подготовленный пароход в ожидании уполномоченного св. Синода — следователя по этому печальному делу. Но из Синода получено сообщение, что уполномоченный представитель не приедет, и через сутки из Соловков пришёл в Архангельск пароход. И мы решили ехать. С нами поехали монашки — весь хор Великоустюжского женского монастыря. Они ехали по палубному и, вероятно, бесплатно. Мы тоже по палубному. Погода благоприятствовала, одна рябь на воде, чуть-чуть движется воздух. Монашки пели самые простые мелодии и самые простые стихотворения. «Слава, слава в вышних Богу, дух мой радостно воспой»[113], «Дай, добрый товарищ, мне руку твою»[114] — это незамысловатые мелодии. А вот когда запели «Вскую мя отринул еси от лица Твоего, Свете незаходимый»[115] под управлением дирижёра, то, я думаю, что каждый, не чуждый понятия о музыке, должен был обратить внимание и прислушаться.
Приехав в монастырь, сразу заметили, что что-то изменилось. Паломников не видно. На приехавших паломников не обращают внимания, никто не встречает, как было ранее. Пошли в собор к литургии. Великолепный хор поёт умилительно. Вышли из собора, а тут тревога — объявлена война России с Германией[116]. Объявлено на плакатах, чтобы никому не отлучаться из пределов монастыря, прибыл военный пароход, и идёт проверка документов. Военнообязанных, подлежащих мобилизации, было много из послушников монастыря, которые не исключены из общества и не приняли монашество. Поднялась паника среди приехавших богомольцев и среди монахов. Видимо, было дано приказание Синода убрать из монастыря ризницу — самую главную ценность монастыря. Началась погрузка ценностей в ящик, заколачивание и перевозка на пристань и погрузка на пароходы. Пароходов у монастыря три[117]: «Зосима и Савватий», «Михаил Архангел» и «Вера». Погрузка и подготовка шла в большой поспешности. Кажется, вся братия была занята этим тревожным делом. Не удалось повидаться со своим дорогим дядей Прокопием Петровичем. Не больше полутора суток пришлось побыть в монастыре.
Пришлось сподобиться поклониться раке Преподобных один раз, и то самым последним и при очень знаменательном случае. Перед нами шёл тот самый человек, который при нашей посадке на пароход в Красноборске сидел за карточным столом и игрой и читал газету о бунте монахов, вступил на ступеньку, чтобы подняться и приложиться к раке. Стоящий тут схимник быстро сошёл со своего места и преградил ему путь и жестами приказал ему отойти. Но человек снова пытался подняться и приложиться и снова был отстранён. Тогда человек стал на колени, сложил, но неправильно, руки для благословения, но схимник не благословил, а быстрым жестом указал уйти и указал на дверь. Человек, видимо, озлобился и не оглянулся ни разу назад, вышел из храма.
Мы ужаснулись, думая [, что] и нас не допустят, но мы беспрепятственно приложились к схимнику, сложив для благословения руки. Я подошёл первый с младенцем на руках. Схимник благословил меня и сказал: «Дьяконом будешь — неверных в дом не пускай». Я не понял и сказал: «Я не дьякон, а псаломщик». Посмотрев на дочку-младенца, сделал дуновение два раза и сурово сказал: «Вот ты её на руках носишь, а вырастет она — какая-то будет», — не благословил её. Дал нам с супругой по небольшой свечке, по огарку свечи, а жене почерпнул ложечкой масла из лампады от раки и велел выпить.
Перед ракой на полу — покрытый золочёной пеленой с изображением Преподобных лежит человек и ненормально стонет. Схимник подошёл к нему с книгой и начал читать длинные молитвы, а потом громко произнёс: «Именем Господа нашего Иисуса Христа повелеваю тебе, нечистый демоне, изыди из него!» Человек громко презрительно говорит: «Не изыду, не изыду!» Схимник снова повторил: «Нет, изыдешь! Христос повелевает тебе изыти!» Мы со страхом вышли, не дождавшись конца этого события[118], но с камнем на сердце, что схимник, вероятно, прозорливый, не удостоил нашего младенца благословения. Я вспоминаю это событие с нами и не забуду до смерти. И не знаю, случайное ли совпадение, но слова схимника сбылись в абсолютной точности.
Только что спустились со ступеней церкви, а там уже всем сообщают, что посадка на пароход объявлена и что в монастыре никого не оставят из богомольцев. Время уже около десяти часов вечера. Вся публика пассажиров едва поместилась на верхней палубе трёх пароходов при невообразимой тесноте — вероятно, классы[119] были полностью загружены ящиками с ценностями. Отправка от пристани была без свистков и без огней, в темноте, и не знали мы, куда нас везут. Но пассажиры, может быть, местные моряки, узнали, что везут нас в совершенно противоположную сторону. Счастье ещё, что ветер умеренный, а то окатило бы всех морской солёной водой. Наконец, видим вдали берег. Пассажиры уже определили, что это Онежская губа и мы приближаемся к городу Онеге. Всех объял ужас. Ещё я вспомнил, что, отправляясь от пристани, я вижу группу мальчиков человек до десяти. Это, вероятно, годовики-певчие. И когда они, обратившись лицом к монастырю и сняв головные уборы, стройно запели тропарь Преподобным, я заплакал, вспомнив, что я таким же певчим был, и очень сожалел о них, что не пришлось им выполнить своего обещания.
И о ужас! Нас высадили на берег в гор[од] Онегу не одну тысячу человек без средств, и к величайшему горю мы узнали, что путь в Архангельск заминирован и сообщение прервано. Что делать? Поднялись рыдания, отчаяние. Идти пешком 350 километров без средств существования или сидеть в городе до открытия пути в Архангельск, но ведь будущее неизвестно никому. А наша участь ещё горчая — у нас на руках ребёнок. При утомлённости пришлось искать пристанище хотя бы на одни сутки. Вот тут и пришла нам мысль ехать вверх по течению Онеги в приход Пияла к священнику о[тцу] Николаю, брату моей супруги, моему шурину. Это был единственный выход попасть нам домой.
Ценности с пароходов погружены на телеги, и сотня или более лошадей направлены вверх по течению до станции Порог в 25 верстах от города Онеги. Масса пассажиров идёт по этой дороге, и мы идём вместе с обозом. Я несу на руках свою дочку. Тут я вспомнил про хор устюжских монашек и [об] их горькой участи. Но у нас есть надежда выбраться из плена. Дошли мы вместе с обозом, каждую телегу охраняет монах в военной тужурке и с саблей сбоку. Порог — это грозное зрелище, вода падает под уклоном в 45 градусов, шипит, пенится, шум слышно за несколько километров. Обоз остановился у переправы на другой берег.
Первые телеги уже заранее переправлены, теперь переправляются остальные 50–60 телег. А куда они будут следовать, жители деревни Порок говорят, что не иначе как в Кожеозерский монастырь, потому что трактовая дорога ведёт туда. Отчаяние наше смягчилось мыслью, что мы свидимся с о[тцом] Николаем, но предстоит путь проехать вверх по течению реки Онеги 90 километров. Вся река до отказа запружена строевым лесом, она узкая, с крутыми болотистыми берегами.
Регулярное передвижение по реке производится через два дня, и нам пришлось гостить под открытым небом ещё сутки.
И вот посадили нас всех пассажиров около 45 человек в большой карбас[120], ничем не покрытый. Маленький пароходик «мышка» потянул нас вверх по течению. Часто останавливался в местах, где возможно пристать к берегу для исправления неотложных нужд пассажиров. Останавливались у приходов церквей: Турчасово, Вазенцы, Чекуево (и ещё приход — забыл); и, наконец, Пияла — цель нашего путешествия. На каждой пристани проводы мобилизованных, рыдания, жёны кидаются на шею мужей, падают в обморок. Ехали мы до Пиялы четверо суток под открытым небом.
Наконец явились неожиданные гости к о[тцу] Николаю. Утомлённость требовала отдыха. Для нас, как дорогих гостей, сделан радушный приём. Но всё-таки мы не дома, а в плену. Проезжая, мы видим, что за пашней, за плугом всё женщины, сенокосят женщины, сено и хлебные снопы везут на санях, а о телегах здесь мало понятия, почва — болото, и в деревнях дороги устроены из бревенчатых настилов. Если свалится с настила корова или лошадь, то без помощи человека она не выберется.
Каким транспортом нас отправлять — это была трудная задача. На санях лошадь не довезёт 95 километров до станции железной дороги Обозерская, а телег здесь никогда не бывало. Отец Николай разведал, что в ближайшем приходе Чекуево у одного кузнеца есть два брошенных за негодностью колеса от телеги. Починили и навели шины, потом он нанял из своего прихода мужика, и он смастерил колымагу на двух колёсах, чтобы усесться троим.
И вот посадили нас двоих, а ямщик сидел, свесив ноги к хвосту лошади. Дорога — болото, устланное строевыми брёвнами, по брёвнам на колёсах тряска страшная, берегись — язык откусишь. Добравшись до твёрдой почвы, нужно отдышаться-отдохнуть. И так доехали до станции, проехав 45 вёрст, осталось ещё ехать 50 вёрст. Станция — хижина, разделённая на две конуры, по одному окну в каждой. Клопов и паразитов полно, нельзя присесть, пришлось отдыхать на воздухе.
Остальная дорога была поглаже, и мы легче доехали до станции. До Архангельска по железной дороге осталось ехать 133 километра.
Прибыв в Архангельск, мы узнали, что путь в Соловки открыт. Погостив у шурина, мы отправились домой.
На каждой пристани происходит посадка на пароход мобилизованных. Рыдания жён и обмороки.
Нас потеряли, предполагая, что по случаю войны завезли нас в другие края. Брат Вася замещал меня во время поездки. Во время нашей отлучки умерла старушка-дьяконица, истопила баню и угорела в ней до смерти.
Глава 5[121]
С приходом войны пришли все горести и невзгоды. Взяли на войну самых сильных работников в хозяйствах. Начались бесконечные мобилизации в армию. Уже приходили извещения об убитых и раненых. Наступила для всех нерадостная жизнь, кажется, пахать землю стало недостаточно лошадей, и мне пришлось идти в батраки к одному воднику-капитану, пахать его землю и мою на его лошади, и так шло время три года подряд. Жизнь стала сильно дорожать. Мобилизации продолжались регулярно.
Двое из моих певчих ушли на фронт, остался я без хора, да и сам работал в батраках. Едва находил время для церкви, пахать приходилось во время ночи. Повторилась мобилизация и на лошадей — угнали ещё годных для армии лошадей. И так тянулось тяжёлое грозное время.
Война с Германией началась 28 июля 1914 года[122]. В первую мобилизацию потребовали воинов запаса, отслуживших в армии три с половиной года и зачисленных в запас. А потом регулярно пошли мобилизации по годам рождения, начиная с младшего возраста. Началась мобилизация на лучших лошадей. Жизнь наполнилась паническим страхом. Все понимали, что Германия по военной и культурной технике несравненно выше России. Отправление мобилизованных сопровождалось ужасом и рыданиями жён, детей и стариков-родителей, и такая картина продолжалась до конца войны. Всё это отразилось разорительно на сельском хозяйстве, не хватает рабочей силы и лошадей, и пришлось женщинам браться за соху и всякую мужскую работу.
Меня, родившегося в 1888 году, мобилизовали в 1916 году, 16 февраля. Всех мобилизованных обязали явиться в г[ород] Сольвычегодск на освидетельствование. Со всей районов явилось мобилизованных не менее тысячи человек. И комиссия врачей внимательно всех прослушивают, меряют рост и взвешивают на весах. Я оказался годным. Хотя было у меня ходатайство прихожан лябельской церкви об освобождении как псаломщика, но меня не освободили, так как я крестьянин, не духовного звания (освобождают псаломщиков только духовного звания).
Посадили нас в гор[оде] Котласе в грязные вагоны-теплушки и через двое суток привезли в гор[од] Рыбинск на самом берегу Волги. Разместили в пустые казармы по 250 человек (по военному времени в роте 250 человек). До нашего приезда здесь стоял 87-й запасный полк и после шестимесячного обучения отправлен на фронт.
В первый же день нас, пятую роту, привезли в полковую церковь и после общей исповеди причастили св. Таин. Не нашлось из всех мобилизованных ни одного псаломщика, и пришлось на следующий день мне одному петь литургию.
Расположились мы на голых нарах, проведя ночь почти без сна, а на следующий день приказано было каждому для себя плести из соломы мату вместо постели. Солдатская шинель заменяет постель и одеяло. На третий день выдали обмундирование с солдатскими погонами, видимо, с фронта — старые сапоги, старые шинели, френчи с гнидами от вшей и со следами крови, видимо, снятые с убитых воинов. Всем обрили головы и бороду, но староверы-раскольники не желали бриться и просили поместиться на нарах вместе и обедать всем из одного бачка, так как староверы ни в коем случае не согласны есть вместе с еретиками-православными. Евреи хотя обрились, но просили поместиться на нарах вместе. Потом повели в баню. Баня в полку хорошая.
У полка своя свиноферма, поэтому всё время варят свиной суп и гречневую кашу с жаренным на свином сале луком, свой огород, выращивают картофель, морковь и свеклу. В семь часов ужин — идти с большим бачком на кухню за свиным супом, бачок назначен для четверых. В восемь часов перекличка и молитва с чтением Евангелия, положенного на день.
От ушедшего на фронт 87-го пехотного полка в наследство нам остались в казармах плотоядные насекомые — блохи и клопы. Клопов выжигали паяльными лампами, а блох развелось так много, что невозможно было уснуть. Залезали в мешки, но холщовый мешок не защищает, нужен мешок из клеёнки. Мне из дому прислали мешок из детской клеёнки, и то с трудом спасался. Ночью все не один раз вытрясают в окно из мешка блох, но не надолго, через несколько минут опять те же укусы, всё бельё усеют кровавыми точками. Сижу за списыванием с партитуры нот, но и днём допекают — не дают покоя. Да как и не быть клопам и блохам при такой скученности людей, столько пыли и грязи приносится в казарму ежедневно. Хотя каждую субботу моем пол, разбрасывая мокрые опилки, протираем пол с опилками швабрами, грязный опилок убираем, второй раз та же операция, третий раз кидаем сухой чистый опилок и после протирки пола убираем. Под нарами всю пыль начисто выметаем, но это не влияет на блох.
В восемь часов в полку перекличка, молитву пришлось петь одному.
Видимо, священник о[тец] Александр Колосов и полковое начальство заботились иметь в полку хор, как и ранее было, и вижу на клиросе нотные партитуры. Вызывает меня командир полка и спрашивает: «Можешь ли создать хор и сколько человек нужно для создания хора?» Я сказал, что могу создать хор только из певчих, прошедших сольфеджио, и нужно по крайней мере 8–12 человек. — «Но ведь это трудно найти людей, но ты создай свой хор из трёх-четырёх человек, и это будет достижением».
И стали являться ко мне назначенные из рот певчие. Я показываю им ноты и прошу пропеть простую мажорную гамму, но они не знают даже, что такое гамма и ноты. Я с сожалением отсылаю их. Но пришли два человека, Пархоменко и Диденко, хористы, с сольфеджио, солидные басы, это для меня клад: теперь есть кому всенощную и литургию петь и Апостол[123] прочитать.
Служба была поскору. Утром в семь часов перекличка и чтение Евангелия. По мирному времени военной боевой практике обучают один год, а во время войны положение заставляет провести в шесть месяцев. В девять часов, если позволяет погода, роты идут на стадион на тактические занятия, а если дождь или снег — на словесные занятия по воинскому дисциплинарному уставу.
Певчие приходили, но принять их нет расчёта — они будут только мешать. Но вот является ко мне молодой, лет 16-ти солдат, он доброволец, с солидным тенором и сольфеджио. О, это меня радует. Теперь мой хор из четырёх человек, два солидных баса и два солидных тенора.
На перекличке вечером объявили, что в воскресенье будет выступление на сцене полковых артистов и выступит церковный хор. Это очень огорчило меня. Хотел, но не осмелился возражать, да и немыслимо — воля начальства. Собралась наша «четвёрка» на спевку, но никто ничего для сцены не знает и нот никаких нет. Что делать? Я вспомнил, как нас в детстве в школе учили гимну Глинки «Коль славен наш Господь в Сионе»[124], и оказалось, что этому гимну мы все в школе научены. Далее, я знал национальный английский гимн «Господь, твори добро народу»[125] и французскую Марсельезу — «Вперёд! без страха и сомненья на подвиг доблестный, друзья!»[126] С моего голоса пропели много раз, и хотя получалось неуверенно и неточно, но, рассчитывая, что публика в музыке и пении не очень разборчива, решили, что сойдёт и это. Первым номером пропели: «Привет гостям всем дорогим, привет вам всем на много лет, ура, ура, ура». Вторым номером был национальный гимн Англии, третьим — французская Марсельеза, четвёртым номером — гимн «Коль славен наш Господь в Сионе». Хорошо исполнили, нам даже аплодировали.
После выступления на следующий день взял я увольнительную записку и пропуск и пошёл повидаться со своим знакомым. На дворе казармы попадает навстречу солидная по виду и одежде женщина и обращается с вопросом: «Какой роты, служивый?» — «Пятой роты», — говорю. «Скажите своему регенту, чтобы молитв на сцене больше не пели!» Я говорю, что у нас нет регента, и вот я вместо регента, и у нас нет для сцены никаких нот, и не по чему петь. «Честь имею спросить, с кем говорю?» — «Я жена командира полка».
Между тем прибыл ещё певчий с хорошим тембром тенора. На утренней и вечерней перекличке молитву поём в четыре голоса. Евангелие читать много желающих.
И вдруг приносят мне большую партитуру солдатских песен. Песни очень хорошие, но не знаю без указания, которые списывать. За указанием обратился к командиру роты, но он унёс партитуру другому офицеру или, возможно, командиру полка. Принесли партитуру, вижу, песни подчёркнуты красным карандашом. Подчёркнуты песни: 1-я – «Жизни тот один достоин, кто на смерть всегда готов»[127]; 2-я — «Под ракитою зелёной русский раненый лежал»[128]; 3-я — «Из-за леса, леса копий и мечей»[129]; 4-я — «Оружьем на солнце сверкая»[130]; 5-я — «Поехал казак на чужбину далёку»[131]; 6-я — романс «В тени задумчивого сада»[132]. Переписываю на четыре голоса: бас-октава, бас первый, тенор второй, тенор первый. Одна переписка займёт целый месяц. Каждую нужно разучивать и учить роту после переклички и молитвы. Заедает забота, да к тому ещё беспокоят ночью и днём кровожадные блохи.
Хор постепенно увеличивается. Прибыл знаменитый бас-контроктава, украсил весь хор, пение такого баса слышно по всему городу, так как приделаны на сцене сильные рупора. Спевки два раза в неделю, и певчие два дня освобождались от строевых занятий, и каждый раз после спевки идём в баню, приятно смыть блошьи кровавые укусы. Своя церковная служба в казарменной церкви отходит быстро, идём слушать образцовый хор в Крестовоздвиженский кафедральный собор (собор рядом с площадью 87-го полка). С увлечением слушаешь архиерейский знаменитый хор, иногда знакомое песнопение или концерт, и дорого для меня то, что я вижу свою недоучку и замечаю свои ошибки и сознаю, что в соблюдении динамики вся красота и сила эффекта.
На спевках разучиваем Херувимские и «Милость мира», а в царские дни концерт «Господи, силою Твоею возвеселится царь»[133]. Так прошли февраль, март, апрель и до сентября.
Рыбинск город грязный. Одна только улица Крестовая асфальтирована, а другие улицы и переулки низменные. Особенно грозен весенний ледоход. Большая река Шексна впадает в Волгу с другой стороны против Рыбинска, и во время ледохода сталкиваются две реки, какие ужасные громады льда поднимаются. В 1916 году вода поднялась так высоко, что затопила наши казармы и мы были трое суток в изоляции, но вода быстро ушла, только грязи стало больше.
Откуда столько хлеба поступает в Рыбинск? Сколько грузится барж мешками с мукой, нагруженные направляются, вместо них грузятся другие — и так всё лето. А сколько тут грузчиков разных национальностей — узбеки, сарты[134], татары, армяне, китайцы, но китайцы не работают, а занимаются разными фокусами и этим зарабатывают себе на содержание. Один такой фокусник ходил с попугаем и змеёй. За показание своих фокусов требовал по пять копеек с человека. Попугай грубым голосом кричит: «Ты, мужик, дур-р-р-рак». И нецензурно ругается. Потом [фокусник] вынимает из чемодана круглую коробку с дырками на крышке, а в коробке змея. Смазывает змею водой или какой-то жидкостью, потом пускает змею в рот, и она выходит из ноздрей, показывая треть тела, виляя. Потом запускает змею в ноздрю носа, и она выходи ртом. Потом берёт змею, и она сама колечком ложится в коробочку.
Мне казались все эти национальности — грузчики — не культурнее нас, северян. Водки и вина тогда не было, пили политуру, одеколон и денатурат, которым наливали ночные фонари на столбах, но и этот денатурат ночью доставали и выпивали.
Утром, когда рота построится, я должен быть тут при ней, чтобы задать тон для песни. Раздаётся команда: «Запевалы, выходи!» Выходят мои певчие, запеваем песню, подхватывает вся рота, команда «шагом марш!» Бьют в металлические тарелки, в барабан, играет гармонь. Но бить в барабан и тарелки нужно согласуясь с темпом песни. Если темп песни в три удара, то барабанщик считает: раз, два — в третий ударяет, а если размер темпа в четыре четверти, тогда барабанщик считает: раз, два, три — в четвёртый ударяет; так же, с таким счётом, бьют тарелки.
Точно так же идёт рота обратно с занятий в казарму с песнями. Сразу забирают бачки и идут на кухню за супом и кашей из гречневой крупы со свиным салом. Кипяток всегда готов. Несмотря уже на наступивший голод в полковой лавке имеются все продукты питания — ржаной и белый хлеб, селёдки, сахар, но денег-то не у каждого, да и жалованье-то солдату 50 копеек и три осьмушки табаку махорки в месяц. На родине голодают, но изредка шлют посылки домашнего печенья.
15 июля на вечерней перекличке объявили, что через пять дней прибудет показательное трофейное судно со взятыми в плен у немцев трофеями. На судне флаги всех наших союзников, и нужно разучить национальные гимны каждой союзной державы. Но у нас имеются ноты только своего национального гимна «Боже, Царя храни», английский — «Господь, твори добро народу» и французская Марсельеза — «Вперёд! Без страха и сомненья»[135]. Начальство, видимо, заботилось об этом, и мне передали ноты на сербский и черногорский гимны, более ничего не нашлось. Разучили.
Пришвартовалось судно к пристани, грянул залп из ружей, грянули и мы своим хором, особенно наш знаменитый Дюба своей контроктавой, получилось очень торжественно. И стали впускать на судно по пять человек. Какие у немцев ужасающие орудия! Пушки, пулемёты, ружья разных калибров. Самое страшное оружие — снаряд в виде обыкновенной пули полтора метра вышины, две тонны весом. Бьёт за 60 километров, падая на землю и разрываясь, делает яму-воронку, в которой может поместиться небольшая деревянная постройка.
Наши роты проходили всю военно-боевую науку и были годны для отправки на фронт. Из моего хора взяли двух человек в учебную команду, потому что они имели учительское образование, и через двухмесячное обучение произвели в офицеры в чине прапорщика. Вернувшись, они стали посещать наш хор и пели в церкви, и я был очень доволен тем, что у меня поют два офицера.
По воскресеньям было обязательно выступление хора с солдатскими песнями. Слышно из писем и видно, что везде наступает голод, и напрашивается какое-то уныние и ожидание каких-то грозных событий. Письма принимать стали не запечатанными, ревизоры проверяют, недозволенное зачёркивают, прикладывают печать: «Проверено». С фронта бойцам не разрешено писать кроме «остаёмся живы, вернёмся с победой», также бойцы из дома с родины получают, что остаёмся живы и здоровы.
В половине сентября объявили, что с фронта на отдых идёт в Рыбинск полк, а наш 87-й запасный батальон отправляется на фронт. Выставили все роты на плац, привели к присяге пред Крестом и Евангелием. Совершили водосвятный молебен с многолетием Царю, христолюбивому всероссийскому воинству, освятили знамя и окропили святой водой. Очень грустно было расставаться со своим хором, особенно со знаменитой контроктавой Фёдором Гавриловичем Дюбой. Но что поделаешь, видимо, так нужно Провидению. Через день полк начал грузиться в вагоны-теплушки.
Остались в казарме кроме меня 15 человек, которые назначены для обучения в пулемётчики во 2-й пулемётный полк, пригород Петрограда Стрельна, по дороге на Новый и Старый Петергоф, Ораниенбаум[136]. При отправке нас обмундировали, начиная с белья. Выдали новые шинели, френчи, ремни, котелки, лопатки, вещевые мешки — полное обмундирование пехотинца. Наблюдаем из окон вагона, видим, на плацу обучают почти босых солдат в рваных шинелях, и некоторые в своей одежде. По прибытии во 2-й пулемётный полк с нас сняли чистую обмундировку, а взамен одели в грязную вшивую фронтовую одежду. Через день меня направили в мастерскую столяров и резьбы по дереву, это воодушевляло меня, потому что эти специальности были самым любимым моим делом. Бытовые условия в пулемётном полку несравненно хуже — те же нары с соломенными матами и блохами. В 87-м батальоне свой свинарник, свой огород, полковой магазин имеет продукты, а здесь, в пулемётном, кроме фасоли и чечевицы и полкило ржаного хлеба — ничего.
Построена в казарме церковь, и из армии направляют специалистов создавать иконостас. Четыре столяра уже заканчивают свою работу, также и токари, а резьба по дереву только начинается. Художники-иконописцы в отдельном помещении спешат кончить свою работу к назначенному сроку. Резчики с удовольствием пригласили меня на свою работу, поручая мне не очень сложные рисунки, но, видя моё увлечение, стали давать более сложные рисунки. По чьему распоряжению приказано воздвигнуть иконостас в стиле модерн? Хотя этот стиль в резьбе по дереву считается самым изящным, но требует большой напряжённости и внимания. Требует слишком много инструментов: стамесок, начиная почти с иглы, косых под углом 45 градусов, напильников всякого образца, начиная с чайной ложки, пунктиров. Этот стиль взят из растительности природы. Нам руководством служил альбом стилей резьбы по дереву. В альбоме четыре стиля: готический, рококо, декадентский и модерн. Из модерна мы брали листья и плоды винограда, листья клёна, листья дуба и жёлуди, цветы и листья розы, цветы, листья и головки мака, листья и цветы озёрной лилии. Золото в стиле модерн не применяется — испортит пунктировку и резьбу.
Для резьбы пригодна более всех дерев берёза, и весь иконостас по резьбе создали из берёзы. Царские врата художники украсили иконой Благовещения Пресвятой Богородицы, а мы обложили икону резьбой из листьев клёна. Царские врата украсили резьбой виноградных листьев и кистей. Осталось сделать голубя над Царскими дверями. Каждому хотелось вырезать голубя, и, чтобы не было недовольства, кинули жребий, и мне не повезло, на мою долю выпало только сделать лучи вокруг голубя, и это меня удовлетворило. Очень бы хотелось хотя взглянуть на художественный иконостас в стиле «модерн», созданный специалистами солдатами-пулемётчиками 2-го пулемётного полка.
Уцелела ли до сего времени такая великолепная ценность? Неужели нашлась такая безумно дерзкая рука кощунственно разрушить такую святую ценность? А ведь были такие безумно злые люди, дерзко непростительно делали такое преступление. На моей родине в Ляхове Черевковского района расстреляли икону Богородицы над дверями при входе в церковь и за престолом икону Воскресения Христова с предстоящими Марией Магдалиной и Марией другой. Стреляли из дробового охотничьего ружья, и вся дробь кучами влипла в иконы. Где был разум у молодёжи в то время?
В преддверии церкви художники-иконописцы написали икону — у пулемёта в наклонном положении воин направляет ленту с патронами в пулемёт, а сверху запись[137] из текста Евангелия: «Больши сея любве никтоже имать, аще кто душу свою положит за други своя»[138].
Наступил день освящения церкви. Ещё не был сделан престол и жертвенник. Два священника из приготовленного материала сколотили на гвозди форму престола и жертвенника и стали наколачивать щит, сделанный столярами, чтобы получилась форма престола. Такой же щит наколотили и на форму жертвенника, хор в это время пел положенные псалмы. Щит этот при пении хора псалмов обмывали каким-то особым веществом в виде мыла. Потом одели на престол одежду под названием «срачица», а сверху на неё надели ещё позолоченную одежду под названием «индития» при пении псалмов. Также и на жертвенник одевали одежды. Сразу же после одевания престола началось служение всенощного бдения, а после всенощной — литургия. Пели два хора — полковой солдатский хор и стрельнинской дворцовой церкви хор, торжественно, точно на конкурсе. Меня определили псаломщиком, и на помощь мне выделили из хора двоих — тенора и баса.
Священник, по национальности финн (финляндец), протоиерей Николай Окунев. Меня ещё назначили к священнику денщиком. Обязанность моя была приводить в порядок квартиру и ходить на офицерскую кухню за пищей, вымыть посуду. Это для меня клад. Солдатский стол — вобла и чечевица — голодное питание. Священник половины не скушает супа и котлет, а оставшееся отдаёт мне, а часто и совсем не дотронется, придёт поздно вечером, с офицерством играет в карты и там пообедает, и весь свой обед отдаёт мне, хотя уже остывший, и я кушаю офицерский обед — значит, не голодаю.
В мастерскую к нам во время резьбы по дереву зашёл командир полка полковник Шереметьев, с любопытством смотрел на нашу работу. «Всем ли довольны?» — спросил нас. Один из нас, как полагается отвечать начальнику, точно и энергично ответил: «Так точно, ваше превосходительство, всем довольны, но недовольны тем, что очень плохо кормят». Командир положил ему руку на плечо и спросил: «Сколько ты получаешь жалованья?» — «Так точно, ваше превосходительство, 50 копеек!» — «А я, — говорит, — получаю 500 рублей, да и мясо-то не вижу».
Церковная служба шла своим порядком. Полковой хор прилично пел, посещали храм и горожане. Моя обязанность была каждую субботу ездить в Александро-Невскую лавру за просфорами, и я каждый раз стремился выслушать монашеский солидный хор. Хотя у нас в полку церковная служба шла, но не все работы закончены — начали делать гробницу. Моё помещение было в сторожке церкви. Хор делает спевки в церкви, и я участвую и в свободное время списываю для себя с партитур песнопения. У меня уже появилась мысль, если судит Бог вернуться домой, то буду стараться устроить обстановку своей квартиры в стиле модерн.
Вся наша команда художников и специалистов вполне сосредоточена и увлечена в свою работу, и никто не знал, какие грозные события висят над нашей головой. Знало об этом фронтовое начальство, но старалось держать в строгом секрете. Создан почтой контроль над письмами. Письма принимались не запечатанными, запрещалось писать о положении дела на фронте, но и без этого напрашивался солдату вопрос — доколе может продолжаться такое невыносимое положение.
С фронта в полк едут делегации просить помощи и объявляют, что на фронте так мало бойцов, что на километре находится четыре-пять человек. Хотя и засекречено у начальства положение на фронте, но и подлинные сведения просачиваются, что на фронте идёт братание — немцы идут в наши окопы, а наши бойцы идут к немцам, появляются листовки с воззванием бросить войну и оставить фронт. Видимо, и немцам надоела война. Все такие чрезвычайные события знало офицерство и не допускало сведений для рядовых солдат и в тылу. Священник ежедневно общался с офицерством, знал приближающуюся катастрофу [и], не предупреждая никого даже из начальства, скрылся. Прихожу к нему на квартиру и вижу на полу большой сундук с металлическими ручками, попробовал поднять и сдвинуть — не поддаётся, какая-то в нём тяжесть, заглянул в гардероб — всё пусто, одни старые шлёпанцы и дырявые сапоги. Приходит священник с двумя армейцами, они взяли сундук и куда унесли — не знаю. На следующий день пошёл к священнику, но его нет и квартира заперта. Куда скрылся и что угрожало священнику — неизвестно. Сам собой напрашивался вопрос, что надвигается что-то чрезвычайное.
16 февраля полку был дан приказ вынуть затыльники из пулемётов (без затыльника пулемёт не стреляет). Для какой цели дано такое распоряжение, армейцам было неизвестно. Утром 17 февраля из Кронштадта по льду Невы пришёл 1-й пулемётный полк[139], чтобы соединиться и вместе идти в Петроград для поддержания революции, но во 2-м полку был дан приказ бойцам-пулемётчикам никому не выходить из казарм. Начальством 1-го полка дан приказ обстрелять казармы 2-го полка, причём пять человек было убито. В полку произошло восстание — бунт. Армейцы обезоружили офицеров, открыли склад с обмундированием, и все присоединились к 1-му полку и пошли торжественным маршем в Петроград по 45-вёрстной шоссейной дороге, так как железнодорожное движение за двое суток ранее было закрыто и прекращена телеграфная и телефонная связь. Полк ушёл, остались один-два человека в роте, прекратилось всякое довольствие, ни пекарня, ни столовая не работают. Куда же нам специалистам деваться? Один выход — идти в Петроград по шоссе, отшагать 45 километров почти голодом, ведь ни у кого ни крошки продуктов не было. Пошли. Смотрим — летит аэроплан (я в первый раз увидел аэроплан) и сбрасывает листовки, на высоте кажутся блестящими снежинками, падают на дома, на воду (в каналах вода не замёрзла, зима была тёплая), падают на шоссе, с извещением, что царь арестован, власть принадлежит Временному правительству.
Пришли в Петроград, идём по улице Садовой, видим сгоревшие небольшие здания, вероятно, бывших торговцев и на снегу кровь. Скрывшиеся отряды царских войск стреляли из пулемёта и ружей с колокольни церкви. Ввиду голода по Петрограду открыты питательные пункты. Видим вывеску, заходим в дом, на столах приготовлена закуска из порции ржаного хлеба и одной селёдки. Голод на время утолён. А где же ночевать — не знаем. К нашему счастью открылось железнодорожное движение, и мы немедленно успели уехать в Стрельну в полк, а части полка стали возвращаться одна за другой.
Предстоит немедленно восстановить всё хозяйство полка, его нормальную жизнь. Офицерство потеряло силу, управлять частями некому. В первую очередь армейцы решили избрать полковой комитет и принудить офицеров безоговорочно отказаться от сложенного поневоле оружия — саблей, наганов, пистолетов. Сопротивляющихся жестоко избивали. Погоны сняли со всех воинских чинов. Некоторые офицеры сами добровольно сдали оружие, а которые грубостию сильно насолили армейцам, тех избивали или убивали. Приказано было частям полка самим выбирать кандидатов в офицеры посредством голосов, а комитет полка утверждал выбранных. Невыбранных бывших офицеров отправляли в какой-то штаб забаллотированных, а куда их назначали в дальнейшем — нам неизвестно. Все титулы офицерских воинских чинов отменены и заменены одним словом «товарищ» — например, «товарищ генерал», «товарищ капитан», «товарищ майор»; исключено слово «господин». Как теперь стало всё просто. Без всяких «превосходительств» и «светлейших генералов» упростились отношения между начальством и нижними воинскими рядовыми солдатами и установилось взаимное содружество. Ранее начальство считало рядового солдата таким низким, что не разрешалось рядовому солдату посещать чайные и столовые, которые посещают офицеры, висит вывеска «Нижним чинам вход воспрещён». При обращении рядового солдата к офицеру или офицера к рядовому солдату ранее последний имеет ответить коротко и энергично: «так точно», «никак нет, ваше превосходительство».
Управление в полку восстановлено. Избран комитет полка. Теперь решается трудный вопрос с питанием. В полку нет никаких продуктов, кроме ржаного хлеба, норма 500 грамм на человека, супа из фасоли и чечевицы, ни сахару. Комитетом полка были направлены отряды армейцев в ближайшие сельские местности реквизировать последние продукты питания у жителей — скот, овец, яйца, хлеб — и направлять в полк. Приходилось армейцу пользоваться порцией хлеба и одним яйцом. С фронта непрерывно едут делегации просить помощи фронту, но получают ответ: нужно защищать революцию, а войну кончать.
Делаю перерыв. Припоминаю собрание духовенства в довоенные годы, когда священники заявляли недовольство тем, что прокурор Святейшего Синода Саблер[140] чистокровный еврей, а при царском дворе неизвестный проходимец Григорий Распутин[141]. Чем он заслужил такое благоволение царя? Ходили слухи, что он святой и лечит болезни, а может быть, гипнотизёр. Наследник Алексий[142] был больной, и у царя и царицы было больше доверия Распутину, чем опытным учёным врачам. По истории революции Распутина застрелил князь Юсупов[143]. И когда следствием было выяснено, кто такой был Распутин, оказалось, был авантюрист, конюх, сибирский конокрад.
Нашлись такие остроумные карикатурщики-писатели, сочинили Акафист святому Григорию Распутину, царицыну утешителю. После каждого тропаря припев: «Радуйся, Григорие, сибирский конокраде». Напечатано было тысячи экземпляров, и в нём половина недопустимых нецензурных слов. Помню, идёшь по Невскому проспекту или по Садовой улице, почтальоны-письмоносцы и разносчики газет звонко кричат: «Купите акафист св. Григорию Распутину, царицыну угоднику», — а у почтальона их целая кипа. И столько распространилось этих акафистов, и где бы ни остановился, тут и читают, и больше всего нецензурщиной оскорбляют благородных женщин, и некоторые, не выдержав оскорбления, уходят из вагона.
Но правительством Керенского[144] решено было вести войну до победного конца. Создавались женские роты под названием «батальоны смерти». Идёшь и видишь: марширует такая рота по Невскому, на древке знамени череп головы человека, а на флаге лозунг: «Мужчины, устыдитесь! Мы, женщины, идём воевать до победного конца». Я подумал: «Сейчас вы в гимнастёрках, а как вы будете осенью и зимой в окопах?»
У нас в полку занятия прекратились, так как вновь мобилизованных в полк не прибывало. Из нашей артели в числе 16-ти человек создали столярную мастерскую с вывеской «Мастерская выделки простой и стильной мебели 2-го пулемётного полка». Командиры полка, пользуясь бесплатной работой артели, наделали столько заказов мебели, что их в течение года не выполнишь, да ещё и мебели стильной. А питание-то полкило хлеба да суп из чечевицы. Как работать на голодный желудок? Комитет полка ничего лучшего предпринять не может. Одним словом, получился такой у всех вопрос в мыслях, что надвигается какая-то другая цепь событий.
Не запомнил, которого числа в августе днём пролетел медленно аэростат цеппелин[145] (это длинный, как колбаса, снаряд), и наделал он такой паники и страху жителям — боялись бомбёжки. Появился аэростат на Финском заливе недалеко от Кронштадта, поднялся с острова Эзеля (вероятно, теперь переименован)[146]. Хотя остров русский, но немцы создали аэродром. Кто мог, жители бросились из Петрограда, спасая себя и имущество. Заполнили все вокзалы и станции в паническом страхе. В течение пяти дней немыслимо было куда-либо отлучиться из полка из-за такой тревоги и паники. Разрешены были отпуски на родину на один месяц.
Я получил отпуск, пробыл дома месяц, дома тот же кошмар войны. Землю обрабатывать и сенокос убирать некому, пришлось за обработку земли отдать половину урожая и сенокоса — половину урожая. Жене с тремя детьми с хозяйством не справиться.
Вернулся через месяц в полк, и тут та же картина голода. На железнодорожных станциях и в Петрограде нигде не увидишь хлебного съестного, кроме ягод земляники или малины в корзинках, насыпанных в один слой, но солдату не по карману такая роскошь.
По прибытии в полк из отпуска узнаю, что через неделю мой год совсем увольняется домой[147]. Получив увольнительный билет, доехал до Петрограда, иду по Невскому проспекту, вижу огромный длинный плакат красного цвета во всю ширину улицы и на нём лозунг яркими белыми буквами «Да здравствует Всероссийское Учредительное Собрание»[148]. Далее через несколько шагов такой же длины плакат с лозунгом: «Глас народа — глас Божий».
Хотя декабрь месяц, но погода в 1918 году в Петрограде была тёплая: днём дождь, ночью заморозок. На трамвайной линии лужи. Берегись трамвая — окатит водой. По улице везут солому, и даже конский навоз не убирается. Вижу: стоит очередь за получением продовольственного пайка. Выдают вместо хлеба зерно овса, не знаю, по какой норме на человека. Далее иду и вижу очередь людей с салазками за получением дров. Поленья дров весят на весах, не знаю, по какой норме, а может быть, какой богатей из деревни привёз продавать дрова в городе по высокой цене.
Пришёл на Северный вокзал[149]. На платформе тысячи армейцев ждут вагонов. Подали вагоны-теплушки, переполненные до отказа, уцепившись за трубы на крышах, едут сотни армейцев (вероятно, вагоны были заняты, когда были в парке). В вагон не проникнешь, не внимают никакой просьбе, хотя можно бы стиснуться. На крыше крайне опасно и можно замёрзнуть. Пришлось на перроне толкаться морозную ночь. На следующий день та же картина. Все крыши заняты армейцами. Почти на слёзные наши просьбы с товарищами наблюдатель вагонов[150] приказал открыть дверь вагона и втиснуть нас.
При такой тесноте, как селёдок в бочке, доехали до Котласа. Как доехали армейцы на крышах — не знаю. При высадке из вагонов строго, внимательно проверяют чемоданы и коробья, ощупывают карманы шинелей и брюк. Видимо, правительством дан приказ, чтобы демобилизуемые армейцы не провозили домой никакого боевого оружия. И действительно, у многих отобрали наганы, револьверы и американские винтовки «Винчестер». Эта винтовка в разобранном виде помещается в небольшой чемодан.
Вернувшись домой, вижу тот же кошмар войны. Уже вернулись некоторые мобилизованные инвалидами, есть убитые и находящиеся в плену, получены из полков похоронные.
Церковная служба шла обычно, и я водворился на прежнее место псаломщика. Теперь я дома. Но никак не забываются грозные картины голода в Петрограде, когда люди стоят в очередь с салазками и весят на весах поленья дров, да, вероятно, и по норме, и очередь людей, получающих овёс вместо хлеба. Но ведь деревня не город, у каждого урожай хлеба, свой огород, почти у всех своя корова, овцы, всё не так голодно в самое суровое время войны. И хотя дорого, но каким-то способом можно достать хлеба.
Моё сельское хозяйство было в самом плачевном виде. Мои предшественники, два псаломщика, не занимались сельским хозяйством, землю и сенокос обрабатывали за половину урожая. Земля, когда-то плодородная, но не удобряемая навозом и плохо паханная, стала совсем бесплодной, не оправдывала расходов на семена и обработку. Поэтому в отсутствии моём в полку[151] пришлось отдать за обработку земли за две трети урожая, чтобы земля вовсе не запустела, а сенокос за уборку — из половины урожая. Другого выхода не было. Одна супруга с тремя детьми, с матерью, 70-летней старухой, бессильны были что-нибудь лучшее предпринять по хозяйству, а главное — нет лошадей, лучших лошадей мобилизовали на фронт, а оставшихся загоняли на разных подводах, требуемых для войны. Не стали подвозить дров для отопления церкви. Кроме овса ничего не сеяли, так как земля задёрнела, и овёс не давал урожая.
И рискнул я на такой шаг, за который меня прихожане сосчитали лишившимся рассудка, — оставить землю совсем не засеянной, хотя бы на один год. Четыре раза в лето вспахать и хорошо пробороновать железной бороной, выбрав корни сорняков. В конце июня, около Петрова дня, половину земли засеял репой, вторую половину викой с горохом. Вика в конце августа зацвела. Я прикатил вику к земле бороной вверх зубьями, а потом запахал вику и репу, не воспользовавшись никаким урожаем. Осенью, в конце сентября, четвёртый раз вспахал, и чудо, столько расплодилось под викой дождевых червей, и во время вспашки на добычу слетелись чайки и галки со всего района; под запаханной репой червей не было.
На следующий год насеяли землю ячменём. Урожай превзошёл все ожидания. Земля у церкви и у большой дороги, и каждый остановится посмотреть невиданный урожай ячменя. С лихвой окупила земля все расходы, затраченные за два года обработки, и обеспечила на два года хлебом, хотя ячменным, но и то вполне удовлетворительно в такое тяжёлое время хозяйственной разрухи.
Супруга не сообщала мне в полк о событиях, какие произошли в деревне в эти три года пребывания моего в полку, так как знала, что запрещено сообщать в армию солдатам о каких-либо чрезвычайных событиях. Письма принимались не запечатанными. А события происходили чрезвычайные. Правительством решено было для нужд войны и в помощь голодающим южных областей реквизировать у крестьян излишки хлеба и оставить установленную норму по наличию членов семьи. Сдавать для армии овечью шерсть, телячьи опойки[152] и скотские кожи. Уполномоченные для этой работы пересчитали в каждом хозяйстве число суслонов ржи, ячменя и овса на полях и на гумнах в скирдах и по ним делали предположительно наличие в скирдах хлеба. По окончании молотьбы комиссии пошли проверять наличие хлеба по закромам, меряя хлеб мерой, назначая определённую норму по числу членов семьи, а оставшиеся излишки потребовали безоговорочно сдать в Красноборский ссыпной хлебоприёмный пункт. Поднялась страшная тревога и паника. Кому не больно остаться на голодном пайке, отдав своим трудом тяжким добытый хлеб. Было в школе общее собрание по этому вопросу, и крестьяне решили просить отменить это постановление власти, а обязались внести добровольную сдачу хлеба, но это предложение было безусловно отменено. Скрывали хлеб в лесу, в земле, зимой в снегу, в стогах сена. Такая мера давала обильный корм мышам и крысам. Мельницы были загружены размолом реквизированного зерна, а крестьянину разрешено смолоть не более двух пудов на месяц с объявлением квитанции о сдаче на склад хлеба, что заставило делать из камня мельницы и ступы, толочь сушёный овёс и по истолчении просевать овсяную муку. Шпионы за всеми следили, и у подозреваемых делали обыск. Все эти меры привели к тому, что никто никому ни по какой нужде не решался продать хотя малость хлеба из боязни доноса. Все друг друга подозревали в сокрытии хлеба.
При таком стечении обстоятельств прихожане стали реже посещать церковь. Дров для церкви не заготовили, и кто желает заказать обедню или при похоронах умершего, должен принести охапку или две сухих дров. В алтаре поставили железную печку и из неё провели железные трубы в большую церковную печь. Стены мокрые, с потолка каплет. Что сулило нам дальнейшее время? Война не кончена, а уже два старшего возраста армейцев демобилизованы. Когда и кем был заключён мир с Германией, я в этом буквально не осведомлён, нужно спросить историков, находившихся на фронте[153].
Из лозунгов в Петрограде на Невском проспекте: «Да здравствует Всероссийское Учредительное Собрание!» И на втором плакате: «Глас народа — глас Божий». Разумеется, что делегаты, избранные народом, съедутся на Учредительное Собрание, выберут из себя членов Государственной Думы, Дума выберет регентом Керенского, и установится мирная жизнь в государстве. Так думали не сведущие в текущих исторических делах простые деревенские люди. Я убедился в этом, бывши на общем собрании в лябельской начальной школе в 1918 году, в январе месяце. Собрание было по вопросу «За какую партию будут собравшиеся отдавать свои голоса?» Только за партию, а не за кандидатов. Это только выяснить мнение населения о настоящем положении России. Вопрос был для всех сугубо важным. В большинстве явились женщины, да несколько демобилизованных армейцев, да человек пять среднего возраста и стариков. Уполномоченный из райисполкома раздал маленькие листовочки с напечатанными на них названиями партий: эсеров, большевиков, меньшевиков, — и объяснил, что каждый должен подписать свою фамилию под партией, какую желаешь, и опустить листочек в стоящий тут ящик.
Одна бойкая женщина Анфиса говорит:
— Я неграмотная, не умею писать.
Один мужчина говорит:
— Ставь крест за крестьян.
Анфиса говорит:
— Я и креста не умею ставить.
Мужчина говорит:
— Давай я за тебя поставлю.
Поставил за партию эсеров.
— Пойди, опусти в дырочку ящика.
Женщины говорят:
— Не знаем, за какую партию подписываться, нам всё равно лучше не будет, за кого ни голосуй. Да что же это за эсеры, да большевики, да ещё какие-то меньшевики, что за начальство? Всё равно немец всех заберёт.
Тут выступил волостной писарь Якутов:
— Голосуйте за меньшевиков, эти за крестьян, и за Учредительное Собрание, и за Государственную Думу. Россия мирно благоденствовала в правление Николая десятки лет, и Дума поставит правителем Михаила, брата бывшего Николая.
Но тут раздался громкий крик:
— Уходи прочь, а то акт составим, вишь какой нашёлся наглец, думаешь опять быть хозяином волости, нет, ушло твоё время.
Якутов со стыда скрылся в толпе и ушёл с собрания. Тут выступил старик, бывший водник, капитан парохода Василий Фёдорович:
— Все голосуют за большевиков, а того не подумают, как начнут потом по заднице хлестать: отдай! отдай! отдай!
Бабы спрашивают:
— Да какие это большевики, богачи разве какие?
— Нет, это партия, в Москве на выборах больше всех партий получила голосов[154], — пояснил уполномоченный.
На этом собрание закончилось.
В 1922 году выше указ Св. Синода[155] искать лиц, достойных священства, хотя бы даже из крестьян. Меня вызывает благочинный, пишет архиерею, чтобы удостоить меня сана дьякона, а потом с Божьей помощью он может достигнуть сана священника. Я не верю, что это осуществится, ну какой же из меня будет дьякон или священник-проповедник, когда я кончил только начальную четырёхклассную школу.
Благочинный послал мне своё заключение о моей характеристике и велел идти к архиерею. Никакого экзамена мне не было. Явился к Владыке, и он отослал меня в канцелярию духовного правления, а там уже изготовлена и проведена документальная запись на рукоположение и грамота. 6 декабря 1922 года рукоположили меня в сан диакона.
Время грозное и для Церкви самое печальное. Со дня революции 1917 года в правление Керенского уже была борьба за землю между крестьянами[156], но не все крестьяне согласны были на новые реформы, борьба только начиналась.
Появилась партия большевиков и меньшевиков[157]. Шли непрерывные собрания под руководством большевиков о создании коммуны в Красноборске, об отобрании церковных земель.
Появились новые деньги: червонцы, тысячи, миллионы[158]. Деньги совсем потеряли ценность. Взамен отобранной у священника и псаломщика земли назначили от прихода годовое жалованье: священнику шесть миллионов, а мне, псаломщику, два миллиона. Получив в конце года два миллиона, я мог купить на них две коробки спичек.
В церковь стало ходить людей мало. Дров для отопления почти не привозили, служили в холодной церкви, иногда при пяти градусах холода. Появилось столько бумажных денег Керенского, грубой колюры[159] на простой бумаге, что ими платили государственные учреждения за выполненные работы трёхметровыми отрезами с купюрой 40 и 20 рублей[160]. Но в обращении между населением деньги мало ходили — уж слишком были дёшевы. Пуд хлеба на деньги стоил много миллионов, пуд картошки и за десять миллионов не купишь.
Так и думалось, что готовится что-то для нас нехорошее. На собраниях комитетов бедноты выносились постановления о ссыпке хлеба в общее амбары. По этому вопросу были общие собрания всех граждан, но большинство крестьян были не согласны. Последнее собрание было в Черевкове — собрание бурное, к решению вопроса не пришли и всех несогласных арестовали. На следующий день собрались в Холмове и ляховцы, и черевковцы и составили от имени всех собравшихся прошение об освобождении невинно арестованных, но ответа не получили.
На другой день все собравшиеся в Холмове черевковцы и ляховцы пошли с целью добиться освобождения арестованных. Толпа была около 150-ти человек. Их предупредили, что это будет рассматриваться как выступление против советской власти, но толпа близко подошла к райисполкому, по ней дали залп из винтовок, шесть человек убили, 25 ранили[161]. Остальные бросились бежать кто куда мог.
Нас со священником согласно закону[162] лишили избирательных прав, и мы были свободны от всех собраний, беспокоясь за свою будущую участь и за участь Церкви.
Органами власти была произведена инвентаризация церковного имущества и отобраны церковные богослужебные сосуды, имеющие большую ценность. Оставлены самые простые, не имеющие ценности, и то по одному экземпляру: один крест, один потир[163], один дискос[164], одно кадило. Не забуду того дня, когда представитель райисполкома зашёл в храм Божий с грязным мешком, не снимая головного убора, своими руками с престола и жертвенника поклал священные сосуды в грязный мешок. Закурить в храме постеснялся — закурил в паперти, а мы, провожая глазами мешок со св. сосудами, чувствовали сожаление до слёз.
Вполне естественно возникал у меня вопрос, а как же далее существовать будет Церковь и как существовать нам дальше. Вручили нам анкеты (опросные листы) с содержанием множества вопросов: первый вопрос — отношение к религии, лояльность к советской власти, классовая принадлежность, происхождение, был ли судим, имущественное положение. Заполняешь в рубриках эти ответы на вопросы и подозреваешь, что этот учёт требуется власти для какого-то над нами насилия, а тут ещё по Двине от Архангельска до Котласа регулярно рейсирует броненосец «Светлана»[165] с Чрезвычайной комиссией, забирает уже известных лиц на пароход, и в первую очередь — священников.
Немногие из священников отсиделись, но большинство из них съездили на крейсере «Светлана» до Архангельска и обратно. Какой там гостеприимный приём оказала ЧК, сразу можно было определить по наружности ездивших на «Светлане». Протоиерей красноборской церкви с рыжей бородой вышел со «Светланы» совершенно белый, а другие долго не забудут синяков на своём теле.
Создался в Красноборске кружок «Союз воинствующих безбожников»[166], появились плакаты «Воинствующая церковь», которые расклеивались на заборах. Начались диспуты на антирелигиозные темы. Никогда не забуду диспута, проходившего в Красноборске в 1924 году. Было объявлено священникам и всему населению о диспуте на тему «Был ли Христос и есть ли Бог?» Народу пришло так много, что в каменном большом здании, бывшем ранее купеческим магазином, было тесно. Ораторов съехалось до 15-ти человек из Сольвычегодска и Устюга. Какая учёная сила собралась! На эстраде, кроме ораторов, сидели девять священников. Диспут начался с объявления председателя волисполкома Синцова.
Первый оратор прочитал тропарь празднику Рождества и стал объяснять: «Звездам служащий» — видишь, молились звёздам, были идолопоклонники; «звездою учахуся» — по звёздам гадали о своём счастье или несчастье. «Тебе кланятися, Солнцу правды» — видишь, молились солнцу, были идолопоклонниками. Третий оратор: «Всё это говорит о том, что в те времена не научились сельскому хозяйству и не могли обеспечить себя хлебом, и зимой голодали, и в областях, где солнце не показывалось по несколько месяцев, люди были рады отблеску зари, не только солнцу. Скоро будет тепло, солнце согреет землю, и мы будем сеять хлеб». Я, малограмотный, ожидал с удовольствием послушать учёных философских речей, но меня смешило. Один из священников, административно высланных, все речи записал в свой блокнот. Председатель объявил, что доклад закончен. — «Теперь вам, отцы, предлагаю возразить на эти вопросы». Никто из священников не пожелал.
Тогда высланный священник о[тец] Николай Авдаков[167] с крестом на груди поднялся на трибуну, грациозно смело произнёс: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа», — и спросил: «Который теперь год?» Один из ораторов вскричал: «Причём здесь годы?» Но председатель быстро остановил его: «Вы свободно высказались, теперь они должны свободно возражать». Священник: «Докладчики для темы доклада избрали тропарь праздника Рождества Христова и не уразумели даже смысла его. Какому солнцу пришли поклониться звездочёты, какое тут изображено солнце — объяснить вы даже не могли или знали, но умолчали. Почему вы не выбрали для доклада всемирную историю, историю Рима писателей еврейских[168], о всемирной переписи при им[ператоре] Августе[169], и тогда ясно увидели бы, что Христос есть истинная историческая личность». Очень длинная была речь священника Авдакова из истории древней еврейской. Предполагаю, что не только священникам, но и многим грамотным видна была неготовность ораторов к диспуту, что они показали только своё невежество.
Тут выступил дьякон телеговской церкви Дмитрий Иванович Чецкий с обращением ко всем присутствующим с просьбой простить его, что 20 лет несознательно служил в церкви, понял всю ложь религии, снимаю с себя сан дьякона, порываю связь со всем ложными церковными обрядами и хочу искупить свою вину служением советской власти, а всех здесь присутствующих отцов прошу последовать моему примеру, оставить свою приводящую в мрак и невежество работу и работать во имя прогресса и науки[170]. Из толпы раздались голоса: «Иуда, Иуда!» Председатель быстро окинул взором всех и вскричал: «Кто сказал Иуда, граждане! Не оскорбляйте человека, этот человек поступил правильно — он прозрел, несмотря на то что был в заблуждении 45 лет. И вы лет через десять будете такие же Иуды, как этот теперь честный гражданин. Все вы одурачены, слепые, но прозреете так же, как и он».
Тут стали поступать записки председателю и священнику Авдакову с вопросами, почему оставили вторую тему доклада «Есть ли Бог?» Председатель предложил диспут на эту тему, но не последовало согласия ни у кого из ораторов беседовать на эту тему. Священник Авдаков вышел на трибуну и объявил, что ему поступили записки с вопросом: «Есть ли Бог?»: «Не всё нужно спрашивать, а нужно самим трудиться — искать Бога». На этом диспут кончился. Через два дня в районной газете «Колхозник» [пр]опечатано всё прохождение диспута, что священники не могли возразить ни на один вопрос доклада. А отца Николая Авдакова из Красноборска куда-то выслали.
Газеты издавались одни советские, и о положении Церкви можно было узнать из переписки между священниками. Слух шёл, что в Москве собрался собор епископов совершить обновление Церкви согласно требованиям обстоятельства и по духу времени и с необходимостью облегчить тяжкое бремя единобрачия священников и безбрачия архиереев[171]. Я не читал постановления собора, но уже постановление проведено в жизнь. Церковь разделилась на два общества церковных: старая Церковь и Церковь обновленческая. Обновленческая Церковь для власти была не только терпима, но, как видимо, и поощряема, потому что вносила раздор в Церковь. Епископов старой Церкви сместили и заместили епископами-обновленцами. Но священники и благочинные не все приняли обновленчество.
Когда начали служить по новому стилю, народ поднял недовольство и мало стал посещать церковь. Двубрачие[172] священников тоже для сознательных верующих казалось незаконным — противоречило апостольским писаниям[173]. Новые обновленческие архиереи не совсем себя прочно чувствовали и, объезжая свои новые епархии, обильно сулили разные льготы духовенству, священникам и дьяконам, в то время обложенным тяжко непосильными налогами. Тяжёлое для священников время! Наш Великоустюжский епископ Алексей[174] был смещён, и занял его кафедру обновленец Николай[175]. Наш благочинный о[тец] Алексей Вешняков[176] перешёл в обновленчество.
Летом 1924 года обновленческий архиерей поехал по церквам принятой им епархии. Когда разнеслась весть, что обновленческий архиерей едет по церквам, прихожане и священники начали делать собрания, чтобы решить принять или не принять обновленческого архиерея, и везде выносили решение — не принимать. Но благочинный, как сам был обновленец, объехал всех священников, убеждая вопреки постановлению прихожан принять архиерея, иначе задушат налогами и церкви закроют. А налоги были невыплатимые, да ещё впереди будут ужаснее. А если принять архиерея, то архиереи уже ходатайствуют об освобождении от налога. Кончилось наше в церкви собрание, и решено — не принимать.
Не успел я домой ступить за порог и вижу, что к дому подъехало две лошади с пассажирами и идёт ливень грозового дождя. Архиереи с протодьяконом вошли в дом священника, и ворота в секунду были заперты. Два ямщика, до нитки промокшие, остались на улице мокнуть под ливнем. К несчастью или к счастью, митра архиерейская осталась под облучком тарантаса, и ни архиерей, ни протодьякон о ней не вспомнили, а мужики в отместку за то, что не пустили их в дом священника, увезли митру в свой приход за 15 километров.
Проснувшись, архиерей и протодьякон вспомнили о митре, но — о ужас! — митру мужики увезли в свой приход. Рано утром будит нас матушка-попадья встревоженная. Несчастье! Ведь митру-то мужики увезли. «Садись на нашего Воронка и поезжай скорее в Шеломя, ведь ты знаешь мужиков-то». Снова прибежала, сказала, что решили послать Проню-сторожа: «Он скорее лошади сбегает, лесом прямым путём не более девяти вёрст». А меня заставили делать кафедру, на помощь пришёл мужик. Поставили кафедру, постелили ковры. Время благовестить, а о митре никакого слуху. Вернулся Проня, сказал: «Мужики митру передали женщине, которая принесёт в Красноборск, а там передадут в церковь с попутчиками». Уже время скоро двенадцать, а митры всё нет и нет. А митра была продана мужику нашего прихода, богатый мужик, но до церкви-то равнодушен. Жена его ушла в церковь архиерея смотреть, а ему смешно — пусть звонят, а я погуляю сам в архиерейской шапке. Надел митру на голову и хвалит: «Ах, ах, какая мягкая архиерейская шапка». А у него зеркало-трюмо, и любуется на себя в трюмо.
Наконец принесли митру, надо встречать Владыку. Владыка без мантии, в одной ветхой рясе. Мне было поручено с Владыки снять рясу. Я облачился, протодьякон с крестом на блюде, и ждём. Архиерей распахнул рясу, я взял за воротник и хотел поднять рясу и — о ужас! Напрочь оторвал воротник и дрожу с перепугу. Но Владыка жестом руки успокоил меня: ничего, ничего! Матушка-попадья спешно подхватила рясу (тяжёлую, ватную) и унесла пришивать воротник. Ни посоха, ни трикирия[177] не было. Служил как простой священник. Пели мы втроём насколько позволяли наши силы. Протодьякон, как иерихонская труба, выводит все прошения по нотам, а мы поём просто: «Господи, помилуй». Наслушались знаменитого певца. За причастным спели «Свыше пророцы»[178].
Владыка вышел с проповедью. Народ стоит во втором отделении[179], к амвону и алтарю не подходит. Архиерей стал руками манить — подходите, подходите, но никто ни с места. Начал речь: «Вероятно, ещё до моего посещения врагами Церкви Христовой распространён слух, что бритый, женатый обновленческий архиерей едет. Никаких бритых, женатых архиереев, никаких обновлений, всё нерушимо, свято остаётся и неполебимо. Грешно так думать! Рассуждают о бритых архиереях, а посмотреть на вас, то я думаю, что найдётся немало из вас таких, что и крестиков на себе нет». По окончании службы на благословение никто не подошёл.
Пошли на квартиру священника, на обед или на чай. К столу матушка подала две небольших рыбки да по стакану кофе, и всё тут. Принесли из церкви ширму, сел Владыка за ширму и стал принимать к себе на совет поодиночке. Были староста, попечитель, члены церковного совета. Говорил ласково. Мне сказал, что положение критическое, налоги невыплатимые, но мы ходатайствуем о сложении налогов, и получено уже сообщение, что налоги сложатся в том случае, если Церковь примет обновленческую реформу.
— Но скажите, какие мнения и суждения здешних церквей?
— А у нас вчера на собрании церковного совета и прихожан было постановлено обновления не принимать.
— Очень сожалею, — сказал архиерей.
Я не видел, как они отбыли, уж не пешеходом ли ушли к следующей церкви за десять вёрст. Не приняли обновленческого епископа красноборская, цывозерская, белослудская церкви. Эти две церкви на другой стороне Двины, и сообщение с Красноборском через реку перевозом лишило епископа их посещения, и они не примкнули к обновленчеству.
Благочиннические обязанности принял на себя священник красноборской церкви о[тец] Николай Вячеславов[180]. Он два года тому назад лишился молодой жены, вдовствовал, не примкнул к обновленчеству. По данной ему инструкции и согласно правилам св. Церкви престолы, на которых совершали богослужение еретики епископы, были осквернены, и сослуживцы требовали покаяния. И вот благочинный о[тец] Николай всех священников, дьяконов (нас было двое) призвал в красноборскую церковь на исповедание грехов своих. В храм он нас не пустил, а стал вызывать поодиночке, вопрошая, почему приняли обновленца, не подчинившись постановлению прихода, были в сослужении с обновленцем, приняли на себя тяжкий грех. Храм и св. престол и антиминсы[181] по уставу Церкви требуют малого освящения. После исповеди, пришедши в свой храм, приступили к освящению храма. По чину, положенному по требнику, при чтении положенных псалмов священник делал помазание св. миром св. престола, жертвенника, иконостаса, стен, паперти и входа. Вот сколько принёс огорчений обновленческий архиерей.
Обновленчество держалось ещё долго. Рядом с красноборской церковью обновленец благочинный и евдской церкви о[тец] Николай совершали богослужение по-новому стилю и поминали новых обновленческих архиереев, но народ поднял недовольство, когда услышали, что поминают обновленческих митрополитов, стали говорить, что в церкви за коммунистов молятся, но мы поминали епископов старой Церкви. Постепенно все церкви перешли на старый стиль. Но обновленчество ещё не кончилось. Приехал к благочинному обновленцу обновленец архиерей Варсонофий, и, видимо, не рассчитывая на подачу транспорта, он ходил переходом к священникам и по домам. Не старый, высокого роста, в подряснике, опоясанный широким цветным препоясом, посещал запертые на замок церкви. В беседе со священниками старой Церкви он выражал глубокое соболезнование, что закроют церкви, если не примут новой реформы, и задушат налогами. Далее не было посещения обновленческими архиереями. Наступал голод.
В 55-ти верстах от Красноборска, по лесной реке Устья, есть деревни Новошино и Шадрино, до 180-ти дворов с населением до 700 человек жителей. Место лесное — тайга. Сельское хозяйство слабо развито, так как хлеб и картофель часто убивает ранними заморозками. Большинство жителей занимаются охотой на зверя и птицу и сдают кооперации пушнину. Население безграмотное, церкви нет, и за удовлетворением своих духовных нужд обращаются в пермогорскую церковь, путешествуя непролазными болотами и дорогами. В 1920 году окончили постройку небольшой деревянной церкви и просили Великоустюжского епископа Алексия послать священника.
Вызывает меня благочинный и предлагает меня, как дьякона[182], принять сан священника, убеждая меня, что получен указ Св. Синода искать лиц, достойных сана священника, хотя бы даже из крестьян. Но я не мог решиться взять на себя такую ответственную должность — быть пастырем и учителем веры по своей малограмотности, как окончивший четыре класса начальной школы, да к тому же с семьёй в восемь человек забираться в такую лесную глушь и бросить за 17 лет насиженное гнездо.
Согласился на предложение благочинного дьякон красноборской церкви Александр Кичанов. Как кандидат в сан священника, он съездил в будущий свой приход и договорился с будущими прихожанами о материальном своём обеспечении. Семья его — одна жена. Был сын у него, но убит ещё в империалистическую войну. Постановили будущие прихожане согласно требованиям дьякона платить с каждого верующего по 20 фунтов зерна и по два фунта коровьего масла. Кроме того и от церкви доход за требы и поминания.
Такому обеспечению завидовали служители других приходов. Обеспечение гораздо лучше красноборского, где все прихожане — мещане, не наделённые землёй.
Рукоположенный в сан священника, он не требовал для службы псаломщика, каковую должность исполняла матушка-попадья.
В Красноборске, видимо, материальное обеспечение было неудовлетворительно, и дьякон прирабатывал — прикупал во время ярмарок пушнину, шерсть, телячьи опойки, лён и, имея связь с агентами-закупщиками, сдавал им. Приехав на Устью, он всецело предался торговле. Прихожане (охотники) охотно сдавали пушнину на месте, также телячьи опойки и лён, который сеяли на выжженных полянах и он давал хорошие урожаи. Но, не довольствуясь этим, батюшка уезжал за покупкой пушнины в другие районы на целый месяц и более.
Сам о[тец] Александр был трезвенник, но тайно торговал и спиртными напитками, и это не ставилось ему в вину, так как вина тогда в магазинах не было и многие гнали самогон, как было и у нас на Лябле. Во время отлучек о[тца] Александра умирали неисповеданные старики и дети-младенцы от болезней — скарлатины, дифтерии, дизентерии. Но эта вина, падавшая на священника, не остановила его. Успехи наживы по торговле невозвратно увлекли его.
Создалось недовольство тем, что при сдаче зерна он браковал и требовал лучшего, хотя зерно было хорошее. Матушка не принимала масла, считая его кислым, требовала сепарированного. Некультурные лесные устьяки[183] возмутились, вынесли на общем приходском собрании убрать негодного священника и написали прошение Великоустюжскому епископу Алексею и передали благочинному. Ждали решения епископа, но решения не было, предполагали, что благочинный задержал прошение. Подали второе прошение, и опять нет никакого решения. Но, как выяснилось, Владыка не всему верил, что написано в жалобе, полагая, что на священников часто клевещут.
Чтобы убедиться в справедливости возведённой на отца Александра вины, Владыка предписал благочинному собирать всех священников, подведомственных его благочинию, в красноборскую церковь с одним представителем от каждого прихода и всенародно выяснить виновность отца Александра Кичанова. Все девять священников с представителями явились, а устьяков явилось восемь человек, обиженных поведением священника, но сам отец Александр на собрание не явился и не объяснил причины неявки.
Прочитали жалобу прихожан на отца Александра, устьяки принесли вдобавок новые жалобы. Нам не нужен такой жадный поп. Дали ему 60 пудов хлеба, три пуда масла, а за что? Тогда как церковь по неделям и месяцам закрыта, а хороним умерших без священника неотпетыми, покойника ведь не будешь месяц держать, а сколько детей умерло от скарлатины неотпетых. Спросишь матушку, где батюшка, отвечает, что по делам к о[тцу] благочинному уехал. Один их прихожан заявляет: «Я пришёл заказать заупокойную обедню по родителям и спросил, чем платить. Отец Александр сказал, что за обедню один пуд ржи в церковь особо уплатить. Я расстроился и сказал: “Слишком дорого, батя!” Я, не договорившись, пошёл, но батя бежит вдогонку за мной и кричит: “Услышишь звон-то, так приходи”». Что пушнину и лён покупает, так это ладно — нам не надо в Красноборск на ярмарку идти за 50 вёрст, но обидно то, что выменивает за водку и самогон. В Красноборске шесть ярмарок[184] в году, и батя неделю и более уделяет на каждую ярмарку, закупает лён, пушнину, опойки, а потом сдаёт торговым агентам. Строили, радовались церкви, а теперь нет желания в церковь идти, невольно чувствуешь обиду на священника. Просили благочинного послать псаломщика, послали молодого, кончившего духовное училище, но батя не принял, потому что на псаломщика нужно выделить четвёртую часть кружечных доходов — невыгодно! Лучше своя попадья поёт.
Владыка ждёт точного справедливого решения. Все священники поодиночке высказали своё личное мнение, сознаём, что очень глубоко оступился наш собрат и обязан был по вызову благочинного явиться к нам и осознать свою вину, но он не явился и оказал полное неуважение к досточтимому собранию. Запятнал, унизил своё достоинство и также всего священного сана. Такое неблаговидное дело среди священнослужителей разнесётся по всей епархии на соблазн и упадок веры в такое и без того наступившее время безверия. Пусть наш собрат искренне осознает свою вину перед Богом и людьми, а Владыка произнесёт свой архипастырский правильный суд на благо и исправление собрата нашего отца Александра.
Время шло. Была ли какая епитимия отцу Александру, но он всё священствовал на старом месте.
В 1933 году священники нашего благочиния все были арестованы как враги народа.
Священник лябельской церкви отец Иоанн Кубенский[185] овдовел. Матушке сделали операцию горла, кормили её искусственно, и через два месяца она померла. По какой милости волна арестов не коснулась отца Иоанна — не знаю, но знаю, что при вручении анкет некоторые священники записали себя неверующими, оставили свою службу и, видимо, поэтому избежали ареста. Слышим, отец Иоанн совсем спился. Осенью 1933 года он скрылся и месяца два был без вести. Объявился в Котласе заведующим складом Двинского речного пароходства и счетоводом. Он оставил новый свой дом с полной мебельной обстановкой и в подполье 11 пчелосемей. Дом его конфисковали, и дом занял учитель Н. А. Неволин, пчёл взял колхоз, а Неволин был пчеловодом, но дело без опыта с пчёлами не пошло, и пасека ликвидировалась.
Устьяки рады были избавиться от попа, да и сам отец Александр рад был выбраться из лесной глуши и видеть культурный свет и переведён был на Ляблу вместо сбежавшего о[тца] Иоанна Кубенского. Прослужив на Лябле десять месяцев, отец Александр заболел, а квартира его с матушкой была в церковной сторожке, и жили они вместе со сторожем церкви. Отец Александр в сторожке и помер. Некому было отпевать и похоронить. Услыхал о смерти отца Александра старец иеромонах Коряжемского монастыря[186] Никон, он нищенствовал, и он совершил погребение. Схоронили отца Александра в ограде по левую сторону церкви.
В 1939 году до мая месяца я был в заключении. 5 мая 1939 года, вернувшись из заключения, слышу: на Лябле церковь не закрыта, — и ношу в себе мысль, что надо исповедаться и причаститься. Осенью, в октябре месяце, подходя к крыльцу храма, вижу: каменный рундук с лестницей разбит вдребезги при снимании упавшим 400-пудовым колоколом. Вхожу в храм — идёт обедня. В церкви пять градусов холода, в алтаре поставлена железная печка и проведены трубы в большую церковную печь. С потолка каплет на голову, со стен течёт вода.
Матушка покойного отца Александра выполняет должность псаломщика. На следующий день я помог ей — прочитал Апостола, и вместе пели. Священник, маленький старичок, отец Симеон, после обедни вышел из алтаря с озябшими руками, пошёл в свою квартиру — церковную сторожку, и мне с псаломщиков вместе пришлось идти отогреваться. О, убожество! В сторожке штукатурка со стен облезла, стены засижены тараканами и клопами. Вверху сделаны полати.
В это время пришла старушка, видимо, очень религиозная, и принесла небольшое ведро картошки, поклонилась в ноги священнику и сказала: «Прими, батюшка!» Батюшка высыпал картошку в своё ведро и поставил за печку. Матушка сказала: «Ведь мне картошка-то нужна, мне есть нечего». Пришлось батюшке делить картошку — четвёртая часть псаломщику-матушке. Священник брал в руки три картофелины, а матушке — одну. Осталось три картофелины, и матушка заявила, что эти картошки её: «Прошлый раз ты мне две недодал и опять забираешь». Но священник взял себе три картофелины, а матушка заплакала.
У священника нет даже подрясника — ходит в полупальто из солдатской шинели. Старичок, видимо, истощённый.
Поговорили со старостой церкви. Староста говорит: «Не нравится нам священник, да где взять лучшего-то? Замерзаем, дров для церкви не возят, да и не на ком. Лошадей в первую войну[187] взяли, а теперь с Северной войной на Двине[188] — остальных всех. Вот кому нужно обедню, тот обязан сначала принести хотя бы охапку сухих дров. С этой железной печкой испортили позолоту икон и иконостаса.
Вероятно, священника хотели арестовать. Неделю тому назад приходил представитель власти какого-то учреждения для проверки имущества священника и выразил даже сожаление, когда нашёл в корзине краюшку хлеба, несколько варёных картофелин и три селёдки.
Сразу же с Ляблы я поехал в Котлас с целью найти по своей специальности работу или устроиться в садоводстве коммунального треста. Вспомнил об отце Иоанне, с которым служил на Лябле 14 лет, и что он работает в Котласе в конторе Двинского речного пароходства. Встречаю своего знакомого с Ляблы и спрашиваю: «Не знаешь ли квартиры отца Иоанна?» — «А ты разве не встретил его, сейчас мимо тебя прошёл. Да тебе его не узнать, теперь он начисто обрился и изменился». Знакомый мой указал мне квартиру: небольшой домик с двумя окнами по фасаду. На другой день утром я пошёл на свидание и вижу замок на воротах квартиры. Подождав с час времени, пошёл спросить у хозяев соседнего дома, сказали, что сегодня ночью Ивана Кубенского арестовали. Так и не пришлось видеться с отцом Иоанном.
Глава 6
По случаю голода наехали из городов в деревню люди с меной, променивали на хлеб и другие продукты свои ценные вещи — хорошую одежду, мануфактуру, но большей частью ночью, так как члены ЧК и актива следили за тем, кто променивает хлеб, и имели право обыска и отобрания излишков. В Архангельске от голода померло много людей. Наши водники-капитаны, лоцманы, баржевые наменяли за хлеб ценных вещей. За пуд муки можно было выменять дорогую шубу на лисьем меху, за фунт масла — кровать или гардероб.
С приездом интервентов в Архангельске[189] всё изменилось. В магазинах появились всевозможные товары и продукты питания. Мобилизация в армию населения и наступления в разных направлениях. Весь северодвинский речной флот включён в войну на Двине. Все наши водники на Северо-Двинском фронте. Вся Двина дымит пароходами. Не стал рейсировать броненосец «Светлана»[190].
Ходили ложные слухи о быстром продвижении интервентов по Двине, о возможности взятия Котласа. Каждый зажиточный крестьянин беспокоился о сохранении своего имущества, скота. Делали тайные хранилища в земле на случай прихода интервентов.
Пароходами интервентов не остановили, без брони пароходы не выдерживали простых пуль и в открытый бой непригодны. К зиме интервенты закрепились вблизи станции Борок. Мобилизовано всё население и лошади в перевозке для фронта боеприпасов, колючей проволоки, обмундирования. Лошади не имели отдыха ни на час. Прекратились все домашние на лошадях работы, и не на чем было привезти дров себе для отопления.
В Ляхове, на моей родине, началась копка окопов по обе стороны Двины, окопы в два ряда, и два ряда колючей проволоки. На рытьё окопов мобилизовали всех бывших купцов, хотя и престарелых, лишенцев, кулаков. В Красноборск пришло два полка красных войск, разместились по деревням района. В доме священника поместили восемь человек офицеров[191], у меня 12 армейцев, и так до марта месяца. К церкви на поле навозили на лошадях обувь, горы колючей проволоки и делали перегрузку на других лошадей. Служба в церкви шла обычно. Офицеры заходили в церковь и радушно со мной разговаривали, осмотрели мои рукописные ноты, двое из них были певчие. У священника они помещались в отдельной комнате, и пришлось их отоплять, но что сделаешь — война! А нам пришлось мучиться вместе с бойцами в одной избе. Бойцы подстилали под себя на полу бурку из шерсти и спали на полу, окутавшись шинелями. Кухня у них была рядом с моим домом — кипяток всегда готов.
Ко всем ужасам и тяготам войны пришло ещё страшное горе — появился среди армейцев «сыпной тиф». Болезнь заразная и опасная. Она быстро распространилась среди армейцев и населения, вероятно, способствовали эпидемии теснота и скученность людей и потому, что у армейцев было много вшей. Хотя мылись армейцы в незанятых деревенских банях, но, видимо, этого было недостаточно для избавления от эпидемии. Начали болеть целыми семьями, и болезнь уносила в могилу людей в цвете лет — самого лучшего возраста. В Пермогорье у сестры моей жены переболела вся семья от тифа и померла свекровь её и 18-летняя дочь. Умер от тифа главный врач Красноборской больницы Пётр Николаевич Попов, сын священника красноборской церкви. Отцу протоиерею хотелось совершить погребение по церковным правилам, но не разрешили (от кого могло быть запрещение), и пришлось панихиды и отпевание совершать в церкви заочно. Весть о похоронах разнеслась по деревням. Народу на похоронах собралось так много, что едва вмещала главная улица. Шествие началось от здания больницы. По главное улице стройно шли за гробом ученики школы, медицинский служебный персонал, воинская часть, гроб под балдахином, массой пели: «Вы жертвою пали в борьбе роковой, в любви беззаветной к народу»[192] и т. д. Надгробную похвальную речь говорил один из учителей, а после него было говорено несколько кратких похвальных слов.
В марте белые, видимо, начали наступать на станцию Борок, била артиллерия. Полк, который размещался в нашем приходе, ушёл на фронт, остался один отряд чекистов под начальством Хаджи-Мурата[193]. По сведениям, Мурат занимался реквизицией имущества больших торговцев и объехал всю Двину. Он с отрядом из десяти человек квартировал зимой в доме нашего прихожанина в полуверсте от церкви. У него был склад привезённого имущества в большом хозяйском амбаре. В складе были ценные вещи: одежда, мануфактура, комоды, гардеробы, зеркала. Бойцы его, черноусые здоровенные молодцы, и такие же при них солидные красавицы-дамы. Страшно было подходить к дому хозяина, в котором они квартировали.
Но удивились мы, когда в Пасху после пропетия пасхальных стихир и «Христос воскресе» сам начальник Хаджи-Мурат, раненый, на двух костылях, подошёл и приложился ко кресту и поздравил нас с праздником, а потом подошли все бойцы его и дамы.
Весной, в конце марта, после боёв под ст[анцией] Борок целый полк белых добровольно перешёл на сторону красных. Полк был направлен на Котлас. И вот тянулись белые вояки целыми ротами и полуротами по нашей трактовой дороге: весёлые, хорошо одетые и обутые.
Время шло, и разруха и голод росли. А тут ещё вспыхнула эпидемия лихорадки (малярии), очень жестокая, и существовала по три года кряду. Я болел по два[194] года, начиная с весны и до окончания лета. Забирала регулярно через сутки. Сначала начинается, а потом усиливается озноб до такой степени, что стучу зубами, весь озяб как во льду, лезу на горячую печку под тулуп и трясусь от холода. Через два часа начинается такой жар в теле, что рад бы ринуться в снег или в холод, и появляется нестерпимая жажда, но врачами строго запрещено пить. Прописывают для облегчения хину, но её в больнице так мало, что дают по одной таблетке, п[отому] ч[то] весь район болеет. Видимо, хиной спекулируют. За одну таблетку платят фунт коровьего масла.
Придумали люди против малярии много домашних средств. Первое средство: нужно сильно испугать человека. Второе средство: нужно срубить ёлку или соску и тащить по земле за вершину в задор сучьями, и если встречный человек спросит, почему тянешь за вершину, тогда больной бросает ёлку и быстро бросается наутёк, а лихорадка переходит на встречного человека. Но этот способ разгадали и стали молча проходить при встрече с ёлками, боясь, чтобы лихорадка не перешла на него. Третий способ: набрать воды в рот и идти до Красноборска, отворачиваясь от встречных и неся с собой битую корчагу или горшок, и если спросят, зачем и куда несёшь горшок, его нужно разбить (да он и так битый).
Под горой прямо лябельской церкви из горы течёт маленький ключик, зимой намерзает много льда. За этим льдом приходили из соседних приходов и шли молча, отворачиваясь от встречных, поили больных после нашёптывания этой водой. Медицина считала главными возбудителями эпидемии особых заразных комаров. Обследовали подполья у населения, и почти у всех в щелях под полом скрывались комары, но неизвестно, заразные или нет. Такое тяжёлое заболевание вспыхивало по два года, а на третий год было слабее.
Время шло. С сокращением лошадей обработка пашни и другие хозяйственные работы неимоверно вздорожали. Пахать не только пашню, но и огород пришлось обрабатывать своими руками и запрягаться в соху по несколько человек. Некоторые прихожане, видя, как в других областях приучают к пашне бычков и тёлок, стали приучать к пашне и бороньбе своих коров и этим выходили из создавшегося положения. Я свой огород вскапывал своими руками.
Брат мой Вася кончил четыре класса духовной семинарии, поступил на работу в Черевковский райисполком на должность плановика и начала строить из материала старого дома в Ляхове себе избу.
С 1922 года жизнь стала улучшаться. Не стал рейсировать по Двине крейсер «Светлана». Стали появляться в магазинах товары, и стали появляться прежние торговцы, хотя с небольшим ассортиментом товаров. В Красноборске открылся большой каменный магазин устюжских купцов Дербенёвых. Даже на удивление всем дело пошло на улучшение сельского хозяйства. Обложение налогами снижено, обложение коров молоком не обязательно, а для желающих сдавать за установленную удовлетворительную цену. Разрешено держать скот без ограничений. На рынке в Красноборске появились в продаже коровье масло, мясо, яйца, шерсть — и всё свободно, без запрета. Вышел указ правительства о разделении крестьянских земель на хутора. На Лябле некоторые хозяйства вышли на хутора, им нарезали землю в одном участке и оградили её столбами, так же вырезали сенокос. Нашу церковную пахотную землю в старых границах оградили столбами, так же и на лугу сенокос. Но такая операция так дорого оплачивалась, что не выдержит среднее крестьянское хозяйство.
При улучшении жизни появились новые стремления по восстановлению и ведению сельского хозяйства. И мне неизбежно пришлось приобретать лошадь для обработки своего земельного участка. Лошади были очень дорогие, и можно было купить только на хлеб, а не на деньги. Прицениваюсь и вижу, что за рабочую крестьянскую лошадь, немолодую, нужно платить пудов 40 хлеба зерном ржи, а за молодую лошадь 60 пудов.
Не имея никакого опыта по этому делу и не посоветовавшись с кем-либо опытным, я договорился со своим прихожанином купить у него коня, за которого он просит 40 пудов ржи. Конь маленький и немолодой, но для моего хозяйства и этот хорош, в извоз мне не ездить. Договорились, помолились на церковь Богу, как водится по обычаю, и хозяин лошади, взяв заднюю левую ногу, сказал: «Вот смотри, выше копыта под щёткой небольшой нарост, разделившийся надвое». Я не придал этому никакого значения, и он далее ничего не объяснял.
На следующий день я поехал за сеном за Двину. На обратном пути с сеном попадает мне навстречу обоз, лошадей шесть. Мне пришлось сворачивать в сторону в глубокий снег, но лошадь моя, маленькая и малосильная, не могла своротить, и ехавшие с обозом мужики насильно завели мою лошадь в сторону и отодвинули мой воз с дороги. Проехали и не помогли мне выбраться из стороны. Так и застрял я с возом и лошадью в глубоком снегу. Пришлось выпрягать и вытаскивать лошадь из снега на дорогу, а проезжающие помогли вытащить воз и запрячь.
Тут у меня появилось сомнение в том, что я сделал большую ошибку — купил такого малосильного коня. О покупке лошади узнали все прихожане и говорят: «Зачем купил ты хромую и бессильную лошадь, у ней мокрец — она только обмочит весной заднюю ногу и будет хромая». Я обеспокоился, поехал в Красноборск к ветеринару, и он сказал, что эту лошадь я знаю, я лечу её летом, у неё мокрец левой задней ноги. Советую тебе отвести лошадь обратно, если хлеб за неё не уплачен. И прихожане из его деревни приходили и сожалели о моей ошибке, советовали отвести лошадь: «Через две недели будет Крещенская ярмарка, нагонят лошадей из Вятки и других мест, тогда за сорок пудов дадут тебе лучшего коня-рысака, а этот конь и двадцати пудов не стоит».
Поразило меня горе, но сам виноват — поторопился, не подумал. Как решиться отвести лошадь, ведь мы обоюдно согласились и привели в свидетели Бога, оба помолились Богу на церковь, пожелали счастливо работать, и хозяин по совести не скрыл — не утаил болезни лошади. Отвёл я лошадь обратно, не зная, куда деваться со стыда, думая, что меня обругают или поступят со мной ещё хуже, но хозяин и виду не показал, что оскорблён, а скала, что продаст лошадь на Крещенской ярмарке. Не знаю, как он переживал обиду от меня, а я потерял покой совести, и тем более что прихожанин этот почитатель Церкви, и поэтому приходится часто с требами бывать в его доме и терпеть упрёки своей совести.
Наступила Крещенская ярмарка в Красноборске. Нагнали со всех сторон лошадей разного сорта — молодых и старых, рысаков. Привёл хозяин и отведённую мною лошадь, и она выглядит среди лошадей, как маленький цыплёнок. Я попросил своего прихожанина, знатока лошадей, выбрать мне рабочую лошадь. Приценились. Есть за 30, 40 и 60 пудов. Облюбовали рыжего молодого коня у приезжего с Пучуги за 40 пудов. Запрягли, поехали, все сторонние смотрели, что конь в беге хорош и обученный. Я согласился платить 40 пудов ржи. Помолились Богу и поехали за хлебом, свесили, пожелали счастья друг другу. Поехал за сеном, вижу, что конь обученный, смирный — какого я желал. А отведённого мною коня хозяин не мог сбыть на ярмарке, продал дома за 18 пудов. Все переживания с конями улеглись. Хорош конь в работе. Сам я сделал хорошую четырёхколёсную телегу, в Красноборск не надо ходить пешком.
На следующий год, в начале зимы, когда замёрзла река Двина, поехали мы с соседом за Двину за сеном ранним утром, чтобы в короткий осенний день засветло управиться. Переезжая за Двину, встретили обоз, и нам нужно было своротить в сторону, но увернуть мешают по обе стороны торосы льда. Лошадь соседа, ехавшего впереди, зацепила за гуж лошадь обоза и прёт её на мою лошадь, некуда деться, и моя лошадь оказалась всеми ногами в санях соседа, а в санях был воткнут топор, и топором перерезало левую ногу моего коня. Чиркнули спичку и видим: из ноги льёт кровь. Что делать? Перевязали тем, что было под руками, и я поехал домой, обливая дорогу кровью шесть километров.
Конь чуть двигался на трёх ногах и у самого двора упал, а кровь всё льёт. Я, не медля ни минуты, взял лошадь в деревне и быстро привёз ветеринара. Рыжко стонет, жутко слушать. Распрягли, и ветеринар обнаружил: перерезано ахиллово сухожилие, положение безнадёжное — нужно не мучить лошадь, а пристрелить. Как тяжело было смотреть такую картину! Но мы не решились на эту меру.
Ветеринар предложил: «Давайте попробуем лечить, всё же будете питать какую-нибудь надежду». С помощью соседей перетащили коня во двор, и ветеринар, зная свою практику, принялся коня подвешивать. Нашли большой парус, в потолке двора просверлили дыры, подвели парус под живот коня, концы паруса прикрепили к потолку, конь оказался подвешенным — задние ноги не касались земли. Ветеринар сшил сухожилие (с три пальца ширины), зашил рану, забинтовал и так через трое суток ездил на перевязку. Ужасно распухла нога, при каждой перевязке много гноя — страшно смотреть. Начал конь быстро худеть, так что через два месяца выглядели одни кости. Опухоль стала уменьшаться, а зашитая рана стала увеличиваться, как раскрытый рот. Но врач говорит, что так и следует быть. Делали прижигание раны ляписом.
С января до мая прошло четыре месяца, стало казаться с виду, что на ногу можно приступать. Ветеринар попробовал вывести коня на улицу, но через порог нога не сгибается, сняли порог и поводили исхудалого коня по улице. Подкармливали овсом, и стал конь постепенно приходить в прежний вид, но нога толстая и шрам на ноге большой. Перестал посещать ветеринар. Не утерпел я и запряг Рыжка в соху, и только поехал первую борозду, как из рубца засочилась кровь. Побежал к ветеринару, он успокоил меня, дал ляпису, велел обводить вокруг раны и не велел беспокоить коня, пока не снимет шва с раны. Так и не пришлось пахать на коне до посева ржи. В течение лета конь принял прежний упитанный вид, но нога и рубец раны утолщённые. На следующее лето конь пахал хорошо. Писать хорошо, а как трудно пережить это.
Моя мать, великомученица, стала очень слаба и ни к чему неспособная. Теперь она не пропускала ни одной церковной службы, даже будничной. О Васе вся её забота и молитва. На женитьбу она смотрела, как на несчастье, и всё её желание было, чтобы Вася не женился по пословице: «Одна голова не будет бедна». Особенная её забота была и обо мне, чтобы я, часто бывая на обедах и свадьбах, не попробовал вина: «Не бери в рот это зелье». Также и Васе был от неё строгий наказ.
Духовное училище не привнесло ему каких-либо вредных привычек, ещё несовершеннолетнему, и мама от радости в нём души не чаяла. Но в духовной семинарии у Васи стал другой кругозор и взгляд на соприкасающиеся вещи, и мамины наказы стали казаться суеверными предрассудками. Появилась у Васи страсть к картёжной игре. Кончив четыре класса духовной семинарии, он стал выглядеть культурным и тактичным человеком. Поступил на работу в Черевковский райисполком на должность плановика.
Жизнь вдали от матери-старухи ничем не стесняла его, а на квартире жил у молодой вдовы. Вот она и воспользовалась случаем заманить его в свои сети. Стала варить пиво и бражку, чем и ранее занималась, и попал Вася в сети — сделался её сожителем и неисправимым алкоголиком и не сознавал своей погибели.
Прихожу я к брату на квартиру, и он предлагает с ним пообедать. Накрошил в чашу хлеба, вылил бутылку водки и выхлебал всё содержимое, и в таком виде пошёл на работу. Не помогли слёзные молитвы матери. Из Черевкова переехал он в г[ород] Кемь на должность бухгалтера и там дошёл до худшего состояния. Пишет мне и моей супруге: «Помолитесь Богу обо мне, чувствую, что погибаю от вина, но нет воли победить себя». Забыл и мать, и её золотые слова: не бери в рот вина. Весь бухгалтерский коллектив были пьяницы. Справляли вином праздники, советские и церковные.
Случилось это в 1942 году, 7 апреля, в день Благовещения Пресвятой Богородицы. Справляя праздник, все перепились и пошли по домам. Зона запретная — строились военные корабли, и все имели пропуски для прохода по запретной зоне. Молодой часовой, первый раз на посту, увидав пьяного брата, не обратившего внимания на оклик «Стой!» или не услышавшего, застрелил его. Так кончилась молодая жизнь моего дорогого брата Васи на 41-м году жизни.
Глава 7
Весной 1923 года в Красноборске, проходя мимо дома купца П. А. Толубенского, я увидел через ограду три домика-улья, пчёлы кучно вылетали и прилетали в домик с гулом. Я такое увидал в первый раз, и как раз в этот момент из калитки вышел мальчик, я с его разрешения зашёл в калитку, и он привёл меня в беседку, и сидим с ним, смотрим на пчёл.
В это время вышел из дома сам Павел Александрович и с негодованием спросил: «Вам кто разрешил войти сюда? Это ведь не Господи помилуй!» Я извинился и сказал, что увлёкся такой картиной. Я никогда не видел пчёл. Я вышел за калитку, и П. А. запер на задвижку калитку. Я ушёл обиженный нетактичностью и грубостью богатого человека, да к тому же он знал меня как дьякона и мне случалось в их церкви служить. Вероятно, он боялся конкуренции, чтобы кто-нибудь не вздумал заняться пчеловодством, кроме него.
Появилась у меня неотвязная мысль — научиться пчеловодству и самому иметь пчёл. В Красноборске у одного учителя был один улей, но он за ним сам не ухаживал, так как летом был в отлучке, а уход поручил агроному, который был мне знаком. Агроном охотно разрешил мне вместе с ним делать осмотр улья, и я с Ляблы приходил в назначенный день. Тут я окончательно увлёкся этой благородной работой с пчёлами, и хотя дело громоздкое, но я, как сам столяр, без труда сделаю весь пчеловодный инвентарь.
На нашем семейном совете мы к согласию не пришли, так как дело для всех тёмное, неизвестное, никто из населения района пчёл никогда не имел. Жена против — средств нет на покупку пчёл, а пчёлы дорогие — 45 рублей улей, и корова — 40–45 рублей. И купить лучше два улья, на случай неудачи хоть один улей останется. Без коровы остаться нельзя — семья, дети. Где найти выход? Где найти 90 рублей?
Я рискнул продать своё хорошее зимнее пальто за 35 рублей, да у Маруси хорошие ботинки за семь рублей. Об остальной сумме пока думать отложили. Поехал я к пчеловоду Прокопию Подсекину в Комарицу, у него пасека 32 улья, он согласился продать на тех условиях, если я сделаю ему шесть ульев по три рубля из своего материала, а для меня такие условия выполнимы, и договорённость состоялась с внесением 25-ти рублей задатка.
Тут пошла молва, что псаломщик распродал свои пожитки и одежду на покупку мух, от которых никто не разбогател. С наступлением весны, во время половодья, я увёз два улья домой и поставил в своём огороде. Какая была радость, когда пчёлы в первый ясный день, освобождённые от закупорки, пошли на облёт. Сделанные мною ульи сын пчеловода погрузил в лодку и увёз домой на пасеку в Комарицу.
Пчёлы куплены, но нет пчеловодного инвентаря: вощины, дымаря, маточных клеточек, катков для наващивания рамок и проволоки. Все эти вещи имеются в продаже только в городе Устюге. Оставив вместо себя заместителя по службе и следить за пчёлами, я отправился в Устюг. Приехал накануне праздника Вознесения Господня в день отдания праздника Пасхи, когда служба вся пасхальная, звон праздничный. Я накупал всё нужное и в ожидании парохода сел у пристани к кипящему кубу с водой для пассажиров и занялся чаепитием.
Пассажиров ещё не было. Подходит ко мне человек лет 25–30-ти, изящно одетый, здоровый, но на левой скуле большой шрам, можно палец в него положить. Я подумал, что на войне ранен был. Увидев у меня в раскрытом коробе пчеловодные вещи, он догадался, что я пчеловод. Из его слов я вижу, что он человек развитый и говорит увлекательно. Он отрекомендовался жителем Устюга, а дедушка у него на другой стороне Сухоны, в двух верстах от Устюга, тоже пчеловод. Я был очень рад собеседнику, а он из ласкательной беседы узнал от меня, что я служу в церкви и у меня ещё первые шаги по пчеловодству. Поговорили по душам, и он ушёл, вежливо попрощавшись, а я пожалел, что кончилась наша беседа.
Не прошло десяти минут, и он является снова и объявил, что он агент по приёму и продаже реквизированных вещей у богатого населения, и вещи продаются с аукциона за бесценок. Пальто, сапоги, а поповские рясы и подрясники почти даром отдаём. У меня мелькнула мысль: купить бы что-нибудь детям для перешивания — ведь у них одежды не лишка. Сапоги новые и бродни[195] отдаёт за пять рублей. Я, говорит, пришёл сказать тебе, чтобы вы воспользовались этим случаем. Времени в запасе целый час. Я с полной верой в этого красноречивого человека решил идти с ним.
Он повёл меня не по улице и объяснил мне, что вот этим мостом, через склады брёвен и дров, очень близко и сюда пойдём. Дошли в тупик до ограды, в которой три доски удалены, перелезли в эту дыру, и он привёл меня к сидящему молодому человеку, одетому в костюм дорогого сукна защитного цвета, такая же фуражка и дорогие сапоги. И человек этот держит игральные карты. Путеводитель мой с суровостью спросил: «Ты откуда тут взялся?» — «Я взялся! Я из Вятки приехал, новую игру привёз, давай сыграем!» Взглянув на меня, мой путеводитель сказал: «А что, разве сыграть?» А меня беспокоит то, что пароход отойдёт и я останусь на сутки, и никак не догадался, в какую угрожающую жизни беду я попал.
Путеводитель мой сделался совершенно другой: изменился в лице, жесты стали быстрее. Взял карты, перетасовал, положил ему на колено, из левого рукава своего костюма вытряс большую бумажную купюру, и сидящий такую же. Поднял карту и выиграл.
А я потерял терпение и рад был уйти обратно на пристань. Перетасовали карты и снова поставили уже по две монеты, и путеводитель просит меня: «Вот что, друг, подними ты за меня карту. Я сбоку посмотрю. Я сомневаюсь в нём — он шулер». Я сказал, что сроду не держал карт в руке и никогда не намерен брать их. И он уже не просительно, а принудительно, с грубостью, сказал: «Да ты человек ли есть-то? Чего боишься-то?»
Только сейчас я понял, что надо убегать. Я сделал быстрый шаг прочь, он схватил меня за воротник плаща, ударив по моему коробу, который был на спине, короб был обмотан кушаком, и я держал его через плечо крепко рукой. Рука его непрочно захватила воротник, и я сколько есть силы бежал с криком и слезами. Только схвати меня или же подставь ногу, я бы упал. Свидетель один, подросток, перекладывает упавшую поленницу и слышит мой неистовый крик. Место открытое. На самом берегу Сухоны церковь, и я спешу к калитке, и, к счастью, калитка не заперта. Я увернул из калитки в сторону пристани и без сознания нёсся вихрем возле ограды до самой пристани. Только слышал последние слова «а ты», «а ты» и матерщину. Сухона была в полном разливе, берег отвесный, как стена, и я бежал возле реки и ограды по площади не шире одного метра.
На пристани уже много пассажиров. Я без сознания обращаюсь к каждому, что меня чуть не убили. Это дело милиции, иди к Земляному мосту, и указали куда идти. Побежал и вижу: у моста стоит будка и милиционер. Я, всё ещё волнуясь, рассказал милиционеру. Он быстро поднялся вверх по лестнице, снова прибежал, спросил, в каком месте произошло. — «Теперь не уйдут, наши сейчас уже там. Счастлив ты, сбросили бы тебя в Сухону. Уже сколько таких произведено ограблений и убийств».
Уезжая в Устюг, я велел в случае жаркой погоды днём снять с ульев верхние подушки и раздвинуть пошире летки, но мой наказ жена и шурин забыли. День выпал жаркий, в улье поднялась высокая температура, соты растаяли, пчёлы укатались в меду и воске и погибли. Один улей уцелел, так как был не сильный.
Приезжаю домой, открывает дверь плачущая жена, не смея объявить постигшего горя. Я бросился к улью, и при открывании верхних подушек бросился из улья горячий пар. Сложил в ведро мёртвых пчёл и закопал в землю. Ох, тяжела эта рана была для нас. Ведь мы поставили на карту последнее, что имели.
Следующая неделя, воскресенье девятое после Пасхи, была ярмарка в Красноборске. Она называлась «Девятая»[196]. После обедни я пошёл посмотреть на ярмарку. Множество народа, приезжих торговцев в разбитых временных палатках, местные товары: горшки, деревянная посуда, чугуны, лемехи к сохам, бороны. В середине рыночной площади поставлена карусель, и возле неё и кругом столько народа, что через это кольцо не протискаешься. А привлекает больше всего к карусели мальчик лет шести-семи. Он выучен делать такие номера, какие может делать самый опытный клоун или артист. Сядет покататься какая-нибудь деревенская девушка, а он начнёт ей предлагать такие любовные комплименты, что никто не может удержаться от смеха, вся публика хохочет. Все женщины и даже старухи, услышав такую новость, говорят, что идти нужно парня посмотреть.
А вокруг карусельной публики всё время ходят два солидных молодых человека в изящной дорогой одежде, с красивыми тросточками в руках. По походке, по осанке я предположил, что это какие-нибудь с высшим образованием люди: инженеры, геологи, посещающие наш край. Один из «инженеров» запустил руку в карман молодому человеку, вынул и стал передавать кошелёк своему товарищу «инженеру». Но их обоих схватили, и завязалась смертельная драка. Хотя «инженеров» двое, но они тростями защищались, одного смяли, а другой с деньгами убежал, хотя гнались за ним, но он послал в догонщиков кол, сам перепрыгнул через забор и скрылся. Многим досталось от этих «инженеров».
Задержанного били кому не лень. Бабы кричат: «Да убейте вы его, разбойника!» Сбежалась вся публика, а человек лежит окровавленный, из зубов и ушей течёт кровь. Пришёл милиционер и запретил бить его. Пришёл второй милиционер. Вдвоём подняли под мышки с земли, сняли костюм, осмотрели, ничего в карманах не нашли, обратили внимание милиционеры и вся публика на широкий серебряный пояс, к которому приделаны кармашки и цепочка, как серебряные. Милиционер потянул цепочку, а она уходила в правый карман брюк и поддалась с усилием, и наконец вытащил из кармана отточенный на три грани нож сантиметров 30-ти длиной. Более ничего не нашли. Взяли трость с ручкой, как у зонта, развинтили её и вынули такой же трёхгранный нож, к которому прикреплена ручка. С ужасом и удивлением смотрел я, а также и публика. Потащили его, идти он не мог, и положили куда следует.
Я никогда не позабуду этого зрелища с «инженерами». Если бы в Устюге я не устоял, подчинился просьбе своего путеводителя — поднял карту, то что бы могло быть. Ведь он и деньги вытряс из левого рукава, и карты тасовал левой рукой, оберегая правую. Могло быть в правой какое-то оружие, а сидящий с картами мог бы схватить мои руки и зажать мне рот. Последние их звуки «а ты», «а ты», «а ты» и матерщина ясно говорят, что они оба оплошали — не могли взять меня, когда я был полностью в их руках. Видимо, Бог сохранил меня от этих злодеев ради моих малых детей.
Остался один улей, жаль погибшего улья, хожу, как в тумане, печаль заедает, даже посторонние замечают. Улей в силе, скоро должен быть рой. Рой вышел, привился на сосенку, приставленную ранее в ожидании роя. Вечером посадил в новый улей. Около Петрова дня начался медосбор. Пчёлы залили мёдом гнездовые рамки, пришлось поставить сверху ящики (магазины) с рамками. Рой хорошо работает, к осени должен укрепиться и будет годен для зимовки. Через шесть дней после поставки магазина улей был полон мёда. Откачали, оказалось 25 фунтов — десять килограмм. За время медосбора качали пять раз, получили 35 килограмм мёда. Не поверили бы ранее, что пчёлы могут дать столько дохода. С одного улья получен рой — 25 рублей, 35 килограмм мёда по 50 копеек килограмм — на 17 рублей 50 копеек плюс 25 рублей, всего 42 рубля[197] дохода с одного улья.
Теперь все мысли мои были направлены на увеличение пасеки. В 1924 году осенью, в день праздника урожая, была районная ярмарка и выставка сельского хозяйства и районных изделий. Меня и ещё из соседнего прихода крестьянина Александра Максимовича Шадрина, имеющего один улей, обязали организовать отдел пчеловодства в здании школы.
Я привёз улей своей работы, медогонку, по стенам развесили гербарий цветов. Такая редкость для населения, как пчеловодство, привлекает всех. Агроном сам впускал в помещение по десять человек. Я как мог объяснял о пчеловодстве, также и Александр Шадрин. Тут вдруг разнеслась тревога: на рынке горит!
Народ побежал на рыночную площадь, а там книги жгут. Наложена огромная куча книг, а сверху соха. Как это люди могли равнодушно смотреть на такую картину, не жалеют такой ценности. Хотя книги и духовно-нравственного содержания, но зачем их уничтожать? А соха столько лет была помощницей-кормилицей мужика. Таков был дух общества того времени.
За проведение выставки пчеловодства нам, как пионерам пчеловодства, дали премию — медогонку ценою 30 рублей. Я свою часть сдал Шадрину, получив с него 15 рублей.
В 1928 году церковный сенокос отобрали в пахотную землю, оставили занять яровое и рожь для будущего 1930 года. Но это заранее было предусмотрено активом бедноты, чтобы отобрать у нас урожай после обмолота. И мы без всякого подозрения, что над нами учинено такое коварство, что обрабатываем чужой урожай, наняли пахаря, вложили семена, наняли молотить, затратив средства для обработки чужого урожая. Без всякого подозрения ссыпали зерно своему работнику в амбар — 65 пудов. В 1929 году, переехав на родину в Ляхово, получили извещение, что хлеб увезли в сельсовет. Какое убийственное горе напало на нас — остаться без куска хлеба в самое голодное время.
Глава 8
Что сулило нам будущее, никто не знал. А приближалось время грозное. Начались диспуты на религиозные темы. В Красноборске организовался «Союз воинствующих безбожников», печатались плакаты «Воинствующая церковь». Слышим: начались аресты торговцев и богатых мужиков.
Опять собрания всех граждан по обложению коров молоконалогами по 25 пудов с коровы, а с лишенцев — 60 пудов. Кто на собрании публично высказался против, были арестованы и отбыли по одному году заключения.
Псаломщический церковный дом отобрали под школьную ночлежку. Мне было дано 24 часа сроку на выселение. Поместился в ближайшей деревне, перегнал корову и перевёз три улья пчёл в подпол новой квартиры. Зимовка для пчёл хорошая.
Слышно, что в Архангельске сильный голод, люди поехали из Архангельска и других городов променивать на хлеб вещи из одежды и прочего. Теперь положение моё при церкви при непосильном пятитысячном налоге грозило мне, что опишут все мои пожитки и продадут с аукциона. Я с горечью решил оставить свою церковную службу и переехать на родину в выстроенный братом дом. Я рассчитывал, что, освободясь от церковной службы, буду освобождён от налога или хоть часть его скинется, но ошибся — нисколько не скинули.
Прежде чем переселиться на родину, я сходил спросить согласия соседей на мой переезд. Собрались все соседи, я рассказал про своё тяжёлое положение, что мне некуда деться с семьёй восемь человек и я хочу вернуться в свою родную деревню, на своё родное пепелище. Бригадир: «Кто за то, чтобы Карпов переехал к нам в деревню, поднимите руки». Никто не поднял руки. — «Кто против?» — Все подняли руки. Слышу такой разговор: не захотел работать топором в деревне, уехал на сладкие пироги в церковь махать кадилом. Горько было выслушать такие упрёки.
Другого выхода из положения не было. Вот тут-то, видя моё безвыходное положение, и стали посещать меня учитель местной школы и снявший с себя сам дьякона на диспуте в Красноборске Дмитрий Чецкий, советовать мне принести раскаяние — скинуть с себя сан дьякона, и тогда скинется налог, устроят на работу, и дети будут приняты в школу на дальнейшее образование. Не лежало сердце стать на такую дорогу. Подумали с супругой, поплакали, но совесть твёрдо говорила, что ведь это Иудино предательство и есть — нарушить присягу, данную пред Крестом и Евангелием при рукоположении, и быть таким же Иудой, как Дмитрий Чецкий! Нет, уж лучше поедем на родину против желания соседей в недостроенный дом брата.
Пчёл весной пришлось выставить на заполье в лес и нанять караульщика, так как в деревне нет места.
Вручили анкету с вопросами об отношении к религии, власти, семейно-имущественное положение, происхождение и прочее.
Пчёлы благополучно перезимовали, отроились и дали два роя и по два пуда мёда. Сенокос отобрали, а пахотную землю разрешили засеять (здесь имелось в виду отобрать у меня урожай хлеба, и отобрали). Пришлось, как цыгану, просить по дворам по клочку сена для своей коровы. Я соседям в Ляхове на родине не объявил, что у меня есть пять ульев пчёл из боязни, что они не примут на родину (всё равно не приняли). Налог наложен непосильный — 5000 рублей. В дальнейшем описании видно будет дальнейшее наше положение. В 1928 году, в июне месяце, я один, без семьи переехал на родину с пятью ульями пчёл, поселился у соседа, пчёл поставил напротив своего дома в косогоре у ручья, у своего старого овина. Ручей весь втугую был забит строевым лесом, так как во время весны вся Двина была запружена строевым лесом.
Под караулку пасеки я занял свой старый овин, прорезал окно, острогал стены, спал ночью и в то же время следил за ульями. Прихожу к ульям, а тут лежат огромные комья сухой глины, и у одного улья проломлена крыша. Видимо, глина летела с горы, и злоумышленники хотели сшибить с колышков ульи. Это огорчило и насторожило меня. Пришлось в овине ночевать и караулить ульи.
На следующий день пошёл я в сельсовет и вижу на заборе большой плакат: нарисован дьякон в голубой рясе с кадилом в руке и большими буквами написано: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Деревни Звягинской Ляховского сельсовета Карпов Иван Степанович не захотел заняться честным трудом — работать топором, уехал в церковь на сладкие пироги махать кадилом. Но в минуту трудную вспомнил и о деревне и просит наделить его с семьёй землёй. Граждане! Не поддавайтесь на удочку дармоеда, не наделяйте его землёй! Аминь! Актив».
Такой же плакат обо мне висит в киоске на стене сельсовета. Рядом с моим плакатом нарисована небольшая избушка с двумя окнами по фасаду и одно окно сбоку. Просверлено отверстие над окном, и из отверстия идёт дым. Внизу под рисунком написано: «Доколе Андриан с Натальей в тенетах и грязи роются, когда же у них на трутня паука-попа глаза откроются?» Священника протоиерея Леонида Тарабукина[198] никто не решается принять к себе на квартиру, но его принял самый беднейший в сельсовете Андриан Кондратьевич Гашов. Как его ни журили, как ни клеймили, он ни на что не обращает внимания. О[тец] Леонид беспрерывно курит, и для выхода табачного дыма сверх окна просверлена вентиляция.
Поступил указ правительства, чтобы все имели прописку по месту жительства[199], но нас не прописывают. Как убедительно, чуть ни со слезами в сельсовете ни просили о[тец] Леонид и я также о прописке, но председатель с гордостью и иронией сказал: «А знаете, как нас за это взгреют!»
Колхоз «Звягинец» переживал первые дни, не было скотных дворов, скот был размещён по крестьянским хозяйствам. Рядом с домом соседа, где была моя временная квартира, у него в скотном дворе стояло пять колхозных коров местной породы и бык-производитель холмогорской породы, смертельно израненный медведем. Раны глубокие — до костей. Ветеринар лечит уже две недели, но по всему видно, что их в год не залечить. Две недели тому назад медведь напал на стадо, изранил несколько коров, но бык сразился с медведем, и хотя жив, но раны смертельные.
На третий день по приезде было объявлено всему населению, чтобы весь колхозный скот был приведён на площадь сельсовета для осмотра приехавшим из области инструктором животноводства т[оварищем] Верещагиным. Предусмотрено правительством, чтобы в колхозах, совхозах, коммунах скот был улучшенной, холмогорской породы[200], для чего нужны племенные, холмогорские быки-производители, а не местные. Приехавший инструктор Александр Фёдорович Верещагин с агрономом В. Семериковым и секретарём сельсовета пришли посмотреть во двор соседа израненного быка-производителя. Признали безнадёжность лечения.
Шли они через ручей и увидали мою пасеку. Я пригласил к себе таких солидных гостей и рассказал им о своём бедственном положении и как жестоко меня обижают соседние ребята-комсомольцы: проломили крышу улья, взбудоражили всех пчёл, кидая в ульи сухую глину и камни. Удивились такому варварству и высказали решение сохранить ульи как большую ценность.
Рассказал и о пятитысячном налоге, и по какой причине приехал на родину против желания соседей.
Обследовали мои ульи, и особенно понравились, хороши ульи и по красоте. Я объяснил, что неизбежно будет роение и из пяти ульев будет не менее десяти пчёлосемей. Но где ульям зимовать? Дом мой, строенный братом Василием, ещё не покрыт, окосячен, но нет рам и печи. Инструктор сказал, что для сохранения пчёл он выпишет ящик стекла, 50 килограмм сахара и 50 досок тёсу для крыши. Я был воодушевлён такой добротой.
На следующий день была выставка животноводства. Привели скот: коров и тёлок местной породы, породистых мало — почти единицы. Породистых обмеривают и взвешивают на весах. Привели и быков-производителей местной породы, но выглядят они маленькими в сравнении с породистым быком.
По окончании осмотра инструктор и агроном вышли на трибуну, и т[оварищ] Верещагин начал убедительную и понятную речь, что согласно предписанию правительства в колхозах, совхозах и коммунах скот должен быть улучшенной, продуктивной породы. Поэтому ни в коем случае недопустимо пускать в стадо быков-производителей местной породы. Много было возражений, так как в лесной поскотине медведи в прошлом году и в настоящем повалили и ранили много коров, причём быки-производители отгоняют медведей. Но инструктор сказал, что на медведя нужно идти с ружьём, а не с быком. И начал речь о моём пчеловодстве: «К вам, граждане, приехал опальный человек Карпов Иван Степанович с пятью ульями пчёл. Какие образцовые ульи-домики! Посмотрели мы и удивились тому, как жестоко обижают человека, кидают сухой глиной и камнями, проламывая крыши. Это преступно и непростительно молодёжи. Ведь это великая ценность, благороднейшее дело, самая ценная отрасль сельского хозяйства, ведь пчёлы увеличивают урожай сельскохозяйственных культур».
Выступил агроном т[оварищ] Семериков: «Правительством издан указ о разведении пчёл в колхозах, совхозах и коммунах и издан Декрет об охране пчеловодства, подписанный Лениным[201]. В нём говорится: все организации и лица советской власти обязаны оказывать всякое содействие и помощь лицам, занимающимся пчеловодством, предоставлять широкую возможность всем желающим. Вполне доказано, что во время цветения, опыляя сельскохозяйственные культуры, пчёлы увеличивают урожай и кроме того дают ценные продукты: мёд, прополис и целебный яд. Согласно изданному закону мы должны обязать т[оварища] Карпова сохранить пчёл в зимний период, видимо, уже не пять семей, а, возможно, и десять, так как пчёлы усилились и неизбежно отроятся. В помощь т[оварищу] Карпову выпишем десять полос стекла, 50 килограмм сахара и 50 досок тёса для кровли недостроенного дома. А вам, граждане активисты, нужно снять с заборов карикатурные плакаты на т[оварища] Карпова».
Слушаю защитительные речи т[оварища] Верещагина и т[оварища] Семерикова и в то же время опасаюсь мести со стороны активистов, ведь я указал т[оварищу] Верещагину и т[оварищу] Семерикову персонально трёх человек, что они проломили улей, пишут обо мне плакаты, расстреляли икону при входе в церковь и икону Воскресения за престолом, и мне за жалобу отомстят непременно. Так и случилось.
На четвёртый день по приезде, находясь ночью в овине на карауле пасеки, услышал топот и ржание лошади и, высунувшись из овина, увидел лошадь, облепленную пчёлами. Обозлённые пчёлы носятся в воздухе. Сосед Иннокентий Игнатьевич ночью навязал лошадь на близлежащую площадь, не померял верёвки, и лошадь, спасаясь от укусов комаров и мошек, подошла чесаться об улей. Встревоженные пчёлы набросились и смертельно её изжалили. Я не мог сразу отвязать верёвку, разбудил соседа, и вместе повели лошадь к реке. Я сел за вёсла, а сосед в корму лодки, держа за верёвку лошадь. Лошадь стонет и плывёт за лодкой. Вывели лошадь на берег, но пчёлы не отстали — не смылись водой, влепили жала и держатся. Мы сделали из травы жгуты, протёрли лошадь и, поливая водой, промыли шерсть лошади. Иннокентий Игнатьевич поставил лошадь во двор, дал травы, овса и воды, но лошадь в течение двух суток ни до чего не дотронулась. По всему телу всплыли пузыри величиной с большое яйцо, глаза выжжены — закрыты, губы распухли.
На третий день пузыри исчезли, и лошадь немного поела и попила. Иннокентий Игнатьевич запряг лошадь в четырёхколёсную телегу и хотел ехать на мельницу. Отъехав метров десять от дома, лошадь зашаталась, легла и, громко застонав, издохла. Приехал ветеринар, вскрыл труп и определил, что померла она от пчелиного яда. Да как и не помереть, ведь, кажется, нет столько шерсти на теле, сколько влепили жал. В хвосте и гриве густо, шипят. Куда деться от такой беды? Лошадь принадлежит колхозу, но за неимением скотных дворов и конюшен каждый колхозник держит свою лошадь у себя. Собрались соседи-колхозники на суд, все боятся пчёл, всех насмерть сожгут. Оценили лошадь в 800 рублей. Иннокентий Игнатьевич сознался, что он не померял верёвку, навязал лошадь, всецело взял вину на себя. Да, видимо, у колхозников кроме погибшей лошади было много других серьёзных вопросов. Быка-производителя, раненного медведем, приказано застрелить, мясо сдать в колбасную. Привели нового великана, быка-производителя улучшенной породы. К строению скотных дворов не приступлено. Какая томящая печаль грызла меня.
Стал я замечать, что трое комсомольцев шепчутся и следят за мной. Поодиночке вечером с другой стороны ручья из ельника и с того и другого конца ручья наблюдают. Я каждую минуту начеку. Большой палец правой руки не давал мне покоя, особенно ночью, и я не находил покоя, бродил по полям куда глаза глядят. Костный панариций требовал операции. Ночью я ушёл, не зная покоя, в поле и задержался. Вероятно, ребята выследили меня в этот момент и нарушили всю мою пасеку: изо всех пяти ульев рамки повынимали, часть набросали в воду, пчёлы кучами лежат на земле, часть сидят без рамок в ульях. Собрал все рамки, 30-ти рамок не хватает. Две рамки нашёл в воде. Добавил запасных рамок, собрал в два улья ползающих пчёл, посадил в ульи, не рассчитывая, что живы матки, считал, что всё погибло. Пошёл заявить в сельсовет и прямо указал, что пасеку разорили трое: Александр Шиловский, Михаил Карпов и Владимир Журавлёв. Сельсовет сообщил в район.
Я попутно зашёл в больницу на перевязку пальца. В ожидании очереди сижу и вижу: двое из воров приехали на телеге — Шиловский и Карпов — и не могут подняться на крыльцо, их ведут под руки, они не могут шагать. У обоих лица распухли, нос раздуло, как пузырь, шея сравнялась с подбородком, говорят шёпотом, нисколько не похожи на человека. Фельдшер В. Коржавин дал направление в черевковскую больницу.
На следующий день из района приехал какой-то представитель, осмотрел место пасеки, опросил меня, посмеялся над ворами, что не сумели сделать дела. Ведь только бы вылей ведро воды в улей, и свободно бери рамки, а крайне неопытные воры напоролись на такую беду.
В больнице воров допрашивали, и из показаний сельсовет узнал: шли они вечером по деревне, а пчёлы Ивана Степановича набросились на них. Такое событие быстро распространилось по всем учреждениям. Родители воров пришли ко мне с угрозами подать на меня в суд, если я добровольно не уплачу ворам за дни работ, за время, проведённое в больнице в горячее время сенокоса. Я прошу их посмотреть пасеку и на работу ваших сыновей. Я не думал, что они останутся живы; говорится, что человек может перенести не более 65-ти ужалений, а воры приняли их тысячи. Три недели находились воры в больнице в смертельной опасности. Пчёлы ночью ползучие и злые, они проникли через рукава и штаны на всё тело, не осталось свободного места, всё тело распухло. Пробыли в больнице три недели, и врачи жизнь сохранили. Семь дней были слепыми и не могли принять твёрдой пищи. Какие грозные тучи висят над моей головой? Что будет мне, если воры Шиловский и Карпов погибнут от пчёл?
Через три недели воры были уже дома. Не знаю, ставилось ли им в вину такое преступление, а, может быть, потому, что пасека дьякона-лишенца, то нет для них и преступления. Опыт научил их, как нужно грабить пасеку безнаказанно. Вышедшие из стационара и оправившиеся воры нарушили последние два улья. Теперь заливали пчёл водой. Все трое комсомольцы: Шиловский — сотрудник НКВД и тайный агент. Все колхозники боятся его, как способного на всякое грязное дело.
Вскоре всё выяснилось. Когда стали расти в лесу грибы, люди стали приносить из лесу кучки пчелиных сотов и рамки ко мне на дом, спрашивая, не твоё ли это? Да, моё, говорю. Выяснилось и то, почему Володька Журавлёв не пострадал от пчёл, оказалось, что он стоял на карауле. Тогда медосбор ещё не наступил, в ульях мёду было не более килограмма — всё была черва[202], и воры унесли черву вместо мёда. Говорила ли в них хоть сколько-нибудь совесть: принять на себя такой позор перед всеми служащими района, — но оказалось, нисколько не отразилось на них, что будет видно из дальнейшего.
Живу я один на родине, а Маруся на Лябле, и ещё не получила такого печального письма. И сообщать-то не решаюсь, и умолчать нельзя. Пишет Маруся, что молоконалог выполняет — сдаёт по шесть литров в день, для детей ничего не остаётся, так как корова стельная и молоко убывает.
У меня из пальца фельдшер выпустил гной, удалил косточку, ношу руку без подвешивания, боль снижается.
В обоих ульях сохранились матки, начался медосбор, прибавил пустых рамок для мёда. Для себя я мёда не ждал, а лишь бы на зиму пчёлы обеспечили себя мёдом. Обида и расстройство не проходят, вся жизнь отправлена, и всё время будь начеку. Как ни караулил усиленно, а прихожу на пасеку — вижу, что одного улья нет, исчез, лежит одна крышка, побежал искать в брёвнах леса — нет. Стал искать в ельнике, на другой стороне ручья, нашёл все десять рамок, аккуратно сложены, мёд с воском кусками выломан, пустые куски смяты в один, всё сделано по-хозяйски, видимо, вор всё хранит для себя.
А где же улей? Вышел на бугор и увидел: на нашей стороне в ячмене стоит улей. Подошёл и вижу: пчёлы кучами лежат на земле, залитые водой, в улье вода, и в ней плавают пчёлы. Теперь для меня ясно, что воры приобрели полный опыт грабить пасеку. Что делать? Идти к ворам не хватает силы побороть себя, не поругаться с ними, да и счёл это бесполезным. В суд подать? Нет уверенности в суде, ведь судить-то будут активисты-комсомольцы, они же будут и обвинителями, а не подсудимыми.
Пошёл я поделиться своим горем с пенсионеркой учительницей Любовью Николаевной[203], своей благодетельницей, которая содействовала моему поступлению в архиерейский хор в 1910 году. Она жила у фельдшера Василия Ефимовича Коржавина, как бездомная, а у него как прислуга. Побеседовали с ней по душам. Василий Ефимович подробно ознакомил её со случившимся со мной и с ворами. Оказалось, в больнице едва сохранили им жизнь. Они не могли принять твёрдой пищи семь дней, во рту всё распухло. Пчёлы изжалили всё тело. Не было мочи — доставали искусственным способом.
Я спросил Любовь Николаевну и Василия Ефимовича, что если бы я подал на них в суд, то какие бы были решения суда? Они сказали, что вернее всего жалоба ваша осталась бы без последствий, а воры в отместку натворят вам ещё не таких бед. Плакаты-то о твоём дьяконстве пишут и рисуют они. Икону над церковью и за престолом расстреляли они. Ведь Шиловский не только комсомолец-активист, он сотрудник НКВД и тайный агент. Это сила, даром что хромой, едва ходит и туловище набокое. Вернее всего перенести с терпением эту тяжёлую рану, чем навлекать на себя в будущем большего горя.
Хожу разбитый, потерял равновесие, не зная, на что решиться. На Лябле ни квартиры, ни земли; на родине ничего, кроме худого, нельзя ожидать. Сидя в овине, слежу за единственным горемыкой-ульем, жду, что и тот украдут.
Маруся пишет, что за пятитысячный налог начислят много пеней, то и пени не выплатить, не только налога. Пишет, что матушка о[тца] Иоанна померла — ей оперировали горло, вставили в горло трубку и питали её искусственно. Через полтора месяца померла.
К зиме неизбежно нужно войти в свою квартиру (вернее, брата Васи), а нет ни рам, ни печи. Наготовил брусков на девять рам, верстак предоставил сосед, инструменты у меня на Лябле.
Возле дома вора Шиловского приходится ходить не один раз в день. Вижу: сколачивается по-топорному улей, видимо, хочет заняться пчеловодством. Грустно смотреть из овина на единственный улей. Пустые ульи при помощи соседа я сносил в овин. Только один сосед для меня опора. Он плотник и столяр, но хозяйство самое бедняцкое. Отец ранее нищенствовал, пять лет назад помер, померла и мать. Женился, померла через два года и жена, и он жил один с 12-летней дочерью. (Дочь получила образование и работает педагогом).
Прихожу проверить улей, а в нём ни рамок, ни подушек и ни одной пчелы. И на земле нет ни одной пчелы. Ясно, что самый опытный вор сумел взять пчёл для своего задуманного пчеловодства и искать бесполезно. На следующий день, проходя мимо дома Шиловского, вижу: на балконе под крышей дома стоит новый, топорной работы улей. День был холодный и пасмурный, и нельзя было узнать, есть ли в улье пчёлы. У меня твёрдое убеждение, если в ясный тёплый день полетят пчёлы из улья Шиловского, то это мои пчёлы.
Дождался я такого тёплого дня, пошёл и вижу полный лёт пчёл из улья на балконе. Пошёл на свою пасеку, а пчёлы кучами сидят на колышках улья и вновь прилетают. Чтобы убедиться, я взял дымарь и муки и обсыпал пчёл мукой и дымом прогнал, а сам быстро побежал к улью Шиловского и вижу: белые, обсыпанные мукой пчёлы лезут в улей. Поймал вора, что делать? Говорить с потерявшим всякое чувство совести более чем бесполезно. Носи тайную злобу и убийственную жалость в себе, и более ничего. И так кончил я своё пчеловодство. Начал учиться с грубыми ошибками и кончил за упокой.
Я писал, что раненного медведем быка-производителя застрелили, а вместо него привели такого же великана холмогорской породы. Ильин день праздник большой и ещё не забыт (20-го июля старого стиля). День жаркий, и все, кто имел возможность, гуляли на улице. По недосмотру ли животновода или сам бык сумел открыть дверь своей стаи, бык вышел на улицу и свободно, не торопясь, ходил по улице. Подошёл бык ко крыльцу животновода Егора Васильевича Карпова, и многие, бывшие тут, безбоязненно погладили быка по бокам и по задней части, любопытно было смотреть на такого великана (счастье, что я не погладил). Подошёл и животновод Егор Васильевич в праздничной красной рубахе, в жилете и при часах. Хлопнул ладонью быка по задней части и ласково проговорил: «Азотушка, Азотушка». Но Азот молниеносно повернулся, вонзил один рог в задний проход, поднял Егора под крышу тамбура так, что крыша затрещала, сбросил на землю, бодал его, поворачивая, понюхал его и прочь пошёл. Все с испугу бросились наутёк, но один из колхозников успел взять за кольцо в губах и спокойно увёл в свою стаю.
Вчетвером взяли мы Егора Васильевича, внесли в комнату и положили на стол, сделали покатость, подложив под крышку стола брусок, и поставили на пол корыто для стока крови. Собралась вся деревня смотреть на несчастного. Сразу же побежали за фельдшером. Подойдя к раненому, фельдшер спросил: «Знаешь меня?» — «Знаю, — говорит. — Фельдшер Василий Ефимович[204] пришёл». Начали перевязку. Пять смертельных ран: с живота кожа сдёрнута до брюшины, на руке рана до кости, на плече кровоточит большая рана. Перевязал при нашей помощи, а кровь в корыто течёт. В чём дело? Повернули Егора на живот, а там разрушен задний проход и зияющая рана на мягкой части (ягодице). Вложил фельдшер вату в зияющие раны и сел закурить. Я держал Егора за ноги, а Николай Рудаков — за руки. Вдруг почувствовал сильный судорожный толчок в ногах, а также и Николай в руках. Грудь у Егора поднялась, почувствовал я второй толчок, опять грудь поднялась, третий слабый толчок, и грудь не поднялась, только услышали мы, как будто льётся вода из подземного ключа со звуком «тиль-тиль». Егор умер. Василий Ефимович курил и чем-то был отвлечён. Мы сказали ему. Он поставил стетоскоп на грудь и сказал: «Не слышу ни одного тона сердца — умер». И этот бык показал себя опасным.
На следующий год на пастбище бык набросился на женщину Зою Ивановну, не искалечил, но покатал по земле. Установили, и подтвердилось, что быки-производители не терпят одежды красного цвета. Егор Васильевич был в красной рубахе, а Зоя Ивановна — в красной кофте и сарафане. Ввиду опасности приказало было и этого быка застрелить.
Маруся пишет, чтобы приезжал немедленно домой, мать в плохом состоянии. Я немедленно поехал и застал маму в сильной агонии — страдала от головной боли. Данные фельдшером лекарства не помогали, да и возраст 70 лет. В агонии силилась повернуться с боку на бок, и всё время были в движении руки, и стонала. Прошло минут десять, и начала приходить в спокойное состояние. Последние три редких вздоха, и кончилась.
Брат Вася не застал живой мамы, молитвенницы за нас. Сделали гроб, сами выкопали с шурином и Васей могилу у самой церковной ограды. После омовения священник совершил панихиду, и положили в гроб. Обедню и отпевание пели все втроём: я, Вася и брат Маруси, Михаил Иванович. В настоящее время нет и следа церкви — разрушена, а могила мамы застроена гаражом, и всё кладбище, и место церкви застроены сараями и мастерскими машинно-тракторной станции. Тяжела была жизненная доля мамы. Никому не взвесить её слёз[205]. Не видала она тихой мирной жизни. А какое её замужество? Алкоголик — наш отец — повесился. Схоронила девятерых детей. Жизнь нищенская, сиротская. Проезжая в автобусе возле могилы матери, смотрю на гараж, как на надмогильный памятник.
Поехал я на родину, захватив с собой столярные инструменты. А на Лябле уже хлеб с поля убирают на гумна. Наш работник тоже убрал наш хлеб и сложил на своё гумно и засеял рожь для будущего года. Я, приехав на родину, начал делать рамы для своей избы. Надо приступать к битью глинобитной печи. Рамы сделал я, нужно на остекление девять полос стекла. Стоят они около пяти рублей, и такая сумма в нашем хозяйстве не находится. Пришлось взять работу у черевковского рабкоопа на выделку стульев, и этим вышел из положения, получив в задаток десять полос стекла. Зиму пришлось жить с одними рамами.
Уже давно идут собрания, совещания о создании колхозов. Одновременно с этим начали организовываться комитеты бедноты из членов самых бедных хозяйств. Лишённые избирательных прав не допускаются на собрания по таким серьёзным вопросам. Самыми главными решителями таких вопросов являются комитеты бедноты. Члены его более активны. Зажиточных и средних крестьян нужно было убеждать, чтобы всё было без принуждения, по согласию. Но это было не так.
К нашим собравшимся крестьянам приехал организатор колхоза и объявил, что колхозы будут созданы только для бедняцкой части и зажиточные, и выше среднего, и лишенцы в колхоз не войдут. Он сразу стал записывать желающих вступить в колхоз. Первый вопрос: «Бедняк, середняк? Какой налог платишь?» Бедняк налога никакого не платит и безусловно принимается, а плательщик ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог) допускается по оценке комиссией его хозяйства. Не решившимся сразу записаться организатор говорит, что суши сухари. Это означало, что выселяйся с территории колхоза на другой земельный участок.
Начались ежедневные собрания об организации колхоза. Никто необдуманно не может сразу решиться сдать своё хозяйство, нажитое в течение жизни тяжёлым трудом, в общую собственность. Бедняку или самому маломощному нечего обобществлять — у него нет ни лошадей, ни коровы, ни упряжи, ни телеги. Ещё не выработан колхозный устав и правила приёма имущества.
Вызывают меня в сельсовет по касающемуся делу. Вызвано 20 человек. Приехал уполномоченный какой-то государственной организации с допросами о знакомстве с называемыми им лицами. Вызывает к себе в кабинет по одному человеку, обращается вежливо, предлагает стул и просит закурить лежащими на столе папиросами. Берёт из целой стопы большого размера листы, где крупными буквами напечатано «ДЕЛО», и каждый ответ записывает в эту тетрадь. Вопросы все по одному шаблону: знаком ли с этим человеком. Сидишь с подозрением — для чего это? Ответишь на все вопросы, и он скажет: «Вы свободны, никому ни слова», — значит, никому не разглашай.
В течение месяца было два допроса мне и бывшим со мной, а другие лица вызывались в другие дни. И вопросы все о знакомстве с лицами, о которых у него запись, и все ответы записывает в дело. Я осмелился спросить: «Для чего же нужно вам знать знакомство людей между собой?» — «А вам для чего это знать? Мы и сами не знаем, а поручение дано, и делаем. Теперь на каждого гражданина будет иметься дело». Для меня ясно и понятно, но для чего знать о знакомстве — это не понятно. Поделились мы с теми, кого допрашивали, оказалось, что их спрашивали о знакомстве со мной, а меня о знакомстве с ними, и у всех одинаковый порядок и уходящему запрет: «Ни слова!»
Я писал уже, что пахарь наш на Лябле сложил сжатый хлеб на своё гумно, нанялся измолотить и ссыпать хлеб в наши лари и кадки. К нему во двор поместили всю нашу хозяйственную утварь: соху, борону, четырёхколёсную телегу, хомут, сбрую и дуги. Осенью при первом установившемся санном пути переехали всей семьёй в Ляхово в братний дом. Взяли с собой хлеба (мешок муки, опасаясь взять более в такое опасное время). Корову перегонили заранее.
За хранящийся на Лябле хлеб мы очень-то не беспокоились, так как работник был самостоятельный. Но ведь бедняцкий актив знал, что дьякон хлеб хранит у работника в амбаре. Постановили хлеб и весь хозяйственный инвентарь отобрать. Получили извещение письмом, что хлеб наш, рожь и ячмень, всего 65 пудов, увезли в сельсовет и весь инвентарь и прихватили десять овчин и пять фунтов коровьего масла у хозяина. Получив такую печальную весть, не удержались от слёз. Пошла жена в Красноборск в канцелярию сельсовета, по справкам оказалось, что поступило всего 14 пудов. А где остальные 50 пудов? Впоследствии всё выяснилось, но мы, как лишенцы и церковники, могли ли поднять какой-либо протест? И так остались мы без куска хлеба в такое голодное время.
Ещё опущен мной факт, о котором нельзя умолчать. В 1927 году, 24 сентября, в пасмурный и холодный день вышел я на улицу около четырёх часов дня и вижу: на середине реки Двины летит что-то ослепительно светлое и приближается к берегу и к нашему дому. Летит на высоте шести-семи метров от земли. Я быстро вызвал из комнаты жену, и мы с ужасом смотрели на ослепительную и невообразимо чудесную картину. Форма этого чудовища как скелет огромнейшей рыбы или колоссальной змеи. Туловище чудовища состоит из ослепительно раскалённых колец, которые сжимаются и растягиваются, средина туловища утолщённая, кольца постепенно уменьшаются, и, видимо, раскалённость их ближе к хвосту уменьшается, так что хвост чуть красный — оранжевый. Последние кольца самые мельчайшие, как у змеи, а не у рыбы. Голова как у рыбы, глаза огромные — прожектора ослепительные. Летит медленно, с шипением тянет за собой воздух. Третьей частью туловища зигзагообразно виляет, как будто чего-то ищет на земле. Концом хвоста быстро делает колечки. Мы были ошеломлены от страха, боясь, что коснётся нашего дома. Особенно страшно было, что телом врежется в телеграфную проволоку, проволоки было семь рядов, но чудовище поднялось выше и обогнуло телеграфный столб. Летело с северо-востока и держало направление на юго-запад. Скрылось на горизонте в лесу, но свет виден был много минут. Случись бы это ночью, то встревожились бы все жители всего района, ведь такое колоссальное чудовище не менее ста или более метров ослепило бы светом.
Обратился я за разъяснением этого явления к учителю Василию Арсентьевичу Никонову, у которого своя личная огромная библиотека, в которой 80 томов научной энциклопедии и целый дом книг, но В. А. Никонов для разъяснения ничего не нашёл. Обратился он с описанием явления в Москву.
Получил ответ: наука не знает таких явлений, а это, вероятно, шарообразная молния или мираж. Но это предположение академии слишком ошибочно. Мираж и шаровая молния не однородны, не похожи на виденное нами. Ведь чудовище колоссальное, художественно оформлено. Вообразите колоссальную рыбу или змею, отнимите у них тело, оставив один скелет, и получится точная копия виденного чудовища. Это неминуемо наводит меня на мысль, что наука до сих пор не знает таких явлений и отрицает их, а они есть — это факт неопровержимый и реально существующий.
Прошло с момента виденного нами чудовища 43 года, и вот встретил я недавно одну старушку, которая рассказала мне, что такое же точно чудовище ослепительное в 1909 году, в августе месяце, на сенокосе в ракульском лугу на Двине налетело над ними, и все люди со страху скрылись кто куда мог: кто в сено, кто в земляной станок (помещение в земле). По рассказам её чудовище той же формы и величины.
Ещё до организации колхоза в 25-ти верстах от Ляхова в Тимошинском сельсовете была организована коммуна «Север», и существовала она шесть лет, а потом ликвидировалась. Организатор её, учитель Митин Александр Фёдорович, принял на себя труд организовать коммуну и у нас в Ляхове. Прибыв в наш колхоз «Звягинец», своей речью стал доказывать, что неизбежно нужно вступить в коммуну, убеждая, что колхозы явление временное — это только первый шаг в коммуну. И начал записывать желающих. Из колхоза «Звягинец» записалось 12 человек, из колхоза «Маяк» — семь человек. Записавшиеся должны в течение трёх дней подать заявление. Подал заявление и я.
По обсуждению характеристики каждого все были зачислены в будущую коммуну «Якорь», а моё заявление оставили без последствий. Кто-то из колхозников напомнил организатору о моём заявлении. Организатор сильно ударил линейкой по столу и неистово вскрикнул: «Нужно знать, чем он дышит!» Меня очень поразило и обидело такой грубостью со стороны образованного педагога. Убила меня безвыходность положения, и в то же время, кончив пчеловодный сезон, в колхозе на второй сезон будущего года райисполком не разрешает расходовать колхозные средства наёмному лицу.
Не прошло и недели, не успели приступить к организации коммуны, последовало распоряжение через газету в статье «Головокружение от успехов»[206], и организация будущей коммуны «Якорь» не осуществилась. Так по-прежнему и остался колхоз «Звягинец».
Куда же мне деваться с семьёй в восемь человек? Написал своему другу Михаилу Александровичу Зайкову, члену красноборской коммуны «Коммуна на Перевале», которая существует уже второй год. В ней 19 хозяйств и все мои знакомые, бывшие мои прихожане. Организатором её был деревни Якушкино Ширяев Михаил Александрович и деревни Бережная Юрьев Фёдор Дмитриевич, инвалид, герой русско-японской войны, потопивший миноносец «Стерегущий», открывший кингстоны на дне миноносца[207]. М. А. Зайков да и все знакомые мне коммунары обещали ходатайствовать о принятии меня в коммуну. Для организации коммуны конфисковали двухэтажный дом священника Николая Попова[208], перевезли на территорию, занимаемую ныне красноборским аэродромом.
Поехали с женой в коммуну «На Перевале» посмотреть бытовые условия коммунаров и хозяйственный порядок. День был тёплый, солнечный. Подходя к дому коммунаров, увидели вопиющую бесхозяйственность. Конюшня и скотный двор на расстоянии 8–10 метров от дома. У дворов два года не убирали навоз, мух — рой, нельзя рот открыть.
Михаил Александрович повёл нас в дом на верхний этаж. Посредине коридор, по ту и другую сторону — комнаты, отделённые одна от другой тёсовыми досками. Почти у каждого в люльке качается ребёнок. От сушки детских постелей запах — глаза слезит. Тараканов очень много. Захолонуло у нас на сердце.
Вышли коммунары делать во дворе уборку. Валяются изъезженные сани, разбитые телеги, негодные колёса, распрямившиеся дуги. Коммунары переругиваются. Фёдор Дмитриевич Юрьев говорит: «Нам, ребята, с таким порядком ни дна, ни покрышки не видать».
Зашли на кухню. Повариха готовит обед. Накрошила картошки, нарезала селёдок, луку и сложила в трёхвёдерный котёл, закрыла крышкой для защиты от мух, а мухи густым роем кружатся над котлом. Не знаем, чем ещё пополнен коммунальный стол, — мы не дождались обеда.
Поехали на дневном пароходе домой с унылым настроением и упадком духа. Куда приклонить голову с семьёй в восемь человек?
Побывав зимой на Лябле и в Красноборске, вижу: у коммунаров суслоны ржи на поле, сенокос не докончен, копны сена не застогованы.
Не знаю, в котором году ликвидирована коммуна «На Перевале»[209], но знаю, что государство потребовало с коммунаров возмещения каких-то убытков, причинённых государству. Пришлось возмещать своим личным трудом. Ширяев Михаил Александрович на принудительных работах в Архангельске отработал два года, Зайков М. А. полтора года отработал в Архангельске, Юрьев Ф. Д., как инвалид войны и к тому же ещё больной, был освобождён.
Всё стирается временем, но такие громкие дела невольно вспоминаются. Большой захват земли при малом числе рабочих рук и машин приводил к ликвидации коммуны по старинной пословице «один с сошкой, а семеро с ложкой». Но вообще в такое время разрухи и голода у многих, а особенно у бедняцкой части сильная тяга в коммуну.
Самая большая тягость была лесозаготовки. Вся рабочая сила колхоза была в лесу. Самовольный уход из лесу карался судом. Женщины, не кормящие грудью, работали в лесу, 16-летние подростки. Но трудность в том, что нет одежды и питания. Идти в лес со своими продуктами и одеждой очень тяжело. Хорошо, если есть овечка, её заколоть и взять в лес, а на одной картошке не много наработаешь.
Приехал из области уполномоченный представитель — контролёр по выполнению плана лесозаготовок. На собрании один из активистов заявил, что в настоящее время нет даже необходимой одежды для лесорубов, в лесу последнюю одежду порвали, одних рукавиц за зиму нужно шесть пар, а у некоторых в сундуках лежит одежды на много лет. Нельзя ли, товарищ уполномоченный, у некоторых проверить сундуки и поделиться излишками с неимущими? Но представитель сказал: «Нет, дорогой мой, мы ещё не доросли до такой братской взаимности. А вот недалеко время, когда войдём в коммуну, тогда будет всё общее: пища, одежда, вещи домашнего обихода, а пока придётся потерпеть».
Глава 9
В 1929 году было распоряжение правительства обязательно иметь колхозам пасеки[210]. Пчёл высылали пакетами с Украины, Кавказа, Краснодарского края. Наш колхоз получил 15 ульев. Ухаживать за пчёлами было некому — нет пчеловода. Колхоз стал ходатайствовать о принятии меня в качестве пчеловода, но как не члена колхоза, а как постороннее наёмное лицо. Исполком разрешил. Я колебался принять на себя ответственность и заявил, что мою пасеку воры, ваши колхозники, погубили, ограбят пасеку, а я отвечай. Назначили строгий караул. В научение дали женщину. В свободное от пчёл время я делал ульи.
Для медосбора была благоприятная погода, но в засуху загорелся лес. Пожар распространился на пять километров, горел торф, угрожало полям с рожью и овсом. Всё население погнали тушить, и меня взяли с пасеки и не отпустили даже для выкачки мёда. Милиция ночевала вместе с народом. Жара, дым разъедали глаза. Воду для питья возили на санях, потому что на телеге в лесу не проедешь. Так и не угас пожар до осенних дождей, а торф и зимой горел. Выгорела площадь 15 километров вдоль и десять километров вглубь. Змеи, спасаясь, бросились за Двину, по деревням ползут. Плывут змеи за реку быстро, высоко подняв голову.
Я, окучивая землянику, напоролся на змею, она обвилась вокруг куста земляники, я рукой нечаянно прикоснулся, но успел отскочить. Тут попала под руки палка, и я всю змею исколотил на части. Пошёл за лопатой, чтобы зарыть в землю. Тут были мои куры, и, пока я ходил за лопатой, они съели змею, оставив одну голову. Сколько изжалили коров, прекратилось молоко, у одной коровы раздуло один бок и вымя. Моя соседка наступила на змею босой ногой, её всю раздуло опухолью, лицо так распухло, что похожа была на труп. Десять дней хлеба не ела.
Боялся за сохранность пасеки. От 15-ти ульев получено девять роёв, 300 килограмм мёда. Исключительно благоприятный год. Семьи пчёл в пакетах присылаются слабые, они в течение лета усилились и пошли на зимовку с полными запасами мёда. Я был воодушевлён радостью, так как благополучно прошёл пчеловодный сезон. У вора Шиловского не стало на балконе улья с пчёлами, и неизвестно никому о причине. По всей вероятности, пчёлы не перезимовали.
Построили новый омшаник[211] в крутом косогоре. Вкопали новый бревенчатый сруб, потолок завалили землёй в полтора метра толщиной и поставили 26 ульев на зимовку. Срок моей работы кончился, и я год кой-как пропитался. Мне было положено в месяц два пуда зерна-отбросов из-под триера[212], два пуда картошки и один литр молока в день.
Наступил праздник Октябрьской революции. Колхозу разрешено было произвести товарищеский обед. Для этого разрешено было забить телёнка, наварить супа, отпущено сахара, молока для печения шанег и колобов домашним способом, отпущено калачей (сушки). Дали повестку приходить на обед. Позвали и меня, но чтобы шёл со своей ложкой и чайным прибором. Прихожу со своим сыном. У бригадира составлен посемейный список, и по членам семьи наделяют всех шаньгами, колобами, сушкой, сахаром. А когда всех наделили, а меня не вспомянули. Один из соседей говорит: «А как Ивану Степановичу?» Бригадир говорит: «Я проголосую. Кто за то, чтобы Ивана Степановича наделить печеньем и обедом, поднимите руки!» Никто не поднял. Один из колхозников сказал: «Да дайте ему хоть калач». Взял мой сынок калач и убежал домой. Стою, сгорая от стыда. Один из них говорит: «Да я дам тебе кусок-то сахару, выпей хоть чашку чаю». Я взял кусок, выпил чашку кипятку, сказал спасибо и пошёл домой, оскорблённый такой грубостью, некультурностью, дикостью колхозников и думая, как мне в будущем оставаться среди таких неблагодарных дикарей. Прихожу домой, а жена говорит: «Как тебя хорошо угощали! Я так и думала, что голодные устьяки ничего тебе не дадут». Калач дети разделили на шесть частей — всем без обиды.
Зиму пришлось работать на реке по добыванию брёвен изо льда. Рвали лёд аммоналом и извлекали лес на лёд. Опасная для жизни работа. При взрыве летят вверх и в стороны брёвна, лёд и вода. Спасаемся, припав лицом на лёд.
На доделку дома пришлось продать самовар, нужно было сбить глинобитную печь и выложить из кирпича трубу. Брат Вася не принял никакого участия в доделке дома. Он работал в городе Кемь бухгалтером.
Был голод, и менялы с вещами беспрерывно ходили по деревням, предлагая свои товары, товаров-то у населения давно никаких нет. Выбросят на деревню пару подмёток, ниток машинных, кусок мыла, ситцевый платок, и вся деревня сидит за распределением товара. Спору, недовольства сколько! А тут менялы товар на дом приносят.
Предложил райисполком немедленно внести налог 5000 рублей, в противном случае репрессия и продажа имущества. С моей коровы (как хозяин-лишенец) налог 60 пудов, кроме того обязательно для всех выкормить телёнка. Не имея сена, мы вынуждены были кормить корову заваренной в кипяток соломой, и за недостатком молока телёнок был еле живой. Ежедневная сдача молока, шесть литров, с моей коровы наполовину не выполнялась, и себе не оставалось ни капли. За невыполнение все подлежали штрафу, а с меня, лишенца, более строго.
Назначили ревизию по надою моей коровы. Доили до трёх суток, признали, что при таком корме и плохой упитанности коровы молоконалога и вскармливания телёнка не выполнить, и мне разрешили сдать корову в колхоз на лучший корм в счёт моего дьяконского налога.
Приближается весна, в апреле должна быть выставка пчёл. На колхозном собрании выяснилось, что райисполком не разрешает расходовать колхозные средства стороннему по найму лицу, а меня, как лишенца, в колхоз не имеют права принять. Женщина, которая работала со мной, не решалась взять на себя пчеловодство, она согласилась быть помощницей. Постановили сдать пасеку на ответственность Шиловского А. А. Видимо, нужда заставила колхоз сдать 26 ульев на ответственность крайне ненадёжного Шиловского.
Пчеловодный сезон по медосбору был посредственный — пчёлы дали много роёв, но мало мёда. Видимо, не велика была у пчеловода практика, когда рои прививались по деревням на отдельных деревьях.
По укомлектовании пасеки при последней осенней ревизии пчёл осталось 65 рамок мёда на случай весенней подкормки. Мёд в рамках хранился на пасеке в караульном помещении. Обнаружилось, что мёд из шкафа исчез. Колхозники знали, что Шиловский мёд украл, но из-за боязни навлечь на себя месть со стороны Шиловского придумали очень мудрую историю. В Тимошине, в 25-ти верстах от Ляхова, был знахарь-колдун Демид, он был у населения на авторитетному счету, точно указывал, где найти краденое, где найти потерявшуюся скотину, к нему обращались за помощью в таких несчастных случаях, и он точно знал и верно указывал. Идти к нему не собирались, а послали двоих, более надёжных с наказом никуда не ходить, а сказать, что ходили к Демиду и колдун Демид сказал, что молодой хромой парень с бабой унесли мёд и закопали в подполы, в завалину.
На собрании обсудили вопрос, и вина падала ясно на Шиловского, он же хромой и туловище набокое. Осмелились идти к Шиловскому с ломом в подполье, нашли все 65 рамок. Дело передали в суд. Суд присудил семь лет лишения свободы. Брат его, Николай Алексеевич Шиловский, председатель колхоза, коммунист с военными отличиями, и актив ходатайствовали о снижении наказания, и отсидел он два с половиной года.
В эти два года произошло укрупнение колхозов, и наш колхоз слился с соседним колхозом. Слились и пасеки. Всего ульев стало 52. Но, видимо, не суждено пасеке существовать. Ночной караул пчёл в омшанике был поручен старику 75-ти лет. Случилось это дело в день Масленицы, и колхозники в доме председателя пировали. Сторож в омшанике, видимо, уснул и столкнул лампу со стола и пробудился, объятый пламенем. Прибежали пьяные и начали смертельно бить сторожа, а он просит: «Убейте меня, убейте меня!» Суд ему ничего не присудил, так как он по возрасту не подходит работать сторожем и колхоз неправильно поступил, назначив его сторожем.
Колхозный хлеб почти целиком шёл государству, и колхозники получали отбросы из-под триера при сортировке зерна. Ели торицу (мелкий горошек), белый мох, вересовые ягоды, но всё же небольшая работящая семья могла, хотя бы скудно, питаться хлебом пополам с картошкой. Тёрли картошку своей работы тёрками, из натёртой картошки после извлечения крахмала из отирков пекли хлеб, прибавляя шелуху льносемени, мякину, отруби, белый мох. Весной перекапывали картофельные участки и, найдя в земле сгнивший картофель, промывали и извлекали крахмал.
Как ни тяжело было, но пришлось двоих своих детишек послать просить милостину у голодных колхозников, а как им было стыдно просить, а нам смотреть на приносимые ими крошечные кусочки хлеба, испечённые с примесью всяких отбросов, приходилось сушить их, а потом истолочь в порошок и вложить в какую-либо похлёбку.
Двух сыновей я отправил в Архангельск, одного приняли в токарно-слесарную мастерскую, другого — в игрушечную мастерскую. Две дочери устроились в няни. Осталось ещё двое: дочь и сын пяти-семи годов. Я занялся в свободное время делать из берёзы ложки, тогда самый необходимый товар — ложек нигде не было в продаже, платили мне и молоком, а иногда и краюшку хлеба. И удивительно. Люди все ночи сидят на собрании, решают свои текущие дела, а меня, как лишенца, никуда не беспокоят, куда-то меня готовят выслать. 5000 рублей налог не уплачен, зачтена корова и телёнок. Вызывают в налоговую часть райисполкома, объявляют трёхдневный срок уплаты и [что] как у злостного неплательщика продадут с торгов всё хозяйство.
Я не мог воздержаться — заплакал навзрыд, просил обследовать моё хозяйство и убедиться, что мои дети с колхозников кусочки собирают, а дом принадлежит брату Карпову Василию Степановичу, а не мне. Я уже отдал в счёт налога корову и телёнка, и какая-то цифра из налога 5000 рублей должна быть вычтена. Сельсовет обследовал моё хозяйство и скинул налог ввиду очевидного доказательства несостоятельности хозяйства и принадлежности дома брату Василию.
Церковь на родине была закрыта, колокола сброшены и разбиты на мелкие части. Невыносимый был визг при разбивании колоколов. Скучно, тяжело было переживать такие чрезвычайные события.
Я решил идти на Пасху в черевковскую церковь, услыхав, что там будут петь хором административно высланные, а они певчие. Один из них артист императорских театров, контроктава. Поразительно было пение, хотя трио — бас и два тенора. Даже приятно слышать один такой бархатный бас. Поразительно хорошо исполнили концерт Дегтярёва «Днесь всяка тварь веселится и радуется».
Вокруг церкви на стенах зажжены фонари с буквами: «С сегодняшнего дня колокольный звон умолкнет навсегда». При входе в храм сделана трибуна, и с начала богослужения открыли митинг.
В день Пасхи в девять часов открылось шествие по дороге, шли к церкви и везли на четырёхколёсной телеге посаженных рядом: в середине царь в короне, по бокам поп и кулак. Вместо оглобель к передней оси телеги приделаны длинные жерди, за которые тянут люди телегу, а на груди у них наклеены надписи: «кулак», «подкулачник», «шептун», «нытик». Процессия пришла на рыночную площадь, и открыли митинг.
Я сказал уже, что я, как лишенец, свободен был от всех колхозных собраний. В 1934 году перед Пасхой была объявлена антипасхальная неделя. Учительство, члены сельсовета и актив обязаны были обойти все дома колхозников с разъяснением о Пасхе как суеверном пережитке старых некультурных людей и чтобы Пасху ничем не отмечали: не украшали ничем своих квартир, не пекли ничего праздничного. В пасхальную ночь всем колхозникам выйти на субботник.
Я, как свободный, пошёл в ягрышскую церковь к пасхальной утрене. В 12 часов ночи началась пасхальная утреня, запели первую часть канона «Воскресения день», и вдруг заиграла гармонь. Трое комсомольцев стояли на лавке с гармонью. Народ возмутился, но все были женщины-старушки. Колхозники все были на субботнике по вывозке на поле навоза. Священник вышел из алтаря и заявил, что он не может совершать богослужение, пойдёмте, православные, из церкви. При выходе из церкви на крыльцо пришли два человека, член райисполкома, председатель колхоза, с трёхметровой доской, отобрали у сторожа ключ и приколотили на двери церкви доску, и церковь закрылась навсегда.
В час ночи я пошёл домой, народ весь на полях, возят навоз. Дальние колхозники не знают меня, и я без стеснения шёл, а когда подошёл на территорию своего колхоза, решил обойти колхозников в сторону кустарников и так прошёл незамеченным. Подходя к своему дому, вижу соседа с топором в руках. «Я, — говорит, — в лесу сегодня вырубил 65 кольев». Так я встретил Пасху в 1934 году.
Наступил ледоход на реке Двине. Ещё не очистилась полностью ото льда река, и вдруг покрылась вся река строевым лесом. Видимо, лес плыл изо всех рек: Сухоны, Вычегды, Виледи, Уфтюги и всех маленьких сплавных речек. Лес густо покрыл всю Двину и все залитые водой луга. При направлении ветра в который-либо берег реки к берегу туго набивает лесу, что по нему ходили, и он стоял неподвижно, его набивало до отказа во все ручьи. Начала убывать вода, и начали принимать меры — очищать берега от брёвен, но почти безрезультатно, у берегов так много леса, что течение не подвигает его. На отмелях и песке обсохло леса втугую. На лугах (луг восемь километров ширины) сплошной лес. В рытвины, кустарники набило лесу, как спичек в коробку. Если такая картина и в Архангельске, то это был лес из ближайших к Архангельску рек.
Наступил сенокос, но, прежде чем косить, пришлось собрать с луга в кучи лес — освободить место для косьбы. Пароходы ломали колёса и плицы. До самого ледостава бродили мы в ледяной воде, отталкивая брёвна от берега, греясь у костра и выливая из сапог воду, но работа была мало полезна. В самом узком месте Двины — «Орлецы» — запрудило лесом всю реку до дна, вода поднялась на семь метров выше уровня, затопила много деревень, причинила много несчастий и материальный ущерб жителям. Какие специалисты могли уничтожить такую колоссальную запруду?
Не забуду до смерти этой зимы, когда лес вмёрз в лёд и всю зиму доставали лес изо льда. Ужасно вспоминать. Раздаются оглушительные взрывы, и летит от взрыва вверх и в стороны лёд, лес, вода, причём отлетают с шумом и визгом в стороны концы брёвен длиной по метру и больше. Такой способ спасения брёвен мало полезен, он портит брёвна и опасен для жизни. Долбить лёд — это затратить тяжёлый малополезный труд. Без взрыва не достанем ни одного бревна.
Глава 10
В 1936 году из-за голода выехал в г[ород] Архангельск и поступил как столяр в столярно-мебельную фабрику «Якорь». Предложил своё посредственное искусство резьбы по дереву. Техник целую неделю сидел у моего верстака, смотря на часы, следя за работой и отделкой моих фигур на карнизах и филёнках шкафов. Комиссия признала, что такая работа для широкого потребления дорога, поэтому резьбу по дереву отложила.
Я перешёл на работу в художественную мастерскую делать рамки и рамы для натяжки и наколачивания полотен с картинами художников. Работа нехитрая — можно делать из неструганых досок или брусков — и заработок удовлетворительный. Не один раз объявляли, чтобы не состоящие в профсоюзе вступили в профсоюз. Я спросил: «Принимаются ли в профсоюз лица, служившие в церкви?» Ответ был, что принимаются без различия. Подал я заявление с приложением своей биографии.
Вызвали в контору профсоюза. По прочтении моего заявления спросили: «Какое отношение к религии в настоящее время, ведь со дня оставления вами церковной службы в 1928 году до сего 1937 года прошло девять лет?» Я сказал, что я верующий. «Как же ты не смог перевоспитаться, осознать вредную роль религии?» Четыре члена комиссии говорили, что мало ли в профсоюзе верующих и наше дело принимать, а не о религии вести суждения. Но согласия с председателем не последовало, и вопрос о принятии не решили. Но я и не беспокоился, думая: живут и работают люди без профсоюза.
Через два дня (это было 10 декабря 1937 года) в час ночи разбудил меня стук в дверь. Вошли вооружённый гепеушник и с ним мужчина и женщина. Заставили одеться и гепеушник подал мне бумагу, но я с испугу не мог читать, тогда он сам прочитал: «Согласно санкции прокурора 4-го района я обязан произвести обыск и арестовать вас». Приказал неподвижно сидеть на стуле, он и пришедшие с ним начали обыск. Всю одежду перерыли, в карманах всё проверили, в выдвижном ящике кухонного стола всякий скарб высыпали на стол, весь мусор осмотрели, у дочки ученические тетрадки перечитали. Велели одеться и следовать за гепеушником. Вышли на улицу, а на ней целая рота арестованных, и меня поставили к ним в ряд. Темно. Повели по незнакомым улицам и привели к трёхэтажному зданию тюрьмы. Ворота ограды отворились, мы вошли, и началась перекличка, и группами уводили по лестнице и впускали в камеры тюрьмы. Впустили в наполненную до отказа камеру, в ней три яруса полатей из неструганных досок, и все полати забиты людьми. Мне нашлось место на самых высоких — третьих полатях.
От духоты и зловония спирает грудь, слезятся глаза. Волнение, отчаяние создают мучительное состояние. Но, видя таких же несчастных, как и сам, и успокоившихся, и сам начинаешь приходить в нормальное состояние. Стало клонить на отдых. Постель готова: на голых досках свой плащ — постель и одеяло, шапка — подушка, а к ней в придачу с ног валенки или сапоги. Рядом со мной оказался соседом узбек, чёрный, усатый, а с другой стороны сосед по нарам рабочий прораб с Ваги-реки.
Большая моя ошибка, что я не захватил с собой кружки и ложки. С верхних нар спускаться очень трудно, почти невозможно, и нам обед подавали в тарелках, состоял он из тресковой ухи с ячменной крупой. Выдавали в день 400 гр[амм] хлеба и два кусочка пиленого сахара. Пить хочется, но у меня нет ни кружки, ни ложки, пришлось просить милости соседей.
Начал чувствоваться голод и болезненное томление, от неподвижного состояния заболели все органы, а выпускали один раз в коридор, пропитанный хлорной известью. У всех без исключения прекратилось мочеиспускание, животы вздуло, как тугие мячи, никакие усилия не помогали помочиться, и такое состояние не проходило более месяца. А о смрадной «параше» с ужасом и вспоминаешь.
Мои соседи по несчастью и голым нарам и я стали знакомы друг другу. Узбек отрекомендовал себя, что он уже второй раз в заключении и имеет опыт в арестантских делах. Он подушку мою (шапку) возьмёт из-под головы, оденет мне на ноги и говорит: «Ты храни больше всего ноги, они спасут тебя от смерти, тебе придётся работать и много ходить, а твоя голова не стоит шапки — привела тебя в тюрьму».
Никак не забывается воспоминание, пережитое мною в 1937 году в архангельской тюрьме, когда меня водили к тюремному следователю на допросы.
Для всех арестантов от следователя один вопрос:
— За что арестован и дана марка «ВН» — враг народа?
От всех арестантов один ответ:
— Не знаю, никакого преступления не имел и не имею.
— Распишись, что дать показание следователю отказался.
До моей очереди допросить осталось одного арестанта, который оказался моряк, матрос.
Следователь:
— Скажи, за что арестован и дана марка «ВН» — враг народа?
— Как ты смеешь меня, патриота своей Родины, называть врагом народа? Ты сам преступный враг народа под маркой «УБ» — уголовный бандитизм, отбываешь 20 лет. Я не боюсь твоего леворвера, надел на себя личину тюремного следователя.
Следователь схватил стул и хотел ударить арестанта, но арестант оказался сильнее, вырвал у следователя стул, бросил и быстро удалился.
Дверь закрылась, но через несколько минут открылась. Следователь, озлобленный, быстро ходит вокруг стола, говорит мне:
— Не подходи! Говори, за что арестован?
Я говорю:
— Не знаю. Никаких преступлений не имел и не имею.
— А за что тебе дана марка «ВН» — враг народа?
Я говорю:
— Если бы знал, за что арестован, то обязательно сказал бы; у вас документы, вы знаете, и прошу сказать, и очень желаю слышать.
Следователь:
— Посоломщик, людей грабили.
— Я не посоломщик, а псаломщик, служил в церкви, читал и пел псалмы и был псаломщиком.
— За что арестован, не знаешь, а людей грабить знаешь! Распишись, что на допросах следователя дать показания отказался.
Просидели мы два с половиной месяца, отвыкли от движений, от недостатка пищи стало нас тянуть на отдых. Бани не было. Паразитов в щелях полатей выжигали паяльными лампами. Свыклись со смрадным запахом «параши» и позабыли, что на свете существует чистый воздух.
Через два с половиной месяца наконец вызвали меня на улицу тюрьмы[213], где уже стояли в строю заключённые, и нас строем повели через Двину на железнодорожный вокзал, там уже стояли для нас вагоны с железными решётками. На дорогу выдали по буханке хлеба и несколько селёдок. Посадили в такие вагоны, что сидеть только согнувшись, и так тесно, что ни сидеть, ни стоять. Стоны, проклятья. Стоим сутки — никуда не везут. Жажда с селёдок невыносимая. За ложку воды отдал бы не знаю что. Часовой ходит около вагонов, и мы просили его пожалеть нас, ведь мы тоже люди, кинуть нам через решётки окна сколько-нибудь снегу. Как ни просили, говоря, что умираем от жажды, но он не обратил никакого внимания. И теперь, в настоящий момент, чувствуется эта жажда.
Наконец подали паровоз, и мы тронулись с места, но через несколько часов опять отцепили наши вагоны, и мы стояли на месте четыре дня. Вот пытка. Хлеб и селёдка, и ни капли воды. Скотину свою хозяин держит в подходящем помещении и даёт досыта подходящий корм, а нас, как негодных червей, вбили в смрадный до отказа полный ящик и неизвестно куда повезут.
Привезли в лагерь «Пукса» (это название реки в лесу)[214]. Поместили нас в парусиновые палатки, у которых двои нары, верхние и нижние. Воды пей досыта. Уха тресковая и из воблы два раза — утром и вечером. Сахару два пиленых кусочка в день, приблизительно 20 грамм. Ежедневное хождение на рубку леса за пять километров. Требовалось выполнение нормы, но никто не выполнял — у всех малосилие, а может, не выполнимый по кубометрам план…
На второй день погнали нас без дороги по снегу метровой глубины за пять километров. А на отведённом участке уже начали рубить. Деревья валяются рядом с нами, и никто не предупреждает об опасности. Одному из нас, арестантов, ударило самой верхушкой падающего дерева по голове, и он даже не трепенулся и не проявил никаких признаков жизни. И никто не соболезновал, а желал себе такой же безболезненной смерти. Опасность со всех сторон. Топоры, годные в утильсырьё, норма наполовину не выполняется, всё получай 400 грамм хлеба и два кусочка сахару.
Я поступил в столярную, но у меня такое бессилие, что едва передвигал фуган[ок] по сырому дереву и не мог выполнить норму и получить 500 грамм хлеба. Уставал до изнеможения. А сон — опять: подушка — шапка, плащ — постель и одеяло, валенки — тоже вместо подушки. На доске ежедневно заносились выполнения или невыполнения норм, столярная ниже всех по выполнению — всё 400 грамм. У меня и других рабочих начали пухнуть ноги, по определению врача у меня склероз сердца. Поместили меня в стационар на нормальное питание, давали суп из кильки, гречневую кашу с маслом, чай с сахаром, а иногда и кофе. Хотя опухоль ног уменьшилась, но окончательно не прошла.
Меня выписали из стационара и назначили на воздушную узкоколейную дорогу, проложенную на столбах на высоте десять метров от земли. Велась железная дорога на Котлас и Печору[215] через гористую местность, в овраги ставили столбы, срощенные из двух строевых брёвен, брёвна перевязывались толстой проволокой, эти столбы засыпались землёй, по насыпи клали шпалы и рельсы, и по ним проходила узкоколейная железная дорога.
Маленькие вагонетки нагружал экскаватор землёй, а более камнями, так как почва состояла из белого камня. Когда вагонетки нагружены и паровоз двинет их к месту столбов, сидящий человек с молотком в руках вышибает крючок, и вагонетка опрокидывается на бок, и земля и камни падают вниз. Вагонетку сидящий человек посредством рычага снова приводит в своё положение. Раздаётся звонок, и паровоз тянет вагонетки на землю для загрузки. Работа физически не трудная, но жутко сидеть на площадке. Ветер пронизывает до костей. Мне повезло: одному из арестантов прислали рабочее пальто, и он свою дырявую фуфайку хотел выбросить или сжечь, но я взял её и из своей рубахи подвёл подклад под спину и рукава, и теперь на вагонетке сидеть стало терпимо.
Самая страшная и опасная работа — по взрыванию каменных почв, земля от взрыва колеблется, огромные камни летят далеко в стороны, а мелкие, килограмма три-четыре, летят за километр и далее. К нам в парусиновую палатку прилетел такой камень, но никого в палатке не было, только порвало парусиновую крышу палатки.
Поработал я на вагонетке две недели в сильных волнениях на высоте от земли и опасности быть снесённым ветром с площадки вагонетки. Камни кололи клиньями на мелкие куски, и экскаватор грузил в вагонетки.
Заболел у меня большой палец ноги, врач определил костный панариций, положили в стационар. Лечили горячим марганцем, но ходить было невозможно. Через две недели выписали. Назначили дневальным. Сутки дежурю и сутки отдыхаю. Нормального сна нет и ночью, стоя на карауле, внезапно схватывает сон, и внезапно падаю на пол (пол земляной), и можно насмерть убиться. Скука до отчаяния, но убеждение в том, что всевидящее Око видит меня, смягчает мою скорбь.
В палатке 250 человек, и два дневальных должны всех обеспечить кипятком и сырой водой, заготовить дров для пяти железных печек, топить их беспрерывно, так как парусиновая палатка тепла не держит. Пол земляной, и доски — концы нар загрязняются, и дневальный обязан обмывать их. Воду доставляли из озера на расстоянии четырёх километров, в ближайших озёрах вода белая, непригодная для питья. Положение дневального очень опасное, так как люди все или большинство — преступники, воруют что только можно украсть. Получая из дома посылку, её сначала проверяют на гауптвахте стрелки, возьмут себе сколько вздумается, а заключённому оставшимся приходится поделиться с соседями, а иначе украдут, и за всё это отвечает дневальный. Сапоги или валенки с ног не снимают, спят в сапогах. Я лишился сапог, снявши, положил вместо подушки, проснувшись, оказался без сапог, без белья и без сухарей от посылки. Сапоги свои увидел на ногах арестанта, заведующего столярной мастерской, у него марка «УБ» — уголовный бандитизм, заявить ему значит рисковать жизнью. Да и кому заявишь?
Приснился мне чрезвычайный, не похожий на обыкновенные повседневные, сон. Подхожу я к неширокой реке, которая полна навозной жижи, и нужно мне перейти на другой берег, искупавшись в навозной жиже. Вижу невдалеке деревню. Вошёл в пустой, но отопленный дом, богато внутри отделанный. В комнате русская печь, и я растянулся во весь рост и чувствую себя в полном удовольствии. Особенно привлекала моё внимание дверь для прохода на кухню из передней комнаты. Дверь тонкой столярной работы со светло-коричневыми филёнками, и я не отрывал глаз от неё и слышу мужской тихий голос: «У тебя 15 ульев». Проснулся опять на тех же голых нарах, подушка — шапка в головах. Этот сон насторожил меня, проник всё моё существо. Я даже поблагодарил Бога хотя за минутную радость, и осталось какое-то невыразимо приятное удовлетворение, и не забывается он до самой смерти, хотя в абсолютной точности сбылся через 17 лет. Он свеж, как сейчас свершился. Сейчас чувствую, как наяву перехожу с навозной жижей реку, искупался, захлёбываясь в навозной жиже, лежу на печи в благоустроенном внутри доме в полном благополучии и любуюсь изящной дверью, слышу мягкий мужской голос: «У тебя 15 ульев». В настоящее время свой дом и виденную мною дверь считаю драгоценными экспонатами. Сны! Как они благовременно были посланы Проведением для поддержания в критические минуты. Доживаю 85-й год жизни и эти сны вспоминаю каждый час, они свежи, как сейчас увиденные.
От Маруси получил письмо, болеет от расстройства и горя, уже ухаживает за ней Афанасия Ильинична и Клавдия Лапина, может быть, пишу последнее письмо, прости. Писано вразброд дрожащей рукой. Сижу на вагонетке и плачу навзрыд. До чего я несчастен! Жена при смерти, обокрали меня до нитки, остался бос и наг, и дано десять лет заключения, не имея никакой вины. Проработал один год, остаётся ещё девять — это вечность. Видно, не видит Бог, и нет справедливости у Бога. Забыл я в этот момент виденный и сбывшийся с абсолютной точностью сон и возроптал укоризной на самого Бога. Очень, до бессознания, велика была моя скорбь. Но вспомнишь сон, опять появилась успокоительная надежда.
Каждый день просят писать прошения на помилование. Висящий на стене ящик наполняется прошениями, освобождается и снова наполняется прошениями. Но в течение полутора лет не было ни одного случая освобождения.
Случилось, что один экскаваторщик под конвоем направлялся в Киров за запасными частями. Он знал, что у меня сохранено семь рублей. Он сказал о себе: «Я в заключении не первый раз и знаю, что эти жалобы в ящиках никуда не посылаются, а уничтожаются. Заставляют писать, чтобы люди, питая какую-либо надежду, лучше работали. Ты пиши заявление Верховному прокурору Вышинскому[216], дай мне эти семь рублей, и я твою жалобу спущу в почтовый ящик». Я согласился, хотя слабо верил в экскаваторщика и в осуществление задуманного. После отъезда прошла неделя — не приехал. На десятый день конвоир приехал один, а экскаваторщик сбежал. Конвоир под судом. Я не имел уже никакой надежды, всё было сделано попусту, и даже забыл свою жалобу, так как прошло уже десять месяцев.
В 1939 году, 18 января, с вечера поднялся очень сильный снежный буран, явление очень редкое. Вечерняя перекличка показала всех арестантов налицо. Двоих отправили на кухню чистить картошку. Команда: «Спать!» Вдруг погас свет. Темнота, шум ветра, визг проволоки. В палатке совершенно темно, не узнать, кто из палатки уходит, кто приходит, а знать — это обязанность дневального. Так прошла для меня тёмная бурная ночь. Снег облепил и засыпал потолок парусиновой палатки, обязанность моя огрести снег с парусинового потолка палатки, чтобы не текла вода с потолка от таяния снега.
Утренняя перекличка показала, что двоих арестантов, Осиенко и Зарубы, не оказалось — убежали. Поднялась тревога. Двое стрелков с собаками отправились в разные стороны искать, но никого не обнаружили, следы завалило снегом, и без того глубокий метровый снег.
Я, осматривая уборную, увидел у самой уборной рыжую шкуру с внутренностями и кишками на снегу, заявил старосте, и пришедшие стрелки узнали собаку начальника лагеря. Следствием выяснено, что собаку убили, изжарили с картошкой на кухне повар и шесть человек чистильщиков картошки.
Событие совершилось для лагеря грандиозное. Виновных посадили в карцер на 400 грамм хлеба и стакан воды, где нет света, кроме окошечка для подачи хлеба и стакана воды. А куда переслали виновных, мы не знали, но в нашем лагере их не оказалось.
А как собака оказалась в лагере. Предполагали, что начальник со стрелками во время сильного урагана проверяли караульные посты с собаками, собака осталась в зоне, а как она попала в руки арестантов, об этом можно только предполагать. Такую катастрофу и наказание на всех арестантов навела собака и восемь человек, сожравших её.
Началась расправа. Дано распоряжение в шесть часов утра выгнать из палаток всех арестантов с имеющимися у каждого вещами, и начался строгий осмотр вещей, который длился два часа. Когда ушли на работу, я начал приводить в порядок палатку. Слазил на крышу смести снег, чтобы не протекла вода во время топления железных печек. Вдруг зашли в палатку восемь стрелков с лопатами, топорами и начали варварски до основания разрушать нары, землю под нарами перекопали, подушечки и матрасики распороли и вытрясли сухую траву, все вещи арестантов вверх дном перевернули. Я в ужасе стою немым зрителем, как разрушается самый убогий уют арестантов. И есть ли где такое вопиющее варварство, это ад кромешный. Что будет со мной, когда придут с работы? Ведь воды и дров не подвезли, все остались без кипятка и топки печей. Пришлось снова создавать своё арестантское убогое убежище.
При возвращении с работы ворота лагеря широко раскрывались, и шедшие строем арестанты целыми ротами входили в зону, а теперь раскрылась одна калитка и впускали по одному человеку, снимая с него верхнюю одежду и прощупывая с ног до головы, для чего потребовались часы времени для стрелков, и на морозе не очень приятно. Собака причинила такое злополучие, не исключая и стрелков.
В 1939 году в праздник 1 мая и 2 мая в заключении не работали, и я на эти дни заготовил дров и воды, чтобы отдохнуть в эти два нерабочих дня. 3 мая все ушли на работу, и я занялся приведением в порядок палатки. Вдруг вбегает человек из конторы и немедленно вызывает меня в контору: «Сейчас домой поедешь!» Я онемел, потерял равновесие и пришёл в контору почти без рассудка. А тут с поспешностию вручили мне запечатанный пакет и, не медля ни минуты, вытолкнули меня с гауптвахты за ограду, и я оказался на свободе. Начальник стрелков пальцем, как малому ребёнку, погрозил мне: «Ты позабудь своего Иисуса, а то опять сюда же придёшь». Вероятно, у них в конторе имеются документы на каждого заключённого.
Восемнадцать километров до станции Плесецкая по шпалам железной дороги отшагал я не более как в два часа. Не успел ступить за порог конторы станции — вопрос: как фамилия, есть ли пакет? Разорвали, высчитали расстояние до Котласа, выдали 80 рублей, и женщина-проводник привела меня к вагону, и я чуть успел ступить на ступеньку вагона — поезд тронулся. Люди-то кажутся весёлыми, счастливыми, изящно одетыми. На мне изношенный летний плащ, зимняя грязная шапка и на ногах страшные из моржовой кожи ботинки восемь килограмм весом. Видимо, с подозрением бросают на меня короткий взгляд как на большого бывшего преступника. Так доехал до Котласа. Всё произошло так быстро, что не успел сообщить домой. Каким чудом совершилось освобождение и так быстро? Можно с уверенностию утверждать, что экскаваторщик сдержал своё слово, спустил мою жалобу в почтовый ящик и она пришла по своему назначению. А что я писал на плохой грязной бумаге Верховному прокурору Вышинскому: о своём бедственном в детстве положении, как отец повесился, как мать по обещанию в детстве отдала меня на год в Соловецкий монастырь, где в хоре научили меня пению, и как я был псаломщиком при лябельской церкви и этим кормил свою мать и брата, и за это дано мне десять лет заключения в тюрьму; нахожу это недопустимой жестокостью и во имя справедливости и милосердия прошу освободить меня. Послал жалобу и задумался над тем, что написал. Служитель религиозного культа жалуется на вопиющую несправедливость и жестокость советской власти, какая тут может быть надежда на спасение?
Для меня теперь ясно стало, почему священники, арестованные в декабре 1937 года: пермогорский о[тец] Александр Попов[217], красноборский о[тец] Николай Вячеславов[218], евдский о[тец] Николай Попов[219], телеговский о[тец] Николай[220], белослудский о[тец] Алексей Вохомский[221] — не вернулись из заключения. Вернулся один черевковский о[тец] Николай Кириков[222], отсидел семь с половиной лет. Правительство сбавило срок заключения на два с половиной года. Нужны неимоверные силы выдержать жестокие бытовые условия, привычка к тяжёлому физическому труду и моральная поддержка.
Глава 11
Освободившись из заключения, я еду домой через Котлас. Это произошло так быстро и неожиданно, что я не успел сообщить жене. От пристани в Ляхово (на моей родине) нужно пройти до дому пять километров. Люди пугаются меня и моей одежды. На ногах арестантские ботинки полпуда весом, грязная шапка-ушанка и такой же рваный плащ. Я решил идти возле реки берегом, скрываясь от людского взора. Внезапно явился домой. Открываю дверь, жена у стирального корыта. Ой, и заплакала от радости, не поверила, что я свободен, думала, что я сбежал.
Сходил с документами в сельсовет. Все узнали о моём освобождении, и в тот же день председатель колхоза пришёл предложить работу на пасеке. Но мне не работа, мне отдых нужен. Полтора года голодовки довели меня до такой слабости, что едва передвигал свои опухшие ноги. Да и не забыл я своих колхозных активистов, думая, опять плакаты расклеят о моём освобождении. Решили с женой, что дома жить будет беспокойно, люди в колхозе всё те же, и я пошёл справляться относительно работы в черевковский совхоз.
Работы там непочатый край, нужны столяры, плотники, есть пасека 32 улья, а пчеловод без опыта, и дело не идёт, а при пасеке столяр необходим. А зимовали ульи в здании совхозной конторы (в подполье).
Хороших бытовых условий в такое трудное время требовать нельзя. Зарплата 130 рублей в месяц, готовая квартира в крестьянской избе, бесплатный транспорт на подвозку дров для отопления. Каждому рабочему совхоза наделяли три сотки пахотной земли для посадки картофеля — а это главный способ существования. Снабжение продуктами: рабочему 500 гр[амм] хлеба, нерабочему — 300 гр[амм], 400 грамм сахару в месяц. Платная столовая: щи из капусты, толокнянка и стакан молока.
Зачислился на работу по специальности пчеловода-столяра с условием приступить к работе через две недели, так как нужно ехать в Архангельск за столярными инструментами.
Приезжая домой, вижу: чудо Бог сотворил. Наше запустевшее гумно всё застлано рыбой, закрыто бёрдами[223], парусами, половиками. Наши соседи, рыбаки рабкоопа, поймали неводом в Двине полторы тонны рыбы: лещей, язей, щук — и всё крупная рыба. После улова в доставке в двух лодках прошло более суток, да доставить в Черевковский рабкооп сколько времени пройдёт — рыба потеряет ценность. Решили рыбаки разложить рыбу на землю в один слой, чтобы не согрелась, затенили от солнца. Ждали машин из рабкоопа. Случилась сильная гроза и сильный дождь, машины не могли подняться на угоры, и было дано распоряжение продать рыбу на месте. Цена: два р[убля] 70 коп[еек] — лещи и язи, мелкие лещи — два руб[ля], щука — три р[убля] 15 коп[еек] килограмм. Быстро развесили, бери сколько угодно. Хотя рыба и потеряла часть своей ценности, но в такое голодное время — большая поддержка в питании. Мы часть рыбы увезли с собой в совхоз.
По приезде из Архангельска пошёл в совхоз уточнить, где моя будущая квартира, дрова для отопления, материал для столярных работ. Квартиру мне обещали привести в порядок: вымыть стены, пол, так как в ней хранились бочки с квашеной капустой и картофель. Пообещали дать две лошади с двумя рабочими для перевозки семьи и необходимого инвентаря. Приехали молодые деревенские парни, и мы уехали с женой, сыном, дочкой и со всем необходимым для жизни скарбом. Сентябрь месяц — самая распутица, разбитая непроездная дорога, наконец добрались до квартиры. Оказалось, что комендант не забыл, позаботился, квартира была очищена и вымыта.
Пасека находилась в двух с половиной километрах от конторы. В начале октября выпал снег, и пчёл на санях перевезли все 32 улья и поместили в подполье конторы, где и прошлые годы зимовали. Под полом очень низко, уход за пчёлами приходилось делать в лежачем положении.
Территория совхоза растянулась на семь километров, роскошные луга. Совхоз животноводческий, скот крупный, холмогорской породы, очень продуктивный. Всё население деревень работает в совхозе, но рабочей силы очень недостаточно, чтобы обработать такую территорию пахотной земли и сенокоса, потому что часть населения разъехалась по городам в поисках лучшей жизни в городских предприятиях, а многие высланы из сельской местности по раскулачиванию.
Приезжаем и видим, что картошка не убрана, овёс и ячмень под снег пошли, на лугу копны сена не застогованы, часть копен сена и перевалов осталась на зиму не убранные.
Зимовка пчёл прошла удовлетворительно. В течение зимы я сделал 15 ульев. Выставили пчёл на новое место — пустырь, недалеко от конторы. Время уже подходило к роению пчёл. Приехала ревизия, и директор и бухгалтерия задумали качать мёд для угощения контролёров. Не внимая моим уверениям, что мёду в ульях нет, ещё даже не наступил медосбор, выкачали со всей пасеки какие имелись капли прошлогоднего мёда, накачали 15 килограмм засахарившегося мёда, напомнили мне, что не ты хозяин, делай то, что приказывают. Такое варварское отношение к пасеке возмутило меня и насторожило. Такая ценная отрасль сельского хозяйства, а начальство не понимает этого и не заботится об уходе за пчёлами, для него был бы только мёд.
Жену мою назначили помощницей на пасеке и дали карточку — 500 грамм хлеба. Первый сезон нашей работы за 1940 год был благоприятный для медосбора: получено 20 роёв и 60 пудов мёда. Нами с женой были отданы все силы для получения таких высоких успехов, но никто из начальства этого не заметил, а между тем всех заслуживших премировали мануфактурой, обувью, бесплатными обедами в столовой. В товарном магазине продуктов питания не было, на полках лежали детские салазки и лыжи да по карточкам хлеб и другие продукты. Зарплату не выдавали месяца по два, приходилось питаться своими средствами.
В 1941 году построили омшаник для зимовки пчёл, взяли для постройки старый бревенчатый сруб, так как пасека увеличилась до 60-ти ульев.
В 1941 году началась Отечественная война, и в первую же мобилизацию и в последующем одну за другой взяли из совхоза почти всю ценную рабочую силу. Нависла угроза, что не убрать хлеб с полей и сенокоса. По распоряжению власти колхозы организовали бригады, отдавая последнюю рабочую силу в помощь совхозу, но и эта помощь была недостаточна. Часть несжатого хлеба и сенокоса шла под снег, картофель тоже. Весной по стаянию снега все идут собирать сгнившие колосья и копать сгнивший картофель. После промывки остаётся крахмал, из которого пекут лепёшки, подбавляя отрубей или муки из размолотых колосьев.
Купили мы козу, и мне разрешено было накосить сена в кустах, где невозможно было косить машиной.
В 1942 году пасеку в числе 70-ти ульев перенесли на новое место, это в полутора километрах на пустоши. На ночной караул назначили старую женщину Матрёну. Она жила отдельно от сына, снохи и внучки. Сын её Александр, здоровенный детина, слыл за лодыря и был в совхозе на счету как лодырь. Он обворовывал мать, отнимая у неё последний кусок. Старуха была добросовестная, своевременно приходила и уходила с караула, и мы были спокойны за пасеку. Сын её Александр таил злобу на всю семью за упрёки, что не хочет работать.
Случилось это в день женского праздника, 8 марта. В четыре часа дня дом нашего караульщика, Матрёны, загорелся. Я прибежал, когда крыша дома объята была пламенем. Ворота заперты на замок. Прибежали на пожар по-праздничному одетые, но никто даже ведра не принёс. Были и пожарники, но подступиться к горящему большому зданию невозможно, пожарную машину подвезти не на чем и не на ком — по случаю болезни лошадей наложен строгий карантин. Когда уже стала проваливаться крыша, увидели, что в огне стоит человек, и закричали: «Вон Олька-то[224], вон Олька-то! Наверное, в петле». Так и не узнали, куда делись хозяева — живы или сгорели. На следующий день приехала милиция, разобрали головни и кирпичи и нашли три безголовых трупа, скелет козы. Под кирпичами даже валенки не сгорели совсем. А где же четвёртый труп? На следствии выяснилось, что Александр отрубил всем головы, трупы положил в подполье под печь, рассчитывая, что обрушившаяся печь засыплет трупы, а сам повесился, а где уж головы — не выяснено до сего дня.
На караул пасеки дали другую женщину. Перезимовали пчёлы удовлетворительно. В помощь мне назначили мою жену. В этот сезон было очень много роёв и много мёда. Около Ильина дня (20 июля старого стиля) ночью пришёл на пасеку вор, раскрыл два улья, но сторож услыхал, поднял крик. Вор бросил в сторожа тяжёлую палку, побежал и закричал: «Пасеку грабят, пасеку грабят!» Разбудил директора, меня стуком в оконную раму, кричит: «Пасеку грабят!» Сбежался на пасеку сонный народ, директор приехал верхом на лошади, все бегают, ищут вора во ржи, ячмене и кустарнике. Больше всех старается искать вора сам вор. Так вора и не нашли.
Для безопасности и сохранности пасеки дали второго сторожа и дали ему ружьё. Продукты питания очень дороги, килограмм хлеба на рынке — 60 рублей, фунт масла — 500 рублей, пуд картошки — 300 рублей. Хотя крали совхозные овощи рабочие, но причастны к этому злу были и служащие. И всё же не очень строго судили до сих пор. А вот положение изменилось. На общем собрании рабочих и служащих директор заявил: «У нас в совхозе началось нестерпимое воровство: обрезают колосья у суслонов ржи и ячменя, крадут картошку и свеклу. Имейте в виду и строго учтите, что с сегодняшнего дня за покражу совхозного имущества независимо от количества и стоимости — десять лет заключения или лишения свободы[225]. Запомните!» И, не внимая предупреждению, многие поплатились свободой — четверо женщин украли десять кочанов капусты и осуждены на десять лет заключения.
Летом 1941 года прибыл в колхоз трудовой эстонский батальон[226], не знаем, с целью ли помочь совхозу или другая на это была причина, разместился батальон по квартирам в деревнях. Армейцы большого роста, дисциплинированные, но плохо говорят по-русски. Хотя у них в батальоне своё довольствие, но тоже скудное, работники хорошие, но в совхозе, вероятно, им работать не разрешалось. Батальон занялся восстановлением проезжих дорог, ремонтом мостов, которые не ремонтировались уже 20 лет. Как это было для совхоза кстати, но батальон через год или около того отозвали в другое место. Культурные были армейцы, у них свой духовой оркестр.
И опять же трудности по уборке урожая хлеба, овощей и сенокоса. Хотя с девяти колхозов бригады помогали совхозу во время уборочной, но этого недостаточно. Не знаем, по какой причине, а может быть, такое распоряжение правительства[227], на помощь совхозу назначен лагерь заключённых. Отведённую территорию начали обносить трёхметровой высоты забором из досок и горбылей и делать каркасы для натяжки палаток. Прибывают отряды заключённых человек по 50 и более — рабочей силы для совхоза достаточно.
Оказалось, что эта сила для совхоза и населения опасная, развратная. Не все заключённые законвоированы. Гуляя свободно днём и ночью, грабят огороды и, работая на огородах, делают ямы и ссыпают картошку, а потом ночью уносят. Особенно нуждались заключённые табаком, а также и население нуждалось — выращивали табак и курили самосад, сами обрабатывая его.
Совхоз доверял заключённым мешки для погрузки картофеля и других продуктов, топоры и лопаты. При первой возможности заключённые променивали хорошие мешки населению на какие-нибудь обрывки гнилых мешков, новые топоры променивали на утиль-топоры. На общем собрании выяснено, что совхоз почти полностью лишился мешков 1500 штук, топоров 400 штук, растеряны все заступы и лопаты. Всё это перешло в руки населения, потому что у всех был кризис в этом инвентаре.
Директор, военный, в чине полковника, Бисти Матфей Егорович, ведёт себя оскорбительно для слушающих. Хотя речь идёт с бригадирами заключённых, которые сквернословят так, и они считают это нормальным, но директору это очень не к лицу, он так и сыплет слова: «в бога мать», «в бога мать». И это сквернословие у заключённых вошло в норму, и для них не заметно изругаться для крепости. Начальник общего снабжения (ЧОС) подошёл к директору и сказал: «Нельзя ли, Матфей Егорович, как-нибудь помягче, ведь здесь люди есть!» Видимо, по мнению директора и ЧОС заключённые не люди, а только сторонние зрители.
Тут пришла на совхоз новая большая беда — падёж лошадей от болезни «анемия». В течение двух лет погибло 200 лошадей, и оставшиеся были все заражённые. Заражена вся территория, строжайший карантин и запрет въезда на лошадях на территорию совхоза, запрет отпуска сена в незаражённые местности. Для уцелевших, хотя и больных лошадей настроили бараков для содержания и лечения, и, видимо, лечение не давало результатов, все лошади погибли.
Ох, тяжёлое было время! Пришлось, взаимно помогая друг другу, впрягаться по пять человек в соху и тащить вчетвером, а пятый управляет сохой. Совхоз начал обучать к пашне и перевозке грузов быков-производителей, и для этой цели стали кастрировать и приучать к работе двухлетних бычков, а многие начали обучать своих коров, и удивительно, как хорошо поддаются обучению быки-производители, бычки и коровы. Наготовили специальных хомутов и начали приучать бычков к пашне, бороньбе и запрягать в телеги. Жаль смотреть, как бычок везёт с усилием телегу с грузом, и если в гору, то упирается лбом в землю, а тянет. А вот зимой очень плохо: нога на льду и снегу скользит, а подковать ногу копыто не позволяет.
С приходом заключённых страшно стало работать на пасеке. На одном конце работаем, а с другого конца, не страшась ничего, уже рамки потащили. Ночью приходится сторожу беспрерывно сидеть у ульев с ружьём.
Пасека доведена до 105 ульев, доход уменьшился — получилась перенаселённость пчёлами, и решено было половину пасеки вывезти на вторую ферму за семь с половиной километров, а для пчеловода дать лошадь ездить на вторую ферму для работы с пчёлами. Таков был план. При постройке омшаника взяли бревенчатый сруб с гумна, заражённый грибком, и никто этого не подозревал, а я в этом деле не сведущий, не придавал значения тому, что зимой на стенах выступала белая плесень. При уборке омшаника обмету плесень метлой и спокоен.
Пчёлы, 105 ульев, стояли в двух рядах на стеллажах в три яруса. Прихожу в омшаник, и — о, ужас! — обрушился потолок с землёй на ульи, взбудораженные пчёлы вылетают из ульев. Бегу в контору, пришли конторские, пришли плотники с топорами, но без сеток — к пчёлам не подступишься, а работать надо немедленно. Завязавшись шарфами и полотенцами, кой-как сняли с верхних рядов упавшие брёвна, сбросив их между рядами ульев. Так весь март месяц до выставки пчёлы стояли без потолка. Большого ущерба для пасеки не было.
Половину ульев в июне месяце перевезли на вторую ферму. Так распорядился новый зоотехник, прибывший из заключения, Кривец Павел Васильевич, а мне на лошади надо ежедневно ездить на вторую ферму за семь с половиной километров на работу с пчёлами и в то же время выполнять работу на своей пасеке, по мнению зоотехника, эта работа выполнима для одного человека, а нас с женой двое. Я заявил, что это для меня невыполнимо, и подал заявление на расчёт, имея в виду, что через три месяца мне исполняется 60 лет.
Не рассматривают моего заявления, и у нас забота о том, как и где пчёлы будут зимовать. Дрова для отопления пасеки с падежом лошадей перестали возить — привезут один осиновый кряж сырой, пока чахнет осина, температура падает до восьми градусов холода. Вот тут и болей за пасеку. Провалившийся потолок заменили новым. Перевезённые пчёлы в тот же день вернулись на старые места обратно, все с пергой[228], облепили колышки. Тут зоотехник увидел свою ошибку, узнал, что пчёл надо увозить не ближе десяти километров. Пришлось сметать пчёл в роевни и везти обратно на вторую ферму. На следующий день та же картина.
Для отопления своей квартиры пришлось возить дрова на салазках своим плечом.
Одно было хорошо, что в ближайшем лесу за два с половиной километра осенью росли грибы грузди, и я имел возможность заготовить на всю зиму. Этот гриб самый ценный для засола. С картошкой и растительным маслом хорошее питательное блюдо, хотя масла у нас не было.
Питаю мысль, как бы вырваться из совхоза. Приезжает с моей родины из Ляхова счетовод Перевозников с предложением и с просьбой переехать на работу в свой колхоз на место пчеловода, так как после пожара на пасеке колхоз снова выписал из Украины пчёл 11 семей, а пчеловодство доверить некому.
Я чистосердечно открылся ему, что мне не место у вас работать, потому что вы постановили своим колхозным собранием, чтобы я убрал с территории вашего колхоза свой пустующий дом, и ваши комсомольцы (актив) пишут плакаты о моей церковной службе и разрушили мою пасеку, так на что я могу надеяться у вас в будущем? Когда я был у вас пчеловодом, с 36-ти ульев дал 15 роёв и 87 пудов мёда, а когда был товарищеский обед в Октябрьский праздник, всех колхозников наделили продуктами своего печенья и провели колхозный товарищеский обед, а мне пришлось со стыдом уйти, когда бригадир проголосовал, давать ли Карпову печенья и обедать ли, то никто не проголосовал за это. Я тогда с семьёй более нуждался, чем вы, колхозники. Вот это меня и наводит на мысль, что для меня у вас не найдётся места для работы.
Счетовод сказал, что, действительно, тогда так было, а теперь у нас порядки не те и люди те отстранены от дела. Я говорю, а чем мой дом помешал, если приказываете убрать его, и куда убрать? А продать — ещё самому, может быть, пригодится. Ведь из-за дома пришлось идти к прокурору, и получил точное разъяснение, что нет такого закона, чтобы собственный дом хозяина сносить или убирать.
В этом 1948 году пчеловодный сезон был посредственный, пчёлы дали по 15 килограмм на улей и немного роёв — не выполнили плана 17 килограмм на улей. И по животноводству план не выполнен, а пчеловодство числится в одной рубрике с животноводством. Вот и придумало начальство по предложению зоотехника создать фальшивый — не существующий доход пасеки и это перевыполнение плана пасекой перечислить на животноводство.
А как это сделать? Ведомости о количестве мёда в ульях для зимовки составлены в трёх экземплярах — мёду для зимовки оставлено достаточно. А по мнению зоотехника, мёду в ульях лишка нельзя держать — лучше весной подкормить пчёл. Проверили ведомости и из каждого улья исключили по два килограмма, которые можно изъять из ульев как бы для весенней подкормки. Ведомости нужно переписывать. Я не пошёл на эту меру — не стал переписывать своего экземпляра и заявил, что я за пасеку не согласен отвечать, если пчёлы за недостатком мёда в ульях будут гибнуть.
Тут на меня поднялась вся контора: вот новый бунтарь, не подчиняется начальству. Я ушёл, написал заявление на расчёт и передал директору. На следующий день вызывают меня в контору, и главный бухгалтер и прочие с вежливостью сообщают мне: мы нашли выход, давайте опечатаем пустой шкаф, будто в нём хранится 150 килограмм мёда сего года сбора, и этот несуществующий излишек пойдёт на покрытие невыполненного плана по животноводству, тогда получим две государственные премии: одну по животноводству, другую — по пчеловодству.
Я спрашиваю: «А если этот пустой опечатанный шкаф проверят, а там ничего нет, то за это кто отвечать будет?» — «Никто не будет проверять. Ведь у Павла-то Васильевича, зоотехника, не корчага вместо головы!» Директор убеждает меня, что это выгодно очень сделать, и получим от государства две премии. Я сказал, что в вашей власти это делать, но только без моего участия. Директор: «Нет, это ты должен сделать!» Я сказал: «Рассчитайте меня, я не могу в таких условиях работать, как я могу хранить пустой шкаф, в котором должно быть 150 килограмм мёда?» Думаю, на опасную дорогу меня толкают. Ведь на самом деле я не подчиняюсь начальству, и подчиниться страшно, и совесть подсказывает, что нельзя. Но уже исполняется мне 60 лет жизни.
На следующий день четвёртый раз пошёл к прокурору, чувствуя и страшась беспокоить своей навязчивостью. Я упросил прокурора выслушать меня. Три заявления подал об увольнении, и не рассматривают заявления. Заставляют хранить несуществующие 150 килограмм мёда в пустом запечатанном шкафу. Я страшусь подчиниться их приказу. Прокурор звонит директору совхоза: «Ко мне уже в четвёртый раз приходит ваш пчеловод Карпов, и вы несправедливо поступаете — не увольняете его, уже имеющего права на пенсию, а насчёт заместителя, как вы говорите, то это не его дело — вы сами ищите. Карпов живёт на подведомственной мне территории, а поэтому я и делаю вам замечание. Вы должны сегодня же его рассчитать!» — и положил трубку, но вдруг снова звонок: «Товарищ прокурор, вы знаете, с кем имеете дело, ведь этот человек недавно рясу снял». Прокурор ответил: «Ну и что же, что снял рясу, ведь это ни вас, ни нас не касается!» Прокурор повесил трубку (говорил это не директор, а начальник оперативки — полковник Остапенко). Прокурор сказал мне: «Иди спокойно домой — завтра вас рассчитают». Прихожу со страхом в кабинет директора и вижу на столе под стеклом своё заявление и резолюцию: «Рассчитать». Какой камень отвалился от моей груди, и сейчас чувствую это.
Глава 12
Все девять лет работы в совхозе я не пользовался месячным отпуском, хотя бы в зимнее время, и не видел ни одного человека, с которым можно поделиться своими мыслями. Церкви были закрыты, и я неотлучно находился в совхозе до половины августа 1948 года. Опишу памятное событие. Это было в августе 1944 года.
По деревням совхоза ходила женщина в виде монахини, рекомендуя себя, что она послана из Архангельска от архиерея объявить в совхозе, что приедет священник крестить детей. Население было почти все верующие и рады были такой вести, ведь церквей нет вблизи, нужно для крещения ехать в Архангельск или Котлас, где не закрыты церкви, а сколько нужно женщине перенести трудностей с ребёнком в поездке, а тут счастье — священник сам приезжает в деревню. И без всякого подозрения все верили этому.
И, действительно, появился человек в подряснике и скуфье на голове, и никто не догадался спросить документы. Он остановился в нашей деревне у соседки. Отрекомендовал себя священником, посланным архиереем крестить. Видимо, все верили его словам. Женщина предоставила для совершения крещения свою избу и кадку для купели.
Ещё рано утром пришли десятки женщин и привели по двое и трое детей. А было объявлено женщиной, что за крещение плата 30 рублей и деньги эти будут сданы в государственную казну. Очень сожалею, что эта весть не дошла до нас своевременно и я ушёл в лес за грибами. Какое последование крещения происходило, я не видел, но, по словам очевидцев, у священника был один фартучек (епитрахиль), деревянный крестик и книжка (требник, а может, молитвенник), а помазание делал ватой маслом. Окрестил он 45 человек, не погружая в воду младенцев, а чуть коснувшись воды. Крестились шести- и семилетние. Как жаль было, что не пришлось видеть такого важного события.
Я ранним утром пошёл на свидание или, вернее, добиваться свидания со священником, но хозяйка сказала мне, что батюшка ушёл в Черевково внести в кассу полученные за крещение деньги. Перешёл батюшка в другую деревню и начал крестить. Одна добрая женщина принесла хороший большой платок, постлала на стол, считая, что неприлично совершать крещение при непокрытом столе. Кончив крещение, священник завернул в платок свои священные вещи, вероятно, предполагая, что платок пригодится при следующем крещении, или, может, с намерением присвоить платок, перешёл в другую деревню. А женщина пришла за платком, а священник ушёл в другую деревню, женщина бросилась в погоню за священником, а платок уже продан за 90 рублей.
Она взяла платок, так как свидетели — очевидцы всех деревень, а священник исчез. Оперативники искали его, но не нашли. Так я и не удостоился видеть, как совершал крещение сей проходимец. Многие женщины спрашивали меня, крещены ли наши дети и поп или бродяга какой крестил. Я предлагал им спросить священников, и они разъяснят этот вопрос.
Мой заместитель без всякого опыта по пчеловодству взял на себя ответственность за 105 ульев. Он работал бухгалтером, и начальство выдвинуло его на эту работу. И начал он получать ежегодно премии по три пуда мёду и по 1000 рублей деньгами. Человек, не имеющий опыта, в течение четырёх лет довёл пасеку в 105 ульев до 25 ульев, а приписывали это печальное явление не вине пчеловода, а непригодности для зимовки пчёл вновь построенного омшаника.
Из беседы со своим приятелем-агрономом я узнал, что я подлежал премии не только за работу на пасеке, а за красоту сработанных ульев. А лишился ты премии за свою честность. При взвешивании мёда при сдаче не весь нужно было записывать, а хотя бы третью или четвёртую часть скидывать, а начальство, боясь твоей честности, не смело предложить тебе этого. Тогда ЧОС (начальник общего снабжения) завалил бы премиями — были бы тебе сапоги, валенки, ботинки, и получал бы ты положенное тебе конторское снабжение продуктами. Твой заместитель смышлёнее тебя, а ты не пошёл на такой путь. Ты доказал на пчеловодстве активность и честность, ежегодно сдавал 70–80 пудов мёда. Отсылали по два года на фронт по 12 пудов мёда. Я и сам видел и сознавал, что я на учёте у начальства как церковнослужитель, а это для начальства совхоза, как бельмо на глазу.
Работая в совхозе, я уже стал планировать, что не вечно же жить в совхозе презираемому, надо искать постоянное место жительства и завести какое-нибудь хозяйство. На родину ехать не лежит сердце — не дадут заняться пчеловодством. Куда решиться ехать из совхоза? Планируя ехать, я уже завёл для себя пасеку из пяти ульев и сработал запасных пять ульев. При переезде на новое место нужно найти источник существования в преклонном возрасте.
В Пермогорье была сестра моей жены — учительница, вдова с тремя детьми, Александра Ивановна Попова. Она переживала голодовку, так как при карточной системе и одно учительское жалованье не обеспечивает существования. Она предложила нам переехать к ней в Пермогорье в свой дом, где есть все условия развести пчёл и прекрасная зимовка. Договорились, чтобы вместе вести пчеловодство, огородничество и садоводство. Дети трое, все учатся и все разъехались на работу.
Жили мы общей семьёй в одной комнате. Два наших сына погибли в армии. Один сильно раненный из госпиталя отпущен домой и через два месяца помер, о втором пришло извещение — убит на подступах к Берлину, не дожил нескольких дней до Победы. Итак, решено ехать в Пермогорье.
Я, чувствуя презрение за свою церковную службу, за девять лет не заметили моей работы, даже незаконно урезали карточки — жене 300 гр[амм], дочке 200 гр[амм], едва поверил, когда приказано было директором дать две машины для перевозки моего имущества. Одну машину под десять ульев, другую для нас и нашего скарба, и дал рабочих погрузить и выгрузить в Пермогорье. Пчёл поставили в огороде Александры Ивановны.
Ох, трудное было время! Приходилось делить каждую кроху хлеба. И сама Александра Ивановна голодала, приходила к нам в совхоз за картофельной шелухой, которую мы для неё сушили и хранили.
Получил с родины из Ляхова письмо, приезжайте, устраивайте свой дом, иначе всё растащат. Приехал и вижу: настил рундука у амбара исчез, новый потолок у амбара выбран, кирпич в амбаре исчез, ограда исчезла, вместо неё — изгородь из ивовых горбатых жердей. Был парник и шесть хороших парниковых рам в амбаре — всё исчезло. Заколочено в окнах 18 новых рам — опасаюсь, что и те украдут. Не может быть дом без хозяина. Что делать с домом? Колхоз ждёт, чтобы я убрал, но дом, кажется, никому не мешает. Решили продать дом и деньги положить в сберкассу, и при случае купить дом в Пермогорье.
Сделали вопиющую ошибку — не купили сразу по приезде в Пермогорье дом. Целые деревни домов пустуют. Народ разъехался в поисках лучшей жизни, часть раскулачена и выслана на север. Без всякого запрета отопляются домами все учреждения: школы, клуб, изба-читальня, сельсовет, почта, больница, детясли. А дрова-то из домов хорошие, сухие и дешёвые.
Но положение быстро изменилось. Люди стали возвращаться в деревни. Красноборск заселялся новыми приезжими людьми, и дома стали раскупаться нарасхват, хотя дома и недороги, но уже все раскуплены и увезены в Красноборск. При переезде нашем были деревни по 10–12 домов, и все раскуплены и увезены.
Деньги были переведены на новый счёт[229], из наших десяти тысяч оказалось по новому счёту только три тысячи. По сложившимся обстоятельствам зять и дочь Александры Ивановны приехали домой в Пермогорье и заявили, чтобы мы покупали для себя дом. Да и сами мы поняли это, но упустили возможность — купить было уже нечего, только полуразвалившийся какой, годный на дрова. Купили в ближайшей деревне старую избу за 1200 (120 рублей), перевезли, сложили, насколько могли — устроили и достраиваем уже 16 лет, а всё ещё не доустроено.
Пасека с Александрой Ивановной доведена до 16-ти ульев. Очень хорошие были ежегодные медосборы. Колхозные поля были засорены васильком и другим сорняком — осотом, ячмень и рожь выглядели издали, как синее море, на васильках с утра до вечера от пчёл гул стоит, и получается мёд васильковый.
Перевёз я пчёл к своему дому в количестве десяти ульев, перевёз ягодный сад — смородину, мичуринскую рябину, крыжовник, малину, землянику, обнёс огород трёхметровым забором согласно пчеловодному законодательству. Но, видимо, и в Пермогорье посмотрели на меня, как на служителя Церкви. И на общем собрании колхозников было вынесено решение отобрать у меня огород с садом, а пчёл оставить пять ульев, а восемь семей сдать в колхоз. Такое постановление вынесено для имеющих в личном пользовании коров пенсионеров и учительства — платить 500 рублей с коровы за выпуск на поскотину. Что делать?
Поехал я в Архангельск в облземуправление с заявлением, мне в конторе сказали: «Поезжай, дедушка, домой, никто ничего у тебя не отберёт». Я говорю, что уже отобрали. От углов дома отмеряли четыре метра — это моя территория, а остальное в огороде с садом — всё колхозное. О сдаче в колхоз уже предупреждение, если не сдам восемь ульев в течение трёх дней, будут приняты репрессивные меры. Так и уехал домой без полного разъяснения, оставив своё заявление.
Слышу через козхозников — председателю колхоза из земуправления запрос: «На каком основании у пенсионера Карпова отбираете пчёл и сад?» Председатель ответил, что это произошло ошибочно, а сам подписывал бумаги о сдаче.
Я получил из областного управления указание такого содержания: «Пчеловодство, а также и ягодное садоводство наивыгоднейшая ценная отрасль сельского хозяйства. Согласно закону все организации советской власти и лица обязаны оказывать всякое содействие и помощь лицам, занимающимся пчеловодством, не исключая рабочих и пенсионеров, а особенно в Архангельской области, особенно богатой медоносами, но пчёл в области так мало, что в некоторых районах нет ни одной пасеки. Поэтому вы, тов. Карпов, имеете право держать на своём огороде неограниченное число ульев, а также и садоводных ягодных культур.
Облземуправление, дата».
Имея на руках такое разрешение земуправления, я держу десять ульев пчёл и совершенно спокоен за их существование.
Заключение
Направление в мой жизненный путь дал мне Соловецкий монастырь, куда я по обещанию матери ещё 12-летним в 1902 году был отправлен, где в соборном церковном хоре развился у меня вкус к пению и музыке. Отдал этому изящному чувству и искусству всю жизнь и нашёл для себя в музыке и хоровом пении счастие и удовлетворение. Музыка и пение затрагивают лучшие струны моей души, уводят меня в другой — высший — мир, в минуту жизни трудную[230] являются единственным утешением и успокоением. Как приходится сожалеть, что созданное церковными композиторами такое неоценимое богатство в настоящее время отвергнуто: презрено и запрещено издавать на грампластинках.
Но что делать? Новое воспитали общество, новый в нём вкус и дух. Дух нового современного общества — отвержение Бога и всего священного, что освящает человека и отличает от животных. Современный образованный человек находит счастие работать на благо общества, на увеличение материальных благ, цель очень высокая, и все мы должны стремиться к ней, как к высшему идеалу, но в то же время возникает неизбежная мысль: что такое человек без веры в Бога? Только высшее всех тварей земных животное, и больше ничего. В последнюю минуту жизни, не веря ни в Бога, ни в душу, отходит (умирает) с сознанием полного небытия за гробом. Печальное положение, ужасное!
Теперь каждый неверующий, учёный современного общества, делает вывод: если есть Бог, то Он уже не заботится о человечестве, и если бы был, то не допустил бы безбожию одерживать такие победы: разрушать св. храмы, монастыри, кощунственно надругаться над дорогими для верующих святынями, и такие действия исходили из духа современного нового общества. Но есть другой — высший — мир, к которому наука не может приложить свои исследования по несовершенству человеческого знания и понимания, так как вопросы эти уходят за пределы человеческого понимания.
К счастию человечества, Бог не оставил человека в полном неведении о Своём бытии и создании вселенной, и во время потребное открывает о Себе, и сподобившиеся такого откровения сознают, что вездеприсутствующее, всевидящее око Божие видит все их дела, мысли, намерения и желания и всё будущее человечества. И это для меня так достоверно и неопровержимо, как неопровержимо реально моё существование. В Боге мой покой[231].
К такому вышеизложенному выводу привела меня моя пройденная и мятущаяся жизнь, жизнь трагическая: быть презираемому как служителю Церкви, отставшему от современной жизни и культуры человеку. Но это, по моему мнению, вполне естественно, так как в настоящее время религия наукой считается пережитком суеверных первобытных дикарей.
Переписка Ивана Степановича Карпова и Сергея Зосимовича Трубачёва
№ 1. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву[232]
Здравствуйте, достоуважаемый Сергей Зосимович!
Шлём горячий сердечный привет Вам и всему Вашему семейству. Поздравляем с праздником Великого Октября. Благодарим за ценнейший подарок — пластинки для радиолы с большим содержанием. Есть в них унисонное старинное, древних времён пение пасхальных стихир, догматик 5[-го] гл[аса] в унисон знаменного распева, «Аллилуйя» хоровое, часть концерта «Не отвержи мене во время старости»[233] для хора, «Достойно есть», две «Херувимских», много достопримечательного, с восхищением слушаем с радиолы. Пробовали перевести на магнитофон от сети 220 вольт, но от одной розетки с подключением тройника получилось слабо. Попытаемся записывать с подключением радио. Музыка и пение — это моя страсть. Развилась она с детства. В 1902 году отдала меня мать в Соловецкий монастырь по обещанию на один год, видно, Господь судил мне быть певчим в соборном хоре, а это и в последующей моей жизни отразилось благотворно. Постепенно приобреталась практика. Везде, и на военной службе, хор, хотя мужской, необходим, и мне пришлось быть в военном мужском хоре. После демобилизации, в самый государственный переворот[234], пришлось на время лишиться всяких удовольствий, а когда вышел на пенсию, с новой энергией начал восстановлять своё искусство. Дочь помогла мне в этом — купила мне разбитую фисгармонию, произвели ремонт, и теперь я вполне удовлетворён, играю в свободные минуты. Хотя я не достиг совершенства, не могу бегло играть, но, заучивая, пробегая десятки раз одно песнопение, играю для себя удовлетворительно.
В приобретении нот мне помог Орест Васильевич Спасский[235]. Он познакомил меня со старцем, Архангельского кафедрального собора регентом[236], который по своему добродушию уступил мне весь имеющийся у него репертуар. Тут и Бортнянский[237], Ломакин[238], Ведель[239], Архангель[ский][240], Турчанинов[241], Соколов[242], Дегтярёв[243]. Мне не проиграть их в течение моей краткой жизни. Если Вам не лишняя будет партитура «35 концертов Дм. Бортнянского», то я немедленно пошлю Вам. Я списал девять концертов, в том числе «Скажи мне, Господи, кончину мою», по заключению Чайковского — самый лучший концерт из всех 35-ти[244]. Все ноты от меня останутся никому не нужны, так как не вижу и не встречаю никого из молодых людей, музыкантов и певцов в духе старого времени. А если и есть, то всё эстрада по вкусу современного поколения. Самые любимые из песнопений — концерт «Днесь Владыка твари», муз[ыка] Веделя (соль минор), «Свете тихий» Веделя (до минор).
Я теперь только вспомнил и догадался, что я знал Вашего папу Зосиму Трубачёва[245]. В 1912 году мы ждали приезда в Красноборск епископа Вологодского и Тотемского Никона[246], целую неделю в здании школы была спевка, управлял хором Зосима Трубачёв, ещё очень молодой, лет 20-ти, уже, вероятно, кончивший духовную семинарию[247]. Уже с большой практикой регента. Очень приятно вспомнить, что пришлось и мне участвовать в хоре под управлением Вашего родителя. От Зинаиды Владимировны[248] пластинки я получил давно, но не мог ответить до сего времени по сложившимся обстоятельствам в ремонте дома и с огородом и пчёлами.
Благодарим за Ваше добродушие. При посещении Пермогорья убедительно просим посетить нас, стариков. Будем надеяться, что уделите время написать о своей жизни.
С искренней благодарностью
Иван Степанович и Мария Ивановна
1969 г. 7 ноября
№ 2. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
Дорогой Иван Степанович!
Письмо Ваше и удивило меня, и обрадовало. Удивило ясностью мысли, свежестью памяти, своеобразием слога и твёрдостью почерка. Обрадовало воспоминанием о моём папе и неожиданностью самого письма, хотя я давно ждал сообщения от Зинаиды Владимировны.
Радуюсь и тому, что встретил в Вас человека, чуткого к музыке, через всю жизнь пронесшего необычайную любовь к хоровому пению. Мне очень приятно, что пластинки доставили Вам радость. А ростовский звон? Вы не написали, слушаете ли его. Буду Вам чрезвычайно благодарен за хоровые партитуры — любые, потому что мне очень хотелось бы собрать песнопения, интерес к ним у меня огромный, особенный, а от нотного собрания моего отца почти ничего не осталось. Не могу согласиться с Вами, что «все ноты останутся никому не нужны», уверяю Вас, что они очень нужны. Если около Вас нет такого человека, оставьте их мне. Нельзя допускать уничтожение их, ведь всё это почти не восстановимо. Не лишайте себя радости играть на фисгармонии, а если не будет сил, Вы теперь знаете, кому эти ноты, а также и книги на славянском языке могут быть переданы.
Как жаль, что Вы не можете послушать церковные песнопения в живом звучании. В Москве есть хорошие хоры, где исполняются Бортнянский и Ведель, Чайковский и Рахманинов[249], Чесноков[250] и Кастальский[251]. Мне ближе всего древнее знаменное пение, и я помню, что папа всегда тяготел к нему.
Получил сообщение из Архангельска о кончине Ореста Васильевича 23 октября. Летом я видел его и передал ему от Вас привет и подарок. Играл для него на фисгармонии. Но Орест Васильевич был очень слаб и молчалив, видимо, угнетён своей болезнью.
Из Архангельска мы отправились на Соловки, жили там неделю, много ходили по острову, побывали на Анзере, Муксалме и Заяцком острове[252]. Полюбились мне дорога через дамбу[253], дивные лесные озёра, гора Секирная и гора Голгофа на Анзерском острове. Но повсюду разрушения, едва ли восстановимые. Вспоминали Вас, увидев около музея два монастырских колокола — всё, что осталось от соловецкой звонницы. Один из них отлит в память об осаде[254] и висел возле галереи под особой сенью, а другой — древний, кажется, итальянский, не его ли передали англичане в тот год, когда Вы жили в монастыре?
Если Вам не трудно, напишите воспоминания о монастырском пении, какие тогда были хоры, регенты и канонархи[255], что пели и как Вас учили пению. Буду очень благодарен за всё, что вспомните и сообщите.
Кланяюсь Марии Ивановне. Сердечный привет от моего семейства. Спасибо за приглашение навестить Вас — непременно буду, когда приеду в Пермогорье.
С любовью и уважением
С. Т.
14.XI.69
№ 3. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
Здравствуйте, достоуважаемый Сергей Зосимович!
Шлём Вам с любовию сердечный привет с пожеланием доброго здоровья, успехов в текущих делах, а также сердечный привет всему Вашему семейству. Получили Ваше любезное письмо, обрадовавшее нас, что мы не одиноки, а есть такие благородные любители и ценители такого высокого искусства, как музыка и хоровое пение. Я-то считаю, что мне пришлось получить вкус к пению по случаю обещания своей матери отдать меня на один год поработать в Соловецком монастыре, но не знаю, Богом суждено или слепой случай — меня и других подростков монах-регент привёл в келью на фисгармонии пробовать голоса. Как это было не смело, с волнением открыть рот и попасть в тон со звуком клавиши. Троих из нас принял, двое из нас украинцы. Всего нас было 19 человек, соборных 14 и пять из церкви Св. Филиппа.
Скучал очень, да и трудно было вставать утром в три часа к полунощнице, да и пению учиться с буквы «а» тоже не легко. Нас, альтов, было шесть человек, двое уже освоили сольфеджио, кончившие городское училище, и пели в хоре. Очень трудно в том, что пение в будничные дни знаменное и подобны под диктовку канонарха. А в праздники стихиры по гласам Восьмигласника[256]. Хор праздничный в большом составе: шесть басов, четыре тенора, шесть альтов, шесть дискантов — и ещё в большие праздники для пополнения приходят. Нам в детском возрасте нужно бы воспринимать посерьёзнее, а нам более всего нравилось в праздники идти с концертом к настоятелю архимандриту Иоанникию[257], где нас одаривали конфетами, а басов и теноров красоулей[258] красного вина. Любимые концерты настоятеля: «Реку Богу: заступник мой еси»[259] и второй концерт: «Се, что добро, или что красно, но еже жити братии вкупе»[260]. Первый — соль минор, а второй, очень торжественный, — до мажор. Жаль, что у меня не сохранилось, а на память все голоса не написать.
Дальнейшее своё сиротское существование не буду описывать, затрудняя Вас чтением. Всё трагическое в нашей жизни кануло в вечность. Вспомнишь и согласишься с тем, что, видно, так Богу угодно вести нас по такому пути. Хотя страсти есть страсти, но свою я не считаю грехом, думаю, что она не безобразит, а напротив — облагораживает человека. Ваши пластинки я пытался перевести на магнитофон[261], но получается слабо. С большим восхищением хожу к соседям на радиолы, все песнопения чудесны, особенно концерт после «Херувимской» № 7[262] «Не отвержи мене», 2-я часть, всех пять частей, все в тоне ре минор. У меня он списан с партитуры со старыми ключами, пришлось переводить в скрипичный ключ. Стихиры Св. Пасхи сходны с современным напевом.
Прошедшие годы, тому десять лет назад, я ездил в Архангельск специально слушать архиерейский хор, когда ещё хор был в полном расцвете, а потом всё стал убывать, но всё же был хотя слабый, но хор, а в настоящем году гостил у дочери две недели, три раза ходил на архиерейскую службу, но что же я услышал — от хора ничего не осталось, старческие женские голоса, поют без нот, простое пение, без фундамента, ни одного мужского голоса; могли бы петь трио, но, видимо, пение не на главном месте в архиерейском служении. Пришлось только сожалеть, что исчезает такое благолепие храма Божия. Наш возраст подсказывает нам, что уже стремиться не к чему, жизненный путь волнующийся пройден. К чему стремились, всё оказалось ничтожно. Скука. Но есть хороший путь прогнать её. Сел за фисгармонию, и благодушие наступит, и прогонит[263] все невзгоды.
Хотя [я] малограмотный, но меня занимают вопросы современного общества, о которых я люблю послушать и побеседовать, особенно о том, какое будет современное и будущее общество. Да ещё меня интересует то, что теперь в Москве два Патриарха, один православный — светлейший Патр[иарх] Алексий[264], а второй — старообрядческий, именует себя древлегреческого благочестия Св. Соборныя и Апостольския Церкви, Московский и всея Руси светлейший Патриарх Флавиан[265]. Я брал два номера старообрядческого календаря и видел фигуру его, по росту, бороде и волосам — только и быть ему патриархом. Такой же великан и протодьякон его. Если Вас интересует видеть его или узнать, встречаются ли когда патриархи и беседуют ли[266].
Мне на мысль пришло сегодня послать Вам партитуру Бортнянского «35 концертов» и ещё кой-какие песнопения, может быть, найдёте что-нибудь подходящее. «Милость мира» Архангельского[267] № 8 очень величественная, я увлекаюсь ей. У меня, что послано Вам, всё для себя списано. Прошу сообщить, есть ли что, удовлетворяющее Вас. А далее буду просить Вас, но боюсь, уместно [ли] будет просить, так как Вы и так объявили[268] к [нам] великое добродушие — послали такие великолепные песнопения, желательно бы иметь ещё сколько-нибудь таких великолепных песнопений, и я бы уплатил бы Вам чем пожелаете, главный продукт у нас — мёд. Хотя прошлый сезон для медосбора неудачный, но на такой предмет, как пластинки — найдём. Но, может быть, я прошу неосуществимое. Всё же было бы удовлетворение для старика. Благодарим за добродушие и желаем Вам успехов в Вашей работе и всякого благополучия Вашему семейству. До свидания.
С искренним уважением
Иван Степанович и Мария Ивановна
1969 года 24 ноября
Извините, что написал оч[ень] много и ни складу ни ладу.
№ 4. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
Дорогой Иван Степанович!
Сердечно благодарю Вас за подарок — концерты Бортнянского. Партитуры концертов у меня не было, и я очень признателен Вам. Но не лишайте себя радости играть на фисгармонии то, что Вам дорого. С радостью пошлю Вам снова пластинки или плёнку, если буду знать, на какой скорости Ваш магнитофон.
Интересно ли Вам послушать народные песни в исполнении хора Свешникова[269]? Любите ли Вы оперную музыку? Песнопений в записи очень немного, произведения классической музыки достать можно, хотел бы знать, будет ли это Вам интересно.
Только что получил письмо от Зинаиды Владимировны с извещением о тяжёлой болезни Марии Ивановны. Очень этим опечален. Как это неожиданно.
Желаю Вам терпения, душевной бодрости и сил. Надеюсь, что Мария Ивановна со временем поправится и Ваша жизнь снова обретёт спокойствие.
С наступающим Новым годом!
Признательный Вам и сердечно любящий Вас
Сергей Трубачёв
12.XII.69 г.
PS. Сообщите, пожалуйста, скорость магнитофона, постараюсь заказать перепись на плёнку.
№ 5. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
Здравствуйте, дорогой Сергей Зосимович!
Шлю Вам сердечный привет, а также всему Вашему семейству. Получил Ваше любезное письмо, которое обрадовало меня в скорбные для меня дни, так как моя дорогая Мария Ивановна 10 декабря скончалась. 30 ноября вечером внезапно упала, была без сознания десять дней и на десятый же скончалась. Были приняты врачами все меры привести в сознание, но ничего не помогло. Похоронили 13 декабря. Очень жаль человека, который 57 лет, как свечка перед Богом служил мне. Конечно, всё было предречено: возраст — 81 год, старческие болезни. Теперь ежедневно хожу на могилу и чувствую там облегчение. Много раз перечитываю Ваше письмо, пропит[анное] сердечностию. Очень радуюсь, что Вас удовлетворяет моя посылка. Эти ноты, бывшие покойного регента архангельского кафедрального собора Павла Нуромского[270], с которым познакомил меня покойный теперь Ваш Орест Васильевич Спасский, который вполне сочувствовал мне в увлечении музыкой и пением и сам всегда в бытность в Пермогорье посещал меня и садился за фисгармонию.
Теперь у меня, 82-летнего старика, не осталось никакого утешения кроме музыки, да ещё радуют пчёлки в ожидании благоприятного лета. Сажусь за фисгармонию, и сама напрашивается мелодия фа минор «В минуту жизни трудную теснится в сердце грусть»[271] и т. д., которую любила слушать моя покойная Маруся. 18-го ездил в красноборскую церковь, и заочно отпевали, народу было при отпевании много, так как к празднику Николая Чудотворца 19 декабря приходят и прилетают из других районов.
Очень благодарен за Ваше добродушие, что берёте на себя большой труд приобрести и послать мне церковные песнопения, и перевести их на магнитофонную ленту, и знаете способ как перевести. Проигрывая пластинки на радиоле, запись с одного микрофона получается слабая и иногда чуть слышная, нужно ещё какой-то усилитель от радио, но здесь нет специалистов, а очень бы желательно перевести. Я увлекаюсь эффектом церковной музыки, а современная эстрадная мало интересует. Есть у меня песнопения Веделя «Днесь Владыка твари», «Свете тихий», «Покаяния»[272], для меня очень эффективны, они будут непревзойдённы[ми] и на плёнке, и [на] пластинках. У меня нет концерта Архангельского «Бог нам прибежище и сила», «Вскую мя отринул еси»[273]. «Днесь Владыка твари» затрагивает душу, хотя я и не достиг полного развития в игре. Сознаю, что в настоящее время трудно Вам найти просимое, но нужно соображаться с возможностями по состоянию настоящего времени. Но я уверен, что Вы больше моего знаете эффект музыкальных вещей, и прошу потрудиться найти что есть. Композитора Сарти[274] рекомендовал Орест Васильевич, но у меня нет. А песни хора Свешникова Вам, конечно, известны, и я буду удовлетворён хотя [бы] одной. Магнитофон у меня марки «Яуза-5». Переключатель скорости имеет два положения: верхнее — движение скорости 19,05 м/сек и нижнее — скорости движения ленты 9,53 м/сек. И буду в радости мечтать, что осуществится наше предприятие.
Дорогой Сергей Зосимович! Я буду питать надежду, что мы увидимся с Вами, полагая, что Вы посетите наше Пермогорье, так как Зинаида Владимировна — ближайшая Вам родственница, и Вы, конечно, заранее будете писать об этом.
С искренним приветом и любовию
Иван Степанович
1969 г. 21 декабря
№ 6. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
Здравствуйте, достопочитаемый Сергей Зосимович!
Шлю Вам с любовию сердечный привет и желаю Вам и всему Вашему семейству наступивший Новый год провести в добром здравии и полном благополучии. Получил Ваше любезное письмо, которое радует и утешает в моей скорби. В Рождество ездил в церковь. Пришлось быть только за утреней, а за обедней не пришлось, транспорта до Пермогорья регулярного нет, пришлось в восемь ч[асов] утра ехать домой с почтой. Осталось одно сожаление о том, что петь некому. Одни три-четыре старушки кой-как, не зная порядка службы и пения, отправили утреню, священнику пришлось и в алтаре присутствовать, и на клиросе петь. Просили Владыку[275] послать псаломщика, но отказал, сказал: «Какие псаломщики теперь, учитесь петь сами, ведь живём 20-й век».
Каждый день до Рождества ходил на могилу, чувствуя уменьшение скорби.
Большую работу я дал Вам, может быть, и невыполнимую, но Вы больше моего знаете в песнопениях, знакомы с другими композиторами, кроме имеющихся у меня. Меня оч[ень] радует Ваше добродушие — с любовью трудитесь для меня. «Покаяния» Веделя — это для меня поразительно привлекательная композиция, будет невыразимо прелестно звучать на магнитофоне и радиоле. Не утруждайте себя, что выполнимо, то и хорошо. Прочитал я журнал «Патриархия»[276] о бывшем съезде духовенства всех стран и религий в Троице-Сергиевой лавре 1–4 июня сего, 1969, года[277], все доклады на выступлениях в защиту мира во всём мире, резолюции от всех, и нехристианских, религий и сект и от секты баптистов. Все патриархи были на приёме у Московского Патриарха Алексия, а вот старообрядческого Патриарха Флавиана не было совсем с представителями от старообрядчества (представители были). Замечательно, что во всех докладах и беседах никто из докладчиков или беседующих не проронил или не спросил ни одного слова о состоянии в настоящий момен[т] Православной Русской Церкви[278]. Неужели вопрос этот не заслуживал внимания?
Сороковой день [о]б умершей будем отмечать 18 января, не считаясь с современными обычаями. Перед обедом будет на магнитофоне проиграна большая панихида, в средине обеда, на котлеты, — «Со святыми упокой»[279] и стихира «Зряще мя безгласна»[280], по окончании — «Молитвами рождшия Тя, Христе, [и] Предтечи Твоего»[281] и т. д. Пусть будет и неуместно по духу настоящего времени, но мне более даст утешения, чем с пьянкой сегодняшние обеды по умершим. А так как у нас в доме никогда вина не бывало и я не пил никогда, и этим я думаю оправдать себя и в этом поминальном обеде. Какое будет Ваше мнение об этом? Всё бы писал и беседовал с Вами. До свидания.
С гор[ячим] приветом и любовию
Иван Степанович
1970 года 8 января
№ 7. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
Здравствуйте, дорогой Сергей Зосимович!
Привет Вам с любовию, а также всему Вашему семейству. Получил Вашу изящную, дорогую для меня посылку — пластинку и письмо утешительное. На другой день сходил к Зинаиде Владимировне на проигрывание пластинки, какой восторг был при слушании как у меня, так и у Зинаиды Владимировны. Сколько трудов затрачено на поиски таких редких вещей, но всё же не напрасно. Теперь у меня четыре изящных пластинки, и я хожу к соседям во время скуки полечить себя забвением и восторгом всецело отдаться слушанию. Единственное лекарство.
Со смертью Маруси всё стало в другом свете, не стало иметь никакой цены, так как возраст и старческие недомогания подсказывают, что жизне[нны]й путь пришёл к концу, но ещё мечтаю провести пчеловодный сезон 70-го года, каков-то будет, об этом можно только гадать. Жаль расстаться с пчёлками, какой ценный продукт получаем мы от пчёлок, ещё только в настоящее время медицина стала с настойчивостью применять в лечении болезней. В составе мёда находят до 70-ти элементов, так как пчёлы посещают не тысячи, а миллионы душистых цветов. Если у Вас есть сейчас необходимость, то я пошлю три кило, не могли удержаться — продали, всё убедительные просьбы больных.
Опять у Вас забота — найти пластинки или перевести на магнитофонную плёнку, но мне совестно беспокоить Вас. Я решил купить радиолу, но их нет ни в магазине, ни на складе, обещают, что скоро поступят, и я тогда буду всесторонне обеспечен музыкой и буду лечить себя от тоски. Меня летом посещают краеведы Севера, сельсовет направляет их ко мне, старику, послушать про старую, лет 75 назад, жизнь; они весь мой рассказ записывают в блокноты. Есть из них и певчие-музыканты. Они рассказывают, что есть в Москве магазин уникальных товаров, где имеются всевозможные старинные дореволюционные вещи: книги, ноты, граммофоны — покупаются и продаются. Жаль, что я не догадался спросить адреса. Если действительно есть, то сделайте справку, может, что найдётся из граммофонных пластинок.
А всё-таки одинок я, не с кем поделиться занимающими меня вопросами. Если бы увидеться с Вами, то, кажется, на неделю хватило бы беседовать. Знаете, вероятно, английскую книгу Мильтона Джона с 50-ю картинами Густава Доре «Потерянный рай и возвращённый рай»[282]. Удивляться только слишком богатой и изящной фантазии, но она построена на Библии, на книге Бытия и на Евангелии. Честь и хвала сочинителю, какие войны на небе ужасные, сотворение видимого мира, жизнь в раю, грехопадением изгнание из рая. Искушение Христа в пустыне затрагивает сильно, какое хитрое до невозможности коварство Сатаны, но ещё мудрее речи Христа — со спокойствием и мудростью отражено, и Сатана каждый раз был посрамлён и с новыми измышлениями коварства приступал к Иисусу Христу.
Мильтон, описывая войска Сатаны, их раболепное подчинение, порядок в строю, неустрашимость в бою, делает такое нравоучение людям: если вы не стыдитесь ни Бога и ни людей, то постыдитесь хоть дьяволов; они не уничтожают, а защищают друг друга, а люди уничтожают города, сжигают всё до основания на пути во время войны, убивают без пощады всех. Не знаю, чего ещё писать. Долго ли ещё придётся существовать — неизвестно, но то известно, что не долго, а Всевидящее Око обладает вездеприсутствием и всеведением будущего и за тысячи лет будущее.
До свидан[ия], дорогой Сергей Зосимович. Пишите.
Иван Степанович
1970 г. 25 янв.
№ 8. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
Здравствуйте, достопочитаемый, дорогой Сергей Зосимович!
Шлю Вам с любовию сердечный привет, а также всему Вашему семейству, и желаю доброго здоровья. Живу по-старчески, коротая день к вечеру. Возраст и старческие недомогания напоминают о недолгом будущем уходе в другой мир. Ничего не придумаешь себе в утешение. Предполагаю дожить до весны и провести летний пчеловодный сезон и поработать с ягодными кустами, но все эти мечты отуманены скорбью и совершенно выглядят в другом свете. Ваши любезные письма и посылки радуют, и я решил последовать Вашему совету — купил радиолу марки «Ангара-67». Проигрываю Ваши пластинки и в восторге не замечаю времени, удовлетворяюсь эффектом. Теперь опять усилилось желание приобрести удовлетворяющие мой музыкальный вкус хорошие пластинки. Здесь, в Пермогорье, у всех куплены радиолы, но хороших пластинок, с солидным удовлетворяющим эффектом нет, их, вероятно, раскупают на месте — на фабриках. Сколько труда потратили на поиски четырёх особенно ценных пластинок, но осмелюсь просить ещё взять труд поискать, если это осуществимо, а Вы более всех разбираетесь в их ценном содержании.
Вероятно, Вас удивляет моя до фанатизма страсть к музыке, но я не знаю откуда она, ещё в детстве, до школы на меня музыка и пение поражающе действовали. Но в школе преподавали только начальное пение молитв. Выпало на мою долю счастье по обещанию своей матери быть в Соловецком монастыре в 1902 году и находиться в соборном хоре, какое счастье и утешение учиться на спевках и петь в церкви, вспомнить приятно, но возраст и ум тогда был детский, о будущем ничего не предполагалось, что в жизни это всё послужит к удовольствию. Но случилось так, что, видимо, по молитвам преподобных Зосимы и Савватия и прочих соловецких святых жизненный путь мой был направлен для служения в церкви, на дорогом для меня деле составить небольшой хорик из любителей, хотя в сельской местности мало ценителей, но мы, все страстные любители, пели для себя. Может, это и не так похвально, но было так. На днях соберу Вам маленькую посылочку, так как не знаю, чем угостить за Вашу доброту, а судит Бог дожить до лета и провести сезон, тогда с великим удовольствием отблагодарю чем пожелаете.
С гор[ячим] приветом и любовию
Иван Степанович
1970 г. 31 января
№ 9. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
Дорогой Иван Степанович!
Очень рад за Вас, что Вы приобрели радиолу и появилась возможность слушать музыку. Посылаю три пластинки: сцены из оперы Мусоргского «Борис Годунов»[283] в исполнении Фёдора Ивановича Шаляпина[284] (здесь имеется потрясающая сцена смерти Бориса), романсы в исполнении певца Рейзена[285] — и надеюсь, что Вас порадует пение птиц — запись, сделанная в лесу, тоже музыка, но только лесная. Извините, что пока не удаётся переписать что-либо из особенно интересующего Вас. Надеюсь, что со временем сделаю это. Старые граммофонные пластинки — бьющиеся, в магазинах я не встречал, у знакомых есть, но посылать рискованно, лучше (если достану) привезти самому.
Очень прошу Вас, не посылайте посылку, всё здесь достать можно, совсем не хотим Вас ни затруднять этим, ни лишать необходимого для Вас. Пожалуйста, не посылайте. Я и жена, Ольга Павловна, очень Вам благодарны, очень тронуты вниманием, но оба мы просим — не трудитесь, лучше угостите при встрече, если приведётся побывать в Пермогорье.
Как здоровье? Скоро тепло, с пчёлами Вам и повеселее будет. Не тоскуйте, утешайтесь хорошей музыкой. Я очень рад, что старинная хоровая музыка (не только русская) доставляет Вам радость. Постараюсь выслать ещё что-либо в хоровом исполнении.
Желаю Вам доброго здоровья, радости и всяческих благ.
С. Трубачёв
5.II.70 г.
№ 10. С. З Трубачёв — И. С. Карпову
Дорогой Иван Степанович!
Вы всё-таки отправили посылку с мёдом! Получил её и благодарю от всего сердца. Но поймите, что не жду от Вас никакого возмещения за пластинки. Мне хотелось, чтобы Вы получили от них радость и были утешены в своём горе. А Вы лишаете себя столь необходимого для здоровья питания. Вы и так уже отблагодарили, прислав партитуру концертов Бортнянского. Ольга Павловна (жена) тоже настойчиво просит Вас не утруждать себя посылками и не считать, что Вы что-то должны нам. Посланное же принимаем с благодарностью и хотим порадовать и полечить мою маму — Клавдию Георгиевну, и маму жены моей — Анну Михайловну, ей уже 81 год.
Послал Вам пластинки с записью Ф. Шаляпина и М. Рейзена. Как Вы к ним относитесь? У Шаляпина душа человеческая обнажена в страдании, и страшно становится сопереживать ей.
Посылаю Вам хоры а капелла (то есть без сопровождения) П. И. Чайковского и «Реквием» Моцарта[286]. Среди хоровых произведений Чайковского Вы, вероятно, знаете «Литургию»[287] и «Всенощную»[288], но послушать их в записи нет возможности. Из немногих же записанных на пластинку хоровых вещей я очень люблю «Соловушко»[289]. Вероятно, и Вам понравится «Гимн в честь Кирилла и Мефодия»[290], «учителей словенских». Большой хор звучит красиво, покойно и мягко. Но самое прекрасное, что я могу предложить Вам сейчас, это «Реквием» (заупокойная месса, то есть обедня) Моцарта. Среди хоровой музыки немного таких поразительных, подобно откровению произведений, как «Реквием» Моцарта.
Дорогой Иван Степанович, послушайте эту музыку со вниманием и вчитайтесь в текст, который я посылаю в русском переводе (это молитвы об умершем), и Вы согласитесь, что это святая и благодатная музыка. Не смущайтесь тем, что хор звучит в сопровождении оркестра. Оркестровое сопровождение здесь так же выразительно, как и человеческие голоса.
Вот что мне захотелось послать Вам, пусть же музыка Моцарта облегчит великую Вашу скорбь, а Вы, слушая её, найдёте в ней утешение.
Пишите.
Любящий Вас
С. Т.
7 февр. 1970 г.
PS. О каком говорите Вы небольшом хоре, который собрали и где, не теперь ли? Самое лучшее для Вас — петь, если бы нашлись силы.
№ 11. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
Здравствуйте, дорогие мои Сергей Зосимович и Ольга Павловна!
Шлю Вам с любовию сердечный привет и желаю доброго здоровья и успехов во всех Ваших плодотворных делах. Получил я Ваши посылки и два письма и удивился затраченному Вами большому труду по разысканию пластинок и описанию текста содержания их. А как важно содержание текста при звучании пения и музыки, да к тому же ещё у меня слух потерян на 50 процентов, пользуюсь слуховым аппаратом, но слова поглощаются отчасти звучанием. Посланная Вами песнь «Прими усопшего раба Твоего в небесные селенья»[291] очень хороша — ля мажор, очень хороша. Может быть, у меня своеобразный вкус к музыке и пению, и признаюсь Вам, и Вы будете судить о моём вкусе. У меня в репертуар собраны только любимые мною церковные песнопения композиторов Бортнянского, Ломакина, Архангельского, Турчанинова, Сарти, Бахметева[292], Соколова, Орлова[293] и другие, все для меня пленительны, но [в] концерт[е] Веделя «Днесь Владыка твари» в тоне соль минор меня поражает то, как мог композитор через музыку или звуки вложить чувство переживания страдания в певца во время пения слов «и вся терпит мене ради». Здесь на эти слова идёт ряд звуков и пауз, получается длинная перекличка, в заключение всё объединяется словами «мене ради, осужденнаго». Без слёз не могу играть этого момента, а далее самый трудный момент для баса — верхнее ми бемоль: «Да спасет мир от прелести», повторение четыре раза. Я услышал в Архангельске в архиерейском хоре, регент Ив. В. Ерошкин дал мне для списывания партитуру. Фисгармонию мне купила дочь в 60-м году, была повреждена, хотя голоса, кроме одного, были целы, но я реставрировал её сам, так как мастер запросил сто рублей (1000). До полного совершенства скорости не дошёл, но для себя играю.
Всё посланное Вами для меня очень удовлетворительно. Репертуар увеличивается — уже послали десять пластинок и сколько затратили на мои желания труда, уж я думаю, не дошёл ли я до фанатизма в музыке. Вот, в настоящие дни не отхожу от фисгармонии и радиолы, проигрывая Ваши пластинки, и не могу оторваться от красоты звучания. Впервые услыхал оперу «Борис Годунов» в исполнении Ф. Шаляпина, хотя текста не знаю, но меня поразила такая красоты и эластичность баса, в исполнении Шаляпина, по моему мнению, любые произведения будут пленительны. Я слыхал ранее, лет 50 назад, в граммофоне выступление Собинова[294], тоже говорили, с мировой известностью, как Шаляпин, Вам известны его выступления — бас контроктава. Но до каких пор я буду утруждать Вас — всему должна быть мера. Теперь буду проигрывать и услаждать своё горе содержимой в них музыкой. С какой радостью пошёл я на почту за бандеролью, но как огорчился, когда пластинка большая Чайковского, хоры Саррена[295], один край отломился и разбит на мелкие кусочки, осталось проигрывания четыре с половиной сантиметра, уцелело: «Гимн Кириллу и Мефодию»[296] и «Что затих весёлый глас»[297]. Оказалось, ножницы стригут пластинку, и мы её сделали круглой, и теперь полное равновесие и счастье, что не все три разбились. Без дощечки посылать опасно.
Я уже писал, что здесь у всех радиолы куплены, но я ничего хорошего в их пластинках не нашёл, хотя у некоторых есть штук по 50. Теперь моё желание — остановиться на оперных певцах Шаляпине и Собинове, на операх «Евгений Онегин»[298], «Борис Годунов»[299], «Демон»[300], «Руслан и Людмила»[301]. Дом, в котором жил Шаляпин, посещают любители музыки как музей (я читал в одном журнале). Если будет осуществимо приобрести церковные песнопения, то возьмите на себя труд, а потом закончим благодарением Создателю Богу.
На этом кончаю своё нескладное писание. Шлю с любовию искреннюю благодарность.
Иван Степанович
1970 г. 12 февраля
Но всё-таки чувствуется скорбь и одиночество, не с кем поделиться своими мыслями и убеждениями. Хотя утешают в письмах, что скоро весна, будешь копаться в огороде, саде и с пчёлами, но не предполагаю, что будет прежняя радость и спокойствие, хотя вся природа торжественно радуется весне. Наследников на мои музыкальные репертуары нет — никому не будут нужны. Я питаю мысль сделать завещание: по смерти весь мой музыкальный репертуар оставить Вам, а Зинаиду Владимировну оставить поручителем, о чём очень буду радоваться. Хотя всё, что даётся по смерти, то не ценно, потому что ценна жертва, только добровольно от живого исходящая, от его решения.
№ 12. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
Здравствуйте, дорогие мои Сергей Зосимович и Ольга Павловна!
Горячий привет и лучшие пожелания вам. Не имею способности выразить вам благодарность словами, но от всего сердца благодарен. Вчера весь день проигрывал присланные пластинки и был в восторге от красоты и художества звучания. «Реквием» Моцарта — невыразимо привлекательная мелодия и при знании текста ещё более привлекательна, но какой большой труд приняли на себя перевести с латинского на русский язык и где могли достать пластинку и текст. Действительно, Вы тонко понимаете цену музыки и разгадали мой вкус, и я убедился, что мой вкус одинаков с Вашим. Всё, что послано Вами, веселит меня и радует. Играя Рейзена, восхищался его юмористическими применениями прекрасного баса, я смеялся, что он сорок лет прожил на свете и не видал медных шпор на вёдрах[302].
Спасибо за совет купить радиолу, в ней море музыки, но я ищу в ней более солидных певцов, и приходится искать по линиям[303]. Не забуду одной увлекательной мелодии, и она более, видимо, не повторится, а дочь моя знает эту мелодию — «Запорожец за Дунаем»[304]. Действительно, музыка и пение лечат душевные и телесные болезни и облагораживают человека. Покойный Орест Васильевич и Ваша тётя Наталия Васильевна были точно такими же любителями музыки и пения. Всегда мы взаимно помогали друг другу в устройстве хора к праздникам. Я ходил к Оресту Васильевичу в Белую Слуду к празднику 23 июня[305], а они с Наталией Васил[ьевной] — ко мне на Ляблу к Михаилову дню 8 ноября, Гаврилову 13 июля. У всех была страсть к нотному пению. Пели для своего удовольствия, так как в сельских местностях ценят больше простое пение. И я был не одинок в этом деле, нашлись такие же страстные любители, бывшие участники хора, и у нас составился свой любительский хор из пяти-шести человек. Хватало времени делать спевки для праздника Пасхи, начиная с Великого поста. Учительница Мария Павл[овна] Беневоленская — дискант, учительница Екатерина Ив[ановна] Неволина — контр-альт[306], я — тенор, бас — бывший певчий из Соловецкого монастыря — весь состав нашего мизерного хора. Такой хор и Ореста Васильевича, у него вся семья — хористы. И теперь рад бы был послушать хор хоть краем уха своего. Разучено было на Рождество: концерт «Днесь Христос в Вифлееме ражд[ается] от Девы»[307], «С нами Бог»[308], Херувимская, задостойники[309]. На Пасху — канон Пасхи Веделя, два концерта «Днесь всяка тварь веселится и радуется»[310] и «Радуйтеся, людие»[311]. Из начальной школы я выбрал двоих учеников, альтов, и в течение пяти лет научились петь самостоятельно. Всё прошло, осталось одно приятное воспоминание и благодарность Богу хоть отчасти узнать великое искусство благолепия пения и украшения храма Божия. Пока есть силы, буду утешать себя музыкой и пением, лечить свои старческие немощи, и благодарность за Вашу любезную помощь и утешение. До свидания.
С любовию Ваш
Иван Степанович
1970 года 14 февраля
№ 13. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
Здравствуйте, дорогие Сергей Зосимович и Ольга Павловна!
Привет Вам с любовию и лучшие пожелания. Опять даю Вам труд и время на разбор моих писаний. Сейчас увидал на почте прейскурант грампластинок за 1969 год, в нём на 143-й странице под заголовком «Фёдор Шаляпин (бас)» значится восемь пластинок, в которых много разных старинных народных песен, хорошо бы им, Шаляпиным, пропетых, а может быть, пропеты не Шаляпиным. На обороте 143-й страницы под заголовком «Искусство Шаляпина» изложено содержание песен во всех восьми пластинках. В седьмой пластинке кроме сцен и песен есть «Ныне отпущаеши» Строкина[312], «Покаяния отверзи» Веделя, «Верую» Архангельского и «Сугубая ектения» Гречанинова[313]. Какой знаменитый мировой певец! Но он или нет исполнял эти песни? На странице 147 – список знаменитых певцов прошлого, конца XIX и XX века, в конце списка значатся Сибиряков[314], Л. В. Собинов, А. В. Нежданова[315] и Ф. И. Шаляпин. Целый необъятный мир музыки, всякий вкус найдёт удовлетворение. Рейзен очень эффектно исполняет, и иногда с подходом, и как в хоре с постепенным снижением красивого баса, с острым юмором и красотой. Увлёкшись прелестной музыкой и не находя другого утешения кроме отдыха, сижу у радиолы и фисгармонии, не забываю и магнитофона — послушать себя, хриплого старика. Не знаю, как выразить Вам свою сердечную благодарность за Ваше любезное сотрудничество по удовлетворению моей музыкальной страсти. База грампластинок находится: г. Апрелевка Московской области, улица Ленина, дом 4. Вот и любуюсь, что люди создали такую благородную музыкальную красоту. До свидания.
С любовию и искренним уважением
Иван Степанович
1970 года 16 февраля
Прошу Вашего совета, выписывать или нет любимых мной музыкальных певцов.
№ 14. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
Здравствуйте, дорогие Сергей Зосимович и Ольга Павловна!
Шлю Вам с любовию сердечный привет и желаю всякого благополучия. О получении драгоценной Вашей посылки, Моцарт «Реквием», сообщил в предыдущем письме. Не знаю, чем буду благодарить за такую ценную вещь и потраченные Вами труды приобрести её. Проигрывая «Реквием», я в некоторые моменты не могу удержаться от слёз, и долго не проходит невыразимо приятное настроение от эффекта слушания. Да и все, в общем, Ваши пластинки для меня звучат невыразимо приятно, и бываю утешен.
Рейзен и Шаляпин меня пленили. Я спрашивал Вашего совета, выписывать или нет по прейскуранту «Посылторга» грампластинки и, не дождавшись ответа, не устоял перед соблазном, увидав, что в 7-й пластинке Шаляпина есть «Ныне отпущаеши» Строкина, «Покаяния» Веделя, «Верую» Архангельского и «Сугубая ектения» Гречанинова, послал заказ на 14 пластинок: восемь пластинок Шаляпина (почему-то отпускаются все восемь, а не выборочно), а если выборочно, то в тех пластинках «Покаяния» и «Верую» нет. Теперь мечтаю, как Шаляпин подчеркнёт в «Покаяния» «множества содеянных мною лютых» и «трепещу Страшного дне». Кроме Шаляпина выписал: А. Нежданова (сопрано), опера «Демон», опера «Борис Годунов», Рейзен (бас), Пирогов[316] (бас), Собинов (тенор). Увлекли Вы меня эффектом от своих пластинок. Но пошлют или нет, так как в прейскуранте есть замечание, что база отпускает только из наличия имеющихся пластинок, может, и не все вышлет.
Оказывается, [есть] две базы: первая — г. Апрелевка Московской области, улица Ленина, 4; вторая база — г. Москва, Е-126, Авиамоторная, 50. Но у московской базы прейскуранта на почте нет, а есть апрелевской базы. Искал я в прейскуранте подобных Вашим пластинок, но не нашёл. Нахожу утешением писать Вам, как будто лично с Вами беседую. Живу один, так как дочь временно приезжает, и иногда жутко становится быть в доме одному и к тому ещё самому себя обслужить. В такой момент и сажусь за фисгармонию и радиолу. Теперь у меня целый духовный мир музыки. Я в журнале или газете читал, Шаляпин заслужил признание во всём мире, его дом посещают как музей, но Вы более знаете о Шаляпине. Прошу, если явится возможность приобрести что из церковных песнопений или что из требуемого мной база апрелевская не вышлет, то, может, по прейскуранту московской что-нибудь из требуемого мной найдётся.
Ещё спрошу, все ли здоровы Ваши семейные, особенно Ваши родители-старушки? Здесь дней десять тому назад началась вспышка болезни гриппа, на 40 процентов больных, хотя смертельных мало, но производство в совхозе сократилось. Врачи советуют мне не общаться с народом, чтобы не заболеть в моём возрасте, но, самому себя обеспечивая, приходится идти в разные дома, где и есть больные.
Много ли чего выразишь на бумаге, если бы лично, так всё, что есть, высказал и выспросил. Не знаю, чего ещё писать. Посланная мной «Милость мира» Архангельского № 8 мне подарена регентом архангельского кафедрального собора Павлом Нуромским, он считал её лучшей по духовности напева, хотя она в тоне фа минор, и я ей увлекаюсь сильно. Проверьте её. За неимением у них нотной бумаги пришлось нотные линии самим графить, не пожалела времени и трудов жена его Ольга Владимировна, пианистка, пела всё время в архиерейском хоре, а теперь поёт и играет в театре.
Сегодня ходил на могилу жены, хотел попутно зайти к Зинаиде Владимировне, но её нет дома, уехала гостить к брату или сестре в Вологду.
До свидания. С глубоким уважением и любовию
Иван Степанович
1970 г. 7 марта
№ 15. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
Дорогой Иван Степанович!
Простите, что задержался с ответом и посылкой в связи с отъездом. По приезде пытался послать Вам комплект пластинок в исп[олнении] Ф. Шаляпина, но на почте не приняли, так как вес превышает норму для бандероли. Надо послать посылкой, но в ящик посылки не входят. Придётся послать частями (они в коробке), очень рискованно, что снова разобьются. Пока не подготовил для них упаковку. Сейчас высылаю Вам запись «Всенощной» Рахманинова. Надеюсь, что дойдёт в целости, так как обе пластинки в плотном пакете и переложены картоном.
Музыка «Всенощной» почти вся — воспроизведение старинных распевов: знаменный и греческий. Этим она особенно замечательна. В ней есть удивительные песнопения: <два слова нрзб.>, «Блажен муж», «Благословен еси», <два слова нрзб.>. Это одно из самых прекрасных произведений в русской хоровой музыке.
Спасибо Вам за трогательное пожелание передать мне Ваши музыкальные сокровища. Я надеюсь, что мы с Вами увидимся, что Вы надолго сохраните душевную бодрость и здоровье. Пусть Вам помогут и эти записи, и Ваше любимое занятие пчёлами. Если захотите что передать когда-либо, то передайте это Зинаиде Владимировне. Не думайте об этом и не заботьтесь. Пусть всё будет так, как будет. Всё преходяще. Простите меня, если огорчил Вас чем-либо и не смог пораньше сделать то, что собирался.
Всего Вам доброго.
С. Т.
7.III.70
Привет от Ольги Павловны.
№ 16. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
Здравствуйте, дорогие Сергей Зосимович и Ольга Павловна!
Шлю Вам с любовию сердечный привет и желаю доброго здоровья и успехов в Вашей плодотворной работе. Посылку Вашу получил и от радости заплакал, взглянув на пластинки. Бандероль пришла в целости. Умиляюсь слушанием. Очень хороша динамика, всё подходом доходит до форте и так же постепенно доходит до фортиссимо[317]. Жаль, что моя подруга жизни не услышала такой невыразимой красоты, а как она любила слушать фисгармонию! И не с кем мне поделиться музыкой и мыслями, нет ни одного человека во всей деревне, чтобы поговорить, как говорится, по душам. Люди современного возраста почти все некрещёные, не имеют понятия и представления о прежней дореволюционной жизни, отвергают все прежние обычаи и считают нас, стариков, отставшими от современной культурной жизни. А с такими людьми не найдёшь согласованности в беседе. А вот Зинаида Владимировна не отвергает моих вопросов и охотно читает, и исправляет мои орфографические ошибки в блокноте, в который я записываю речи профессоров философско-богословских наук. И у меня их записано много, и они меня удовлетворяют. Предполагаю, что не откажетесь их прочесть, хотя Вам всё это знакомо.
Здоровье моё старческое, но надо мириться с этим, так как мои товарищи по возрасту давно покойны, я ещё мечтаю предстоящий сезон, пчеловодный и садово-огородный, провести и получить ценный продукт — мёд.
Ещё я доволен сам собой, тем, что отстал от культурной жизни: не пил никогда и не курил, — и считаю это для себя счастием. Только я, человек нетактичный, не спросил Вашу и жены профессию и как смогли и где приобрести такие ценные пластинки, ведь в прейскурантах «Посылторга» они не печатаются. Я 4 марта послал заказ на пластинки апрелевской базе «Посылторга» на 14 пластинок, но в присылке не совсем уверен, так как в бланке есть оговорка: если к моменту выполнения заказа требуемых пластинок не окажется, тогда заказ выполняется только из наличия имеющихся на базе грампластинок. А меня соблазнила седьмая пластинка «Искусство Шаляпина», в которой «Ныне отпущаеши», «Покаяния», «Символ веры» и «Ектения». Голос Шаляпина красив изящным тембром, бас первый, так как низких нот контроктавы как будто не слышно. Мировая известность, а дом, где жил Шаляпин, любители его искусства посещают как музей. Я не могу не прослезиться, как слышу прощание Бориса с сыном и стон его в последней смертной агонии[318].
Простите меня за нагрузку моими письмами и сколько времени тратите на ответы, которые меня невыразимо радуют, но не знаю, чем благодарить Вас за радость и утешение меня своими посылками. Считаю для себя честью, что мой репертуар нотных церковных песнопений Вы желаете принять, а я сожалел, что останется без пользы, а покойная моя супруга шутила, что обложим тебя нотами со всех сторон в гробу и в загробном мире, может, пригодятся.
Не знаю, чего ещё написать. Ещё при посылке пластинок просил бы вложить несколько игл для радиолы, так как игл здесь в продаже нет, вероятно, есть в Архангельске.
До свидания. С любовию и с сердечным приветом
Иван Степанович
1970 г. 12 марта
№ 17. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
Дорогой Иван Степанович!
Очень рад, что пластинки с записью «Всенощной» Рахманинова Вы получили в сохранности. Я так и предполагал, что слушание этой музыки принесёт Вам большую радость.
Относительно комплекта «Искусство Шаляпина» я уже писал, что собирался послать, был на почте, но не приняли, так как в коробке бандероль превышала установленный вес, а посылать частями без упаковки не хотелось — пластинки редкие, жаль, если разобьются. Если пошлют вам с базы, то, вероятно, в фабричной упаковке.
Сначала я не хотел посылать Вам Шаляпина, скажу почему! «Покаяния», действительно, есть в его исполнении, но оно даётся не полностью и в переложении для мужск[ого] голоса с хором. Поёт Шаляпин театрально. Эти причины меня остановили. Там есть замечательная по музыке «Ектения» Гречанинова. К сожалению, запись очень давняя, наверно, ещё для граммофона. Стиль исполнения пышный, театрально приподнятый, но по-своему впечатляющий. Если выписывать, то, конечно, следует затребовать весь комплект, отдельно эту пластинку не продают.
Теперь о «Всенощной». Достать эту запись в магазине нельзя, невозможно. Мне удалось приобрести её на работе.
Может быть, удастся и ещё что-либо достать, но не надолго. Никак не могу наладить перепись — нет плёнки. Обещали мне дать граммофонные пластинки с интересными для Вас записями — вот что следовало бы переписать.
Корундовых игл пока тоже не достал, так как в продаже нет для долгоиграющих. Пошлю, когда достану, прямо в письме.
У нас тяжело больна мама Ольги Павловны, ей уже 81 год, живёт она под Москвой, переболела гриппом, и сердце ослабло. Ольга Павловна не знает, что делать — оставить её нельзя, хотя и живёт с дочерью (младшей, работающей), видимо, придётся взять отпуск, а что делать дальше? Старому человеку одному оставаться невозможно, не по силам. Как Вы переносите своё одиночество и помогает ли Вам кто-либо теперь?
От Зинаиды Владимировны давно нет писем. Вернулась ли она домой? Передайте ей привет от нас.
Желаем Вам, дорогой Иван Степанович, терпеливо переносить тяготы Вашей одинокой жизни и не впадать в уныние.
Всего Вам доброго.
С. З. и О. П.
23.III.70 г.
№ 18. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
Здравствуйте, дорогие Сергей Зосимович и Ольга Павловна!
Шлю Вам с любовию сердечный привет и желаю доброго здоровья и успехов в Вашей плодотворной работе. С какой великой радостью получил Ваше любезное письмо, так как теперь живу один — дочь уехала на неделю домой, и Вы представляете, как скучно и трудно одному старику в моём 83-летнем возрасте. Хорошо, что занимаюсь музыкой, с музыкой все огорчения забываются. Теперь играю из постной партитуры Литургию Преждеосвященных Даров. Ежедневно проигрываю «Реквием» и «Всенощную» — изящные художественные мелодии, хотя «Реквием» и на латинском языке, но мелодия сама за себя говорит о своей церковности, и никогда они не надоедят, как говорится, не потеряют эффекта. Что поделаешь — страсть требует удовлетворения. Увлёкся Шаляпиным как исполнит[елем] «Покаяния»[319] и 4 марта послал заказ на 14 пластинок апрелевской базе и с нетерпением жду посылки, так как срок уже прошёл, а, может, означенных посылок нет в наличии. Кроме Шаляпина выписал: 1. Собинов (тенор); 2. А. Пирогов (бас)[320]; 3. А. Нежданова (сопрано); 4. опера «Демон» и «Борис Годунов». Но я не догадался, что опера «Демон» на трёх пластинках, а «Борис Годунов» на четырёх пластинках, а просил по одной пластинке, поэтому и не рассчитываю, что вышлют, хотя я 24-го послал заявление, чтобы всё выслали полностью. Всего на сумму 19 руб[лей] 20 коп[еек].
На первой неделе Великого поста ездил в Красноборскую церковь, исповедался и причастился. На поминовение жены заказал сорокоуст, на годичное поминовение заказал в архангельскую церковь, в великоустюжскую, вообще, по древнему христианскому обычаю. А как будут поминать за упокой души наши дети, с детства проживающие в городе, в современном обществе, почти утратившие религиозное чувство? На могилу хожу часто. 23-го хотел зайти к Зинаиде Владимировне, но она ещё не приехала. Более ощутительно одиночество, потому что не с кем поделиться в беседе мыслями, убеждениями. У священника бываю при посещении каждый раз, оказывается, [он] не менее моего страстный любитель музыки. Был у меня четыре раза, увлёкся, купил радиолу и магнитофон и выписал весь комплект пластинок, которые я выписал. Человек молодой — 40 лет, за неимением псаломщика управляет клиросом с тремя-четырьмя старушками. Храм маленький, очень тесно, издалека прилетают в поминальные субботы и воскресные дни люди, почти все женщины, старушки.
Ощущаю великое удовольствие писать Вам и в своих молитвах о упокоении своих родных поминаю Вашего папу иерея Зосиму. Ничем не могу воздать умершим кроме молитвы за упокой души.
Хотел переписать все имеющиеся у меня ноты, но Вы увидите, когда приедете к нам. Я питаю мысль, что при открытии навигации Вы приедете и порадуете нас своей беседой по занимающим нас вопросам.
Как помочь Вашим болеющим родителям? Скоро предстоит выставка и учёт запасов в ульях, и при первой возможности пошлю посылку, хоть немного мёду.
Иглы для радиолы я купил в Красноборске. А какой я нетактичный: не спросил о Вашей должности или профессии.
С искренним уважением и любовию
Иван Степанович
1970 г. 28 марта
О получении грампластинок немедленно напишу.
№ 19. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
Дорогой Иван Степанович!
Благодарим Вас за посылку с мёдом и заботу о наших родных. Но я уже писал Вам — не посылайте, не затрудняйте себя, Вам и самому надо поддерживать здоровье. Как Ваше самочувствие теперь, весной? Думается, что с теплом и солнцем прибавятся силы, появятся заботы о пчёлах и Вы оживёте душой.
Когда вскроется Двина? Спрашиваю это, не имея в виду навигацию, так как о приезде к Вам в этом году пока не могу сказать определённо. До середины июля я занят на работе, а в августе Саша[321] будет поступать в институт, поэтому придётся пожить в Москве или под Москвой. Всё же интересно, как в Ваших краях пробуждается природа. Здесь снег уже почти сошёл, дни солнечные, но были и пасмурные, холодные.
Послал Вам сегодня три пластинки: части из «Мессы» (католической литургии) Баха[322] и «Реквием» итальянского композитора Верди[323]. Оба произведения на латинском языке. В «Реквиеме» текст тот же, что и в «Реквиеме» Моцарта. Интересно сопоставить, какое оставит впечатление музыка Верди. Содержание частей Вы уже знаете по русскому переводу (перевод был переписан мною из одного издания партитуры Моцарта).
Пришлют ли Вам с базы комплект пластинок «Искусство Шаляпина»? Если нет, то я постараюсь выслать частями (весь комплект в коробке не приняли по весу).
Спасибо Вам за память о моём папе. Если бы Вы знали, как он любил церковное пение. Представляю, как Вам трудно в эти дни быть дома. Хочется, чтобы Вы пасхальную ночь встретили в храме.
Всего Вам доброго. Привет от Ольги Павловны.
С. Т.
11.IV.70
Ольга Павловна очень тронута Вашей заботой о маме. Слава Богу, ей уже лучше. Такого мёда, по словам наших родителей, они не встречали в своей жизни. Очень Вам благодарны. Спасибо.
№ 20. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
Здравствуйте, дорогие Сергей Зосимович и Ольга Павловна!
Шлю Вам сердечный привет с любовию и желаю доброго здоровья, а также привет всем Вашим домочадцам. Как здоровье дорогих Ваших родителей?
Я день за днём коротаю свою старческую жизнь.
Весна вступила в свои права: снег растаял, пчёл выставили, но к работе с ними не приступали, так как не позволяет холодная погода. Ледоход предполагают числа 20–22-го. Послал Вам оч[ень] маленькую посылочку — полечить Ваших старушек, предполагая, что вреда не будет. Мёд применяют в медицине при многих болезнях, не вредно применять и при старческих немощах. Зимовка прошла удовлетворительно, начинаем подкармливать.
Из «Посылторга» получил 17 пластинок, из них: восемь пл[астинок] — «Искусство Шаляпина», три пл[астинки] — опера «Демон», четыре пл[астинки] — опера «Борис Годунов», одна пл[астинка] — Пирогов (бас), одна пл[астинка] — Рейзен (бас). Посылкой доволен. В первую очередь проиграл «Ныне отпущаеши», «Покаяния», «Верую» и «Ектению». Нашёл, что соло баритон Шаляпин пел произвольно — со слуха, я сам взял ноты и пел и увидел, что поёт во время пауз, не знаю, почему оказалась разница, вероятно, в переложении, но хор поёт правильно, в тоне фа минор, четыре бемоля. «Покаяния» тоже некоторые мелодии сокращены или же он пел, применяясь по слуху. «Верую» — исполнял роль канонарха, очень великолепный канонарх, с таким неоценимым тембром, но свой музыкальный жанр не утаил. А «Ектению» говорил, по-моему, протодьякон так величественно, что как будто слушаешь в храме, очень торжественно. 30 марта ходил на могилу Маруси, зашёл с пластинками «Реквием» Моцарта к Зинаиде Владимировне, проиграли, и в восторге осталась Зинаида Владимировна от невыразимо приятной мелодии. Ещё проиграли сцену смерти Бориса Годунова[324], всё поразительно.
Вчера, то есть 15 апреля, получил Вашу драгоценную посылку — «Реквием» и «Мессу». Всё прелестно-трогательно, вероятно, все реквиемы, какие имеются, в записи звучат умилительно, затрагивая лучшие струны души. В Красноборске одна учительница-пенсионерка рекомендовала мне реквием Кабалевского[325], Равель[326] «Болеро», трогательные в минорном тоне, но сам я не слышал игры.
Гадаем, какое-то будет лето, благоприятное ли для урожая хозяйственных культур, а главное, для медосбора. Выставлено 13 пчелосемей, при среднем медосборе килограмм 16–20 с улья и то составится достаточная сумма в килограммах. Это и интересует — получить такой ценный продукт, в котором содержится до 70-ти разных ценных в медицине элементов.
Дорога по распутице до Красноборска закрыта, приходится сидеть дома на Пасху, так как пешком трудно идти, но я дома буду один праздновать. В пятницу и субботу проиграю на фисгармонии «Разбойника»[327], «Днесь Владыка твари», в Пасху — «Канон» Веделя, Дегтярёва «Днесь всяка тварь веселится», Сарти «Радуйтесь, людие» и этим буду удовлетворять себя, а потом и на радиоле для праздничного настроения Ваши утешительные на пластинках произведения. Только жаль, что никто не поделится со мной праздничными музыкальными чувствами, только одна Зинаида Владимировна вполне солидарна с моими вкусами.
Все наши намерения, мысли и дела, как в настоящем, прошедшем и будущем, у Всевидящего Ока известны, в этом твёрдо уверен, так как на себе испытал, то и наше содружество не слепого случая, а так назначено в утешение старческой скорбной души.
Простите за бесконечное моё письмо. Дай Бог Вам здоровья и благополучия в жизни.
Если будет случай купить иглу, пошлите, здесь уже все проданы.
До свидания. С сердечным приветом и любовию
Иван Степанович
1970 г. 16 апреля
№ 21. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
Здравствуйте, дорогие Сергей Зосимович, Ольга Павловна и все домочадцы!
Шлю с любовию всем горячий привет и желаю доброго здоровья и успехов в повседневных делах. Ваше любезное письмо получил и с приятностию прочитываю много раз. Моё старческое самочувствие пока удовлетворительно при моём 82-летнем возрасте, но старческие недуги незаметно подкрадываются, силы уходят, все функции слабеют, и это неизбежно.
Погода не благоприятствует для всех культурных растений, снег давно растаял, вчера ударил мороз до десяти град[усов], а сегодня ночью выпал снег и не тает, днём пять гр[адусов] холода. К работе с пчёлами не приступали из-за холода. Сегодня сообщили, что в Котласе началась подвижка льда, и у нас в Пермогорье предполагают числа 21–22-го.
Сегодня Вербное воскресенье, благодушествую у радиолы и фисгармонии, проигрываю Ваши пластинки композ[иторов] Верди и Баха. Я, конечно, плохой ценитель, и мой вкус, может быть, своеобразный, но, сравнивая «Реквием» Моцарта с Верди, нахожу, что Моцарт превосходнее Верди. Слушая Моцарта, испытываешь наивысший восторг и невольно делаешь крестное знамение, и как бы желал выразить сердечную благодарность за создание такой красоты. Верди тоже эффектная вещь, но побеждает оркестр и внезапность вступления певца, почти фортиссимо, а также внезапное прекращение. Но это дело вкуса каждого.
Бах; я мало знаю композиторов, и принадлежит или нет Бах к церковным. В предисловии синодальной партитуры «Всенощное бдение» есть наставление, как понимать и ценить церковных композиторов, и предупреждение управителям церковных хоров — регентам, чтобы не увлекались эффектом произведений каких-либо новых композиторов, правильно оценит композитора истинное религиозное чувство, услышит, где церковность и где Бах и палестра[328]. «Мессу» Баха я сначала слушал с вниманием, а потом идёт музыка и пение, не можно оценить: танец или похоже на танец, от смеха чуть удержишься, а потом вступают певцы, как будто что-то церковное, и вдруг опять музыка танцевальная. Рассмеёшься. Таков мой вкус музыкальный.
Посланными апрелевской базой пластинками очень доволен. Сам помогаю петь Шаляпину. У меня в партитуре есть «Ныне отпущаеши» Строкина, соло баритон, но Шаляпин поёт, видимо, только по слуху, во время пауз поёт от себя, а может, эта песнь в переложении. «Покаяния» в тоне соль мажор: сначала соло до «утренюет бо дух мой», тон соль-си-ре. Ему бы начать с «ре», тогда бы получился полный эффект, а он начал с «си», побоялся взять верхнее «соль». С таким солидным тембром превосходнейший был бы в церкви канонарх. Очень желал бы знать жизнь Шаляпина: где работал и получил такое музыкальное художество. Портрет его приложен к пластинкам.
Оперы «Демон» и «Борис Годунов» поразительны, но я текста не знаю, но и одна музыка поразительна. В журнале «Здоровье» за 1967 год есть большая статья «Лечение человека музыкой». Эстетическое наслаждение музыкой производит такое изменение в организме человека, о котором совсем недавно никто и не догадывался. Опыт применения музыки накоплен многими поликлиниками в Ленинграде и ряде областных и городских больниц. Несомненно, что музыка в ближайшем будущем прочно займёт место в арсенале средств борьбы за здоровье человека. Приношу искреннюю благодарность за лечение меня от старческих моих недугов, это самое лучшее успокоительное средство, испытываю на себе и советую другим лечить себя.
До свидания. С приветом и любовию
Иван Степанович
1970 года 20 апреля
Христос воскресе!
Поздравляю всех Вас с домочадцами с праздником Светлого Христова Воскресения.
Предполагаю, что будете в Пасху в храме Божием и всей душей восчуствуете радость духовного Пасхального торжества в торжественном богослужении при пении образцового хора, которого я желал бы хотя краем уха послушать. Но всё для меня минуло. Нигде мне, вероятно, не услышать хорового пения. В церковь мне пешком 22 километра не дойти, а для машин дорога до Пермогорья закрыта. Придётся встречать Пасху одному (при мне живёт на время дочь). Зажгу свечи, поиграю пасхальных песнопений. Днём сходить к соседям, но поделиться праздничной радостью не с кем. Старики моего возраста померли, но они и были неграмотны или малограмотны, а молодые в большинстве некрещёные, не имеющие понятия о церкви, празднике Пасхи. Грустно писать такие строки.
Простите, что написал много. Кратко не умею. А лечить меня музыкой прошу, если окажется возможным.
№ 22. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
Дорогой Иван Степанович!
Приближается Светлый праздник. С любовью говорим Вам — Христос воскрес! Воскрес Христос, и воскресли вси умершия. Не печальтесь, радуйтесь о Господе нашем Иисусе Христе. С ним и живые, и умершие. С Ним вечно живы будем, с Ним Пасху празднуем.
В храме или в доме — радуйтесь, Он всегда с нами. Всё лучшее в жизни создано как дар Ему.
И Вы своей жизнью, своей любовью тоже принесли Ему дар. И Он не оставляет Вас и не оставит, несмотря на невзгоды, на жизненные утраты, болезнь и даже самую смерть. Знаю, что живёте верой, а веруяй в Господа не умрет во веки[329]. Простите, что говорю Вам хорошо известное, говорю потому, что духовно с Вами и в эти дни хочу пожелать Вам только радоваться, даже в скорби.
Любящий Вас
С. З.
PS. Дорогой Иван Степанович! Ольга Павловна тоже Вас поздравляет с Воскресением Христовым и желает Вам здоровья и душевного спокойствия. У нас к Вам просьба — если только она осуществима. Нам хотелось бы иметь, как память о Вас, Вашей ручной работы резные пасочницы, то есть формы для пасхи. Кроме Вас резную пасочницу никто и не сделает. Если это Вам будет по силам и по душе, сделайте, когда будет возможно (примерно размером на килограмм).
Письмо Ваше с извещением о получении пластинок получили и очень довольны, что они не разбились. Ещё раз благодарим за целебный мёд. Родители наши поправились, хотя Олина мама очень ослабла за свою болезнь.
Подробно напишу о Шаляпине несколько позже.
Всего Вам доброго. Привет Зинаиде Владимировне.
23 апреля 1970 г.
№ 23. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
Дорогой Иван Степанович!
Думаю, что Вам интересно будет узнать об отношении Ф. И. Шаляпина к церковным песнопениям. Вот что он писал: «…я, хотя и не человек религиозный в том смысле, как принято это понимать, всегда, приходя в церковь и слыша «Христос воскресе из мертвых», чувствую, как я вознесён. Я хочу сказать, что короткое время и не чувствую земли, стою как бы в воздухе…
А единственная в мире русская панихида с её возвышенной одухотворённой скорбью?
Благословен еси, Господи…
А это удивительное “Со духи праведных скончавшихся”?..
А “Вечная память”!
…“Надгробное рыдание” выплакало и выстрадало человечество двадцати столетий. Так это наше[330] “Надгробное рыдание”, а то “Надгробное рыдание”, что подготовило наше, — не десятки ли тысяч лет выстрадало и выплакало его человечество?.. Какие причудливые сталактиты (то есть окаменевшие образования[331]) могли бы быть представлены… если бы были собраны все слёзы горестей и слёзы радости, пролитые в церкви! Не хватает человеческих слов, чтобы выразить, как таинственно соединены в русском церковном пении эти два полюса радости и печали, и где между ними черта, и как одно переходит в другое, неуловимо. Много горького и светлого в жизни человека, но искреннее воскресение — песня, истинное вознесение — песнопение».
(Из книги Ф. И. Шаляпина о своей жизни[332]).
Всё больше убеждаюсь в Вашей нестареющей восприимчивости и большой чуткости к музыке. Не об этом ли сказал Пушкин[333]:
«Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии (то есть музыки[334]). Но нет: тогда б не мог
И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни —
Все предались бы вольному искусству»!
Да, «Реквием» Моцарта подлинно очищает душу, очищает, окрыляет, действует благодатно, и музыка его действительно духовна. «Реквием» же Верди, хотя в нём есть и захватывающие, и трогательные части, слушаешь всё же извне, как театральное представление, не преображаясь при этом внутренне.
О музыке Моцарта, может быть, лучше всего сказал А. С. Пушкин в трагедии «Моцарт и Сальери»:
«Ты плачешь?
— Эти слёзы
Впервые лью: и больно, и приятно…
Как будто нож целебный мне отсёк
Страдавший член! Друг Моцарт, эти слёзы…
Не замечай их. Продолжай, спеши
Ещё наполнить звуками мне душу».
Так говорит в этой трагедии Сальери[335] — завистник и убийца, отравивший Моцарта, слушая его «Реквием».
Вероятно, Вам интересно было бы прочитать полностью и эту трагедию, и «Бориса Годунова» Пушкина. В опере Мусоргского пушкинский текст сохранён почти полностью[336].
Если у Вас или поблизости (у Зинаиды Владимировны) нет Пушкина — я вышлю. Читать его — не меньшее наслаждение, чем слушать музыку. Спасибо Вам за письма. Передаю привет от Ольги Павловны. Знаю, что уже открылась навигация.
Ваш
С. З.
№ 24. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
Здравствуйте, дорогие Сергей Зосимович, Ольга Павловна и все домочадцы!
Сердечный Вам привет. Получил Ваше любезное письмо и с наслаждением пишу ответ. На предыдущее письмо я ответил, что огорчён тем, что лишён возможности выполнить Вашу просьбу — сделать резной пасочник. На память от меня послал шкатулку простой геометрической резьбы. Не знаю, удовлетворит или нет вкус Ольги Павловны, так как это начало моей любительской резной работы, самой простой, а далее идёт резная работа рисунков по плоскости и рельефная, эта самая трудная, большой напряжённости. Жду приезда дочери из Архангельска, а то в одиночестве запутал хозяйственные дела, хотя самочувствие старческое, но такая художественная и духовно настраивающая музыка даёт счастье и покой. Но получил из Красноборска огорчительное письмо от знакомой старушки, которая в Пасху была в церкви и вместо радости духовной вышла из храма Божия до слёз огорчённой, а также и все бывшие в храме. Группа молодёжи, человек до 25-ти, пришли к началу утрени, накупили свеч, начали беспокоить молящихся, входить в алтарь, мешать священнику, и произошло с шумом полное возмущение молящихся и остановка богослужения. Священник, как мог, обличал такое кощунство, а хулиганы побросали в публику свечки и ушли из храма.
Не знаю, как на верующих действуют такие оскорбительные для веры факты, а меня оскорбляет многое в литературе, и не в современной. В библиотеке пермогорской я взял оперу «Борис Годунов». А тут поэма «Гаврилиада»[337]. Господи, какой великий праздник Благовещения, «начало нашего спасения», «Сын Божий, Сын Девы бывает»[338]. Задостойник Благовещению: «Благовествуй, земле, радость велию» и т. д., «яко одушевленному Божию кивоту, да никакоже коснется рука скверных» и т. д. Как не ужаснулся Пушкин излить такую гнусную грязь на виновницу нашего спасения — Пресвятую Деву. Воистину отнял Господь разум у нечестивца. Такая же вопиющая хула излиты на нашу св. веру Львом Толстым, который под старость разочаровался в жизни и решился на самоубийство[339]. Стал искать утешения своей мятущейся души (атеист) в нашей православной вере, основанной на св. Евангелии. Но что же я нашёл в св. Евангелии — мешок вонючей грязи[340]. Сколь ни вонюча эта грязь, но я своими руками перебрал её и нашёл три драгоценные жемчужины, из которых составил своё евангелие. В нём Толстой говорит про нашу церковную иерархию: вы, говорит, какие дорогие рясы не носите, какие золотые шапки не одевайте, вы не учители народа, а подсудимые. Как цензура в прежние довоенные времена пропускала в печати такие книги, вероятно, терпела из-за заслуг мировых великих писателей.
Невольно думается: а что же будет в дальнейшем с нашей св. православной верой и Церковью, со всем св. таинствами и обрядами? В церковных журналах о состоянии церкви в настоящий момент ничего не упомянуто, ни на съезде-конгрессе[341], ни в Патриархии, как будто св. вера тверда, Церковь благоденствует. Преосв[ященный] Влад[ыка] Бор[ис][342]: «со всеми св[ыми] помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим»[343].
Для меня ничего утешительнее музыки не осталось, моё восприятие выше и сладостнее муз[ыки] «Реквием[а]» Моцарта уже вместить не может. Бывают такие сладостные моменты в «Херувимских», «Милость мира», концертах, в том числе Веделя «Днесь Владыка твари». Да и письма Ваши услаждают моё старческое одиночество. Не знаю, привезёт ли дочь игл из Архангельска.
До свидания. С любовию
Иван Степанович
1970 г. 14 мая
№ 25. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову[344]
Дорогой Иван Степанович!
С огорчением получил я извещение о посылке и перед этим — письмо, в котором Вы упомянули о шкатулке. Мне очень, очень жаль, что Вы лишили себя, вероятно, последней вещи, сделанной Вами, а я совсем не собирался просить Вас о ней, ведь просьба была только о пасочнице, иметь которую от Вас было бы приятно и дорого. Мы не предполагали, что это уже неосуществимо, и там более ничего другого и не хотели. Зачем же Вы поспешили с посылкой — я даже не успел Вам ответить и предупредить, чтобы Вы этого не делали.
Теперь шкатулка получена. Спасибо Вам, дорогой Иван Степанович, говорю это со смущением, потому что совсем не хотел лишать Вас какой-либо вещи, а так получилось. Ведь очень хорошей работы, огромного труда, терпения и любви, конечно, она должна бы принадлежать Вашей дочери, а не мне, и, если Вас не обидит это, я привезу её, когда поеду в Пермогорье, чтобы передать Вашей дочери. От Вас же на память у меня уже есть ноты, едва ли кому-либо из Ваших близких захотелось бы их иметь, а для меня хоровые партитуры — большая ценность. Кроме того, Ваши письма я сохраняю и буду сохранять, в них Вы говорите со мной как живой человек и всегда будете в них живым и таким, каким я Вас увидел и узнал. Для меня это очень много значит. Я всё же надеюсь на встречу с Вами, Иван Степанович, когда она будет — трудно сказать, повидать Вас очень хотел бы. Может быть, где-то в конце июля или в конце августа мы и соберёмся, но с уверенностью об этом говорить не могу, так как пока ещё ничего не определилось с поступлением Саши в институт. В июне он кончает 10-й класс, в июле будет готовиться, а в августе сдавать экзамены в ВУЗ.
Летом Саша сделал очень хорошие снимки и в Пермогорье, и в Соловках. Посылаю Вам некоторые из его фотографий.
Спасибо Вам за внимание, заботу и память о нас. Ольга Павловна кланяется Вам и благодарит.
Любящие Вас
С. и О. Трубачёвы
12/ V 70
№ 26. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
Здравствуйте, дорогие мои Сергей Зосимович, Ольга Павловна и все домочадцы!
Шлю Вам с любовию сердечный привет с пожеланием во всём благополучия. С радостию получил Ваше письмо, с радостию и отвечаю.
Живу один в ожидании приезда дочери из Архан[гель]ска. Пишете о посылке шкатулки, которую я с радостью послал, предполагая, что удовлетворю Ваше желание иметь образец моей работы, хотя мало эффекта даёт мизерная простая резьба. У меня шкатулок достаточно, останется на память своим дочерям, и мебель своей резной работы. Резьба по дереву и музыка — это мои идолы, которым я отдал всю энергию и эстетические чувства. Но не все люди имеют вкус к этому искусству и не замечают, проходя мимо. Проезжая по Двине, краеведы оценивают и фотографируют, хотя работа любительская, моей своеобразной фантазии, требующая большой напряжённости. А такое же влечение неудержимое имеет музыка, я думаю, что дошёл до фанатизма. Все эффективные мелодии захватывающе действуют на меня, и впечатление от них надолго остаётся. Проигрывая «Мессу» Баха, я остаюсь весёлым, в ней много эффекта, и невольно появляется чувство смеха от оркестровой музыки, однородной с танцем, а это приятно отражается на душе. Музыка для меня это лекарство против моих старческих немощей. Оперы меня удовлетворяют. В библиотеке я брал Пушкина «Борис Годунов» и Лермонтова «Демон», но слух мой не может воспринять при игре всего текста, но мне достаточно пения таких знаменитых солистов. Справлялся на почте, но нет прейскуранта на текущий 70-й год, вероятно, не пришлют из «Посылторга» в Пермогорье, а если пришлют, то не утерплю — поищу, не будет ли чего из церковных песнопений, и пополню свой репертуар. Собранные мной и переписанные с партитур песнопения едва ли кому будут интересны, это всё из другого, высшего мира, а современный мир ничего в них не оценит и не поймёт. Мечтаю, когда придёт такое скорбное для меня время, передать Вам весь имеющийся у меня репертуар, может, Вас кой-чего удовлетворит из переписанных мной с партитур, есть и партитуры. У Вас, вероятно, музыкальные инструменты всех родов есть.
Очень благодарен за посылку фотокарточек. Оч[ень] хорошо получилась Пермогорская церковь, на двух снимках не могу определить, какая церковь сфотографирована, а монастырь с кремлёвской стеной и башнями заснят с восточной стороны, ярко виден Зосиминский[345] корпус, в котором я жил в 1902 и 1903 году. Всех нас мальчиков было 19 человек, и в нём были почти ежедневные спевки, исключая большие праздники.
Ох, давно это было, необозримая даль, а золотое время было, но детский возраст не всё серьёзно воспринимал, мешала мечта о доме. Господи, какой был дух времени! Какие созидали великолепные храмы Божии, свидетели благочестия русского народа, а теперь, проходя мимо разрушенных стен св. храмов и разобранных кирпичей фундаментов, невольно почувствуешь дух богоборный настоящего времени, о котором не упомянули ни слова делегаты съезда всех христианских церквей в своих докладах и резолюциях в защиту мира во всём мире 4 июня сего [19]69 года[346]. Теперь материалисты говорят, что Бог не заботится о верующих, допускает разрушение храмов и поругание святынь. Какими путями Господь утвердит веру св. на земле? Един Господь весть.
Порадуйте меня письмами. Я пишу в восторге и радости.
До свидания. С любовию и приветом
Иван Степанович
1970 г. 19 мая
№ 27. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
Дорогой Иван Степанович!
Посылаю Вам либретто оперы «Демон». Оно значительно отличается от текста поэмы Лермонтова, из которой вошли в него только некоторые строфы: «Не плачь, дитя, не плачь напрасно», «На воздушном океане», «Лишь только ночь своим покровом» и далее (II сцена 3-го действия) — диалог с Тамарой от слов «Я тот, которому внимала» и «Тебя я вольный сын эфира». Остальное присочинено либреттистом[347] и резко отличается от поэтического языка Лермонтова.
Либретто посылаю, чтобы Вы могли следить за певцами и понимать слова. Обратите внимание на мужской хор «Ноченька тёмная» (II сцена 1-го действия).
В «Борисе Годунове» Мусоргского больше близости к пушкинскому тексту. Но он частично переработан, приспособлен к опере и следить по оригиналу трудно, так как есть отступления (например, рассказ Патриарха передан Пимену)[348].
Напрасно Вы прочитали «Гаврилиаду». Произведение это теперь приписывается Пушкину, сам же он от него отказался[349]. Но даже если и написал его в юности (под влиянием Вольтера[350] — французского писателя XVIII века), то не смог бы подобное написать в зрелом возрасте. Пушкин отказался от него письменно и тем отторгнул, отверг от себя всякое кощунственное слово.
Знаете ли Вы, какое переложение молитвы Ефрема Сирина сложил Пушкин за год до смерти?
«Отцы пустынники и жёны непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всё чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи». (1836 год)
Мог ли человек, мысливший и чувствовавший так в зрелые годы, написать что-либо недостойное? Совращают же читающих те, кто допускает печатать отвергнутое самим автором.
Очень верно понимаете Вы отношение Л. Толстого к религии. Вера Льва Толстого безблагодатна, потому что он поставил себя вне церкви, вне таинств. Он не был атеистом, но принимал Бога рассудочно и потому не мог понять и принять океан безграничной любви и благодати Божией. Перед смертью Л. Т[олстой] отправился в Оптину пустынь. Но у него не хватило решимости войти к старцу — принести покаяние.
Хочу Вас уверить, что в современной литературе можно встретить сочувственное понимание религии и стремления души человеческой к Богу. Например, в «Письмах из Русского музея» Вл[адимир] Солоухин[351] говорит: «В человеке, кроме потребности есть, пить, спать и продолжать род, с самого начала жили две великие потребности. Первая из них — общение с душой другого человека. А вторая — общение с небом. Первая из них с самого начала нашла себе выражение в разных формах искусства; вторая — в разнообразных религиях. Очень часто эти две линии перекрещивались, соприкасались и даже сливались. Например, древнегреческая культовая скульптура… Рафаэль[352], Рублёв[353], Бах и вообще всякое искусство религиозного характера и содержания».
Приведу Вам отрывок из стихотворения Вл[адимира] Солоухина[354] о старинном русском храме. Порадуйтесь, как хорошо это сказано:
«В храме — золочёные колонны,
Золочёная резьба сквозная,
От полу до сводов поднимались.
В золочёных ризах все иконы,
Тускло в темноте они мерцали.
Даже темнота казалась в храме
Будто бы немного золотая.
В золотистом сумраке горели
Огоньками чистого рубина
На цепочках золотых лампады.
Рано утром приходили люди.
Богомольцы шли и богомолки.
Возжигались трепетные свечи,
Разливался полусвет янтарный.
Фимиам под своды поднимался
Синими душистыми клубами.
Острый луч из верхнего окошка
Сквозь куренья дымно прорезался.
И неслось ликующее пенье
Выше голубого фимиама,
Выше золотистого тумана
И колонн резных и золочёных».
Не подумайте, дорогой Иван Степанович, что я забыл о Вашей просьбе. Корундовых игл в продаже нет, буду ещё искать и спрашивать. Из пластинок постараюсь Вам вскоре послать хоровую музыку. Если встречу проспект пластинок, посылаемых базой, тоже вышлю. Простите мне задержку в ответах и отправлении пластинок.
Всего Вам доброго. Сердечный привет от О[льги] П[авловны].
Ваш
С. Т.
24 мая 70 г.
№ 28. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
Здравствуйте, дорогие мои Сергей Зосимович, Ольга Павловна со всеми домочадцами!
Шлю Вам с любовию сердечный привет. Получил Ваше любезное, радующее меня письмо, сколько труда вложили на объяснение текста опер «Демона» и «Бориса Годунова». Ваш текст оперы «Демон» более уловимый при слушании. «Годунова» я прочитал из Пушкина, часть текста улавливаю и музыкой удовлетворяюсь. Неуместно с моей стороны написал я о Пушкине, но эта поэма — грязная «Гаврилиада» — ходит, и развращает, и оскорбляет слух нравственных людей. Хотя сочинитель и получил по заслугам — был выслан в южные области без права приближаться к Петрограду ближе тысячи километров. Суд выяснил, что сочинил гренадёр какого-то полка, а Пушкин хранил для обработки[355]. Простите меня за такую неуместную в письме грязь.
Я читал сочинение профессора философско-богословских наук протоиерея Ф. Богоявленского[356] о невозможности атеизма, где профессор заявляет, что это не атеисты, а только сомневающиеся в той или иной степени, потому что небытия Бога доказать невозможно. Каждый атеист думает: а кто ж его знает, может быть, и есть Бог. Разум принадлежит всем людям, а иногда родятся идиоты, зрение всеобще, но родятся слепые, и по ним нельзя заключать обо всём обществе. Эти люди в большинстве намеренно исказили себя, ввергли себя в нравственную болезнь. Люблю читать такие произведения и переписываю в свой блокнот, и очень бы желал, чтоб Вы прочитали и узнали, какими произведениями увлекается старик.
Много было таких религиозно-философских книг у священника пермогорской церкви[357], но они были страха ради иудейска[358] спрятаны в землю в ящиках, но плохо защищены от сырости, всё испортилось, бумага от прикосновения крошится. Особенно жаль журналов: «Отдых христианина»[359], «Голос истины»[360], «Воскресный день»[361], — но ничего полностью восстановить нельзя, из рук всё крошится, но что возможно я вписал в свой блокнот, и с удовольствием для себя прочитываю, и делюсь с человеком, достойным слушать. Вот Пушкина молитву св. Ефрема Сирина впишу и о великолепии Храма Божия[362] — очень хорошие переложения. Особенно жаль, что погибло от сырости много нот, я смог списать только «Вскую мя отринул еси» и брачный концерт «Господи Боже наш, благословивый брак в Кане Галилейстей»[363].
С какой бы радостью поделился бы своими мыслями, убеждениями, удовольствиями, но не с кем совершенно поделиться. Современная школа воспитала людей будущего безбожного материалистического общества, вкусы и влеченья иные, и такие старые личности, как я, считаются как отставшие от современной жизни люди, их надо перевоспитать. Но, я со своей стороны, не могу считать современных людей нравственно здоровыми. По заключению проф[ессора] Богоявленского, материалист не на высоте человеческого достоинства есть высшее хитроумное животное, а при смерти должен сознать себя не лучше мыльного пузыря. Где тут утешение? Теперь я не один, приехала из Архан[гель]ска дочь и поживёт месяца два, а потом её сменит другая дочь[364], предполагают ухаживать за отцом-стариком до смерти. Из своего дома ехать к дочерям на квартиру не собираюсь. Дома я полный хозяин, хотя мало трудоспособный. Музыка — моё ежедневное удовольствие; сад, огород и пчёлы требуют приложения рук. А в дальнейшем всё в руках Божиих, ничего не знаем о будущем дне, а только твёрдо знаем, «что час, то короче к могиле наш путь»[365].
До свидания. С приветом и любовию
Иван Степ.
1970 г. 31 мая
№ 29. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову[366]
Дорогой Иван Степанович!
Посылаю Вам снимки двух соловецких колоколов, сохранившихся до сего времени. Один из них отлит в память об осаде монастыря в 1854 году[367]. На нём изображение монастыря и надпись «Да воскреснет Бог, и расточатся врази его»[368]. Другой (поменьше) — древний, происхождения иноземного, в верху его надпись, скорее всего, готическими буквами. Как утверждает автор путеводителя, первый колокол (памятный) «висел в специально устроенной в 1863 году беседке, которая находилась посреди монастырского двора между Святыми воротами и галереей». Хочу Вас спросить — не тот ли это колокол, в который ударяли до благовеста перед службой? Не вспомните ли Вы, когда была церемония передачи колокола[369], о которой Вы рассказывали, и не походит ли меньший (старинный) колокол на тот «серебряный», возвращённый, а может быть, подаренный монастырю? Но каким образом англичане могли увезти колокол, ведь на большом Соловецком острове они не высаживались? Когда я рассказал сотруднику музея с Ваших слов о передаче колокола, он подтвердил, что подобное слышал уже от приезжавшей на богомолье в монастырь, кажется, в 1905 году. Но об этом событии нигде не упоминается. Мне хочется, чтобы Вы написали, что вспомните, и, может быть, фотоснимки, сделанные Сашей на монастырском дворе, где сейчас висят эти колокола, помогут Вам вспомнить.
Интересует меня и пение в Соловецком монастыре. Приходилось ли Вам видеть «Обиход нотного пения» в 3-х ч[астях], издание Соловецкого монастыря? Вероятно, так можно найти местные напевы или напевы распространённые, но с какими-то местными особенностями. Нет ли его в Вашем нотном собрании? Хотелось бы знать, какое осмогласие — знаменное, киевское или иное — было принято в год Вашего пребывания там. Простите, если затрудняю Вас такими вопросами, ведь прошло уже вероятно, 70 лет, но мне думается, что Ваши детские впечатления были настолько сильными, что не могли исчезнуть. Конечно, едва ли можно вспомнить монастырские напевы, если Вы пробыли там год и после этого не возвращались. Но сказать, отличались они от распространённых (киевского роспева) или нет, вероятно, Вы сможете.
До сих пор не знаю, заинтересовала ли Вас пластинка с записью ростовского звона?
Какие были колокола в Соловках — по подбору, по тембру и силе? Напишите.
Вероятно, теперь Вы меньше слушаете музыку, трудитесь в саду и с пчёлами. Надеюсь, что лето укрепит Ваши силы. Рад, что с Вами родные.
Всего Вам доброго. Привет от О[льги] П[авловны].
Ваш
С. Т.
№ 30. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
Здравствуйте, дорогие мои Сергей Зосимович, Ольга Павловна и все домочадцы!
Получил Ваше достолюбезное письмо и с чувством радости и благодарности, насколько сумею, отвечаю.
Присланным снимкам судить сомневаюсь. Колоколов там было много. Самый большой на кремлёвской соборной колокольне тысячепудовый, звон в него был только по большим двунадесятым праздникам и в дни рождения и тезоименитства царских особ, в малые полиелейные праздники — звон в средний колокол, в будничные дни — малый звон. В праздники перед ударом тысяче[пудового] колокола за несколько минут трижды ударяли в маленький колокол, висевший над пирамидой ядер перед входом в Преображенский собор. Колокол над пирамидой маленький, а потому он не подходит к колоколу на снимке. О возвращении пленного колокола из Англии у меня была куплена книжечка-брошюрка[370], в которой вся история описана канонады в 1854 году. Какой ультиматум был предъявлен англичанами монастырю, сколько золота, голов скота и других ценностей. Англичане высадились на Заяцкий остров, скит Соловецкого монастыря, сняли и увезли на пароходы, и колокол находился в Англии до 1902 года, и вот судил мне Господь встречать этот колокол при возвращении из англ[ийского] плена. Ездили на пароходе «Вера» встречать и получать с большого английского корабля. Какие трогательные речи переведены были на русский язык, какое сожаление, что произошло кощунственное отношение к священ[ному] месту. Привезённый колокол был водружён над пирамидой ядер, а маленький, в который трижды ударяли, был снят. С этого времени в пленный колокол и ударяют трижды в большие праздники. Вес колокола около 30-ти пудов — полтонны.
В 1902 году ещё были в живых монахи, бывшие во время канонады. Протодьякон Орест[371] ещё по большим праздникам служил, но уж был глубокий старец, как видно, обладал солидным басом.
Для переговоров с монастырём с крейсеров «Юридисей» и «Брикс»[372] для объявления ультиматума были посланы представители. Как бы ценна была книжечка с описанием грозных событий на Соловецком острове, но ничего не уцелело в такой тревожной моей жизни.
Очень обрадовали меня вопросами о пении церковном. Но тогда я при 13-летнем возрасте и в течение одного года[373] при всём моём увлечении не мог полностью всем овладеть. Представьте себе неграмотного человека научить грамоте всесторонне.
Всё богослужение, кроме литургии, совершалось под диктовку канонарха. Напевы восьмигласника на «подобны»[374], их тоже восемь напевов:
- Небесных чинов радование.
- Егда от древа Аримафей Тя снят[375].
- Велия креста Твоего, Господи, сила.
- Дал еси, Господи, знамение боящимся Тебе[376].
- Радуйся, живоносный Кресте, веры утверждай[377].
- Тридневен воскресл если, Христе, от гроба.
- Прехвальнии мученици, вас ни земля потаила есть[378].
- О, преславнаго чудесе! Живоносный сад, Крест всечестный на высоту возносим является днесь[379].
Песнопения трудные сначала, а потом в помощь приходит то, что канонарха ставят с высоким тенором и способным не читать, а петь каждый стих или строчку, а это теноров и дискантов облегчает пение, им приходится в точности повторять мелодию канонарха, а вот альтам и басам — самим находить свою мелодию. Если на стихире нет «подобен», то канонарх объявляет: «Самогласен», — тогда стихира диктуется и поётся на глас осмогласника.
В будничные дни пение по обиходу[380] (по крюкам[381]), каноны и на литургии знаменный напев, но в обиходах не значится никаких распевов, там всё в унисон, а поют в терцию. Все эти обиходы в настоящее время есть в церквах. Догматики восьми гласов по обиходу на средине церкви. Киевский и греческий распевы в крючных обиходах я не замечал. Списано мной много нот с партитур в Соловках, и по ним много лет пели мы своим сельским любительским хором до [19]28 года, но ничего не сохранилось из этих нот.
Музыкой я всё более и более увлекаюсь. Посланная Вами книжка, опера «Демон», даёт возможность следить за текстом пения, что даёт больший эффект. Эта опера, я думаю, самая эффектная по подбору певцов и исполнений. Но самое высшее удовольствие духовной музыки я приноровляю к праздникам, когда на фисгармонии играю песнопения праздников. Слушаю передачу, лежа, получаю два удовольствия: отдых от усталости и приятную музыку. Часто повторяю и «Ростовские звоны»[382], получается приятное воспоминание духа религиозного общества, создавшего великолепные храмы Божии и украшающие их великолепные звоны. Что богослужение без пения, то и храм Божий без звона. А теперь вот уже нигде не слышно церковного звона. В Архангельске в кафедральной церкви нет звона.
Старческий мой возраст подсказывает, что подходит время полной беспомощности, и дочери мои, пенсионерки, советуют мне продать дом и всё имущество и на эти средства при их уходе за мной доживать последние дни своей жизни. Но я не могу на это решиться и остаюсь пока с желанием жить дома до полного упадка сил. Меня в городской квартире терпеть не будут за беспокойство музыкой, да и дочери мои тяготятся моей игрой, так как они с малолетства были отправлены в Архангельск в няни, чтобы избежать посылки на лесозаготовки, а дальнейшее образование невозможно было продолжить из-за моей церковной службы, и стал я виновником их многотрудной жизни. В течение сорокапятилетней жизни в городе и в такой атмосфере отразилось на них, и я являюсь теперь как отставший от современной жизни общества. Но пусть я отстал от современной жизни, но я не сожалею об этом. В бытность мою в Соловках много было стариков, которые пожертвовали своё имущество и живут в монастыре до смерти при квартире и полном уходе за ними. Ежедневно ходи на прогулку и слушай богослужение. Считал бы счастием внести вкладом своё имущество и до смерти жить в Соловецком монастыре.
Я посещал Соловки три раза, последний раз поехали с женой и ребёнком в 1914 году, прибыли в монастырь в день объявления первой империалистической войны с Германией, поднялось ужасное волнение богомольцев, так как путь обратно в Арханг[ельск] был заминирован, и многотысячную публику богомольцев вывезли в г[ород] Онегу без средств следования домой, и нам пришлось хватить горя, да ещё с ребёнком, ехать по реке Онеге вверх по течению 100 километров к брату моей жены, священнику, а оттуда 90 километров на станцию ж[елезной] д[ороги] Обозерская[383]. Трагическая поездка в дни мобилизации.
Не знаю, что ещё писать, что сохранилось в памяти. Всё, как умел, написал.
Сегодня жду выхода роёв и нахожусь на пасеке. Справляюсь на почте о присылке нового прейскуранта на грампластинки, наверное, не пришлют на 70-й год. В библиотеке есть книга «Жизнь Шаляпина»[384], шрифт оч[ень] мелкий, большая –398 страниц.
Какое здоровье Вашей мамы, если требуется, я пошлю мёду старого, свежий будет не ранее 12–15 июля.
С любовию и приветом
Иван Степанович
1970 г. 18 июня
№ 31. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
Дорогой Иван Степанович!
Прошу простить меня за опоздание с ответом. Письмо Ваше с описанием встречи соловецкого колокола прочитал только по приезде из служебной командировки в Уфу и не ответил сразу из-за большой занятости и переутомления от экзаменов. Спасибо Вам за очень интересные воспоминания. Но меня всё же не оставляет предположение, что один из этих колоколов — голландского происхождения — тот самый, который увезли англичане с Заяцкого острова и потом вернули. Возможно, что именно он был в сооружённой Петром Первым деревянной церкви Андрея Первозванного, и не с петровского ли корабля он был передан в Соловецкий монастырь? Колокол этот заметно меньше другого, отлитого в память об осаде. По сведениям же путеводителя, над грудой ядер висел большой памятный колокол. Установить всё это точно едва ли возможно, но моя догадка, быть может, и не лишена оснований, тем более что оба колокола сохранились, а те, что висели на колокольне, — нет.
Ваш рассказ интересен даже не степенью фактической точности — какой это был колокол, а тем, что Вы живой очевидец и участник той встречи, и всё, о чём Вы вспомнили и записали, имеет живой интерес, передаёт живые впечатления, пережитые Вами и тем особенно значительные.
Есть ещё одно дивное место, куда очень хотел бы поехать, — это Валаам. Я знал старца, который начал своё монашество на Валааме, и он пожелал, чтобы я побывал там. Но сейчас на этом острове туристические базы, приезжают, как и на Соловки, пожить в палатках, и видеть всё это, зная, что было совсем другое, тягостно.
Есть несколько монастырей, где живут по уставу и совершают богослужения — в Троице-Сергиевой лавре, Печорах (Псковской области)[385], Почаевской лавре. Но жизнь там трудная, и каждый трудится невзирая на возраст. Вам же лучше не оставлять свой домик и пасеку при нём. Конечно, уход дочерей необходим, и одному Вам нельзя оставаться. Но в городской квартире не жизнь, и лучше Пермогорье не менять на город.
Посылаю Вам проспект пластинок на 1970 г[од]. Не знаю, найдёте ли Вы для себя в нём что-либо подходящее. Возможно, что хоры Танеева[386] в исполнении Русской академической капеллы А. А. Юрлова[387].
Посылаю также запись музыки итальянского композитора Перголезе[388] — Stabat Mater, то есть «Мать скорбящая» (в нашей церкви это «Плач Богоматери»).
Думаю, что Вас обрадует эта чистая, трогательная и возвышенная музыка. От всего сердца желаю Вам здоровья, спокойствия душевного и всех доступных радостей.
Ольга Павловна кланяется Вам.
С. Т.
№ 32. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
Здравствуйте, дорогие мои Сергей Зосимович, Ольга Павловна и Саша!
Шлю Вам с любовию сердечный привет. Вчера получил Ваше любезное письмо и грампластинку, очень эффектную содержанием. Опять затратили для меня свой драгоценный труд, невзирая на свою постоянную занятость. Не знаю, чем удовлетворить Вас за труды и на что бы обратить хотя отчасти Ваше внимание. У меня страсть списывать из богословской литературы себе в блокнот нравящиеся мне речи на религиозно-философские темы. Я вписал уже порядочно, но трудно найти таких книг, всё, что мог найти после долгих поисков, переписал. Поделиться такими мыслями не с кем, хотя очень хотелось бы. Даже показать кому-либо из современных людей такую перепись только для насмешки. Но для меня этот труд записи оч[ень] дорог. Его для прочтения Вам, только с возвратом, но я сомневаюсь, что это с моей стороны будет неуместно. Ещё пошлю фото резной шкатулки рельефной резьбы, может, обратите внимание. Такая шкатулка геометрической резьбы отослана в Японию, в «Экспо-70»[389]. Всё у меня страсти, от юности меня борют. Музыкальная страсть вошла в ежедневную норму. Хотя оперы «Демон» и «Борис Годунов» эффектны, но всецело [меня] удовлетворяют песнопения церковные и реквиемы, и лучшего удовлетворения для меня нет.
Ежедневно и невольно вспоминается жизнь в Соловецком монастыре, хотя это было 69 лет назад. Возили нас, певчих, по всем скитам, были и на Секирной, где по описанию истории монастыря были высечены розгами ангелом две поморские женщины в наказание за то, что поморы поселились на монастырских владениях. Поморское население без разрешения пользовалось монастырскими водами и угодьями, несмотря на запрет монастыря. Во времена царя Грозного[390], когда был игуменом митрополит Московский св[ятитель] Филипп[391], который благоустроил хозяйство монастыря, были расчищены от камней сенокосы, устроен скотный двор в Муксаломском острове и к нему каменный мост[392], птичий двор, заселился остров оленями и лисицами.
Об осаде монастыря говорится, что возможность нападения была предусмотрена. Вызваны были воинские части, на берегу оборудованы две батареи с пушками древнего типа. Среди монахов были свои пушкари. В пяти башнях пушки глядели в окна во все стороны, вероятно, эти ружья и пушки и по сие время сохранились в башнях. Ведь в то время монастырская крепость была военной крепостью, и крепость военная была построена при выходе из Архангельска в море. Опасения были по случаю появления в беломорских водах иностранных судов с нарушением водных границ. В петровское время Швеция враждебна была России, и шведы сожгли Трифоно-Печенгский монастырь[393]. Всё это смутно помнится, описано в истории Соловецкого монастыря. О двухчасовой канонаде монастыря[394] описывается, когда попадали ядра в стены храма и в купол, то во время богослужения народ не мог удержаться на ногах. А когда ядро ударило в икону Знамения над Троицким собором[395], канонада прекратилась, загоревшуюся над крепостью деревянную крышу усиленно тушили. Хотя с крепости и берегов били по пароходам, но, видимо, недальнобойные пушки, старые пушки, не имели силы, и предполагают, что англичане расстреляли все запасы ядер. Перед канонадой они обстреляли прибрежные поморские деревни. В пяти башнях старых ружей и пушек не пересчитаешь, и вот во время освящения воды на иордане и в Преполовение[396] на Св[ятом] озере во время пения «Во Иордане крещающуся»[397] и «Спаси, Господи, люди Твоя»[398] раздаётся с пяти башен в одну секунду залп из пяти пушек, трижды такой удар, что земля дрожит, и вода колышется, и ушам неприятно. Уцелела или нет деревянная гостиница, вся насквозь ядрами пронизанная? Уцелела или нет над Св[ятыми] воротами модель судна Петра Великого?[399] Просто и невзрослому человеку было интересно поглядеть на такую красоту. Ведь описано в истории: сам царь пел на клиросе и «Апостол» читал[400].
Прочитал я большую книгу «Жизнь Ф. И. Шаляпина»[401]. Вся его с малолетства тяжёлая трагическая жизнь, потом полная успехов по таланту и внезапных злоключений, и все счастливые заграничные выступления и поездки. Насколько трудно театральное искусство, с каким увлечением народ ценил театр, выше этого искусства никакого более не было. От самого царя Шаляпин получил в драгоценном стакане на подносе вина, выпил, а стакан в честь такого события забрал себе. Но стакан принадлежал какой-то княжне, она запросила стакан обратно, но Шаляпин сказал: «Купи новый, и комплект твой пополнится — будут все двенадцать»[402].
Я питаю мысль описать всю свою жизнь, с детства несчастную, до невероятности трагическую, но по малограмотности сомневаюсь, чтобы удовлетворительно что-нибудь получилось. Придётся описывать невероятно печальные факты и жизнь деревни 80 лет назад. И получилась бы непревзойдённая история, охватывающая жизнь и события в течение 80-ти годов.
Сегодня была у меня Зинаида Владимировна, купила пять кило мёда, но не для себя — для родственницы. Медосбор начался хороший, погода благоприятствовала, в дальнейшем медосбор во власти погоды.
В прейскуранте за 70-й год в грампласт[инках] ничего подходящего для меня не нашёл. За 69-й год есть комедия Гоголя «Ночь перед рождеством». Эту комедию я в детстве читал[403], когда учился в школе. Выпишу для юмора, но не по возрасту моему, пусть кто-нибудь послушает и улыбнётся.
На могилу хожу часто. Памятник в виде конуса металлического поставили.
Какие у Вас планы на ближайшие будущие туристские путешествия? Очень желал бы я встретить книгу полемическую на темы научно-богословских рассуждений. Жаль, что в Пермогорье у священника о[тца] Александра страха ради иудейска спрятаны были такие книги и журнал «Голос истины» за несколько лет, в ящике от сырости всё сгнило, в руках бумага крошится, много нот, уцелел только брачный[404] концерт «Вскую мя отринул еси»[405].
Не знаю, как благодарить за Ваши услуги и неоценимые удовольствия. Никуда двинуться из дома и продавать чего из имущества не решаюсь, предполагаю зиму прожить в своём доме, а в дальнейшем как Бог устроит.
До свидания. С гор[ячим] приветом и любовию
Иван Степанович
1970 года 14 июля
Прилагаю рис[унок] шкатулки.
№ 33. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
Дорогой Иван Степанович!
В последнем письме Вы говорите о желании написать воспоминания о своей жизни. Если только найдутся у Вас силы (не будет ли помехой зрение), непременно возьмитесь за этот труд. Как ни тяжело вспоминать Ваше прошлое, но ведь в нём зёрна настоящего и много радующего Вас по сей день. То, каким Вы стали, каким есть в своей жизни, Вы обязаны прошлому. Очень интересно видеть, как постепенно возникает и развивается личность. Интересны и факты окружающей нас жизни — из живых впечатлений создаётся неповторимо живая картина действительности, хотя бы и в очень ограниченном отрезке места и времени. Даже в описании уже известных фактов рисуются детали, которые может подметить и передать только очевидец.
Описать всю Вашу жизнь за 80 лет — труд непосильный. Пишите частями. Пишите только о том, чему лично Вы были свидетель и очевидец. Как интересно будет прочитать Ваши воспоминания, да и не только мне.
Вот и досуг ваш будет занят до предела. Убеждён, что запись воспоминаний увлечёт Вас, ведь в них — живая жизнь, о которой Вам есть что сказать, но сказать надо правдиво и просто, так, как Вы думаете и переживаете.
По истории Соловецкой обители у меня есть интересное описание, изданное в 1889 г[оду][406]. Но такие детали, как освящение воды в Крещенский сочельник и в Преполовение на Святом озере, ведь это узнать можно только от очевидца.
Через день после письма получил и бандероль с выписками. Не успел я предупредить Вас, чтобы Вы не посылали, едва ли в этом году я соберусь приехать, а посылать посылкой ненадёжно. Так как Вас очень интересуют вопросы, затронутые в этих выписках, хочу познакомить Вас с мыслями о вере знаменитого русского хирурга Н. И. Пирогова (1810–1881), высказанными в его «Посмертных записках», напечатанных в «Русской старине» (1884 г[од])[407].
Спасибо Вам за фотографию шкатулки — покажу её маме. Пожалуйста, ничего не посылайте. Мама говорит, что у неё стоит ещё баночка мёду, посланного Вами зимой. Здоровье её значительно лучше. Мама Ольги Павловны заметно слабеет силами, но сохраняет душевную красоту, удивительную для её трудной жизни, в которой испытания и утраты могли бы надломить иного человека. Посылаю Вам русский перевод Stabat Mater, напечатанный в издании Юргенсона[408], перевод поэтически плохой (хотя и написан А. Фетом[409]), но, может быть, он поможет Вам слушать музыку, для чего я отметил текст каждой части.
Извините за мой неразборчивый почерк. Привет от О[льги] П[авловны].
Ваш
С. Т.
18/VII.70
№ 34. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
Здравствуйте, дорогие мои Сергей Зосимович, Ольга Павловна и Саша!
Шлю Вам с любовию горячий привет и искреннюю благодарность за драгоценную посылку — грампластинку Дж[ованни] Перголезе и за труды перевода на русский язык. Мелодия изображает уныние и плач Богородицы и неудержимо привлекает слух.
При глубоком старческом возрасте неизбежно падает интерес к занимавшим в молодости хозяйственным и культурным удовольствиям, что я и испытываю сейчас на себе. В настоящий летний сезон предвидится хороший урожая ягод земляники и малины, медосбор несравненно лучше прошедших двух лет. Невероятный спрос на мёд[410], люди уходят с неудовольствием, что не можем вполне удовлетворять просьбы покупателей. Пчеловодства в районе мало. При всех успехах по хозяйству нисколько нет радости. Я предполагаю, что таков удел всех в преклонном возрасте. А вот музыка духовного содержания вводит в другой, высший мир, в полную отрешённость от земной суеты, лечит плохое самочувствие. Сегодня собирался съездить в церковь, с вечера предположил, но вдруг почувствовал утром паралич левой ноги от бедра и до колена, нога отказывается, нельзя опереться, внезапно появляется резкая боль и внезапно исчезает. Завтра предполагаю ехать к врачу в Красноборск. Вот как непрочно наше старческое самочувствие.
Как бы я рад был чем[-нибудь] Вас отблагодарить от своих земных трудов и плодов, но дальность расстояния не позволяет. А всё-таки жаль, что не с кем мне поделиться своими мнениями, увлечениями по музыке и проч[им].
В Красноборске есть историк, откуда-то достаёт исторические данные древнего происхождения г[орода] Сольвычегодска, селений Цывозера, Ляблы, Уфтюги, Белой Слуды, а теперь в районной газете описывает историю Красноборска. Наша Ляховская волость своё название получила по случаю разбойничания поляков в 1612 году при воцарении Михаила Романова[411]. История говорит, что в июле месяце поляки взяли священника Петра[412] из-за богослужения, привязали к хвосту лошади, влачили по рыночной площади и так замучили до смерти. На могиле его была часовня. В день его кончины 8 июля в часовне служили панихиду при огромном стечении народа[413]. Есть книжечка «Сказание о чудесах от земли с могилы Петра иерея»[414]. Даже по сие время старые люди чтут его как великомученика. В настоящее время на месте часовни построен дом пионеров и склад пушных товаров[415].
Наша Ляховская волость имеет свою древнюю историю. Прапрадеды наши говорили, что в нашей деревне Звягинской (моя родина) был скотный двор Соловецкого монастыря, в низменном месте торчали остатки очень толстых столбов от разрушенного скотного двора. Мы всей деревней решили достать из земли эти сгнившие столбы. Подкопали, зарядили по два бревна и таким образом выкачали шесть столбов. Дерево оказалось, как уголь, мягкое, я получил один столб, после двухлетней просушки я сделал два медведя для подставки к буфету. Верхняя часть буфета стояла на двух медведях. Страха ради иудейска я в [19]34 году отправил буфет в Арх[ангельс]к в комиссионный магазин и нисколь не пожалел, что сбыл с рук такую опасную по времени вещь. В присланном Вами прейскуранте ничего не нашёл. Нового за [19]70 год прейскуранта не послано на почту.
Буду мечтать дожить до будущего лета [19]71 года, но весь живот наш Христу Богу предадим.
Прилагаю очерк из истории Красноборского края, может, посмотрите.
До свидания. С пр[иветом] и любовию
Иван Степанович
1970 г. 2 августа
№ 35. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
Дорогой Иван Степанович!
Очень огорчены Вашим сообщением о внезапной боли в ноге. Возможно, что это тромб, и тогда надо лежать. Что сказал Вам врач? Какое рекомендовал лечение? Надеюсь, что состояние это будет непродолжительным, и, даст Бог, пройдёт!
Лето у нас тоже трудное — Саша должен был 2 августа сдавать экзамены в институт и внезапно заболел ангиной. Температура поднялась до 40° и хотя теперь нормальная, но горло ещё не очистилось окончательно. Нахожусь постоянно в Москве и даже к маме не выезжаю. Летом здесь очень тяжело — душно, шумно, под окнами работают строительные бригады, целый день треск машин и крики.
Передо мной фотографии прошлогодней поездки в Пермогорье и Соловки. Незабываемое путешествие — на всю жизнь. Придётся ли ещё нам увидеться? Встретились с Вами на каких-то два часа, а сблизились за этот год, как будто всю жизнь знали.
Спасибо за сообщение о Красноборском крае, то, что Вы пишете, действительно интересно, а газетный очерк надуманная и слабая «литературщина». Будут ли у Вас силы написать о своей жизни? Ведь она тоже часть истории, и чем больше событий, фактов и людей Вы вспомните, тем значительнее будут эти записи.
Беспокоюсь, получены ли Вами выписки из «Записок» Пирогова, вложенные в письмо? Блокнот с Вашими выписками не решаюсь выслать, пока не подтвердите получение последнего письма полностью.
Желаем Вам выздоровления и сил душевных и телесных. Привет всей Вашей семье.
С. Трубачёв
11.VIII.70
№ 36. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
Здравствуйте, дорогие мои Сергей Зосимович, Ольга Павловна и Саша!
Шлю Вам с любовию горячий привет. Получил ваше любезное письмо от 11.VIII.70. Отвечаю с великой радостью. Жизнь моя старческая течёт обычным для моего возраста порядком. Хотя левая нога начинает проявлять боль от бедренной кости и ниже до колена, но это старческая немощь. Удивительно, что у некоторых стариков та же болезнь и тоже левой ноги. Невропатолога в Красноборске не будет до 1 сентября, а в Котлас не могу отлучиться из-за хозяйственных дел.
По невежеству своему не сообщил Вам в предыдущем письме о получении выписки из посмертных записей Н. И. Пирогова. Поистине все драгоценные философско-богословские мысли, которые я вполне понимаю, хотя и малограмотный человек. Такие мысли и у меня неотвязно возникают, и не потому, что читал только про них. Вспоминая свою с малого детства трагическую жизнь, я обязан благодарить и молиться за свою родительницу-мать. Это была хотя и неграмотная женщина (в то время в деревне все женщины и мужчины были неграмотны — школ не было), но обладала такой религиозностью, что ходила на богомолье по монастырям, и пешком ходила на богомолье в Киев и Почаев[416], и ходила со своим горем: отец мой был неисправимый алкоголик, пропил всё хозяйство, и нас оставил нищими, и сам повесился. С детства я очевидец мученической жизни матери, по её обещанию отправлен я на год в Соловецкий монастырь. Обычай ходить в Киев на богомолье был и ранее того времени. Я знал одного старца, который восемь раз ходил пешком в Киев, он был путеводителем к другим монастырям. И не зря шли, а шли каждый со своим каким-то горем.
Я не знаю, какой учёный деятель Н. И. Пирогов, но такие высокие богословские убеждения присущи только высоконравственному человеку. Невольно порадуешься такому мыслителю. Мысли отвлечённые, философские, но не все доступные разуму необлагодатствованного человека. Бог непостижим. Сам Иисус Христос в Евангелии сказал: «Никтоже знает Сына, токмо Отец; ни Отца кто знает, токмо Сын»[417]. Немощному разуму человека недосягаемо проникновение в область Божества. Благодари Бога, что даёт веру. Но в помощь веры человека Бог достойным людям открывает некоторые Свои Божественные свойства: всеведение и вездеприсутствие, и это уже становится не верой только, а полным убеждением разума, и это убеждение служит для человека твёрдой опорой во всех злоключениях жизни, и он вкушает высшую меру счастия в сей земной жизни.
Я опишу Вам такой случай. Священник о[тец] Григорий[418] в нашей Красноборской церкви в день Вознесения за литургией говорил проповедь, что Господь вознёсся на восьмое небо. Св. Иоанн Златоуст на толкование пророка Исайи говорит: «И бысть в лето, в неже умре Озия царь, видех Господа седяща на престоле высоце и херувими вокруг Его»[419] и т. д. Златоуст говорит, что это только образное видение для понятия человека (символы), а на самом деле нет ни престолов, ни семи небес, а небо нужно понимать, что это мир бесчисленный высших служебных сил (духов). Бог вездесущ. Такая ошибка в небе и восьми небесах, по Златоусту, вкралась в догмат о небесах при переводе с еврейского языка на греческий, так как у евреев в печати нет единственного числа, а множественное: небо — небеса, чудо — чудеса, уши — ушеса, тело — телеса. Кому верить, Златоусту или Св. Писанию? Я обратился с письмом в Архангельск к священнику о[тцу] Василию Алышеву[420], но он с этим вопросом сам не справился, а послал толкователю Св. Писания епископу Михаилу[421]. Ответ, получен[ный] от епископа Михаила, таков: нужно верить Златоусту, толкование Златоуста непогрешимо. А этот догмат о престолах на небе принят Церковью, а один раскольнический вероучитель Иаков[422] учит: Пресвятая Троица сидит на трёх престолах, а Иисус Христос отдельно рядом на четвёртом престоле. Царь Давид говорит: «Камо иду от Духа Твоего и от лица Твоего бегу? Аще взыду на небо, тамо еси; аще сниду во ад, тамо еси. И аще вселюся в бездне морской, и там удержит мя десница Твоя»[423]. «Небо — престол Мой, земля — подножие ног Моих»[424]. Может быть, глубоко верующему христианину и не вменит Господь в погрешность в незнании таких глубочайших Божественных истин, достаточно для него твёрдой веры и любви к Богу. Эти высокие духовно нравственные мысли Н. И. Пирогова впишу в свой блокнот, и они послужат назиданием и для тех, кто прочтёт их. Но невольно с грустию вспомнишь, как мало осталось людей, с которыми поделился бы такими драгоценными мыслями.
Я рос среди старообрядцев-раскольников и много занят мыслями о них. Где-то в Москве раскольничий древлегреческого благочестия Святыя Соборныя Апостольския Церкви Московский и всея Руси Святейший Патриарх Флавиан[425]. Встечались или нет в Москве два Патриарха? А на конгрессе — всемирном съезде духовенства и сектантов 4 июля [19]69 года Патриарха Флавиана не было, и резолюции в пользу мира в журнале «Патриархия» не напечатано[426]. Сколько было принято в выступлениях резолюций всемирным съездом о мире, но, видимо, нисколько на ходе современных военных событий[427] не отразилось. Сколько напечатано бесед и выступлений высшего духовенства инославных церквей, но о благосостоянии Российской Церкви никто из докладчиков не сказал ни слова. Может быть, здесь не место было говорить об этом или нельзя выражать официально.
Пишу и отдыхаю душой с мыслью, что делюсь своими мыслями с дорогим человеком. Хоть несвязно, лучше этого не умею. Предоставили Вы мне невыразимые духовные удовольствия, потрудились для меня. Пластинка Перголезе «Мать скорбящая» в духе скорби и подражание рыданиям — как трогательно, невольно влечёт слушать. А всё-таки грустно, что не с кем поделиться такой высокой радостию. Теперь музыка всех трёх родов: магнитофон, радиола и фисгармония. Если провернётся день не сесть за фисгармонию, то чувствуется какая-то утрата.
Летний хозяйственный сезон подходит к концу, но предстоит работа по ремонту бани чужими силами. Мысль о написании своей жизни питаю, но не надеюсь написать по своей малограмотности сносно для чтения. Ведь нужно будет описать жизнь и соприкасающихся с моей жизнью соседей, события вопиющие, громкие.
Ещё событие. Одна добрая женщина в Красноборске подарила мне две пластинки, игранные на граммофоне. «Христос воскресе»[428], «Воскресение Христово»[429], «Ангел вопияше»[430], «Светися ныне»[431] и «Плотию уснув»[432], но я вернул их обратно, они истёрты, исцарапаны, трещат, шипят, получаются перерывы в пении, боюсь испортить иглы.
Прошу извинить за длинное, несвязное писание. Пишу и чувствую себя удовлетворённым тем, что прочтёт дорогой человек, а может, думаю, и покритикует за длинную писанину. Но я от всей души высказываю свои мысли.
С глубоким уваж[ением] и любовию
Иван Степанович
1970 г. 17 августа
№ 37. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
Дорогой Иван Степанович!
У нас большая радость — Саша поступил в институт (Историко-архивный), а Оля (старшая дочь) на заочное отделение в Ленинградский художественный институт по специальности «история искусства». Все мы радуемся за них, и особенно за Сашу. Перед началом экзаменов он заболел, лежал с очень высокой температурой и всё же выдержал и принят. Теперь все трое наших детей — студенты. Маша уже перешла на второй курс педагогического института.
Ольга Павловна серьёзно больна, у неё повторилась анемия (сильное малокровие), и нет возможности дома восстановить её силы. Но лето ушло, и время, когда можно было приехать с ней на целебный воздух Пермогорья, тоже минуло. Мы рады, что Ваши недомогания как будто не перешли в ещё более тяжёлую болезнь. Желаю Вам сил перенести самые трудные месяцы года.
Любящий Вас
С. Т.
31.VIII.70
№ 38. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
Здравствуйте, дорогие мои Сергей Зосимович, Ольга Павловна и Саша!
Шлю Вам горячий привет и желаю всякого благополучия и успехов во всех текущих делах. Блокнот своей писанины получил, не знаю, дало ли Вам хоть какое-нибудь удовлетворение. По своему вкусу я делал выборки из старинных журналов духовного содержания. Трудно найти в настоящее время что-либо из книг и журналов. Уцелело то, что было припрятано и не попало на глаза при обыске.
В [19]24 году, в день Урожая, в Красноборске была сельскохозяйственная выставка. На рыночной площади у церкви громадная куча книг была сожжена при стечении народа, и на горящие книги была положена деревянная соха — кормилица крестьянина[433]. А теперь соху как экспонат помещают в музей и экспонируют на выставках.
Я не догадался попросить Вас, Сергей Зосимович, вписать в мой альбом из Вашей ценной литературы. Я впишу предсмертные записки Н. И. Пирогова. Я взял в пермогорской библиотеке книгу «Жизнь и труды Пирогова», изданную [в] 1953 году[434], прочитал, но духовно нравственного в ней не нашёл, видимо всё нравственное исключено. Помер Н. И. Пирогов 5 декабря 1881 года. После его смерти остались гениальные труды, так же, как и сам Пирогов, они были ненавистны царскому правительству, всячески преследовавшему его. Публичные заседания Пироговских обществ полицией запрещались. Не знаю, чем был ненавистен Пирогов царскому правительству.
Жизнь моя старческая течёт нормально при старческих немощах. Завтра праздник Успения Пресвятой Богородицы, мечтаю попасть в церковь. Ждут архиерея, ежегодно приезжает, и бывает чин погребения Пресвятой Богородицы с крестным ходом вокруг храма. Этот церковный обычай новый, у нас ранее, в [19]10–28 годах, такого богослужения не было, или он у нас на Севере в церквах не был принят. По случаю такого крестного хода собираются, приезжают люди на пароходах и самолётах издалека.
Дело подходит к осени. Наши работы по хозяйству закончены, осталось убрать картошку. Дождей нет, хозяйственные культуры засыхают, заморозки вот уже третий день кряду, днём температура пять-шесть гр[адусов] тепла. Приближается скучная осенняя, серая погода малосолнечная и продлится до конца декабря — тяжёлое, гнетущее время для стариков, и это неопровержимо. Но меня будет выручить музыка, будет сокращать скучное осеннее время. Более скучно потому, что совершенно не с кем поделиться своим вкусом в музыке, в мыслях и убеждениях. Люди теперь почти обучены технике, управляют машинами, но это одностороннее, техника требует напряжения сил и знаний, а в обществе в настоящее время не услышишь здорового слова о морали, о нравственности. Это факт неопровержимый. Я думаю, совершенно уместна такая мысль: куда и какими путями Господь ведёт человечество и к какому концу придёт человечество при полной своей свободе.
До свидания. С искренним уважением и любовию
Иван Степанович
1970 г. 27 августа
№ 39. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
Сегодня 7 сентября получил Ваше письмо от 3 сентября.
Здравствуйте, дорогие мои Сергей Зосимович, Ольга Павловна и Саша!
Шлю Вам с любовию горячий привет с пожеланием от Бога всякого благополучия и доброго здоровья. Получил я Ваше невыразимо драгоценное письмо с дорогими для меня религиозно-разъяснительными мыслями, философскими, для меня понятными, и в них я был убеждён и ранее, так как они все содержатся в книгах на толкование Свящ[енного] Писания. Я радуюсь, что все мои мысли в письме выразили, подтвердили. Невыразимой поэтической красоты стихотворения Пушкина и м[итрополита] Филарета[435] пленяют меня. Какое духовное богатство в своей неоценимой библиотеке имеете Вы, и невольно радуюсь этому. С восхищением буду вписывать в свой бедный блокнот, и какой бы радости я был исполнен, если бы какой религиозно настроенный человек со вниманием прочитал и понял, пусть бы кто-нибудь читал в назидание по смерти моей. Об обрядах церковных и догматах современные верующие мало или совсем не знают, так как вероучительных богословских книг и растолковательных не имели и не читали. У меня была драгоценная книга творения еп[ископа] Феофана Затворника Вышенского «Письма к разным людям о предметах веры и жизни» с невыразимой ясностию и простотой, я дал почитать священнику Красноборской церкви[436], но он переместился в другой приход и не возвратил мне, о чём я до сих пор сожалею. В ней ответы разъяснительные на недоумения верующих, обличение сектантов-баптистов, апостольская община, на сомнение одного верующего о вечных мучениях грешников. 12 томов Златоуста я продал одной молодой женщине, по медицинскому образованию врачу. Что побудило её купить такие книги? Я, хотя и неуместно с моей стороны, но спросил её (зовут её Зинаида Александровна), и она назвала меня тысячу раз счастливым, а я, говорит, хотя крещёная, но о религии христианской почти ничего не знала. Но у меня появилось беспокойство за прошлое моё грязное поведение, и я хочу быть верующей и узнать христианское вероучение. Я прямо заплакал этих слов, и я уверил её, что вы стоите на правильном пути, если совесть беспокоит вас. Жалел я книг, но о[тец] Сергий[437], протоиерей, посоветовал продать, так как никто их читать не будет, а ей они принесут пользу. Сам я прочитал девять томов, но не много в голове осталось. Разъяснительные толкования Златоуста оч[ень] просты и убедительны. При вступлении св. Златоуста на Константинопольский престол церковь была раздираема смутами и ересями. Маркионизм и арианство требовали неотступной борьбы. А главная борьба св. Златоуста была с низкой нравственностью епископов. Епископы были чрезмерно богаты, владели землями как помещики, задавали богатые пиры, жили как светские люди. Но главный недуг епископов: они держали при себе девственниц, которые управляли их имениями. И вот св. Златоуст начал бичевать в проповедях епископов за неприличную и несообразную с церковью жизнь. Из проповедей его составился целый том, половина тома — «К девственникам, живущим вместе с девственницами», а вторая половина — «К девственницам, живущим с мужчинами девственниками»[438]. Нависли грозные тучи над головой св. Златоуста. Озлобленные епископы возводили клеветы, обвиняя [его] в ересях: арианстве и маркионизме. Суд состоялся из 65-ти епископов, низложили его, но он мужественно порицал судей и не боялся ни лишения имущества, ни ссылки, ни заточения. Вся жизнь его тревожно мучительна, мученическая кончина на пути следования в изгнание. В каждом томе золотыми буквами цитата: «Слава Богу за всё». Много хороших мыслей есть у меня в книге «Потерянный рай и возвращённый рай», но она составлена английским писателем-богословом Джоном Мильтоном в [1]600-х годах[439]. Ничего в ней нет неправославного, кроме того что в англиканской церкви не признаётся монашество. Изящно оформлена книга, в ней 50 изящных картин из небесной войны с Сатаной, из жизни Адама и Евы в раю, беседы с ними ангелов, о падении прародителей. Писатель в предисловии просит Св. Духа вдохновить его на такую неизмеримо высокую песнь. И действительно, искушение Спасителя в пустыне затрагивает невыразимо. Великий писатель и богослов Дж. Мильтон. Художники ценят картины, так как они очень изящно выполнены, они не в тексте, а каждая отдельно и под тонкой просвечивающей бумагой.
А всё-таки думается, что всякому здравомыслящему человеку напрашивается вопрос: а к какому благоденствию материальному придёт настоящее человеческое общество? Факты неопровержимы. Материально люди обеспечены, предполагают в будущем в несколько раз [больше] материальных благ. Культура и образование на высоте. А мы, старики, отставшие от современной жизни, являемся приверженцами старого некультурного общества. Как бы желал послушать на эти темы мудрых людей, но где их найти? Только в уцелевших духовно-нравственных книгах можно найти ответы на волнующие вопросы. Куда ведёт Господь человечество, это Ему только ведомо. Златоуст говорит, что разрешение этих вопросов: откуда войны, откуда возмущения, откуда преступления, нищета, рабство, почему они существуют — объяснение окончательное дано будет за гробом, всё будет объяснено, и Господь оправдает пути Свои. Но современное общество (молодёжь) напитана духом вражды прямо на Бога, приходится слышать такие кощунственные неразумные речи: «Попы — это самые глупые люди, а Бог ещё глупее — научил людей убивать, допустил рабство». Современная школа дала такое направление уму. Недаром Ленин писал: «Не делайте никаких глумлений над религиозными обрядами и над верующими. Только хорошая школа рассеет темноту и невежество верующих»[440].
В мире существует какое-то необъяснимое зло (принцип зла), которое вошло и в Святая Святых — в религию. Единая христианская вера распалась, кроме лютеранства, католичества, протестантства ещё до 75-ти раскольнических вер и сект, которые непримиримо враждуют друг с другом. На моей родине в Ляхове почти четвёртая часть раскольников — федосеевцев, филипповцев, аристовых[441]. Мне пришлось быть на миссионерской беседе с раскольниками в черевковской церкви, и теперь помнится эта бурная спорная с раскольниками беседа[442]. Вот где становится вполне ясно, как необходимо знать, что такое церковный обряд и что догмат. Смешивать обряд с догматом нельзя, а раскольники самый простой обряд — сложение пальцев для крестного знамения, имя Иисус, не Иисус, а Исус — приняли за непреложный догмат и стоят за него до смерти. Откуда у них такое упорство? Пермогорье — это гнездо, рассадник раскола, целые деревни раскольников, построили свои моленны. В Пермогорье их было три моленны, теперь здания перестроены совхозом в конторы и жилые дома. Это всё раскольники-беспоповцы, и их остались единицы. Но старухи собираются молиться за умерших. А грехи прощает начётчица[443] Лидия, она отпевает и хоронит. Москва, Рогожское кладбище — раскольники-поповцы. Жив или нет древлегреческого благочестия Святыя Соборныя Апостольския Церкви Московский и всея Руси Святейший Патриарх Флавиан и встречались или беседовали ли когда-нибудь со Святейшим Патриархом Алексием?[444] Интересно бы знать.
Ещё сердечно благодарю за драгоценный подарок — разъяснение религиозных обрядов и стихотворения.
С любовию и горячим приветом
Иван Степанович
1970 г. 7 сентября
№ 40. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
Здравствуйте, дорогие мои Сергей Зосимович, Ольга Павловна и Саша!
Шлю Вам с любовию горячий привет. Сердечно благодарю за удовлетворяющее меня любезное Ваше письмо и отзыв о моём блокноте. Стихотворения Пушкина, м[иторополита] Филарета и Погодина[445] я вписал в блокнот. Содержимое блокнота списано мною из журналов «Голос истины» и «Отдых христианина»[446], двадцать пять лет лежавших в земле «страха ради иудейска». Они от дуновения рассыпаются, поэтому с большим трудом для меня, малограмотного, пришлось восстановлять своими словами, вот почему получилось так грубо — не обработанно. Но слава Богу, что пришлось собрать из духовной литературы ценные для меня мысли. В ожидании Вашего письма уделял часы для чтения из «Розыска и о вере»[447] св[ятителя] Димитрия Ростовского о заблуждениях раскольнических сект, в нём как раз разъясняются обряды и догматы св. Церкви и учение протопопа (распопы) Аввакума[448]. Хотя тут не место смеху, но меня смешило, так как Аввакум ввёл в непреложный догмат бороду, объясняя, что бритие бороды лишает человека вечного спасения. В полемике с раскольниками св[ятитель] Димитрий Ростовский о бритии бород, начиная с Ветхого Завета и Нового Завета и Вселенских Соборов до указа имп[ератора] Петра Великого, всё изложил и доказал на основании слова Божия, что бритие бороды не лишает спасения, поэтому царскому указу о бритии бороды необходимо подчиниться.
Замечательное Аввакум пишет о своём чудесном видении: «Не ел я в Великий пост 14 дней и увидел себя великим, руки, ноги, и зубы, и весь распространился по всему небеси, и потом Господь вместил в меня землю, небо и всю тварь»[449]. О, видения чуднаго; о, изряднаго чудотворца! Небо, и землю, и всю тварь съел, во чрево своё вместил, сильно выголодался в 14 дней, небо и землю с камнями проглотил, и дивно, како учеников своих не съел, но души их давно проглотил и во адов отход ниспустил. В том же «Розыске» прочёл я поучение св[ятителя] Златоуста не скорбеть сильно по умершим и о том, что предаются тлению тела наши, так как от тления бывает седмеричная польза:
1-е. Если бы тела наши не истлевали, в большую гордость возносились бы, посредством тления смиряется наше высокоумие.
2-е. Если бы не растлевались тела наши, не верили бы, что от земли созданы и мы земля и пепел.
3-е. Если бы не тлели тела наши, то предались бы крайнему плотолюбию.
4-е. Равнодушны бы были к будущей жизни.
5-е. Те, кто думает, что мир вечен, утвердились бы, что нет Создателя (Бога).
6-е. Не узнали бы, насколько душа ценнее тела.
7-е. Всё это предвидя, Бог повелел телам растлеватися, да возлюбивый благолепную девицу до безумия отбежит от трупа ея гниюща и смердяща.
Порицает св[ятитель] Златоуст рыдающих и бьющихся над гробами. Может, у Вас есть полное собрание сочинений Никольского единоверческого монастыря архимандрита Павла, а у меня есть том первый[450]. По разъяснению догматов и обрядов его сочинения очень просты, понятны для желающих. Я желал бы, чтобы Вы, Сергей Зосимович, прочитали не для разъяснения догматов и обрядов, а как изящную литературу. Назову архим[андрита] Павла Златоустом. Всероссийский миссионер. Бывал с миссией к раскольникам в Архангельской губернии. Был у меня и второй том его сочинения, но св[ященник] о[тец] Пётр не возвратил. Из творений епископа Феофана есть один том «Начертание христианского вероучения»[451], был второй том «Письма к разным лицам о предметах веры и жизни», но о[тец] Пётр не возвратил, и теперь сожалею об этом[452]. Особенно ценный в нём ответ еп[ископа] Феофана на письмо одному вольнодумцу, отвергающему вечность мучений на основании того, что, по его мнению, вечно мучить противно благости Божией. Этот ответ еп[ископа] Феофана для чтения оч[ень] увлекателен и пространен и доступен опытному в Свящ[енном] Писании богослову, так как вольнодумец тоже сильный в слове. Чтобы сразить вольнодумца, надо знать всё Свящ[енное] Писание. Я многое запомнил, но помню, что последний вопрос их полемики был: можно ли осатаниться человеку? Из Св[ященного] Писания еп[ископ] Феофан доказал, что человек в сильной злобе на Бога может осатаниться и что некоей части людей придётся быть за дверьми рая. За дверьми рая — ад. Ад ведь внутри грешника, а рай внутри праведника. А какие будут муки и блаженства, это откроется за гробом, всё там будет новое: новые радости, новые муки, новое небо, новая земля. Вольнодумец: «Как Господь милосердый будет смотреть на бедных грешников, ведь огнь неугасимый, червь не умирающий, скрежет зубов; как праведники увидят муки грешников, и тогда омрачится их блаженство». Еп[ископ] Феофан говорит: «Какой ты добрый, так и хочешь быть добрее Господа Бога». Предполагаю, что где-нибудь творения еп[ископа] Феофана сохранились у верующих, ценящих св[ященную] литературу.
Был у меня проезжающий по Двине краевед, интересовался моими рукоделиями и книгой «Потерянный и возвращённый рай», в ней 50 изящных картин не в тексте, а отдельно. Сочинитель её английский писатель-богослов Джон Мильтон[453]. Книга восемь килограмм весом, изящно оформлена. Из неё, во второй части «Возвращённый рай», видно, что в искушении Спасителя хитрость Сатаны неистощима. Всё искушение Спасителя происходило после совещания Сатаны со своими подчинёнными владыками-полководцами. А так как открытую борьбу после последнего поражения — низвержения из рая — было немыслимо, то на совете решено было в искушении действовать хитростию, а главное — прельщать славою. Сатана следил за Спасителем со дня Благовещения, Рождества, внушил Ироду избиение младенцев, был при Крещении, а после искушения следил до самой смерти на Кресте.
Все эти раскольнические секты — дело Сатаны. Вероучители сект, искатели славы и слагатели своих вымышленных догматов, внесли во Святая Святых, нашу Св. Православную веру и Церковь, раскол, а раскол на бесчисленные секты, враждебные между собой. Я с детства жил среди раскольников и, хотя мало понимал их веру, вражду их видел, когда видел, что после пребывания в их доме староверы обмывают стулья и следы ног на полу.
Простите меня, что уклонился в такую область мыслей, может быть, совсем не интересную для Вас. Живу со старческими недугами, обращаюсь к врачам, но они говорят, что небольшая помощь будет, а что от старости, то не пройдёт, и то хорошо, что достигли 82-х л[ет] возраста, а не всякий достигает. Музыка и фисгармония лечат меня. Подарила одна женщина гр[ам]пластинку: «Христос воскресе», «Воскресение Христово» Архангельского, «Ан[гел] вопияше», «Плотию уснув». Но она испорчена, чуть-чуть можно было разобрать музыку[454], и я решил смыть с неё грязь, намылил вату, потёр и сполоскал водой. Пластинка стала как новая, подсохла, включил и получил одно шипение. На ней марка: государственная фирма «Мелодия». Я решил, что по этому адресу можно выписать пластинки церковных композиторов, составил список песнопений и их авторов, всего 32 песнопения, и послал заказным письмом по адресу: Москва, государственная фирма «Мелодия» — с просьбой сообщить мне, осуществима или нет моя просьба, и выслать мне прейскурант, но прошло уже десять дней, но ответа нет, и сомневаюсь, что будет ответ.
Погода осенняя, 8-го выпал снег, но через два дня растаял. Навигация кончается, дебаркадеры уводят в затоны. Приближается самый скучный месяц ноябрь и декабрь, и не с кем мне поделиться своей скукой, мыслями и музыкой. Хотя попеременно дочери при мне, но им всё это моё искусство чуждо. Они только терпят, пока могут терпеть, но я их не виню в этом, так как они не получили образования из-за моей церковной службы и были отданы в няни в г[ород] Архангельск.
Вчера ходил на могилу своей супруги, встретились с Зинаидой Владимировной, поделились мыслями, видели посетителей могил, пьяных, спящих на могилах врастяжку. Извините за такую ненормальную писанину, но ничего лучшего не выходит из моей головы.
До свидания. С искренней благодарностью и любовию
Иван Степанович
1970 г. 11 октября
Мне говорил краевед, что в Москве есть магазин уникальных вещей, где покупаются и продаются редкие уникальные вещи и книги. Он предполагал, что можно купить из книг «Потерянный и возвращённый рай», евангелие гр[афа] Толстого, протопопа Аввакума евангелие, Коран Магомета, Талмуд еврейский, а также из духовной литературы желательно бы.
№ 41. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
Дорогой Иван Степанович!
Очень беспокоит меня, почему так долго нет от Вас писем. Может быть, причина в том, что я задерживаюсь с ответом? Последнее Ваше письмо получено 11 сентября, и после моего ответа пора уже получить новое. Здоровы ли Вы? Дайте о себе знать. Если Вам трудно писать много, сообщите хотя бы кратко, что с Вами.
Надеюсь на милость Божию, да хранит Вас Господь. Простите меня.
Любящий Вас
С. Т.
15.X.70
№ 42. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
Здравствуйте, дорогие мои Сергей Зосимович, Ольга Павловна и Саша!
Получил я сегодня Ваше от 15 октября обеспокоившее меня сообщение, что от меня нет давно писем. Полученное Вами 11 сентября моё не последнее письмо. После этого письма был перерыв в письмах, и я волновался за то, что разве Вы где в отлучке по делам службы. Потом я получил письмо от 31 августа со стихотворением Пушкина митр[ополиту] Филарету и через пять дней получил Ваше письмо от 1 сентября со стихотворением Тютчева[455]. Оба стихотворения вписал в блокнот. На оба письма я ответил пространными письмами на четырёх тетрадочных листах, выразил свои занимавшие меня мысли. Чтобы поделиться с Вами, но не знаю, насколько они будут удовлетворительны. Получив Ваше дорогое письмо, я немедля пишу ответ, так как для меня писать Вам великое удовольствие. Шлю благодарность за прочтение моего блокнота, в котором много выражений своими мыслями, так как списывать пришлось с погибшего текста: журналы «Отдых христианина» и «Голос истины» хранились в земле с 30-х годов до [19]65 года и от сотрясения рассыпаются.
Чувствую совершенное одиночество, хотя дочери попеременно живут при мне. Им все мои мысли и чувства чужды, и мои советы ими не принимаются, но я их не виню в этом, потому что из-за моей церковной службы они не получили образования, а были отосланы в няни в г[ород] Архангельск. Теперь они пенсионерки и получают: одна 62 руб[ля] и вторая 56 руб[лей]. Я тоже пенсионер, не по трудовому стажу, а за двух погибших на фронте Отеч[ественной] войны сыновей получаю 27 руб[лей].
Если предположить, что не все письма получены из-за смены нашего почтальона на время отпуска, а замещала её женщина — неисправимый алкоголик, всегда пьяная, то и то возможно, что её вина в недоставке почты. У нас у дверей крыльца почтовый ящик, в него влагают газеты и письма. Теперь я буду посылать заказными — невелико беспокойство почтальону зайти на квартиру, а получателю расписаться. Отпуск почтальона закончился, теперь почта доставляется исправно.
Я думаю, что каждого здравомыслящего человека должны занимать вопросы: а до чего, до каких высот образования, техники и материализма дойдёт будущее человеческое общество, так как к этому неудержимое стремление. Очень бы желательно получать точные ответы на такие вопросы. Но будущее известно одному Богу, Ему известны все мысли людей и сцепление всех причин, ведущих к будущим событиям человечества (из «Символа веры» профессора Ф. Богоявленского).
На письмо Ваше от 1 октября, полученное мною 6 октября, я послал ответ 9 октября, а 18 октября я послал небольшую посылку мёду. Вероятно, уже получили, благополучно ли дойдёт? Так, в мешочках, доходило благополучно в Мурманск при прохладной погоде. Пусть попробуют севогоднего сбора пчелиного эликсира все Ваши родители дорогие и Вы с Ольгой Павловной и Сашей.
Прошу сообщить о получении моих последних писем.
До свидания. С горячим приветом и любовию
Иван Степанович
1970 года 20 октября
№ 43. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
Дорогой Иван Степанович!
Тревожился отсутствием Ваших писем — и вот снова получил: от 11 и 20 октября. Видимо, причина перерыва — моя задержка в ответах. Спасибо Вам за мёд! Получили его в сохранности.
Ольга Павловна тяжело заболела — у неё резко изменилось давление, что вызвало головокружение и рвоту. То же заболевание было три года назад и перешло на сердце. Тогда она проболела полгода. Мама моя тоже нездорова — высокое давление (200), к тому же упала. Живёт она с сестрой 75-ти лет в Загорске, обе несут заботы по хозяйству, отоплению дома, уходу за цветами. Переменить свой образ жизни на «городской» тоже не хотят, привязаны к земле и без ежедневных занятий в саду не представляют своей жизни. Видимо, в таком возрасте трудно расстаться с привычным укладом. Хотел бы я Вас пригласить побывать в Загорске, в Троице-Сергиевой лавре, но боюсь, как отразится дорога на здоровье. Лучше бы приехать летом на Сергиев день[456]. Там звон колокольный, и пение монастырское, и службы уставные. Мама моя примет Вас с радостью.
Сочинений арх[имандрита] Павла не знаю. Своих книг у меня почти нет. «Розыск»[457] св[ятителя] Димитрия имею. Приходилось ли Вам читать св[ятителя] Тихона Задонского[458] «Сокровище духовное, от мира собираемое»? Пишет он необыкновенно поэтично, просто и образно, обращая ум от видимых вещей к духовным прообразам. У моего отца были замечательные книги. Сохранились очень немногие. Жалко, были сочинения Григория Сковороды — украинского философа-странника[459], были и творения св[ятых] отцов, и русских богословов, 12 томов «Жития святых»[460] Димитрия Ростовского, большое собрание церковных песнопений. Кажется, сейчас нельзя собрать такие редкие книги. В букинистических магазинах (где продают старые книги) я бываю, но духовной литературы там не найти. Встречаются старопечатные издания на славянском языке, но очень дорогие, так, книга Ефрема Сирина стоила 300 рублей. «Потерянный и возвращённый рай» встречал в таком же издании, как и у Вас (с рисунками Густава Доре).
Послал Вам пластинки оперы Глинки «Иван Сусанин»[461] и ноты — сцены из оперы. Думаю, что музыка этой подлинно русской оперы не оставит Вас равнодушным. Ведь ария Сусанина «Чуют правду! Ты ж, заря, скорее заблести… Ты взойди, моя заря… Господь, меня Ты подкрепи» — это молитва русского крестьянина, а заключительный хор «Славься» — гимн Родины.
Очень хотелось бы познакомить Вас с оперой «Хованщина»[462] Мусоргского и «Сказание о невидимом граде Китеже»[463], но пока этой оперы в продаже нет.
Благодарим Вас за заботу и труд по пересылке. Мамы наши знают о Вас из моих рассказов и также сердечно благодарят Вас. Не помню, писал ли я Вам, что кроме Саши у нас есть ещё две дочери старше его — Оля и Маша. Как-нибудь пошлю фотографию, где они сняты вместе.
Как Ваши воспоминания? Пишите. Любящий Вас
С. Т.
29 окт. 70 г.
Не трудитесь посылать письма заказными — почтальон меня не застаёт дома, дойдут и как простые.
№ 44. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
Здравствуйте, дорогие мои Сергей Зосимович, Ольга Павловна и Саша!
Шлю Вам с любовию сердечный привет. Письмо Ваше от 29 октября, две бандероли получил, сердечно благодарю. Опера «Иван Сусанин» пленяет звучанием. Текст я перепишу и тогда буду следить. Помнится мне до сего времени, как в 1898 году наизусть все учили «Смерть Сусанина»: «Куда ты ведёшь нас, не видно ни зги». «Славься, славься» разучивали со скрипки и «Коль славен наш Господь в Сионе». Я мелодии этой не забыл до сих пор, а тут в опере точно та же мелодия в четыре голоса. Теперь мой музыкальный репертуар удовлетворяет меня. Дочь из Архангельска привезла оперу «Князь Игорь»[464] и «Черевички»[465]. Один знакомый послал оперу «Евгений Онегин». Будь же твоя душенька довольна! Но соблазнила пластинка фирмы «Мелодия» «Христос воскресе. Ангел вопияше, Воскресение Христово видевше». Я послал запрос в фирму о возможности выпуска означенных мной церковных композиторов. Через месяц получил ответ от «Мелодии» такого содержания: «Уважаемый Иван Степанович! Фирма «Мелодия» выпустила в своё время две пластинки “Музыка XVI и XVII веков”. Относительно сроков выпуска указанных в Вашем письме грампластинок в настоящее время ничего определённого сказать не можем. Подписи». Теперь я вижу, что всё, что есть изящного и осталось от прошлого доброго времени, Вы мне подарили и доставили мне невыразимое удовольствие, которым не с кем поделиться.
Деревня наша растёт уже до 80 домов, приезжают новосёлы из дальних лесных мест, где не было церквей, не только их дети, но и они сами некрещёные. Молодые школьные работники некрещёные и дети их некрещёные. А это невольно наводит на мысль, а что же-то дальше будет? Если общество наше пойдёт по пути современного прогресса, то от нашего религиозного быта и следов не останется. Я думаю, вполне естественно сожалеть об этом. Хотя у Бога много средств переродить человечество, но Его благая воля лучше знает, к какому придёт человечество концу. Теперь я более сильно чувствую лишение своей дорогой супруги, поскольку дочери мои нисколько не разделяют моих мнений и убеждений, но я их не виню в этом. Они в детстве были отправлены в Архангельск в няни, чтобы спасти их от лесозаготовок, непосильной для детей работы. Моя церковная служба лишила их дальнейшего образования.
Присущие старикам недуги и мне дают себя чувствовать. У меня подводит левая нога, зрение нормальное на один левый глаз, на правом катаракт[а], врач говорит, что ещё не созрел[а], потом катаракт[у] снимем. Но это для меня почти безразлично — недолго мне жить осталось. В церковь мечтаю съездить к Михайлову дню — престольный праздник в честь Архангела Михаила и прочих бесплотных сил 21 ноября. Не знаю, удовлетворит ли Вас книга творения архим[андрита] Павла «Беседы со старообрядцами»[466]. Этой книги у Вас не имеется, я привёл её в порядок, приладил новые корки, только оклеил рисунками журнала «Сад и огород». Ну, уж пока оставляю в таком неуместном виде. «Потерянный и возвращённый рай» Джона Мильтона, меня интересует его великий талант. Даже с образованием люди, увидев её, удивлялись: богатейшая фантазия — и предупреждали, чтобы не показывать неверующим, так как в книге очень всё пригодно для современной сцены, и чтобы не поставили спектакль в клубе. Ведь в пермогорском клубе комсомольцы одевались в священные ризы, делали каждение, служили молебен святой Коммунарии.
Делаю выписку из «Возвращённого рая» «Искушение Спасителя в пустыне». Сатана с бесстыдством говорит: «Вижу, как мало ценишь Ты мои предложения, Ты взыскателен и разборчив, так знай же, что я тому, что предлагаю, даю высокую цену и не намерен ничего давать даром. Все земные царства, которые Ты увидел в один мир, я дарую Тебе, они в моей власти и могу даровать тому, кто мне угоден. Дар не ничтожный! Но выговариваю одно условие: Ты должен пасть передо мной и поклониться как своему верховному господину, и получишь от меня всё. За такой великий дар можно ли требовать менее?» Спаситель отвечает ему с презрением: «Мне омерзительны твои речи и гнусные твои предложения и что ты осмелился произнести гнусное предложение, но Я потерплю то время, пока дано тебе позволение надо Мною. И ты дерзаешь Сыну Божию поклониться тебе, на ком лежит проклятие, проклятие, умноженное этою попыткою, ещё более дерзновенной, чем искушение Евы и ещё более богохульной. Ты настолько потерял страх и стыд, что предложил Мне, Сыну Божию, Моё собственное состояние и на таком богомерзком условии, чтобы Я пал ниц перед тобой и поклонился как Богу и ты прослыл бы Моим Богом! Исчезни с Моих глаз, теперь ты ясно показал, что ты навеки проклятый Сатана». Враг отвечал Ему в смущении и страхе: «Не оскорбляйся так, Сын Божий, хотя сынами Божиими зовутся и ангелы, и люди, не оскорбляйся тем, что я, чтобы испытать, принадлежит ли Тебе это, имея в высшей степени, чем им, потребовал от Тебя того, что воздают мне люди и ангелы, все силы огня, воздуха, воды признают меня своим властелином, народы всех стран признают меня как божество земного и подземного мира. А знать, кто Ты, с Чьим пришествием предречена моя гибель, касается меня всего ближе. Искушение нисколько не повредило Тебе, напротив, принесло ещё больше чести и уважения, а мне не принесло пользы, так как я не достиг цели; оставим же царства этого мира с их быстротечною славою». Далее пойдут другие искушения, с изысканной змеиной хитростью.
Опечален я, что причиняет Вам скорбь болезнь дорогой Вашей супруги Ольги Павловны, и где искать причины болезни, Бог знает, но Вы живёте не в деревне, а среди опытных врачей-профессоров, что даёт более преимущества медицинской помощи, чем в сельской местности. Эта болезнь, высокое давление, здесь очень распространена, насколько эффективны лекарства современной медицины, я не могу судить. Но у нас в районе существует убеждение, что при гипертонии ягода мичуринской черноплодной рябины, очень многие ко мне обращались в прошедшие годы, но в настоящий сезон рябина не уродилась, не уродились и другие ягоды из-за холодной весны, во время цветения были сильные заморозки до 12 гр[адусов] холода, сохранили только землянику. Хороший совет предложили мне — побывать в Москве, в Троице-Сергиевой лавре, послушать богослужения в торжество праздника[467]. Я в прошедшие годы ездил в Архангельск на Воздвижение, когда ещё процветал архиерейский хор, а теперь от хора ничего не осталось, я в прошлом, 69-м, году три раза был за архиерейским богослужением, но хора не было; старые певцы заболели или умерли, а новых не поступило. Одна мечта радует: побывать за богослужением в соборе или какой-либо церкви, но осуществить много обстоятельств препятствующих. Не знаю, чего ещё писать, всё без связи, но лучше не выходит.
Я кратко постараюсь описать свою детскую жизнь, которую не будет печатать редакция.
Со всей любовию желаю здоровья Ольге Павловне.
До свидания. С искренним приветом и любовию
Иван Степанович
1970 г. 7 ноября
№ 45. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
Дорогой Иван Степанович!
Были причины, по значению своему необычные и целиком меня захватившие, отчего я снова задержался с ответом. Скончалась после тяжёлой болезни Мария Вениаминовна Юдина — выдающийся музыкант (пианистка) и очень близкий нам человек. Кончина её взволновала всех, кто знал её, кто слышал её игру. Никто другой не исполнял так музыку Баха, Моцарта, Бетховена[468], Мусоргского, Шостаковича[469]. Это был могучий талант, художник с гениальным даром проникновения в сущность исполняемой музыки и даром ярчайшего и неповторимого её раскрытия. Игра её была настолько поразительна и своеобразна, что исполнение Юдиной узнаётся сразу же, по первым звукам, как узнают голос великого певца.
Для неё музыка была обнаружением, раскрытием внутреннего видения мира, видения, озарённого светом истины. Она была человеком, принявшим Христа, полюбившим Христа и следующим Христу всей своей жизнью — страдальческой, потому что сердце её болезненно отзывалось на страдания других. Это был человек великой доброты, великого сердца. Пишу о ней так, потому что знал её давно и теперь едва ли встречу человека подобной душевной щедрости. Вот Вам пример, как в современной жизни можно быть христианином человеку, поднявшемуся на высшую степень культуры.
Отпевание её совершено при огромном стечении молящихся и просто знающих, любящих, обязанных ей многим. На заупокойной всенощной замечательно пели только три певца, по-монастырски просто, строго и проникновенно, а на литургии и отпевании — смешанный хор. Вся служба была поистине «надгробное рыдание творяще песнь», претворяя надгробный плач в хвалебную песнь Аллилуйа. Такую красоту редко в жизни можно увидеть и услышать. Какой она была в жизни, такое и в смерти получила воздаяние. Пели и в Консерватории, где тоже прощались с ней, но уже другие певцы, из филармонии, спели ей «Достойно есть» по распеву XVII века. А когда на кладбище собравшиеся пропели ей последнюю литию перед гробом, опускали гроб при зажжённых свечах, так как уже стемнело. Всё, что пришлось пережить — я не говорю о том, что предшествовало её смерти, последней встрече с ней, — настолько глубоко, сильно и действенно, оставило такой глубокий след в душе, напитало её такими чувствами и размышлениями, что останется на всю жизнь. Да и смерти её как будто и нет, она ещё живее стала в самой кончине и осталась среди нас. Она вошла уже в вечную память.
Дорогой Иван Степанович! Так и со всяким верующим и любящим человеком — мы убеждаемся, что он жив будет и по смерти. Мы предощущаем это в тайне кончины и в церковном общении с ним. И в этом наше утешение в скорби — наша надежда на всеобщее воскресение, на вечную жизнь во Христе — Господе нашем.
Спасибо Вам за книгу арх[имандрита] Павла — теперь Вам понятно, почему я ещё не приступил к чтению. Как мне поступить с этой книгой — вернуть ли Вам почтой по прочтении или сделать это при встрече?
Нотное изложение оперы «Иван Сусанин» послал я Вам в подарок, чтобы Вы поиграли на фисгармонии и послушали запись с нотами. У меня же есть полная партитура оперы с оркестровым сопровождением.
Думаю, что Вам следовало выписать именно ту пластинку, которую Вы неудачно почистили. Заказ на произведения, которых в записи нет, фирма принять не может, а пластинку, может быть, и вышлет. Но в продажу она здесь не поступала. Возможно, что её выпустили по специальному заказу. Простите, что не смог поблагодарить Вас своевременно за книгу.
Любящий Вас
С. Т.
27.XI.70
PS. Черноплодная рябина есть у моей мамы, и ею уже лечились в прошлую зиму.
№ 46. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
Здравствуйте, дорогие мои Сергей Зосимович, Ольга Павловна и Саша!
Шлю всем свой горячий привет. Письмо Ваше от 27 ноября получил, за которое сердечно благодарен. Живу один, ожидаю приезда дочери, и тогда будет нормальная жизнь. Ой, как неудобно жить одному, справляться с самообслуживанием. А тут ещё вызвали в районную больницу на проверку глаз (такие больные глазами все на учёте больницы). К невропатологу с ногой являлся три раза, от лекарств внутренних и наружных заметной пользы не замечаю, да врач говорит, что это старческое. Да, я мирюсь со своими недугами, так как мне уже 8 февраля исполняется 83 года. Проснувшись часа в четыре утра, в голову неотвязно лезут мысли о прошедшем, с самого раннего детства до сегодняшних дней, и о будущем обществе людей. Ведь это было совершенно другое общество людей, не похожих на современное общество. Каким благодатным духом веет от описываемых Вами похорон Марии Юдиной, которая для всех была близким человеком и заслужила такого высокого почтения и молитв церкви. Всё было исполнено по-прежнему, строго церковному обычаю, в надежде упокоения души в жизни за гробом. А вот я был свидетелем похорон мне очень знакомой старушки, которая была грамотная и до смерти своей посещала красноборскую церковь, ежегодно говела и причащалась. Мало болела и в декабре [19]69 года померла. На похороны съехались сыновья и зятья. Партийные и принципиальные сыновья не исполнили завещания своей матери — никак не согласились занести гроб в церковь для отпевания, и не они, а другие родственники просили священника отпеть заочно. И так здесь, в Красноборске, поступает большинство. Это образованные люди современного общества, они далеки от мысли о какой-то загробной жизни, они даже борются со старыми традициями, а при опускании гроба в надгробных речах восхваляют покойного как героя-борца со старыми вредными традициями, обещая умершим сохранить память о них вечно в своих речах, больше ничего. Может, это мой эгоизм, что, проходя мимо памятника с пятиконечной звездой, невольно порицаю умершего, что, лёжа и истлевая в гробу, он и там бросает вызов на борьбу с Богом. Очень бы хотелось послушать речей умных людей на такие глубокомыслимые темы, но где найти такого человека? Мысли вращаются, кружатся около, но остаются нерешёнными. Современные люди гордятся достижениями науки и победами над темнотой, старым невежеством. Я прочитал в одной книге «Описание Палестины. Жизнь Иисуса Христа». Там один проповедник говорит: «Пусть люди сами с Божией помощью устраивают социальные порядки и коммуну, но при непременном условии, чтобы на лесах строящегося социализма и коммунизма сиял бы Крест Христов».
Не знаю, насколько удовлетворит Вас книга арх[имандрита] Павла, а для меня, малограмотного, она много в догматах и обрядах точно объясняет. Ведь тут идёт полемика с раскольниками о догматах веры и обрядах. Это первый том его творений, есть ещё три тома из его миссионерской деятельности, ведь он объехал всю Россию, обратил из раскола тысячи людей, а первоначально, будучи в расколе совратил много. Его речи очень убедительны и очень ясны. Такое моё убеждение о нём.
Прельщаюсь музыкой «Иван Сусанин», но текст малопонятен, улавливаю речи Сусанина. Текст я переписал и слежу во время игры. Очень рад такому нотному подарку. Не посылайте арх[имандрита] Павла, а по прочтении сообщите, насколько удовлетворило Вас. Я искал в библиотеках М. Н. Погодина[470], но такой книги в библиотеках нет.
Пишите, ведь Ваши письма доставляют радость.
До свидания. С приветом и любовию
Иван Степанович
1970 г. 6 декабря
№ 47. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
19.XII.70 г.
Дорогой Иван Степанович!
Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и праздником Рождества Христова. Дай Вам Господь сил для жизни, утешений духовных. Рад, что музыка оперы «Иван Сусанин» приносит Вам удовлетворение в слушании. Текст её частично изменён, поэтому следить за словами по старым нотам неудобно. Послал это издание, чтобы Вы могли, если захотите, поиграть на фисгармонии, а также послушать с нотами вокальные эпизоды. Музыкальное изложение в этих нотах сокращённое, но главное в музыке сохранено и передано в простой и доступной форме.
Слушаете ли Вы радио? Сейчас особенно часто передают музыку Бетховена в связи с 200-летием со дня рождения композитора. Из его произведений очень советую послушать симфонии, особенно 9-ю с хором на слова Шиллера «К радости»[471] и Торжественную мессу[472]. Если смогу достать запись на пластинки — постараюсь послать. Замечательна его музыка к трагедии «Эгмонт», фортепианные сонаты, концерты и Фантазия для фортепиано, хора и оркестра (гимн искусству)[473].
Покойная Мария Вениаминовна[474] поразительно исполняла его 4-й, 5-й концерт, 32-ю сонату, фортепианную фантазию с хором, 32 вариации. В последние годы жизни она многое играла на запись, и хочется собрать всё, что записано в её исполнении. Если Вы не откажетесь послушать инструментальную музыку, я пошлю что-либо в её исполнении. Особенно замечательно она играла музыку Баха, из русских композиторов — Мусоргского. Сейчас вышла пластинка с отрывками из «Бориса Годунова» и «Картинками с выставки»[475], думаю, что это Вам будет интересно.
Дорогой Иван Степанович! Прошу Вас письма мои, если Вы их сохранили, никому не читать, и если Вы не уничтожаете их — оставить их для возвращения мне через Зинаиду Владимирну. Извините, что я обращаюсь с такой неожиданной просьбой, всего скорее необходимости в этом нет, но мне не хотелось бы никакой гласности их, они адресованы только Вам, и если Вы их перечитываете и сохраняете, то либо напишите на свёртке с письмами «вернуть С. З.», либо сожгите их. Ещё раз простите, так как в сущности Ваше право, как поступить с ними. <…>
Из книги арх[имандрита] Павла прочитал только о старообрядческом пении — это интересно как отголосок хомового[476] пения 16-го века. С интересом буду читать и другие его статьи. Хотелось бы мне доставить Вам книгу по интересующим Вас вопросам, видимо, смогу это сделать только при встрече с Вами.
Желаю Вам от себя и от Ольги Павловны доброго здоровья.
Ваш
С. З.
№ 48. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
Здравствуйте, дорогие мои Сергей Зосимович, Ольга Павловна, Саша и Ваши дорогие дочки!
Шлю с любовию всем сердечный привет. Поздравляю с наступающим Новым годом! Получил Ваше любезное утешительное письмо. На которое отвечаю и делюсь с Вами своими мыслями, так как во всём Пермогорье не осталось ни одного человека, с которым можно поделиться своими мыслями. Хотя дочери мои и обслуживают меня, но они с детства прожили в Архангельске по 37 лет, в школе учились советской, ни одной молитвы не знают и никаких понятий о религии. Мои религиозные убеждения и музыка тяготят их, а потому я не согласился продать дом и имущество и жить у них в благоустроенных квартирах, что в своём доме я чувствую себя хозяином и удовлетворяю свои духовные культурные нужды, а когда не в силах буду двигаться, тогда как Бог устроит. Музыка глубоко вошла в мой быт. Ни одного дня не проходит без прослушивания пластинок и фисгармонии, и сознаю, что я нашёл себе великое счастье в музыке и пении и считаю это слишком благородным, возвышенным делом.
Написал племяннику[477] в Ленинград справиться во всесоюзной фирме грампластинок, производят ли выпуск пластинок церковных композиторов, ему ответили, что таких пластинок не выпускают. Но он сообщил, что если уж такая у Вас нужда, то я достану на «чёрном рынке», там из-под полы продают Бортнянского, П. Чайковского, Веделя, но за безбожно высокую цену — до ста р[рублей] долгоиграющая пластинка. Откуда появляются на рынке пластинки, я в письме спрошу племянника. Он хотел послать мне «Искусство Шаляпина», но у меня всё уже выписано, а других, назовём так, легкомысленных пластинок мне не нужно, нет у меня к ним интереса. Удовлетворяет меня то, что Вы послали. В прошлом письме Вы упомянули «Китеж — град Божий», меня это заинтересовало, так как я смутно вспоминаю, что какой-то писатель[478] описывал о жизни раскольников в лесах, где было какое-то священное место и в дни каких-то праздников стекалось много паломников слушать богослужение под землёй. Припав ухом к земле, можно слышать благовест к обедне и богослужение. Не этот ли подземный град Божий изображён на грампластинке? Желал бы послушать такую чудесную пластинку. Очень доволен, что Вас удовлетворяет архим[андрит] Павел, но жаль, что я лишился двух его главных томов, не возвратил их священник о[тец] Пётр Халюто[479] и письма о[тца] Феофана Вышенского. До сих пор сожалею. Сожалею, сколько таких неоценимых книг было сожжено в [19]24 году в Красноборске на рыночной площади. Как, видимо, отнял Бог в тот момент разум у людей, что сожгли не только книги, но и соху, которая из веков кормила мужика[480].
Доживаю свой старческий, с болезнями, век. Невольно оглянешься на прожитое в дореволюционном мире и мире современном, советском. Незабвенное время жизни в Соловецком монастыре в 1902–1903 годах. Теперь продаются комплекты фотоснимков монастыря, но не можно определить, с какой стороны они засняты. Для нас, 12-летних ребятишек, самая главная достопримечательность была пустыня св. Филиппа[481], бывшего игумена монастыря при Иване Грозном, куда он удалялся на время. Построена богатая часовня, в ней сидящий на троне Христос из дерева, в царской одёже, со скипетром и державой в руках. Очень грандиозный вид. Нас, мальчишек, туда всё тянуло на прогулку, каждому хотелось обнести на своей голове гладко отполированный серый камень вокруг часовни и испить водицы из колодца, выкопанного св. Филиппом.
Пустыня находится в трёх с половиной верстах от монастыря. Камень этот, по преданию, служил подушкой св. Филиппа. На пути к пустыне, в 20–25-ти верстах от Святого озера, на дороге — возвышенный холм, и на нём воздвигнут четырёхугольный столб в виде часовни. Дверей на нём нет, вышиной около двух метров, с железной крышей и крестом, и никакой иконы и надписи. Нам объяснили, что тут, в холме, похоронены раскольники староверы, что с ними была война и они стреляли в царские войска[482]. Я не читал такого исторического события, но у арх[им]андрита Павла есть писано о челобитной от раскольников Соловецкого монастыря царю Алексею Михайловичу[483]. Как бы подробнее узнать из истории старообрядчества и вообще из русской истории. Предполагаю, что у Вас имеется такая литература. Книгу М. Н. Погодина[484] так и не нашёл ни в пермогорской, ни в районной библиотеке. Племянника[485] в Ленинграде просил поискать на «чёрном рынке» «Евангелие» Аввакума[486], «Евангелие» Л. Толстого, Коран Магомета, если эти уникальные книги на русском языке.
Неотвязно беспокоит мысль описать свою жизнь с самого раннего детства, насколько содержит память, так как моя жизнь невыразимо трагична, хотя мне грамматически хорошо и не выразить, но моё изложение можно обработать грамматически. Сначала я буду писать в ученические тетради, а потом по обработке (если бы согласилась Зинаида Владимировна) в блокнот. Ведь из этой описи откроются в остром противоречии два общества — дореволюционное и настоящее. Запомнено мной с 1891 года. По мере исполнения этой работы пошлю Вам для прочтения [и] редактирования.
Живём, старики, самые скучные месяцы, а январь ещё не смягчится, февраль подбодрит и нас, стариков. Относительно Ваших писем ничуть не беспокойтесь, я храню их как святыню в фисгармонии, вчера получил по счёту 20-е, и никто их не видел и не читал, и знаю, что для меня только они должны быть писаны. Но я поступлю по Вашему желанию, как рассудите: передать Зинаиде Владимировне или хранить мне у себя до встречи с Вами. Да, как-то судит Бог встретиться нам. Мы это только предполагаем, а я на себе испытал и твёрдо, непоколебимо уверен, что Всевидящее Око знает все наши мысли, не только настоящие, но и будущие мысли всех людей. И какая в этом для человека опора во всех злоключениях.
Слава Богу, семья Ваша при полном благополучии, дети готовятся для высшего образования, а это радость родителям. Желал бы посмотреть на фото Вашу жену Ольгу Павловну и дочек. Как чувствуют себя Ваши старушки-мамы? Отражается на их самочувствии зимняя, холодная, тёмная погода? Шлю им свой старческий привет. Более ничего не могу сообразить. Предполагаю, что в праздник Рождества Христова будете в храме Божием слушать торжественное богослужение с высокопоставленным московским хором. Я тоже мечтаю побывать в Рождество в церкви, если позволит дорога и здоровье.
До свидания. С любовию и сердечным приветом
Иван Степанович
1970 г. 26 декабря
Опять соблазн. Племянник из Ленинграда пишет: купите приёмник с короткими волнами и будете слушать Иерусалим, Ватикан, Стокгольм, Америку, которые ведут передачи регулярно: богослужение, проповеди, музыку. Я не знаю, какой приёмник, когда выпущен, цена и размер. Жилплощадь у меня ограничена, но небольшого размера вещь вместится. Прошу разъяснить мне в письме.
№ 49. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
14.I.71
Дорогой Иван Степанович!
Непременно пошлю Вам пластинки оперы Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», как только смогу достать их. Действительно, содержание оперы основано на сказании о чудесном исчезновении града Китежа во время нашествия татарского хана Батыя[487]. По одному преданию, после битвы с татарами Китеж внезапно стал невидим — его сокрыли дремучие леса. По другому сказанию, святыни Китежа скрыла земля, откуда доносится колокольный звон. Есть и такое предание — град Китеж опустился на дно озера Светлояра[488], и доныне слышится звон китежских колоколов. Ежегодно 22 июня (в канун праздника иконы Владимирской Б[ожией] М[атери]) собираются к Светлому озеру помолиться, слушают, припав к земле, китежский звон, поют духовные стихи… Тайна Китежа ещё не разгадана, хотя в озере находят кусочки дерева, обработанные в XII веке (об этом Вы можете прочитать в «Литературной газете» от 6 января [19]71 г[ода][489], но имеет ли это отношение к народной вере, к вере в целостность невидимого Града Божьего?
О Китеже писали многие. Прочитайте рассказ писателя М. Пришвина[490] «Светлое озеро» (в собрании сочинений Пришвина, т. 2, стр. 393–475). Очень хороший очерк «У града Китежа» есть в сборнике статей М. Морозова[491] (название сборника «Шекспир, Бернс, Шоу», издательство «Искусство», 1967 г., см. стр. 294–305). О быте заволжских раскольников-старообрядцев писал Мельников-Печерский в романах «В лесах» и «На горах», но они не связаны с легендой о Китеже[492].
Сказание о невидимом граде Китеже имеется в так наз[ываемом] «Китежском летописце»[493]: «Сей град Больший Китеж невидим бысть [и покровен] рукою Божиею, иже на конец века сего многомятежна и слез достойнаго, покры Господь той град дланию Своею, и невидим бысть по их[же] молению [и] прошению, иже достойне и праведне тому припадающих, иже не узрит скорби и печали от зверя Антихриста, токмо о нас печалуют день и нощь, о отступлении нашем [к Богу]». «И невидим будет Больший Китеж даже до пришествия Христова, якоже и в прежние времена бысть сие». О соловецких раскольниках известно, что в 17-м веке монахи Соловецкой обители воспротивились исправлению богослужебных книг, писали челобитную царю Алексею Михайловичу (в 1668 г[оду]) и не вняли увещаниям. На усмирение мятежников был послан отряд стрельцов. Осада монастыря продолжалась восемь лет и закончилась жестокой расправой с монахами-раскольниками. О Соловецкой смуте можно прочитать в «Истории первоклассного ставропигиального Соловецкого монастыря» (1889 г[ода] издания).
Очень редкая книга «История об отцех и страдальцех соловецких» раскольника Семёна Денисова[494], там имеется и соловецкая челобитная. К сожалению, книги этой у меня нет.
«Житие протопопа Аввакума» недавно издано в «Изборнике» (сборник произведений Древней Руси», в серии «Библиотека всемирной литературы», издательство «Художественная литература», Москва, 1969). Думаю, что в библиотеке достать возможно. Но зачем Вам читать «Евангелие» Л. Толстого? Не надо пить из замутнённого источника, когда есть чистый и подлинный источник воды живой.
Известно ли Вам стихотворение И. С. Никитина[495] «Новый Завет»? Посылаю его.
Относительно приёмника совет хороший. Стоит он от 100–150 рублей и выше. По качеству очень хорош «ВЭФ» (VEF) с проигрывателем или радиола «Эстония».
Не советую покупать пластинки на «чёрном рынке». Это же разбой, да, наверно, всё это у Вас уже есть, а чего нет, со временем будет, если такие пластинки выпущены.
Мамы наши Вас часто вспоминают и благодарят за целебный мёд.
Ваш
С. Т.
№ 50. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву
Здравствуйте, дорогие мои Сергей Зосимович, Ольга Павловна, Саша и две доченьки!
Шлю Вам с любовию сердечный привет и желаю успехов в повседневных делах.
Ваше любезное письмо получил, обрадовало меня в одиночестве. Дочь уезжала домой в Котлас на неделю, и я один кухарничал, едва справлялся с обслуживанием себя. Находит скука невыносимая, выйду на минуту к соседу, но поделиться с ним мыслями невозможно, да и бесполезно, люди теперь современного духа, культурные, а я старый, отставший от современной жизни человек. Приду домой, займусь своей культурой — засяду за фисгармонию и увлекусь в другой мир. Чем отблагодарить таких высокодаровитых композиторов, создавших такие увлекательные вещи. Готовые-то сочинения легко использовать. Думаю, и для них сочинения стоили великого труда. В опере «Иван Сусанин» оч[ень] знаменитые певцы, я слежу и по нотам, и по присланной брошюрке, ничего не уловил, а Сусанина слушал слова ясно. Видимо, в оперу посредственных певцов не ставят. В Рождество ездил в церковь, был у священника, он заочно проходит курс семинарии и ездит в Москву на экзамены. Ему тоже не с кем поделиться мыслями, и он очень радушно меня принимает. У меня он был два раза, они приехали втроём — матушка и Фёкла, церковный староста. Квартира тесная, и мне пришлось поместить их на ночь в пчеловодную будку. Хотя тесно, но уж едучи в гости, бери с собой терпения.
Приезжает в деревню старообрядческий вероучитель, старая дева, была у меня два раза, но беседовать с ней очень трудно, она с презрением смотрит на все наши книги, иконы. Она из секты поповцев и в Москве на Рогожском кладбище была на клиросе уставщиком[496]. Я спросил, как служит ваш патриарх Флавиан, а она даже не слыхала, что есть патриарх Флавиан[497]. Я понял, что она лжёт, потому что она отпевает и хоронит без различия — будь то федосеевец, филипповец и аристовец. А ведь все эти секты с собой враждебны, а для неё нет никакого различия, она сугубо грешит. Она посещает всех раскольников от Красноборска до станции Борок, где много раскольников-старух, доживающих свой век. Она напутствует их исповедью, отпевает и хоронит, и этим нажила себе изрядный капитал. Неуместно мне писать об этом, но меня затронул такой случай. У нас по соседству есть две старухи, обе одинокие, нуждаются в помощи и очень религиозные. Она посещает их, убеждает перейти в раскол, назначила свой раскольнический молитвенный устав, дала чётки, и вот эти старушки подвизаются-молятся, творя молитву Иисусову сколько положено за утреню, за часы, за обедню, и она уверяет их, что не нужна и церковь. Она обещает обеих старух взять к себе и прокормить до смерти, если крестит их в раскол. Я узнал об этом, когда принёс этим старухам продуктов помянуть мою покойную супругу. А старушки всё рассказали об раскольнице-вероучителе. Из беседы с ними я понял, что старушки относятся к расколу как к святыне, ведь ко крещению подготовиться надо молитвой и очиститься. Я только мог сказать на это, что чего же святого ищите в расколе, там нет Св. Таинств: ни покаяния, ни причащения, — и что самый великий грех церковного раскола делает их молитвы не только бесплодными, но даже вменяются в грех. Не знаю, тверда ли вера в православие у этих старух, а на собрания[х] раскольников бывают. А ранее церковь красноборскую посещали.
№ 51. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову
5 марта 1971 г.
Дорогой Иван Степанович!
Послал Вам комплект пластинок с записью оперы «Сказание о невидимом граде Китеже». Текст её кое-где изменён, но незначительно. К пластинкам приложена брошюра — изложение содержания оперы, к сожалению, либретто, то есть полного текста вокальных партий, здесь нет. Если будет возможность приобрести — пошлю. Запись, как мне кажется, хорошая, хотя слова не всегда ясны.
Обратите внимание на хор в 3-ем действии (без сопровождения):
«Чудная небесная царица,
Наша ты заступница благая,
Китеж-град покрой своим покровом,
Смилуйся, небесная царица,
Ангелов пошли нам в оборону».
В сюжете оперы использованы предания о чудесном исчезновении града Китежа во время татарского нашествия[498] и свободно переработанное о Февронии Муромской[499]. Не знаю, будет ли Вам понятна лирика этой оперы без её сценического воплощения, конечно, она связана, как и всякое оперное произведение, с театральным действием, постановкой на сцене. Но красота её удивительна и в вокальных, и в хоровых, и в оркестровых эпизодах (например, начало оперы «Похвала пустыне» или переход ко 2-й картине 3-го действия «Сеча при Керженце»). Это одно из самых совершенных созданий Римского-Корсакова. В нём подлинно русская распевность, корнями уходящая в древние церковные распевы. Использованы здесь и народные песни, например, «Песня про татарский полон» — суровая, гнетущая, или светлая свадебная «Как по мостикам, по калиновым» (свадебный поезд). В опере (в особенности в последнем действии) есть своя символика, и поэтическая, и музыкальная, например, образ Китежа создаётся в музыке и перезвонами, и торжественными «славлениями» в оркестре. Даже тональности в музыке символичны. Есть и живописно-изобразительные эпизоды: лес, пение птиц. Но удивительнее всего песенный голос этой оперы. Один из больших музыкантов[500] говорил об этой опере как о музыкальной литургии (конечно, не в церковном смысле), вся она служение красоте, высшему, к чему стремится душа. Олицетворение этого служения — Феврония, прекраснейший образ в опере.
Согласен с Вами, что в музыке самое прекрасное — это «Реквием» Моцарта. Но ни с чем не сравнима красота такой церковной службы, церковного пения. И если бы освободить от всех наслоений, от всего, что засоряет церковное пение, и воссоздать его в такой же подлинности, как и священную иконопись, — перед этой красотой померкнет всё. Ведь истинная красота церковного пения неразрывна с молитвой, с предстоянием Богу. Во всех же «земных» произведениях — только отблеск, только отзвуки той небесной красоты. Люди ценят в них мастерство, а в церковном пении «мастерство» и «искусство» часто уводят от главного — молитвы, им внушаемой и выражаемой, и молитвенного предстояния Богу. Музыка Моцарта тем и совершенна, что соединяет в себе и совершенное музыкальное искусство, и духовность. Церковное пение нельзя отделять, отторгать от самой церкви. Оно мыслимо только в церкви среди молящихся, среди икон и в определённом чинопоследовании, там его место, там оно раскрывает своё истинное значение.
Удалось ли Вам побеседовать с теми, кого стремится увлечь в старообрядчество некая начётчица? Заинтересовало ли Вас сообщение о переговорах православных со старообрядцами и имеете ли Вы возможность читать «Журнал Московской Патриархии»? Очерк М. Пришвина о поездке в Соловки я знал и писал Вам о нём, но не указал, вероятно, где его можно прочитать. Ещё очень рекомендую Вам почитать поморские сказания Бориса Шергина[501], архангелогородца, ему уже за 70 лет, он замечательно сказывает архангельские старины, знает и поёт духовные стихи и былины. Живёт он теперь в Москве, слепой. Книги его, вероятно, есть в пермогорской или красногорской библиотеках. Спросите сборник рассказов Б. Шергина «Океан — море русское» изд[ательства] «Молодая гвардия» (1959 г.) или «Запечатленная слава» — поморские были и сказания изд[ательства] «Советский писатель» (М., 1967 г.).
Пишите. С интересом жду продолжения Ваших воспоминаний.
С. Т.
***[502]
Здравствуйте, мои дорогие Сергей Зосимович, Ольга Павловна, Маша!
Шлём сердечный привет с пожеланием доброго здоровья и успехов во всех текущих делах.
Получили поздравление с днём рождения и от души благодарим. Ещё на одно письмо ждал ответа, но до сего дня не получил. Возможно, Галина[503] не по тому адресу послала, но какая-то причина есть. Писал я, что у меня сейчас очень большой и серьёзный вопрос — в течение моей многотрудной жизни у меня собран солидный репертуар церковных песнопений при помощи сотрудников, десять партитур песнопений на круглый год, много праздничных концертов и разных песнопений, своим лично трудом списанных. Кроме сего, много выписок из речей и бесед церковных философов.
Всё это для меня составляет радость и удовлетворение — иметь такое неоценимое богатство. Но не могу найти достойного человека, которому сейчас же оставить это священное богатство, нет таких людей ни в Красноборском [районе], Черевкове, ни в Котласе и Сольвычегодске. А определить нужно сейчас же, при жизни, а не после смерти. Галина уже высказала своё решение, что эту всю дрянь нужно сжечь или закопать в землю. И я такому решению Галины не удивляюсь. Такие сложились обстоятельства при моей церковной службе, что у всех церковнослужителей по решению комитета бедноты (а в те годы власть комитетов бедноты была выше государственной власти) отобрали у церковнослужителей пахотную землю, сенокос и причтовые дома. Все церковнослужители комитетами бедноты причислены были к «ВН» — врагам народа, и [с] решения комитета бедноты, как высшей власти, прокурор давал санкции на арест и заключение в тюрьму. При таких грозных обстоятельствах с семьёй в восемь человек дети наши остались без образования как дети церковника — лишенца голоса. Пришлось, как ни тяжело было, со слезами отправить сыновей Николая и Бориса нищенствовать, просить кусочки хлеба у голодных колхозников. А как им, то есть детям, до слёз стыдно было просить, когда их называли чечульниками[504] и ругали, что опять заходили чечульники. До слёз тяжело было видеть приносимые ими кусочки, испечённые с примесью картофельной кожуры, жмыхов льняного семени и даже вересовых ягод. Приходилось сушить кусочки, толочь в ступе в мелкий порошок и всыпать в какую-нибудь похлёбку. С наступлением лета в лугу появлялось много кислого щавеля и борщевика (борщевик — это съедобная трава, стебель толще пальца), его все едят; он лупится, остаётся вкусное сердечко съедобное. Щавель, стебли, нарезаем, кипятим и процеживаем, получается кислый отвар, и с толчёным порошком кусочков получается кислая каша, утоляющая голод.
Всех нас, церковников, прихожане называли чечульниками. Издревле было установлено церковникам собирать с прихожан сметану, лён и печёный хлеб. Священнику легко это сделать. Приехав за сметаной в деревню, пошлёт повестить, что поп приехал за сметаной или за льном, ему сразу же всё и принесут: и сметану, и печёный хлеб, а если осенью — то и лён. А вот мне, псаломщику, приходится идти в каждый дом, а у некоторых нет коровы и сметаны, и мне взамен дают печёный хлеб или полхлеба.
[Так] как неприятен этот сбор для прихожан, то прозвали церковнослужителей чечульниками. «Попы да дьяки совсем ограбили нас», — ругаются старухи. За сметаной и льном идут, кроме попа и псаломщика, вдова-дьяконица, она нищенствует, ей дана какая-то маленькая пенсия, идёт за сметаной и льном просфорня[505]. Все эти сборы учтены комитетами бедноты, и решено дать чечульникам марку «ВН» — враг народа, и прокурор даёт санкции на арест и в тюрьму.
Из всех бед, принесённых первой мировой войной, были лесозаготовки[506]. Наложены были обязательства на колхозы нарубить тысячные кубометры, всю рабочую силу направить на рубку леса. Девчат и подростков 15-ти лет забирали в лес в сучкорубы. За уход с лесозаготовки — строгий суд. Из южных областей в Арханг[ельскую] область направлены по решению комитетов бедноты миллионы людей с маркой «ВН» — враг народа, устроены лесопункты, и решено было правительством[507] весной без сплотки сплавить лес со всех рек, больших и малых, в Северную Двину и в архангельские лесопильные заводы и распиленный лес — на погрузку на иностранные суда. В [19]32 году в весеннее половодье вся Двина покрылась строевым лесом так густо, что по лесу ходили. Решено было спасать лес, чтобы не остался на берегу от быстрой убыли весенней воды. Поделили берег на участки, и каждый колхоз должен отвечать за свой участок. Трудно выразить описание тяжкого времени государственного положения.
Каким-то чудом удалось при помощи родственников устроить в Архангельске четверых детей, и председат[ель] сельсовета выдал паспорта[508] с отметкой «дети середняка», а не дьякона. Сын Николай, 16-ти лет, устроился учеником в столярной, Бориса устроили учеником в слесарную фабрику в Соломбале «Красная кузница», Катя — в пошивочную мастерскую, Галина — в няни. В церковной школе наши дети не были и ничего церковного не знают. Галина всю жизнь не бывала в церкви и не знает ни одной молитвы. Она кончила советскую начальную школу и какую-то бухгалтерскую школу-повышенку[509]. Она отработала 40 лет в бухгалтерии, но и тут комитеты бедноты узнали, что она не дочь колхозника, а дочь дьякона. Вот почему Галина до сего дня, также и Катерина, считают меня виновником всех бед и несчастий.
Два сына наши погибли за Родину, и нам дана за сыновей пенсия 42 рубля. А по смерти супруги мне оставили 22 рубля. Куда мне одному деться? В интернат или дом престарелых меня не возьмут, так как есть две дочери. Пришлось неизбежно сделать завещание: по смерти моей оставить дом Галине с условием ухода за мной до смерти, при доме всю обстановку в стиле модерн. И вот уже пятнадцатый год Галина ухаживает за мной. По сельскому хозяйству она с великим трудом справляется и не терпит никаких моих указаний. Она перенесла две больших травмы: 1-я. У неё сломана рука; 2-я. Сломана и неправильно сложена нога, она короче на шесть сантиметров; вновь сломать и сложить не согласилась и ходит, опираясь на трость. И в настоящие дни, когда я сделался живой мертвец, и оглох, и едва двигаюсь по комнате, вся тяжесть ухода по дому и за мной увеличилась. Больное моё ухо требует ежедневной смены лекарства и перевязки. К столу иду как на казнь, со стоном переношу судороги лица, так как, по уверению врачей, болезнь уха из-за повреждения лицевого нерва. На каждое моё слово у Галины возразить пять слов готово: <…>[510]. Сколько греха, Боже мой, и из такого положения выхода нет кроме смерти.
Но пусть будет воля Божия на всё.
Куда и как определить репертуар, это за всю жизнь собранное ценное богатство. Если всё скомплектовать, то получится большой груз и хотя бы из фанеры устроенная тара. Просил совета Владыки Никона[511], но ответа ещё на моё письмо на 14-ти страницах не получил. Особенно жаль оставить созданную собственными руками божницу для помещения икон. В эту раму вставляются две иконы Спасителя и Божией Матери, обе иконы в киотах и под стеклом. Сверху икон полукруг, на котором вырезано небо со звёздами. Вырезан Дух Святый в виде голубя, и кругом исходят лучи. В карниз рамы божницы врезано деревянное распятие, купленное мною в Соловецком монастыре в 1903 году, когда мама приехала за мной и я уехал домой. Вся эта божница даёт хорошей эффект всей комнате, особенно звёзды и голубь с исходящими лучами. На стене по одну сторону — медное распятие, по другую сторону — две иконы: одна Казанской Бож[ьей] Матери без футляра, вторая — св. Анна пророчица, бывшая при сретении Господнем старцем Симеоном в храме, она также славила Бога и говорила, что младенец есть Спаситель мира. Вот из этих пяти св. икон состоит весь мой иконостас. По-моему, более уместно предложить божницу в церкоь, поместив на достойное место между иконами церковного иконостаса или где найдётся достойное, но всем молящимся видное место. Считаю неуместным сдать в музей, как советуют многие знакомые и родственники. Прошу, дорогие мои, Вашего разумного совета.
Никак не забывается воспоминание, пережитое мною в [19]37 году в архангельской тюрьме, [когда меня водили] к тюремному следователю на допросы. Для всех арестантов от следователя один вопрос:
— За что арестован и дана марка «ВН» — враг народа?
От всех арестантов один ответ:
— Не знаю, никакого преступления не имел и не имею.
— Распишись, что дать показание следователю отказался.
До моей очереди допросить осталось одного арестанта, который оказался моряк, матрос.
Следователь:
— Скажи, за что арестован и дана марка «ВН» — враг народа?
— Как ты смеешь меня, патриота своей Родины, называть врагом народа? Ты сам преступный враг народа под маркой «УБ» — уголовный бандитизм, отбываешь 20 лет. Я не боюсь твоего леворвера, надел на себя личину тюремного следователя.
Следователь схватил стул и хотел ударить арестанта, но арестант оказался сильнее, вырвал у следователя стул, бросил и быстро удалился. Дверь закрылась, но через несколько минут открылась. Следователь, озлобленный, быстро ходит вокруг стола, говорит мне:
— Не подходи! Говори, за что арестован?
Я говорю:
— Не знаю. Никаких преступлений не имел и не имею.
— А за что тебе дана марка «ВН» — враг народа?
Я говорю:
— Если бы знал, за что арестован, то обязательно сказал бы; у Вас документы, Вы знаете, и прошу сказать и очень желаю слышать.
Следователь:
— Посоломщик, людей грабили.
— Я не посоломщик, а псаломщик, служил в церкви, читал и пел псалмы и был псаломщиком.
— За что арестован, не знаешь, а людей грабить знаешь! Распишись, что на допросах следователя дать показания отказался.
Пришла весна, но снег ещё не начинал таять. Сегодня ясный день при десяти гр[адусах] тепла. Три часа просидел на солнцепёке, ласково греет солнце при чуть заметном ветерке, но самочувствие от этого не улучшается, и чувствуется тягость во всём организме. Неотложное дело: съездить в церковь исповедаться и причаститься. Но как Бог пособит это выполнить. От Красноборска до церкви один километр идти пешком для меня невыполнимо. Нужно найти доброго человека, имеющего свою легковую машину, и в воскресный день к восьми часам утра приехать в церковь, а по окончании службы в час дня ехать домой. На дом пригласить священника, да поедет ли за 20 километров. Все хлопоты об этом лежат на Галине, так как сам я физически совершенно ослабел. Вот и Крестопоклонная неделя прошла, 7 апреля — Благовещение и Вербное воскресенье, Страстная неделя и Пасха. Но судит ли Бог дожить до неё. Но пусть будет на то воля Божия.
С каким трудом, ощупью шесть дней писал я это письмо. При плохом сознании неправильно сложил листы бумаги, и читать его [нужно], строго соблюдая страницы, цифры которых написаны наверху.
Прошу потрудиться прочитать, где непонятно, догадаться по смыслу.
Искренне благодарю Вас, Сергей Зосимович, и всех Ваших дорогих домочадцев за Ваше искреннее и дорогое сочувствие с пожеланием от Бога мирно и радостно шествовать по пути Вашей жизни.
С искреннею любовию
Иван Степанович
1985 г., 25 марта
***
29/3-85 г.
Здравствуйте, уважаемый Сергей Зосимович!
В дополнение к письму папы пишу. Просьба к Вам, если Вы согласны, вышлем Вам все ноты и книги, всё это можно переслать в посылочных ящиках.
Папа ждёт не дождётся Вашего ответа.
Он не умеет коротко писать. Это ещё Вам на девяти страницах, а в Ленинград а[рхиепископу] Никону[512] — так на 16-ти страницах.
Папа считает, что Вы самый-самый достойный человек, возможно, Вам что и пригодится из его запаса нот, а также и книг. Он желает Вам на память оставить.
Я не выспалась и за письмом клюю, вот и письмо с черкушками.
Пока, всего Вам доброго!
С уваж[ением]
Карпова Галина
***
Здравствуйте, дорогие мои Сергей Зосимович, О[льга] Павловна и все домочадцы!
С великой радостью, хотя в самой жестокой болезни обрадовавшее меня письмо о совершенном. Идут работы по реставрации. Восстановлена колокольня и укреплено 20 колоколов. Уже звучит свободно колокольный звон, слышать который отрадно, ведь 60 лет нигде не слышно церковного звона.
В Ильинской церкви г[орода] Архангельска теперь кафедральный собор, и архиерейские богослужения Владыки Исидора[513] до сего времени без всякого звона. Видимо, особое смягчение законов Советской власти в Москве, что допущены реставрация здания собора и колокольный звон. Всё сообщённое радует меня, поражённого до бессознания болезнями и глубокой старостью, это ведь своего рода страдание. Четыре раза садился писать это письмо, но уходил обратно в постель, не вынося тяжести боли. Написал бы ещё кой-чего о событиях в Пермогорье, но нет больше сил через очки и линзу переносить зрение с терпением.
Три письма посланы мною на 12-ти страницах ученической тетради: 1. Владыке Никону[514]; 2. Анне Николаевне[515] и 3. Вам, — но ответа на все три письма не получил. Описал о разрушении церкви в Ляхове, на родине. Возмутительный случай произошёл в пермогорском клубе. Комсомольцы совершили по церковному требнику крещение младенца. Один из комсомольцев взял на себя роль священника, освятил воду, и много было оваций и смеха, когда на вопросы священника восприниматель три раза отрицался Сатаны, дул и плевал на Сатану и три раза сочетался Христу. Всё совершил по требнику, и имя младенца — Наташа.
Владыка Никон изрёк свой суд как над крещением, так и над разрушением церкви в Ляхове такого содержания: «Иисус Христос, вися на кресте, молился за своих злодеев-распинателей: “Отче, отпусти им, ибо они не знают, что творят”[516]. Так же и мы должны молиться за совершителей крещения и разрушителей храмов, так как они тоже не знают, что творят».
Два дня писал я письмо и в это время восемь раз в изнеможении ложился в постель. С полным бессилием кончаю. Предаю себя в волю Божию и каждую минуту прошу смерти, где нет печали и воздыхания.
Благодарю за сочувствие, с искренней любовию страдалец
Иван Степанович
Иду на постель, и силы оставили меня.
***
19.8.85 г.
Здравствуйте, дорогие Ольга Павловна, Сергей Зосимович, Оля, Маша и Саша!
Письмо Ваше от 20.7 получила 23.7. Папа Ваше письмо от 29.7 получил 2.8. За письма сердечное спасибо!
С ответами задержались из-за недостатка времени и сил.
Заняты со сбором ягод. Днём собираем (папа немного, чуть-чуть помогает, литр ягод соберёт и больше не может), а я собираю пока светло. После полуночи чищу ягоды, засыпаю сах[арным] песком и варю на электроплитке небольшими порциями.
На один килограмм ягод полтора килограмма сах[арного] песку. Варю на следующий день. Мы всегда варили ягоды на улице (на кирпичиках), а теперь это не по силам.
Лето на исходе, а мы ничего не подготовились к зиме.
От Ани[517] пока нет письма, я ещё раз напишу ей, напомню.
Пластинки (оперы) купил у нас пчеловод, которому при выходе на пенсию в 1948 г[оду] папа передал совхозную пасеку.
С отправкой письма задержались из-за сбора малины.
Намеревалась много написать, и всё вылетело из головы.
В дом Зинаиды Владимировны 20.8 приехали из Коряжмы Володя и Шура Старцевы. Не знаю, долго ли будут.
Грибов и ягод в этом сезоне почти нет. Больше никто пока не приезжал.
С извинением за задержку ответа
Галина Карпова
23.8.85
***
Здравствуйте, дорогие мои Сергей Зосимович, Ольга Павловна, Маша!
Письма Ваши читаю не один раз, как будто лично беседую с Вами. Репертуар мой, выписки из философских речей, книги и нотные церковные выписки и партитуры выслали Вам. Предстоит Вам много труда проверить их и предложить кому и куда следует. Вся моя библиотека состоит теперь из книги «Беседы» Берсье[518], книги «Жизнь Иисуса Христа» английского богослова Фаррара[519], оставил для себя одну партитуру и тетрадь выписок из философских речей, но эти экспонаты пошлю Вам позднее, если жив буду, а если не успею, тогда Галина пошлёт. Без корок ветхая партитура для пения в один голос «Всенощное бдение» и «Литургия», в ней догматики Богородичны знаменного распева, и Галина по ошибке вложила в ящик «Диспут пчёлки»[520], которую тетрадку я хотел послать Анне Ник[олаевне][521].
Очень интересный и поучительный диспут, почитайте все и дайте почитать Маше.
Предполагаю, что для Вас много труда для чтения всех моих рукописей. «Диспут пчёлки» это доклад профессора на тему «Есть ли Бог», и возражал на вопросы деревенский житель Демьян Лукич, очень успешно опроверг все доказательства докладчика. «Диспут» перепечатывали три раза читающие.
Больше писать не в силах. Не знаю, насколько удовлетворит моя посылка.
Я живой мертвец. Жестокая болезнь уха причиняет нестерпимую боль при жевании пищи, оглох. Выйду на улицу, ветром сбрасывает с ног. Пусть Галина опишет моё состояние и своё также.
Слава Богу за всё, видимо, так нужно мне перетерпеть все старческие недуги.
С приветом и любовию
Иван Степанович
1985 г., 14 декабря
***
Здравствуйте, дорогие мои Сергей Зосимович, Ольга Павловна, Маша и все домочадцы!
Шлём горячий привет и желаем от Бога благ душевных и телесных.
Письмо с извещением о получении репертуара нотных церковных песнопений получили, одну партитуру оставил на время у себя, в ней два концерта Бортнянского, первый — «Блажен муж, бояйся Господа», второй конц[ерт] — «Радуйтеся Богу, помощнику нашему», и 26 песнопений разных композиторов. Все песнопения только для проигрывания на фортепиано, а хору без отдельных голосов петь нельзя. В посланных партитурах есть концерты и для регентов в четыре и шесть строчек. Были отдельные голоса ко всем песнопениям партитур, но Аня[522] увезла их себе. В течение 12-ти лет службы в Котласском храме она была у нас три раза, ночевала и списывала с моих нот, так что мои песнопения находятся у Анны Николаевны. Она исполняет монашеское правило: утром полунощные и утренние молитвы и вечерние молитвы вечером. Её неразлучная подруга девица Антонина, её заместитель по церковной службе. Служили бы они в Котласе до сего дня, но произошёл конфликт между настоятелями церкви и церковным советом на почве присвоения настоятелями денежных сумм. А так как Анна и Антонина были на стороне справедливости, то настоятели начали угрожать, и Анна и Антонина тайно скрылись, не спросясь никого, а главное, не спросясь Владыки Исидора[523]. Пролили много слёз. Написали Владыке покаянное письмо, Владыка не только простил, но [и] одобрил поступок, что уехали от греха. Устроились в Киевской области, в городе Переяслав-Хмельницком. В церкви ранее существовал хор, остался фундамент хора — старик-бухгалтер 76-ти лет. Аня и Антонина взялись за труд по восстановлению хора. Прихожане хорошо оценили их труд. Но старик через три года помер. Был ещё у Ани и Антонины помощник материально — инженер-строитель, он имел тайный постриг в монашество, оставил по смерти Анне и Антонине свой дом. Отпевание его было по монашескому чину и схоронили его на монастырском кладбище. Дом прихожане помогли перестроить по современному стилю, всё в доме газифицировано, в городе улицы газифицированы. Инженер оставил несколько ценных церковных книг.
Сотрудников по сбору моего репертуара было достаточно. Орест Васильевич Спасский[524] сам лично списал для меня «Пасхальный канон», музыка Веделя[525], у бывшего регента архангельского собора (теперь Дом Советов) Павла Нуромского[526] приобрёл для меня партитуру тридцати пяти концертов Бортнянского шестистрочную для регентов. Но играть на фисгармонии неудобно, так как на целой странице только одна строчка для фортепиано, приходится отнимать пальцы от клавишей. Я списал восемь концертов, и все они находятся в посланном Вам репертуаре. Приблизительно лет пятнадцать назад я послал Вам эту партитуру и предполагаю, что она в целости и сохранности. В посланных мною партитурах есть песнопения и для регентов четырёх- и шестистрочные. Да и вообще трудолюбивый регент напишет ноты для всех отдельных голосов. Концерт[ы] «Не отвержи мене во время старости»[527], «Реку Богу: заступник мой еси»[528], «Седе Адам прямо рая, и свою наготу рыдая»[529], «Господи, что ся умножиша стужающие ми!»[530], «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть»[531] и «Легенда о саде Христа»[532] собственноручно списаны у знакомых регентов в Новосибирской области — увидите её почерк. Концерт «Не отвержи мене во время старости» смотрите в партитурах.
Погибаю от снега. С 21 декабря четыре дня свирепствовал снежный ураган. Мы оказались в снежном плену. Крыльцо замело снегом на два метра. Пришлось открывать окно в комнате. Галина спустилась и пошла просить соседей выручить нас из беды. Соседи откопали нас, нарыли горы снега, до крыши замело колодец и баню.
Я совершенно беспомощный. На четвереньках спускаюсь с пяти ступеней крыльца, и с трудом Галина поднимает на крыльцо. Ноги отказались. Сегодня в туалете упал и в комнату на руках выполз, а Галина в это время была в магазине за хлебом. Ухо требует ежедневной перевязки. Два дня назад был хирург, назначает с ухом в Архангельск на лечение электролучами, но я не согласился, так как по лестницам самолёта меня могут поднять только на носилках, так же и спустить на землю по лестнице. Одним словом, я живой мертвец.
Я озяб, на мне четыре рубахи и пятая тёплая безрукавка, три ватных одеяла тёплые, но я не могу согреться, так как болезнь заставляет четыре раза ночью вылезать из своей берлоги. Галина одевает и раздевает меня. Оглох совершенно. Особенно страшно идти к столу и вложить в рот ложку, и пойдут судороги жестокие при жевании пищи. Но я не ропщу, а только прошу у Бога смерти.
Что неразборчиво, догадайтесь по смыслу. Лучше писать не могу и писал шесть дней. Осталось жить до 98-ми лет 34 дня.
До свидания.
Убогий старик дьякон
Иван Степанов[ич]
17 января 1986 г.
***
Здравствуйте, дорогие Ольга Павловна, Сергей Зосимович, Оля, Маша и Саша!
Прошу извинить, задержалась с ответом, папа быстрее моего написал письмо. Я грипповала с 18 до 31 января, на ногах приходится вынашивать все болезни, так как невзирая на состояние всё равно всё надо делать для самообслуживания. Замов и помощников нет.
Вы просили адрес Ани Киричук:
индекс 256110 Киевская область, гор. Переяслав-Хмельницкий, ул. Маяковского, 12, Анне Николаевне Киричук.
Между прочим, мы ей ноты предлагали, она нам ответила, что хор у неё маленький, исключительно из старушек, а им ноты не нужны, они их не изучали. У самой Ани ноты есть, она всё у нас списывала.
Сергей Зосимович, посылаю Вам 25 руб[лей] и очень прошу Вас денег не возвращать, что это Вы будете тратить на нас деньги. Вы люди семейные. Спасибо Вам за заботу о нас, за Ваши послания для нас и за деньги, великое благо, за то, что Вы пошлёте. Знаю, сколько хлопот с посылкой, и знаю, что Вы заняты до предела.
С благодарностью за всё
Галина Карпова
Между прочим, был у нас новый молодой священник красноборский, ему 28 лет, служил в армии, в Москве, после армии окончил духовную семинарию в Ленинграде. Женат, жене 20 лет, есть сынишка десяти месяцев, родом с Украины.
Скажу Вам откровенно, такой попрошай, хоть всё ему отдай. Как цыган. Даже денег взаймы просил — 20 рублей. Впечатление о нём не из важных.
Пока, все[го] Вам доброго!
С уважением
Галина Карпова
4.2.86 г.
***
Здравствуйте, дорогие мои Сергей Зосимович, Ольга Павловна, Маша и все домочадцы!
Шлём Вам сердечный привет и желаем от Бога здоровья, и всякого благополучия, и успеха в текущих делах.
Письмо Ваше и посылку с священным подарком — просфорой с изображением преподобного Сергия — получили. Я уже в течение пяти дней скушал её, так как долго её хранить нельзя — испортится. Пропел величание преподобному Сергию и помянул умерших в животы частицей: «Отмый, Господи, грехи приснопоминаемых честною Твоею кровию». Такую изящную просфору я бы вырезал из дерева, если [бы] был в силах, моложе лет на 40. И теперь удивляюсь, откуда у меня было столько энергии создать мебельную обстановку в стиле модерн, и эта работа проживёт не одну сотню лет, если не сгорит или не уничтожится каким-нибудь бедствием.
Старческие болезни прогрессируют. Ноги отказываются, выходить на улицу нельзя, от ветра падаю. Оглох совершенно, какая мука Галине со мной глухим.
Какая страшная борьба со снегом. Галина пять раз ночью выходит отрывать снег с крыльца. Два раза соседи отрывали снег с крыльца, и Галина из помещения спускалась на улицу через окно. Замело на два метра колодец и баню. Это всё неотвратимое бедствие.
А вот самочувствие болезненное. Болезнь уха требует ежедневной перевязки. Врачи-хирурги направляют меня лечиться с ухом в Архангельск, но я не могу согласиться, так как меня на самолёт можно поднять только на носилках и за мной нужен ежечасный уход.
Сегодня температура ночью 38 градусов, днём — 25 град[усов]. В комнате десять градусов, выше 12-ти гр[адусов] не бывает. Галина не топит печи из опасения пожара из-за неисправности печи, но печь исправна, и вот сижу я на холоде, на мне четыре рубахи и пятая безрукавка тёплая, и на постели на мне три ватных одеяла, но согреться не могу. Главное, по болезни не могу поворот[ить]ся с боку на другой бок. И Галина спит, не раздевая фуфайки, под тремя одеялами. В бане не был уже три месяца, но я мыться сам не могу, не могу ни раздеться, ни одеться, и из бани меня на санках вытащит Галина. В Пермогорье есть баня, но далеко, три четверти километра.
Положение критическое. Нужно купить дров шесть кубометров для будущего года. Пятитысячное население Красноборска отопляется дровами, и все ближние площади пустуют, поэтому за дровами ездят за 30–40 километров, и отпускают на дрова одни лиственные породы — осину и берёзу, но не хвойные. Кто работает в лесу на транспорте, тому легко достать дров, а нам, беспомощным, очень трудно найти рабочих, так как все заняты работой в совхозе и для себя. Беда ещё в том, что к нашему дому нет подъезда с большой дороги, приходится подвозить до дому на лошади или на салазках. Поэтому нам дрова обходятся неимоверно дорого: распиленные и расколотые — 18 рублей кубометр.
За питьевой водой приходится Галине ходит за полкилометра через ужасные сугробы снега с длинной палкой, у ней нога сломанная, сложенная неправильно, потому короче на семь сантиметров. Не согласилась на предложение хирурга сломать ногу и сложить снова. Левая рука тоже ломаная.
Тяжело быть одинокому и глухому. Не найду в Пермогорье человека, с которым можно побеседовать, поделиться своими мыслями. По сложившимся обстоятельствам все дети мои лишены образования. Галина была отправлена в Архангельск, через знакомых была устроена в няни, там закончила начальную бухгалтерскую школу-повышенку[533] и работала в бухгалтерии 39 лет. Но комитет бедноты обнаружил в паспорте[534], что она значится [как] дочь середняка, а на самом деле дочь дьякона. Поэтому и пенсия у Галины 62 рубля, а у всех сотрудников, которые работали с ней, 110 рублей. Моя пенсия за девятилетний стаж на пчеловодстве и за двух сыновей, погибших в армии за Родину, до 1978 года была 22 рубля. В [19]81 году прибавили 18 рублей. В настоящем году мне прибавили 15 рублей, Галине прибавили 18 рублей.
Сегодня температура ночью 28 град[усов], днём 22 градуса. На улице бушует метель. В течение шести дней одолел это письмо, воображая, что беседую с Вами, и незаметно проходит время в тяжёлом самочувствии. Что будет далее с нами, одному Богу известно. Сейчас предстоит работа освободиться от снега, просить соседей освободить нас из снежного плена.
На этом кончаю свою беседу.
С любовию
Иван Степанович
[10 марта 1986 года][535]
Что не разберёте, догадывайтесь по смыслу.
***
10.3.86
Здравствуйте, дорогие Ольга Павловна, Сергей Зосимович, Оля, Маша и Саша!
Приношу извинения за неаккуратность в ответах, не хватает времени и сил. Все Ваши послания получили, за что бесконечно благодарны Вам.
Машеньке я сообщила о получении. Да, Вы нас чтите, посылки шлёте, а мы даже не знаем, когда Ваши дни рождения. Напишите.
Да, намерена пояснить некоторое из папиного письма.
Он пишет, что печь наша исправна. Печь сложена в 1956 году, и за 30 лет разве она не изгорела? Скоро совсем нельзя будет топить.
Теперь следующее: пишет обо мне, что пенсия мне была назначена 62 рубля из-за того, что в паспорте обнаружили, что я дочь дьякона, так [это] ни у кого в паспортах не значится, никаких данных о соц[иальном] положении родителей. И это на пенсию не влияет, кто от кого произошёл. Как видите, его мышление не в порядке. Размер пенсии зависит от заработка.
Да, мы ждём весны, не верится, что эти окружающие нас сугробы высотой три-два и один метр растают. Как нам перенести период таяния, будет снег попадать в сапоги (будем простужаться).
Пишу плохо, глаза мои болят, а врачи далеко — в Красноборске, ездить туда трудно.
С благодарностью за всё, за всё. Здоровья Вам и благополучия.
Будет тепло, на чердаке найду книгу обещанную.
С уважением
Галина Карпова
***
Здравствуйте, дорогие Ольга Павловна, Сергей Зосимович, Оля, Маша и Саша!
Прошу извинить за замедленный ответ на Ваше письмо-поздравление от 1 марта. Благодарю за все добрые пожелания и советы!
Съездила в Котлас, уехала 16 марта, вернулась 18 марта. В оба пути авиатранспортом, из Красноборска и до Красноборска — автобусом.
Не была в Котласе с 30/7-85 г.
Папа послал 21 марта философские выписки и о его службе в армии в Переяслав-Хмельницкий Анне Николаевне Киричук, после прочтения просил её переслать Вам.
Так Вы не удивляйтесь, если придёт Вам бандероль. Хорошо? Когда будет возможность, прочтите и верните ему.
Благодарю Машеньку за все труды и покупки. Есть ли у Маши дети? И в каком возрасте?
Далеко ли работа от жилья? Всё это имеет значение.
Папино состояние не улучшается. Получили по рецепту (через полгода) 100 грамм аптечного облепихового масла. Делаю перевязку, капаю с чайной ложки на ранку, повязку закрепляю лейкопластырем.
Машеньке тоже пишу письмо сегодня — посылаю денежки за фонарик.
С благодарностью за всё
Карпова Галина Ивановна
23.III.86 г.
С глазами у меня неважные дела: плохо пишу.
***
Здравствуйте, уважаемые Ольга Павловна, Сергей Зосимович, Маша, Оля и Саша!
Получили Ваше письмо от 25 марта — 29 марта, и в тот же день я вам письмо отправила.
Просьбу Вашу выполню в мае, хорошо? Книжечку «Минин и Пожарский»[536] пошлю, никуда она не делась.
В апреле месяце ещё холодно на чердаке. В мае можно будет послать по железной дороге, а в настоящее время только авиа. Пластинки Ваши тоже можно вернуть, так как радиолу папа довёл своим неправильным обращением. Он отдал её директору совхоза в Красноборске. Нет проигрывателя, так и пластинки ни к чему, правда?
Пока, всего Вам доброго!
С уважением
Галина Карпова
1.4-86 г.
Да, Вы, Сергей Зосимович, вполне разумно рассуждаете, что на зиму надо переместиться в Котлас. У меня уже не хватает сил для жизни в деревне, тем более зимой.
Г. К.
***
Здравствуйте, дорогие Ольга Павловна, Сергей Зосимович, Оля, Маша и Саша!
Сообщаю вам о внезапной смерти папы. Скончался в ночь с 1 на 2 апреля в 03 часа от кровоизлияния в мозг.
Был на своих ногах, в постели не лежал. Я всегда письма пишу в ночное время и тут тоже сидела с ответами, папа проснулся в 03 часа, зашёл в кухню узнать, сколько же времени. Пошёл обратно на диван, пожаловался, что его что-то тошнит, опустился на пол на колени против дивана, я подставила ему поднос, его вытошнило, он просил, чтоб я его укрыла потеплей тут, на полу. Я под него подложила два одеяла и две подушки, он лежал на боку, схватился за грудь и громко кричал: «Больно, больно, сейчас умру».
Я молниеносно оделась, побежала за медиком вызвать по телефону, он мне вслед кричал, скоро ли она придёт. Когда я вернулась, у него уже не было признаков жизни, он лежал на спине, скрестив руки на груди. Медичка прибежала, и среди ночи заключение — кровоизлияние в мозг, мгновенная смерть.
Похоронили 3 апреля здесь, у Пермогорской церкви, рядом с мамой, в ограде было для него абонировано место…
Одеяние у него было давно припасено…
На похороны приезжала дочь Кати Рита с мужем из Котласа. Из Красноборска ещё были две племянницы и внучка и ещё два племянника, всего семь человек. Всё помогли сделать, совхоз предоставил транспорт, выделили четырёх молодых мужчин копать могилку. Поминки были без вина, мы все 100 процентов трезвенники, племянницы и внучка приготовили приличный стол.
Могилу выкопали перед самым погребением — в могиле не было ни капли воды, сухо. Красноборские уехали в тот же день 3 апреля в 17 часов, а Рита с мужем — утром 4 апреля в 06 часов утра.
Сергей Зосимович, я буду здесь жить до 1 июля, а возможно, и до осени. Надо мне прибрать всё в доме, жильё наше, возможно, купят родственники красноборские.
Всё, что есть Вас интересующее, пошлю Вам, есть ещё и ноты, и книги. Псалтырь, формат 15 х 22 сантиметра, толщина книжки полтора сантиметра, издание Санкт-Петербург, а год не по-русски. Только это я не быстро, надо всё на чердаке проверить, а там ещё холодно…
Пластинки Ваши надо Вам вернуть.
В Благовещение поеду в Красноборск, в церковь на отпевание папы, ещё сороковуст заказать.
У меня плохо со зрением, надо к окулисту попасть на приём.
Говорят, только хорошим людям Бог посылает такую мгновенную смерть.
Его муки были минутные.
Царство небесное папе.
Пишите, рада буду весточке.
Посылаю Машеньке пять рублей за купленный аккумуляторный фонарик, я полагаю, она у Вас бывает или Вы у неё в Москве. Передайте ей денежки, пожалуйста!
С благодарностью за всё, за всё, за заботу о нас.
Здоровья Вам.
С уважением
Галина Карпова
Приложения
Беседа со старообрядцами в 1910 году, 20 июля[537]
В нашей Ляховской волости из стариков было много староверов-раскольников. Они в церковь не ходили, хулили и ругали её. Всех православных, кто ходит в церковь, исповедуется и причащается, раскольники-староверы считали нечистыми — погаными, а себя чистыми — святыми и с православными не ели, не пили.
Чтобы не поганить себя, они всегда носили с собой чашку, ложку и стакан и только после молитвы над пищей и водой ели из своей посуды. Если православный человек зайдёт к ним в дом и перекрестится, когда они обедают, то эта пища считается осквернённой, и они её не едят, а отдают скоту. Лавки и стулья, где сидели православные, они обмывают.
Православные не гнушались, ели и пили бы с раскольниками, но раскольник твёрд в уставах раскольнической веры.
У нас в Ляхове по речке Тядиме у них построена моленна — большой дом с куполом и крестом, а около моленны настроены маленькие двухкомнатные домики, в которых живут старики и старухи старообрядцы[538].
Их населилось много, не менее 60-ти человек. Они называют себя «Филипповское согласие»[539]. Много староверов по деревням, но это другая вера, они называют себя «федосеевцами»[540].
Эти две веры между собой непримиримые враги. При переходе из веры в веру они перекрещиваются с проклятием старой веры.
У нас земельные наделы — чересполосица, и раскольнические наделы чередуются с нашими наделами. Летом у нас обычай в Петров пост служить молебны на полях, но раскольники не разрешают поганить их полос, и были не единичные случаи, когда они прогоняли священника и всех присутствующих, вооружившись кольями[541].
В 1910 году 20 июля, в Ильин день, было объявлено по деревням, что в три часа будет беседа в церкви св. пророка Илии, приехал миссионер, и раскольники дали согласие на беседу. Мы с соседом Афанасием Ив[ановичем][542] после обедни остались послушать беседу.
В церкви на середину поставлен аналой, на нём крест и Евангелие. Для миссионера сделано возвышение, для старообрядцев наставлено много скамеек. Народу было очень много, паперть, два придела — Ильинский и Никольский — полны народом. Раскольники принесли много книг старинных, разложили на столе. Встали, пропели «Царю Небесный»[543], «Верую во Единаго»[544]. И старообрядцы сели.
Отец Харлампий[545] начал объяснять, что представляет из себя Святая Соборная и Апостольская Церковь: «Господь наш Иисус Христос нашего ради спасения основал на земле св. Церковь, обещал её незыблемое пребывание до скончания века, учредив в ней непрерывно ведущуюся иерархию до окончания века, учредив три степени иерархии: епископ, священник и диакон — и семь святых таинств: крещение, миропомазание, причащение, покаяние, священство, брак и елеосвящение. Глава св. Церкви сам Иисус Христос и епископы, а без епископа Церковь не есть Церковь, а самовольное сборище безблагодатное. К сей-то Святой Соборной Апостольской Церкви мы имеем счастие принадлежать».
Миссионер Николай Александрович Соколов[546] предложил, чтобы без разрешения со стороны слушателей в беседу не вступать, а желающим вступить — поднять руку. Беседу на начатую тему доводить до конца.
Священник о[тец] Харлампий: «Господь наш Иисус Христос сказал: “Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, [Он] отсекает”[547]. Как ветвь не может приносить плода сама по себе, не будучи на лозе, и отсекается, и засыхает, и её бросают в огонь, так и отторгшийся от св. Церкви не может получить спасения, не питаясь и не освящаясь св. таинствами, установленными Иисусом Христом и апостолами. Слова Иисуса Христа непреложны: небо и земля прейдут, а слова Иисуса Христа не прейдут[548]».
Миссионер: «Теперь спрошу вас, как вы себя называете по обычаю: сектанты, или староверы, или старообрядцы?»
Они сказали: «Мы старообрядцы или староверы».
Миссионер: «Старообрядец — звание почётное. У нас есть единоверческие церкви, не отделившиеся от св. Церкви, подчиняются Св. Синоду, имеют полное согласие с догматами св. Православной Церкви, и наши православные в их церквах единоверческих причащаются Св. Таин, венчаются и принимают все таинства. Св. Синод, снисходя к их убеждениям и требованиям, разрешил им содержать старые обряды. Для них название “старообрядцы” считается почётным, честным. И я в беседе с вами буду называть вас староверами или старообрядцами. Теперь спрошу вас, старообрядцы, есть ли у вас Святая Соборная и Апостольская Церковь?»
Наставник-филипповец сначала подумал и ответил: «У нас нет Церкви, и у вас нет Церкви, а где она обретается, мы не знаем».
Миссионер: «Если ты не видишь у себя Церкви, то должен указать, где она находится, так как Церковь без вести быть не может согласно обетованию Иисуса Христа, а св. Златоуст говорит: “Церковь светится яснее солнца, и никто не может погасить светлости её”[549]».
Наставник: «У вас нет Церкви потому, что всё изменено».
Миссионер: «Докажите!»
Наставник: «Не те персты слагаете для крестного знамения, имя Исус изменили на Иисус, в «Верую» слово “истинного”[550], в молитве “Богородице Дево, радуйся” вместо “обрадованная Мария” поёте “благодатная Мария”. Поэтому ваша Церковь лишилась благодати и в ней нет спасения».
Выступил федосеевский наставник: «У нас есть Церковь, хотя нет епископа. От дня Вознесения до дня пятидесятного[551] кто был в Апостольской Церкви епископом?»
Миссионер: «Сам Иисус Христос и апостолы были епископы».
Федосеевец: «Апостолы были не епископы, а простые посланники, и первая Церковь была без епископа до дня пятидесятного, вот поэтому наша Церковь сходна с Апостольской Церковью».
Миссионер: «Так вы считаете апостолов простолюдинами?»
Федосеевец: «Да, до дня пятидесятного — сошествия Св. Духа — они благодати не имели, были простые посланники».
Один мужчина попросил слова и сказал: «Несправедливо равнять апостолов с простолюдинами».
Тогда взял слово священник церкви о[тец] Харлампий Пулькин. Он сказал: «Св. евангелист Матфей повествует: “В первый день недели явился Иисус ученикам и сказал: ‘Дана мне всякая власть на небе и на земле. Идите, научите все народы, крестяще их во имя Отца, Сына и Святого Духа. И Я с вами есмь во вся дни до скончания века’”[552]. Евангелист Иоанн благовествует: “В первый день недели вечером, когда ученики были при запертых дверях в горнице Сионской из опасения иудеев, явился им Иисус и сказал ‘Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас’. Сказав это, Он дунул и сказал: ‘Приимите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся’”[553]. Вот видите: апостолы в первый день по воскресении имели все дары Святого Духа, имели повеление пройти всю вселенную, крестить, прощать или не прощать грехи и назывались епископами. А когда избирали вместо Иуды апостола Матфия, апостолы возложили на него руки с молитвою: “Ты, Господи, Сердцеведче всех, покажи от сею двою единаго, и причтен бысть Матфий ко единонадесяти апостолом”»[554].
Миссионер: «Спрошу вас, старообрядцы, веруете ли вы во святое Евангелие? Если веруете, то почему отвергаете слова Иисуса Христа: “Созижду Церковь Мою, и врата адова не одолеют ей”[555]; отвергаете установленное Иисусом Христом таинство брака? Книга Бытия говорит: Адама и Еву Бог благословил и сказал: “Раститеся, множитеся, и т. д.”[556]; а во св[ятом] Евангелии Спаситель сказал: “Оставит человек отца своего и матерь свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть, и чего Бог сочетал, того человек да не разлучает”[557]. Апостол Павел предписал отношения между мужем и женой[558], а уста Павловы это уста самого Иисуса Христа. Это и доказывает, что вы не веруете во святое Евангелие, отвергаете Богом установленные св. таинства; и вера ваша не истинная, богопротивная, не старая, а новая, вами самими выдуманная вера. Такой веры никогда не бывало от времён апостольских и на Руси от времён св. князя Владимира. Такая вера не есть старая вера, а новая вера, выдуманная ложными учителями. Брак, установленный Богом, считаете блудом, а распутство считаете законным. По вашему учению, теперь люди рождаются только от блуда».
Наставники сказали: «Мы этому не причина, так как теперь Церкви нет, священства нет, а по сложившимся обстоятельствам и по нужде и применение закона бывает».
Миссионер: «Не обстоятельства и не нужда привели вас в такое бедственное положение, а вражда и хуление на св. Церковь».
Тут взял слово один из православных. Он сказал: «Живём мы, православные, соседи с ними, они нас, православных, считают погаными, наши пальцы поганые. У нас, когда подрастут девки, стараемся отдать в законный брак, а если какая пожелает — в монастырь. А у староверов некуда деть девок. Отдать в замужество вера не позволяет — отдать на блуд. Приходится девке позволить жить распутно, и если родит, то это прощается, а если замуж выйдет — это никогда не простится. У них такой закон для вступающих в их веру: если не женат — не женись, а если женат — разведись, иначе не примут в свою веру. Хотя все федосеевцы и филипповцы разведённые и разведены “на чистое житие”, живут в отдельных комнатах, но бывают грехи — разведённые рожают. Если родит девка, то ребёнка сразу и окрестят, а вот для разведённых-то беда: надо нести наказание усиленным постом, тысячными поклонами, не допускают до общего моления, ядения и пития, а ребят не крестят, пока родители не выдержат наложенное наказание, так как мать кормит ребёнка нечистым молоком. Полное распутство. У них и парни распутные. Вон Алёшу застали, так он едва успел окном выскочить».
Тут поднялся смех, и некоторые стали упрекать за непристойность смеха в церкви, но миссионер успокоил: ничего, ничего!
Миссионер: «Вы послушайте, православные, старообрядческих наставников, в какое печальное и невероятное положение завели они своих пасомых. Ведь это не жизнь, а прежде вечной муки на земле мука. Старообрядец, федосеевец и филипповец, смотрит на свою жену не как на подругу своей жизни, а как на врага, а детей называют “грешками”. А как дети смотрят на таких родителей? Теперь вероучения и хуления раскольнические на св[ятую] Церковь изучены, их насчитывается 36 вер. Все они в непримиримой вражде между собой, вместе не молятся и не едят. Это болезнь церковная и государственная, так как государство крепко единством веры, а раскольники не молятся за царя, считают его антихристом, а министров считают слугами антихриста. По регистрации за 1909 год раскольников числилось 12 миллионов. В одном только раскольники все согласны — в хулении на святую Церковь, и эта хула служит для них орудием привлечения простых неграмотных людей в свою веру».
Миссионер: «Теперь скажите, старообрядцы, каким священнодействием получили вы власть пасти стадо своих овец?»
Наставники сказали, что нас[559] избрало и благословило на пасение стада своё старообрядческое общество.
Миссионер: «И это избрание и благословение общества сообщило ли вам благодать Св. Духа на совершение таинства крещения, исповеди и прощения грехов и вы вполне ли уверены в этом?»
Наставники: «Да, уверены, так как крещение по нужде разрешается совершать простому мирянину, а не только наставнику благословлённому, а исповедь совершаем согласно наставлению св. апостола Иакова: “Братие, исповедуйте друг другу свои согрешения”[560].
Миссионер: «Общество ваше благодати на пасение стада преподать не может, и вы самовольно решились взять власть, вам не принадлежащую, вопреки учению Иисуса Христа: “Не входяй дверьми во двор овчий, но прелазя инуде, той тать есть и разбойник”[561]; и вы подпадаете под грозное прещение Господа. А апостол Павел изрекает грозное прещение на хулителей св[ятой] Церкви: “Отвергшийся закона Моисеева, при двух или трёх свидетелях, без милосердия умирает, кольми паче горшей подвергнется муке, иже кровь пречистую скверну возмнив и Духа благодати укоривый?”[562] Из сказанного в этой беседе мне желательно, чтобы вы высказали своё бедственное положение, находясь в этой духовной болезни, и есть ли у вас желание избавиться от неё. И что же для этого нужно? Зная, как зашла эта болезнь, противоположно тому действуя, можно излечиться от неё. Отпали от Святой Соборной Апостольской Церкви по неразумию своему, отвергнув веру в евангельское и апостольское учение, — нужно восстановить эту веру. Конечно, нелегко это сделать старообрядцу, родившемуся в этой ложной вере, но нужно усиленно искать истину и усердно молить Бога: “Скажи мне, Господи, путь, в оньже пойду”[563] без гордости, не считая себя учителем-наставником истинным. И искренняя молитва, несомненно, будет услышана. Другого пути нет. Только вера в Христа и учение евангельское и апостольское поможет вам избавиться от сей погибельной болезни. Св[ятая] Церковь ежедневно молится о заблудших братиях наших, чтобы Господь огласил их словом истины, открыл Евангелие правды, соединил Святей Своей Соборной и Апостольстей Церкви, о чём должен молиться каждый истинно верующий».
Никто из присутствующих слова более не просил.
Миссионер: «Вы, старообрядцы, если чувствуете, что мною всё говорено было резко, и вы чувствуете недовольство, но я должен так говорить, потому что само содержание беседы заставляет. Не раскрыв полностью сущности беседы и темы её, нельзя достигнуть положительных результатов. Следующая беседа будет о церковных догматах, обрядах и о крестном знамении».
Со стороны старообрядцев ничего более не было заявлено.
После это все встали и пропели «Достойно есть». И что тут поднялось! Все в восторге благодарят миссионера, просят чаще посещать и беседовать хотя бы с одними православными, так как многие склонны к расколу, а раскольники тоже не дремлют — тайком да молча пугают наших старух неграмотных, что в Церкви антихрист, Церковь поганая, а из-за страха человек решается перейти в раскол, как к величайшей святыне; там строгий пост, тысячные поклоны, по чёткам молитва Иисусова, ежедневное чтение Псалтири. Как тут не уверуешь в такую святую жизнь. В такую святыню окреститься некоторые, не очень старые, сразу не решаются, а вдруг ещё согрешат, и откладывают крещение до полной старости, а многие завещают — делают завещание окрестить в веру при самой смерти.
Биография гр[аждани]на Ивана Ст[епановича] Карпова
В ходатайстве отказать ввиду долголетней службы в религиозном культе. 2.11.31 г. (подпись неразборчива)
В Ляховский сельсовет дер. Звягинской гр-на Ивана Степановича Карпова[564]
Заявление
Как бывший служитель религиозного культа (псаломщик) я лишён избирательных прав, а потому лишён прав быть в какой-либо организации, и при моей многосемейности, материальной необеспеченности нет возможности вести хозяйство, а дети не могут учиться в какой-либо школе, и все лишены медицинской помощи.
Происхождение моё — из крестьянской бедняцкой семьи — знает весь Ляховский сельсовет. Поступить на означенную псаломщическую службу заставила меня материальная нужда из-за куска хлеба, так как мы остались от отца малолетними, а мать, вдова, не могла дать никакого другого образования. В настоящее время материальное моё положение таково: дом-изба — пополам с братом, полдуши пахотной земли, одна корова, 30 ульев, которые составляют весь источник существования с семьёй в восемь человек, из которых шестеро малолетних детей. Находясь в таком критическом положении, я решил обратиться в Ляховский сельсовет, не найдёт ли он возможным восстановить меня в избирательных правах ввиду того, что служба мною избрана была не совсем сознательно, так как я не кончил никакой духовной школы кроме своего Ляховского училища, а более всё зависело от воспитания, данного мне религиозной матерью, что подробно видно из приложенной биографии.
Биография гр[аждани]на Ивана Ст[епановича] Карпова
В 1898 году остались мы от отца впятером: дед, старик 84-х годов, мать 41-го г[ода], я девяти лет, сестра двух лет и брат Василий трёх месяцев. Отец был самый прегорький пьяница и пропил всё хозяйство, так что в наследство нам осталось: полуразвалившийся дом из двух изб, одна корова и хромой конь 30-ти годов, которого продали за один рубль под кожу. Души сенного покоса были пропиты соседу Степану Ефимовичу Журавлёву, тогда сидельцу[565] винной лавки. В то время я учился в школе. Рабочих рук в семье не было, кроме матери, а потому приходилось нанимать всю работу по хозяйству: сенокос, пашню, молотьбу; а для уплаты приходилось продавать, что имелось в хозяйстве: амбар, последнюю корову. В 1900 году помер мой дед 86-ти годов, померла и сестра четырёх годов. Остались мы втроём: мать, брат и я. Мать моя была очень религиозная, так что большую часть жизни провела в молитве, хождении пешком за тысячи вёрст по святым местам: Саров, Киево-Печерскую лавру, в Москву и Соловки, чтобы умолить Бога избавить мужа от пьянства, но так и не могла ничего поделать, отец мой скончался самоубийством в пьяном виде. Как самая религиозная, слепо верующая, неграмотная, мать моя старалась и нам с братом дать такое же воспитание, которое состояло в ежедневной утренней и вечерней молитве с поклонами и хождении в церковь каждое воскресенье.
В 1902 году мать отправила меня в Соловецкий монастырь на год, чтобы выполнить данное Богу обещание при моём рождении, так как, по словам матери, я родился мёртвым и совсем окоченел. Так как мать не в силах была укрыть меня и привести в чувство, то помогла соседка — подняла на печку и укрыла, где я и очнулся. В монастыре у меня нашли приличный голос — альт — и взяли в соборный хор, предварительно изучив ноты[566], так что в течение года выработали из меня певца, самостоятельно ведущего свою партию альта. Тут стал развиваться у меня певческий вкус, так что я вполне понимал ту мысль или чувство, которое было вложено композитором при сочинении песнопения или концерта. Прожив в монастыре один год три месяца, я вернулся домой, чтобы заняться хозяйством. Какое убожество я нашёл дома в сравнении с монастырской жизнью. Хозяйство наше совсем пало: нет ни лошади, ни коровы, а о питании и говорить нечего. В таком бобыльском хозяйстве мне было совершенно нечего делать, и вот появилось желание научиться столярному ремеслу, и осенью 1904 года я поступил в качестве бесплатного подмастерья к столяру Прокопию Ивановичу Казакову деревни Гурьевской, где работал в течение двух зим и научился кой-какой деревенской работе и начал работать у себя на дому, но работа не давала мне средств, достаточных для существования, и приходилось браться за восстановление упавшего сельского хозяйства. В 1905 году продали последний амбар Алексею Петровичу Мокееву, взяли у соседей взаймы денег и купили лошадь за 25 рублей. С каким усердием я взялся за хозяйство, знают все соседи. Все концы полос были отвезены, весь мусор и земля со старого дворика были свезены на полосы, так как навозу было очень мало и удобрить землю было нечем. Приходилось наниматься пахать у соседей.
Пробившись три года, я никак не мог свести концы с концами в своём хозяйстве, так как сена было всего на три едока, всего на одну корову, а потому я решил, что лучше ещё поучиться столярному делу и быть мастером-столяром. Но случилось совершенно другое. Проезжал по школам инспектор-наблюдатель, через которого было сообщено устюжскому архиерею обо мне, деревенском парне, имеющем голос тенор и знающем нотное пение. Через месяц было предложено мне явиться в Устюг к регенту хора на испытание. Вот тут-то и решилась моя судьба, что я ушёл из дома и был принят в хор. Обеспечение мне было: своя одежда, готовый стол с квартирой да доход хора три руб[ля] 50 копеек. При таком обеспечении я едва дотянул год, и то благодаря тому, что иногда находил столярную работу. Нужно было устраиваться иначе. Согласно прошению я был определён исправлять должность псаломщика, и то временно, к лябельской церкви Красноборского района, так как не кончил никакой духовной школы кроме своего земского училища. По приходу из Устюга на Ляблу на место псаломщика обязанности мои заключались в беспрекословном подчинении священнику во всём. Всё письмоводство по церкви и приходу и никуда на час не отлучаться без ведома священника. Обеспечение положено такое: 50 копен сена, полторы десятины[567] пахотной земли и сто рублей в год жалованья. При таком небольшом обеспечении землю приходилось обрабатывать самому, и я поряжался ежегодно в пахаря к крестьянину-судоходцу[568], а взамен платы с него я брал у него лошадь для обработки своей земли.
В 1912 году я женился, пришлось обзаводиться хозяйством: купил корову. Да и мать была уже 62-х годов и совершенно ничего не могла делать. В 1916 году был взят по мобилизации на военную службу, где работал в столярной мастерской 2-го пулемётного полка в Петрограде. Во время революции был в Петрограде — местечко Стрельна, недалеко от Петергофа. В 1919 году вернулся домой к окончательно разорённому хозяйству, потому что никакого солдатского пособия или пайка семейству не выдавали, а доход от церкви поступал заместителю, а по закону следовало бы моему семейству. В 1919 году отошла земля от церкви, и был я нанят прихожанами по полфунта с души хлебом и 60-ти руб[лей] в год деньгами при своей квартире, так как дом приходский занят под 1-й класс школы. При такой обеспеченности приходилось убежать со службы. Но так как убежать было некуда и не к чему — нет нигде ни земли, ни своей избы-угла, то приходилось терпеть. Питание тогда было с усадебного огорода в количестве 55 кв. сажен, который давал ежегодно 20 пудов моркови и кроме того порядочно других корнеплодов и огурцов, так как в бытность на военной службе в Петрограде я работал у чухней[569] на огородах, которые приносили огромный доход овощами и в особенности клубникой, где я присмотрелся к уходу за овощами, каковой уход и применяю дома в настоящее время и вижу превосходные результаты на своём маленьком огороде, что, я думаю, видят мои соседи. Брат мой, Василий Степанович Карпов, служил в Черевковском РИК[570] счетоводом, тоже не имея своей избы-квартиры, так как дом наш был в Ляхове разломан и сложен в штабель, чтобы не догнил без крыши окончательно. И вот мы сообща с братом решили строить избу из развалин старого с условием: на средства брата срубить и отделать, а мне в 1928 году войти жить, предварительно сделав рамы, двери, печь и помещение для пчёл. Служба не давала почти никаких средств, да и не стала удовлетворять, так как приходилось сталкиваться частенько с такими противоречивыми вопросами, которых разрешить не могу ни сам, ни другие с богословским образованием люди.
Встретился однажды в Красноборске с одним пчеловодом с Падзер, около Сольвычегодска, с которым познакомился, и рассказал о своём положении. «Брось-ка ты, парень, эту бесполезную службу и займись пчеловодством, которое даст тебе кусок хлеба, — дал он мне совет. — Да вдобавок ты ещё и столяр, так тебе только пчёл и водить». Вот где я услышал драгоценные слова. В 1920 году у меня было четверо детей и старуха-мать. Подал заявление на родину в Звягинскую — не принимают, семья велика, земли много надо, а вот у них псаломщика нет, то, пожалуйста, поступай. Но такая служба мне уже слишком надоела в кабале у попа. Между тем время шло. Брат срубил избу и почему-то бросил службу в Черевковском РИК, уехал в Кемь, где и сейчас служит. А в Красноборском районе в 1924 году провели землеустройство, и земельный суд наделил меня землёй, так как я осуществил право на землю, прожив 15 лет, но никак не приняли в сенокосное общество будто бы от желания всего общества, а не от закона. Корову, конечно, кормить было нечем, и вот тут-то я окончательно решил заняться пчеловодством. Но как? Не имея ни знаний, ни средств, ни практики, никак немыслимо начать. Решено было купить два улья с условием поработать на той же пасеке летний сезон с выставки до выставки — до окончания сезона. Удалось купить на Комарице (Забелино, дер[евня] Борогодская Кулига) у Прокопия Васильевича Подсекина, где и начал учиться. Цена ульям 30 пудов хлеба за улей. Пришлось поставить на карту всё: продал пальто, мебель своей работы и у жены всё, что можно продать из вещей. И вот из этих двух ульев выросла имеющаяся в настоящее время пасека, и выработался у меня опыт по пчеловодству на самых грустных ошибках в практике, описывать которые за неимением здесь места невозможно. На Лябле нанимал квартиру за пять руб[лей] в месяц — одна изба, где зимой день и ночь работал ульи, в подполье зимовали пчёлы. Пришлось окончательно проситься на родину в Ляхово с пасекой и всем семейством. Не помню, которого числа мая месяца 1924 года было собрание, созванное мной к соседу Афанасию Ивановичу Карпову, на котором мне было отказано в приезде, кроме некоторых лиц, которые ничего не имели против, остальные долго шумели, подозревая в моём приезде вред от пчёл и боясь моего наделения землёй, так я и приехал против желания соседей.
24 мая 1928 года я отказался от должности псаломщика лябельской церкви, навсегда бросив эту службу. 2 июня я приехал на родину и поместился в доме соседа Афанасия Ивановича Карпова, так как своя изба братом была не достроена. Средств существования у меня не было. Вся надежда была на пчёл, а нужно было войти в своё помещение и сохранить зимой пчёл. Лето [19]28 года выпало самое плохое: дожди уничтожили весь взяток пчёл, которые собрали 13 пудов мёду, а на зиму себя не обеспечили и вдобавок заболели самой опасной болезнью — гнилец. Ну, кажется, дело моё совсем погибло! Было подано прошение в Черевковский РИК, который послал для обследования губернского инструктора А. Верещагина, и был 4 августа составлен т. Верещагиным и райагрономом акт обследования моего хозяйства и болезни пчёл, и согласно постановления РИК была оказана помощь через Ляховское кредитное т[оварищест]во в сумме 50-ти руб[лей] ссуды и 28 полос стекла. Мёд весь сдан в Черевковское ЕПО[571] на обмен товаров. Для лечения пчёл дана сумма в 25 руб[лей] на формалин и денатур[ированный] спирт, которого не оказалось нигде, а потому данные средства пришлось израсходовать на сахар для осенней подкормки пчёл, не обеспечивших себя.
Весной [19]29 года вся пасека была накануне гибели, но Черевковское кредитное т[оварищест]во дало для пчеловодов сахар в количестве пяти ф[унтов] на улей, и я из положения вышел, год был немного лучше [19]28 года, но собранный мёд пошёл часть[ю] для уплаты ссуды Кредитному [товариществу], и семь пудов сдано Черевковскому РПО[572] по семь девяносто. В [19]29 году я сам не пахал на Лябле и снял так мало хлеба для семьи в восемь человек, что не хватило хлеба до урожая на три месяца, пришлось просить в счёт будущего урожая мёда у тех, кто имеет хоть немного хлеба, и благодаря помощи кой-как пробились, а двоих из детей отдал в няни в Архангельск, да двое — Борис и Николай — два месяца ходили по Черевковскому району, прося хлебца на пропитание. Какие кусочки они приносили — маленькие засохшие корочки. Такой хлеб есть было не очень приятно, но что же я мог поделать? В 1930 году Красноборский земотдел лишил меня на Лябле земли, разрешив мне снять озимовой корень, но беда в том, что более половины хлеба съели мыши, потому что молотить пришлось в конце зимы за неполучением из Ляховского сельсовета увольнения на молотьбу, пришлось послать сына, мальчика 13-ти лет, и заплатить за молотьбу чудовищную цену. [19]30 год для пчеловодства был средний, но пасека серьёзно пострадала от воров, которыми оказались соседние ребята своей деревни, которых я поймал 13 июля в час ночи, о чём я не буду писать, но только скажу, что результаты весеннего воровства очень губительны: не закрыв как следует шесть ульев, 35 рамок детки, которая погибла, и текущий год ушёл на поправку этих ульев, не давших в этом году дохода. 48 килограмм мёда сдано Черевковс[кому] РПО. Хотелось сдать больше, но у них не было установки в снабжении: нет вощины, нет сахару, а заготовительная цена на мёд была 98 коп[еек] кило. В конце [19]30 год прошёл неблагополучно, пчёлы осенью были брошены без всякого ухода, так как никакие мои просьбы предсельсоветом не удовлетворены. Несмотря на то что в ульях 30 пудов мёду, караула не было, один улей, № 35, задохся в снегу, шесть ульев во время осенней метели замело снегом, и я во время сильной метели прибежал с биржи Коптелово и откопал шесть ульев из-под снега, пчёл больше половины задохлось. На состановку в омшаник пчёл дано одни сутки, снегу в ульях до отказа. Третья часть рамок заплесневела от сырости, но всё-таки удалось спасти пчёл благодаря своевременному зимнему уходу, добыванием подмора и вытиранием плесени. В настоящем [19]31 году я занимаюсь пчеловодством на старой чёрной вощине, которой кооперация не могла достать даже на предложенный ей взамен вощины мёд, а потому пчёлы, чувствуя духоту и запах старой вощины, неудержимо роились и не дали полного дохода по случаю плохого осеннего дохода и порчи вощин от плесени. Я говорю всегда в защиту пчеловодства, потому что это для меня есть самый больной вопрос и я всегда обращался в серьёзных случаях к органам советской власти за помощью и согласно Декрету об охране пчеловодства[573] получал содействие и помощь, без чего пчеловодство в нашей несознательной крестьянской среде едва ли возможно. Да ещё больной вопрос в том, что несознательная часть деревни считает это не работой, а получением мёду даром, а пчеловод торгует мёдом и ничего более не делает. Такое современное отношение деревни очень вредно отражается на развитии пчеловодства и убивает весь интерес пчеловода, потому что его могут лишить избирательных прав за то, что он пчеловод. Но пчеловод должен быть вполне уверен, что он никоим образом не относится к кулачеству и что широкие массы того взгляда, что пчеловодство не пустая прихоть, а важнейшая отрасль сельского хозяйства, но требующая громадных усилий, труда и заботы со стороны лица им занятого. Высказанное я испытал на себе, когда не знаю, к какой части населения я причислен, когда при обложении сеном или хлебом всегда ставили вопрос так: отобрать у меня с полудуши[574] пять пудов хлеба, ведь у него мёду много. Или: взять у него весь урожай сена, ведь он корову мёдом кормить может; да он ничего не работает, всё с пчёлами. Так проводились собрания в прошлую осень [19]30 года. В результате оставили меня без хлеба и без сена взамен того, что я сложил все силы и здоровье в пчеловодство с семьёй в восемь человек, всех нетрудоспособных, от своих нищенских средств. Я слышу, что меня надо убрать, что я не всех снабжаю мёдом. В настоящее время хозяйство моё в таком виде: полдуши земли на восемь человек, трудоспособных два человека, ульев 30, хлеба не сеяно, дом-изба пополам с братом, которому должен уплатить 200 рублей за произведённые работы по постройке дома. Корова одна.
Я не описал никаких обрядов религии и церковной службы, думая, что они никому не интересны и большинством теперь забыты. Про себя же скажу, что я в первое время службы был как верующий человек, слепо верующий, так как не кончил никакой духовной школы и решать религиозные вопросы не в силах, так и остановился в нерешённом состоянии в истинности религии. Ни в какой общине верующих не состою и никаких религиозных обрядов не исполняю. От советских органов я жду защиты, потому что в деревне не все с понятием и потому что я вреда государству не приношу, а мёд сдавал в кооперацию, а на деньги опять через кооперацию же выписывал вощину из Вятской губернской пасеки.
Этим и заканчиваю свою безграмотную биографию и прошу её рассмотреть.
1931 года 2 августа
Ляховского сельсовета деревни Звягинской
гр[аждани]н Иван Степанович Карпов
[1] Семейный архив Г. И. Рашева, внука А. И. Карпова, г. Коряжма, Архангельская область.
[2] Ирмос — первая строфа в каждой из девяти песен канона в православном богослужении.
[3] Печатается по: ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом), Красноборское собрание, №146, рукопись. Публикация и подготовка текста Владимира Щипина.
[4] Сохранены авторский стиль и некоторые особенности правописания, пунктуация приближена к современной.
[5] Идея написать воспоминания «По волнам житейского моря» родилась у Ивана Степановича Карпова в 1970 году, о чём он сообщил в письме Сергею Зосимовичу Трубачёву. См.: Приложение, письмо Карпова Трубачёву (за №32).
[6] Поветью на Русском Севере называют помещение над скотным двором, где хранятся сено, солома и хозяйственный инвентарь.
[7] Начальные слова тропаря Кресту Господню, глас 1.
[8] Начальные слова псалма 1.
[9] Плахи — в данном случае некругляковые дрова, колотые пополам.
[10] Проходившую с 4 по 11 января. О красноборских ярмарках см. также прим. 184, ниже.
[11] Ярмарка проходила с 9 по 20 марта. См. также прим. 184, ниже.
[12] 1 верста ≈ 1066,8 м (здесь и далее без пересчёта единиц).
[13] Под две тысячи вёрст.
[14] Неустановленное лицо.
[15] Иуда, после того как предал Иисуса Христа, «бросив сребренники в храме,.. вышел, пошёл и удавился» (Мф.27:5).
[16] Священник черевковской Успенской церкви Харлампий Андреевич Пулькин (1864–1932).
[17] Автор допустил ряд неточностей в указании возраста и дат смерти родных. Согласно «Посемейному списку Ляховского общества», в семье Карповых на декабрь 1898 г. числились помимо автора воспоминаний: его дед — Карпов Егор Захарович (1823–1898), отец — Степан Егорович (1851–20.12.1898), мать — Пелагея Петровна, сестра — Мария (1895–1898), брат — Василий (27.07.1898–07.04.1942).
[18] Здесь: припечье со ступеньками для всхода на печь и на полати, с дверцами, полочками внутри и с лазом в подполье.
[19] В Соловецкий монастырь, где покоятся их мощи.
[20] 1 аршин ≈ 0,7 м. Здесь: 10,5 метров.
[21] Этот заведённый для паломников порядок, возможно, призван был служить напоминанием о некогда совершавшемся в озере крещении местных язычников. (О купании паломников см., например, Волкова Е. Соловецкий монастырь в воспоминаниях паломников и трудников (по материалам историко-этнографических экспедиций СГИФПМЗ) / Соловецкое море. 2010. № 9. С. 105. О крещении язычников см., например, А. Петряшин. Пустынножительство на Руси в ранние и средние века как движение по хозяйственному освоению новых земель // ЖМП. 2003. № 3. С. 74–81).
[22] О нём см. начало главы 2.
[23] Архимандрит Иоанникий (Юсов; 1850–1921), был настоятелем Соловецкого монастыря в 1895–1917 годах.
[24] Канонарх — церковный певец, который произносит речитативом слова песнопений, повторяемые затем всем хором.
[25] После 14 сентября старого стиля.
[26] Светлосанова Л. Н. — выпускница Великоустюжского женского епархиального училища 1890 года.
[27] Об учителе Евтюхове 12 сентября 1896 года в своём дневнике писал волостной писарь А. Е. Петров: «…это полуфилософ, и только. Можно прибавить — пьянствующий… Человек, не признающий даже самых элементарных правил приличия и света и вместе с тем, не признающий ни одного учёного, отвергая и философию, и науку логично с примесью наивности. Довольно скучный господин» (см.: Дневник волостного писаря А. Е. Петрова // Русская литература. 2005. № 2. С 152).
[28] Тропарь и кондак — краткие церковные песнопения, раскрывающие сущность праздника.
[29] 1 фунт ≈ 0,4 кг.
[30] Шаньга — открытый пирожок традиционно круглой формы (встречаются также, например, квадратные) с начинкой. В Черевковской волости, Красноборске делались только из ржаного пресного теста.
[31] Богадельня была построена в 1893 году на деньги богатого черевковского крестьянина Петра Павловича Гусева (расходы на строительство составили 2500 рублей). В 1904 году он же внёс в банк 5000 рублей на содержание богадельни.
[32] Правильно: Девятовская — с девятой пятницы по Пасхе. С ярмарками в Красноборске совпадали Алексеевская, Девятовская, Крещенская, Ильинская.
[33] Имеется в виду: извлекала выгоду (прибыль) для себя, подавая хлеб-соль нищим. Например, В. И. Даль приводит пословицу «кто за хлеб-соль берёт со странного, у того спорыньи во дому не будет».
[34] То есть: «не совсем, но [всё-таки] пьяный».
[35] Урядник — нижний чин уездной полиции.
[36] Автор смешивает дореволюционных выборных десятских, исполнявших полицейские функции, с сельскими исполнителями советского времени. Институт сельских исполнителей был учреждён Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 27 марта 1924 года № 266. Сельский исполнитель для сельчан был чем-то вроде внештатного милиционера.
[37] Вид мужской шляпы.
[38] С условием косьбы и уборки сена продавцом надела.
[39] По В. И. Далю: объявился, обнаружился.
[40] Остожье — место для стога или нескольких стогов сена.
[41] Ванин отец.
[42] Пулькин.
[43] Пристав — полицейское должностное лицо.
[44] Вероятно, имеется в виду золотая монета либо «старый» империал (15 рублей), либо «новый» (15 рублей).
[45] Пешня — ударное орудие в виде железного или стального заострённого наконечника длиной около полуметра, с раструбом, в который вставляется деревянная рукоять длиной до метра. Употребляется для пробивания прорубей при зимнем рыболовстве.
[46] См. также ниже (начало гл. 2 и далее).
[47] Печенгский Троицкий Трифонов монастырь находился в посёлке Печенга (в 135 км от теперешнего Мурманска).
[48] Правильнее (здесь и далее): Зосимовском.
[49] Неточности: а) сухой водоналивной док (построен в 1801 году); б) см. также, например, Г. Богуславский. Острова Соловецкие: «Гидротехническое строительство на Соловецких островах началось ещё в середине XVI века, когда 52 озера были соединены в единую “питьевую систему”, которая доходила до самого монастыря и из Святого озера через территорию Кремля выводилась в море».
[50] Ошибка памяти мемуариста: русско-японская война началась в ночь на 27 января (старого стиля) 1904 года.
[51] Японцами были атакованы корабли порт-артурской эскадры (три из которых выведены из строя, а два — крейсер «Варяг» и канонерка «Кореец» — приняли бой, после которого были затоплены командами).
[52] Как раз во время русско-японской войны 1904–1905 годов выражение «закидать шапками» приобрело иронический оттенок по отношению к врагу.
[53] Здесь: житель или уроженец местностей в бассейне реки Ваги, притока Северной Двины.
[54] На остров Большая Муксалма Соловецкого архипелага.
[55] Догматик — заключительная стихира на «Господи, воззвах», раскрывающая догмат о бессеменном зачатии Богоматерью Бога Слова.
[56] Прокимен — стих псалма, произносимый чтецом (перед чтением Апостола на литургии и паремий на великопостной вечерне) или диаконом/священником (перед Евангелием на праздничной утрене) и повторяемый затем хором. Вкратце обозначает содержание следующего далее чтения или тему богослужения в целом.
[57] Стихира — церковное песнопение, предваряемое стихом псалма.
[58] Отпуст — благословение молящимся на выход из храма по окончании богослужения.
[59] Начальные слова ирмоса 1-й песни Пасхального канона.
[61] Ответ преподобного Серафима Саровского вопрошавшим, зачем он носит на спине тяжёлую котомку, набитую песком и каменьями.
[62] Сочинение русского церковного композитора и дирижёра Дмитрия Степановича Бортнянского (1751–1825).
[63] Правильно: красовуль, красовуля — чаша, употребляемая за монастырской трапезой.
[64] Алексей Николаевич Романов (1904–1918) — наследник-цесаревич и великий князь, сын императора Николая II Александровича.
[65] Сочинение русского церковного композитора и хорового дирижёра Степана Аникеевича Дегтярёва (1766–1813).
[66] Точнее: «Заступник мой, почто мя забыл еси». Сочинение русского церковного композитора и певца (тенор) Артемия Лукьяновича Веделя (1770–1808).
[67] Точнее: «Се, что добро, или что красно». Сочинение А. Андрусенко.
[68] См. два предыдущих прим.
[69] 1 пуд ≈ 16 кг. (Здесь и далее без пересчёта единиц).
[70] См. также прим. 21 выше.
[71] Автор имеет в виду себя и жену; об их поездке в Соловецкий монастырь в 1914 году он пишет ниже.
[72] То есть: наперебой.
[73] На самом деле два парохода: «Преподобный Зосима» и «Преподобный Савватий». Кроме того, в состав соловецкой флотилии входили ещё два парохода: «Соловецкий» и «Архангел Михаил».
[74] По Тарле Е. В. Крымская война: 6 (18) июля к острову подошли английские корабли «Бриск» и «Миранда», проводившие бомбардировку монастырских укреплений и зданий до вечера следующего дня; 8 (20) июля корабли ушли. 7 (19) июля монахи, богомольцы и население острова обходили крестным ходом монастырские стены.
[75] Точнее: периметр стены.
[76] Грядка — здесь: шест, слега, жердь, соединяющая стены, полка вровень с полатями.
[77] Так в оригинале. То есть: «Когда я приехал домой и закусил чего нашлось, мама положила на пол полено, на него подушку, и я с устатку уснул крепким сном».
[78] Горно — нагревательная печь, горн.
[79] То есть: было на тот момент.
[80] Парафраз стихотворения «Молитва» Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–1841).
[81] Наблюдник — полка или полка-шкаф для сушки посуды.
[82] То есть: высокое сопрано.
[83] То есть: для обдира — очистки от лузги.
[84] По тем временам (1907–1908) запредельная роскошь в деревне, да и не только. Вероятно, эта реалия относится к более позднему времени (во всяком случае — после 1914 года).
[85] Протоиерей Василий Васильевич Смелков — наблюдатель церковных школ Вологодской епархии.
[86] Священномученик Алексий Великоустюжский (Бельковский Пётр Филиппович; 1842–1937).
[87] Так в оригинале: «сбой» в употреблении местоимений.
[88] Идти придётся более 100 вёрст.
[89] Должно быть: заплатанные.
[90] См. прим. 199 ниже.
[91] Так называемую монастырскую.
[92] Реалия советского времени: Автономная область коми (зырян) была образована 22 августа 1922 года. Накануне Октябрьской революции большая её часть входила в Архангельскую губернию, другие территории — в Вологодскую и Вятскую.
[93] «Господи, помилуй» (греч.), молитвенное призывание, многократно повторяемое в составе ектении на архиерейских богослужениях.
[94] Торжественное восклицание «Аксиос» («достоин») во время диаконской, пресвитерской, епископской хиротоний. Произносится рукополагающим архиереем при вручении рукополагаемому очередного предмета облачения, затем повторяется трижды священнослужителями в алтаре, трижды — правым хором и трижды — левым.
[95] Имеется в виду «Пространный христианский катихизис Православной Кафолической Восточной Греко-Российской Церкви», который составил святитель Филарет Московский (Дроздов Василий Михайлович; 1782/3–1867).
[96] Имеется в виду книга английского богослова и духовного писателя Фредерика Фаррара (1831–1903) «Жизнь и труды апостола Павла» в русском переводе.
[97] Неустановленное издание. Предположительно — одна из книг, выпущенных Императорским Палестинским обществом (1882–1918).
[98] Правильно: председателю совета. В круг деятельности религиозно-общественного Братства во имя св. Стефана Великопермского Вологодской епархии (Великий Устюг и Усть-Сысольск; 1896–1918) входили руководство церковными школами, миссионерство и благотворительность, а также борьба с расколом.
[99] Подразумеваются исповедные (исповедальные) росписи — ежегодно составляющиеся на церковных приходах в XVIII–XIX вв. списки прихожан с указанием, кто из них был на исповеди и у причастия за время постов.
[100] Дьяконица — жена дьякона, но в данном случае — вдова.
[101] Биографическими данными о нём не располагаем.
[102] Спасский Орест Васильевич — псаломщик евдской церкви, учитель школы в Белой Слуде. Умер 23 сентября 1969 года.
[103] Также советская реалия (далее подобные случаи, за некоторым исключением, не оговариваются).
[104] Село Сура Пинежского уезда Архангельской губернии — родина святого праведного Иоанна Кронштадтского (Сергиев Иван Ильич; 1829–1908/9). В 1891 году он построил там каменную приходскую церковь, а в другой части села основал женский монастырь (Иоанно-Богословскую женскую общину). Впоследствии о. Иоанн приезжал в Суру ежегодно.
[105] Суслон — несколько снопов, поставленных в поле для просушки стоймя, колосьями вверх, и покрытых сверху снопом же.
[106] То есть: закончил учёбу.
[107] Полой — здесь: речной рукав.
[108] Именно: на острове Анзерском (Анзере), самом северном в Соловецком архипелаге.
[109] «Ныне отпущаеши» — молитва праведного Симеона Богоприимца (Лк.2:29–32), звучащая в конце вечерни. Вопреки указанию богослужебного устава о чтении её священником, в Русской Православной Церкви издавна распространилась практика хорового исполнения различными распевами и на музыку многих композиторов.
[110] Старорусский Василий Фёдорович (1818–1871), священник, церковный композитор, регент.
[111] См. прим. 102 выше.
[112] Вторая и четвёртая позиции наиболее трудно усваиваются учащимися.
[113] Текст послушницы Кылтовского Крестовоздвиженского монастыря Таисии Малаховой.
[114] Автор стихотворения «Море житейское» Гермоген (Долганёв (Долганов) Георгий Ефремович; 1858–1918), епископ Тобольский и Сибирский, священномученик.
[115] Канон 8-го гласа, ирмос 5-й песни.
[116] Император Николай II подписал Манифест об объявлении войны Германии 20 июля (2 августа) 1914 года, на следующий день после начала Германией военных действий против России.
[117] Соловецкий монастырь имел целую, крупную по тем временам, флотилию морских судов, парусных и паровых. Пароходов было четыре, см. прим. 72 на с. 64.
[118] Это событие было описано выше.
[119] То есть: каюты всех имевшихся классов.
[120] Карбас — парусно-гребное промысловое и транспортное судно среднего размера.
[121] Глава публикуется по: Карпов И. С. Моя солдатская жизнь в пехотном и пулемётном полках во время первой мировой войны с Германией с 1916 по 1919 год. Рукопись. 1980 г. Дом культуры с. Пермогорье Красноборского района Архангельской области.
[122] Ошибка — 19 июля (1 августа).
[123] Апостол — богослужебная книга, содержащая часть Нового Завета, а именно: Деяния и Послания святых апостолов. Включает в себя также прокимны и аллилуиарии — избранные стихи из Псалтири и других книг Священного Писания. Читается за Божественной литургией.
[124] Ошибка: Михаилу Ивановичу Глинке (1804–1857) принадлежит «Патриотическая песня». Гимн «Коль славен» написан Д. С. Бортнянским на стихи одного из известнейших поэтов своего времени Михаила Матвеевича Хераскова (1733–1807).
[125] Приведённый текст — первая строка стихотворения «Гимн» Николая Алексеевича Некрасова (1821–1877), положенного на музыку М. А. Гольтинсоном и С. В. Гилёвым. Национальный гимн Англии начинается словами «Боже, храни Короля (Королеву)».
[126] Приведённый текст — первая строка стихотворения «Вперёд! Без страха и сомненья…» (так называемый «Гимн петрашевцев» или «Русская Марсельеза»), исполнялся на мотив «Коль славен» Бортнянского; кроме того, был положен на музыку Гроздовым и Николаевым. Автором стихотворения является русский поэт и литературный критик, участник кружка петрашевцев Алексей Николаевич Плещеев (1825–1893). Начальные же строки «Марсельезы» (например, в русском переводе 1867 года) звучат так: «Вперёд, сыны страны родной: / Дни славы наступили!» Автором этого перевода является Михаил Иванович Венюков (1832–1901), генерал-майор, этнограф, с 1881 года жил в Париже, активно участвовал в вольной русской печати (тайный корреспондент газеты «Колокол»).
[127] Военная песня (на переход русских войск через Дунай в начале Крымской войны). Музыка Алексея Фёдоровича Львова (1798–1870) — композитора, дирижёра, директора Придворной певческой капеллы, автора музыки гимна «Боже, Царя храни!» Слова князя Михаила Дмитриевича Горчакова (1793–1861) — военачальника, участника обороны Севастополя.
[128] Имеется в виду вариант казачьей народной песни «Чёрный ворон» времён «германской войны».
[129] Казачья строевая песня, существовала во множестве вариантов.
[130] «Военная песенка» («Гусары-усачи»), музыка и слова Владимира Александровича Сабинина (Собакина) (1885/9–1930) — оперного певца, а также исполнителя собственных песен и романсов. Это произведение известно также как гимн чёрных русских гусар и полковая песня 5-го Гусарского Александрийского Её Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полка.
[131] Казачья песня. Восходит к стихотворению украинского писателя Евгения Павловича Гребёнки (1812–1848) «Казак на чужбине», впервые опубликованному в «Альманахе на 1838 год».
[132] Романс А. А. Балабанова на стихи русского поэта Семёна Яковлевича Надсона (1862–1887).
[133] Сочинение Д. С. Бортнянского.
[134] Сартами называли вообще выходцев из Средней Азии.
[135] См. прим. 125 выше.
[136] Автор перечисляет железнодорожные станции (от Балтийского вокзала).
[137] Должно быть: надпись.
[139] Ошибка памяти автора. Солдаты 1-го пулемётного полка прибыли на поезде из Ораниенбаума утром 27 февраля. См.: http.//www.grad-kirsanov.ru/source.php?id=memory.vorob.
[140] Саблер Владимир Карлович (в 1915 году принял фамилию жены — Десятовский; 1847–1929) — российский юрист; обер-прокурор Святейшего Синода (2 мая 1911 – 4 июля 1915). Отец — Карл Фёдорович Саблер, по происхождению немец, окончил Академию Генерального штаба (1839), обер-квартирмейстер Отдельного Гренадерского корпуса, мать — дворянка Тульской губернии Стефания (Стефанида) Васильевна Алексеева.
[141] Распутин Григорий Ефимович (Новых) (1869–1916) — крестьянин села Покровское Тобольской губернии. Приобрёл всемирную известность благодаря тому, что был другом семьи последнего российского императора Николая II. В 1900-е годы в определённых кругах петербургского общества имел репутацию «старца», прозорливца и целителя.
[142] См. прим. 64 выше.
[143] Князь Юсупов, граф Сумароков-Эльстон, Феликс Феликсович (1887–1967) — последний из князей Юсуповых.
[144] Керенский Александр Фёдорович (1881–1970) — российский политический и общественный деятель; министр, затем министр-председатель Временного правительства (1917).
[145] Цеппелинами в просторечье называли дирижабли конструкции графа Фердинанда фон Цеппелина (1838–1917).
[146] Эзель — немецкое название острова Сааремаа (Моонзундский архипелаг, Эстония). Был важным местом боевых сражений во время Первой и Второй мировых войн.
[147] И. С. Карпов был уволен в запас и получил удостоверение демобилизованного 22.12.1918. См.: ГААО. Ф. 615. Оп. 3. Д. 137. Списки лишённых избирательных прав, заявления, жалобы. Л. 2.
[148] Учредительное собрание — представительный орган в России, избранный в ноябре 1917 года и созванный в январе 1918 года для принятия конституции. Национализировало помещичью землю, призвало к заключению мирного договора, провозгласило Россию демократической республикой, тем самым ликвидировав монархию. Отказалось рассматривать Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, которая наделяла советы рабочих и крестьянских депутатов государственной властью. Распущено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом Советов рабочих и крестьянских депутатов, роспуск подтверждён III Всероссийским Съездом Советов рабочих и крестьянских депутатов.
[149] Финляндский вокзал.
[150] Дежурный по отправлению поездов.
[151] Так в оригинале. То есть: «В моё отсутствие, когда я был в полку».
[152] Опоек — один из сортов мягкого кожевенного (сапожного) товара, идущего главным образом на лёгкую обувь.
[153] Мирный договор с Германией (Брестский мир) был подписан 3 марта 1918 года в Брест-Литовске.
[154] На самом деле всего лишь 25%.
[155] Имеется в виду Священный Синод при патриархе Тихоне. (Указ такого содержания нами не обнаружен).
[156] Через три недели после падения монархии Временное правительство издало декрет об аграрной реформе. 20 мая Главный земельный комитет опубликовал директиву об общих правилах, положенных в основу будущей реформы, основным принципом которой должны была стать передача всей обрабатываемой земли тем, кто её обрабатывает. Ожидалось, что к осени земельные комитеты завершат подготовительную работу и правительство внесёт законопроект о земельной реформе на утверждение Учредительного Собрания, а весной 1918 года земля законным путём будет передана крестьянам. Однако реформа пробуксовывала, и в деревне аграрные отношения подменялись стихийными захватами земли. Распространялась анархия. В результате этого правительство было вынуждено регулярно прибегать к силовым методам воздействия.
[157] Автор ошибается. Партия большевиков и партия меньшевиков «появились» вследствие раскола РСДРП на II (Брюссельском) съезде партии в 1903 году. Здесь же имеется в виду активизация работы среди крестьянства большевиками и меньшевиками (успехи которых были невелики).
[158] Червонцы — название новых советских денег (с 1922 года); тысячи — номиналы (от одной до ста тысяч) обильного множества совзнаков, расчётных, а также государственных денежных знаков РСФСР и СССР 1919–1923 годов; миллионы — цены выражались в миллионах (результат гиперинфляции); а также денежные знаки образца 1923 года, один рубль которых приравнивался к ста рублям образца 1922 года или к одному миллиону рублей в денежных знаках более ранних выпусков (изъятых из обращения).
[159] То есть: раскраски.
[160] «Керенки» выпускались Временным правительством России в 1917-м и Госбанком РСФСР в 1917–1919 годах на одних и тех же клише до появления совзнаков (последний срок действия платёжной стоимости «керенок» октябрь 1922 года). Знаки 20 и 40 рублей также децентрализованно либо незаконно печатались в местных типографиях. Они поставлялись в больших неразрезанных листах без перфорации, от которых их отрезали ножницами или отрывали во время выдачи зарплаты. По мере развития гиперинфляции керенки перестали даже разрезать — расплачивались листами. Лист в 50 «керенок» общим номиналом 1000 рублей в просторечье назывался «штукой». Печатались зачастую в неспециализированных типографиях работниками без должной квалификации, разными красками, нередко на неподходящей бумаге, иногда даже односторонними: на обороте различных этикеток товаров и продуктов.
[161] Восстание произошло 16 мая 1919 года. В ходе его подавления было убито не шесть, а пять человек. Арестовано более ста. Несколько десятков были осуждены на различные сроки заключения, трое организаторов расстреляны (см.: Щипин В. И. Восстание в Черевкове в 1919 году // Поморский летописец. Вып. 4. Архангельск. 2011. С. 123, 126).
[162] Имеется в виду пункт «г» статьи 65 Конституции РСФСР 1918 года.
[163] Потир, иначе: святая чаша — богослужебный сосуд для совершения литургии.
[164] Дискос — богослужебный сосуд в виде блюда на подножии для совершения литургии.
[165] Неточность: «Светлана» — не броненосец и не крейсер (см. ниже по тексту). «”Светлана” была двухпалубным пассажирским пароходом с пятнадцатью каютами. В каютах жили сотрудники ЧК, а салон и ресторан были превращены в общежитие для бойцов охраны… Чекистов было всего пятнадцать человек» (см.: Шебунин А. И. Сколько нами пройдено… М.: Воениздат, 1971. С. 39–40).
[166] В СССР с 1922 года издавалась газета «Безбожник», в августе 1924 года в Москве было образовано «Общество друзей газеты “Безбожник”», а в апреле 1925 года I съезда этого общества постановил создать всесоюзное антирелигиозное объединение, получившее название «Союз безбожников» (затем — «Союз воинствующих безбожников»).
[167] Авдаков Николай Васильевич (1899 – после 1933), священник. Получил медицинское образование. После смерти отца священника в 1922 году оставил учёбу и был рукоположен в священники. Служил в городе Иваново-Вознесенске. В 1923 году сослан в город Великий Устюг. В 1936 году отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения. В 1929 году вернулся в Иваново, но в 1930 году сослан на три года в город Пугачёв Саратовской области, но в том же году осуждён на три года заключения. После отбытия наказания вернулся в город Кохму Ивановской области. В том же году вновь арестован и умер в заключении. Точная дата смерти не установлена. В апреле 2005 года Русской Православной Церковью причислен к лику святых.
[168] Подразумеваются вероятнее всего сочинения знаменитого еврейского историка Иосифа Флавия (ок. 37 – ок. 100) «Иудейские древности» и «Иудейская война».
[169] Имеется в виду перепись, во время которой родился Иисус Христос (см.: Лк.2:1–7).
[170] Ещё один пример «речевого сбоя».
[171] Имеется в виду обновленческий «поместный собор Российской Православной Церкви» 1923 года.
[172] По терминологии собора 1923 года: второбрачие.
[173] То есть: Правилам апостольским, а именно: пункту 7.
[174] См. прим. 86 выше.
[175] По-видимому, Николай (Орлов) — первый архиерей Великоустюжской обновленческой епархии (1923–1925) (см.: История иерархии Русской Православной Церкви. Комментированные списки иерархов по епископским кафедрам с 862 года. М.: ПСТГУ, 2006. С. 82).
[176] Биографическими данными не располагаем.
[177] Трикирий — трёхсвечник для благословения епископом молящихся.
[178] Тропарь «Свыше пророцы Тя предвозвестиша», посвящённый Божией Матери и приписываемый патриарху Константинопольскому Герману I († 740).
[179] По-видимому, в трапезной части храма или в «зимнем» храме, отделённом внутренними дверями от «летнего».
[180] Вячеславов Николай Матвеевич, священник. Родился в 1887 году в Великом Устюге Вологодской губернии. В 1908 году окончил Вологодскую духовную семинарию. Проживал в деревне Плакуново Сольвычегодского уезда. Служил в Троицкой церкви Устьевдского прихода. Благочинный. 30.12.1920 за совершение крестного хода без разрешения местных органов власти приговорён к одному месяцу принудительных работ без содержания под стражей. По амнистии ВЦИК от 6.11.1920 досрочно освобождён от отбывания наказания. 27.04.1932 арестован по обвинению в «контрреволюционной агитации» как активный участник «контрреволюционной группировки церковников». 2.10.1932 по постановлению Особого совещания коллегии ОГПУ заключён в концлагерь на пять лет. Дальнейшая судьба неизвестна. Реабилитирован 4.08.1989.
[181] Антиминс — необходимый для совершения литургии плат с вшитой в него частицей святых мощей и подписью епископа. Освящённый по особому чину епископом, находится в алтаре на престоле.
[182] Так в оригинале. Должно быть: «мне, как дьякону».
[183] То есть: жители Устьи.
[184] Алексеевская, Девятовская, Ивановская и Андреевская и два торжка — Крещенский и Ильинский. В конце 20-х годов с начало коллективизации частные крестьянские хозяйства разоряются, предприимчивые хозяева из крестьян, бывших торговцев, подвергаются репрессиям. Красноборские ярмарки в том смысле, в котором они существовали веками, исчезают.
[185] Кубенский Иван Парменович, священник. Родился в 1882 году на Лябельском Преображенском погосте Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Сын священника. В 1901 году окончил Вологодскую духовную семинарию. Служил в Преображенской церкви Лябельского прихода. 27.04.1932 арестован за «контрреволюционную агитацию» как участник «контрреволюционной группировки духовенства». 23.09.1932 по постановлению Особого совещания коллегии ОГПУ выслан в Казахстан на три года. Имущество конфисковано. После освобождения проживал в г. Котласе. 2.11.1942 арестован по обвинению в «контрреволюционной агитации» как участник «контрреволюционной группировки церковников». 13.02.1943 по постановлению Особого совещания НКВД СССР заключён в ИТЛ на десять лет. Наказание отбывал в Каргопольлаге. 17.06.1943 умер в местах лишения свободы. 28.03.1957 реабилитирован.
[186] Коряжемский Николаевский монастырь был упразднён в 1920-е годы.
[187] Германскую, или Империалистическую.
[188] Имеются в виду боевые действия на Северной Двине во время интервенции (1918–1919).
[189] В Архангельске 2 августа 1918 года с помощью эскадры из 17 военных кораблей произошла высадка девятитысячного отряда Антанты; в городе к тому моменту советская власть уже была свергнута в ходе переворота, организованного состоявшим на британской военной службе капитаном второго ранга Г. Е. Чаплиным (1886–1950), который затем командовал всеми морскими и сухопутными вооружёнными силами Верховного управления Северной области, далее воевал на стороне белых до их и своей эвакуации из Архангельска в 1920 году.
[190] См. прим. 165 выше.
[191] Автор имеет в виду «командиров», как именовался командный и начальствующий состав в Красной Армии.
[192] «Вы жертвою пали» («Похоронный марш») — русская революционная песня. Появилась в 80-х годах XIX века. Слова принадлежат поэту А. Архангельскому (наст. имя Амосов Антон Александрович; ум. после 1893 года). Особенно популярна была в начале XX века и после Февральской революции 1917 года. В цитате маленькая неточность, должно быть: «…в борьбе роковой / Любви беззаветной…».
[193] Дзарахохов Хаджи-Мурат Уариевич (1874/5–1945) в Гражданскую войну командовал кавказским кавалерийским отрядом, в частности, в боях против англо-американских интервентов под Архангельском, провёл ряд дерзких рейдов по тылам врага.
[194] То есть: соответственно три и два.
[195] Бродни — мягкие резиновые (ранее кожаные, юфтевые из цельного куска) сапоги с очень длинными, закрывающими бёдра голенищами. Предназначены для хождения по болоту, воде и т. п. Используются рыбаками, охотниками и др. Обычно прицепляются помочами к поясу.
[196] См. прим. 32 выше.
[197] Автор забыл приплюсовать 50 копеек.
[198] Тарабукин Леонид Степанович, протоиерей. Родился 14.04.1878 в деревне Ляховская Черевковской волости Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Окончил Вологодскую духовную семинарию, в 1912 – Санкт-Петербургскую духовную академию, кандидат богословия второго разряда. До 1921 проживал в городе Великий Устюг Вологодской губернии, был настоятелем Успенского кафедрального собора Великого Устюга, преподавал в гимназии. Служил в церквах деревни Ляхово Устьевдского Троицкого погоста Архангельской епархии. 2.04.1933 арестован по обвинению в «контрреволюционной агитации». 25.06.1933 постановлением тройки ПП ОГПУ выслан на три года в область Коми. После освобождения возвратился в свой приход. Оказывал материальную помощь ссыльному духовенству и монашествующим. 21.09.1937 арестован по обвинению в «контрреволюционной агитации». 13.10.1937 по постановлению тройки УНКВД заключён в ИТЛ на десять лет. Дальнейшая судьба неизвестна. 14.09.1989 реабилитирован.
[199] Понятие «прописка» впервые введено Постановлением СНК РСФСР от 28 апреля 1925 года «О прописке граждан в городских поселениях» и конкретизировано в Постановлении ВЦИК и СНК СССР от 18 декабря 1927 года.
[200] Конкретизировать, каким документом, не удалось.
[201] Декрет «Об охране пчеловодства» был подписан предсовнаркома РСФСР В. И. Лениным (1870–1924) ещё в 1919 году. Под указом правительства имеется в виду Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 31 марта 1936 года.
[202] Черва — личинки пчёл.
[203] Светлосановой.
[204] Коржавин.
[206] «Головокружение от успехов. К вопросам колхозного движения» — статья Генерального секретаря ЦК ВКП (б) И. В. Сталина (1879–1953) в газете «Правда» (№ 60 от 2 марта 1930 года).
[207] Юрьев Фёдор Дмитриевич (1878–15.08.1938). Участник русско-японской войны 1904–1905 годов. Минно-машинный квартирмейстер 1-й статьи миноносца (эсминца) «Стерегущий» Квантунского флотского экипажа. В 1918 году, во время гражданской войны на Северной Двине, возглавлял Алексеевский волостной исполком. Позднее был одним из организаторов коммуны «На перевале» в Красноборске, затем трудился пчеловодом в колхозе «Строитель социализма» (см. также: Кудрин Н. М. Поклон предкам. http://v-ustug.ru/books/PP/17.html и «Знамя» от 27.02.2004).
[208] Сведениями о нём не располагаем.
[209] Предположительно летом 1930 года, когда распалось подавляющее большинство коммун.
[210] Конкретизировать документ не удалось.
[211] Омшаник — утеплённое помещение для зимовки пчёл.
[212] Триер — сельскохозяйственная машина для разделения зерна и примесей, отличающихся от зёрен по длине.
[213] Постановлением тройки УНКВД по Архангельской области от 5.01.1938 И. С. Карпов за «контрреволюционные преступления» был заключён в ИТЛ сроком на десять лет (см.: За веру Христову: Духовенство, монашествующие и миряне Русской Православной Церкви, репрессированные в Северном крае (1918–1951). Биографический справочник / сост. С. В. Суворова. Архангельск, 2006. С. 216).
[214] Лаготделение «Пукса» входило в состав Онежского исправительно-трудового лагеря (Онеглаг), сформированного 5.02.1938 (приказ НКВД № 020 от 5.02.1938).
[215] Ошибка памяти мемуариста. Заключённые Онеглага не работали на строительстве железнодорожной магистрали Коноша — Котлас, они занимались строительством Мехреньгской лесовозной железной дороги (Пукса — Пуксоозеро — Квандозеро), а с сентября 1938 года — целлюлозного завода на Пуксоозере.
[216] Вышинский Андрей Януарьевич (1883–1954) — Прокурор РСФСР, а затем СССР (1931–1939), один из организаторов и активных пособников сталинского политического террора.
[217] Попов Александр Александрович, священник. Родился 28.06.1890 в деревне Погост Вологодской губернии. Сын священника. Окончил Вологодскую духовную семинарию. С 1915 диакон. С 1917 священник Воскресенской церкви Пермогорского прихода Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. 12.02.1930 арестован по обвинению в «контрреволюционной агитации». Препятствовал закрытию церкви. 3.10.1930 заключён в концлагерь на три года. После освобождения возвратился в свой приход. Крестил детей, исповедовал на дому. Проживал в деревне Придворные Места Красноборского района Архангельской области. Совершал тайные богослужения в своём доме. 13.03.1937 арестован по обвинению в «контрреволюционной агитации». 14.07.1937 по приговору Северного краевого суда заключён в ИТЛ на шесть лет с поражением в правах на пять лет. Отбывал наказание в Приводинской ИТК Котласского района Архангельской области. 16.12.1937 постановлением особой тройки УНКВД приговорён к расстрелу. 25.02.1938 расстрелян. 13.03.1992 реабилитирован.
[218] См. прим. 180 выше.
[219] Данными не располагаем.
[220] Данными не располагаем.
[221] См. прим. 101 выше.
[222] Кириков Николай Иванович, протоиерей (1880–1965). Родился в селе Никольское Вологодской губернии. Сын священника. Окончил духовную семинарию. В 1903 рукоположен в иереи. В течение 30-ти лет служил священником при сельской церкви. Лишался избирательных прав за принадлежность к духовенству. Проживал в селе Черевково Красноборского района Архангельской области. В 1930, 1933 кратковременно содержался под стражей за «контрреволюционную агитацию». После закрытия приходского храма совершал тайные богослужения в своём доме. 27.09.1937 арестован по обвинению в «контрреволюционной агитации». 14.10.1937 по постановлению тройки УНКВД заключён в ИТЛ на десять лет. После освобождения вернулся в село Черевково. Реабилитирован 9.10.1963.
[223] Бёрдо — приспособление для ручного ткачества, род гребня.
[224] «Олька» на Русском Севере — уменьшительное от Александр.
[225] Постановление ЦИК и СНК СССР «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности» было принято 7 августа 1932 года. Это Постановление предусматривало новые жёсткие меры наказания для лиц, совершающих кражу государственного имущества. Главный удар был нанесён по крестьянам и колхозникам, голодающим и лишённым собственного хозяйства в самый разгар коллективизации. Несколько срезанных колосков с колхозного поля карались расстрелом или сроком не менее десяти лет тюрьмы/трудовых лагерей с полной конфискацией имущества. Осуждённые по этому закону не подлежали амнистии.
[226] Призывников и резервистов, мобилизованных в Красную армию из Эстонии, сначала на фронт не отправляли, их определяли в тыл в рабочие подразделения. Больше всего эстонцев насчитывалось в рабочих подразделениях Архангельского и Уральского военного округа, где их разделили на строительные батальоны и трудовые колонны численностью до тысячи человек. Использовались они преимущественно на строительных и лесных работах.
[227] Постановлением СНК СССР от 12.02.42 Главному управлению лагерей железнодорожного строительства переданы восемь совхозов, в том числе совхоз «Черевковский» (см.: Справочник «Система исправительно-трудовых лагерей СССР» / сост. М. Б. Смирнов. М., 1998).
[228] Перга — цветочная пыльца растений, собранная пчёлами, уложенная и утрамбованная в ячейки сотов и залитая ими мёдом.
[229] Имеется в виду денежная реформа 1947 года.
[230] См. прим. 80 выше.
[231] Ср.: Только в Боге успокаивается душа моя (Пс.61:2).
[232] Печатается по: Архив семьи Трубачёвых (Москва, Сергиев Посад). Публикация и подготовка текста Владимира Щипина. Сохранены авторский стиль и некоторые особенности правописания, пунктуация приближена к современной.
[233] Сочинение Максима Созонтовича Березовского (1745–1777). «Нынешние любители музыки хорошо знают этот концерт Березовского. Близость “Не отвержи мене во время старости” нашему современному музыкальному и эстетическому восприятию поразительна. Он современен в буквальном смысле этого слова, хотя бы по силе эмоционального воздействия. Я не встречал ещё человека, даже считающего себя некомпетентным в области музыки или не обладающего слухом, который бы с первых же тактов не испытал потрясения от соприкосновения с этим поистине великим творением. Проникновенное произведение — исповедь человека, для которого одиночество — непосильное, неизъяснимое бремя, а старость, угасание творческих возможностей, прекращение насыщенной событиями и борениями жизни — ужасная мука, как бы прижизненная смерть…» (см.: Ковалёв К. Болонский академик по прозвищу «Русский» М. С. Березовский. Цит. по: http://www.kkovalev/Berezovsky.htm).
[234] Имеется в виду Октябрьская революция 1917 года.
[235] Спасский О. В. — муж тётки С. З. Трубачёва, Натальи Васильевны. См. также прим. 102 выше.
[236] Бывший регент кафедрального Свято-Троицкого собора г. Архангельска Павел Нуромский.
[237] Бортнянский Дмитрий Степанович (1751–1825) — русский композитор и дирижёр. Один из первых основателей классической российской музыкальной традиции. Выдающийся мастер хоровой духовной музыки.
[238] Ломакин Гавриил Якимович (1812–1885) — русский церковный композитор, хоровой дирижёр и музыкальный деятель.
[239] Ведель Артемий Лукьянович (1770–1808) — русский церковный композитор и певец (тенор).
[240] Архангельский Александр Андреевич (1846–1924) — русский церковный композитор, хоровой дирижёр, педагог.
[241] Турчанинов Пётр Иванович, протоиерей (1779–1856) — русский церковный композитор, ученик Дж. Сарти и А. Л. Веделя. С 1804 регент митрополичьего хора в Санкт-Петербурге, с 1827 преподаватель Придворной певческой капеллы. В основе многих его сочинений — гармонизация древних распевов.
[242] Соколов Николай Александрович (1859–1922) — русский церковный композитор, музыковед.
[243] Дегтярёв Степан Аникиевич (1766–1813) — русский церковный композитор.
[244] Чайковский Пётр Ильич (1840–1893) — русский композитор, дирижёр, музыкально-общественный деятель. «По поводу одного из лучших концертов — 32-го, называемого “Скажи мне, Господи, кончину мою”, — Чайковский не преминул выразить восторг и назвать его “положительно прекрасным”» (см.: Ковалёв К. Бортнянский (ЖЗЛ). Гл. 8. Цит. по: http://www.kkovalev.ru/Kovalev-Bortniansky-text.htm).
[245] Трубачёв Зосима Васильевич (1893–1938), протоиерей, священномученик.
[246] Никон (Рождественский Николай Иванович; 1851–1918/9) — 1907 — епископ Вологодский и Тотемский, член Государственного Совета; 1912 – также член Св. Синода; 1913 – архиепископ.
[247] В 1912 году Зосима Васильевич Трубачёв ещё учился в Вологодской духовной семинарии, которую закончил «по первому разряду с награждением книгой» в 1914 году. См.: Об отце, протоиерее Зосиме Васильевиче Трубачёве // Сергий Трубачёв, диакон. Избранное. Статьи и исследования. М., 2005. С. 15; а также «Списки выпускников духовных семинарий» на сайте http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/vologdasem.html.
[248] Попова З. В. — двоюродная сестра по матери Зосимы Васильевича Трубачёва.
[249] Рахманинов Сергей Васильевич (1873–1943) — русский композитор, пианист-виртуоз и дирижёр.
[250] Чесноков Павел Григорьевич (1877–1944) — русский церковный композитор, хоровой дирижёр, педагог.
[251] Кастальский Александр Дмитриевич (1856–1926) — русский церковный композитор, хоровой дирижёр, музыковед.
[252] В Соловецком архипелаге две Муксалмы (Большая и Малая) и два Заяцких острова (Большой и Малый).
[253] Соединяющую острова Большой Соловецкий и Большая Муксалма.
[254] Речь идёт о колоколе «Благовестник». Он был отлит в 1860 году по личной инициативе императора Александра II как дар Соловецкому монастырю, насельники которого отличились при осаде его англичанами в Крымскую войну (см. выше глава 2, а также: Духин И. Соловецкий колокол «Благовестник» — памятник русской воинской доблести // Русский дом. М., 1999, май).
[255] В своих воспоминаниях И. С. Карпов посвящает этому много страниц (см. выше главы 1, 3, 5, 9 и другие).
[256] Восьмигласник (правильнее — Осмогласник), или Октоих — богослужебная книга, содержащая песнопения вечерни, утрени и некоторых других служб суточного круга, разделённые по способу их исполнения на восемь гласов (мелодий).
[257] См. прим. 23 выше, глава 1.
[258] См. прим. 63 выше, глава 2.
[259] См. прим. 66 выше, глава 2.
[260] См. прим. 67 выше, глава 2.
[261] В это время у И. С. Карпова был магнитофон «Яуза-5», но не было проигрывателя. Поэтому он перезаписывал музыку с грампластинок на свой магнитофон через микрофон (!), проигрывая присланные грампластинки на радиолах соседей.
[262] Сочинение Д. С. Бортнянского.
[263] В оригинале: прогнает.
[264] Алексий I (Симанский Сергей Владимирович; 1877–1970) — Патриарх Московский и всея Руси (с 1945 года).
[265] Флавиан (Слесарев Феофилакт Феофилактович; 1879–1960) — с 1952 года предстоятель Древлеправославной Церкви Христовой старообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию, с титулом архиепископа Московского и всея Руси.
[266] Вероятно, в этой фразе содержатся две прерванные мысли: 1) предложение прислать календарь и (вместо «или») 2) вопрос (по тексту в окончании).
[267] Иван Степанович упоминает ещё «Милость мира» В. Ф. Старорусского (о нём см. прим. 110 выше, глава 4).
[268] То есть: обнаружили, проявили.
[269] Государственный академический русский хор СССР, созданный в 1936 году хоровым дирижёром и педагогом Александром Васильевичем Свешниковым (1890–1980).
[270] См. прим. 236 выше, к письму № 1.
[271] Романс М. И. Глинки на стихотворение М. Ю. Лермонтова «Молитва».
[272] Трио «Покаяния отверзи ми двери».
[273] См. прим. 115 выше, глава 4.
[274] Сарти Джузеппе (1729–1802) — итальянский композитор, дирижёр и педагог, некогда широко известный в России.
[275] В 1970 году, к которому относится данное письмо, Архангельскую и Холмогорскую епархию возглавлял архиепископ Никон II (Фомичёв Николай Васильевич; 1910–1995) (на кафедре с 1966 по 1977 год) (см.: История иерархии Русской Православной Церкви. Комментрированные списки иерархов по епископским кафедрам с 862 года. М.: ПСТГУ, 2006. С. 31).
[276] Имеется в виду «Журнал Московской Патриархии», официальное издание Русской Православной Церкви.
[277] Неточность, имеется в виду Конференция последователей всех религий в СССР «За сотрудничество и мир между народами», проходившая в Троице-Сергиевой лавре 1–4 июля 1969 года.
[278] Иван Степанович имеет в виду хрущёвские гонения на Церковь.
[279] Автор не установлен. Текст — кондак заупокойных последований.
[280] Автор не установлен. Текст — стихира 6-го гласа на «Слава» в чине погребения.
[281] Автор не установлен. Текст — стихира 6-го гласа на «И ныне» в чине погребения.
[282] Мильтон Джон (1608–1674) — английский поэт (наиболее известны его эпические поэмы «Потерянный рай» и «Возвращённый рай»), автор политических памфлетов и религиозных трактатов, политический деятель и мыслитель. Французский иллюстратор и живописец Поль Гюстав Доре (1832–1883) широко известен иллюстрациями к Библии, к произведениям Данте, Мильтона, Сервантеса и других авторов. Вероятно, И. С. Карпов имеет в виду популярный в то время перевод поэм Мильтона, выполненный А. Шульговской (СПб., издательство А. Ф. Маркса, 1895).
[283] Опера «Борис Годунов» написана Модестом Петровичем Мусоргским (1839–1881) по одноимённой трагедии А. С. Пушкина.
[284] Шаляпин Фёдор Иванович (1873–1938) — русский оперный певец (высокий бас).
[285] Рейзен Марк Осипович (1895–1992) — русский оперный певец (бас).
[286] Моцарт Вольфганг Амадей (1756–1791) — австрийский композитор и исполнитель-виртуоз.
[287] То есть: «Литургия святого Иоанна Златоуста».
[288] То есть: «Всенощное бдение».
[289] Слова П. И. Чайковского.
[290] Переложение старинной славянской мелодии, слова — вольный перевод П. И. Чайковского с чешского (см.: статья Л. З. Корабельниковой и М. П. Рахмановой в 63-м томе Полного собрания сочинений Чайковского (М.: Музыка, 1990)).
[291] Имеется в виду кантата «Иоанн Дамаскин» Сергея Ивановича Танеева (1856–1915) на текст из одноимённой поэмы Алексея Константиновича Толстого (1817–1875). В оригинале: «Прими усопшего раба / в Твои небесные (у Танеева — блаженные) селенья».
[292] Бахметев Николай Иванович (1807–1891) — автор духовномузыкальных сочинений, 1861–1883 — директор Придворной певческой капеллы.
[293] Орлов Василий Михайлович (1858–1901) — регент, композитор, собиратель народных песен.
[294] Собинов Леонид Витальевич (1872–1934) — русский оперный певец (лирический тенор).
[295] Так в оригинале. И. С. Карпов прочёл итальянское a cappella на русский манер — как фамилию.
[296] См. прим. 290 выше, к письму № 10.
[297] Имеется в виду романс П. И. Чайковского «Что смолкнул веселия глас» на слова А. С. Пушкина («Вакхическая песня»).
[298] Опера П. И. Чайковского по одноимённому роману в стихах А. С. Пушкина.
[299] См. прим. 283 выше, к письму № 9.
[300] Опера Антона Григорьевича Рубинштейна (1829–1894) по одноимённой поэме М. Ю. Лермонтова.
[301] Опера М. И. Глинки по одноимённой поэме А. С. Пушкина.
[302] И. С. Карпов слушал в исполнении Марка Рейзена романс А. С. Даргомыжского (1813–1869) на слова А. С. Пушкина «Мельник», где есть такие строки: «Возвратился ночью мельник… / Жёнка! Что за сапоги? / Ах ты, пьяница, бездельник! / Где ты видишь сапоги? / Иль мутит тебя лукавый? / Это вёдра! Вёдра? Право? / Вот уж сорок лет живу, / Ни во сне, ни наяву / Не видал до этих пор / Я на вёдрах медных шпор!»
[303] По линиям, обозначающим на шкале радиоприёмника частоты.
[304] Опера украинского композитора Семёна Степановича Гулака-Артемовского (1813–1873).
[305] Расстояние между сёлами 40 километров.
[306] Должно быть: контральто.
[307] Возможно, имеется в виду сочинение С. А. Дегтярёва.
[308] Возможно, имеется в виду сочинение П. И. Турчанинова.
[309] Задостойник — песнопение Божественной литургии, исполняемое в определённых уставом случаях вместо «Достойно есть».
[310] Упоминается также концерт С. А. Дегтярёва (см. выше, главы 4, 9).
[311] Сочинение Дж. Сарти.
[312] Строкин Михаил Порфирьевич (1832–1887) — русский церковный композитор.
[313] Гречанинов Александр Тихонович (1864–1956) — русский композитор и дирижёр, известен хоровыми произведениями и обработками народных песен.
[314] Сибиряков Лев Михайлович (1860/1870–1938) — русский оперный певец (высокий бас), педагог.
[315] Нежданова Антонина Васильевна (1873–1950) — русская оперная певица (лирико-колоратурное сопрано).
[316] Пирогов Александр Степанович (1899–1964) — русский оперный певец (бас).
[317] Очень громко (ит.).
[318] Сцена из оперы «Борис Годунов».
[319] Имеется в виду трио А. Л. Веделя «Покаяния отверзи ми двери».
[320] См. прим. 316 выше, к письму № 14.
[321] Сын Сергея Зосимовича Александр (ныне насельник Троице-Сергиевой лавры игумен Андроник).
[322] Бах Иоганн Себастьян (1685–1750) — немецкий композитор и органист-виртуоз.
[323] Верди Джузеппе (1813–1901) — итальянский оперный композитор.
[324] См. прим. 318 выше, к письму № 16.
[325] Кабалевский Дмитрий Борисович (1904–1987) — композитор, дирижёр и педагог. Имеется в виду его «Реквием» на слова поэта Роберта Рождественского (1932–1994).
[326] Равель Жозеф Морис (1875–1937) — французский композитор-импрессионист и дирижёр.
[327] Точнее: «Разбойника благоразумного» (сочинение А. Веделя).
[328] И. С. Карпов употребляет слово «палестра» (школа физического воспитания для мальчиков в древних Афинах) в ироническом смысле, что следует из его слов чуть ниже.
[330] Подчёркнуто автором письма.
[331] Пояснение в скобках принадлежит автору письма.
[332] «Маска и душа. Мои сорок лет на театрах» (Париж, 1932).
[333] Далее цитируется трагедия А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери», которую автор письма называет ниже, в связи со следующим отрывком.
[334] Пояснение в скобках принадлежит автору письма.
[335] Сальери Антонио (1750–1825) — итальянский и австрийский композитор, дирижёр и педагог (среди его учеников — Бетховен, Шуберт, Лист, Мейербер). Циркулировавшие долгие десятилетия слухи об отравлении им Моцарта исходили от недоброжелателей Сальери.
[336] Либретто написано самим композитором. См. также прим. 283 выше, к письму № 9.
[337] Точнее: «Гавриилиада». В поздние свои годы сам Пушкин не любил упоминаний об этой поэме.
[338] Из тропаря празднику Благовещения Пресвятой Девы Марии.
[339] Намёк на его уход из Ясной Поляны и смерть на станции Астапово 7 (20) ноября 1910 года.
[340] Здесь и далее И. С. Карпов близко к тексту передаёт слова Л. Н. Толстого из предисловия к его «Евангелию».
[341] См. прим. 277 выше, к письму № 6.
[342] Борис (Скворцов Борис Гаврилович; 1895–1972) — епископ Рязанский и Касимовский.
[343] Слова из заключительного прошения ряда ектений.
[344] В письмо вложено пять чёрно-белых фотографий: две — Пермогорская Георгиевская церковь, размером 9 х 12 см; одна — ворота Соловецкого монастыря размером 9 х 15 см; одна — общий вид Соловецкого монастыря, размером 9 х 12 см; одна — монастырская колокольня, размером 9 х 12 см.
[345] См. прим. 48 выше, глава 2.
[346] См. прим. 277 выше, к письму № 6.
[347] Либретто оперы «Демон» написано Павлом Александровичем Висковатовым (1842–1905), известным в своё время историком литературы, биографом и исследователем творчества М. Ю. Лермонтова.
[348] См. прим. 283 выше, к письму № 9.
[349] См. прим. 337 выше, к письму № 24.
[350] Вольтер (Аруэ Франсуа Мари; 1694–1774) — философ-просветитель XVIII века, историк, писатель, публицист и правозащитник.
[351] Солоухин Владимир Алексеевич (1924–1997) — русский прозаик и поэт.
[352] Рафаэль Санти (1483–1520) — итальянский живописец, график и архитектор.
[353] Андрей Рублёв (1375/80–1428) – русский иконописец, прославлен в лике преподобных.
[354] Стихотворение «Сказка».
[355] Об этой истории см., например: Показание [Александра Пушкина] по делу о «Гавриилиаде» от 19 августа 1828 года; Лотман Ю. М. Дело о «Гаврилиаде», Гурьянов В. П. Письмо Пушкина о «Гавриилиаде».
[356] Конкретизировать не удалось.
[357] Упоминается также ниже, в письме № 32.
[358] Крылатое выражение «страха ради иудейска» (книжн., устар.) употребляется в значении «из-за страха перед властями / сильными», «из страха за свою безопасность». Восходит к Ин.19:38 (моли Пилата Иосиф, иже от Аримафеа, сый ученик Иисусов, потаен же страха ради иудейска, да возьмет тело Иисусово).
[359] Журнал «Отдых христианина» издавался в Санкт-Петербурге — Петрограде с 1901 по 1917 год поначалу как духовно-назидательный, затем как литературный, популярно-богословский и церковно-общественный; отражал различные аспекты религиозно-философской мысли, имел многочисленные приложения.
[360] Издавался в Санкт-Петербурге в 1909֪–1916 годах.
[361] Иллюстрированный журнал для семейного чтения «Воскресный день» издавался в Москве в 1887–1917. Имел ряд приложений.
[362] Имеются в виду цитировавшиеся в полученном от С. З. Трубачёва письме (в нашем издании №27, см. выше) стихотворения А. С. Пушкина «Отцы пустынники и жёны непорочны…» и В. А. Солоухина «Сказка».
[363] То есть концерт на встречу невесты, исполняемый перед началом венчания. Автор не установлен.
[364] Речь идёт о дочерях И. С. Карпова Галине, которая на тот момент жила в Архангельске, и Екатерине, проживавшей в Котласе.
[365] Строка из стихотворения «Вино» («Быстры, как волны, дни нашей жизни…», начало 1830-х) студента-медика А. П. Сребрянского. Исполнялось как песня в многочисленных переложениях.
[366] В письмо вложено три чёрно-белых фотографии: две — колокола Соловецкого монастыря, размером 9 х 12 см; одна — Никольская башня (северная) Соловецкого кремля, вырезанная по контуру башни, 5 х 7 см.
[367] См. прим. 254 выше, к письму № 2.
[369] См. выше, письмо № 2.
[370] О каком издании идёт речь, установить не удалось.
[371] Сведениями о данном лице редакция не располагает.
[372] Правильно: паровые фрегаты «Миранда и «Бриск». См. прим. 74 выше, глава 2.
[373] И. С. Карпов приехал на Соловки в возрасте 14-ти лет весной 1902 года, а уехал оттуда через два года — с открытием навигации 1904 года.
[374] Подобны, или самоподобны — песнопения (здесь — стихиры), служащие ритмически-мелодическим образцом для ряда других и обозначаемые по начальным словам текста.
[375] Правильно: «Егда от древа Тя мертва, Аримафей снят…»
[376] Правильно: «Дал еси знамение боящимся Тебе, Господи…»
[377] Правильно: «Радуйся, Живоносный Кресте, благочестия непобедимая победо, дверь райская, верных утверждение…»
[378] Правильно: «Всехвальнии…»
[379] Правильно: «О, преславнаго чудесе! Живоносный сад, Крест всечестный, на высоту возносимь, является днесь».
[380] «Обиход» («Обиход церковного пения») — собрание важнейших и чаще других употребляемых православных церковных песнопений.
[381] Крюк — старинный церковный нотный знак.
[382] Имеется в виду проигрывание пластинки с этими звонами.
[383] См. также выше, глава 4.
[384] Упоминавшаяся выше.
[385] То есть: в Псково-Печорском Свято-Успенском монастыре.
[386] См. прим. 291 выше, к письму № 11.
[387] Хоровой дирижёр, музыкальный и общественный деятель, педагог Александр Александрович Юрлов (1927–1973) с 1958 года был художественным руководителем и главным дирижёром Республиканской академической русской хоровой капеллы (с 1973 – его имени).
[388] Перголези Джованни Баттиста (1710–1736) — итальянский композитор, скрипач и органист.
[389] Всемирная выставка Экспо-70 проходила с 15 марта по 13 сентября 1970 года в японском городе Осака.
[390] Иоанн IV Васильевич (Иван Грозный; 1530–1584) — первый царь всея Руси из династии Рюриковичей (с 1547, кроме 1575–1576).
[391] Филипп II (Колычёв Фёдор Степанович; 1507–1569) – митрополит Московский и всея Руси с 1566 по 1568 год, известный своим обличением опричного террора во времена Ивана Грозного.
[392] См. прим. 54 выше, глава 2.
[393] Трифоно-Печенгский монастырь был сожжён шведами 25 декабря 1590 года, то есть в царствование сына Иоанна IV Феодора Иоанновича (1584–1598).
[394] Имеется в виду двухдневная осада монастыря англичанами во время Крымской войны (см. также прим. 74 выше, глава 2, и письмо № 2).
[395] Свято-Троицкий собор был построен только в 1859 году. Ядро ударило в икону над входом в Преображенский собор.
[396] Преполовение Пятидесятницы — переходящий праздник, отмечаемый через 25 дней после Пасхи.
[397] Тропарь праздника Богоявления.
[398] Тропарь Кресту Господню.
[399] Пётр Великий побывал на Соловках дважды. В 1694 году он совершил второй поход по Белому морю: спустил на воду строившийся на Соломбале (Архангельск) корабль «Апостол Павел» и на яхте «Святой Пётр» сходил к Соловецкому монастырю, попал в тяжелейшую бурю и потерпел кораблекрушение поблизости от Пертоминского монастыря. Второй визит Петра на Соловки связан с началом активных военных действий России по захвату региона Балтийского моря. В 1702 году на Вавчуге Пётр спустил на воду два боевых фрегата, названных им «Святой Дух» и «Курьер», заложил новый фрегат «Святой Илия».
[400] В Успенском (Адмиралтейском) храме Воронежа, куда русский царь, а затем император всероссийский приезжал (неоднократно с 1696 по 1722 год) в связи со строительством кораблей российского регулярного флота.
[401] См. прим. 332 выше, к письму № 23.
[402] Последняя фраза в книге выглядит так: «Выше высочество, дюжина эта очень легко восстановится, если к исчезнувшему стакану присоединятся другие одиннадцать».
[403] Имеется в виду одноимённая повесть Николая Васильевича Гоголя (1809–1852) из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки».
[404] То есть: исполнявшийся во время венчания.
[405] Вероятно, концерт А. А. Архангельского.
[406] Вероятно, С. З. Трубачёв имеет в виду изд.: Фёдоров П. Ф. Соловки. Кронштадт, 1889.
[407] Пирогов Н. И. Посмертные записки // Русская старина. 1884, декабрь. С. 467–468.
[408] Юргенсон Пётр Иванович (1836–1903/4) — русский музыкальный издатель.
[409] Фет Афанасий Афанасьевич (Шеншин; 1820–1892) — русский поэт-лирик, мемуарист.
[410] В следующем, 1971-м, году И. С. Карпов получил от своих пчёл 100,5 кг мёда. См.: Ясман А. Хозяйственные записи семьи Карповых. Музей пермогорской школы. Пермогорье, 2008. Рукопись.
[411] Михаил Феодорович (1596–1645) — первый русский царь из династии Романовых, был избран на царствование Земским собором 21 февраля (3 марта) 1613 года, правил с 24 марта того же года.
[412] Пётр Черевковский, приходской священник Никольской церкви села Черевково в конце XVI и в начале XVII века; местночтимый святой мученик и чудотворец.
[413] На самом деле память иерея Петра Черевковского отмечается 9/22 июля.
[414] Имеется в виду брошюра Верюжского И. П. «Историческое сказание о жизни иерея Петра Черевского». М., 1914.
[415] На месте часовни ничего не строилось. Но в ней действительно сначала размещалась контора «Заготпушнины», а затем школьный краеведческий музей.
[416] В Киево-Печерскую и Почаево-Успенскую лавры.
[418] Священник Григорий Токов.
[420] Священник Василий Алышев родился в 1932 году. Прибыл из Котласа на пастырское служение в Красноборск 1 августа 1955 года, сменив на должности иеромонаха отца Модеста. Служил до 20 января 1958 года.
[421] Михаил (Мудьюгин Михаил Николаевич; 1912–2000) — православный богослов; в 1968–1979 годах — епископ Астраханский и Енотаевский, с 1979 года — архиепископ Вологодский и Великоустюжский.
[422] Данными о нём не располагаем.
[423] Ср.: Пс.138:7–10.
[425] См. прим. 265 выше, к письму № 3.
[426] См. прим. 276 и 277 выше, к письму № 6.
[427] И. С. Карпов имеет в виду войну во Вьетнаме.
[428] Автор не установлен. Текст — тропарь Пасхи.
[429] Автор не установлен. Текст — воскресная песнь по Евангелии.
[430] Автор не установлен. Текст — припев на 9-й песни канона Пасхи.
[431] Автор не установлен. Текст — по-видимому, ирмос 9-й песни пасхального канона «Светися, светися, Новый Иерусалиме», исполняемый вместе с припевом «Ангел вопияше» как задостойник Пасхи.
[432] Автор не установлен. Текст — ексапостиларий Пасхи.
[433] См. также выше, глава 7.
[434] Могилевский Б. Жизнь Пирогова. Повесть о великом хирурге и педагоге. М. — Л. (или Ростов-на-Дону), 1953.
[435] Имеются в виду стихотворение А. С. Пушкина «Дар напрасный, дар случайный, / Жизнь, зачем ты мне дана?» и стихотворное возражение на него святителя Филарета Московского («Не напрасно, не случайно / Жизнь от Бога нам дана»).
[436] Отец Пётр Халюто. См. ниже, письмо № 48.
[437] Священник Сергей Кузнецов служил в красноборской Спасской церкви с ноября 1967 по декабрь 1963 года.
[438] Точнее: «Слово к жившим вместе с девственницами» и «Слово к девственницам, жившим вместе с мужчинами» соответственно.
[439] См. прим. 282 выше, письмо № 7.
[440] И. С. Карпов пересказывает содержание письма Ленина, напечатанного в «Правде» в апреле 1921 года, где есть такие слова: «ни в коем случае не допускать каких-либо выступлений, оскорбляющих религиозное чувство массы населения».
[441] По поводу федосеевцев и филипповцев см. прим. 539 и 540, к «Беседе со старообрядцами…». Аристовы — у И. С. Карпова последователи Василия Козмича Аристова (Арестова, 1763–1819) — петербургского купца, основателя федосеевского старообрядческого толка аристовщины.
[442] См. ниже, «Беседа со старообрядцами…».
[443] Начётчик — мирянин, допущенный к чтению богослужебных текстов в церкви или в мирских домах.
[444] Патриархом Московским и всея Руси Алексием I.
[445] По поводу стихотворений Пушкина и Филарета см. прим. 435 выше, к письму № 39. Вероятно, вместо «Погодина» должно быть «Тютчева» (см. ниже письмо № 42).
[446] См. прим. 361, 360 выше, к письму №28.
[447] Имеется в виду «Розыск о раскольнической брынской вере».
[448] Аввакум Петров (иначе — Кондратьев Аввакум Петрович; 1620/1–1682) – протопоп города Юрьевца-Повольского, противник богослужебной реформы патриарха Никона XVII века, духовный писатель. Предположительно автор «Жития протопопа Аввакума» и других сочинений.
[449] Автор близко цитирует пятое послание протопопа Аввакума царю Алексею Михайловичу. См.: Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. Ред. Н. К. Гудзий. Академия. М., 1934. С. 295–296.
[450] Павел (Леднёв Пётр Иванович; 1821–1895), архимандрит — миссионер и духовный писатель, активно обличавший старообрядческий раскол. Имеется в виду издание: Павел (Леднёв), архимандрит. Полное собрание сочинений Никольского единоверческого монастыря настоятеля архимандрита Павла. Т. 1. 1-е посмерт. изд. М.: Братство св. Петра митр., 1897. 631 с.
[451] Должно быть: «нравоучения».
[452] Об этом см. также выше письмо № 39.
[453] См. прим. 282 выше, к письму № 7.
[454] Об этом см. также выше письмо № 36.
[455] Тютчев Фёдор Иванович (1803–1873) — русский поэт, публицист, дипломат.
[456] Сергиев день — празднество в честь обретения мощей преподобного Сергия Радонежского (5/18 июля).
[457] То есть: «Розыск о раскольнической брынской вере».
[458] Тихон Задонский (Соколов Тимофей Савельевич, при рождении Кириллов; 1724–1783) — епископ Воронежский и Елецкий, православный богослов, духовный писатель и просветитель. Канонизирован в лике святителей.
[459] Сковорода Григорий Саввич (1722–1794) — украинский философ, поэт, педагог.
[460] То есть: Четьи Минеи.
[461] Первоначальное «официальное» название — «Жизнь за царя».
[462] Опера автором не окончена; партитура существует в редакциях Н. А. Римского-Корсакова (1883) и Д. Д. Шостаковича (1958).
[463] Речь идёт об опере Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии».
[464] Опера Александра Порфирьевича Бородина (1833–1887), осталась неоконченной; ставится в редакции А. К. Глазунова и Н. А. Римского-Корсакова, завершивших после смерти автора работу над партитурой.
[465] Опера П. И. Чайковского по повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством».
[466] Возможно, имеется в виду книга архимандрита Павла (Леднёва) «Никольского единоверческого монастыря архимандрита Павла беседы о свидетельствах и святоподобиях, приводимых поповцами в защиту их глаголемого священства». М.: Братство св. Петра митр., 1896. 122 с.
[467] Имеется в виду Сергиев день (см. прим. 456 выше, к письму № 43).
[468] Бетховен Людвиг, ван (1770–1827) — немецкий композитор, дирижёр и пианист.
[469] Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906–1975) — советский композитор, пианист и общественный деятель.
[470] Погодин Михаил Петрович (1800–1875) — русский историк, писатель, издатель. Возможно, имеется в виду его статья «За Сусанина», опубликованная в №№ 46 и 47 «Гражданина» за 1873 год.
[471] Финал — «Ода к радости» на текст немецкого поэта Фридриха Шиллера (1759–1805).
[472] Сочинение 1819–1823 года.
[473] По времени создания — предшественница Девятой симфонии.
[474] Юдина М. В. (1899–1970).
[475] Цикл фортепианных пьес.
[476] Для хомового, или раздельноречного, пения характерно добавление гласных между согласными внутри слова и после согласных конечных. Утвердившись на Руси к XVI веку, оно впоследствии утратило свои позиции и сохраняется ныне лишь в клиросной практике некоторых старообрядческих общин.
[477] Мокеев Линард Савватьевич (даты жизни неизвестны), закончил радиотехническое училище, а затем философский факультет Ленинградского государственного университета, работал социологом на одном из оборонных предприятий Ленинграда. Интересовался вопросами религии. Во время пребывания в Пермогорье подолгу беседовал с И. С. Карповым на религиозные темы. См.: Аксеновская Т. И. Воспоминания о Пермогорье и семье Карповых. Рукопись. Пермогорский дом культуры, 2008.
[478] Сказание о подводном граде Китеже излагается в романе «В лесах» (1871–1874) писателя и этнографа Павла Ивановича Мельникова (Мельников-Печерский; Андрей Печерский; 1818–1883). Этот же вариант легенды использован Н. А. Римским-Корсаковым в опере «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии».
[479] См. прим. 436 выше, к письму № 39.
[480] См. выше, глава 7.
[481] Точнее: Филиппова пустынь. О св. Филиппе см. прим. 391 выше, к письму № 32.
[482] Имеется в виду так называемое Соловецкое сидение (1668–1676) — осада правительственными войсками Соловецкого монастыря, насельники которого сопротивлялись церковной реформе патриарха Никона.
[483] Алексей Михайлович (1629–1676) — второй царь из династии Романовых (с 1645 года).
[484] См. прим. 470 выше, к письму № 46.
[485] См. прим. 477 выше, к этому же письму.
[486] См. прим. 448 выше, к письму № 40.
[487] Бату (в русской традиции Батый) (ок. 1209–1255/1256) — монгольский полководец и государственный деятель, внук Чингисхана.
[488] Светлояр — озеро в Нижегородском Заволжье примерно в 100 км к северо-востоку от областного центра и в 1–1,5 км западнее села Владимирское Воскресенского района.
[489] В конце 1960-х – начале 1970-х годов на Светлояре работала общественная комплексная научная экспедиция «Литературной газеты» под руководством Марка Михайловича Баринова (1925–1984).
[490] Пришвин Михаил Михайлович (1873–1954).
[491] Морозов Михаил Михайлович (1897–1952) — литературо- и театровед, один из основателей отечественного шекспироведения.
[492] Неточность. См. прим. 478 выше, к письму № 48.
[493] «Китежский летописец» («Книга, глаголемая Летописец») — поэтико-историческое сказание безымянного старообрядческого автора (наиболее вероятная дата создания 1794 год, в подзаголовке указан 1237-й).
[494] Денисов Семён Денисович (Мышецкий; 1670–1737) — беспоповец-безбрачник из поморского согласия, настоятель Выговской (Выгорецкой) пустыни.
[495] Никитин Иван Саввич (1824–1861) — русский поэт.
[496] Но выше И. С. Карпов говорит о ней как о начётчице (см. прим. 443 выше, к письму № 39).
[497] См. прим. 265 выше, к письму № 3.
[498] См. прим. 487 выше, к письму № 49.
[499] Феврония Муромская (в миру Евфросиния) — супруга муромского князя Давыда (в святом крещении Петра) (кончина святых супругов — апрель 1228 года).
[500] Сам Н. А. Римский-Корсаков называл это своё произведение «литургической оперой».
[501] Шергин Борис Викторович (1893–1973) — русский писатель, фольклорист, публицист и художник.
[502] Далее письма не нумерованы.
[503] Дочь И. С. Карпова.
[504] Чечульник — от чечуля, краюха хлеба, большая часть каравая, пирога. О чечульниках см.: Регов М. Присловья в Олонецкой губернии // Олонецкие губернские ведомости. 1878. № 24. С. 316.
[505] Просфорня — причетчица, выпекающая просфоры.
[506] Принудительное направление крестьян на лесозаготовки началось только после проведения коллективизации, в начале 1930-х годов. См., напр.: Доброноженко Г. Ф. Коллективизация на Севере. 1929–1932. Сыктывкар, 1994. С. 163.
[507] Конкретизировать, каким документом, не удалось.
[508] Сельским жителям стали выдавать паспорта только с 1974 года. Речь идёт о справке, на основании которой в городе выдавался паспорт.
[509] То есть: повышения квалификации.
[510] Слова «паразит», «идиот» густо зачёркнуты зелёной и синей пастой. Синяя — более насыщенного оттенка, чем та, которой написан текст письма, и соответствует цвету текста письма Г. И. Карповой от 29.03.1985, вложенного в тот же конверт. Остальные зачёркнутые слова прочесть не удалось.
[511] Никон (Фомичев; 1910–1995) — с 1966 по 1977 год — епископ Архангельский и Холмогорский, с 1982 по 1984 год — архиепископ Пермский и Соликамский, с 1984 года, после увольнения на покой, жил в своём родном городе, Ленинграде, и продолжал служение.
[512] См. прим. 511 выше.
[513] Исидор (Криченко; род. 1941) — на время написания письма епископ Архангельский и Холмогорский; с 2001 — митрополит Екатеринодарский и Кубанский.
[514] См. прим. 511 выше.
[515] Киричук Анна Николаевна.
[517] См. прим. 515 выше.
[518] Берсье Эжен (1831–1889), французский реформатский пастор и общественный деятель. Его «Беседы» тесно связывают учение Библии с животрепещущими проблемами христианской веры, жизни и мысли. Среди православных читателей пользовались большой популярностью и несколько раз переиздавались.
[519] И. С. Карпов упоминает также работу Фаррара «Жизнь и труды апостола Павла» (прим. 96 выше, глава 3).
[520] Имеется в виду первая часть произведения старообрядческого писателя Фёдора Евфимьевича Мельникова (С. Лавров; 1874–1960) «Яко с нами Бог!» — «Диспут».
[521] См. прим. 515 выше.
[522] См. прим. 515 выше.
[523] См. прим. 513 выше.
[524] См. прим. 102 выше, глава 3, и прим. 235 выше, к письму № 1.
[525] См. прим. 239 выше, к письму № 1.
[526] См. прим. 236 выше, к письму № 1.
[527] См. прим. 233 выше, к письму № 1.
[528] См. прим. 66 выше, глава 2.
[529] Автор концерта не установлен. Текст — стихира на «Господи, воззвах» (Слава) в Неделю сыропустную.
[530] Автор концерта не установлен. Текст — Пс.3:1.
[531] Автор концерта не установлен. Текст — стихира 8-го гласа из чина погребения.
[532] По-видимому, имеется в виду хоровое переложение П. И. Чайковским его же романса «Легенда» («Был у Христа-младенца сад…») на стихи А. Н. Плещеева.
[533] См. прим. 509 выше.
[534] См. прим. 508 выше.
[535] Дата установлена по дате письма Г. И. Карповой, отправленного в том же конверте.
[536] Вероятно, имеется в виду книга известного русского историка Ивана Егоровича Забелина (1820–1908) «Минин и Пожарский. Прямые и кривые в Смутное время».
[537] Публикуется по рукописи, хранящейся в архиве правнучки И. С. Карпова Елены Николаевны Кузнецовой (Самойловой).
[538] Тядимский скит старообрядцев-филипповцев (назывался также «Монастырь») был построен и открыт в 1906 году под руководством черевковской наставницы-филипповки Александры Никитичны Морозовой. Разорён советскими властями и закрыт 5 апреля 1932 года. Трое руководителей-наставников были заключены в концлагерь сроком на три года, 17 старообрядцев высланы в Казахстан также на три года, 12 человек оставлены на месте по старости и болезни (Щипин В. И. Старообрядчество в верхнем течении Северной Двины. М., 2003. С. 27–28; Архив РУ ФСБ по Архангельской области. № П-8192. Дело по обвинению Сиухина Василия Кузьмича и других).
[539] «Филипповское согласие», иначе: старопоморцы-филипповцы — беспоповское согласие в старообрядчестве, возникло в 1737 году в результате раскола Выговской общины поморцев. Основателем согласия стал старец Филипп (в миру Фотий Васильев; 1674–1742). Сами филипповцы называют себя «христиане старопоморского и соловецкого потомства».
[540] «Федосеевцы» — беспоповское направление в русском старообрядцестве.
[541] 20 июня 1901 года священник черевковской Успенской церкви Иоанн Белоруссов совершал крестный ход и молебен на полях деревни Тимошинской Ляховской волости. В этот момент старообрядец Фёдор Андреевич Петров «с колом в руках, ругаясь бранными словами, подбежал к месту совершения молебствия и кричал: “Разобью!” Священник Белоруссов поспешил разоблачиться, чтобы словами увещания остановить кощунника, но Петров, бросив кол, не хотел слушать никаких уговоров и убеждений, а продолжал сопровождать священника и шествующих людей со св. иконами сквернословием и всякой бранью». Власти возбудили уголовное дело, в итоге Ф. Петров 16 декабря 1902 года был осуждён Вологодским окружным судом на шесть месяцев тюремного заключения. См.: Госархив Вологодской обл. Ф. 496. Оп. 1. Д. 17749. Св. 1689. Л. 2–5, 19.
[542] Карпов Афанасий Иванович (1880–?), крестьянин деревни Звягинской. Сосед и старший товарищ И. С. Карпова. После революции, во времена гонений на церковнослужителей, оказывал значительную помощь И. С. Карпову и его семье, не раз предоставлял семейству Карповых кров и пищу.
[543] Начальные слова молитвы Святому Духу.
[544] Начальные слова Символа веры.
[545] См. прим. 16 выше, глава 1.
[546] Соколов Н. А. родился 27.04.1873 в городе Сольвычегодске Вологодской губернии в семье священника. Окончил Вологодскую духовную семинарию. С 1893 — псаломщик одной из церквей в Великом Устюге. В 1903–1906 — помощник епархиального миссионера. В 1906 рукоположен в священники. Служил в сольвычегодской Владимирской церкви вплоть до ареста. 4.02.1920 арестован за «контрреволюционную деятельность». 9.04.1920 освобождён из-под стражи в связи с прекращением дела. В 1924 арестован за «контрреволюционную агитацию», заключён в Соловецкий концлагерь на два года. После освобождения проживал в Сольвычегодске. 25.02.1930 арестован за «контрреволюционную агитацию». 30.04.1930 по постановлению тройки ОГПУ выслан в Северный край на три года. 3.09.1930 выслан в Казахстан. Дальнейшая судьба неизвестна. 16.08.1989 — реабилитирован.
[549] Ср.: «Она [Церковь] сияет светлее солнца» (Иоанн Златоуст, свт. Беседа перед отправлением в ссылку) «Церковь превзошла своим блеском блеск солнца, а её гонители объяты вечным мраком» (Он же. Беседа по возвращении из изгнания).
[550] То есть: во втором члене Символа веры.
[551] Вознесение Господне произошло в 40-й день по Пасхе (см.: Деян.1:9–11), а в день 50-й Господь ниспослал апостолам Святого Духа (Деян.2:1–13).
[552] Ср.: Мф.28:1, 9, 18–19, 20.
[553] Ср.: Ин.20:19, 21–24.
[554] Ср. Деян.1:24, 26.
[558] См.: 1Кор.7:3–6, 9–18, 39–40, 13:8; Кол.3:18–19; Еф.5:22–23; 1Тим.2:15.
[559] То есть: их.
[562] Ср.: Евр.10:28–29.
[564] Печатается по: Государственный архив Архангельской области. Ф. 615. Оп. 3. Д. 150. Л. 26–37 об. Списки лиц, лишённых избирательных прав, и жалобы на неправильное лишение избирательных прав. Публикация и подготовка текста Владимира Щипина. Сохранены авторский стиль и некоторые особенности правописания, пунктуация приближена к современной.
[565] То есть: продавцу.
[566] То есть: научив нотам.
[567] 1 десятина (казённая) примерно равна 2400 кв. саженей, или 1 га.
[568] То есть: договаривался, что будет у него пахарем.
[569] Чухни, чухонцы — петербургское прозвание пригородных финнов (Даль), считавшихся лучшими огородниками в губернии.
[570] РИК — районный исполнительный комитет.
[571] ЕПО — единое потребительское общество.
[572] РПО — районное потребительское общество.
[573] См. прим. 201 выше, глава 8.
[574] То есть: половину земельного надела на душу.
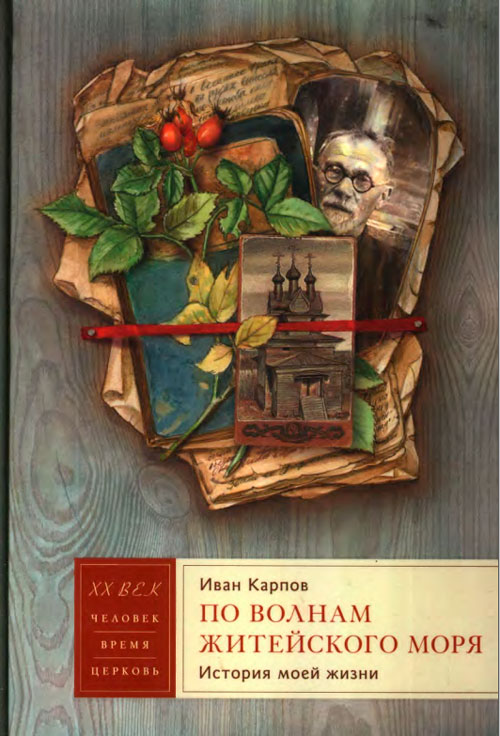
Комментировать