- В теплой тихой долине дома
- Охотник на фазанов
- Званый вечер
- Брат Билла Макги
- Возвращение к гранатовым деревьям
- Пять фрагментов из книги «Не умирать»
- Примечания
Званый вечер
С воды вокруг Манхэттена тянуло скверным запахом, над городом стояла пропитанная испарениями дымка, и было душно, и прогулка не в удовольствие, так что Эндрю Лоринг, одолеваемый ленью мужчина лет за сорок, отказался от первоначального намерения пройтись пешком до дома первой своей жены, куда он зван был сегодня вечером на коктейль. Отказался он от своего намерения как бы непроизвольно — просто-напросто, идя по 57-й улице между 5-й и 6-й авеню, взял да и зашел в один из многочисленных здесь салонов изобразительного искусства. К живописи он не питал особого интереса, просто ясно было, что от прогулки удовольствия никакого и надо, значит, как-то иначе убить время. Ему не хотелось являться раньше других приглашенных, поскольку с первой своей женой он не виделся уже шесть лет. Сегодня она позвонила ему чуть свет, часов около десяти, когда он толком еще не проснулся.
— Энди, — сказала она, — я пригласила сегодня друзей на вечер с коктейлями, и ты непременно должен прийти. Мне все равно, как и насколько ты изменился. Говорят, растолстел? Ну, не беда, я думаю. И вообще я не смотрю, что случилось с людьми на вид, лишь бы все остальное было в порядке. По слухам, твоя последняя книга не удалась, но ведь у всякого писателя есть право на неудачу.
Сначала он всего только смутно предположил, что это, должно быть, Клара Фиппс, но вскоре никаких сомнений у него уже не осталось.
— Боюсь, что оторвала тебя от работы, — продолжала она с извинительной ноткой. — Впрочем, я знаю, ты все равно не оторвешься, так что все прекрасно, работай дальше. Соберется не больше десяти человек, и все они, надеюсь, тебе понравятся. Надо же нам хоть раз в шестилетие встречаться.
Он шумно зевнул, не отводя трубки.
— Что, что, милый? Уж не разбудила ли я тебя? Ну ладно, запиши, пожалуйста. — Она продиктовала адрес. — В любое время начиная с шести, хотя будет куда интереснее, если ты подойдешь чуть раньше, в половине шестого. Ты, видимо, еще не проснулся, так что можешь не отвечать. Я просто кладу трубку и жду тебя вечером.
Он услышал отбой, положил трубку, взял со столика лежавшую поверху книгу и только где-то на девятой-десятой ее странице вспомнил, что ведь прочел ее не дальше как прошлой ночью. Книга называлась «Непогребенный мертвец», и имя автора новое — Ивен Глоссип. Из романа следовало, что непогребенные мертвецы это те люди, которые либо и не начинали еще, либо уже совсем перестали надеяться на то или иное лучшее устройство человеческой жизни, ну а под такой взгляд подходил чуть ли не каждый.
Он отложил эту книгу и взял другую и читал, пока сон не стал одолевать его снова, и, засыпая, он подумал: «Постель — так я назову свою следующую книгу. Постель и только. Просто постель».
Часов около двух его снова разбудил телефонный звонок, и снова он услышал в трубке ее голос.
— Среди гостей никаких писателей, кроме тебя, не будет. Я же помню, — сказала она, — как ты недолюбливаешь их общество. Пусть даже самых лучших. И ты прав, по-моему. Будет Лютер, совсем недолго, но против него, надеюсь, у тебя нет возражений, хотя вскоре, недели через три, у него выходит в свет книга. Я всегда говорила, что не намерена снова выходить замуж, и так и думала действительно, но все-таки вышла. Разумеется, это была ошибка, но, слава Богу, все позади, я рада, что с этим покончено, и если хочешь услышать правду, я рада, что и у тебя наконец с твоей киноактрисой все кончено. Я всегда говорила: если уж у тебя со мною жизнь не сложилась, то ни с кем не сложится. — Она умолкла на мгновение, дожидаясь от него отклика, потом сказала: — Только не говори мне, что ты еще спишь.
— Нет, уже не сплю. Но лучше бы спал.
— Почему же?
— Рискую показаться скучным, — произнес он медленно, — но я пришел к заключению, что лучше спать, чем вставать и передвигаться и что-то делать без какой-либо основательной и разумной причины.
— Но у всякого есть и не могут не быть вполне основательные причины вставать и что-то делать, — сказала первая его жена. — Ты располнел, ну и пускай. Против некоторой тяжести в теле я ничего не имею. Но если ты отяжелел душой и мыслью, то это, ей-богу, обидно. В тебе ведь никогда ничего старческого не было, так что брось, пожалуйста, разыгрывать из себя старика.
— Старикам-то как раз и не спится, — сказал он. — Лютеру уже семнадцать или сколько?
— Тебе отлично известно, что ему уже девятнадцать.
— Мне было двадцать пять, когда я начал печататься.
— Помню. И то помню, что ты не любитель телефонных разговоров. Приходи к половине шестого.
Он вышел из своей квартиры в четверть шестого. Всю ночь он надеялся, что наконец-то выпадет снег. Он уже третью неделю все ждал снега, но и сегодня, в последний день ноября, погода стояла до неприятности теплая и в воздухе ни малейшего освежающего дуновения. Он прошел по боковой дорожке Центрального парка, заглянул в бар у Сент-Морица, выпил кружку пива, дошел по 6-й авеню до 57-й улицы, и тут, где-то в середине этой улицы, ему расхотелось и дальше идти пешком, так что недолго думая он вошел в картинную галерею.
Как именуется эта галерея, он понятия не имел и никогда до сих пор в нее не заглядывал, хоть и попадалась она на глаза ему, наверное, сотни раз. В окне здесь всегда бывала выставлена картина, и он всегда останавливался взглянуть на нее, и всегда бывало так, что, посмотрев картину в окне, он не испытывал желания войти внутрь и посмотреть на все остальные полотна художника. На этот раз он не глядя миновал картину в окне, и как-то само собой получилось, что вошел в галерею. Никого внутри не было, кроме двух работников в маленьком служебном помещении перед залом, а в самом зале, в углу, сидел на табуретке мужчина. При появлении посетителя он поднялся. Он, видно, просто ошеломлен был тем, что хоть кто-то тут появился, ему ужасно, видно, хотелось перекинуться словом хоть с кем-нибудь. Они обменялись взглядом, и писатель кивнул слегка, на случай, если он встречался с этим человеком и раньше. Тот улыбнулся чуть заметно и после минутного колебания снова опустился на свою табуретку.
«Наверняка сам художник», — сказал себе Эндрю Лоринг, еще не успев даже для начала оглядеться вокруг. С первого взгляда ему показалось, что на стенах одни портреты, но можно было не сомневаться, что это минутное впечатление и что при ближайшем рассмотрении не обойдется тут и без пейзажей и натюрмортов. Он отметил про себя и то, что у художника, маленького и худющего, совсем истощенный вид, а глаза так и выдают наивнейшее волнение — волнение, вызванное надеждой, хотя на что у него надежда, трудно было представить.
Он посмотрел на часы — было без четверти шесть. «Я проведу здесь полчаса, — подумал он, — и опоздание будет вполне приличное».
Конечно, он вовсе не против был повидать сына — шесть лет назад он его видел еще подростком, а сейчас перед ним предстанет другой человек, — но вместе с тем он не в состоянии был удержать себя от усмешки при мысли, что этот мальчик, названный Лютером в честь прадеда по материнской линии, имел и в самом деле дерзость написать книгу. Что же до матери Лютера, ее он знал с молодости, когда обоим им было по двадцать лет, и увидеться с нею снова будет приятно, хотя вообще он не охотник до вечеринок.
Когда они поженились, Клара Фиппс представлялась ему существом далеким от зрелости, тогда как себя самого он ощущал ужасно зрелым. С годами, однако, в нем стало расти сознание и незрелости своей, и всей глубины своего невежества, она же оставалась все та же, что и была: молоденькая женщина, для которой нет более волнующего приключения, чем замужество, дом, семья, материнство. Появление Лютера она переживала как личное торжество, и какая-то доля ее энтузиазма передавалась и ему, по крайней мере в течение пяти-шести лет, и это было то самое время, когда он особенно напряженно работал и написал, как считали критики, свои лучшие вещи — восемь романов и повестей, в которых все как один находили поразительное слияние серьезного со смешным. В людях у него, говорили критики, всегда есть что-то смешное, чудаковатое, они увидены с некоторым смещением, что ли, с необычной точки зрения, глазами чудака.
Перед первой картиной он задержался на целую минуту, хотя ничего особенного в ней и не было. Мальчик лет шести сидит за пустым столом — вот и вся картина.
— Надеюсь, вам нравится? — услышал он за спиной. Спрашивал, конечно, художник. Ему показалось, что тот сейчас рядом, но обернувшись, он увидел художника все там же, на табуретке.
— Как она у вас называется? — спросил писатель.
— «Новый мужчина».
— Вот как? А с кого рисовали?
— Да ни с кого.
— Но разве так возможно?
— У меня так выходит легче.
— Тогда, быть может, это вы сами?
— Наверное, но ведь так оно было бы, рисуй я даже с какой-то натуры.
— Вне сомнения. И все-таки возникает чувство, что ты и сам видел не раз такого вот мальчика за столом.
— Я рад, что вы так восприняли.
— Теперь взгляну на вот эту.
На второй картине изображена была девочка лет восьми, держащая за ногу тряпичную куклу. Девочка казалась чуть-чуть как будто бы тронутой, с оттенком безумия, в котором каким-то образом улавливалось что-то и освежающее и ранящее. Художник явно не имел обыкновения обставлять свои картины, вещи на них не выписывались, а растворялись в пространстве, и делалось это, чтобы резче выделить главное, чтобы яснее было увидено то, что для художника вечно.
— Ну а эта ваша картина, — сказал писатель, — наверняка называется «Новая женщина»? Так или не так?
— Не совсем. Хотя, признаться, я и об этом названии подумывал. Она называется «Мать».
— Я замечаю, что и у девочки, и у куклы одно лицо.
— Да. Мне казалось, что так и надо.
— А почему?
— Боюсь, что не могу ответить на ваш вопрос, хотя и очень ценю его. Сказать по правде, мне чрезвычайно приятно уже и то, что вы здесь и смотрите на эти картины.
Эндрю Лорингу частенько приходилось не верить своим ушам, и вот сейчас он тоже не мог поверить. Художник относился к нему с явным почтением, по какой причине — неведомо.
— Простите? — отозвался он неопределенно.
— Видите ли, дело в том, что я читал ваши книги.
— Вы уверены?
— Конечно, — рассмеялся художник.
— Ну что ж, спасибо.
— Никогда бы не подумал, что вы доставите себе труд прийти на первую мою выставку. По правде, — усмехнулся художник, — до вашего появления я уже близок был к мысли, что никто сюда не заглянет.
— Рад, что развлек вас как-то, потому что, должен признаться, заглянул я сюда случайно и боюсь, что даже имя ваше мне неизвестно.
— Меня зовут Джордж Гаррет, — засмеялся художник.
Они обменялись рукопожатием, и художник сказал:
— Постараюсь не мешать, если вы будете смотреть остальное. Но возможно, что вам и не хочется ничего смотреть?
— У меня полчаса времени.
Художник был старше, чем он подумал вначале. Ему было, пожалуй, лет тридцать. В нем и гордость говорила, и нервничал он, и ужасно боялся, как бы не показаться этаким умником.
— Если хотите знать правду, — сказал писатель, — мне нравятся ваши вещи. Вам они тоже, конечно, нравятся, но за вами на то есть право. Видите ли, некоторые из моих книг нравились людям по неправым причинам. С одной стороны, я был рад, конечно, что они нравятся. Но мне претило, что нравятся они не по той причине. От этого, когда я писал потом свои следующие книги, я всячески старался избежать недоразумения, добиться, чтоб они понравились или даже пусть не понравились за то именно, за что нужно, но честно скажу вам — от такого рода вещей очень скоро происходят одни только осложнения. Пожалуй, несчастнейшим днем моей жизни был тот день, когда мне открылось, до чего я неискушенный. Мне бы гордиться, наверное, а я и не думал. Неискушенность, неведение тоже есть некое преимущество, но человек его недооценивает. Я хочу сказать, что у вас сейчас очень важная пора жизни.
— Это первая моя выставка, но до сих пор здесь ни один критик не появился. Может, они еще и появятся и что-то скажут, и мне, конечно, интересно будет узнать их мнение, но представить себе не могу, какая от этого польза. Когда вы говорите о неискушенности, вы имеете в виду безразличие к деталям?
— Нет, я имею в виду просто неискушенность. Неведение как таковое. Это качество положительное, я бы сказал, драгоценнейшее. Но если оно беспокоит, стесняет тебя, то ничего хорошего в нем уже нет. Писатель должен быть неискушенным, даже и не подозревая того. У него и времени не должно оставаться на подозрения, настолько он должен быть захвачен и жизнью и работой своей. Но легко говорить…
— Лучше всех, по-моему, говорят скульпторы. Им бог знает сколько времени нужно, пока выскажут что-нибудь самое простенькое, ну, вроде, «пойду-ка я прогуляюсь». Вообще я заметил, что хорошо говорят те, кто придерживается самых простых предметов, таких, например, насущных вещей, как работа, жилье, еда и тому подобное.
— Вот именно. Когда вы начали рисовать?
— Очень рано. В детстве ведь кто не рисует? Но всерьез, как говорится, я рисую лет с пятнадцати.
— Сколько стоит вот эта картина?
На картине изображены были три старика на скамейке. По виду старики были из богадельни.
— Не знаю, какую цену назначит галерея за ту или иную картину. Я думаю, они не решили еще. А вы ее хотите?
— Да нет, мне просто любопытно, какие у художника заработки на жизнь.
— По субботним дням я работаю.
— То есть как это?
— В овощном магазине. С шести утра до девяти вечера.
— В самом деле?
— О, да. Но только в субботу. Мне платят десять долларов, и на неделю я обеспечен.
Писатель подошел к картинам, которыми выставка завершалась. Их было штук одиннадцать, и все довольно большие, на всех люди, и в каждом что-то особенное, необычное.
— Во что вы верите? — спросил он художника.
— Провалиться мне, если знаю, — ответил тот без колебаний. — Но что вы думаете о картинах?
— Они хорошие. Та, что с тремя стариками, как она называется?
— «Мальчики».
— Ну да, конечно же.
— Пока вы не ушли, я вот что скажу вам: мне кажется, во что-то я все-таки верю. Я бы не прочь был попытаться ответить на ваш вопрос, — продолжал художник, — но просто, вы ж понимаете, чтоб дать на такое ответ, целая жизнь нужна. Но и сейчас, пожалуй, я что-то могу сказать. «Все мы ошибаемся», — может, вот это?
— Вполне возможно. И вы стремитесь в своих картинах обратить внимание на то, что мы ошибаемся?
— Да нет, я не стремлюсь. Я считаю, что все нормально.
— Вы правы. Было бы жаль, наверно, если мы перестали бы ошибаться. Ну что ж, мне пора. Спасибо за удовольствие.
Художник кивнул и улыбнулся ему, взволнованный и обрадованный, и Эндрю Лоринг вышел на улицу. Уже смеркалось, но в воздухе вовсе не посвежело. Остановив такси, он поместился на заднем сиденье.
В машине его взгляд привлекла фотография водителя, и он заметил в его лице немало общего с лицом художника. Та же наивность, то же насупленное простодушие, что-то вроде подавленного недовольства и ярости на самого себя, такого, какой ты есть. Во всяком случае, благодаря художнику одно ему стало ясно — что лицо человека открывает нам больше, чем его поведение.
Машина шла медленно, потом вильнула вбок и понеслась с совсем ненужной, бессмысленной скоростью, потом, тряхнувшись, затормозила у перехода. Люди потоком пересекали улицу. На тротуаре он увидел женщину с тремя ребятишками, она смотрела в небо и улыбалась. «Бог знает, какая тайна в этой улыбке», — сказал он сам себе, потому что с течением лет у него сделалось привычкой писать (или выражать словами) все то, что он видит, что ощущает и делает, и получалось, в сущности, — что ни день, то книга. Беда была, однако, в том, что скоро уже как три года он потерял охоту (или, может, способность) воплощать свои книги в написанные на бумаге слова. Ему казалось, что не так уж они важны и необходимы, чтобы этим стоило заниматься. Он начинал за эти годы десятки вещей, день-два над ними работал, потом бросал, испытывая при этом чувство облегчения. С друзьями он даже шутил на этот счет, говоря, что ему полагается награда за то, что, начав плохую книгу, он не доводит ее до конца. «Я служу литературе лучше, чем кто-либо из моих современников», — говорил он. И все-таки он знал, как сильно ему жаждется снова что-то сделать, что-то создать. «Писать я, в сущности, никогда не умел, не научился, — сказал он как-то одному критику, — и тем не менее мне всегда удавалось довести что-то до конца».
Избыток сил, переполненность — вот в чем секрет, вот что меня выручало, — подумал он. Но теперь уже не выручает. А может, просто теперь и нет ее. Переполненность решала все и у Томаса Вулфа[5] до конца его жизни, и у многих еще других, но, видимо, где-то к сорока ее не становится в человеке, или же не становится самого человека.
Машина снова рванулась вперед, в ту минуту как раз, когда он заметил на углу улицы усталого, растерянного на вид старика и узнал в нем очень известного писателя, чьи книги он читал еще мальчишкой и чье имя сейчас сразу же ему вспомнилось, хотя за последние двадцать лет писатель этот не написал уже ничего замечательного. Лет десять назад ему довелось как-то присутствовать на обеде, устроенном в ресторане Уолдорф с целью сбора средств в помощь политическим эмигрантам. Старый писатель пришел туда в качестве почетного гостя. Он был как мальчик, которого по случаю приглашения хорошенько умыли и причесали, и зубы у него почищены, и нос сухой, и ногти в порядке, и одет, как приличествует ситуации, в черное. Когда он появился, по нему видно было, что он как-то по-детски и рад, и смущен, его усталое лицо на мгновение просияло, в глазах проступило волнение, его представили публике, после чего он встал и заговорил, и Эндрю Лоринг впервые тогда услышал его голос.
Он ожидал увидеть в этом человеке гиганта, услышать от него что-то крупное и значительное, но старый писатель выглядел, как смущенный ребенок, и говорил, словно испуганный ученик, голос у него срывался, слова были плоские, нескладные, и его речь и само присутствие его производили одну неловкость.
Он говорил о самом себе, не заботясь о каком-либо смысле, говорил, казалось, все об одном и том же — о том, как одинок в своей жизни писатель, как горько сознавать, что ты уже не тот писатель, что прежде, как тяжело и стыдно быть старым писателем и как больно чувствовать волнение и радость оттого, что ты оказался приглашен на обед, цель которого помочь нашим европейским собратьям-писателям, терпящим притеснения от глупых правительств. Хуже всего было, однако, что состарившийся писатель то и дело тщился произвести впечатление молодого, показаться все еще полным сил, остроумным, способным возвысить голос и энергично поддержать справедливость. Он пытался приправлять свою речь шутками, но от жалких его шуток делалось тошно.
Старик говорил, повторяясь, уже чуть ли не час, и все за столом потихоньку начали ерзать и переглядываться, а кто перешептывался, шуршал газетами, вертел бокал или поигрывал ложкой, и наконец тот самый молодой критик, который и представил его публике, шепнул ему что-то на ухо, и старик улыбнулся и произнес: «Мне только что подсказали, что выступление мое затянулось». Лицо его как-то сразу сделалось старческим и оскорбленным, и он сказал очень тихо: «Что правда, то правда, я заболтался. Что-то мне хотелось сказать, но что, я забыл». И с этими словами он опустился на место.
По окончании обеда Эндрю Лоринг подошел к старику, представился ему, и тот сказал: «А знаете, я припомнил теперь, что мне хотелось сказать. Никому из нас нет до других дела. Вот хотя бы те самые писатели в Европе, для которых сегодня собираются деньги… Вы думаете, хоть кто-то из них, поправив свое положение, оглянется вокруг — а нет ли кого, кому приходится еще хуже, кому он сам бы помог? Мне попросту не следовало являться на этот обед, ибо глупое это вообще дело — быть писателем. Знаете, — хихикнул старик, — когда я был еще мальчишкой, я думал, что книги написаны Богом. Никто другой не может и не должен писать их. Мы самозванцы и только».
И вот теперь, спустя годы, он снова увидел этого старика на углу нью-йоркской улицы, совсем уже одряхлевшего, на вид ничем не лучше самого жалкого нищего.
«А ведь когда-то ему недалеко было до Нобелевской премии», — подумал Эндрю Лоринг. Он стал припоминать книги писателя, мысленно перебирать в той очередности, в какой в свое время выпало прочитать их, и вдруг ему представилось как дважды два ясным, что ничего, кроме переполненности, ни в одной из них не было.
Он вернулся памятью в те дни, когда его сыну, которому сейчас девятнадцать, было не больше пяти лет. Однажды, когда он сидел за работой в маленькой комнатке, служившей ему кабинетом, малыш вдруг заявился туда, и он, прервавшись, сказал: «Ну вот еще! Ты же знаешь, что я работаю. Нельзя тебе сюда». А мальчик сказал: «Я тоже хочу работать».
День у него был неудачный, ничего не клеилось, и он с раздражением предложил сыну устроиться за машинкой, коли ему хочется поработать.
— Ты, я полагаю, справишься лучше. Всякий справится лучше, — сказал он.
Мальчик позволил поднять себя и усадить за машинку, но расплакаться он себе не позволил, а сразу же застучал по клавишам.
Эндрю постоял, посмотрел на сына, потом заорал:
— Клара! Ну где ты там? О Господи, Клара, сколько раз было сказано — не пускай его сюда, когда я работаю!
— Мамы дома нету.
— А где она?
— К доктору пошла.
— Когда?
— Сегодня.
— Для чего это ей вдруг понадобилось к доктору?
— Для моей сестренки.
— О Господи!
— О Господи, — повторил мальчик.
Эндрю вдруг сделалось ужасно стыдно и захотелось как-то выкрутиться, искупить свою грубость, но он не знал, как ему себя повести, чтоб для них для обоих все обошлось без неловкости.
— Извини, — сказал он. — Извини, что я накричал на тебя. Но ведь мне надо работать. Надо писать, а это трудно. Правда, я занимаюсь своей работой дома, но это вовсе не значит, что ты в любую минуту, как только тебе захотелось, можешь сюда ворваться и помешать мне. Если я не смогу работать, у нас не будет денег, а без денег на свете не проживешь.
Мальчик сразу учуял мягкость в тоне отца и, задетый ею, с негодованием выпалил: «Не люблю деньги. Не люблю тебя. И маму не люблю». Он слез со стула бледный от возмущения. «Никого не люблю!» — выкрикнул мальчик и ринулся вон из комнаты, к себе, на свою кровать.
Эндрю пошел на кухню, сел у стола, а минут через пять-десять пришел туда и мальчик и, ни слова не говоря, уселся с другого краю.
Сейчас, продолжая свой путь в такси, писатель понял, отчего он так долго всматривался в первую из выставленных в галерее картин. Его сын и мальчик на картине были похожи, в обоих было одно и то же смирение с одиночеством. Эндрю и его сын так и сидели довольно долго, не обменявшись ни словом, ни даже улыбкой, и наконец послышалось, как щелкнула входная дверь, и появилась на кухне Клара и обняла и расцеловала сначала мальчика, а потом и мужа.
— Ну так вот, — сказала Клара, когда они остались вдвоем, — я в положении, и, по-моему, уже пора, а ты как думаешь?
— И я так думаю. Но ты могла бы сказать мне.
— Я не уверена была.
— Ты могла бы сказать мне, что выходишь. Он ворвался ко мне в кабинет, и боюсь, что я вел себя грубо.
— Отец не может быть груб со своим сыном.
— Ох, очень даже может. Я был с ним груб, и он дал мне это понять.
— Ты что, не рад разве?
— Насчет сестренки? Конечно, рад. Я б не сказал, что мы можем себе это позволить, но велика ли радость позволять себе только то, что можешь?
— Мой отец нас поддержит.
— Не надо нам поддержки.
В ту пору он был еще только начинающий писатель и так же, как художник, с которым разговорились они сегодня, день-два в неделю где-нибудь подрабатывал, но знал, что это не все, что жена его получает и сколько-то денег от отца. Он работал продавцом в универмаге, в книжной лавке, на какое-то время нанялся в театре суфлером. Словом, концы с концами сводили, и оба всегда считали, что главное для него — писать, что это всерьез и рано или поздно он выбьется.
И был он тогда тонкий, поджарый и весь в напряжении, весь как на взводе, и энергия в нем казалась неиссякаемой. С годами для него сделалось ясно, что просто ему в то время не занимать было самонадеянности, хотя сам-то он тогда был совершенно уверен, что не такой уж он самонадеянный малый, как это кажется другим по его поведению. Ему не до тонкостей было, даже рамки простого приличия и те были не по нем, настолько сильно горел он тогда желанием вырваться из состояния никчемности и безвестности. Не припомнить было ни единого случая, чтоб он и в самом деле слишком о себе возомнил или же чтоб ему доставило удовольствие обойтись с человеком пренебрежительно, резко. На жизнь он зарабатывал самой обыкновенной работой и не видел в том ничего для себя унизительного, но при этом ему всегда не терпелось вернуться к письменному своему столу и машинке. Бывало, что приходилось особенно трудно, и в такие моменты он с ужасом думал, что писателя из него может не выйти и что всю жизнь ему придется делать что-нибудь заурядное — того только ради, чтоб прокормить семью.
Всегда для него само собой разумелось, что в любое время дня или ночи он может засесть за свою машинку, никакой трудности для него это не представляло. При этом он никогда не обижал невниманием жену, хотя и был, наверное, невнимателен к сыну, полагая в душе, что отцу так и надо себя вести, что лучшая отцовская забота о сыне в том и состоит, чтоб не очень о нем заботиться.
«Чем скорее он приучится к самостоятельности, — говорил он насчет этого, — тем лучше для него самого».
С женой ему всегда было хорошо, и в минуты любви она в восторг его приводила своей живостью и смехом, и смелостью и невинностью. Для него она была воплощением женской мудрости. Им очень скоро открылось, что веселого в любви мало, и им обоим это представилось настолько странным и неестественным, что уже где-то на третьем году женитьбы они сами ее наполнили весельем и радостью.
Между ними всегда была полная искренность, и очень часто она прямо ему говорила, что целый день без него такая тоска и уж, пожалуйста, пусть поскорей он кончает работать. Ее непринужденность доставляла ему удовольствие, и он, как мог, торопил работу к концу, а потом вдруг, как шальной, вскакивал с места и кидался к жене и хватал ее в объятия, и они тешились друг другом, смеясь и смеясь, отдаваясь друг другу с нежностью и со щедростью, которая хоть и таила в себе что-то животное, но вместе с тем, однако же, была целомудренна и прекрасна.
Кроме Лютера у них могли бы быть еще дети, но одного они потеряли еще до «сестренки», а потом на третьем месяце сорвалось и с ней, и мать пролежала месяц в постели, за этим последовали еще две потери, и стало ясно, что второго ребенка им не иметь. Желание, чтоб у них появились новые дети, было у нее сильнее, чем у него, но, все равно, и ему очень хотелось их. Любовь для них перестала быть, как прежде, увеселением, потому что они знали теперь, что новой жизни из нее не возникнет, а ведь именно в этом была их высшая радость — в том, чтобы из любви их рождалась новая жизнь.
Они все чаще впадали в угрюмое настроение и понимали, отчего это происходит, и даже заводили на этот счет разговоры. Она первая сказала, что, может быть, им лучше расстаться, а он сказал — может, имеет смысл раз в несколько лет брать на усыновление какого-нибудь малыша, но нет, эта идея ей не понравилась.
Между ними пошли пререкания и споры по всяким смехотворно-ничтожным поводам, и в конце концов, сами над собой посмеиваясь, они решили, что надо разъехаться, и она вместе с Лютером перебралась в Бостон к отцу. Поначалу ему их очень недоставало, и он часто звонил ей и всячески убеждал вернуться. Она не возвращалась, а вместо этого съездила с Лютером во время школьных каникул в Неваду[6] и там оформила себе без промедлений развод.
Ему было тогда тридцать шесть, и он сказал себе с легкостью, что прошло, то прошло, и стал находить для себя отчасти даже освежающий интерес в женщинах, с которыми сводил его случай. И всякий раз при таких его встречах ему в первые дни казалось, что можно снова жениться и составить себе семью, но либо женщины эти скоро исчезали куда-то, либо он сам исчезал. В конце концов он познакомился на каком-то вечере с киноактрисой Мэй Мэйси, которая недавно разошлась с мужем, и решил, что с ней у него семья получится, потому что она была и молоденькая, и красивая.
Они поженились, а недели через две Мэй Мэйси позвонил ее голливудский агент и сказал, чтоб она немедленно вылетела, потому что ее пробы уже смотрели на нескольких студиях и готовы подписать с ней контракт как с будущей кинозвездой. Он проводил ее в аэропорт, и они условились, что через месяц, дописав свою новую книгу, он присоединится к ней, а потом, как только ее первая картина будет отснята, они отправятся на отдых в Европу.
Однажды среди газетных сплетен он прочитал, что его жена появляется в самых шикарных голливудских местах в обществе продюсера, которому перевалило за шестьдесят и про которого ему приходилось слышать несколько пикантных, если не сказать скандальных историй. Продюсер этот обхаживал молоденьких девушек, еще не сделавших себе имя. Эндрю позвонил жене, и она его заверила, что продюсер джентльмен в полном смысле этого слова.
— Зачем такая подозрительность? — сказала она. — И вообще за кого ты меня принимаешь? Просто он человек с большими возможностями. Его внимания добиваются даже знаменитые кинозвезды. И что же делать, если он хочет, чтоб именно я снималась в следующей его картине? Неужели отказываться? Это будет у него самый дорогостоящий фильм, и он считает, что главная женская роль в нем именно для меня.
Он поразился ее горячим возражениям и сказал:
— Вот что. Я вылетаю ночным самолетом, завтра утром увидимся.
Она решительно воспротивилась, говоря, что вот этого-то как раз и не следует делать, что этак ее карьера сорвется и не начавшись.
— Ну ладно, — сказал он. — Веди себя осмотрительно. А я и завтра позвоню тебе.
Через наделю ему стало известно, что на каком-то вечере сценарист, прибывший недавно из Голливуда, довольно свободно прохаживался насчет его жены и продюсера. Гарри Фройланд, его агент, сам это слышавший, сказал ему: «Послушайся моего совета. Я устрою тебе недельки на две договор с Метро-Голдвин, так что и с Мэй наладишь все, и денежки заработаешь. Нехорошо, чтоб о жене твоей расползались такие сплетни. Я б не хотел тебя в это втравливать, но такой уж момент. И договор будет подходящий. Что скажешь?»
— Нет, — сказал Эндрю.
Назавтра утром он вылетел в Голливуд и приехал к ней в десять вечера, но ее дома не было. Он нервничал, проголодался и вообще сбился с толку. Ему неловко было уже оттого, что он находится в Голливуде. Время от времени у него случались встречи с людьми из числа заправляющих в мире кино, и он всегда поражался, до чего они озабоченные, до чего поглощены своими расчетами. Он всегда держался подальше от голливудского мира.
Связавшись с рестораном, он заказал в номер холодной еды и бутылку виски, но когда заказ доставили, он ни к чему, кроме виски, и притрагиваться не стал. К половине третьего бутылка опустела наполовину, он напился, и одно только ему было ясно — что бы там ни натворила его жена, его чувства к ней от этого не изменятся, она ему нужна, и жить они будут вместе, и никаких сомнений на этот счет. Сказав себе так, он улегся на диван и уснул.
Проснулся он, услышав, что отворяют дверь. Но оказалось, что это горничная интересуется, можно ли уже прибирать номер. Он попросил ее заглянуть попозже.
Прошло еще четверть часа, и около девяти появилась наконец-то его жена. Она молчала, и он тоже ни слова не мог промолвить. Они просто смотрели друг на друга, оба перепившие, оба истерзанные, и он едва себя сдерживал, чтоб не ударить ее. Он чувствовал себя вконец униженным, растоптанным. «Пошли», — сказал он, схватив ее за руку. Они вышли из номера, оба словно в кошмаре. Когда лифт тронулся, она потеряла сознание. С помощью лифтера он донес ее обратно и уложил на постель. Он понял, что она измучена и больна, и вся его злость на нее сменилась глубокой жалостью. Помочь ей — вот единственное, чего он хотел теперь. Вечером ей стало лучше, а дня через два она была уже на ногах и все ее мысли опять были о том, что ожидает ее в кино. Он растерялся и не знал, что теперь ему делать, и вот с этого-то момента и стала овладевать им лень, и он потихоньку начал полнеть.
Он окружал ее вниманием, водил по вечерам в какой-нибудь немноголюдный ночной клуб, так как в шумные места ей не хотелось, и ему казалось, что их союз можно еще спасти, ее можно спасти и его, а вместе с ними и их детей. В конце концов, она молода еще, в ней говорит честолюбие, и если что с нею и не так было, не имеет значения. Она, однако, все время была в напряжении и очень много пила.
День за днем она ждала, не подаст ли знать о себе продюсер, и, не дождавшись, сама наконец позвонила на студию. Ей сказали, что он на совещании и сам ей потом позвонит, а еще через два-три дня на ее звонок ответили, что он вылетел в Мексику и вернется не раньше, чем через месяц. Несколько раз она ездила вместе со своим агентом на студию в надежде, что с нею будет подписан контракт, но в результате этих поездок только то и выяснилось, что продюсер ничего не решил еще насчет фильма и что, может, он вообще от него откажется, поскольку расходы требуются разорительные. После этого агент ее стал переговариваться с другими студиями, и так миновала неделя, и Эндрю видел, что жена его день ото дня сникает, что она уже на грани серьезной болезни. Ему жалко было ее, и себя было жалко.
Гарри Фройланд уговаривал его заключить контракт. Пусть сочинит повесть, какую ему захочется. Во-первых, сам заработает, убеждал его Гарри, во-вторых, жене своей обеспечит лучшую роль. Ему уже как-то лень было возражать, отказываться. Он написал небольшую повесть, которая называлась «Королева Индианы», а студия дала ей другое название — «Страсть».
Из режиссеров кинокомпании Сэма Голдвина делать фильм пригласили Ллойда Уилкинсона. Считалось, что он здорово работает с женщинами. Эндрю видел, как по мере продвижения постановки утрачивается вложенная им в повесть ирония и получается в результате заурядный фильм, каких сотни, об очаровательной девушке из маленького городка, но от растерянности, от лени он и не делал даже попыток вмешиваться, обсуждать и хоть что-нибудь да поправить. В конце концов, ему и неважен был этот фильм. Просто он дал жене то, чего ей хотелось, исключительно ради ее здоровья.
Картина делалась долго, и все это время он находился рядом с женой. Каждую неделю ему шли деньги, а оскорбительные пересуды вокруг его жены сменились толками об ожидающем ее сенсационном успехе. Они приглашены были на несколько премьер, их снимали фотографы, и жена его держалась соответственно обстановке, словно она величайшая из актрис. Даже в него что-то прокралось от всей этой голливудской бессмыслицы, и помнится, однажды вечером был момент, когда он подумал, что, взявшись писать для кинокартины, сделал дело вполне стоящее, если не замечательное.
Его имя стало появляться в хронике голливудских и нью-йоркских газет, при этом тон был иронический, тот самый, какой берут профессиональные сплетники, чуть только им покажется, что они напали на червоточину. «Эндрю Лоринг, — писал один из самых известных сплетников, — еще в последнем своем интервью клятвенно заверявший, что никогда ни строки не запродаст Голливуду, в конце концов, однако, угодил в его сети и написал некую вещицу под названием „Страсть“».
Когда фильм был закончен, он сказал, что хочет посмотреть его вдвоем с женою, без посторонних. Картина была сделана претенциозно, с этакими драматическими эффектами, с немилосердно гремящей музыкой, надерганной у лучших композиторов, нелепость была такая, что и смешно и тошно. Словно не он это написал, а кто-то ему неизвестный. Он слышал, как всхлипывает его жена, и не понимал — почему, не надеялся понять. После просмотра они пошли гуляя по улицам, и жена его в какой-то момент сказала: «Настоящему артисту очень трудно. Я делала все от меня зависящее, но этот гомик Уилкинсон поворачивал все по-своему. И все-таки картина вышла замечательная».
На экран картину выпустили через три месяца. К тому времени они уже были в Нью-Йорке и присутствовали на премьере в одном из самых крупных на Бродвее кинотеатров, и люди так и толпились вокруг его жены. После успешного показа студия закатила банкет, где кого только не было, и все ели и пили и расхваливали друг друга.
Через три дня его жена снова вылетела в Голливуд, а он остался, на сей раз уже с тем чувством, что сделал все возможное для нее и для их супружества. Он уверен был, что отныне все у нее в порядке, так что даже и не звонил и молчанию ее нисколько не удивлялся.
Несколько месяцев спустя она отправилась в Рено оформлять развод на том основании, что брошена мужем, и он решил, что пусть тем оно и покончится. Но лень, которая стала им завладевать в Голливуде, теперь уже не отпускала его, он ничего с ней не мог поделать и начал обрастать жиром, полнеть, и пришлось ему обзаводиться одеждой новых размеров. Время от времени на глаза ему попадались в журналах пикантные заметочки о его жене, и в одном месте приведены были такие ее слова: «Поверьте, это не шутка быть женой такого гения, как Эндрю Лоринг. Великий человек просто-напросто не выносит ни малейшей конкуренции от жены. Но до каких-то пор все у нас шло прекрасно. О, мы и теперь остаемся друзьями, и когда я окажусь снова в Нью-Йорке, нас не раз, конечно, увидят вместе, потому что с любовью не так-то легко проститься».
Приехав в Нью-Йорк, она позвонила ему и попросила сводить ее в фешенебельное кабаре. Она сказала, что это очень поможет ее карьере, а ему лень было сказать: оставь ты меня в покое. Показаться с ним на публике — вот все, что ей было нужно, и, получив свое, она снова вылетела в Голливуд.
Скоро до него докатились оттуда новые слухи, и он сам себе удивился, чувствуя, что все еще склонен помочь ей. Съемки второго ее фильма были прекращены через месяц, потому что все у нее выходило не так. Ей предложили сыграть второстепенную роль, но она от такого предложения отказалась. Агент ее разорвал уже подписанный контракт и кинулся переговариваться с другими студиями. Но всем уже к тому времени сделалось ясно, что ее успех был просто случайностью. Она позвонила и стала просить-умолять, чтобы он снова сочинил для нее что-нибудь подходящее, и ему уж слишком лень было ответить отказом, но когда он попробовал взяться за дело, оказалось, что и писать ему слишком лень. Она прилетела в Нью-Йорк, но ему уже слишком лень было пошевелиться с места. «Сделай милость, — сказал он ей, — отправляйся в свою Индиану».
Его совсем не удивило, когда однажды среди ночи она позвонила и сказала, что так продолжать не может, что ей одно только и осталось — наглотаться снотворных таблеток. Он сказал, что сейчас же приедет, а увидев ее, пообещал, что сочинит для нее какую-нибудь вещицу. Шесть недель он и так и этак себя заставлял, но все баз толку, его просто тошнило. Она уехала, и как-то, спустя полгода, он увидел ее в неважнецкой второразрядной картине. К тому времени она уже вышла замуж за кинооператора.
Такси остановилось, и писатель расплатился и вышел.
Все званые вечера похожи один на другой, ибо на всех на них встречаются, чтобы пить и вести беседы, но во всяком таком вечере есть и своя особенность, ибо люди на них могут встретиться разные. Для Эндрю Лоринга сегодняшний званый вечер имел ту особенность, что здесь ему предстояло увидеться с сыном.
Войдя в комнату, где собрались гости, он увидел своего сына, стоящего рядом с матерью, и такое вдруг тепло хлынуло ему в сердце, что он даже слова не в состоянии был промолвить. В одно мгновение он перенесся сейчас в свою молодость и тут же вернулся из нее постаревший и только кивком и способный выразить свои чувства.
— Я думала, ты явишься этаким толстяком, но ничего подобного, — сказала первая его жена, на что он молча кивнул.
Потом она сказала:
— Лютер едет в Бостон, и ему уже пора к поезду, так что я пока никого не буду с тобой знакомить, побудьте вы лучше вдвоем, потолкуйте о девочках, они его очень занимают последнее время.
Эндрю кивнул, и она отошла, оставив его с сыном.
— Мама прекрасно выглядит, не правда ли? — сказал его сын.
Теперь уже он оказался в состоянии улыбнуться, хоть и не справился еще со своей немотой. Мальчик был точь-в-точь такой, как и он сам в девятнадцать, такое же в нем было крайнее напряжение чувств, и по смеху в голосе сына Эндрю понял, что они с ним, без всякого сомнения, друзья. По меньшей мере, друзья, уж это ясно.
— Я наконец-то прочитал все твои книги, — сказал его сын, — и если ты не против, мне бы хотелось поговорить сейчас об этом. Может, я и ошибаюсь, но мне кажется, что творчество твое неправильно понято, что ты с самого начала и всегда говорил одно… Впрочем, сейчас, может, не время вовсе затевать такой разговор?
— Нет, продолжай, пожалуйста, — смог вымолвить наконец Эндрю.
— О черт, — заторопил сам себя юноша, — мне кажется, ты с самого начала и всегда говорил одно: не человек живет в жизни свое, а жизнь проживает свое в человеке. Верно ли я думаю, что ты из этого исходил, что именно вот это стремился сказать?
— Верно, — сказал писатель. — Мы приучены думать, что каждая жизнь проживается как нечто сугубо личное, но я никогда не думал так и не думаю. Она, по-моему, наоборот — совершенно безлична. Никто не разбирается в себе самом. Никто не разбирается в других. Ни одному человеку не дано определить для себя же, кто такой он есть или кем ему быть, что ему делать или как это делать. Всякий человек частичка мировой материи, вот и все. От нее он приключается и совершает в себе ее жизнь. Я очень рад, что ты так хорошо меня понял. А как же будет называться твоя книга?
— «Да».
— Отличное заглавие. Что же ты говоришь в этой книге?
— Да, — повторил юноша с поспешностью и волнением. — Я очень много, несколько лет ломал голову над вопросом — что стоит говорить и чего не стоит. Долгое время мне казалось, что сказать я мог бы разное, надо только что-нибудь выбрать. Но в конце концов я понял, что не могу выбрать «нет». Не могу сказать «нет», или хотя бы — «может быть», или — «и да и нет». Я понял, что должен говорить «да», только и только «да», ничего другого, и одновременно понял, что теперь я могу писать. После этого оставалось только находить время, чтобы сесть и сосредоточиться и поработать, а это тоже не так-то легко, когда вокруг столько заманчивого. Но время я все-таки выкроил и написал свою книгу. Я считаю, что кто-то другой из сегодняшних писателей может говорить «нет», если так ему хочется, и он, наверное, тоже окажется прав, но сам я могу говорить только «да» и доволен, что при этом, по крайней мере, окажусь не менее прав, чем другие.
— Прекрасно тебя понимаю, — сказал Эндрю и рассмеялся, потому что стоящий перед ним незнакомец был не кто иной, как его собственный сын, но суть дела не в этом заключалась, а в том, что незнакомец говорил, торопя себя и волнуясь, и похоже было, что в нем действительно крылся писатель. Этот юноша выглядел и разговаривал так, что, пожалуй, вполне мог оказаться писателем. И Эндрю рассмеялся, так как впервые за долгое время не чувствовал в себе сейчас ни лени, ни тяжести. Он рассмеялся, так как почувствовал, что хоть жизнь и нескладно прожита, но не вовсе бессмысленно, вот она наконец — малая толика смысла. Вот он перед ним — тот пятилетний мальчонка, который однажды ворвался к отцу в кабинет и заявил, что тоже хочет писать, — сейчас он вытянулся выше отца и даже превзошел его в живости и горячности. Вот он перед ним — готовый гордо принять одиночество как выпавший человеку жребий, готовый писать и способный писать и говорить только «да» без каких-либо приплетений. Вот он перед ним — такой же неискушенный, как и всякий другой, кто решился писать, но ему и задумываться об этом некогда, настолько он захвачен и жизнью, и работой своей. Среди прочего Эндрю в особенности смеялся тому, что как ни велико неведение юноши, это дела, в сущности, не меняет.
Юноша тоже рассмеялся.
— Знаешь, — сказал он, — я вначале тебя не узнал. Давно не видел, конечно, а кроме того — вид у тебя был очень усталый.
— Я и в самом деле был усталый, когда пришел.
— Ну, сейчас ты совсем не такой.
— Сейчас уже нет. Чтоб усталость пришла или прошла, много времени не нужно. Разом как-то она навалилась на меня, разом же и исчезла.
Юноша посмотрел на часы.
— Мне пора. Мама сказала, что ты, может быть, сегодня придешь, и я специально приехал из Бостона. С четырех тут околачиваюсь. В какой-то момент даже приуныл. Все собрались, и я боялся, что ты уже не придешь. Но ты пришел, и вечер этот оказался для меня замечательный.
— Я себя тоже прекрасно чувствую, — сказал Эндрю Лоринг, — хотя обычно на званых вечерах ничего, кроме томления, не испытываю.
— А мне на вечеринках нравится, — сказал юноша, — но если я сию минуту не выскочу и не поймаю тут же такси, на поезд мне не успеть.
Они оба опять рассмеялись, и Эндрю смотрел с удовольствием, как его сын пошел к двери, ни с кем не прощаясь, но в дверях остановился, чтоб помахать матери.
Эндрю Лоринг быстро допил свой бокал, взял с подноса другой и направился к первой своей жене.
— Ну, — сказала она, — как он тебе понравился?
— Очень он мне понравился, — сказал Эндрю, — и я хочу поблагодарить тебя за сегодняшнее приглашение. Твой званый вечер — лучший из всех, на какие меня когда-либо приглашали, и если ты не против, я задержусь еще и пообщаюсь с твоими друзьями.
— Я совершенно не против.
И с этими словами она взяла его под руку и подвела к группе из нескольких человек, где шла оживленная беседа о том, как долго получится оттягивать очередную войну. При их приближении все в группе тут же прервали свой разговор и обратились к ним, желая каждый узнать, кто этот мужчина, который, судя по его виду, чувствует себя отчего-то очень приятно в мире, исполненном множества неприятностей.
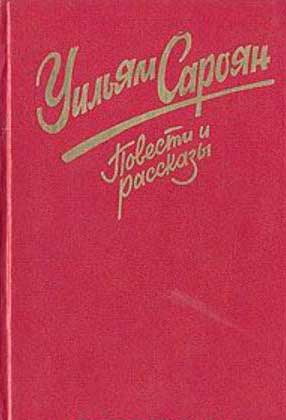
Комментировать