- Исцеление врачей
- Почему не смертельной оказалась болезнь Лазаря?
- Эксперименты на больных
- “Препятствие рождению”, или что может быть хуже убийства
- Самопожертвования и жертвы в трансплантологии
- "Беспамятство – разрушительно, память – созидательна"
- По образу человеческому (клонирование)
- Две сексуальных революции
- Нравственно ли “зачатие в пробирке”
- Вопрос ребром о "ребре"
- Труп с бьющимся сердцем
- Сатурн, пожирающий своих детей
- О временах, нравах и российской школе
- Ни на солнце, ни на смерть нельзя смотреть в упор...
- Способна ли Россия воспринять биоэтику?
- Медицина – фактор риска
- В какую эру мы живем?
- Освободившиеся пациенты, или Православие как основание безопасности культуры
Данный сборник составлен преимущественно на основе публикаций в газете «Татьянин День», «Независимой газете», «Общей газете» и некоторых других изданиях. Его эпиграфом могло бы стать древнее присловье, о котором вспоминает и Христос в Евангелии от Луки (Лк. 4:23): «Medice, cura te ipsum» («Врач, исцели самого себя»).
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
Исцеление врачей
Появление книги Ирины Силуяновой “Современная медицина и Православие” произвело фурор в читательском мире. При всем обилии издаваемой сейчас литературы эта книга явно выделялась – своим глубоким, продуманным и, пожалуй, впервые сформулированным подходом к старым и новым медицинским технологиям.
Ирина Васильевна Силуянова, президент Гуманитарной ассоциации “Человек и медицина”, завкурсом биомедицинской этики Российского государственного медицинского университета, пытаясь сформулировать православный взгляд на медицинские проблемы, не навязывает своих выводов читателю. “Сосуществование различных, порой противоположных, морально- мировоззренческих ориентаций” является, по мнению автора, особенностью “современной интеллектуальной жизни России”. Вот почему важно осторожное и выверенное суждение по каждой из рассматриваемых проблем – на основании как церковных, так и светских авторитетов. И, разумеется, собственного опыта, который накопился у Ирины Силуяновой за годы преподавания биоэтики в Медицинском университете. Огромный успех книги “Современная медицина и Православие” еще раз доказал тот факт, что интерес к обсуждаемым проблемам колоссален. Найдутся ли сейчас люди, равнодушные к жарким дискуссиям вокруг клонирования, эвтаназии, абортов?
Данный сборник, в отличие от упомянутого фундаментального (не побоюсь этого слова) труда Ирины Силуяновой, написан в более живой публицистической манере. Он составлен преимущественно на основе публикаций в газете “Татьянин День”, “Независимой газете”, “Общей газете” и некоторых других изданиях. Его эпиграфом могло бы стать древнее присловье, о котором вспоминает и Христос в Евангелии от Луки (Лк. 4:23): “Medice, cura te ipsum” (“Врач, исцели самого себя”).
От врача сейчас зависит слишком многое – даже больше, чем от приборов или таблеток. И одним из главных свидетельств его профессионализма, остается, по мысли Силуяновой, не способность правильно обращаться с компьютером, включать дорогостоящую аппаратуру и сыпать научными терминами (хотя и это, разумеется, необходимо), но “умение подчинить себя интересам больного, милосердие и самоотверженность”. Такие привычные и затертые понятия, за которыми, однако, стоит жизнь и здоровье людей.
Владислав Томачинский,
главный редактор газеты “Татьянин День”
Почему не смертельной оказалась болезнь Лазаря?
Среди Божьих угодников Лазарь занимает особое место. Каждому верующему человеку известно чудесное воскрешение Лазаря из мертвых, явившее славу Божию. С тех пор человеческий род уповает на славу и милосердие Божие, увековечив в человеческих языках имя Лазаря, связав с ним название лечебниц. Лазареты, вот уже две тысячи лет собирающие под свой кров больных и страждущих, стоят у истоков современных больниц, да и всей социальной системы здравоохранения.
Не нужно быть врачом, чтобы знать, что многочисленные человеческие болезни делятся на две группы: излечимые и неизлечимые. Не надо быть врачом, чтобы знать, что порой и простая простуда может оказаться смертельной болезнью. Так что же означают слова Спасителя, который зная, что Лазарь болеет и умрет, тем не менее говорил, что его болезнь не к смерти (Ин, 11, 4)? Эти слова его означают прежде всего то, что смерти нет для верующих в Христа: Я есмь Воскресение и жизнь, верующий в меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек (Ин, 11, 25-26). “Болезнь не к смерти” – любая болезнь человека, верующего в “Воскресение и Жизнь”.
Болезнь к смерти – любая болезнь верующих в смерть. Парадоксально, но в свою смерть, так же, как и в бессмертие, можно только верить – ибо нет ничего более невидимого, и, в буквальном смысле слова, менее очевидного для человека, чем его собственная смерть. Долгое время на земле люди были верующими в смерть. И Лазарь был в их числе. Но ему первому было суждено увидеть и собственную смерть и “славу Божию” – освобождение от смерти.
По преданию, после своего воскрешения Лазарь прожил еще 30 лет и был епископом на Кипре. Кипрская Православная Церковь хранит такую благочестивую и назидательную легенду о своем епископе. В юности своей Лазарь был любим многими людьми за добрый, легкий и веселый нрав. Его особенно любил и Христос. Евангелие повествует, что Иисус прослезился (Ин,11,35) и, скорбя внутренне (Ин,11,38), пришел ко гробу его. Природное остроумие сочеталось в Лазаре с отзывчивостью, незлобивостью, добродушием. Его часто приглашали в гости: он был общителен и приветлив – “душа компании”, как сказал бы современный человек. Легенда повествует, что после своего воскрешения, Лазарь очень изменился. Как? Он уже никогда не улыбался. То, что он увидел в своей смерти, 30 лет не оставляло его ни на минуту – так же, как и вера в воскресение мертвых, первым свидетельством чего стал он сам.
Болезнь Лазаря не была смертельной: он достиг святости и обрел вечную жизнь. Пусть ничто не омрачит нашу веру в это. Уверуем в это, и вера наша исцелит нас от смертельных болезней.
Эксперименты на больных
Многие из нас не догадываются, что хотя бы раз в жизни сами выступали в роли подопытных. Самое простое и распространенное – клинические испытания новых лекарственных препаратов. Например, импортных, поступивших на российский рынок. Фирмы-производители заключают договор с Минздравом, а иногда и напрямую с клиникой, и поставляют туда пробную партию лекарства. Больные получают их, не подозревая, что стали объектом эксперимента. А если возникают сомнения, врачи знают, как успокоить. Один московский доктор поделился с нами «опытом» – недавно в их больнице испытывалось лекарство от язвы: «Я говорю пациентам, что препарат удалось выбить с большим трудом, по блату. Они не только не отказываются, но и сами просят, чтобы им его назначили».
Все лекарства, дошедшие до стадии клинических испытаний, естественно, сто раз проверены на животных, других экспериментальных моделях. В клинике же выявляются, к примеру, некоторые побочные эффекты, противопоказания, которые могут возникнуть, если лекарство принимает человек.
Ни в коем случае нельзя утверждать, что новые препараты неэффективны или некачественны. Речь о юридическом оформлении испытаний, которое, если не считать ведомственных инструкций, полностью отсутствует. Скажем, на Западе таким испытуемым платят деньги и немалые. Широкой известностью среди бедных студентов пользовалась в Лондоне в 70-е годы частная клиника, где добровольцев сначала заражали насморком, а потом испытывали, насколько быстро новое лекарство этот насморк лечит. У нас же пациента даже не считают нужным информировать, что происходит. Неудивительно, что зарубежные фармацевтические компании стремятся избежать существующего в их странах строгого этического и правового контроля и предпочитают проводить клинические испытания на российских гражданах.
Особенно часто в категорию испытуемых попадают дети, психические больные, заключённые – кто, либо по своему положению не может выбирать лечение, отказаться от эксперимента. Как свидетельствовал на конференции руководитель отдела психофармакотерапии Московского НИИ психиатрии профессор Молосов, импортные психотропные средства испытываются сейчас на пациентах институтской клиники, делается это без согласия больных или их родственников.
Исследователи А. Слепушкин, Н. Обросова, Н. Лонская сообщают о том, как проводили «сравнительное изучение действия живой рекомбинатной и анактивированной гриппозных вакцин у детей 8-15 лет» (журнал «Вопросы психологии»,1994 год, № 4). Из статьи следует, что вакцинацию проводили в одной из московских школ-интернатов и что исследование осуществлялось в рамках советско-американского сотрудничества по проблеме «Грипп и вирусные гепатиты». Но почему сотрудничество представлено только экспериментами на наших детях, к тому же «казенных»?
На конференции всплыла и история тридцатилетней давности. В Эстонии в конце 60-х проводился массовый эксперимент на детях. Испытывался широко применяемый ныне гамма-глобулин. Прекрасное лекарство, спасшее тысячи жизней. Но цель эксперимента была предельно проста – ответить на вопрос, как его лучше вводить: подкожно или внутримышечно? Пациентов детской больницы разделили на опытные группы, а врачи сравнивали, в каком случае гамма-глобулин более эффективен. Родители, естественно, ничего не подозревали.
Сегодня особую проблему в медицине представляют испытания новейших методов диагностики и лечения: рентгенологических, эндоскопических, лапароскопических и прочее, а также апробация новой тактики лечения. Если клинические испытания лекарств регламентированы хотя бы ведомственными инструкциями, то в этой области царит полный беспредел. Защищается, к примеру, диссертация, предлагающая определённым способом излечить язву. Одна из клиник становится базовой – там автор внедряет свой метод и обучает специалистов. А пациент, попавший в эту клинику, уже не имеет право выбора, ему не предлагают (и пока не обязаны) никакой альтернативы лечения. Мало того, он часто становиться моделью для очередного врача-интерна, осваивающего под руководством профессора сложную эндоскопическую технику.
Да, больной в конце концов выздоравливает и отправляется домой, а потом с изумлением узнаёт, что в другой больнице ему могли бы предложить иные, менее болезненные диагностические процедуры, и тактика лечения у тамошних врачей другая. Осваивающие метод и технику врачи предпочитают не задумываться о болевых ощущениях пациента, рациональном использовании его жизненных сил.
Никакой статистики этих «безобидных» экспериментов не существует. Ее попросту никто не вел. Нет данных и о том, сколько человек получило разного рода осложнения или испытали побочные эффекты.
Сами участники конференции (повторяем, там были в основном врачи) по-разному относятся к этим проблемам. Многие пытаются всеми средствами оправдать прогресс науки и считают, что решать, как и чем лечить больного, должны только профессионалы, не обязанные отчитываться перед пациентом.
А вот профессор Крель из Санкт-Петербургского медицинского университета заявил, что «безответственное применение новейших методов превращает современную терапию в область гораздо более опасную, чем хирургия. Пациент в наших больницах по-гулаговски бесправен». Его сторонники вообще считают, что эксперименты на живых моделях нужно ограничить, а если речь идет об испытаниях на людях – неукоснительно подчиниться принципу информированного согласия.
Если следовать западным нормам, больной перед началом испытаний должен подписать некий документ, предупреждающий о возможных последствиях, в котором также оговорена и сумма вознаграждения. Но в России необходимо прежде урегулировать юридическую сторону: несанкционированные испытания должны караться законом. Результаты подобных испытаний не могут быть представлены в качестве материала для докладов на международных конгрессах или статей в научных журналах. Авторы несанкционированных испытаний, «ворующие» результаты у собственных пациентов, не могут получать гранты или другие ассигнования.
Участники конференции надеются, что ситуация с экспериментами будет проанализирована депутатами Государственной Думы, которые в ближайшее время собираются принимать поправки к «Основам законодательства РФ об охране здоровья».
“Препятствие рождению”, или что может быть хуже убийства
“Доступный плод с древа смерти” – позволим себе фольклорную вольность и назовем так одну из современных медицинских технологий: искусственное прерывание беременности. Прогресс – удивительная вещь. Если женщины прошлых времен с болью вопрошали: “Как можно?”, – то современные женщины, в большинстве своем, в недоумении спрашивают: “Почему нельзя?” Действительно, почему нельзя, если законодательство ряда стран, в том числе и российское, торжественно утверждает “право каждой женщины на искусственное прерывание беременности”? Значит, можно.
Но здесь нельзя не вспомнить слова апостола Павла: Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает (1 Кор. 10:23). Смысл глагола “назидать” в толковом словаре Вл. Даля раскрывается через слова “научать нравственно полезному”. Сегодня словосочетание “нравственно полезное” можно отнести к устаревшим понятиям, особенно если находишься в плену плосколинейной прогрессистской модели истории – “устаревшее” прошлое и “передовое“ настоящее. Но почему не теряет ценности “устаревшая” икона XII века по отношению к “передовому” современному произведению искусства? А может быть, “устаревшее” христианское “нельзя” абортам также несоизмеримо с “передовым” либеральным “можно”? Попробуем сравнить два подхода – аргументы либерального “можно” и христианского “нельзя”.
Известно, что либеральное “можно” основывается на принципе: ”Каждая женщина обладает правом распоряжаться своим телом”. Известно также, что либерализм – как правило, производная натуралистическо-материалистических убеждений. В границах натуралистического материализма человек, будь то мужчина или женщина, – это “тело и только тело” (Ф.Ницше). Таким образом, основополагающий принцип либерального “можно” приобретает вид: “Право тела распоряжаться своим телом”. “Масло масляное” – в этом “содержательность” базового утверждения либерального оправдания аборта. Столь же “содержательным” выглядит дальнейший ряд либеральных суждений о том, что “новое существо не является жизнью”. Противопоставление “жизни” и “существования” сохраняется в вопросе “когда же это существо становится человеческой жизнью?” Фундаментальное “открытие” либеральной идеологии – противоречие между правами матери и правами ребенка – опирается на идею естественности состояния “войны всех против всех”.
Как известно, в Библии нет изречений, прямо относящихся к обсуждаемой проблеме, за исключением, быть может, одного установления из “Книги Договора”, согласно которому человек, толкнувший беременную женщину, что стало причиной выкидыша, обязан заплатить штраф (Исх. 21:22). Тем не менее, христианское “нельзя” абортам небезосновательно. Православное богословие полагает, что при решении сложных нравственных вопросов “на первое место чаще всего выдвигается самая жизнь Основателя христианства, как воплотившая в себе идеал совершеннейшего пути ко спасению”. В этом плане Благовещение Архангела Гавриила Марии в момент зачатия Спасителя: Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами (Лк. 1,28)), представляет собой символическую форму христианского понимания начала человеческой жизни.
Этот принцип ставит под сомнение “право женщины на собственное тело”, допускающее, что плод есть лишь часть материнской ткани. “Это не ее тело; это тело и жизнь другого человеческого существа, вверенного ей материнским заботам для кормления” (Харакас С. Православие и биоэтика, “Человек”, 1994, № 2, с. 93).
К каноническим относится суждение св. Василия Великого (IV-V вв. Р.Х.): “Умышленно погубившая зачатый в утробе плод подлежит осуждению как за убийство”. Оценка аборта как “смертоубийства”, как нарушения заповеди “не убий” – одно из оснований христианского “нельзя”.
К мысли об еще одном основании приводит святой Иоанн Златоуст. Он пишет, что плодоизгнание “нечто хуже убийства (выделено автором. – Ред.), так как здесь не умерщвляется рожденное, но самому рождению полагается препятствие”.
Что может быть “хуже убийства”? Очевидно то, что приводит к убийству, что является его основанием. И это – нарушение “первой и наибольшей заповеди”, заповеди Любви. Возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем твоим, и всею душою Твоею, и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на двух сих заповедях утверждается весь закон и пророки (Мф., 22:37-40). Преподобный Максим Исповедник различает пять видов любви: “ради Бога”, любовь “по причине естества, как родители любят чад”, “ради тщеславия”, “из-за сребролюбия”, “вследствие сластолюбия”. Из этих видов любви на второе место Максим Исповедник помещает любовь “по причине естества”. Аборт – это нарушение заповеди любви, причем в самой ее человечески-глубинной сути – через убийство матерью своего ребенка. Даже животный мир, ко сравнению с которым так часто прибегает натурализм, не знает аналогов подобного деяния, свидетельствуя о его противоестественности.
Аборт – это “препятствие рождению”. Но рождение – это “выход из материнской утробы”, которая в христианской семантике является не просто анатомическим термином. Смысл этого слова в христианской традиции, как полагает академик Сергей Аверинцев, чрезвычайно широк и значим: это и “милосердие”, и “милость”, и “жалость” и “сострадание”, и “всепрощающая любовь”. Аверинцев полагает, что символика “теплой” и “чревной” материнской любви особенно характерна для греко-славянской православной культуры (в отличие от античности). Особое почитание Богородицы в православии проявляет себя в величаниях церковных песнопений, в наименованиях явленных икон Божией Матери. П.Флоренский называет некоторые из них: “Истинная Животодательница”, “Нечаянная радость”, “Умиление”, “Отрада и утешение”, “Сладкое лобзание”, “Радость всех радостей”, “Утоление печали”, “Всех скорбящих радость”, “В скорбях и печалях утешение”, “Заступница усердная”, “Взыскание погибших”, “Умягчение злых сердец”, “Избавление от бед страждущих”, “Милостивая целительница”, “Путеводительница”, “Истинный Живоносный Источник”.
Каждое название иконы Богоматери – это буква в алфавите православной нравственности. Из этих букв складывается и понятие о свободе – данной человеку Богом. Н.А. Бердяев понимал грех “не как непослушание, а как утерю свободы”. Женщина, идущая на аборт, теряет свою свободу, теряет дар стать матерью, превращаясь из “сокровищницы рождения” в “сокровищницу убийства”. И какие бы “аргументы” не сопровождали это превращение, они вряд ли смогут превратить “нельзя” в “можно”.
Самопожертвования и жертвы в трансплантологии
В культуре не так много идей, которые обладают сквозной, т.е. многовековой и неубывающей “работоспособностью”. К таким идеям относится идея жертвы. Во всех религиях: древних и новых, племенных, национальных и мировых – присутствует идея жертвы, поражая разнообразием форм своего воплощения.
Не чужда эта идея и современной постсоветской культуре. Но если в ветхозаветном, языческом и, наконец, христианском мире, идея жертвы имела первостепенное значение в отношениях человека с Богом (или богами), то в условиях гуманистически-атеистической культуры она становится регулятором межчеловеческих отношений.
Особое значение идея жертвы получает в современной медицине, в частности в трансплантологии, где она приобретает форму “дарения органов” и становится новым символом любви, взаимной заботы и спасения жизни.
Трансплантология – теория и практика пересадки органов и тканей – новое направление в современной медицине. Не без оснований можно заметить, что оно является одним из самых драматичных для современного общества. Во-первых, потому, что без “жертв” трансплантология обойтись не может. И во-вторых, потому, что расширение практики трансплантации постоянно увеличивает потребность в их числе.
До 1992 года вопрос об удовлетворении растущих потребностей трансплантации (по крайней мере относительно получения органов и тканей от трупов) так остро не стоял. Еще в 1980 году историки медицины констатировали: “Широкое применение в клинической практике кадаверных (трупных – И.С.) тканей и органов составляет неоспоримый приоритет советской медицины” [1]. Дело в том, что с 1937 года постановлением Совнаркома “О порядке проведения медицинских операций” тела сограждан после смерти становились собственностью государства и почти автоматически возлагались на “алтарь” “интересов общества и науки”.
В 1992 году Закон РФ “О трансплантации органов и/или тканей человека” положил конец этому “неоспоримому приоритету”. Законодательство страны было приведено в соответствие с принципами защиты прав и достоинств человека в сфере медицины, разработанными Всемирной Организацией Здравоохранения /ВОЗ/.
Новый закон вводит “презумпцию согласия”, согласно которой взятие и использование органов из трупа осуществляется в том случае, когда умерший при жизни не делал возражений против этого или когда протеста не выражают его родственники. Отсутствие выраженного отказа трактуется как согласие, то есть каждый человек превращается в донора после смерти, если он не провозгласил к этому отрицательного отношения. Вот почему сегодня перед каждым из нас встает задача определить судьбу и участь своего тела после смерти. Это далеко не единственная из весьма неприятных задач, перед которыми оказывается человек, живущий в условиях техногенной цивилизации. Такие условия определяют новый уровень ответственности человека и за себя, и за своих близких, и за благополучие общества. По сути дела, в пространстве современной медицины формируется новый рубеж старой борьбы за человеческие души.
Академик В.И. Шумаков в “Предисловии к руководству по трансплантологии” ставит задачу организации “научно обоснованной пропаганды донорства”. С точки зрения некоторых исполнителей этой задачи, стратегия пропаганды должна быть ориентирована на преодоление “мифического” на их языке, а по сути дела традиционного, религиозного отношения к смерти, к телу, к сердцу человека как средоточию духовной жизни.
Очень бы не хотелось, чтобы российская наука вновь вставала на исхоженный советским атеизмом вдоль и поперек тупиковый путь противопоставления науки и веры. Сегодня естествознание получило возможность понять, во-первых, что действительное различие между наукой и верой является условием их самоценности, и во-вторых, насколько произвольно и упрощенно их “воинственное” исключение друг друга.
В православном Символе веры утверждается “чаяние воскресения мертвых”. Вопрос – включает ли “оживление костей” воссоздание целостности тела, которое стало жертвой трансплантологической практики, является исключительно предметом веры. При этом какую бы научную форму не принимал атеизм, он также обречен всего лишь на веру, правда атеистическую, в невозможность воскресения мертвых, так как никакими научными доказательствами этой невозможности атеизм не располагает и располагать не может. Путь противопоставления одной веры другой – бесперспективен для сторонников и идеологов “научно обоснованного донорства”. Реальные же возможности обоснования донорства заключены не в науке, а в самой религии.
Известно, что все мировые религии охраняют почтительное отношение к телу покойного. В христианстве мертвое тело остается пространством личности. Почтение к умершему непосредственно связано с уважением к живущему. Утрата этого почтения, в частности нанесение повреждений телу, влечет за собой в конце концов потерю уважения к живущему. Свидетельств этому множество. Например, прагматическое использование трупов в медицине влечет за собой рост потребительского отношения к человеку. Это проявляется в устойчивой и, к сожалению, неизбежной тенденции коммерциализации медицины. Закон Российской Федерации “О трансплантации органов и тканей” запрещает куплю-продажу человеческих органов, что как нельзя более убедительно свидетельствует о реальности подобных сделок, создавая при этом новый набор “мотивов” для преднамеренных убийств.
Возможна ли оценка трансплантологической практики и какой она может быть в контексте Православия? Иеромонах Анатолий Берестов, настоятель домового храма преп. Серафима Саровского при Институте трансплантологии, говорит, что Православной Церкви “еще предстоит определиться в этическом плане в отношении вопроса трансплантологии” [2]. Это определение, конечно же, будет включать анализ того, как произошел и происходит подмена добра злом, как стремление спасти человеческую жизнь оборачивается уничижением другой жизни – “нанесением вреда” живому донору, использованием человеческих трупов в качестве доноров, отношением к пациенту с диагнозом “смерть мозга” как хранилищу запасных органов и т.д. и т.п.
Эти явления вопиют о том, что даже такая фундаментальная цель, как спасение человеческой жизни, требует соблюдения множества условий (среди них одно из основных – соблюдение принципа добровольности), то есть ценностей, составляющих суть самопожертвования. В православной этической традиции никогда не шла речь о том, что нельзя жертвовать собою во имя спасения жизни человека. Напротив, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих (Ин. 15,13). Сама жертвенная смерть Спасителя является свидетельством этической ценности самопожертвования. Но самопожертвование как сознательное и добровольное действие человека исключает любое психологическое или силовое воздействие. Определенным видом нравственного насилия, с нашей точки зрения, может стать превращение человеческой способности к жертвенности в норму, или правило, или новый критерий гуманности. Тем более, что Россия уже пережила однажды горький опыт ”внедрения” подобных критериев.
Речь идет об известной в 30-х годах теории и практике “богостроителей”. А.А. Богданов, создатель первого в мире института переливания крови (1926 г.), видел в донорстве – этическую и социальную норму, а в переливании крови – один из способов “братания” людей (буквального), и создания из отдельных индивидов (опять же буквально) единого социального организма [3]. На самом же деле, отдельные индивиды, вынужденные соответствовать новым социальным нормам, становились лишь жертвами “благих” идей и целей, одна из которых в формулировке Богданова – преодоление “советской изношенности” ответственных государственных работников.
Практика трансплантации органов вышла сегодня из узко экспериментальных рамок на уровень обычной медицинской отрасли. Своей несоразмерностью этическим христианским ориентациям она небывало увеличивает социальную опасность ошибки, которая может оказаться гибельной для каждого человека и для культуры в целом.
Найти, понять и принять меру сотворчества Бога и человека в спасении Жизни – это действительно непростая задача разумного отношения к этическим проблемам трансплантации. Но путь разума, и особенно разума нравственного, не исключает, а предполагает и запреты, и самоограничение. Как полагают философы, все разумное имеет свои пределы, беспредельны только глупость и безумие.
Примечание:
[1] Мирский М.Б. Из истории разработки в советской медицине нормативных актов по взятию кадаверных тканей и органов.// Актуальные проблемы трансплантологии и искусственных органов. М., 1980. С. 114.
[2] Врач тела и души. Беседа с врачом и священником при Институте трансплантологии о. Анатолием (Берестовым). «Татьянин День»? 1996. № 7. С. 8.
[3] Пародия на Церковь – Тело Христово, в Котором и осуществляется единство верующих — И.С.
«Беспамятство – разрушительно, память – созидательна»
(К 50-летию принятия Нюрнбергского Кодекса)
«Беспамятство – разрушительно, память – созидательна» [1] – эти слова Д.С. Лихачева приобретают особый смысл в год 50-летия принятия Нюрнбергского Кодекса. Нюрнбергский процесс (1946-1947 гг.) вскрыл факты чудовищных по своей жестокости и по своему размаху медицинских экспериментов на человеке, когда огромное число узников концентрационных лагерей, в основном негерманского происхождения, использовались для научно-исследовательских целей и медицинских опытов. Именно эти «исследования» и «опыты» стали неотъемлемой частью понятия «преступление против человечности». В ходе судебного разбирательства было собрано множество документов, в том числе протоколы о проведении экспериментов над людьми с целью исследования влияния на человеческий организм переохлаждения, действия ядов. Миллионы людей специально заражались интересующими «экспериментаторов»-медиков болезнями и «при минимальных затратах времени и усилий» исследовались методы лечения и достижения иммунитета к малярии, инфекционной желтухе, сыпному тифу. Стали известны всему миру эксперименты по стерилизации, ренегации костей, мышц, нервной ткани, по пересадке костей и т.д. и т.п. В конце августа 1947 года 1-й Военный Трибунал США, действовавший по договоренности с союзниками и по приказу американской администрации в Германии, вынес Приговор по делу «медиков». Нюрнбергский Кодекс – это первый в истории международный «Свод правил о проведении экспериментов на людях», который возник в результате осознания вопиющего несоответствия некоторых видов медицинских экспериментов на человеке этическим принципам медицинской профессии и человеческой морали. Нюрнбергский Кодекс для многих до сих пор справедливо рассматривается как свидетельство зверств и перегибов «нацистской лженауки» и в то же время как своеобразный символ нравственной чистоты науки в цивилизованном мире. Но так ли это?
«Беспамятство — разрушительно…» – и мы вспоминаем о еще одной дате – 95-летней годовщине первого издания книги В. Вересаева «Записки врача». В своей книге врач, ординатор Боткинской больницы в Петербурге, Викентий Смидович (литературный псевдоним – В. Вересаев) разоблачает цинизм отношения врачей к пациентам, описывает типичное для «специалистов» поругание трупов, возмущается тем, что врачи не останавливаются перед экспериментами над человеком, забывая «о различии между людьми и морскими свинками» [2].
«Прочтите «Записки врача», и вас невольно охватит холодный ужас, – писали в одной из российских газет начала века [3]. – Совершенно спокойно доктор, пользуясь своим положением, прививает больным различные болезни и с любовью следит за их развитием. Казалось, убедившись, что прививка удалась, он должен был бы торопиться уничтожить содеянное им зло, но этого нет. Он дает болезни развиваться, и до такой степени, что она уже угрожает опасностью самой жизни, но зато ею могли полюбоваться его коллеги, которым он давал возможность изучать столь интересный и редкий пример болезни. Хорошо это или нет? Зачастую опыты делаются без всякого смысла и основания, так, чтобы сделать опыт… Другой вопрос – довольна ли его жертва, которой он причинил страдание?.. Но это ему решительно все равно. А что же больные? – спросите вы. – Они обыкновенно умирают. – Как, и ничего? – Ничего. Они умирают во славу науки, потому что сам Бильрот [4] еще говорил, что медицина добивается успехов через гору трупов».
«Во славу науки» – принцип, который, как ни парадоксально, может объединить «цивилизованную» и «нацистскую» медицину. Ведь, как известно, – «во славу науки» – было одним из аргументов, выдвигавшихся в защиту нацистских «врачей».
«Беспамятство – разрушительно»… 80 лет назад в России произошла Октябрьская революция, идеологи которой хотели построить в России «общество, опирающееся на науку в своем развитии». Вместе с самой «научной» и все определяющей коммунистической идеологией – «научность» вытесняла традиционные для культуры морально-нравственные ценности. Интересы «революционной» науки, освобожденной в 1917 году от морально-этических и религиозных ценностей, определили, например, решение Совнаркома СССР о поддержке чудовищных практических опытов по получению «новогибридного человека» путем скрещивания людей с антропоморфными обезьянами. В своем отчете за 1928 год, представленном в Совнарком СССР Председателю Комиссии по содействию работам Академии Наук СССР, проф. Иванов, руководитель экспериментального проекта, писал: «Серьезным тормозом для постановки этой экспериментальной работы являлись также предрассудки религиозного и морального характера. В дореволюционной России было совершенно невозможно не только что-либо сделать, но и писать в этом направлении». Действительно, проф. Иванов не боялся встретить отказ в поддержке его эксперимента по искусственной случке людей с обезьянами из-за «предрассудков религиозного и морального характера»: чего не было у идеологов и организаторов Октябрьской революции, составивших правящую верхушку страны, того не было [5]. А вот идеологических спекуляций разного рода по поводу «объективности» науки было предостаточно.
В интересах «революционной науки» было, в лучшем случае, игнорирование, а обычно типичное клеймо – «мракобесие» как оценка теорий, пытавшихся предупредить о возможных последствиях культа «объективности», а значит, бесчеловечности самой науки. Ведь «объективность» науки весьма относительна. Она всегда находилась и находится в границах нашего понимания и наших смыслов, она не может быть «чистой», она всегда в той или иной форме функциональна, то есть зависима, в том числе и от человеческих взаимоотношений, а значит неразрывно связана с решением моральных проблем.
«Беспамятство – разрушительно..» На протяжении 19-ти веков человек, развивая и совершенствуя свой разум, как поистине Божественную способность, пытался понять мир в согласии с духовно-нравственным законом, в согласии с чувством ответственности, совести и любви, различая добро и зло. К началу XX века, питаясь мощным энергетическим потенциалом христианских ценностей – святости жизни, милосердия, делания добра, – наука, в частности медико-биологическое знание, приходит к ликвидации постоянно угрожающих человечеству факторов риска – эпидемий, инфекционных заболеваний. Наука прошла громадное расстояние и разгадала множество тайн. То, что было непостижимым, становилось доступным человеческому разуму. Достижения медицинской науки снижали детскую смертность, исцеляли болезни и «исторгали из когтей смерти ее преждевременные жертвы».
Но нельзя закрывать глаза и на известные падения науки, которые поистине чудовищны в своей действительности. Это и изобретение ядерного, биологического и т.п. оружия массового поражения, способного уничтожить жизнь на Земле за самый ограниченный промежуток времени. Как это ни парадоксально, но падения преобразующего разума наиболее глубоки в современной биомедицине, призванной охранять человеческую жизнь. Заготовка «запасных» зигот и их последующее уничтожение – условие процедуры искусственного оплодотворения. Отрицательные результаты пренатальной диагностики – еще одно мощное основание «показаний» для искусственного прерывания жизни находящегося в материнской утробе ребенка. Превращение человеческих зародышей в фармацевтическое «сырье» является условием фетальной терапии.
Христианство не против науки. Оно «рассматривает науку как необходимый инструмент этой жизни» [6]. Более того, слова Спасителя: Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит (Ин. 14, 12) православное христианство трактует как призыв к делам человеческим, в том числе и к развитию науки и научных теорий. Но не «любых», а лишь тех, которые, как учит Нектарий Оптинский, «не портят нравственность».
«Человек двухсоставен, духовно-телесен, и его нормальное бытие невозможно без соответствующей гармонии этих двух начал… Уже по этой причине, в силу единства духовной и физической природ в человеке, взаимосвязь религиозного и научного знания естественна и необходима» [7]. Разрыв этой взаимосвязи и приводит к возникновению феномена «полу-науки». Слова св. Василия Великого в «Беседах на Шестоднев» о «полуученых» его времени становятся все более уместными в наши дни: » Не имеют ли те, кто посвятил себя полунауке, глаза сов, ибо зрение совы, проникающее сквозь мрак ночи, поражается великолепием света». Ф. Достоевский пишет о феномене «полунауки» почти в апокалиптическом тоне: «Полунаука, – говорит один из его героев, – есть невиданный прежде деспот; деспот, имеющий своих собственных жрецов и рабов; деспот, перед которым всякий преклоняется с любовью и суеверным страхом, нечто до сих пор невиданное, перед чем постыдно дрожит и трепещет наука» [8]. Полунаука максимально проявляет себя в современном научно-техническом прогрессе, деспотизм которого обусловлен отсутствием благоразумия, то есть нравственной неполнотой разума.
Нравственная неполнота разума формирует такое явление как «рациофашизм» (П. Фейрабенд), когда под знаменем научной рациональности и ради «объективного» знания вживляются раковые клетки в здоровый организм человека. Или когда ради «объективной» информации отказываются от лечения больного, погибающего от болезни. Или когда без ведома и согласия больных их используют для клинических испытаний новых лекарственных препаратов. К сожалению, перечень подобных примеров, сопровождающих современную научную работу, может составить не одну страницу. Сегодня к ним добавляются вопросы о практических, социокультурных последствиях современных биомедицинских технологий. Например, насколько социально безопасно распространение генетического тестирования или вмешательство в геном человека? Или насколько этически допустимо клонирование клеток человека с целью получения его»оригинальных копий», «запасных частей»? Эти вопросы выходят далеко за узкие рамки внутринаучной области и касаются как каждого человека, так и судеб общественного развития в целом.
Нюрнбергский Кодекс 1947 года стал первым в истории цивилизации документом, поставившим проблему этической и социальной ответственности ученых на уровень социально-значимых общецивилизационных проблем.
«Память созидательна…» – и
«отдавая себе отчет во все нарастающем прогрессе в области биологии и медицины;
будучи убеждены в необходимости уважения человека как индивида и как представителя биологического вида, а также признавая важность вопроса об обеспечении уважения его достоинства;
отдавая себе отчет в том, что неправильное использование достижений биологии и медицины может повлечь за собой угрозу достоинству человека;
подтверждая убежденность в том, что прогресс в области биологии и медицины должен быть использован на благо нынешнего и будущего поколений людей;
подчеркивая необходимость международного сотрудничества во имя того, чтобы все люди на Земле могли пользоваться благами, предоставляемыми достижениями в биологии и медицине;
признавая важность расширения широкого общественного обсуждения проблем, связанных с использованием достижений биологии и медицины, а также важность результатов такого обсуждения;
стремясь напомнить всем членам общества об имеющихся у них правах и обязанностях;
будучи преисполнены решимости предпринять меры, необходимые для защиты достоинства, а также основных прав и свобод человека в области использования достижений биологии и медицины», более 20 государств, являющихся членами Совета Европы, подписали «Конвенцию о защите прав и достоинства человека в связи с использованием достижений биологии и медицины: Конвенцию о правах человека и биомедицине». Конвенцию, которую Россия, несмотря на свое членство в (Совете Европы, к сожалению, еще не подписала. Почему? Ведь… «беспамятство – разрушительно…»
Примечание:
[1] Лихачев Д.С. Память преодолевает время // Наше наследие. 1988. № 1. С. 1.
[2] Вересаев В. Записки врача. СПб. 1902 . С. 150.
[3] «Не пора ли?»// Русское слово. № 39. 1901. 9 февр.
[4] Бильрот Теодор (1829-1894) – один из выдающихся хирургов XIX века.
[5] О советских экспериментах по скрещиванию человека с обезьяной // Еженедельник «Вечерняя Москва». № 34. 1994. 25 авг.
[6] Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. М., 1997. С. 146.
[7] Там же, С. 145.
[8] «The Devils». Harmondsworth: Penquim books. 1971. P. 257.
По образу человеческому (клонирование)
В конце XIX Фридрих Ницше впервые поставил проблему “человекобожия” в антихристианском смысле. Устами Заратустры он предложил свою версию ее решения в учении о “сверхчеловеке”.
Практически одновременно Федор Достоевский сформулировал идею Богочеловечества. С этого времени дилемма “Богочеловечество – человекобожие” становится ведущей для русской философии. В первой половине ХХ века в форме интеллектуальных дискуссий на уровне журнальных публикаций и книг, издаваемых за рубежом, она выглядела весьма абстрактно. В конце ХХ века на уровне биомедицинской практики она наполняется вполне конкретным содержанием. В начале века “человекобожие” – это, как правило, мнящая себя средоточием достоинств, гуманистическая гордыня. В конце века “человекобожие” – это стремление выйти на уровень “творения”, т.е. создания живых организмов с желательными для человека свойствами и параметрами.
В 1997 году было создано первое в истории искусственное млекопитающее (овца Долли). Технология этого процесса была названа “клонирование”. Она представляет собой новую форму искусственного размножения живых организмов, при котором из одной родительской клетки взрослого организма получают генетически идентичную особь (или особи). Препятствий логического и теоретического плана на пути к клонированию человека не существует. Технически же клонирование человека пока невыполнимо, но, тем не менее, наука неудержимо приближается к этому рубежу. Помимо человека, сотворенного Богом, современная культура вправе ожидать прибавления – существ склонированных, т.е. сотворенных человеком по своему, человеческому, “образу” и по своему, человеческому, “подобию”.
“Что же в этом плохого?” – спросят одни. “Наконец-то”, – обрадуются другие. И среди них прежде всего государственники-сциентисты [1]. К ним, например, принадлежит г. С.Е. Мотков, который еще в 1991 году полагал, что пришла пора использовать достижения генетики в целях государственной политики. Генетический груз, который ведет к биологической деградации населения, достиг в настоящее время критической точки. К биологической (генотипической) деградации, происходящей в результате загрязнения внешней среды, резкого ослабления естественного отбора по причине успехов медицинской науки, добавляется моральная (фенотипическая) деградация – расслабление воли и развитие порочных склонностей – алкоголизм, наркотики, разводы, самоубийства, преступность. С точки зрения С.Е. Моткова, одной из мер выхода из кризисной ситуации является прочное закрепление идеи искусственного отбора в государственной идеологии и политике. Государство должно начать проведение “евгенического эксперимента” сначала в небольшом городе, “постепенно расширяя территорию, охватываемую евгеническими мероприятиями”. Что же включают в себя “евгенические мероприятия”? Это – отбор граждан на основе психологического тестирования, медицинского обследования, сведений об успеваемости (школа, ВУЗ) и т.п.; искусственное осеменение на основе отобранной спермы (ведущий показатель доноров спермы – коэффициент интеллектуальности (КИ)) и т.п. Цель подобных мероприятий – повышение “умственных способностей населения”.
Профессор А.П. Акифьев, заведующий лабораторией механизмов мутагенеза Института Химической физики им. Н.Н. Семенова РАН призывает руководителей государства – и теоретиков, и практиков, которые заняты реформированием общества” учитывать “двойственную бисоциальную природу человека”. “Все, что мы сейчас наблюдаем: падение дисциплины и нравственности, лень, крайне низкая производительность труда и качества продукции (99% ее неконкурентоспособности на мировом рынке), стремление все сделать нечестным путем и ощущение радости и гордости за совершенный обман или мелкую кражу, невероятное по масштабам пьянство, жестокость (пример тому дедовщина в армии), бесчисленные порой крайне циничные нарушения врачами их морального кодекса – клятвы Гиппократа, катастрофический (некоторые считают даже обвальный рост преступности и т.д. – все это в совокупности, с моей точки зрения, свидетельствует не только о пороках системы, но и отражает признаки генетической деградации нации, явилось следствием господства тоталитаризма”. В то же время задавая вопрос, вправе ли мы сегодня отказаться от евгенетических замыслов, А.П. Акифьев полагает, что “нет, особенно если учесть, что сегодня в качестве важнейшей цели евгеники следует считать создание генофонда, наиболее благоприятного для здоровья, благосостояния и процветания человечества на основе методов, достойных человека”.
Перечисленные попытки выйти на биогенетический путь “благосостояния и процветания человечества” – не первые и не последние в культуре. Известным и показательным в этом отношении фактом отечественной науки было увлечение евгеникой Н.К.Кольцова, который в 30-е годы основал Русское евгеническое общество и журнал. Его разочарование и отказ от евгеники были связаны с осознанием того факта, что, например, критерий повышения “умственных способностей населения” не защитит общество от появления криминальных «талантов”, а расовые критерии не уменьшат количества генетический дефектов. Да и обладает ли человек правом на селекцию себе подобных и “проектирование” тех или иных качеств человека? В границах “человекобожия” этот вопрос решается однозначно. При этом “благие намерения” улучшить больное человечество планируется реализовать, ориентируясь на самые лучшие человеческие качества. При этом нельзя не напомнить, что суть “человекобожия” заключается в принципиальном различении и разделении “природного человека от духовного”. Это разделение, по словам Бердяева, дает свободу творческого развития природному человеку, удалившись от внутреннего смысла жизни, оторвавшись от божественного центра жизни, от глубочайших основ самой природы человека. Для философии “человекобожия” высшим идеальным измерением является исключительно сам человек и все “человеческое”.
Но может ли “человеческое” и только “человеческое” выполнять функцию абсолюта, критерия, или высшей идеи? Достоевский полагал, что даже если рассматривать “человеческое” как некий феномен, представляющий интересы рода, то идеала все равно не получится, ибо сумма равна слагаемым, со всеми их свойствами. Идеал, “высшая идея” является стержневым структурным элементом существования человека и общества. Подлинным идеалом, качественно отличающимся от различных человеческих мерок, является Христос. “Христос был вековечный от века идеал, к которому стремится и по закону природы должен стремиться человек”, – утверждал Достоевский. Богочеловеческая сущность Христа – это онтологическая возможность и заданность нравственного совершенствования человека. Оно реализуется через свободное, духовное, “умное делание” человеком самого себя, постоянно корректируемое “божественным центром жизни”. “Человекобожие” как попытка человека определить абсолютные критерии “лучшести” для самого себя из самого себя, рано или поздно оборачивается разными формами субъективизма, который в лучшем случае приводит к фарсу, в худшем – к катастрофе.
Примечание:
[1] Спиентизм — мировоззрение, рассматривающее науку в качестве главного фактора прогресса и средства решения социальных проблем. – И.С.
Две сексуальных революции
Европейская история пережила две сексуальных революции, два значительно длительных периода переоценки сексуальности человека и сексуальных отношений. Первый относится к эпохе распада Римской империи и формирования христианской культуры, второй – ко второй половине ХХ века.
Исследователи античности отмечают в качестве одной из ее особенностей “проникновение полового элемента во все сферы жизни (культ фаллоса, специфические половые божества, свободное проявление полового элемента в общественной жизни, литературе, искусстве)”. В “наивности разврата” заключалось одно из своеобразий античной культуры.
Половые извращения у греков и римлян И. Блох оценивает как “всеобщие антропологические явления – т.е. такие, которые встречаются повсюду и во все времена, независимо от культуры и вырождения”. В то же время он и другие исследователи античности говорят о крайней интенсивности фактора сексуальных удовольствий, половой распущенности и извращенности в позднем Риме. Полибий в “Истории” свидетельствовал: ”Люди впадали в великий блуд и любостяжание и роскошь, и не женились, а если и женились, то не желали воспитывать родившихся детей”. Юстин писал об обычае выбрасывать детей. “Выбрасывать детей худо и потому еще, что их подбирают обычно развратные люди и выращивают (как девочек, так и мальчиков) исключительно для своих сексуальных развлечений. Многие римляне держали целые стада таких детей”. Славою женщины считалось наличие большого числа мужчин-любовников. Целомудрие и добродетель оценивались как доказательство уродливости женщин. Примеры и свидетельства половой извращенности, царящей в эту эпоху, составили не один том. Исследователи античности неоднократно приходили к выводу, что кризис и гибель этой культуры были тесно связаны с духовно-нравственным вырождением, которое не в последнюю очередь определялось типом сексуальных отношений.
Г.К. Честертон писал: ”К несчастью античной цивилизации для огромного большинства древних не было ничего на мистическом пути, кроме глухих природных сил – таких как пол, рост, смерть… Древние сочли половую жизнь простой и невинной – и все на свете простые вещи потеряли невинность. Половую жизнь нельзя приравнивать к таким простым занятиям как сон или еда. Когда пол перестает быть слугой, он мгновенно становится деспотом. По той или иной причине он занимает особое, ни с чем не сравнимое место в человеческом естестве; никому еще не удалось обойтись без ограничения и очищения своей половой жизни”. Характеризуя это время, он справедливо утверждал, что “христианство явилось в мир, чтобы исцелить его, и лечило единственно возможным способом“ – аскезой. Это исцеление и было первой сексуальной революцией в европейской истории. Г. Миллер в исследовании “Половая жизнь человечества” констатирует: “Прямо поразительно, сколько было сделано в этот период Церковью для упорядочивания половой жизни, а через это – к оздоровлению общественного организма… Именно здесь сидела глубже всего и была всего упорнее болезнь века”.
Христианство осуществляет принципиальное изменение смысла человеческой сексуальности. Сексуальность как вечно живое “животное в человеке” (Платон) становится проявлением “единомудрия и целомудрия” супругов. В таинстве брака сексуальность освящается и превращается в свидетельство любви, в “реальное вхождение в сферу бесконечного бытия”, “в противоядие смертности” [1] .
Содержание сексуальной революции, которую на протяжении нескольких столетий осуществляло христианство, заключалось и в утверждении принципа моногамии, и в одухотворении отношений между мужчиной и женщиной, и в утверждении аскетизма как формы духовной свободы человека.
Вторую сексуальную революцию, вернее контрреволюцию, европейская цивилизация переживает с середины ХХ века. Ее символическим началом можно считать выход в свет в 1953 году журнала “Плейбой”. Сегодня уже очевидны ее реальные последствия. Это – раннее начало половой жизни, увеличение числа половых партнеров, рост числа разводов, легализация гомосексуализма, нарастающая эпидемия СПИДа, распространение венерических заболеваний и изматывающая бездуховность. Для нее характерен негативизм по отношению к моральным ценностям христианства и обращение к язычеству как эталону понимания сексуальности. “Язычество оправдывает все варианты сексуальной любви и эротических наслаждений“ – лейтмотив современной сексологии.
Для современного сексуального либерализма характерна не только реставрация языческого смысла сексуальности как наслаждения, но и новое понимание сексуальности как средства поддержания здоровья, формирование сексологии с выделением сексуальной функции как самостоятельного предмета исследования медицинского знания.
При этом основная причина сексуального нездоровья, с точки зрения половых либералов, заключается в традиционном моральном ограничении сексуальности. “Освобождение” сексуальности – это не только условие возникновения и существования сексологии, но и одно из ее теоретических оснований.
В современной сексологии исчезает понятие “сексуальное извращение”. Его заменяют понятия “сексуальное предпочтение”, “сексуальная ориентация”. Одним из результатов и одновременно примеров “освобожденной сексуальности” является появление в центре Москвы нового развлечения для мужчин – “пип-шоу”. По меркам Девятого пересмотра Международной классификации болезней (1975) это развлечение относится к разряду сексуальных извращений – вуайеризма (получение сексуального удовлетворения от подсматривания за раздевающейся женщиной, половым актом и т.п.). А нынче газета “Аргументы и факты” (№ 23 за 1997 год) подробно описывает процесс организации и характер протекания данного развлечения.
Но даже постоянная реклама подобного шоу в периодической демократической прессе не решит задачу, стоящую перед секс-бизнесом и его “служанкой”, современной сексологией. Задачу переориентации общественного сознания и переоценки сексуальных нормативных моделей в обществе. В качестве реального средства ее решения половые либералы выбирают такую крупномасштабную акцию, как внедрение программ по сексуальному образованию в школах России. Основным фундаментом внедряемого образования является современная “свободная сексология”.
История европейской культуры, в частности история двух сексуальных революций, свидетельствует, что сама современная сексология является одной из разновидностей патологии. К.Г. Юнг предупреждал: “Врач всегда должен помнить о том, что болезни – это просто нарушение нормальных процессов, а отнюдь не entia per se (самостоятельная сущность) со своей отличительной психологией. Similia similibus curantur (подобное лечат подобным) – это замечательная истина старой медицины, и, как всякая великая истина, она легко может оказаться величайшим заблуждением”. История культуры предупреждает: “Человек всегда должен помнить о том, что его свобода – это просто умение владеть и управлять собой, а отнюдь не беспомощное следование физиологическим потребностям. Иго Мое благо, и бремя Мое легко (Мф. 11,30) – эта вечная евангельская истина надежно охраняет нас от всякого рода физиологического рабства и болезненных заблуждений”.
Примечание:
[1] Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. – М., 1991. С. 247.
Нравственно ли “зачатие в пробирке”
Принятие на “ура” любой новой победы над природой, чего бы она ни стоила и к чему бы она ни привела, – это подход упрощенного просвещенчества. Но кто сегодня, после Хиросимы и Чернобыля, безоговорочно сможет разделить такую позицию? Кто сегодня не видит связи между “победным” открытием явления радиоактивности и практически неразрешимой проблемой ядерного разоружения? Кто сегодня способен отрицать, что любая технологическая новация должна быть выверена ее нравственным измерением, параметрами которого является соотношение целей и средств? По крайней мере, со времени Канта (“Человек не только средство, но и цель”) очевиднейшим критерием социального признания “цели” деятельности становятся “средства” ее достижения.
Что касается идеологии оправдания искусственного размножения, то она выстраивается, по сути дела, на спекуляциях относительно исполнения естественного права человека на продолжения рода. Но “средство” или “цена” нового метода – здоровье или даже жизнь женщины.
Показательно в этом плане, что в одном из центров по лечению бесплодия перед началом процедуры женщина и ее супруг в обязательном порядке должны оформить “заявление”, которое начинается так: “Мы предупреждены о том, что оперативное вмешательство, применяемое для такого лечения, может сопровождаться осложнениями…” Далее по тексту: “Нам известно, что в связи с трудностями процедуры может потребоваться не одна попытка для достижения беременности, а также, что лечение бесплодия может оказаться безрезультатным”. Очевидно, что осознаваемая степень риска вынуждает организаторов искусственного размножения ввести в документ такой пункт: “Заявляем, что мы не будем возбуждать уголовное дело против сотрудников Центра, не предпримем каких-либо действий, судебных преследований, исков или счетов, связанных с проводимым лечением”.
Можно сказать, что любое медицинское вмешательство сопряжено с риском, но не каждое оформляется таким юридическим освобождением от ответственности за процедуру. Помимо этого, никто не станет отрицать, что решение пойти на личные испытания во имя появление на свет ребенка, само по себе безусловно нравственно. Но обратимся опять к тексту “заявления”: ”Мы предупреждены о том, что… дети, рожденные в результате ЭКО, ГИФТ, ЗИФИ (методики), могут иметь отклонения в развитии”. Кстати, судьба этих детей, их физическое и нравственное здоровье вообще оказываются вне границ компетенции специалистов по искусственному оплодотворению. Здесь царит закон жестокого разделения труда. Дети – это ведомство педиатрии. Но серьезные педиатрические исследования по данному вопросу практически отсутствуют.
Практика искусственного размножение являет собой классический пример торжества “цели” (право на потомство) над средствами (здоровье женщин и будущих детей). И не слишком вписывается в границы нравственной целесообразности и справедливости. Особенно если учесть платность подобных услуг. Интересно, что именно от женщины, решившейся на эту процедуру, а не из криминальной хроники, я услышала фразу: “Мой ребеночек будет стоить 300 тысяч рублей”. Очевидно, этому не надо удивляться, ибо безначально безнравственная ситуация обладает свойством плодить себе подобные. Цепная реакция безнравственности, трансформируя сегодня индивидуальное сознание, завтра может выйти на уровень общественного сознания.
Прежде всего специалисты опасаются возможных изменений социальных и половых ролей в традиционных семейно-брачных отношениях. Так, ребенок, родившийся в пробирке, может иметь пять родителей, из которых двое – заказчики, двое – доноры (спермы и яйцеклетки) и одна – вынашивающая мать. Вслед за этим усложняется институт всех последующих родственных связей. Последствия возможного перераспределения социально-родственных отношений – серьезный фактор, который нельзя не учитывать, пытаясь прогнозировать возможные результаты искусственного размножения.
Еще более сложная ситуация может возникнуть при условии выхода данной технологии за пределы ”терапии бесплодия”. О чем идет речь? Во-первых, о косвенной поддержке инвертированных лиц (гомосексуалисты, лесбиянки) и о перспективе воспитания детей в однополых семьях. Во-вторых, о возможных деформациях института семья и брака при условии “индустриализации” акта деторождения. В-третьих, о неизбежных трансформациях нравственного сознания, которые будут связаны с обесцениванием таких ценностей как “любовь”, “братство”, “альтруизм”, “милосердия” и других, связанных с ними нравственных понятий, коренящихся в биофизиологической “плоти” человеческих взаимоотношений.
Это далеко не полный перечень того, чем может завершиться неуправляемое и безответственное внедрение “средств переделки и коррекции человеческой природы”. Мы вполне можем разделить точку зрения, что эта “коррекция” – одно из тех “благих намерений”, которыми вымощена дорога в весьма сомнительное, по крайне мере в нравственном отношении, будущее. Остается надежда на свободное право каждого не пойти по этой дороге. И надежда на принятие специального и детального законодательства, обеспечивающего это право.
Вопрос ребром о «ребре»
(Женщина в мире христианства и в антимире психоанализа)
“И создал Господь Бог из ребра, взятого
у человека, жену, и привел ее к человеку”.
(Быт.2:22)
В прошлом году Б.Н. Ельцин издал Указ № 1044 “О возрождении и развитии философских, клинических исследований психоанализа”. В настоящее время вводится новая программа сексуального образования для школьников, где отношения мужчины и женщины описываются как отношения машин по извлечению удовольствия. Эти и многие другие факты говорят о том, что в современном мире утрачивается христианское понимание роли женщины и смысла любви. О том, как это происходит, – статья медика и философа Ирины Силуяновой.
Физиологическая метафоричность многих библейских текстов очевидна. Она не раз становилась предметом размышления и методом, с помощью которого христианская мысль пытается открыть и проявить, по выражению блаженного Августина, “видимое вещество и невидимое существо”. “Сердечность” человека – понятие не из ряда научных понятий патофизиологии. А “материнское чрево” становится важнейшим символом христианского смысла человеческих отношений – милосердия, милости, жалости, сострадания, любви, умиления, душевной теплоты. Какой же смысл вложен в конкретную анатомо-физиологическую определенность творения женщины из ребра Адама?
Макс Фасмер, создатель уникального “Этимологического словаря русского языка” связывает слово “ребро” c греческим , что означает “покрывать крышей”. В медицинском контексте ребро значимо как элемент функций защиты таких внутренних органов как сердце, легкие и др. Если исходить из перечисленных смыслов, то оказывается, что женщина призвана покрывать, защищать, охранять мужчину. Весьма неожиданный поворот. Но чрез “видимое вещество” мужской силы в христианской традиции действительно прослеживается значение “невидимого существа” женского “покрова” – заботы, долготерпения, самоотверженности. Порой только это и может спасти мужчину, как, например, в случае с Раскольниковым и Сонечкой Мармеладовой.
В евангельских повествованиях Христос не раз обращает внимание на особую силу веры некоторых женщин: О, женщина! велика вера твоя (Мф.15:28). Как символично, что именно женам-мироносицам, а не апостолам, впервые является воскресший Христос, и именно женщины становятся первыми вестницами Воскресения (Мф. 28:8-10, Мк.16:7-11, Лк. 24:9-11, Ин. 20:1-2).
Не этой ли великой вере княгини Ольги поверил народ? Не этой ли верою слабых женщин по промыслу Божьему была сохранена Церковь в России во времена жестоких гонений? Не этими ли христианскими смыслами определялось и традиционное светское отношение к женщине в России (в противоположность исламскому Востоку)?
В начале 90-х годов директор Центра репродукции человека Министерства здравоохранения и МП РФ Андрей Акопян, который в числе первых стал заниматься в “новой” России транссексуальной хирургией, говорил об одной “государственной” особенности транссексуализма. Если во всех странах мира среди транссексусалов преобладают мужчины, которые стремятся поменять свой пол на женский, то в бывшем Советском Союзе все было наоборот – очевидным было явное преобладание женщин, желающих стать мужчинами. Этот факт – небольшое, но весьма глубинное свидетельство несостоятельности политики женской эмансипации, о которой “так долго говорили большевики”.
Транссексуальная хирургия, ставшая реальностью современной медицинской практики, в числе многих вопросов, привлекает внимание к вопросу о психологических признаках женственности. Этот весьма специфический, частный, “богемный” вопрос приобретает действительную актуальность сегодня, когда в результате так называемых “реформ” на общественное и индивидуальное сознание буквально обрушился поток “клубнично-черной” информации, пытаясь произвести очередную революцию в умах. Никто не станет отрицать, что русская литература даже в советской школе делала свое дело. И порой, вопреки реальности “асфальтно-оранжевой женственности”, в общественном сознании “работали” ценности и представления о женщине как о “райском создании”, “прекрасной даме”, “божестве и вдохновеньи”. Блоковское – “Российская Венера бесстрастна в чистоте, нерадостна без меры” – было кодом идеального культурно-национального отношения к женщине.
В западной же культуре все чаще приходится сталкиваться с активно “работающей” интерпретацией женщины как “низкого величья” и “цветка зла”. Западно-европейская литература от художественной до философской широко представлена сентенциями вроде: “женщина может быть или проституткой, или преступницей”, “женщина – аморальна”, “единственное искусство, доступное женщине – это искусство лжи” и т.п. Вершиной этих тенденций явился классический психоанализ с его принципом – “быть женщиной само по себе преступно”. Однако психоанализ не только заявил, но и теоретически обосновал это положение, вводя понятие “комплекса кастрации”.
В 1903 году О. Вейнингер в книге “Пол и характер” говорил, что в силу особенностей женской психологии человечество вряд ли когда-нибудь будет располагать таким феноменом как психология женщины, написанная самой женщиной. Прогнозы Вейнингера не сбылись. Уже через 25 лет психология обогащается дифференцированным подходом к женской психологии, у истоков которого стоит женщина-психоаналитик Карен Хорни.
Карен Хорни в рамках и средствами самого психоанализа несколько смягчает яркую окраску сущностной “преступности” женщины в классическом психоанализе. К типичным особенностям женского поведения она относит менее явно, чем у мужчин, выраженную агрессивность, отношение к себе как существу слабому и требование за это особых преимуществ, использование слабости как средства подчинения мужчин (”цепкость плюща”). Это связано, в частности, с тем, что “комплекс кастрации”, обусловленный анатомо-физиологической организацией женщины, нейтрализуется таким женским физиологическим преимуществом, как материнство. Данное женское преимущество в свою очередь не безопасно для мужчин. Оно формирует на бессознательном уровне “сильнейшую зависть мальчиков к материнству”.
При этом женская компенсация зависти безобиднее зависти мужской. На личностном уровне она появляется в большей склонности женщин к неврозам, на социальном – “в уходе от женственности”. Спектр этого “ухода” широк – от стремления к социальной эмансипации до транссексуализма.
Хорни употребляет понятие “идеал” [1]. Понятие это совсем не обладает для психоанализа той ценностно-смысловой значимостью, которую оно имеет, в частности, в христианской культуре. Психоанализ вообще выстраивается по модели “антимира”, если принять за “мир” христианскую культуру, как исходную и первоначальную, по отношению к психоанализу, модель (или парадигму) понимания человека. В первую очередь это относится к фундаментальному по своему значению – и в христианстве, и в психоанализе – идеалу любви. Хорни утверждает, что вообще для христианской культуры характерна “переоценка” любви, то есть наполнение ее метафизическим смыслом. Любовь же – всего лишь “восхищенная зависть” или к “пенису или к материнству”, т.е. это всего лишь психическое последствие анатомической разницы полов.
Для религиозного сознания потребность в любви – это свойство божественного в нас. С позиций психоанализа – это “прикрытие тайного желания получить что-то от другого человека, будь то расположение, подарки, время, деньги и т.п.”
Христианская мораль самоотречения весьма сомнительна с точки зрения психоанализа для здоровой, “эгоцентрической” психики. Она может и должна быть заменена моралью “адекватной агрессивности”, что предполагает, по Хорни, “инициативу, приложение усилий, доведение дела до конца, достижение успехов, настаивание на своих правах, умение постоять за себя, формирование и выражение собственных взглядов, осознание своих целей и способность планировать в соответствии с ними свою жизнь”. Неудивительно, что христианское понимание страдания в рамках психоанализа оценивается как распространение мазохизма в культурной среде. Напомним, что мазохизм – это “получение удовольствия от физических страданий, причиняемых сексуальным партнером”. Кстати, общеизвестно, что именно режим функционирования нашей сексуальности является в психоанализе ключом к решению многих психологических и поведенческих проблем человека – “поведение в жизни в целом строится по образцу сексуального поведения”.
“Эдипов комплекс”, как модель психосексуального поведения, становится компасом психоаналитика в его движении по лабиринту человеческих судеб. При этом психоанализ отказывается от “богоподобия” человека, заменяя его принципом “цареподобия” [2]. Например, именно Эдипов комплекс определяет, с точки зрения психоанализа, выбор мужа или жены. Муж или жена – “всегда лишь замена, суррогат” детской привязанности к родителю. Традиционно христианское понимание моногамного брака как “единомыслия душ и телес”, как “таинства любви”, с позиций Хорни, например, нуждается в пересмотре, ибо таит “исходящую от него опасность”. Эта опасность моногамного брака заключается в силе запретов, которые он собой олицетворяет, запретов на пути бессознательных сексуальных желаний.
Несмотря на свои многочисленные “еретические” отступления от классического психоанализа, Хорни не подвергает сомнению тот факт, что психоаналитические исследования проблем брака, женской психологии, да и вообще человеческой культуры, являются конкретным средством решения конкретных проблем. При этом, чем глубже – психоаналитичнее – будет наше понимание реальности, тем легче нам будет контролировать и управлять человеческой жизнью. Хорни не скрывает исходных целей.
О том, каковы были исходные цели отдельного Указа Президента РФ № 1044 “О возрождении и развитии философских, клинических исследований психоанализа” (1996 г.) можно только догадываться.
… В Доме художника на Крымском Валу можно купить видеокассету с фильмами Пазолини. Составители вряд ли отдавали себе отчет, какой глубокий смысл заключен в том, что на одной кассете они поместили два фильма – “Царь Эдип” и “Евангелие от Матфея”. Вряд ли кто усомнится, что сегодня это – два действительно работающие, подчас в невидимой и непрекращающейся борьбе друг с другом, “ключа” к пониманию ценностей и идеалов, проблем и загадок человеческой души и истории…
Примечание:
[1] Хорни К. Женская психология. Спб., 1993, с. 195.
[2] Имеется в виду царь Эдип, убивший своего отца и женившийся на матери. В этом образе психоанализ находит ключ к объяснению всех поступков человека.
Труп с бьющимся сердцем
Многие эксперты считают 60-70-е годы революционными для медицины. Это связано, в частности, с формированием такого ее направления, как реаниматология. Критерии человеческой смерти: прекращение дыхания и сердцебиения – преодолеваются с помощью технологий искусственного дыхания и кровообращения. Современному определению человека как разумного существа стал соответствовать и новый критерий его смерти – невыполнение мозгом своих функций управления жизненными процессами в организме. При этом на основе изучения патологических процессов конечных стадий жизнедеятельности пересматриваются время, механизмы, критерии “необратимости” биологических процессов.
Реанимация (от латинского “reanimatio”) значит “оживление”. Этот термин давно известен культуре. В новозаветных текстах описывается, как Христос оживлял людей – единственного сына вдовы у ворот Наина, дочь Иаира, “четверодневного Лазаря”… Деятельность человека во многом задана великим стремлением к “уподоблению” Творцу. Но это “подобие” очень часто оборачивалось довольно плоской аналогией с весьма проблематичными для человека последствиями.
Любое изобретение и использование технических средств – дело разума и рук человека. Однако между человеком и техническими средствами, им созданными, возникает любопытная и достаточно жесткая взаимосвязь. Хайдеггер, например, приводит такое сравнение: “Техническое, в самом широком смысле слова, есть не что иное, как план”, созданный самим человеком, который в конце концов вынуждает человека к действию, независимо от того, желает он этого или нет.
Реанимация – это олицетворение технических достижений человека. Отделения интенсивной терапии современных больниц оснащены установками, делающими возможными различные процедуры. Хотите вы этого или нет, но система здравоохранения, оснащенная этой техникой, уже не способна отказаться от ее применения и подчас превращает своих пациентов в бесправных жертв. Грань между поддержанием жизни и продлением умирания порой настолько стирается, что смерть становится длительным механизированным процессом умирания, который технологически можно продлить до 10 лет.
Говоря о коматозных больных, профессор Б. Юдин очень метко называет период между состоянием “определенно жив” и “определенно мертв” – “зоной неопределенности”. Эта неопределенность касается не только поиска объективных критериев того, жив человек или мертв, но и понятий – “биологическая смерть”, “вегетативная жизнь”, “личностная смерть”, “труп с бьющимся сердцем” и т.п. Эта неопределенность касается и того, что отсутствуют морально-правовые отношения к человеку (или уже существуют?), пребывающему в таком состоянии.
При искусственном продлении жизни перед врачом неизбежно встает вопрос: “Что же дальше? Отключать аппарат или не отключать?” Эта зона неопределенности оказывается в буквальном смысле слова вне пространства христианских этических заповедей. Шестая заповедь “не убий” здесь просто “не работает”, ибо это – зона неизбежного убийства.
Пытаясь освободить от моральной и юридической ответственности невольных исполнителей “воли зоны” – врачей, культура обращается к принципу эвтаназии – умышленному, безболезненному умерщвлению безнадежно больных людей.
Вопрос, порожденный техническими возможностями современной медицины: “Кто должен принимать решение о Вашей смерти?” – это вопрос, который нужно осмыслять на уровне общественного и на уровне индивидуального сознания. Готов ли каждый из нас к этому? Конечно, не просто обсуждать вопросы, связанные со своей неизбежной смертью. Но это – одна из неизбежных издержек научно-технического прогресса.
Итак, кто должен принимать решение о Вашей смерти?
Субъектами исполнения решения могут быть медики, родственники, Вы сами. Выбор субъекта решения – один из факторов различия двух форм эвтаназии – активной (когда медперсонал использует средства, ускоряющие наступление смерти, например, смертельная инъекция и т.п.) и пассивный (отказ самого больного или его родственников от мер, способствующих поддержанию жизни).
В “Основах законодательства РФ об охране здоровья граждан”, принятых в 1993 году, категорично запрещена активная эвтаназия. Каждого, кто не только осуществляет эвтаназию, но даже побуждает к ней, ожидает уголовная ответственность. Но статья 33 этого же закона предусматривает возможность отказаться от медицинского вмешательства или даже потребовать его прекращения.
Как должен быть оформлен этот отказ? Нашим специалистам небезынтересно и небесполезно было бы ознакомиться с юридическим опытом тех стран, где данные процедуры уже отработаны. Студентов и аспирантов должно обучить тому, что полный социальный анамнез отныне должен включать и вопросы, касающиеся воли больного относительно тех действий, которые будут осуществляться в отношении него, когда он уже будет не в состоянии контролировать ход событий, – насколько строго должна выполняться его воля, кто должен принимать окончательное решение. Это предложение вполне разумно. К сожалению, наши студенты из-за отсутствия учебных курсов по биоэтике лишены возможности получить целостную и связную информацию по этим вопросам, хотя это незнание и не освободит никого из них от юридической и моральной ответственности за неспособность справиться с ситуациями, связанными, в частности, с проблемой эвтаназии.
Ясное и детальное обсуждение правовых и этических аспектов этой проблемы нужно не только для больных, но и для врачей. Широко известна позиция западных специалистов, которые выдвигают принцип: “врачи не должны убивать”. Они прекрасно понимают, что “добровольная” или “достойная смерть” будет сопровождаться резким умалением достоинства людей, вынужденных обеспечить “достойную смерть”, которая – и от этого некуда деться – является превращенной формой самоубийства и убийства одновременно. При этом система здравоохранения будет вынуждена включить в себя институт смертеобеспечения. А отказ от последовательного гуманистического принципа сохранения будет вынуждена включить в себя институт смертеобеспечения. А отказ от последовательного гуманистического принципа сохранения и поддержания жизни чреват возможностью изменения моральных основ врачевания, что еще со времен Гиппократа определяло результативность лечебной деятельности.
Тем не менее, вопрос: “Должен ли врач спасать жизнь или помогать умереть?” – опять стоит в повестке дня, обостряя уже не медицинские, а традиционные, смыслополагающие проблемы: является ли жизнь ценной, и при каких условиях она утрачивает свою ценность? Должны ли мы желать своей смерти и сами принимать решение о своей смерти? Какой, в конечном счете, это имеет смысл, для кого и почему? Некоторые скажут, что эти вопросы – следствие всепроникающего пафоса христианской этики. К сожалению, выбор у нас невелик. Отказаться от этих вопросов можно. Но при этом вряд ли можно будет обойтись без пафоса антихристианского толка.
Сатурн, пожирающий своих детей
В Москве завершил работу первый симпозиум по трансплантации фетальных тканей. В переводе с медицинского, тема обсуждения касалась средств, методов, эффективности использования клеточного материала человеческих зародышей разного возраста для лечения различных болезней.
В начальный период гласности российская общественность уже была проинформирована о существовании такого направления в медицине, как фетальная терапия. Сообщалось, что она применяется, в частности, для омоложения. Естественно, такое могли себе позволить лишь избранные. Сегодня ситуация меняется. Фетальная терапия выходит на уровень “панацеи” буквально от всех болезней (что само по себе сомнительно) – от эндокринных расстройств до гематологических, иммунологических и неврологических заболеваний. При этом принять участие в экспериментах и исследованиях может каждый. Но главное для устроителей симпозиума, опять же пока не забота об эффективности. Главное, как заметил в своем докладе Геннадий Сухих – организатор симпозиума, профессор, директор Международного института биологической медицины (г. Москва), – заключается в том, чтобы фетальная терапия обрела в конце концов право на существование и заняла прочное место в и в медицине и в общественном сознании. (Одна деталь о самом симпозиуме. В перерывах между заседаниями слух участников услаждал квартет музыкантов из Большого театра исполнением музыки Моцарта. Все вместе это производило жутковатое впечатление).
Оставим медицине ее право принимать или отвергать то или иное направление, определять и оценивать эффективность и целесообразность той или иной методики, ее научную новизну и значение. Но даже если допустить максимальную эффективность фетальной терапии при лечении какой-либо болезни, то можно с уверенностью сказать, что не для каждого человека будет допустимо принять инъекцию на основе препарата, изготовленного из тканей человеческих зародышей. По мнению многих экспертов, использование подобной терапии должно осуществляться исключительно на основании информированного согласия пациента. Но проблема заключается не только в необходимости соблюдения “информированного согласия”. И не только в том, что один человек сможет, а другой не сможет согласиться на такое “лечение”. Всегда найдется пациент, который вправе принять любое лечение, лишь бы помогло. В конце концов, морально-мировоззренческий плюрализм, т.е. осуществление различных “взглядов”, “ценностей”, вплоть до отрицания ценностей вообще, – реальность современной цивилизации. Проблема в том, что в этом плюрализме должна остаться ясно формулируемая позиция: фетальная тарапия аморальна. Можно говорить о чем угодно: о ее практической целесообразности в определенном смысле, в определенных условиях, о ее познавательном значении для науки и т.д. и т.п., но нельзя говорить о ее этичности.
Исследования Клода Леви-Стросса показали, что общественное сознание, в частности моральное, стало возможным через осмысление различия “природы” (влечения) и “общества” (запреты) по “пищевому коду”. Первым категорическим императивом культуры стал запрет на потребление человеческого мяса. Четкое разделение убийства по любым мотивам и убийства по мотиву физиологического использования себе подобных уже в древних сообществах не только проводилось, но и стало основанием становления биологического вида гомо сапиенс. Характерно, что мифический персонаж языческих культур Сатурн, пожирающий своих детей, чтобы избежать смерти, к человечеству как биологическому виду не относится.
По мнению специалистов, физиологическое использование себе подобных по “пищевому коду”, человечество преодолело наиболее фундаментально и основательно. Ветхозаветная мораль, как одна из древнейших культурных форм, вопрос о запрете на это действо даже не затрагивает, очевидно по причине неактуальности и преодоленности этого синдрома бесчеловечности.
Но человек XX века вдруг оказывается лицом к лицу перед возможностью физиологического использования себе подобных по “терапевтическому коду” – использование тканей органов человеческих зародышей разных возрастов с целью лечения болезней.
Ошибочный поступок, заблуждение, даже преступное действие может произойти по “неведению”. Очевидно, многие отечественные медики, вовлеченные в научные исследования, связанные с трансплантацией фетальных тканей, “не ведают, что творят”. Это неведение естественно в стране, где специалисты не получают никакой квалифицированной и целостной информации по проблемам этического и правового содержания современной медико-биологической деятельности. Это неведение опасно, но исправимо.
Но есть ученые, которые “ведают, что творят”. Понимая, что от проблем этического обоснования и оправдания своей работы не уйти, директор Международного института биологической медицины – центра фетальной терапии, г-н Сухих постоянно выдвигает аргумент: “Наша деятельность этична, так как приносит пользу”. Он очевидно не знает, что этот аргумент был основным в арсенале Фридриха Ницше, создателя аморализма, для которого именно “польза” была критерием не только “добра”, но и “истины”, которая в свою очередь в его “логической” системе определялась всего-навсего как “полезная ложь”. Может ли ученый-естествоиспытатель позволить себе разделить эту максиму? Наверное может, особенно при условии, что она приносит “пользу”, и не столько отечеству, сколько международному сообществу. Не случайно место означенных исследований называется Международный институт биологической медицины, и создан он на базе постоянного и мощного поставщика человеческого зародышевого материала – Научного Центра акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН, где операции по искусственным выкидышам, особенно поздних сроков беременности, являются четким и хорошо налаженным производством.
О временах, нравах и российской школе
Смерть как стадия жизни. Последнее право последней болезни
Обязанность «лжесвидетельства» во имя обеспечения права смертельно больного человека на «неведение» всегда составляла особенность профессиональной врачебной этики в сравнении с общечеловеческой моралью. Основанием этой обязанности являются достаточно серьезные аргументы. Один из них – роль психо-эмоционального фактора веры в возможность выздоровления, поддержание борьбы за жизнь, недопущение тяжелого душевного отчаяния.
Известно, что «лжесвидетельство» по отношению к неизлечимым и умирающим больным было деонтологической нормой советской медицины. «В вопросах жизни и смерти советская медицина допускала единственный принцип: борьба за жизнь больного не прекращается до последней минуты. Долг каждого медицинского работника – свято выполнить этот гуманный принцип» – наставляли учебники по медицинской деонтологии (от греческого «деон» – долг, так называемое учение об этике). Поскольку считалось, что страх смерти приближает смерть, ослабляя организм в его борьбе с болезнью, то сообщение истинного диагноза заболевания рассматривалось равнозначным смертному приговору. Однако известны случаи, когда «святая ложь» приносит больше вреда, чем пользы: объективные сомнения в «благополучии исхода болезни» вызывают у больного тревогу, недоверие к врачу.
Отношение и реакция больного на болезнь различны, они зависят от эмоционально-психологического склада и от ценностно-мировоззренческой культуры пациента. Вопросы: «Можно ли открыть больному или родным диагноз, а может быть, надо сохранить его в тайне или целесообразно сообщить больному менее травмирующий диагноз?» – будут неизбежно возникать покуда существует врачевание и смерть.
В настоящее время российским специалистам доступны многочисленные зарубежные исследования психологии терминальных больных (terminus – конец, предел). Выводы и рекомендации ученых, как правило, не совпадают с принципами патернализма. Исследуя психологическое состояние терминальных больных, узнавших о своем смертельном недуге, доктор Елизавета Кюблер-Росс и ее коллеги пришли к созданию концепции «смерти как стадии роста». Схематично эта концепция представлена пятью стадиями, через которые проходит умирающий (как правило, неверующий человек): стадия «отрицания» («Нет, не я», «Это не рак»), стадия «протест» («Почему я?»), стадия «просьба об отсрочке» («Еще не сейчас», «Еще немного»), стадия «депрессия» («Да, это я умираю»), и последняя стадия – «принятие» («Пусть будет»).
Обращает на себя внимание стадия «принятия». По мнению специалистов, эмоционально-психологическое состояние больного на этой стадии принципиально меняется. К характеристикам этой стадии относятся характерные высказывания некогда благополучных больных: «За последние три месяца я жила больше и лучше, чем за всю свою жизнь». Хирург Роберт М. Мак, больной неоперабельным раком легкого, описывая свои переживания – испуг, растерянность, отчаяние, в конце концов утверждает: «Я счастливее, чем когда-либо раньше. Эти дни теперь на самом деле самые хорошие дни моей жизни». Известен случай, когда протестантский священник, описывая свою терминальную болезнь, назвал ее «счастливейшим временем своей жизни». В итоге доктор Е. Кюблер-Росс, глубоко изучившая проблему умирания, пишет, что «хотела бы, чтобы причиной ее смерти был рак»; она «не хочет лишиться периода роста личности, который приносит с собой терминальная болезнь». Эта позиция – результат осознания глубокой иронии человеческого существования: только «перед лицом смерти» человеку раскрывается смысл жизни и смерти.
Особенность научных медико-психологических исследований заключается в том, что их результаты совпадают с христианским отношением к умирающему человеку. Ортодоксальность Православия состоит в неприятии «лжесвидетельства» у постели безнадежно больного человека. Это «лжесвидетельство» «лишает личность решающего итогового момента прожитой жизни». В рамках христианского миропонимания смерть – это дверь в пространство вечности. Смертельная болезнь – это чрезвычайно значимое событие в жизни, это подготовка к смерти и примирение со смертью, это возможность принести покаяние, молить Бога о прощении грехов, это углубление в себя, интенсивная духовная и молитвенная работа, выход души в определенное новое качественное состояние. (По этому же поводу игумен Никон (Воробьев, 1963), один из духовных старцев нашего столетия, писал как-то, что рак, с его точки зрения, это милость Божия к человеку. Обреченный на смерть человек отказывается от суетных и греховных удовольствий, ум его занят одним: он знает, что смерть уже близка, уже неотвратима, и заботится лишь о том, чтобы подготовиться к ней – примирением со всеми, исправлением себя, а главное – искренним покаянием перед Богом [1]). В христианской терминологии качество смерти определяется понятием «успение», свидетельствующим о достижении душой этого состояния, об успешном исходе из жизни.
Признавая сосуществование различных этико-медицинских позиций и морально-мировоззренческих ориентаций, Всемирная Организация Здравоохранения и Всемирная медицинская ассоциация регулируют эту ситуацию с помощью международных медико-этических соглашений. Принципиальный характер по обсуждаемой теме носят Лиссабонская декларация Всемирной медицинской ассоциации о правах пациента (1981 г.) и декларация Всемирной Организации Здравоохранения о политике в области обеспечения прав пациента в Европе (1994 г.).
Несомненно, под влиянием этих документов произошли изменения в российском законодательстве. В ранг закона возведено право пациента на информацию о состоянии своего здоровья, «включая сведения о результатах обследования, о наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, связанном с ним риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения» (статья 31-я 4-го раздела «Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан»). Новая законодательная рекомендация обязанности врача информировать и права пациента на информацию – одно из принципиальных новшеств нашего законодательства.
В ноябре 1994 года Ассоциацией врачей России был принят «Этический кодекс российского врача», где в разделе «Врач и права пациента» (ст. 9) «право пациента на адекватную информацию о своем состоянии» получает признание. Закрепление этого положения в неправительственном профессиональном медицинском объединении свидетельствует о том, что право, введенное «сверху», принято и «снизу». Многие врачи признают сегодня значение правил «этического обсуждения», «искусства общения» с тяжело больными пациентами. Как важно, чтобы среди них достойное место заняла позиция великой княгини Елизаветы Феодоровны, которую Архиерейский Собор Русской Православной Церкви в 1992 году причислил к лику святых. В 1909 году она создала в Москве Марфо-Мариинскую обитель Милосердия, где была не просто настоятельницей, но участвовала во всех ее делах как рядовая сестра милосердия – ассистировала при операциях, делала перевязки, утешала больных и полагала: «Безнравственно утешать умирающих ложной надеждой на выздоровление, лучше помочь им по-христиански перейти в вечность» [2].
Примечание:
[1] Игумен Никон (Воробьев). Нам оставлено покаяние. Письма. М., 1997.
[2] Святая преподобномученица Елизавета. Житие. Акафист. Храм Рождества Богородицы, с. Поярково. С. 28.
Ни на солнце, ни на смерть нельзя смотреть в упор…
Еще в глубокой древности буддийские монахи практиковали созерцание убитых и умерших людей, обращая особое внимание на тех, кто был в самом расцвете сил. Целью подобных медитативных упражнений являлось приобретение “чувства отвращения ко всем формам становления”, “освобождение от страстной жажды жизни”. Совсем другую роль играет необходимость “памяти смертной” (ср. “Memento mori”) в христианстве: не воспитание отвращения к этой жизни, а постижение ее смысла как подготовки к иной, вечной жизни. И Христос родился не для того, чтобы дать моральные законы, а для того, чтобы победить смерть Своим Воскресением. Вообще вопрос о смерти всегда был и остается стержневым для любого религиозного сознания.
Одним из главных он является и для медицины. Но если роль религии – преодоление смерти, то роль медицины – облегчение страданий и продление жизни. По сути дела, сопротивление смерти является нравственной сверхзадачей медицины.
Постоянное и верное стремление решить эту сверхзадачу, несмотря на ее неразрешимость, всегда вызывало уважение к профессии врача. Но нельзя не считаться и с деструктивными факторами медицинской практики: постоянной средой человеческой боли, страдания, смерти, изнуряющей тиранией ответственности и “бездны бессилия”, пределом и беспределом возможностей профессионального воздействия на человеческую жизнь. Из этой профессиональной и опасной обреченности “смотреть на смерть в упор” вытекает особая необходимость в нравственном самосовершенствовании.
В основу “Межкафедральной программы по медицинской этике и деонтологии для студентов высших медицинских и фармацевтических учебных заведений”, принятой в 1976 и переработанной в 1983 году, был заложен принцип отрицания общетеоретического курса по медицинской этике. Здесь присутствует ориентация на преподавание нравственно-деонтологического знания по частям, на всех кафедрах, без выделения дополнительных часов в учебных планах, в виде конкретных рекомендаций по конкретным примерам.
Должны ли удивлять после этого данные социологического исследования, проведенного в Московском стоматологическом институте им. Н.А. Семашко, согласно которым 40% аспирантов-клиницистов набора 1993 г. за годы обучения в вузе не получали никакой специальной подготовки по медицинской этике. Опрос студентов 3 курса лечебного факультета РГМУ выявил полную непросвещенность будущих врачей в области таких понятий, как “права пациента”, и таких этически-юридических норм, как право на отказ от лечения, основы донации органов и т.п. На занятиях с аспирантами Российского государственного медицинского университета набора 1994 г. была обнаружена “информационная стерильность” относительно проблемы смерти и умирания, смысловая сфера которой сегодня включает в себя и навыки психотерапевтического снятия страха смерти, и решение вопросов: “Где должен умирать человек?”, “Кто должен принимать решение о Вашей смерти?”, и распознание грани между поддержанием жизни и продлением умирания. Многозначимость проблемы смерти и умирания нынешней системой медицинского образования сводится к “изучению” механических процедур – таких как “отделение умирающего ширмой”, “нанесение номера на тело”, “оформление документов”.
Очевидно, что российская высшая медицинская школа все еще находится в плену “господствующей идеологии” с ее вульгарно понятым социоцентризмом, который меньше всего предполагает понимание умирания как “стадии жизни” человека, как “значимого личностного события”, отношение к которому требует особого внимания и исследования.
Однако достичь этого мешают не только “родимые пятна” социалистического прошлого, но и активно приобретаемая наследственность капиталистического рынка, жестокость законов которого на уровне нравственных отношений имеет свойство оборачиваться жестокостью.
Заведующий реанимационным отделением провинциальной детской больницы в одной из бесед рассказал, что среди молодых врачей его отделения сегодня нет практически ни одного, кто бы задержался сверх рабочего времени у постели умирающего ребенка без гарантированной оплаты. Происходящее перемещение медицины в пространство “рынка услуг” становится реальным фактором риска обесценивания “цены” жизни вообще. Особенно когда реальная “цена” борьбы за жизнь является не могуществом нравственного закона в лице государственной политики, а кредитоспособностью “клиента”.
Глубинный технократический характер современного медицинского образования превращает медицину в расформированный по специальностям набор методик, приемов, правил, средств, навыков, среди которых этическое знание оказывается “факультетом ненужных вещей”.
Действительно, “отношение к смерти” нельзя втиснуть ни в какие жесткие правила, стандарты. Отношение и понимание смерти – это область “человекоощущения”, “человеколюбия”, область собственно нравственного отношения “врач – больной”. То, как врач ведет себя у постели умирающего – это в чистом виде нравственное поведение – один из критериев врачебного профессионализма. Но, как и любой профессионализм, нравственная культура врача – это не только проявление психологической склонности, но и результат кропотливого изучения истории морали и медицины, логики современных этических и правовых теорий, это индивидуально-личностный, рационально-эмоциональный выбор ценностно-нормативных, духовных опор как для своей жизни, так и для своей профессии. Освоение современной биомедицинской этики как самостоятельной дисциплины – один из способов этого выбора.
Предметом биомедицинской этики (или биоэтики) являются морально-этические проблемы, связанные как с традиционными принципами лечебной деятельности, так и с новыми биомедицинскими технологиями (реанимационные методики, трансплантология, искусственное оплодотворение и т.п.) и с новым правовым сознанием (“права пациента”, “право на достойную смерть” и т.п.).
С нашей точки зрения, изучение биоэтики важно не только с чисто профессиональной точки зрения. Нравственно-мировоззренческий вакуум, как следствие происходящих в России процессов, особенно пагубен для нынешнего поколения студентов-медиков.
Способна ли Россия воспринять биоэтику?
“Основной вопрос” традиционной врачебной этики – это вопрос о взаимоотношениях врача и пациента. Первичным в этом отношении всегда был авторитет врача. Как говорят медики, “при расхождении мнения больного с объективными медицинскими показаниями предпочтение отдается последним. Эта модель взаимоотношений врача и пациента получила название патерналистской (“отцовской”, “родительской”). Для современной ситуации характерно, что эта “первичность” не только оспаривается, но и в значительной степени преодолевается.
Сегодня все чаще ставится вопрос об участии больного в принятии врачебного решения. И это далеко не вторичное участие оформляется в ряд новых взаимоотношений врача и пациента. Их названия говорят сами за себя – информационная, совещательная, интерпретационная. В границах этих моделей врач меняет роль “отца” на роль или консультанта, или советчика, или компетентного эксперта-профессионала. Основная задача – не принятие решения, а полное информирование пациента о состоянии его здоровья, риске и пользе возможных вмешательств. Другими словами, “при расхождении мнения пациента с объективными медицинскими данными предпочтение отдается первому”. Разработка этих моделей активно осуществляется в США, в странах Западной Европы. Реальность страховой медицины и частных медицинских услуг делает вопрос об информированном согласии, а вместе с ним и всю систему этико-правовых отношений в медицине, актуальными для России.
Мощное демократическое движение за права человека обернулось для медицины новой правовой и нравственной реальностью. Не случайно в этом контексте возникновении понятия “права пациента” и концепции автономии больного. В “Основах законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан” “соблюдение прав человека и граждан” объявляется основным принципом охраны здоровья. Статья 30 “Права пациента” раскрывает содержание этого понятия в 13 позициях. И если раньше оно сводилось к праву на медицинскую помощь, то сегодня понятие “права пациента” включает в себя право на полную информацию о состоянии своего здоровья, право на выбор методик своего лечение и право на отказ от лечения, право выбора врача и медицинского учреждения, право на компенсацию за нанесенный ущерб и т.п.
Такой подход, помимо социокультурных оснований, связан с внедрением в практику врачевания новых биомедицинских технологий. Трансплантология, реанимация, искусственное оплодотворение, генная терапия, психиатрические методики работы изменили уровень возможного воздействия на человеческую жизнь не только на ограниченной территории конкретной болезни, но и на всем его жизненном пространстве. Другими словами, новые биомедицинские технологии изменили уровень возможного воздействия на человеческую жизнь. Пациента можно на неопределенно долгое время превратить в “труп с бьющимся сердцем” и при этом осуществить “забор” органов для сохранения другой жизни; или омолодить стареющий организм за счет прекращения жизни нескольких 20-недельных зародышей; или обеспечить ребенку, зачатому “в пробирке”, пятерых родителей (из них троих – биологических), превращая его в человека, не только не помнящего, но и не знающего родства; можно на генном уровне выяснить, какую патологию вы в состоянии передать потомству; хотите вы этого или нет, не говоря уже о том, насколько это вредно для вашей психики, вы можете быть подвергнуты массовому сеансу психотерапии – не только на стадионе, но и у себя дома с помощью радио или телевидения. Биоэтическая концепция автономии человека в значительной степени возникает как форма самозащиты человека от благих намерений медицинских вмешательств. А поскольку от возможности стать объектом подобных вмешательств не застрахован ни один человек, то биоэтика выходит за узко профессиональные рамки собственно врачевания.
Взаимоотношения врача и пациента имеют еще одну сторону. Это проблема эвтаназии. Здесь право индивида на достойную смерть вступает в противоречие с правом личности врача исполнить не только профессиональную заповедь “не вреди”, но и общечеловеческую “не убий”. Социологические опросы подтверждают наличие этого противоречия: во многих странах мира, в том числе в России, население как совокупность возможных и действительных пациентов более расположено к эвтаназии, чем врачи.
Новые медицинские технологии, в частности, реанимационные, транспланталогические, фармакологические создают новую нравственную реальность – ситуации убийства из милосердия, сострадания, из-за спасения другой жизни и т.п.
Сторонники консервативной формы биоэтики на Западе полагают, что “врачам в обществе должно быть запрещено убивать”. Разделяют эту позицию многие врачи в России. Так, вопреки “Основам законодательства РФ” о здравоохранении, допускающим пассивную эвтаназию, то есть возможность умереть без лечения (ст. 33), Ассоциация врачей России опубликовала проект “Клятвы российского врача”, которая включает следующие положения: “Я обязуюсь во всех действиях руководствоваться Этическим кодексом российского врача, этическими нормами моей ассоциации, а также международными нормами профессиональной этики, исключая не признаваемое Ассоциацией врачей России положение о допустимости пассивной эвтаназии”.
Отношение к эвтаназии – лишь один пример реальных противоречий современной плюралистической культуры. Профессор Борис Юдин, заместитель председателя Российского национального комитета по биоэтике, полагает, что “биоэтику следует понимать не только как область знаний, но и как формирующийся социальный институт современного общества”.
Однако при обсуждении вопросов, связанных с биоэтикой, часто можно услышать мнение, что это, мол, типичный продукт западной культуры, как с точки зрения содержательных, теоретико-познавательных способностей, так и с точки зрения ее социально-экономических возможностей. Ни культурно-историческая специфика России, ни, главным образом, ее катастрофическое экономическое положение не в состоянии “принять” биоэтику. Биоэтика – это феномен цивилизованного и богатого общества, высокотехнологичной и практически благополучной медицины.
Но ведь именно патологическое состояние отечественного здравоохранения особенно нуждается в четком и осмысленном нравственном регулировании и правовом управлении. Отсутствие нравственных принципов и правовых норм создает благоприятную среду для безоглядного экспериментирования методиками лечения, фармакологическими препаратами и т.п. Предотвратить последствия нравственной “стерильности” – актуальнейшая задача биотического знания.
Медицина – фактор риска
“Комитет по вопросам этики в области охраны здоровья граждан” получил права гражданства в России в июле 1993 года, когда ВС РФ принял “Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан”. Этический комитет – это новая организация в здравоохранении, задача которой – морально-этическое регулирование биомедицинских исследований и медицинской практике с целью предотвращения последствий, неблагоприятных для человеческой жизни и здоровья.
В новый закон включена статья 16, юридически закрепляющая существование этических комитетов. Увы, сегодня уже стало очевидным, что создаваемые в биомедицинских учреждениях этические комитеты часто оказываются лишь придатком администрации, чисто формально штампующим разрешение на проведение экспериментов.
В 1993 году статья 16 вряд ли воспринималась как долгожданный регулятор работы комитетов в России. К этому времени они исчислялись единицами, да и основной их задачей было визирование научно-исследовательских работ, выходящих в России на запад, где на основании Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации (1976) этическое обеспечение медицинских исследований уже стало давно обязательным. Таким образом, статья 16 отражала уже существующую практику здравоохранения западных государств, нежели реальную ситуацию в отечественном здравоохранении.
В 1994 году состоялась Всероссийская научно-практическая конференция “Этический контроль биомедицинских исследований”. Это была одна из первых в России крупных встреч специалистов биомедицинского профиля, на которой всесторонне обсуждались “пограничные аспекты медицинской практики и медико-биологических исследований”. Пограничные – в смысле существования предельных границ существования вмешательства и воздействия на человеческую жизнь. Речь шла о растущей агрессивности многих современных диагностических и лечебных методик, о нелегальном проведении некоторыми западными фирмами испытаний лекарственных препаратов в нашей стране и на наших гражданах. (Это, между прочим, позволяет фирмам экономить немалые деньги, поскольку в собственной стране соблюдение жестких норм требует больших затрат). Отсутствие реальных этико-правовых регуляторов защиты прав граждан, и прежде всего больных, бедственное экономическое положение системы здравоохранения – это максимально комфортная среда для псевдоэкспериментов от здравоохранения.
Неудивительны и основные выводы специалистов: “медицина превращается в фактор риска для жизни”, “безответственное применение новейших методов лечения превращает современную терапию в современную деятельность, значительно более опасную, чем хирургия”, этико-правовая безответственной лечебной практики оборачивается “гулаговским бесправием пациентов”.
Предполагаемая коррекция статьи 16 сегодня уже представлена различными вариантами. Ассоциация врачей России (АВР) распространила обращение, в котором комитету Государственной Думы по охране здоровья предлагается узаконить право создания этических комитетов исключительно медицинскими профессиональными организациями.
Безусловно, это право не может быть оспариваемо. Более того, этические комитеты при профессиональных медицинских ассоциациях, как никакая иная структура, смогла бы взять на себя регулирование взаимоотношений между профессионалами по всему комплексу этических проблем, касающихся их медицинской деятельности.
Однако формой полноценной защиты прав и интересов пациентов этический комитет при АВР вряд ли может стать, ибо основная деятельность организации, согласно ее уставу, – и это вполне естественно – защита профессиональных прав, чести и достоинства врачей. Но права и интересы врача и пациента не всегда совпадают. И не только в условиях рыночных отношений, которые превращают сферу здравоохранения в сферу услуг, а пациента – в потребителя с естественным набором его рыночных интересов, но и в условиях существования медицины как развивающегося знания, одной из основной форм которых является эксперимент. Ведь при проведении исследования интересы врача-исследователя и пациента-испытуемого расходятся. Кроме того, на наш взгляд, функции и регламент работы этических комитетов, создаваемыми профессиональными медицинскими ассоциациями, должны устанавливаться не законодателем, а самими профессионалами.
Неудивительно, что существует другая принципиальная позиция. Специалисты в области организации здравоохранения полагают, что “порядок создания и деятельности комитета по вопросам этики относится к компетенции Высших органов законодательной власти Российской Федерации. Принципиальным моментом этой позиции является признание необходимости создания центрального координационного комитета по вопросам этики при президенте РФ.
При всей целесообразности государственного регулирования взаимоотношения между людьми и их группами в памяти многих сохранились воспоминания о парткомах, которые выполняли функции государственного управления профессиональной, моральной и даже правовой деятельности. Именно в формах преодоления возможных и всем известных издержек организации типа “партком” и результатом все же происходящих преобразований являются новые общественные объединения, которые в полной мере могут и должны решать задачи, стоящие перед этическими комитетами. Среди подобных объединений – Российский национальный комитет по биоэтике, гуманитарная ассоциация, “Человек и медицина” и др. Так, например, по уставу гуманитарной ассоциации “Человек и медицина” основными задачами ассоциации являются: “консолидация и расширение сфер деятельности граждан по защите прав в области охраны здоровья, оказание помощи пациентам и их семьям в защите их прав и интересов в условиях внедрения новых медицинских биотехнологий, содействие клиникам, больницам, кафедрам лечебных и научных учреждений в обеспечении этических рекомендаций по возникающим в процессе лечения этическим вопросам.
В свою очередь, Российский национальный комитет по биоэтике располагает значительной базой данных по новейшим отечественным и зарубежным разработкам в области биоэтического знания. Так, в соответствии с мировой практикой в законе следует четко различать два типа этических комитетов. Первый тип – это комитеты, дающие “добро” на проведение экспериментов и клинических испытаний. Их главная отличительная черта – то, что они принимают решения обязывающего характера, одобряют либо запрещают эксперимент или испытание. Особое внимание следует уделить экспериментальным испытаниям, организуемым и финансируемым зарубежными фирмами, которые должны быть обеспечены надлежащим контролем. Второй тип – так называемые больничные этические комитеты, деятельность которых носит преимущественно рекомендательный характер. Они призваны регулировать взаимоотношения как между пациентами и персоналом медицинского учреждения, так и внутрипрофессиональные взаимоотношения, а также вести просветительскую работу в отношении прав пациентов, их родственников и медиков. Конечно же, в обоих случаях комитеты должны обладать реальной независимостью, которая не может быть обеспечена без обязательного участия в их работе тех, кто не связан с данным учреждением.
В мире существует два подхода, которые условно можно назвать американским и европейским. Для американских характерны минимум координации и соподчинения. Напротив, во многих европейских странах этические комитеты образуют упорядоченную организацию, начиная от комитета при органах центральной власти, через комитеты, действующие на региональном уровень, и до комитетов при отдельных учреждениях.
На наш взгляд, в нынешних российских условиях, когда механизмы этического контроля только-только начинают формироваться, не имея ни достаточного методического оснащения, ни сколько-нибудь серьезного опыта, европейский путь предпочтительнее американского.
В какую эру мы живем?
Однажды Андрей Вознесенский назвал Мартина Хайдеггера “последним коренным зубом европейской мудрости”. Именно Хайдеггер в середине ХХ века заявил о “безрелигиозности” как главном признаке современной культуры, ссылаясь при этом на авторитет Ницше, который еще в конце ХIХ столетия мучительно ярко рассуждал о “смерти Бога”. Вот и в конце ХХ века в России авторитетные исследователи говорят нам, что “пора осознать, что мы вступили в постхристианскую эру и переживаем процесс, обратный тому, который переживало человечество при вхождении христианства в историю” [1].
Однако позволим себе усомниться в авторитетах. Ведь сомнение – это не только свидетельство привередливого характера. Со времен Декарта сомнение – признанный метод любого научного исследования. Подвергнем же сомнению точность понятия “постхристианская эра”.
В I веке по Р.Х. христианство вошло в историю. Но это вхождение так изменило культуру, что до сих пор вне христианства она не может быть понята “в ее существе и смысле”. Практически в одно время с Хайдеггером В.В. Зеньковский писал: “Не следует забывать, что европейская культура, при всей сложности своего состава, была и остается доныне христианской культурой – по своим основным задачам и замыслам, по своему типу: из христианства она преимущественно выросла, его упованиями и идеалами она питалась, в христианстве обрела она свои духовные силы и от него взяла любовь к свободе , чувство ценности личности” [2]. Даже само умаление роли христианства в современной культуре фиксируется понятиями, от христианства происходящими, с ним связанными и определяющими себя через отношение к христианству, как то “безрелигиозная культура”, “постхристианская эра”.
В то же время нельзя отрицать, что за понятием “постхристианская эра” нет никакой реальности. Напротив, за этим понятием стоит та “сложность состава”, которая “была и остается доныне” свойственна культуре. Современная ситуация – это не “постхристианство”, а вновь или “вечно возвращающееся” противостояние христианства и язычества. Христианство на протяжении своей истории никогда не выходило из этого противостояния. Менялись лишь его виды, степень остроты и масштабы. Не раз в истории европейской культуры это противостояние принимало предельные формы: в I-III веках, в эпоху Реформации, во время второй мировой войны и т.д. Близка к этому пределу и современная культура. Особенно ярко этот предел проявляет себя в утонченной неоязыческой форме “спасения “ планеты от угрозы демографической катастрофы. Хочется отметить, что этот частный пример на самом деле из разряда стержневых. Он обнаруживает, что такое явление, как управление демографическими процессами, столь типичное для “постхристианской эры”, на самом деле имеет обратную силу, а именно – ведет к обнаружению непреходящего места и неубывающего смысла христианства.
В чем же суть демографической проблемы? Прежде всего в том, что численность населения планеты увеличивается. Демографы подсчитали, что в конце первого тысячелетия (1000 г.) года численность населения нашей планеты составляла примерно 250-275 млн. человек. В конце второго тысячелетия (2000 г.) она приблизилась к 6 млрд. человек. Причем в конце XIX века она составляла 1 171 млн. человек, в 1960 году – 3 млрд. человек. В чем причины такой динамики? Для многих ответ прост: это следствие успехов медицины и миротворческой политики.
Действительно, питаясь мощным энергическим потенциалом христианских ценностей святости жизни, милосердия, делания добра, наука, в частности медико-биологическое знание, к началу ХХ века приходит к ликвидации постоянно угрожавших человечеству факторов риска – эпидемий, инфекционных заболеваний. Достижения медицинской науки снижают детскую смертность, приводят к росту продолжительности жизни. Нейтрализация еще одной угрозы человечеству – войн – с помощью политических мирных средств урегулирования международных отношений – второе мощное основание, происходящих демографических процессов.
Кто станет отрицать значение и важность демографических сведений при выработке стратегии и тактики экономической и социальной политики государства? Но как велик соблазн, признав это, сделать следующий шаг и выйти на уровень управления демографическими процессами! А если при этом принять известный аргумент языческой культуры (Аристотель “Политика”), что во всех твоих бедах, в частности в снижении уровня жизни, виноват ближний, в данном случае за то, что его “так много”, то выход на этот уровень управления демографическими процессами получает оправдание – ”вольное или невольное”. Пугало “демографической катастрофы” начинает формировать веру в спасительность “рационального планирования рождаемости”.
Немного позже ученые подсчитают, что, учитывая возможные достижения науки и техники, среднюю урожайность сельскохозяйственных культур, научно обоснованные нормы питания, наша планета может прокормить в 6 раз больше людей, чем будет на ней к началу третьего тысячелетия. Все сказанное относится в равной мере и к энергетическим ресурсам (по прогнозам ООН) [3]. Дело не в количестве энергии, продовольствия и других благ, а в качестве справедливости распределения, т.е. в мере нравственности человеческих отношений. И стремиться надо к совершенствованию нравственных отношений, а не к созданию программ планирования численности населения по регионам, с помощью которых можно выйти на существенное снижение рождаемости. Но этот “голос жизни” заглушает какофония ”выживания”. Многие не “слышат”, не различают еще ее основной “темы”. Многие еще воспринимают происходящее под благозвучие идей о благосостоянии страждущего человечества, не слыша фальши при их сочетании с идеей “искусственного отбора”.
Тем не менее, для многих уже очевидной связь идеи “искусственного отбора” с идеей “смерти Бога”. Именно эти идеи задают “тональность” всем новым биомедицинским технологиям. Медицинская генетика просчитывает и выявляет человеческую неполноценность; искусственное оплодотворение работает с генетически отобранным материалом; критерием отбора в трансплантации становится перспективность пациента в широком смысле; понятие “медицинское планирование семьи” означает – аборт, контрацепцию, стерилизацию. Новая медицинская практика ставит культуру перед фактом целесообразности введения новых критериев смерти для человека с бьющемся сердцем, новых прав человека на “легкую и достойную” смерть и т.д. и т.п. В демографической “калькуляции” люди, точнее их количество и качество, становятся основным средством расчета параметров выживания цивилизации.
Но если официальная медицина скорее “невольно” подчинена логике “выживания”, как правило “не ведая, что творит”, то сатанинские секты вольны и скрывать им нечего. “Спаси планету – убей себя!” – основной “догмат” “Церкви эвтаназии”, явившей себя миру в 1992 году в Бостоне (США). Основателем-основательницей этой секты стал-стала транссексуал Хрис Корда. Посетившая ее-его “Информация” предвещала экологическую катастрофу от “непомерной репродуктивной активности человечества”. Отсюда и основная заповедь – “не размножайся”. Определены и пути ко спасению. Это – самоубийство, аборты, каннибализм и содомия. Именно это может спасти Землю от катастрофы и восстановить утраченное биологическое равновесие в природе. С точки зрения Корды, право “на достойную смерть” (принцип эвтаназии) должно стать абсолютно легальным и распространяться не только на безнадежных больных, но и на любого нормального человека. Аборты не просто должны быть абсолютно разрешены, но и быть признаны как “морально позитивный акт”. Людоедство ничуть не страшнее поедания людьми крупных млекопитающих. Наконец, содомия должна приобрести преимущественный по отношению к гетеросексуальности статус нормы.
“Новое экологическое мышление” исповедуют около 100 человек, принадлежащих к центральной церкви в Бостоне, несколько тысяч сторонников на уровне кибернетической конгрегации и множество сочувствующих во всех штатах, а также в Италии, Латвии [4]. Немного. Но не это главное. Главное – то, что это явление совсем не ново: ведь по сути это “возвращение” языческого культа Молоха (конец 1-го тысячелетия до Р.Х.), ритуал поклонения которому заключался в принесении человеческих жертв, особенно детей, в кастрации. “Церковь эвтаназии”, рациональное управление демографическими процессами – это новые и чрезвычайно яркие одежды старой логики противостояния Жизни и Смерти, а не признак постхристианства. И чем откровенней это противостояние, тем более оснований для выбора каждого из нас, ибо к нам вновь и вновь обращены слова : Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, cмерть и зло… Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое (Втор. 30, 15-19). И до тех пор, пока человеческий разум способен воспринимать эти слова, мы живем в христианской культуре.
Примечание:
[1] Гальцева Р. Христианство перед лицом современной цивилизации // Новая Европа. 1994. № 5. С. 3.
[2] Зеньковский В.В. Автономия и теономия. – “Путь”, 3, 1926. С. 36.
[3] Шнейдерман Н.А. Социология и жизнь. Откровенный разговор. – М., 1991. C. 12.
[4] Эвнебах А. Радикальная экология// “Независимая газета”. – 20.09.1996. C. 5.
Освободившиеся пациенты, или Православие как основание безопасности культуры
В первую неделю Великого поста в кафедральных церквях совершается чин Торжества Православия, который предполагает провозглашение главных догматов Православия, молитвы об обращении заблуждающихся и сохранении верных в истинном исповедании, а также провозглашение анафемы еретикам. Этот праздник, восходящий к IX веку, является символом охранительной роли Православия в современном мире.
XX век ознаменован провозглашением равенства всех вероучений – традиционных и экстравагантно-новаторских, многочисленных и малочисленных, независимо от меры и степени присущих им заблуждений. Главное – наличие выраженной претензии на «обладание истиной» и новая группа счастливых ее обладателей зафиксирована, зарегистрирована и представлена как «юридическое лицо» на пиру по поводу «торжества демократии».
Сочетание слов «пир», «обладание истиной», «торжество», «равенство» вызывают устойчивую ассоциацию с описанием обеда в рассказе Эдгара По «Система доктора Смоля и профессора Пьерро» [1]. За этим обедом захватившие власть пациенты загородной психиатрической лечебницы, заключив медицинский персонал в изоляторы, торжествуя, празднуют свое освобождение. Наконец-то каждый может высказаться. Но слова каждого из участников обеда совершенно непонятны, ничем не связаны между собой. И все бы хорошо, но именно пребывание каждого из них в своей тотальной субъективности, в своем «образе мира», в «своей истине» лишает их возможности понять друг друга. Их освобождение иллюзорно, а объединение зыбко и обречено на провал из-за отсутствия «единомыслия», т.е. понимания ценности связи времен и смыслов, которая не подвластна никакой субъективности, как бы претенциозна она ни была.
Двухтысячелетняя традиция связности времени и смыслов Православия является для общества не экзотическим элементом, но его субстратом, субстанцией, сущностью, основанием его существования. В силу этого, не напоминает ли плюралистическое демократическое общество, принимающее всякую “истину”, сообщество «освободившихся пациентов», демонстрируя при этом свое собственное нездоровье по причине устойчивой неспособности отторгнуть ложь и заблуждение?
Медицинские аналогии в данном случае, к сожалению, не разновидность «игры в бисер», не литературный прием для выделения мысли. Общество образуют люди, оно живет ими, их здоровьем, оно страдает их недугами и их болезнями. Общая патология, изучающая «наиболее общие, т.е. свойственные всем болезням, закономерности их возникновения, развития и исходов» [2], определяет болезнь как «состояние, обусловленное нарушением структуры и функций организма и его реакции на эти нарушения» [3]. Сектантство с его центробежной энергетикой к субъективистской замкнутости и разрушительным отношением к социальным функциям Церкви – это явная угроза общественному психическому здоровью, или, используя терминологию известных патологов, – форма «нарушения структуры и функций» общественного организма. Как хотелось бы, чтобы общество нашло в себе силы отреагировать «на эти нарушения», противостоять распаду в «разномыслие», в замкнутость права на «субъективную истину», и уж если не отличить ложь от истины, то по крайней мере довериться инстинкту самосохранения.
Например, детскому инстинкту самосохранения. На международном конгрессе «Психоанализ и современная наука» (Москва, 1992 г.) в одном из докладов анализировался психологический эксперимент, проведенный в ряде французских общеобразовательных школ [4]. Исследовалось не отношение к сектам, но апробировалась одна из «антипсихиатрических методик» (отказ от принудительной изоляции психически неполноценных детей), которая базировалась на признании права каждого человека на свой «образ мира». Первоначальный опрос школьников (основной вопрос: «Чего вы больше всего боитесь?») дал весьма типичные результаты – войны, смерти, родителей, землетрясения и т.д. Повторный аналогичный опрос проводился после того, как в классы дополнительно были помещены дети умственно отсталые, с различного рода психическими отклонениями. В итоге первую позицию среди возможных «фобий» занял страх «сойти с ума», страх оказаться навсегда погруженным в свой «образ мира» и потерять, таким образом, способность быть понятыми и понимать других, способность, которая реализуется с помощью объективных смыслов и значений, традиционных ценностей и моральных норм.
Права и роль традиции, а именно православного образа мира, образа жизни, образа человека, – не каприз истории, хранящей ее 20 веков, а сохранение самой истории, безопасность ее прошлого и ее будущего.
Примечания:
[1] По Эдгар Аллан. Полное собрание рассказов. – М., Наука, 1970, с. 621-636.
[2] Саркизов Д.С., Пальцев М.А., Хитров Н.К. Общая патология человека. – М., Медицина, 1995, С. 3.
[3] Там же, С. 187.
[4] Силуянова И.В. Биоэтика и мировоззренческие традиции. // Журнал «Человек», № 5, 1995, С. 128.
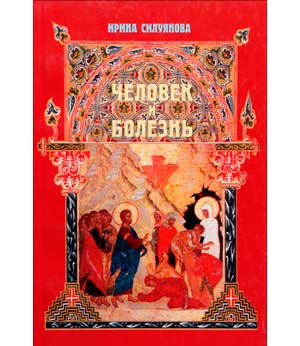
Комментировать