- Часть I
- Вместо предисловия
- 1909 год
- 1 января
- 2 января
- 3 января
- 9 января
- 10 января
- 12 января
- 25-го января
- 1 марта
- 4 марта
- 12 марта
- 13 марта
- 16 марта
- 20 марта
- 22 марта
- 23 марта
- 26 марта
- 27 марта
- 4 апреля
- 6 апреля
- 20 апреля
- 22 апреля
- 23-30 апреля
- 9 мая
- 10 мая
- 11 мая
- 12 мая
- 13 мая
- 16 мая
- 19 мая
- 20 мая
- 22 мая
- 23 мая
- 24 мая
- 25 мая
- 26 мая
- 27 мая
- 30 мая
- 1 июня
- 5 июня
- 7 июня
- 14 июня
- 16 июня
- 19 июня
- 25 июня
- 26 июня
- 27 июня
- 1 июля
- 5 июля
- 7 июля
- 8 июля
- 10 июля
- 13 июля
- 14 июля
- 19 июля
- 21 июля
- 23 июля
- 25 июля
- 3 августа
- 29 августа
- 30 августа
- 1 сентября
- 4 сентября
- 5 сентября
- 6 сентября
- 9 сентября
- 14 сентября
- 17 сентября
- 18 сентября
- 19 сентября
- 25 сентября
- 1 октября
- 5 октября
- 20 октября
- 21 октября
- 22 октября
- 25 октября
- 27 октября
- 30 октября
- 31 октября
- 1 ноября. Воскресенье
- 6 ноября
- 13 ноября
- 17 ноября
- 21 ноября
- 22 ноября
- 4 декабря
- 7 декабря
- 8 декабря
- 9 декабря
- 12 декабря
- 23 декабря
- 24 декабря
- 31 декабря
- 1910 год
- 1 января
- 2 января
- 4 января
- 5 января
- 20 января
- 21 января
- 23 января
- 24 января
- 25 января
- 26 января
- 31 января
- 10 февраля
- 11 февраля
- 23 февраля
- 24 февраля
- 2 марта
- 5 марта
- 6 марта
- 7 марта
- 8 марта
- 9 марта
- 10 марта
- 14 марта
- 17 марта
- 19 марта
- 25 марта
- Часть II
- Глава первая. Оптина
- Главы вторая и третья. Смертник Иларион
- Глава четвертая. Жатва жизни. Пшеница и плевелы
- Глава пятая. Великая дивеевская блаженная Параскева Ивановна
- Глава шестая. Преподобный Макарий Желтоводский
- Глава седьмая. Судьбы России
- Глава восьмая. Преподобный Серафим Саровский. 28 мая 1922 г.
- Глава девятая. Видения послушницы Ольги
- Глава десятая. На берегу Божьей реки. 4 марта
- Приложение
- Князь Николай Жевахов. Отвергнутый себя
- Письмо оптинского скитоначальника Антония брату, Саровскому казначею Исайе
1910 год
1 января
Бдение под Новый год. — Бедная детская душа. — Протестующая плоть. — Духовные нити.
Наш новый 1910 год начался бдением в Казанской церкви и по окончании бдения — торжественным молебном. На молебен вышли о. архимандрит и одиннадцать иеромонахов с двумя иеродиаконами. Этот год мы всей семьей так же, как и прошлый, решили встречать в храме вместе с братией общей с ними молитвой. В храме нас радостно поразило множество народу, собравшегося из Козельска и из окрестных деревень молитвой проводить старый год и встретить новый. Было много даже деревенской молодежи, и среди них я заметил молодых фабричных из Москвы и Петербурга, приехавших праздники провести на родине. Стояли все чинно и выстояли почти до конца всю продолжительную Оптинскую службу. Я не мог без умиления смотреть на это зрелище, не мог нарадоваться, глядя на это многочисленное собрание обуреваемых на море житейском, повернувших корабль свой вновь к забытому, но всегда спасительному берегу, к тихой пристани веры и Церкви Христовой. Слава Богу, слава Богу, слава Богу!
Домой мы вернулись в половине двенадцатого ночи и новый год встретили за приветно и весело кипящим самоваром, в кругу семьи единомысленной и единонравной. Все одно думаем, одно чувствуем — все дети одной матери Церкви.
Хорошо, любо!
За обедней сегодня причащали мальчика лет трех. Когда его подводили к Святой Чаше, он так орал и бесчинствовал, что с ним едва можно было справиться и взрослым людям. Бедный ребенок! Его, должно быть, редко причащают, и духи злобы имеют, видимо, открытый доступ к его детской душе, оттого она и не переносит вида святейшего Соединения. Какое зло творят своим детям невежественные родители, лишающие детей своих частого причащения Пречистых Таин Христовых!…
Из церкви я с женой провожал домой в келию нашего слепенького старца о. Иоанна (Салова). Он еле-еле двигается, обремененный годами и тяжкими недугами. Прощаясь с нами у дверей своей кельи, он сказал:
— С новым годом вас, с новым здоровьем, с новым подвигом на молитву!
— Ну уж только не на молитву! — тотчас же запротестовала во мне плоть моя, утомленная и вчерашним бдением, и сегодняшней продолжительной соборной службой. Да! нет на свете труда тяжелее молитвы, той молитвы, которая «нудится», вынуждается человеческой волею у души, порабощенной плотью и обольщаемой диаволом, и без которой невозможно достичь внутри себя обетованного Спасителем Царствия Божия, благодатного и всерадостного Богообщения. Сколько уже лет топчусь я на земле, быть может, и конец моему земному испытанию уже близок, а молиться все еще не научился и первого ее этапа не прошел.
«Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?..»
Сегодняшняя почта, между прочим, принесла известие, что в 11 часов утра, в самый день Рождества Христова, в час, следовательно, совершения в петербургских храмах Божественной литургии, сгорел в Петербурге дворец Великого князя Николая Николаевича. В огне погибло много богатства и сгорело двое конюшенных служащих Великого князя.
Нет ли связи между этим событием и тем видением, которое в сочельник было в алтаре одному из служивших наших иеродиаконов? Духовным нитям, связующим великое и малое, высокое и низкое, кто положит преграду, кто помешает протягиваться в любом направлении, соединять даже и то, что кажется несоединимым?..
Вот и вечер! День нового года окончился благополучно, в добром устроении духа всех членов нашего маленького общежития, благословенного сегодня всеми нашими старцами, у которых перебывали на благословении мы и все наши домочадцы.
2 января
(День преп. Серафима. Суббота)
Бесноватый отрок в храме. — Посмертное видение епископа Игнатия Брянчанинова в Петербурге. — Не бесноваты ли мы?
От дня Рождества Христова и до Крещения в Оптиной служат только одну обедню в день, так называемую среднюю, в 7 часов утра. Для любителей позднего вставания и праздник не в праздник, зато для монашествующей братии и особенно для священнослужителей и певчих это огромное облегчение молитвенному их подвигу. Мы ходили к обедне. Служил инспектор Калужской семинарии иеромонах Серафим. И опять во время причащения мы были потрясены кликами и воплями отрока, на этот раз уже довольно взрослого, лет 10-12-ти и, по видимому, из состоятельной интеллигентной семьи. Его силою через весь Казанский храм тащили к амвону к концу запричастного две прилично одетые женщины. Одна из них была мать этого несчастного ребенка. Мальчик с ожесточением какого-то невероятного отчаяния отбивался от влекущих его к Святой Чаше, вырывался из рук и неистово кричал на высокой, звенящей нечеловеческой тоской ноте: «Не надо, мама! не надо, мама! Не надо, не надо, не надо!»
И так без конца — одно слово, одна нота тоски, отчаяния и злобы. Причащали его, кроме священника и диакона, еще четверо и едва могли справиться. От Святой Чаши несчастный мальчик, насильно причащенный, бежал, точно огнем палимый, а к антидору и теплоте его уже и не подводили.[187] Мне никогда не забыть выражения лица этого явно одержимого отрока: такая отражалась на лице этом мука бессильной ярости, отчаяния и вместе чисто детской растерянности и беспомощности. Вот ужас-то! Я не мог удержать подступивших к самому горлу слез при виде этой муки детской души, неповинно страдающей за грех, — чей? родительский? среды? обще ли человеческий? или «да явятся на нем» в свое время «дела Божии»? Кто даст ответ?.. Но, Боже мой, как это страшно, как страшна эта одержимость той враждебной человеку силой, которая верою и Церковью именуется бесами! Здесь, при жизни, плоть и кровь наши туманят зрение души, не дают очам видеть того невидимого, окружающего нас мира, что доступен зрению только веры; но там, за гранью, называемой смертью, за пределом жизни временной, при переходе в жизнь вечную, там-то какой ужас ожидает освобожденную душу, если она явится туда неподготовленной, отчужденной от благодатной помощи надмирного сонма светоносных небожителей?..
Пишет в записках своих одна присная духовная дочь великого Святителя, Епископа Игнатия (Брянчанинова)[188]: «В последнее свидание с Преосвященным Игнатием, 13 сентября 1866 года, он, прощаясь, сказал мне: “С[офия] И[вановна]! Вам, как душе своей, как себе, говорю: готовьтесь к смерти — она близка. Не заботьтесь о мирском: одно нужно — спасение души. Понуждайте себя думать о смерти, заботьтесь о вечности!”
30 апреля 1867 года, в Воскресенье (Неделю жен-мироносиц), Преосвященный Игнатий скончался в Николо — Бабаевском монастыре. Я поехала на его погребение, совершавшееся 5 мая.
Невыразима словом та грустная радость, которую я испытывала у гроба Святителя.
Прошло три месяца. 12 августа 1867 года, ночью, я плохо спала. К утру заснула. Вижу, пришел владыка Игнатий в монашеском одеянии, в полном цвете молодости, и смотрит на меня с грустью и сожалением.
— Думайте о смерти, — говорит он мне, — не заботьтесь о земном: все это только сон, земная жизнь только сон. Все, что написано мною в книгах, все — истина. Время близко: очищайтесь покаянием, готовьтесь к исходу. Сколько бы ни прожить здесь, все это только один миг, один только сон!
На мое беспокойство о сыне, владыка сказал:
— Это не ваше дело: судьба его в руках Божиих; вы же заботьтесь о переходе в вечность.
Видя мое равнодушие к смерти и исполнясь состраданием к моим немощам, он стал умолять меня обратиться к покаянию и чувствовать страх смерти.
— Вы слепы, — говорил он, — ничего не видите и потому не боитесь; но я открою вам глаза и покажу смертные муки.
И вот я стала умирать. О, какой ужас! Мое тело мне стало чуждо и ничто, явно как бы не мое. Вся жизнь перешла в лоб и глаза; мое зрение и ум увидели то, что есть в действительности, а не то, что нам кажется в этой жизни. И жизнь эта — сон, только сон! Все блага и лишения этой жизни — все это перестает существовать, как только наступает со смертью минута пробуждения. Нет ни вещей, ни друзей — одно необъятное пространство.
И все пространство это наполнено существами страшными, непостижимыми для нашего земного ослепления. Существа эти кишат вокруг нас в разных образах, держат нас как бы в постоянной осаде. И у страшилищ этих есть и тело свое, но особого вида, тонкое, похожее на слизь. Как они ужасны!… Они лезли на меня, лепились вокруг меня, дергали меня за глаза, тянули мои мысли в разные стороны, не давали перевести дыхание, чтобы не допустить призвать Бога на помощь. Я хотела молиться, хотела осенить себя крестным знамением, хотела произнесением имени Господа Иисуса Христа избавиться от этой муки, отдалить от себя эти страшные существа, — но у меня не было ни сил, ни слов, ни молитвы. А эти страшилища кричали мне:
— Поздно теперь! После смерти уже нет молитвы!
Тело мое деревенело, голова становилась неподвижной; только глаза всё видели, и дух в мозгу все ощущал.
С помощью какой-то сверхъестественной силы я была в состоянии немного приподнять руку, донести ее до лба и сотворить крестное знамение. Это вызвало корчи страшилищ. Я усиливалась духом — уста и язык уже мне не принадлежали — представить имя Господа Иисуса Христа, и тогда страшилища прожигались, как раскаленным железом, и кричали на меня:
— Не смей произносить этого имени: теперь уже поздно!
О, неописуемая мука!… О, если бы мне удалось хотя на одну минуту перевести дыхание! Но зрение, ум и дыхание были облеплены этими страшилищами, которые их тащили в разные стороны, не допуская их соединиться друг с другом и произнести имя Спасителя. О, что это было за страдание!…
И услышала я голос владыки:
— Молитесь непрестанно. Все истинно, что написано в моих книгах. Бросьте земные попечения; только о душе и заботьтесь.
И с этими словами он стал уходить от меня по воздуху, как-то кругообразно, все выше и выше над землею. Вид его изменялся и переходил в свет. К нему присоединился целый сонм таких же светлых существ — все как будто ступенями необъятной, необъяснимой словами лестницы. И владыка и все они по мере восхождения принимали вид невыразимо прекрасного солнцеобразного света. Смотря на них и возносясь духом за этой бесконечной полосой света, я уже не обращала внимания на страшилищ, которые в это время бесновались вокруг меня, чтобы на себя отвлечь мое внимание, поглощенное лучезарным видением. И увидела я, что и у тех светоносных сонмов было свое тело, и тело это было похоже на лучи какого-то дивного света, перед которым наше солнце ничто или тьма. И чем выше были ступени виденной мною лестницы, тем светлее были стоявшие на них сонмы небожителей. И я видела, что владыка Игнатий поднимался все выше и выше, пока не окружил его сонм лучезарных святителей и сам он не сделался таким же лучезарным.
Выше этой ступени зрение мое не проникало.
И с той высоты еще раз владыка Игнатий бросил на меня свой взгляд, исполненный любвеобильного сострадания. И тут уже, не помня себя и не помня как, вырвалась я из-под власти державших меня и воскликнула:
— Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего, Преосвященного Игнатия, и святыми его молитвами спаси и помилуй меня, грешную!
И все ужасы мгновенно исчезли, и наступил мир, и великая тишина настала в душе моей устрашенной.
Я проснулась в жестоком потрясении.
Никогда и ничего я не боялась и охотно одна-одинешенька оставалась в целом доме, но после этого сновидения я чувствовала такой ужас, что одной мне оставаться было не в силу. Много времени после того у меня посредине лба ощущалось какое-то необыкновенное чувство — не боль, а какое-то особенное напряжение: как будто вся жизнь моя сосредоточилась в этом месте.
И во время этого сна я уже на собственном опыте узнала, что когда ум сосредоточивается на мысли о Боге, на имени Иисусовом, тогда мгновенно исчезают виденные мною ужасные существа. Но лишь только мысль отвлекается, они вновь кишат вокруг, чтобы помешать мысли обратиться к Богу и сосредоточиться на молитве Иисусовой.
Видение это было в Петербурге».
Бедный, бедный одержимый мальчик, виденный мною сегодня в храме! Но не несчастнее ли еще его все взрослое поколение современного человечества, пришедшее володеть и княжити над землею; на чем, на чем, но не на мысли о Боге и не на имени Иисусовом сосредоточен ум его; и кто же, стало быть, умом этим владеет, кто управляет?.. Ребенок не несет на себе ответственности пред лицом Вечной Правды за грехи воспитывающих его ум и сердце; а мы-то, совершеннолетние, сознательные?.. Господи, помилуй! Уж не бесноваты ли и все-то мы, и если не все, то по крайней мере подавляющее большинство собратий наших, на наших глазах отступающих и уже отступивших от Бога и от Христа Его? Разве же не беснуется окружающий нас мир?
4 января
Еще посмертное явление Святителя Игнатия (Брянчанинова)
В той же рукописи, из которой я извлек сказание о посмертном видении святителя Игнатия Брянчанинова, бывшем в Петербурге одной из его духовных дочерей, я имел великое счастье, как милость Божию, обрести и другое, и тоже о посмертном явлении святителя на 20-й день по кончине его другой духовной дочери, некой А. В. Ж.[189] Это явление было в Москве 19 мая 1867 года.
По силе и изобразительности проникновения в существо нашей Православной веры равного этим двум сказаниям я ничего не знаю; только «Беседа преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым о цели христианской жизни»[190], только она одна из всех современных нам сказаний способна в той же мере окрылить упования столь ныне немощствуюшей веры нашей.
Пишет г-жа А. В. Ж.:
«Тяжелая скорбь подавила все существо мое с той минуты, когда дошла весть до меня о кончине владыки. Скорбь эта не уступала и молитве: самая молитва была растворена скорбью. Было невыносимо горько. Ни днем ни ночью не покидало сердца ощущение утраты незаменимой, ощущение духовного сиротства. И душа и тело изнемогли до болезни.
Так прошло время до 20-го дня по кончине владыки. На этот день я готовилась приобщиться Святых Таин в одном из московских женских монастырей… Так сильно было чувство печали, что даже во время Таинства покаяния не покидало оно меня; не покидало оно и во время совершения Литургии. Но в ту минуту, как Господь сподобил меня принять Святые Таины, внезапно в душу мою сошла чудная тишина, и молитва именем Господа Иисуса Христа, живая, ощутилась в сердце. Так же внезапно и для меня самой непонятно печаль по кончине владыки исчезла… Прошло несколько минут, в течение которых я отошла на несколько шагов от Царских врат и, не сходя с солеи, стала по указанию матушки игумении на левый клирос, прямо против иконы Успения Божией Матери.
В сердце была молитва. Мысль в молчании сошла в сердце… И вдруг перед внутренними глазами моими, как бы также в сердце, но прямо против меня, у иконы Успения, возле одра, на котором возлежит Царица Небесная, изобразился лик усопшего Святителя красоты, славы, света неописуемых. Свет озарял сверху весь лик, особенно сосредоточившись на верху главы. И внутри меня, опять в сердце, но вместе и от лика я услышала голос, — мысль-поведание, луч света, ощущение радости, — проникнувший все существо мое, который без слов, как-то дивно передал внутреннему моему человеку следующие слова: «Видишь, как тебе хорошо сегодня! А мне так без сравнения всегда хорошо, и потому ты не должна скорбеть обо мне».
Так ясно и отчетливо видела и слышала я это, как бы сподобилась увидеть владыку и слышать его лицом к лицу.
Несказанная радость объяла всю душу мою и живыми отпечатком отразилась на моем лице, так что заметили окружающие.
По окончании литургии начали служить панихиду. И что это была за панихида!… В обычных печальных надгробных песнопениях слышалась мне дивная песнь духовного торжества и жизни бесконечных. То была песнь воцерковления вновь перешедшего из земной воинствующей Церкви воина Христова в небесную Церковь торжествующих в невечерней славе праведников. Мне казалось, что был Христов день: таким праздником ликовало все вокруг меня…
А в сердце тихая творилась молитва.
Вечером того же дня, 19 мая, я легла в постель. Сна не было… Около полуночи в тишине ночи откуда-то издалека донеслись до слуха моего звуки дивной гармонии тысячи голосов. Все ближе и ближе приближались звуки; начали выделяться ноты церковного пения; ясно наконец стали определительно, отчетливо выражаться слова. И так полно было гармонии это пение, что невольно к нему приковывалось все внимание, вся жизнь… Мерно гудели густые басы, как гудит в пасхальную ночь звон всех московских колоколов, и гул этот плавно сливался с мягкими, бархатными тенорами, с рассыпавшимися серебром альтами и дискантами. И весь этот дивный хор казался одним голосом — столь полна в нем была гармония… И все яснее и яснее выделялись слова, пока я не расслышала отчетливо:
Архиереев Богодуховенное украшение,
Монашества слава и похвало!…
Вместе с тем для самой меня необъяснимым извещением, без слов, но совершенно ясно и понятно, внутреннему моему существу сказалось, что этим пением встречали епископа Игнатия в мире небесных духов.
Невольный страх объял меня, и к тому же пришло на память, что владыка учил не внимать подобным видениям или слышаниям, чтобы не подвергнуться прелести. Усиленно старалась я не слышать и не слушать, заключая все внимание в слова молитвы Иисусовой, но пение продолжалось помимо моей воли, так что мне пришла мысль, не поют ли где на самом деле в окружностях. Я встала, подошла к окну, отворила его. Все было тихо. На востоке занималась заря.
Утром, проснувшись, к удивлению моему я припомнила не только напев, слышанный мною ночью, но и самые слова.
Целый день, несмотря на множество случившихся житейских занятий, я находилась под необычайным впечатлением слышанного. Отрывками, непоследовательно, припоминались слова, хотя общая связь их ускользала от памяти.
Вечером я была у всенощной. То была суббота, канун последнего Воскресенья, пятинедельного по Пасхе. Пели канон Пасхи. Но ни эти песнопения, ни стройный хор чудовских певчих не напомнили мне слышанного накануне: никакого сравнения нельзя было провести между тем и другим.
Возвратившись домой, утомленная, я легла спать. Но сна опять не было. И опять, только что стал стихать городской шум, около полуночи, слуха моего снова коснулись знакомые звуки; только на этот раз они были ближе, яснее, и слова врезывались в память мою с удивительною последовательностью.
Медленно и звучно-торжественно пел невидимый хор:
Православия поборниче,
Покаяния и молитвы делателю и учителю изрядный,
Архиереев Богодухновенное украшение,
Монашества славо и похвало!
Писаньми твоими вся ны уцеломудрил еси,
Цевнице духовная, новый Златоусте,
Моли Слово, Христа Бога,
Его же носил в сердце твоем,
Даровати нам прежде конца покаяние.
На этот раз, несмотря на то что я усиленно творила молитву Иисусову, пение не рассеивало внимания, а еще кто-то неизъяснимым образом со мною повторял ее, и моя сердечная молитва сливалась с его молитвою в общую гармонию со слышанным пением, и сердце живо ощущало и знало, что то была торжественная песнь, которою небожители радостно приветствовали преставившегося от земных к небесным земного ангела и небесного человека, епископа Игнатия.
На третью ночь, с 21 на 22 мая, повторилось то же самое, при тех же самых ощущениях.
Это троекратное повторение утвердило веру, не оставило никакого смущения и запечатлело в памяти слова тропаря и тот напев, на который его пели, как бы давно знакомую молитву. Напев был схож с напевом кондаков в акафистах. После, когда я его показала голосом, мне сказали, что то был глас осьмой».
О, возлюбленная наша вера Православная! Нет на свете ничего вожделеннее тебя и краше!
5 января
Крещенский сочельник
Наша Любочка. — «Всякое дыхание да хвалит Господа».
До половины четвертого были в церкви не пивши, не евши. Зато имели великую радость присутствовать при освящении великой агиасмы — Богоявленской воды — и испить от ее сладости.
Наша Любочка растет под благодатным влиянием оптинского строя жизни совершенно необыкновенным ребенком. Вчера легла в постельку и на сон грядущий взяла у своей Ляли четки. Лежит, перебирает их и что-то шепчет.
— Ты что там шепчешь? — спрашивает Ляля.
— Молюсь.
— За кого?
— За неверующих: как же им, должно быть, тяжело жить на свете! А когда помрут, какое их ждет страшное наказание!
Вот оно христианское-то воспитание Святой Руси наших предков: уже с таких лет детская головенка начинала в былые времена приучаться жить и думать по христиански, не о себе, а о ближнем! Теперь Любочка — исключение, а тогда такие Любочки были общим правилом, и когда вырастали, то рождали и воспитывали, в свою очередь, ту Россию, которая без малого тысячу лет являла в глубине народного сердца истинное на земле тысячелетнее царство Христово. Проникновенно-глубоко охарактеризовано это царство Ф. И. Тютчевым:
Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты Русского народа!
Не поймет и не заметит Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит В наготе твоей смиренной.
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный Исходил, благословляя.
Сегодня вечером у жены разболелась голова. Пошли вместе проветривать ее на воздух. Взяли Любочку. Дошли до лесу. Таинственен и жуток лес наш морозною зимнею ночью: жутко стало ребенку, жмется ближе к нам, и слышу, что-то шепчет себе под носик.
— Ты что это, — спрашиваю, — нашептываешь?
Она не сразу ответила. Пришлось настоять на ответе.
— Богородицу! — чуть слышно ответила девочка.
На первый или на второй день Рождества нам принесли живого зайца: ребятишки-ученики из рухольной поймали его силком где-то на Оптинских задворках и принесли нам «разговляться». Лапки у зайца были туго перевязаны тонкой бечевкой и потерты до крови; зайчиное сердчишко колотилось от страху так, что готово было выпрыгнуть… Я кликнул Любочку.
— Ах, заинька! — кинулась она к жертве ребячьей охоты. — Да какой же ты миленький, да какой же Ты бедненький!
Я дал ребятишкам полтинник, а Любочке говорю:
— Возьми себе этого зайца и делай с ним что хочешь: можешь сказать, его приготовят в сметане; можешь воспитывать, чтобы он был у тебя ручной; а если захочешь, то и выпустить можешь его на волю. Распоряжайся как знаешь.
Уложила зайчишку Любочка на свою постельку, испятнала простынку зайчиной кровью, стала подкармливать капустой… Прошло с полчаса, приходит Ляля.
— Любочка послала, — говорит, — просит вас выпустить зайца на волю: на всенощной, говорит, поют «всякое дыхание да хвалит Господа» — так пусть и заяц хвалит!
И понесли мы с Любочкой зайца в лес, еще с нами целая компания домочадцев пошла смотреть, что будет делать со своей волей заяц… Принесли его на перекресток двух лесных дорог, развязали ноги, посадили на дорогу, а сами отошли к сторонке. Заяц сел на задние лапки и — ни с места, только ушами поводит.
— Любочка, — говорю, — крикни и хлопни в ладошки!
Как сорвется тут со своего места заяц, да как помчится вглубь леса по дороге — потуда его и видели!
Как же радовалась и смеялась тогда от радости Любочка. Сколько тогда усилиями общей фантазии было сочинено историй по поводу возвращения зайца домой к родителям, к жене, к малым детушкам!… Очень утешалась тогда наша девочка.
20 января
Раскаленная лава начинает вливаться в Божию реку. — Из статьи проф. А. И. Введенского «Стражи Дома Израилева, бодрствуйте!» — Из письма студента-академика о духе Академии. — Стены вопиют.
Возвращаюсь опять к той же великой и страстной теме, которая все чаще и все стремительнее, как бурно-огненный поток раскаленной лавы, стала вливаться в тихие воды моей Божьей реки. Пышноцветные луга и зеленокудрявые леса и рощи берегов ее, улыбающихся приветом и лаской Божественной любви, царственного покоя и мира о Дусе Святе, все темнее и мрачнее стали заволакиваться мглистым туманом уже начавшегося извержения великого вулкана осатанелого в гордом безумии мира. Мы, укрытые святостью Оптинской благодати, далеки еще как будто от вершины его, окутанной сгустившимся над нею мраком преисподней, блещущим кровавыми зарницами геенского огня, близкого к извержению, — но уже и до нас доносится гул клокочущего вулкана, и под нами начинает сотрясаться земля, тревожа живых и уже отшедших ко Господу подвижников Оптинских.
«Только в периоды великих исторических потрясений, — так пишет в «Московских Ведомостях» профессор Московской Духовной академии А. И. Введенский[191], — кризисов, как говорят, мировых, даже и в поверхностные души закрадывается какая-то тревога и смутная догадка, что совершается что-то необычное, что судьбы людей взвешиваются на весах Божьей правды и творится «Суд миру»… Так было, например, в эпоху крушения средневекового миросозерцания. Так было пред и после великой французской революции.
Так многие чуткие настроены и теперь.
Покойный Вл. Соловьев чувствовал[192] явственное, хотя и неуловимое, дуновение грядущего антихриста — как путник, приближающийся к морю, чувствует морской воздух, прежде чем увидит море. Над ним подшучивали и много по этому поводу злословили. Но оказалось, что он был прав в своих пессимистических предсказаниях и догадках: сначала «Желтый дракон», потом гидра русской революции, а теперь уже все мы, как и он в свое время, чувствуем, что действительно —
Есть бестолковица,
Сон уж не тот:
Что-то готовится,
Кто-то[193] идет…
… Наши идейные движения и влияния и даже самые настроения могут служить показателем того, что совершается на Западе, по-видимому спокойном, но, в сущности, для внимательного взгляда также духовно взволнованном и возбужденном…»
Кончается эта замечательная статья[194] следующими словами: «Ужасное время!… Стражи Дома Израилева должны быть теперь именно особенно на страже… Мы живем в очень тяжелое время, когда вековечная борьба двух миросозерцаний — христианского и антихристова — развертывается с особенным напряжением и остротой.
Стражи Дома Израилева, будьте особенно на страже!
Легко сказать!… Наша брань, по Апостолу, да и по всему существу нашей христианской веры, не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных (Еф.6:12). Брань, стало быть, духовная с оружием духовным. А между тем те училища благочестия, из которых должны выходить и выходят уже много лет духовные вожди духовному стаду Христову, куют для питомцев своих не «меч духовный», не «шлем спасения», не «щит веры», которым возможно угасить все раскаленные стрелы лукавого, а нечто иное, чему свидетельством могут служить следующие строки из письма ко мне питомца одного из высших рассадников духовного любомудрия.
«Поистине, — пишет он, — огрубело, одебелело наше сердце в этой затхлой, душной обстановке «храма науки». Чему вы удивляетесь? Нашему долготерпению в сфере изучения того «мусора-щебня», каким окрестил Оптинский мудрец, покойный о. Даниил[195], нашу науку? Да, оно почтенно это изучение, оно достохвально! Что же удивительного, если из наших когда-то живых душ сфабрикуют мумии в золотых облачениях? Хорошо, если правую веру сохраним, но не ту ли, какую имеют и бесы? В этом заслуга не велика: царства Божия за это не наследуют, ибо в трепет приводит такая вера, а не к внутреннему деланию… Что же мудреного, если и такой радостный праздник, как Рождество Христово, и тот «выжмет» из охладевшего сердца не более 5-7 слов на поздравительной карточке!…[196] О, молите Господа за нас, да не отяготит нас «Гефсиманский сон», да не разбежимся и мы от страха и «страха ради иудейска», как апостолы в ту страшную ночь Иудина предательства, да не оскудеет вера наша, долженствующая, по предъявленным к нам требованиям, не гору, а весь отпавший от Христа мир двинуть к познанию Безначального. Да не иссякнет источник любви в нашем сердце, ибо без него мы будем грязными подсвечниками, хотя и на «свещнице», безводной Сахарой, хотя и с неисчерпаемыми золотыми самородками,. Ждем реформы… Господь мне судил учиться в трижды реформированной Академии. Поистине, «огни и воды» пройдя, пройду и «медные трубы» — как говорит мудрая русская пословица… Дорогой мой! Одичал я здесь и сохну в этой душной атмосфере! Чувствую, что день ото дня глупею и, что было в голове, все потратил, износил… Сохнет мое сердце, слабеет воля, устал в этой борьбе с мельницами. Лишь обет послушания, как стальною цепью, приковал меня, подобно мифическому Танталу, к скале… Скоро ли конец этому?!»
Такова характеристика внутреннего устроения духовного юношества, из которого выходят стражи Дома Израилева.
Стражи Дома Израилева, бодрствуйте!
Каменные стены вопиют: бодрствуйте!
Вот что произошло на минувших праздниках в один из святых вечеров в каменных стенах. Зал собрания Петербургского благородного дворянства: «сборище жидов (жидовский концерт) всех классов и состояний торжествовало в первый раз открыто свою победу над христианством[197], неистово хлопая чуть не шансонетке, припевом которой служил предсмертный возглас Христа Спасителя… В подлой шансонетке, распеваемой жидами в качестве гимна победы и одоления, повторялись все те злобные слова, которые с трепетом великой скорби записывали свв. евангелисты: «Сойди с креста, Распятый, если Ты Сын Божий!» Эти слова возглашал современный кантор на эстраде благородного дворянского собрания в Петербурге, и возглас этот, переложенный на современный мотив, усугублял этим кровавое оскорбление… А русские православные люди слушали его и, не понимая смысла жидовского пения, прислуживали жидам-оскорбителям… Не будь мы отравлены жидо-масонским ядом, разве могли бы русские люди хладнокровно читать восторженные описания жидовского концерта, появившиеся в «Речи» и прочих противохристианских газетах?.. Эти газеты пояснили, чего русские люди не поняли… Газета, печатанная по-русски и читавшаяся русскими людьми, осмеливается совершенно откровенно пояснять, как жидовская публика «наслаждалась» куплетами, сюжетом которых было Распятие Христа. Все мы, — пишет «Русское Знамя», — прочли чудовищное признание жидовского официоза: старые и малые, нищие и вельможи, мастеровые, купцы и сановники, — все узнали причину ликования и… молчим».
Стражи Дома Израилева! «Дня и часа» не знаем, но камни вопиют о том, что он уже близок, ибо Бог поругаем не бывает.
21 января
В подражание былинному эпосу. — Завет старого дворянина сыну. — Бытовая оптинская картинка — убогий Зиновий. — Старик Павел — «одним судом судить будут». — Слепенькая Пелагея-схимница. — Старцу-слепцу о. Иоанну что-то мне сказать нужно.
Все эти дни приходилось заниматься разоблачением «близ грядущего» и в заметках своих, и в перерабатываемой книге моей «Великое в малом», приготовляемой к 3-му изданию. Устал от наплыва тягостных впечатлений, безмерно волнующих и сердце, и ум… Ах, кабы да силушки мне богатырской Илеюшкиной, святорусского богатыря, да Ильи Муромца, да меч бы мне его кладенец! Уж почал бы я тогда крушить врагов Церкви Божией и Царства Русского Православного, да не улицами и переулочками, а целыми бы площадями места Лобного, высокого, что при реке Москве стоит близ храма Василия Блаженного, стоит с полтыщи лет, не тронется, про врагов Царя-батюшки готовится. Эх, да кабы на помогу Илеюшке да бояре и дворяне старозаветные, да силушка старорусская крестьянская-христианская, да дух бы един в любви и согласии на Кресте Спасителеве целования постояти до конца за тую за правду Божию, чем крепко-сильна была земля Русская; и чего б Илеюшке втапоры не понатворити, не понадеяти! А от жидовина бы и праху не осталось со всеми волшебствами его и чародействами…
Где теперь эпос этот богатырский? Где дух дворянский? Где крестьянин-христианин? Куда девалась Русь, что Русью пахла?..
А еще так недавно мне довелось за счастье слышать от одного земляка-дворянина, мне ровесника, завет, переданный ему отцом от отцов своих:
Богу не ханжи,
Царю не льсти,
Народу не потакай.
За Бога — на костер,
За Царя — на штыки.
За народ — на плаху!
Вы, теперешние, ну-тка!
Господи! Да куда же, куда же это все подевалось?
Пошли сегодня погулять с женой, пройтись по дивному нашему лесу, по заветной скитской дорожке. Ветер гудит и звенит обледеневшими ветвями и макушками сосен. Идет снег; с полян в лесу врывается в его чащу мокрая метель, на дворе тает… По скитской дорожке, по направлению к Скиту, обгоняем безногого Зиновия[198], шаркающего по мокрому снегу своими культяпками. Поздоровались со стариком, и пошли дальше. Вдруг слышим сзади себя его голос:
— Сергей Александрович! барин! батюшка!
Оборачиваюсь:
— Что тебе, Зиновеюшка?
— А у кого, — кричит, — из святых ключи от Царства Небесного?
— У апостола Петра.
— У Петра, стало быть, апостола?
— Да.
— А-а! — Протянул Зиновий и замолк, — видно, удовлетворился ответом.
До слез умилила меня эта бытовая оптинская картинка.
Вернулись домой. Является в кабинет прислуга и говорит:
— Там к вам Павел Антонов пришел из Стениной.
— Кто такой?
— Не знаю-с.
Догадываюсь, что это отец нашей припадочной Груши[199], которая третьеводни в страшном припадке упала и так разбила себе лицо, что оно обратилось в один сплошной сине-багровый кровоподтек, закрывший глаза огромной опухолью.
Я вышел к старому Павлу. Перед ним уже успели поставить кружку с чаем.
— Что тебе, Павел?
— Большая нужда: пожалуйте мне полтинничек!
Павел — не попрошайка и просит редко, если уж очень туго придется, — когда раз, когда два в месяц… Я дал ему 45 копеек — что в кошельке было — и говорю в шутку:
— Смотри, Павел, как я твою Грушу избил!
Павел всхлипнул. Тут же стоявшая Груша улыбнулась, и оба, отец с дочерью, как один человек, одним движением, одним порывом, осенили себя широким крестным знамением и в одно слово сказали:
— Такой уж крест. Слава Тебе, Господи! На все Его воля святая!
Я поцеловал Павла. Вот она, былая силушка крестьянская-христианская, старорусская!., увы, только «былая»: Павлу моему уже за семьдесят лет!… Бросился мне Павел в ноги…
— Нас с тобою, — воскликнул он в каком-то восторге, — одним судом судить будут на том свете; слышь — одним судом! Да будет, да будет! — заключил он, меня обнимая.
Надо знать страдальческую жизнь этого старика, его веру в воздаяние в вечности за бесчисленные его земные скорби, чтобы понять, какого блага пожелал он мне своим восклицанием.
Как-то утром пришел он ко мне, отозвал к сторонке и говорит таинственно и радостно:
— Ко мне ночью приходили два старца, постригли меня и сказали: «Ты теперь уже не Павел, а Гавриил».
И нашего старца, о. Иосифа, он видел в раю.
Таков наш Павел.
Под вечер пошли проведать слепенькую старушку, мать Пелагею, тайную схимницу. Она живет в маленькой комнатушечке, в гостинице о. Мардария. Была она когда то в услужении у Оптинской благодетельницы Тиличеевой, а по смерти ее Оптина дала ей приют по гроб — кров и пищу — за благодеяния ее хозяйки. Очень мы любим эту старушку.
Пришли к ней, застали ее; сидит на своей постельке, перебирает четочки. За беседой она неожиданно спросила:
— А читаете вы молитву (так и сказала) «Живый в помощи»?..
— Читаем, — ответил я, — матушка.
А сами не читаем. Надо читать.
— Я за вас, — сказала она, — постоянно молюсь, вот так!… — Личико старушки осветилось, точно светом каким-то, засияло неземной улыбкой; стала она на коленочки и зачитала скороговорочкой:
— Спаси и помилуй, Господи, рабов Твоих, Сергия и Елену! Сотвори им вечное душе-телу спасение! Спаси их и сохрани их, Господи! Прости им все согрешения их, вольные и невольные!
Поднялась с коленочек, а слезы так и льются не ручьями, а потоками по старческим щечкам. Потом опять стала на коленочки и опять зачитала:
— Спаси и помилуй, Господи, рабов Твоих, Наталию и Сергия…
И опять те же святые слова любви и молитвы, и опять жаркие слезы… Эта-то уж достигла молитвенного плача, великого дара слез, святая угодница Божия Пелагея!…
От м. Пелагеи пошли к вечерне. От вечерни провожаем слепенького нашего старца о. Иоанна (Салова)[200], а он и говорит мне:
— Выберите времечко, зайдите ко мне: мне сказать вам кое-что нужно.
Зная, что это «душа особого разряда», как называет его батюшка о. Варсонофий[201], признаюсь, почувствовал в сердце своем некий страх: даром не позовет к себе великий старец.
23 января
Что сказал мне старец о. Иоанн Оптинский. Лишай.
Вчера ходили с женой к о. Иоанну узнать, что ему нужно было сказать мне, но дома не застали — он был у вечерни. Сегодня я не утерпел, пошел к нему один. Старец принял меня со свойственной ему в отношении к нам с женой радостной лаской.
— Берите табуретку, — сказал он, обнимая меня, — садитесь рядом со мною.
Я сел.
— Какие вы псалмы читаете? — предложил он мне вопрос.
Я смутился: обычно на коротеньком своем, чисто мирском, не правиле даже, а правильце, я никаких псалмов не читал.
— Знаю, — ответил я, — «Живый в помощи», «Помилуй мя, Боже»…
— А еще какие?
— Да я, батюшка, все псалмы читал и, хоть не наизусть, а все знаю; но правильце мое маленькое…
Старец перебил мое самооправдание:
— Не о том я хочу вас спросить, какое правило ваше, а о том, читаете ли вы еще псалом 26-й — «Господь просвещение мое?»
— Нет, батюшка, не читаю.
— Ну, так вот что я вам скажу! Вы как-то раз говорили мне, что на вас враг пускает стрелы свои. Не бойтесь! ни одна вас не коснется, никакой дряни не опасайтесь: дрянь дрянью и останется. Только возьмите мой совет за правило, послушайтесь: читайте утром и вечером перед вашей молитвой оба эти псалма — 26-й и 90-й, а перед ними великое Архангельское обрадование — «Богородице Дево, радуйся». Будете так делать, ни огонь вас не возьмет, ни вода не потопит…
При этих словах Старец встал со своего кресла, обнял меня и с какой-то особой силой, раскатисто-звонко, не сказал даже, а выкрикнул:
— Больше вам скажу: бомбой не разорвет!
Я поцеловал обнимавшую меня руку Старца. А он опять, прижавшись к самому моему уху, опять громко воскликнул:
— И бомба не разорвет! А на всякую дрянь вы и внимания не обращайте: что вам дрянь сделать может?.. Вот об этом-то я и хотел побеседовать с вами. Ну а теперь идите с Господом, да поклонитесь моей барыне!
И с этими словами Старец отпустил меня с миром.
Я знал того человека, точнее говоря — женщину, на которую намекал Старец, называя ее дрянью: к Оптинскому благолепнолиственному древу она прилепилась, как лишай, и долго ложной своей святостью и именем старцев морочила Оптинских богомольцев. Я ее понял, и она мне за то мстила, где могла.
Бог с ней!…
24 января
Воскресенье
Мой отдых. — Милая парочка. — Страхи. — Дети Божьи. Речи от времен Владимира Красна Солнышка. — Ангелы вам в путь, дети Божии!
Отдыхаю умом и сердцем на зеленой, цветоносно-душистой мураве благословенного берега моей тихоструйной, прозрачно-глубокой Божией реки Оптинской.
О тишина! О сладость!…
С кануна нового года, за всенощной, мы заметили в храме появление какой-то необычайно милой молодой парочки: он — широкоплечий, высокого роста богатырь, с приятным, открытым лицом; одет в дохе, несмотря на высокую температуру храма; стоит всю службу как вкопанный и усердно молится. Она — тоже довольно высокая, стройная, личико милое-милое, с румянцем во всю щеку, так и сияет лучистыми глазками; одета по-городскому, в коротенькой «гуляльной» (выражение покойной моей матери) кофточке и миленькой, как говаривали в старину, «комильфотной» шляпке. Словом, такая парочка, что лучше и не надо. Для мужа и жены они были слишком похожи друг на друга: мы решили, что это брат с сестрой, и от души пожелали им всякой милости Божией — очень уж они нам понравились.
Вечером числа 3-го или 4 января часов около семи к нам кто-то позвонил с парадного крыльца. На звонок выбежала наша новая прислуга Паша. По обычаю, усвоенному нашими домочадцами, вместо того чтобы коротенько узнать, кто и зачем звонит, и доложить, Паша застряла за входной дверью в длиннейших объяснениях с поздним посетителем. Я на всякий случай (мало ли что может случиться в нашем уединении!) вышел в переднюю… Является Паша и объявляет:
— Вас какой-то там мущина спрашивает.
— Какой мущина?
— Да — мущина! А я почем знаю?
Вижу, что от Паши толку не добиться, посылаю Филю (мальчик из Оптинской столярки, мною помещенный туда в ученье). Польщенный ответственным поручением и втайне труся, Филя кинулся на парадную дверь, как на врага, с диким, воинственным кличем:
— Кто там? кто там?
За дверью никого не было: таинственный ночной посетитель скрывался где-то там за садовой калиткой. Тогда вновь с криком отчаяния и страха — «кто там?» — Филя ринулся к калитке. Я стоял у парадного крыльца в резерве. Через минуту Филя вернулся и подал мне письмо от близкого моему сердцу иерея Божия из черноземной полосы России. В письме этом мне были рекомендованы брат и сестра Е., земляки этому иерею, с просьбой принять и приласкать их по-оптински.
Прочел я письмо и спрашиваю Филю:
— Где они?
— Ушодцы[202] на гостиницу к о. Пахомию.
— Догони и верни!
Эти брат и сестра и были той милой парочкой, которую мы заприметили в Оптинском храме в канун нового года. И что же это оказались за чудные люди, что за детские, доверчивые, чистые души! И родит же еще Господь таких в наше страшное время! О дорогая моя Оптина! только ты одна и имеешь божественный дар открывать ищущему тех из седми тысящ неподклонивших выи своей Ваалу, которых соблюл Себе Господь, укрыв их даже от вещих очей великого Своего пророка. 29 декабря такие же чистые души блеснули нам светом красоты своей душевной — то были брат и две сестры З. из С-а, теперь эти Е. из Т-а: и те и другие одного духа, одного душевного устроения, одного устремления к Божественному и вечно прекрасному, что таится и обретается только в сокровенных тайниках Христовой Православной Церкви, в тех святых обителях, где еще жив дух древлемонашеский.
Есть у меня знакомка, старозаветная старушка из простых крестьянок. Живет она при одной женской обители, но монашества не принимает, по смирению, что ли, или по другой какой причине… Удивительно образный и красивый у нее говор: в нем мне отзвук слышится тех речей, которыми в дни древние ласкался слух в хоромах княжьих Владимира Красна Солнышка.
Вот эта-то бабушка — звали ее Натальей — про людей одного духа выразилась однажды такими словами:
— Вот что я тебе, мой батюшка, скажу: был у меня только один свет (она назвала одного по духу близкого моему сердцу человека), свет пресладкий, приятный, любезный и красивый; а теперь стало два света — вы оба, светы лазоревые, одного духа, одного простосердечья, одного чистосердечья, не превозвышенные; любовь ваша душевная, одно слово — одного духа, одного полотна. Ходите статно, аккуратно, сзади поглядишь — как вырезанные.
Таковы эти мои милые Е. и те З. Соблюди их, Господи, во святыне Твоей! Благодарю Тебя за честь и утешение видеть и любить истых детей Твоих, чья душа красотою своею уже и здесь, на грешной земле, отражает сияющую светлость беспредельной красоты Твоего лучезарного неба, подножия престола непостижимой славы Твоей и величествия!…
— Скажите, кто это такие? — спросил раз как-то, указывая на них за всенощной, помощник нашего благочинного отец Е.
Я сказал.
— Вишь ты! — подивился он. — Еще, стало быть, и в вашем быту есть рабы Христовы. Дивлюсь я, на них глядя.
А они, действительно, в храме стояли, как Ангелы Божии.
Уехали они 7 января — оба они служат на казенной службе, — проведя почти целый день у нас. В одиннадцатом часу вечера того дня мы с женой пошли их провожать через лес на гостиницу о. Пахомия. Идут они величавым нашим лесом и все время восторгаются, мечтая на лето приехать в Оптину и на все время летних каникул поселиться и пожить в ней всей семьей — с отцом, с матерью, да еще и брата с собой прихватить, студента. Святая мечта! Как только их съютить [соединить] с постановлением монашеского съезда, наложившего запрет на монастыри принимать к себе на жительство мирских, именуемых «дачниками»? Как бы и нам самим не угодить под эту категорию!…
Пока шли лесом, зашумели макушки сосен, стало снежить. Начала подниматься метель с мокрым снегом; в лесу-то еще тихо, а там, в лугах Жиздры, по дороге в Козельск, так прохватит, за мое почтение. Глядим мы на «гуляльную» кофточку…
— А будет у вас, — спрашиваем, — чем укрыться, когда завтра рано утром поедете на станцию?
— Как не быть! — выкликнул богатырь-брат. — На мне ее доха. Отчего ж я все время в ней и страдаю: я приехал в тулупе, но в тулупе неловко ходить в церковь, а пальто свое я не взял, чтобы не брать с собою лишнего багажа: вот в дохе я и щеголяю.
А он «щеголял», простаивая в ней как изваяние все продолжительные службы в теплых наших Оптинских храмах.
— Ну, вот, — говорю я им на прощанье, — вам теперь открылась новая жизнь, о которой вы и не подозревали, живя в миру; ее вам открыла Оптина и батюшка о. Варсонофий (они стали его духовными детьми): будете ли вы теперь помнить об Оптиной?
— Это не жизнь, — воскликнула в восторге молодая девушка, — это преддверие рая!
На этом мы обнялись с ними и простились.
Ангелы в путь вам, дети Божии!
25 января
Обитель любви, веры и… нищеты.
Сегодня была у нас мать Мария, рясофорная послушница из Д[угненско]й обители, основанной во имя Царицы Небесной, в память явления одной из Ея чудотворных икон и святителя Иоанна Милостивого. Не монастырь, даже еще и не община. Смиренное это общежитие жен и дев, пожелавших уневестить себя Христу, а в нашем сердце ему отведено такое обширное место, что хоть бы и великой лавре впору. Такова сила и власть любви, живущей и управляющей этой обителью в лице ее настоятельницы, человека исключительной духовной красоты и разума Христова, и единодушных с нею и единоправных сестёр ей о Христе Иисусе. Н обители этой, ни настоятельницы ее я еще и в глаза не видал, но такова сила любви, что и невидимое становится как бы видимым, а сердечному оку ближе даже иногда, чем иное видимое.
Кто свел нас духом с этой дивной обителью любви, веры и… нищеты, вожделенной Евангельской нищеты духа, которой обещано Царство Небесное, и той нищеты, от которой немощной плоти, увы, бывает иной раз до слез и холодно и так голодно-голодно?!. Кто свел нас, кто первый проторил нам дорожку к ним, к этим чистым душам, искательницам Божьего Иерусалима, града невидимого?
Великая немощь человеческая — та горькая «послушница без послушания», о которой у меня записано было под 10-м января прошлого года[203]: ей, бесприютной, гонимой и, по правде сказать, в общежитии едва терпимой, был дан приют в этом общежитии; там вновь ее измученному сердцу улыбнулись небесной улыбкой любовь и сострадание. Через нее «наше» отозвалось туда, а оттуда «их» повеяло благоуханием святости к нам — и мы заочно стали родные.
Так сила Божия в немощи совершается…
Заочное наше знакомство около года тому назад повело и к письменному.
В феврале прошлого года я получил оттуда письмо, в нем мне писали так: «Возлюбленный о Христе брат, Сергий Александрович! Простите за беспокойство, что отрываю вас от обычных ваших занятий, зная, что вы не откажетесь помочь нам в том, в чем Господь даст вам силу и способности помочь. Я обращаюсь к вам по послушанию своей матушке-настоятельнице, еще незнакомой вам лично, но верящей в осуществление с вами личного общения, когда на то будет воля и указание Божие, без которых она старается и шагу не ступить. И вот, я стучусь к вашему сердцу помочь нам из прилагаемого жалкого материала о нашей обители составить душеполезный очерк, поместить его в какой-нибудь духовный журнал или же издать отдельной брошюрой. Нам верится, что из этого малого Господь поможет вам создать живую картину великой нашей немощи и отразить в ней тот слабый луч света Божия, который доступен нам в искании чистоты иноческой жизни.
Наша обитель бедна и ничтожна, но в ней полтораста душ, жаждущих Христова утешения и пришедших сюда, как в тихий оазис, из духовной пустыни многошумного и суетного мира, чтобы послужить ему и себе чистотою сердца и молитвою. Знойно и душно там от усилившегося развращения обычаев и нравов. Женская душа во все времена тяготела к любви и вере сильнее и горячее мужской, понимала и искала Божественной правды в мире, а теперь более, чем когда-либо, ибо в мире ныне въяве вместо имени Божия и Его власти призывается имя и власть Его противника и исконного человекоубийцы, вместо истины царствует ложь, вместо чистоты ума и сердца — распущенность. Ныне более, чем когда-либо, исполняются слова Спасителя: Не думайте, что Я пришел принести мир на землю, не мир Я пришел принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку — домашние его (Мф.10:34-36). Ныне жена не стала понимать мужа, занятого только пустыми материальными расчетами, муж — жену, ищущую Бога; ныне брат восстает на сестру за ее любовь к целомудрию, а мир презирает, гонит и попирает решительно все, что может напомнить ему о Христе и Его заповедях. Теперь именно настал тот великий духовный голод, о котором предсказал великий Псалмопевец и Царь словами: Спаси мя, Господи, яко оскуде преподобный, яко умалишася истины от сынов человеческих (Пс.11:2). Душа задыхается в миру, одурманивается и, если не убежит от мира, скоро умирает мучительною смертью или самоубийства, или конечного отпадения от Бога и сатанинской вражды на Него. Жалкая, чуткая душа, еще не успевшая оскверниться в чаду угара мирской жизни и грехов человеческих, стремится вырваться из мира, уйти туда, где небо чисто, где дышится ей легко, где воздух не заражен изменой Богу, чтобы там вздохнуть легко и набраться сил для борьбы со злом, грехом, со своею плотью, воюющей на душу, и с пакостником ее, богоборцем-диаволом. Вот причина и разум основания и возникновения ныне то там, то сям многочисленных, все умножающихся женских обителей, к числу которых, как их младшая и немощнейшая сестра, относится и наша юная обитель, такая убогая, такая немощная, как гнездо слабых ласточек на чужом окне, под чужою кровлей. Жива она чудом Божиим, хранима, поддерживаема и утешаема любовью Того, Кто Сам есть Любовь истинная. Чудом Господним полтораста нищих на чужой земле, при чужой церкви живут в этом уголке и не умирают, мало того, еще и чужих, заброшенных детей содержат в созданном ими приюте. А как теперь мир смотрит на обители, как заботится о поддержании существования молящихся за него Богу их обитателей, считая всех монашествующих тунеядцами?..»
Кончается письмо это словами: «Помогите нам словом вашим, если на то есть воля Божия».
Видно, не было тогда воли Божией: думал я думал, как и чем мне помочь нищете этой непокрытой, горем да бедами, как пеленами, повитой, и ничего-ничегошеньки не мог придумать для убожества святых этих подвижниц. Писать о них, взывать о помощи? Кто мне поверит? да и кто теперь каким бы то ни было словам и писаниям верить станет, если уже святейшему слову Священного Писания не стали веровать? А я — то кто?.. Думал, думал, ничего не придумал и с плачем в сердце ответил бессилием на веру и надежду взывавших к моей помощи.
Казалось бы, по законам мира, и быть тут концу всякому общению: но ин суд Божий и ин человеческий, отказ мой в помощи обручил нас с обителью вовек неумирающею взаимною любовью. На письмо мое, адресованное самой настоятельнице, я получил от нее характерный для нее и для ее дочек следующий ответ: «Дорогой друг мой Сергей Александрович! Простите меня: я поступила необдуманно и без благословения батюшки о. Варсонофия[204] послала вам очерк нашей обители. На меня нашло какое-то затмение: благодаря просьбе одного доброго для нас священника и по слабости ума, характера да еще по гордости я решилась на подобный поступок. Теперь вы меня вразумили и, кроме виновности, я ничего не чувствую. За ваше письмо и за все, что в нем, как умею, благодарю Господа. Вашей добрейшей супруге потрудитесь передать мой искренний привет, целую ее душу. Да хранит вас Господь во все дни жизни вашей в мире, любви и уповании. О нуждах нашей обители я лично не могу почему-то ничего писать — это исполняют за меня мои детки. Вас обоих я храню в своем сердце, как некое сокровище, и рада Богу, что вы существуете на белом свете, что вы взысканы милостию Божиею. Если не трудно, то прошу помолиться о нас, грешных. Я помню вас пред Господом, и если бы было Ему угодно, то навеки и всей душой я была бы предана вам крепкою во Христе любовью. Недостойная настоятельница С[офия] ».
Это после отказа-то, да вдруг такое письмо! Вот, подумалось нам, та любовь, которая не ищет своего, не раздражается… все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит… та любовь, которая по слову апостола, никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится! (1Кор.13:5 и 7-8.) Сердце наше было умилено, и в нем от любви родилась любовь, угодная Богу и навеки предавшаяся и обители, и той, кому было дано затеплить ее в нашем сердце навеки неугасимой лампадой.
Обитель эта, о которой слезами любви и жалости наметывает эти строки перо мое, оказалась духовной дочерью нашей Оптиной и ее старцев. С благословения своей настоятельницы сёстры обители, наезжая в Оптину к своим духовным руководителям, кое-когда стали пользоваться нашим гостеприимством. Надо ли говорить, какая их у нас встречала любовь?! Мы да и все домочадцы на скиток наш стали смотреть как на, подворье этой дорогой нашему сердцу обители; все крепче и крепче спаивались узы нашей любви… Под Рождество, в самый сочельник, когда внезапно наступившие после продолжительной оттепели морозы достигли 30° по Реомюру, из любимой обители нам прислан был куст азалий в полном цвету. Привезла его из Москвы послушница Мария, ездившая по делам обители и отпущенная матушкой настоятельницей на побывку к старцам за советом по какому-то для послушницы этой неотложно-спешному делу. Куст цветущей азалии среди зимы! И ни один цветок, ни один листик не тронут был морозом — вот она любовь, творящая чудеса! И дивились мы ей, и не могли на нее нарадоваться… Рождественские праздники и эти «на снегу цветы» заставили нас написать матушке и выразить ей со всей полнотой и искренностью те чувства, которыми преисполнилось наше сердце к ней и к сестрам за все ее и их, убогих и нищих, щедроты и милости. Ответ матушки я получил сегодня с той же послушницей Марией. Ответ этот так живописует заочного друга нашего и молитвенницу, что я умиленным сердцем и душою умиленною письмо это заношу на эти страницы. Вот что пишет нам этот ангел во плоти: «Господь посреди нас есть и будет. Получила я два письма ваших и, полная радости, припав головою к земле, благодарю Создателя за все Его милости и за это утешение особенно. Но из дорогих тех писем я заметила, что вы слишком беспокоитесь о каком-либо вещественном воздаянии нашей обители, так что даже очерк ее, посланный к вам по необдуманности, имеете на своем сердце как неоплаченный вексель. Не надо так, Сергей Александрович! Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Для Бога все ниже любви. Любовь соединяет и находящи[х]ся далеко. Так и молитва может принести величайшую пользу далеко находящимся друг от друга…» Кажется, глубокие чувства во Христе ничего не просят от любимых, сами в себе имея удовлетворение. А я вот радуюсь вашей святой любви к нам и прошу у ней молитвы, считая ее самой лучшей наградой. Буду и сама молиться как могу, невзирая на свое недостоинство, молиться будут и дети. Буду кричать Господу Богу о милости вам, как кричит малая лесная птичка, стоящая один грошик, но не забытая у Бога; буду любить вас обоих, как люблю ясные звезды или чистые Божии радости.
Увижу ли я вас когда-нибудь или нет, это меня мало заботит. Мне все думается, что я вижу души ваши, и всем сердцем желаю до последнего дня моей земной жизни, и если получу прощенье, то и там, в обители небесной, волею Божиею сохранить [sic] к вам всю силу самой высокой и нежнейшей любви, подобия которой не выразить здесь словами ограниченного человеческого разума.
Господи благий, благослови, укрепи и соверши во мне это! Многогрешная С[офия], настоятельница обители Пресвятой Богородицы N.
Простите!»
Так заводились и укреплялись в любви Божией мои с женою отношения к «малой лесной птичке, не забытой у Бога, кричащей к Нему» о милости не только к нам, но ко всему миру Христианскому, Православному.
Молитва праведного — стояние граду… Великая это милость Божия!
26 января
Чудо преп. Серафима. — «Христос вчера, днесь, Той же и во веки».
Сказывала нам м. Мария про великую обительскую радость: «Большая у нашей матушки вера к преподобному Серафиму. С тех пор как они у нас настоятельствуют, батюшке угоднику Божию в нашей обители ими установлено каждую пятницу на утрени служить акафист. Акафист этот у нас весь поется, читается только до слова «радуйся», а там — весь на 6-й глас поется. Так это у нас хорошо, умилительно выходит, что иной раз как схватит за сердце и не знаешь, будет ли еще на небе-то лучше: забудешь и про нищету нашу, даже и про то забудешь, что построили свои лачужки на чужой земле; что и храм-то, который весь обновили и куда ходим молиться, не наш. а приписной к соседнему — про все на свете забудешь… Повек бы так радоваться да молиться! Просила матушка Св. Синод о том, чтобы нам храм этот отдали, а с ним и приписную к нему землю, десятин 448, что ли, или около этого. Долго ходило ихнее прошение по разным местам, и всё по нему никакого решения не выходило. Многих это слез стоило матушке. А дело не ждет: сестер год от году прибавляется, кельи строятся; имиже весть судьбами строятся корпуса для приюта, для общежития, для общих послушаний — и всё без грошика, всё слезами да молитвами, да чудом Божиим. На нас глядя, многие со стороны смеются: «вишь, — говорят, — залетели черные галки на чужие березки да по-птичьему и гнезда себе вьют. Разве с умом люди так делают?!» Даже и доброхоты нашей обители, и те уверяли, что только и будет толку из затеи нашей, что нас заводские[205] выгонят. Сколько плача нам наша жизнь стоила, и не перескажешь, а матушка наша, так та море за нас слез пролила… И вот, батюшка мой. С А., что сотворилось у нас нынче под преподобного Серафима и за его святые молитвы, так уж это истинно чудочудное, диво-дивное! Сказывать начнешь, плакать хочется. Об рождественских праздниках, близ памяти преподобного Серафима матушке вышел указ от консистори о том, что Св. Синод отдал нашей обители и храм, и землю при нем, но с тем, чтобы матушка внесла к какому то там сроку пять тысяч рублей. Подумайте — скажите: пять тысяч! а у нас у всех и полста, хоть обыщи, не наскребется. И радость тут, и горе. Что тут делать? И вот, на память преподобного Серафима положила матушка при всех сестрах указанную бумагу к его иконе, в слух сестер ему и говорит:
— Батюшка, видишь, что я творю? Денег нет, а я уже ответила владыке, что деньги к сроку внесу; а взять, ты сам, батюшка, знаешь, нам, нищим, неоткуда.
Сказала так-то, а там обратилась к сестрам:
— Давайте, — говорит, — сестры, день и ночь плакать к Преподобному и веруйте, что он нас выручит.
И наплакались же мы тут, батюшка мой, вволю.
Так и осталась указная бумага лежать у Преподобного.
Прошло два дня, и ровнешенько, копейка в копейку, от неизвестных матушка пять тысяч и получила: присланы деньги и при них заказ молиться о здравии и спасении девиц Анастасии и Елизаветы. 4 января деньги были получены, а 9-го матушка уже их свезла к владыке. То то было у нас опять слез, да ликования, да радования!»
Об этом чуде преп. Серафима написала мне и сама матушка.
«Поделюсь, — пишет она, — с вами еще недавней милостью Божией. На днях был получен нами указ Св. Синода о передаче церкви св. Иоанна Милостивого нашей обители, а также и земли при ней. За этот храм много душ страдало в продолжение 14-ти лет, и вот конец пришел. Одновременно нам было предписано внести за 47 десятин 5000 рублей, а денег, конечно, не имелось. На день памяти преподобного Серафима (2 января) положили мы к иконе бумагу своего обязательства, и через два дня совсем неожиданно и от незнакомых людей привезены были в обитель ровно пять тысяч. Как часто приходится убеждаться в истине того, что «Иисус Христос вчера и днесь, Той же и во веки»[206]. Аминь.
31 января
Воскресенье
8° тепла. — Матери православные, бойтесь проклинать детей своих! — Новый экзарх Грузии и знамение ему в Тамбове.
8° тепла на солнце. Диво да и только!
Сегодня из Оптиной уехала в свой Тамбов недавно приехавшая к нашим старцам за советом и молитвами некая многоскорбная вдова А. Е. К-а. Заходила она и к нам с письмом от наших друзей тамбовских. Приехала в горе, близком к отчаянию, а уехала утешенная, почти радостная.
Такова Оптина!
А было с чего ей скорбеть и плакать.
«В прошлом году, на первый день Пасхи, — рассказывала нам А. Е., — умер у меня скоропостижно муж и оставил меня с пятью малолетними детьми без всяких средств к существованию. Долго жили мы с мужем душа в душу, но последние годы нашей с ним жизни были сплошным кромешным адом для нас обоих; околдовала его какими-то чарами простая девка-поденщица, связала его с собою бесовской страстью и, ненавидя его, выматывала из него душу, хотя и прижила с ним трех ребят. Зла эта девка была, как сам диавол, била его, спаивала, подводила под скандалы, подстрекала его нас убить, законную его семью, путалась с разными босяками, подговаривала их убить его самого и тянула с него последние гроши. Все это бедняга мой муж и видел, и сознавал, чувствовал бездну своего падения, плакал, — у меня же на груди, бывало, плачет, горе свое выплакивает и муку рассказывает, — но поделать с собою ничего не мог и продолжал валяться в невообразимой нравственной грязи, на самом дне нравственного падения.
Пришла Страстная. В Великий Четверг я с детьми пошла к 12-ти Евангелиям, мужа с нами не было — он был у ней, и дети, и я это знали. Приходит он от нее ночью уж, поздно.
— Был ли ты хоть, — спрашиваю, — в церкви у стояния?
— Был, — отвечает и свечку показывает.
А где там был! — и свечка-то, гляжу, необгорелая… Светлую заутреню, однако, и обедню мы молились всей семьей вместе, вместе и разговливались. Только разговелись, а его уже опять потянуло к ней.
— Анюта! — говорит, — дай мне валериановых капель: мне что-то скверно, не по себе.
Я дала.
— Пойду, — говорит, — на минутку к ней.
А меня много раз предупреждали, чтобы я его всячески старалась удерживать и туда не пускать, что там собирается у нее всякая что ни на есть грязь босяцкая; пьют на мужнины деньги водку, играют в карты, и идет у них там свальный грех да драка… Бьется мое сердце, разрывается, а разве его удержишь? Ушел. Часу не прошло, а уже оттуда бегут мне сказать: «Умер ваш муж!»
Так у нее на постели внезапно и помер… Понимаете ли вы теперь, — говорила нам А. Е., — мою скорбь? Места себе я с тех пор не нахожу — все горюю да плачу! А если бы вы только знали, какой это был хороший человек, мой муж! Он в управляющих по имениям живал. Как народ его любил! И где бы он ни жил, какую он по себе оставлял память, и все это до этой несчастной страсти! Плакали многие, как узнали о его смерти… И вдруг такая смерть!»
Наши старцы сумели ее ободрить, успокоить и утешить. По вере нашей, кто умирает на Пасху, того душа за честь и славу Христова Воскресения безбедно проходит все воздушные мытарства. А тут еще злые чары, и хоть грех велик, да велики же были и муки раскаяния… Ну, словом, побыла А. Е. в Оптиной и сама точно воскресла.
«Ведь и правда, — говорила она нам перед отъездом, — мужу моему, должно быть, прощены грехи на том свете. Видела я его на сороковой день во сне, под самое, стало быть, Вознесение. Видела я его так: нахожусь я будто в церкви, а посреди церкви насыпана свежая могила. У могилы стоит муж. Я знаю, что он умер, и боюсь к нему подойти.
А он улыбается и говорит мне:
— Не бойся за меня, Анюта, и не плачь; мне хорошо. А вот кому надо плакать так плакать! — И муж показал на свою мать, которая, оказалось, тут же стояла… На этом я проснулась».
Я как-то мало обратил внимания на конец этого сновидения, но жена моя любит докапываться до корня вещей и спросила А. Е., не было ли какой причины обращаться покойнику к матери с такими словами.
— Думаю, — ответила А. Е., — не оттого ли он так сказал, что лет за пять до своей смерти он проклят был своею матерью.
— За что же? — спросила жена.
— За вздор, за сущий пустяк! Он, видите ли, ей лошадью не угодил: купил как-то раз лошадь, не досмотрел, а она оказалась кривая. Свекровь так рассердилась, что прокляла его такими словами: «Чтоб тебя Бог покарал до конца твоей жизни!»
— Не с тех ли пор, — спросили мы, — и муж-то ваш так дурно стал себя вести?
— Да, — ответила А. Е., — с тех самых пор он и стал как будто сам не свой. Если бы вы только видели, как он мучился и страдал от своей жизни! Не свой он был, не свой: весь был во власти злой силы.
Матери православные, бойтесь проклинать детей своих!
В письме, которое мне привезено из Тамбова А. Е., было сообщено между прочим следующее: «На прошлой неделе провожали экзарха Грузии Иннокентия. Слез было много. Он сам плакал сильно, земно у всех просил прощения и уехал с недобрым предчувствием. Когда был получен указ о назначении его в Тифлис, он пошел в свою домовую церковь поставить свечку перед иконой Божией Матери. Зажег свечу, поставил, а она тут же погасла, он снова зажигает и осторожно ставит — опять тухнет. Тогда он зажигает третий раз, и свеча в третий раз гаснет. Тут и руки у него опустились, не стал более зажигать и в скорби вышел…»
Не погаснуть ли самому архиепископу Иннокентию на свещнице Грузинской?.. Только бы не духовно?..
10 февраля
Скорби сердца и канон молебный Царице Небесной. — Знамение Ея милости.
Эти дни под впечатлением событий, творящихся во внешнем мире, — там, за оградой монастырской, — сердце мое было крайне тревожно, а тут подоспели и еще кое-какие злые веети, больно затронувшие мою впечатлительность, — и уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. Так мне было тяжело, так тяжело, что и сказать невозможно. Вчера к вечеру стало даже невыносимо тяжко, так что пришлось прибегнуть к испытанному в таких случаях средству — усердной молитве к Царице Небесной и к чтению Ей канона, известного под названием «Канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии». Читали мы его с женою вместе на ночь и, как всегда, стало после него сердцу легче, и я мог заснуть довольно спокойно.
А сегодня, как бы в знамение милости Царицы Небесной и в ответ на горячую к Ней молитву, к нам, точно с неба Ангел Божий, пожаловала матушка С[офия], настоятельница той обители, о которой любовь моя уже успела столько записать на страницы эти. Это была наша первая встреча лицом к лицу; и что же это была за радость всем нам, и какое это было ликование! — только на небе будет лучше, а на земле вне любви Христовой нет и не может быть никакого подобия этой радости, этому ликованию. В течение целого дня мы не знали, где мы — на небе ли или на земле, в теле ли или вне тела. Нечто подобное по силе чувства, исполнившего сердце любовию о Христе Иисусе, испытывал, представляется мне, «служка Божией Матери и Серафимов» Николай Александрович Мотовилов при встрече с преподобным Серафимом в ближней пустынке, накануне великой беседы о цели христианской жизни[207]. «Никакое слово, — пишет он, — не может выразить той радости, которую я ощутил в сердце моем… Я плавал в блаженстве. Мысль, что, несмотря на долготерпение целого дня, я хоть под конец да сподобился, однако же, не только узреть лицо о. Серафима, но и слышать привет его богодухновенных словес, так утешила меня! Да, я был на высоте блаженства, никаким земным подобием неизобразимой, и, несмотря на то, что я целый день не пил, не ел, я сделался так сыт, что как будто наелся до пресыщения и напился до разумного упоения. Говорю истину, хоть, может быть, для некоторых, не испытавших на деле, что значит сладость, сытость и упоение, которыми преисполняется человек во время наития Духа Божия, слова мои и покажутся преувеличенными и рассказ чересчур восторженным. Но уверяю совестью православно-христианскою, что нет здесь преувеличения, а все сказанное сейчас мною есть не только сущая истина, но даже и весьма слабое представление того, что я действительно ощущал в сердце моем».
Вот нечто подобное и по происхождению своему, и по силе чувства испытано было не одним мною, а всеми нами, отшельниками Нилусовского скита, в этот незабвенный день нашей первой встречи лицом к лицу с той, которую наше сердце уже больше года привыкло любить заочно.
Матушка приехала к старцам и к ним же привезла и шесть сестер-певчих. Вечером, после старцев, они все вместе со своею матушкой собрались к нам, и весь вечер было у нас ангельское пение, душой которого и украшением был голос самой матушки. И такое это было дивное пение, что — истину говорю, не лгу — ничего мы подобного никогда не слыхали. Вдохновение было свыше, сердце растворено было Христовой любовью, Божья радость улыбалась душе нашей — оттого так и пелось, оттого так и слушалось, и молилось в глубине сердечной воздыханиями неизглаголанными.
«Радовалась я, — говорила нам ангел-матушка, — что наконец увижу вас, мои радости, и подумала: обитель наша зовется «Отрада и Утешение» — чем их утешить? И решила взять своих певчих, думаю: и им полезно к старцам, и вам будет утешение».
И великая сила любви, говорившая нам эти речи, сопровождалась такой улыбкой, таким светом и теплом привета и ласки, что сердце замирало и таяло в невыразимой благодарности к Богу и к Той, Которая есть Отрада истинная и Утешение велие.
Это ли не знамение вышнего попечения о грешных людях Небесной Игумении? Вчера и сегодня — ад и небо! Все это так чудно, так знаменательно, так утешительно… Мы весь день едва удерживали умиленные слезы, а вечером, за акафистами Знамению Божией Матери и преподобному Серафиму, петыми целиком на глас 8-й и 6-й, мы в полном смысле слова исходили слезами. Дивлюсь только, как все это могло сердце выдержать!…
Радуйся, Невесто Неневестная!
11 февраля
Те же радости
Сегодня было то же, что и вчера, — те же радости, то же умиление! Насколько сильно было впечатление вчерашнего и сегодняшнего дней, пережитых точно в благодатном сне, я сужу по тому, что все зло земли, над которым так болит, тоскует и плачет мое сердце, отступило, как силы нечистые под знамением Честнаго и Животворящаго Креста Господня: во всех неумолкавших беседах наших с матушкой мы ни разу его не коснулись, как будто его вовсе не существовало. Какое это было утешение!
После обеда опять от старцев пришли сестры-певчие и опять полились небесные звуки дивного пения. В самый разгар его пришел наш дорогой друг, отец Н[ектарий]. Надо было видеть его оживление и умиление!…
Вечером матушка со своими сестрами уехала в свою обитель.
Для нас эти два дня были как благодатный сон, как небесное видение. Как только благодарить за них Царицу Небесную?!
23 февраля
Видение о. Николая («Турка»), схимонаха Скита Оптиной Пустыни.
Кто читал книгу мою «Великое в малом», тому известен Оптинский подвижник, схимонах о. Николай, по прозванию Турка. В статье «Небесные обители» я рассказал со слов одного моего духовного друга о видении, бывшем этому подвижнику. Теперь в скитских рукописях я нашел краткое жизнеописание о. Николая и более подробный рассказ, записанный со слов его самого, о том, что увидел он, по милости Божией, в жизни будущего века, в тех небесных обителях, куда призывает Господь всех любящих Его и куда уже призван ныне схимонах Николай — Турка, подвижник Оптинский.
Схимонах Николай, — так сообщает его биография, — в мире Николай Абрулах, казанский мещанин. Из представленного им свидетельства Херсонской духовной консистории видно, что он — бывший магометанин, имя его было Юзуф-Абдул-Оглы; бывший турецкий подданный, родом из Малой Азии. Служил в турецкой гвардии офицером. Когда он почувствовал желание креститься в православную веру и стал об этом открыто заявлять родичам своим туркам, то они так возненавидели его за это, что он дня по два, как «гяур», не мог найти себе пищи. Его мучили, вырезая куски из тела его. Ему удалось бежать в Россию. В Одессе, в Карантинной церкви, он был крещен в октябре 1874 года и назван Николаем. Восприем[ни]ками [sic] его были: Одесский градоначальник, тайный советник Николай Иванович Бухарин и 1-й гильдии купчиха Наталия Ивановна Глазкова. Затем он в Казани приписался в мещанское общество. 18 июля 1892 года, 63-х лет от роду, он поступил в Скит Оптиной Пустыни. Господь сподобил его духовных утешений: восхищен был в рай, где наслаждался созерцанием неизреченных райских красот. Отличался кротостью, смирением и братолюбием. Келья его была рядом с келлией монаха Мартирия (скончался иеродиаконом). Топил за него печи, и когда тот, удивляясь, спрашивал: «За что же это для меня делаешь?» — отвечал просто: «Я тебя люблю».
Скончался 18 августа 1893 года, 65 лет от роду.
«В четверг 13 мая 1893 года, — сказывал Божий угодник, этот[208], — утром часу в третьем, я начал читать акафист Святителю Николаю Чудотворцу. Господь мне даровал такую благодать при этом, что слезы неудержимо и обильно текли из моих глаз, так что вся книга была омочена слезами. По окончании чтения утрени, я начал читать псалом 50-й «Помилуй мя, Боже», а после него Символ веры, и когда его окончил и произнес последнее слово — «и жизни будущаго века. Аминь», — в это самое мгновение невидимая рука взяла мои руки и сложила их крестообразно на груди, а голову мою со всех сторон объял огонь, похожий на цвет радуги[209]. Огонь этот, не опаляя меня, наполнил все существо мое неизглаголанною радостью, до того времени мне совершенно неизвестной и неиспытанной. Радости этой невозможно уподобить никакой земной радости. И тут, я не помню как и когда, я увидел себя перенесенным в некую дивно-прекрасную местность, исполненную света. Никаких земных предметов я не видел там, видел только одно бесконечное и беспредельное море света. В то же время я увидел около себя с левой стороны двух стоящих людей, из коих один по виду был юноша, а другой — старец. И мне сердечным извещением дано было знать, что один из них св. Андрей, Христа ради юродивый, а другой ученик его, св. Епифаний. Оба они стояли молча. И тут я увидел пред собою как бы занавес темно-малиноватого цвета. И, взглянув вверх, я над занавесом увидел Господа Иисуса Христа, восседающего на Престоле и облаченного в драгоценные одежды, наподобие архиерейских. На главе Его была надета митра, тоже похожая на архиерейскую. С правой стороны Господа стояла Божия Матерь, а с левой Иоанн Креститель. Одежды на них были подобны тем, которые обыкновенно пишутся на их иконах. Св. Иоанн Креститель в одной руке держал знамение Креста Господня. По сторонам Господа стояло двое светоносных юношей дивной красоты; в руках они держали пламенное оружие. Сердце мое преисполнено было неизреченной радости. Я смотрел на Спасителя и несказанно наслаждался зрением Божественного Его лика. На вид Господу было лет 30. И явилось тут во мне сознание, что вот, я, величайший грешник, хуже всякого пса, и вдруг удостоился от Господа такой великой милости, что стою пред Престолом Его неизреченной славы. Господь кротко смотрел на меня и как бы ободрял меня. Так же кротко смотрели на меня Божия Матерь и св. Иоанн Креститель. Но ни от Господа, ни от Пречистой Его Матери, ни от Крестителя Господня я не сподобился слышать ни единого слова. В это время я увидел пред Господом схимонаха нашего Скита о. Николая (Лопатина), скончавшегося в полдень 10 мая и еще не погребенного, так как ожидали приезда из Москвы его родного брата. О. Николай совершил земное поклонение пред Господом, но только схимы на нем не было, а одет он был как послушник — в руках четка [sic] и голова непокрыта. И после сего я взглянул: и вот, с правой стороны великое множество людей, приближавшихся ко мне. По мере их приближения, я начал слышать пение, но слов не мог разобрать. И увидел я в среде их лиц и в архиерейских облачениях, и в иноческих мантиях; у иных в руках были ветви. И между ними я видел и женщин в богатых и прекрасных одеждах. В сонме святых этих я узнал многих по изображениям на святых иконах: пророка Моисея, державшего в деснице своей скрижали Завета, пророка и царя Давида, у которого в руках было некое подобие гуслей, издававших прекраснейшие звуки; увидел я и Ангела своего Святителя Николая. Среди этих великих Божьих угодников я видел и наших в Бозе почивших старцев: Льва, Макария и Амвросия, а также и некоторых из отцов нашего Скита, находящихся еще в живых. И все это великое собрание взирало на меня с любовью… И вдруг увидел я пред собою между мною и занавесом неизмеримо великую пропасть, наполненную мрака, и во мраке этом, на страшной глубине — самого князя тьмы, в том его виде, в каком изображается на священных картинах. На руках сатаны сидел Иуда, державший в руках подобие мешка. Возле князя тьмы стоял лжепророк Магомет в длиннополой одежде зеленого цвета и такого же цвета чалме. Вокруг сатаны, который представлял собою как бы центр пропасти, на всем ее беспредельном пространстве я видел уже множество людей всякого состояния, пола и возраста, но между ними никого знакомого не заметил. Из пропасти доносились до меня вопли отчаяния и невыразимого ужаса, не передаваемые никакими словами.
На этом видение кончилось.
После этого я был поставлен внезапно в ином месте. Это место исполнено было такого же великого лучезарного света, однородного, показалось мне, с виденным мною в первом месте. Святых Андрея и Епифания со мною уже не было… Что видел я там, то трудно передать словами. И как изобразить человеческим языком земнородных небесные красоты, неизреченные, предивные, поистине неизглаголанные? Все там безконечно прекраснее нашего. Видел я там как бы великие и прекрасные деревья, обремененные плодами, деревья эти расположены были как бы аллеями, которым и конца не было видно, вершины деревьев сплетались между собою, образуя как бы свод, устланы были аллеи эти как бы чистейшим золотом необыкновенного блеска. На деревьях сидело великое множество птиц, несколько напоминавших видом своим птиц наших тропических стран, но только безконечно превосходящих их своею красотою. Красоты и гармонии их пения никакая земная музыка передать не в состоянии — так оно было сладостно.
В саду этом протекала река, прозрачность вод ее превосходит всякое описание. И между деревьями сада я увидел дивные обители, как бы дворцы, по подобию виденных мною в Константинополе, но только без всякого равнения превосходнее и краше. Цвет их стен был как бы малиновый, похожий цветом и блеском на рубин. И я знал, что место это — рай, расположением своим напоминавший мне отчасти наш Оптинский Скит, где иноческие кельи также стоят отдельно друг от друга, разделенные группами фруктовых деревьев.
Рай был окружен стеной, которую я видел только с южной стороны. На этой стене я прочитал имена 12-ти апостолов.
И увидел я в. раю некоего мужа, облеченного в блестящие одежды и сидящего на престоле как бы белоснежном. На вид мужу этому было лет шестьдесят, но лик его, несмотря на седины, был как у юноши. Кругом него стояло множество нищих, которым он что-то раздавал. И внутренний голос сказал мне: «Это — Филарет Милостивый!»
Кроме него, я никого из праведных обитателей рая не сподобился видеть.
Посреди райского сада я увидел Животворящий Крест с распятым на нем Господом. Невидимая рука указала мне поклониться ему, что я и исполнил. И когда я преклонился пред ним, в то же мгновение неизреченная и великая сладость, подобно пламени, наполнила мое сердце и проникла все существо мое.
И увидел я после того великую обитель, видом подобную прочим, находящимся в раю, но неизмеримо превосходящую их своею красотою. Вершина ее, наподобие исполинского церковного купола, возносилась в бесконечную высь и как бы терялась в ней. В обители этой я заметил как бы подобие некоей террасы, и на ней, на богато изукрашенном троне, я увидел Царицу Небесную. Вокруг Нее стояло великое множество прекрасных юношей в блистающих белых одеждах, державших в руках подобие некоего оружия, но какого, того я не разглядел. Одежда на Матери Божией была такая же, как изображается она на святых иконах, но только разноцветная. На главе Ее была корона, наподобие царской. Царица Небесная милостиво глядела на меня, но слов от Нее услышать я не сподобился.
После сего, как бы в воздухе, я удостоился узреть Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, в подобии, изображаемом на святых Ее иконах; Бога Отца в виде святолепного Старца; Бога Сына в виде Мужа, держащего в деснице Своей Честный Животворящий Крест, и Бога Духа Святаго — в виде Голубя.
И казалось мне, что я долго ходил среди рая, созерцая дивные красоты, превосходящие всякое человеческое о нем представление.
Когда же я очнулся от этого видения, то долго не мог прийти в себя от великого и неизреченного утешения этого и весь этот день был как бы вне себя от радости, наполнявшей мое сердце. Ничего подобного сей радости до этого времени я никогда не испытывал».
На этом в скитской рукописи заканчивается описание видения скитского подвижника, схимонаха Николая Турка.
«Ну что ты еще знать хочешь, чего допытываешься? — говорил он старцу схиархимандриту Варсонофию, в то время еще послушнику. — Придет время — сам увидишь. Что еще тебе сказать, да и как сказать тебе?.. Ведь на человеческом языке нет тех слов, которые могли бы передать, что там совершается; ведь на земле и красок-то тех нет, которые я там видел. Как же тебе все это передать?.. Ну вот, послушай, что я тебе скажу: ты знаешь ведь, что такое хорошая музыка?.. Ну вот я слышал ее, только что слышал: она у меня звучит в ушах, она поет в моем сердце — я все еще ее продолжаю слышать. А ты ее не слыхал. Как же, какими же словами могу я тебе рассказать о ней, чтобы и ты по моим словам мог бы ее слышать и со мною вместе ею наслаждаться?.. Ведь не можешь? Так и того, что я там видел невозможно пересказать человеку…»[210]
Видение это даровано было схимонаху Николаю 13-го мая 1893 года, а 18-го августа того же года, через 3 месяца и 5 дней после этого видения, не стало уже на земле в живых и самого святого схимника. О, сладкая наша вера! О, сладость исполнения небесных ее обетовании!…
24 февраля
Кончина послушника Миши. Посмертные его явления.
А вот и еще жемчужина, выловленная мною из тех же бездонных глубин бесценной моей «Божьей реки» Оптинской.
«1848 года, июля 6-го дня, — читаю я в пожелтевшей от времени рукописной тетрадке[211], — пополудни в седьмом часу, скончался в Козельской Введенской Оптиной пустыни кроткий послушник Михаил Степанов, на 19-м году от роду, болезнию холерою. За несколько дней он чувствовал головную боль, а утром 6-го числа во всей силе обнаружилась у него холера: понос, рвота и судороги. Употреблены были известные лекарственные пособия, но безуспешно. В 12-м часу дня, по исповеди, удостоился принять Святые Христовы Таины, в 6-м часу пополудни особорован и через полчаса по особоровании уснул вечным сном во время чтения отходной. 7-го числа, после поздней литургии, отправлено, по благословению о. игумена Моисея, соборное монашеское погребение в уважение благонравия покойного. При погребении была вся братия и богомольцев полна церковь. С теплыми слезами на глазах сожалели о разлучении с кротким сим братом и с пением и молитвою покрыли гроб землею. В лице брата Михаила обитель принесла первую невинную жертву свирепствующей повсеместно повальной болезни холере.
В самый день погребения Михаила, во втором часу пополудни, помощник пономаря, послушник Виктор пришел в свою келью крайне усталый, прилег и тотчас уснул. И едва он уснул, как увидел во сне: будто он отворил в соборе дверь, чтобы мести полы, и видит покойного Михаила в соборе, пришедшего, как обычно, помогать ему в уборке собора. Михаил был в белом балахоне. Виктор очень ему обрадовался и сказал радостно:
— А, Миша! Ты опять к нам?
— Да, — ответил Михаил тихо и ласково, — я еще с вами.
В эту самую минуту Виктора разбудил пономарь, монах Николай, и позвал в собор.
После этого сновидения Виктор чувствовал в сердце некоторое утешение и спокойствие за участь покойного.
Прошло дней восемь. Рясофорный монах Илья Бирюков, прежде живший в одних кельях с Михаилом, изнемогши на утреннем пении, вышел из церкви до отпуста, укоряя себя в немощи. Пришел в келью, уснул и видит во сне: идет будто покойный Михаил по монастырю в белом, чистом балахоне, а монах Илья, обрадовавшись, подзывает его к себе и спрашивает:
— Ну, что, Миша, как ты умирал? Не тошно ли тебе было?
Покойный с прежней простотой и тихостью ответил:
— Да что, батюшка, сначала от болезни очень тошно было; видел и чувствовал, как отцы и братия трудились и помогали мне. А потом сделалось зелено-зелено, и я не заметил, как душа моя вышла из тела. Очутился как бы на облачке, и оно стало поднимать меня все выше и выше. Только тут я ни братии и ничего уже больше не видал.
Монах Илья спросил:
— Хорошо ли тебе теперь-то?
— Хорошо, — ответил Михаил, — только определения еще не было.
И пошел как бы на послушание, а монах Илья, смотря на него, проснулся с чувством умиления и радости за его участь.
Спустя несколько дней тот же монах Илья, уснувши в своей келье, опять видит во сне, будто Михаил по обыкновению обметает с братиею собор. Одет он опять в белом балахоне, а под носом у него точно выпачкано. Илья и говорит ему:
— Что же это ты, Миша, все еще тут с нами ходишь? А это, — указывая на нос, — почему не вытрешь?
— Вы, батюшка, — ответил Михаил, — в этом не сомневайтесь; мне там очень хорошо. Там даже и Ивану немому хорошо.
А Иван этот был глухонемой послушник, сапожник припадочный; умер внезапно в своей келлии 3 ноября 1846 года, в Воскресенье, в 2 часа [по]полуночи.
Этот сон свой, по пробуждении, монах Илья рассказывал тогда же единомысленным братиям.
После того, в 28-й день по кончине Михаила, 3-го, стало быть, августа, иеродиакон Моисей (в его келье жил до самой смерти Михаил), придя от утрени, уснул и видит: вошел будто в переднюю комнату в белом балахоне Михаил и в руках держит два белых стекла, вырезанных как бы для вставки в рамки для портретов. Моисей обрадовался ему и тут же подумал: да как же это я его вижу въяве, когда он умер? Как объяснить это старцу?..
— Ах, Миша! — воскликнул он, — спасайся! Скажи, пожалуйста, как ты умирал? Не тяжко тебе было?
— Ничего, батюшка! — ответил Михаил, — сначала, как заболел, тошно было, а как умирал, не чувствовал.
— Ну, а как же ты проходил мытарства?[212]
— Какие, батюшка, мытарства? Я их не видал и не знаю. Я как умер, так меня вознесли как на крыльях.
Потом тихо добавил:
— Ведь я перед самой смертью сообщался.
О. Моисей будто не услышал, переспросил:
— Что ты говоришь?
Михаил так же тихо ответил:
— Я сообщался.
— Да говори же погромче! — сказал о. Моисей.
Михаил ответил громко:
— Я сообщался, батюшка, Святых Таин перед самой смертью; да еще в пятницу сообщался. Теперь мне очень хорошо.
— Куда же ты идешь теперь?
— К отцу Паисию: нужно сказать ему словечко.
А о. Паисий — иеромонах, помощник духовника, причащавший Михаила перед смертью.
— А ты, — сказал ему в шутку о. Моисей, — на меня ему наговоришь?
— Нет, батюшка, — ответил он, — я о себе только.
— Вот это и хорошо, — сказал о. Моисей, — что открываешь помыслы: так и старцы велят.
Тут Михаил вдруг стал невидимым.
Моисей, оставшись один, принялся будто за свое рукоделие — он работал ложки — и стал топориком обтесывать ложку за тем же станком, за которым при жизни и Михаил занимался, и в то же время думать: отчего де это я ничего не спросил у Михаила о себе, хоть бы молитв его попросил о себе ко Господу? И вдруг видит: спускается к нему над станком сверху, по воздуху, Михаил с лицом, умиленным любовью. Моисей в радости обхватил его ноги и воскликнул:
— А, Михаил! Теперь не уйдешь! Помолись обо мне, грешном, чтобы Господь избавил меня от всех козней диавола.
Михаил тихо ответил:
— Милостив Господь! За вас, батюшка, молится святая великомученица Екатерина, преподобный Арсений Великий, Соловецкие Чудотворцы и святой апостол Иоанн Богослов.
Говорил тут Михаил и еще что-то, но о. Моисей, проснувшись, не мог того припомнить».
Записано это сказание знакомым мне почерком о. Евфимия Трунова[213], летописца внутренней Оптинской жизни времен великих Оптинских старцев Льва, Макария и архимандрита Моисея.
Вслед за сказанием тою же рукою приписано дословно следующее:
«Хотя видениям во сне и запрещается веровать без рассуждения из предосторожности, как св. Иоанн Лествичник и прочие св. Отцы поучают, но для утверждения и извещения в некиих сомнениях бывали откровения и через сонные видения, как например, Григорию, ученику преп. Василия Нового, о Феодоре и евреях и другим многим. Так и в настоящее время потребно малодушным успокоение, хотя через сонное видение, по случаю повальной болезни холеры, об участи за гробом ею пораженных. Не излишним будет воспомянуть о происхождении и благонравии покойного Михаила.
Родители его принадлежали прежде Полотняному Заводу, что Перемышльской округи, называемому Митин железный завод. Когда же расстроился и уничтожился Полотняный завод, родитель покойного Михаила с семейством приписался в мещанское общество города Перемышля; старший брат поступил на фабрику в Серпухов, а Михаил с юных лет почувствовал внутреннюю наклонность к монастырской жизни. Имея тихий и кроткий нрав, он только через долгое время многими убеждениями едва мог преклонить родителя своего позволить ему жить в монастыре. Получив родительское соизволение, он поступил в Оптину Пустынь в июле 1846 года и с горячею юношескою ревностью предал себя святому послушанию без прекословия. Кротость и невинная стыдливость отличали его от других сверстников. Послушание его было на правом клиросе петь альтом. Усердие его к церковной службе было примерное. Кроме службы Божией, он и на других послушаниях обще с братией бывал неопустительно, сколько имел сил и возможности. Во всяком деле и всякому был уступчив с самоукорением и непритворною простотою. В свободные от послушания часы учился келейному рукоделию — деланию ложек — у жившего с ним иеродиакона Моисея и отнюдь не любил праздности. Без повеления или благословения от жившего с ним отца Моисея никакого дела не начинал, совершенно отсекая свою волю, и никуда из кельи не выходил. О душевном своем состоянии и находящих помыслах открывал духовному старцу своему и свято хранил его наставления. За такое благое устроение любим был всею братиею в обители.
Не более как за неделю до кончины Михаила приходили родные его навестить и готовились к приобщению Святых Таин в своей обители, а по отбытии их вскоре Михаил почувствовал головную боль и непонятную для него тоску. 6 июля (1848 года) с раннего утра у него начался первый приступ холеры. В 7 часов утра он вошел в келью иеромонаха Паисия, жившего от него через стену, молча облокотился на лежанку и, глядя на о. Паисия, горько зарыдал. О. Паисий спросил его с участием о причине его скорби.
— Ах, батюшка! — ответил он, — как мне тошно.
О. Паисий тотчас же пошел за живущим в обители на послушании штаб-лекарем М. В. Путимцевым. Когда они пришли, то застали Михаила со всеми признаками холеры совершенно обессилевшим; он лежал недвижим и только едва говорил хриплым и тихим голосом:
— Ох, сердце жжет!… Пить!… Дайте мне хоть минуту посидеть… Ногу судорога сводит…
Но сидеть он даже с поддержкой уже не мог. Что ни делали лекарь и братия, помочь не могли. После приобщения ему сделалось несколько покойнее, а во время соборования он и вовсе затих. По окончании соборования стал дышать реже и реже, все тяжелее, и в таком положении сей юный страдалец уснул сном вечным, окончив малое поприще своей земной жизни в надежде жизни вечной и неизменно-блаженной, по словам Премудрого: скончался вмале, исполни лета долга: угодна бо бе Господеви душа его.
Прилично сему выразился некто:
Кто возлюбил от юности Христа,
Ему в служеньи обручился
И, силе веруя спасительной Креста,
Страдал, терпел, крепился:
Тот тихо в вечность перейдет,
Не устрашится сна могилы:
Его безплотных встретят Силы,
И лоно Авраама ждет.
Сочинитель Кавелин
2 марта
Беседа с совопросником о ките и Ионе. — Лжепророк и лжечудотворец. — Неведомые миру святые. — Сила Животворящаго Креста (девочка Настя). — Разбойник Савицкий.
Весь февраль ушел у меня на выписки из Оптинских книгохранилищ. Как дивно хороши эти свидетельства живой веры — видения схимонаха Николая Турка, посмертные явления послушника — полуребенка — Миши! Духом Миней-Четьих дышит от всех этих сокровищ, свидетельствующих о том, что и ныне, как во дни оны, жива и действенна святая вера наша и что Господь наш Иисус Христос вчера, днесь и во веки Той же.
— Неужели вы верите всему этому? — спросил меня некто, кому я прочел некоторые выдержки из своих записок.
— Конечно, верю; иначе зачем было мне терять столько времени над этими выписками? И не только верю, но и до слез умиляюсь при их изучении.
— Но эти «сады», «пропасти», «реки, плоды, птицы» — все это такое земное: может ли это быть небесным?
— А какими образами показать небесное земному человеку? Вы слышали, что сказал о. Николай-схимник отцу Варсонофию? «Ведь на человеческом языке нет тех слов, которые могли бы передать, что там совершается; ведь на земле и красок-то тех нет, которые я там видел» — помните? Стало быть, довольно с нас и этих образов, что даны нам видениями людей, угодивших Богу… Впрочем, не имеющему веры и свидетельства Священного Писания представляются малодостоверными. Про Иону пророка читали?
— Читал. Ну, и что же?
— А то же, что некий вам подобный совопросник возьми да и предложи одному старцу коварный вопрос: как де, кит мог проглотить Иону, когда отверстие рта кита так узко, что человеку и насильно пролезть в него невозможно? Знаете ли, что на это ответил старец?
— Нет, не слыхал.
— Старец ответил: если бы слово Божие поведало мне даже и то, что не кит проглотил Иону, а Иона кита, то я бы и сему поверил. Поняли?!
— Но то слово Божие, а это человеческое.
— А в Четьи-Минеях-то чье? — ответил я полувопросом.
— С вами не сговоришь, — пожал плечами мой совопросник и перевел разговор на иную тему. И — благо!
Приходит сегодня меня стричь парикмахер Николай. Мы с ним, как водится, большие приятели и во время стрижки ведем всякие разговоры.
— Что, — спрашиваю, — новенького у вас, Николай, в Козельске?
— А чему быть-с у нас новому? Жизнь, — отвечает, — у нас тихая, стоячая-с: совсем сонное царство-с… Впрочем, — спохватился он, — есть и новость: господина См[ольянино]ва изволите знать?
— Это того мага и волшебника, что духов вызывает, бесов изгоняет и пророчествует?
— Так точно, его-с!
— Ну, так что же?
— С ними маленькая, изволите видеть, вышла неприятность: угодили на два месяца в кутузку-с.
— За какие художества?
— Да, видите ли, у одних наших обывателей ребеночек умер, а господин См[ольянино]в взялись его воскресить… за плату, конечно-с. Денежки-то они взять взяли-с, а ребеночка не воскресили: отговорились, что поздно, мол, пригласили. Родители деньги потребовали обратно, а денег не вернули: вот за клин и угодили-с.
— Где же он теперь?
— Говорят, в Петербург подались теперь, от Козельского, значит, невежества на петербургскую образованность.
Скатертью дорога! В Петербурге таких ищут…[214]
18 февраля на нашем кладбище у «Всех святых» похоронили одну из Оптинских скотниц, схимонахиню Агнию. Когда рыли ей могилу, то обнаружили соседний гроб тоже монахини с оптинского скотного двора (мне называли ее имя, да я забыл). Погребена она была лет двадцать тому назад. При опускании в могилу гроба м. Агнии нечаянно зацепили гроб соседки: крышка отвалилась, а в гробу оказалось совершенно нетленное тело с четками в руках, как будто вчера погребенное. А грунт на нашем кладбище сырой и подпочвенная вода близко… Сколько же еще на этом кладбище святых мощей неведомых миру угодников Божьих?!
Сегодня рано утром заходила к нам монахиня из Ч[ерниговск]ой епархии. Приехала за молитвами и благословением к нашим старцам: едет в Москву по монастырскому делу; а какому делу сладиться по-Божьему без старческого благословения?.. Зовут монахиню мать Досифея. Вот что она мне сегодня за чайком рассказала.
«Отправилась я из монастыря своего по сбору. Было это летом прошлого года. Начала я свой сбор с города П., который от монастыря нашего верстах в тридцати пяти. Отсюда путь мой лежал в Киев и другие южные города до самой Одессы. В П. я остановилась из-за буфетчицы местного железнодорожного вокзала, женщины, казалось, очень религиозной, посещавшей наш монастырь и ко мне относившейся как духовная дочь к духовной матери. Оставила я багажик свой у этой буфетчицы, а сама пошла по сбору на базар. И чего только, батюшка ты мой, Сергей Александрович, я на базаре том не понаслушалась! Истинно, последние времена наступили!… Правда, П. городишко полуеврейский, ну а все же какие были в нем христиане, те дурно ли, хорошо ли, а по-христианскому, по-православному жили; в церковь ходили, праздники и иконы святые почитали, святые посты соблюдали… А тут, поди — слышу, от храма отбились, духовенство ругают и иконы все поснимали и из домов повыкидывали; обасурманился народ, хуже жидов стали! Горько это мне было слушать, и поплакала я над этим довольно… И вот, иду я с базара обратно на вокзал, прохожу задворками мимо чьего-то огорода и вдруг вижу: из густого бурьяна одним концом вышло наружу, на свет Божий, кем-то закинутое Распятие, Крест Господень. Я так и ахнула, глазам своим не верю. Подошла поближе, раздвинула крапиву: оно и есть, небольшое, уже довольно ветхое, и на нем распятый Господь Наш, Спаситель мира. Живопись на Распятии уже полиняла, повыцвела, кое-где пооблупилась, а сам крест загажен птицами. Ой, как мне жутко и до слез больно было видеть такое ужасное поругание святейшего орудия нашего спасения!… Взяла я из крапивы крест, обтерла его своей ряской, омыла слезами, приложилась… Смотрю, идет на огород старушка.
— Бабушка! — окликаю ее, — откуда здесь в крапиве крест этот взялся?
— А это, — отвечает, — наши, видно, молодые хозяева его из дому выкинули. Я нянькой служу у них, у хозяев-то этих.
— Так если вам уж этот крест, — говорю, — не нужен, то я его возьму себе.
— Возьми, возьми, — отвечает, — матушка!
Принесла я крест этот на вокзал, на квартиру буфетчицы. А у буфетчицы была девочка-дочка, звали Настей, чудный ребеночек, чистый ангелочек. Увидела Настя мою находку, вцепилась в Распятие своими ручонками и ну его целовать; мне даже удивительно это было видеть в маленьком ребенке такое усердие к святыне. Рассказала я матери ее, как и где нашла я это Распятие, погоревали мы, поплакали о том, до чего дошли православные, а тут пришло мне время собираться на поезд. Стала я укладывать мой багажик, да второпях про Распятие и забыла, все уложила, а его так и оставила в ручках у Насти. Вспомнила я о нем уже в вагоне, когда поезд был далеко от станции. Ну, думаю, вернусь, тогда и возьму его у буфетчицы.
Лето все я проездила по сбору, уже только близко к осени стала я обратно к своему монастырю подаваться. Добралась, наконец, и до П. Выхожу на вокзал, чтобы повидаться с буфетчицей, подхожу к буфету. Как увидала она меня да как кинется на меня из-за стойки с кулаками…
— Злодейка ты! — кричит, — ты мою дочь на тот свет отправила!
Я аж затряслась вся.
— Что ты, что ты, в уме ли ты, — говорю, — матушка? Что я с твоей дочкой сделала, куда отправила?
— Не отправила, — кричит, — а отравила ты мою Настю! Крестом своим ты отравила моего ребенка: как принесла его да как поцеловала его моя Настя, так в ту же пору заболела и померла. Злодейка, ты, злодейка: ты нарочно мне крест, злодейка, этот подкинула.
И что тут с сердцем моим сталось, Сергей Александрович, как только я жива осталась, и не помню… А она все кричит, буянит, ругает меня и все тычет мне в самый нос кулаками. Каково это было мне, монахине, да при народе, да в наше-то время?! Как ушла я с вокзала, и не помню. Села я в вагон, забилась в свой уголок и всю дорогу до самой своей станции, где мне слезать, проплакала. От станции до монастыря 12 верст, и тут плакала, утешиться не могла. Пришла ночь, помолилась, опять поплакала; легла спать в слезах и вдруг вижу во сне батюшку о. Иоанна Кронштадтского: стоит будто он в каких-то воротах, сам светлый и одежда на нем светлая…
— Досифея, — говорит он мне, — мне сегодня у тебя надо быть: ты уж прими меня в свою келью!
— Батюшка, — кричу ему на радостях, — я вам всю келью свою уступлю, а сама на чердаке лягу!
— Ну да, ну да, — говорит, — тебе это не впервой, а я пока поживу у тебя.
И с этими словами батюшка дал мне приложиться к своему наперсному кресту, я проснулась в великой радости и горя моего как не бывало».
— Говорили вы, — спрашиваю, — обо всем этом старцам, матушка?
— Говорила.
— Что они вам сказали?
— А сказали они мне, что я к кресту привела ребенка, воспламенила его к кресту любовью и тем спасла его душу, которую взял к Себе Господь, не допустив ее дожить в теле до осквернения и гибели. А мне, — говорили они, — за крест пришлось понести крест клеветы и поругания и от креста же принять через о. Иоанна Кронштадтского и утешение… Ах, батюшка вы мой, Сергей Александрович, сколь великое дело этот Крест Господень, я сказать вам не могу! Слышали ли вы про разбойника Савицкого?[215]
— Слыхал.
— Что я про него-то вам и про Крест Христов расскажу: истинно, удивитесь бесконечному милосердию Божию.
И мать Досифея поведала мне дивную историю, которую я и записал здесь под живым впечатлением, боясь прибавить к ней или убавить лишнее слово.
«Было это, — сказывала м. Досифея, — 8 сентября; у нас шла всенощная под праздник святого покровителя нашей обители и всего Черниговского края, святителя Феодосия. Мы все были в храме, были и посторонние богомольцы. Вдруг во время богослужения раздался резкий окрик:
— Руки вверх и ни с места, будем стрелять!
Никто и опомниться не успел, как у свечного ящика и у входных дверей как из-под земли выросли разбойники с револьверами в руках и навели их на обезумевшую от страха толпу молящихся и на сестер, стоящих у свечного ящика. Наша старушка-игумения стояла у клироса.
На ней был ее золотой наперсный крест. Одна из наших старших монахинь, мужественная и росту высокого, встала перед ней и всю ее собой закрыла от разбойников. В это время крест на ней успели спрятать, и матушку нашу не стало возможности отличить от рядовой монахини… Часть разбойников во главе с атаманом (это и был Савицкий) вошли в алтарь и потребовали от священника, чтобы он указал, где у него в алтаре монастырские деньги. Деньги там были, но положены они были без ведома батюшки, и потому он чистосердечно заявил, что денег в алтаре нет.
— Вы это можете заверить священническим словом? — спросил Савицкий.
— Заверяю.
Обшарили алтарь, но денег не нашли.
Выйдя из алтаря, Савицкий и его товарищи захватили с собой ту монахиню, что закрыла собой матушку игумению, и, приложив к ее виску револьвер, велели ей водить их по всему монастырю. Везде, где были замки, начиная со свечного ящика, они хотели их взламывать, но им давали от всего ключи и умоляли не портить имущества. Во всех кружках нашлось рубля три с копейками. Деньги эти они взяли, но несколько копеек оставили на «завод». Во всем монастыре из всех сундуков и хранилищ они не набрали и полутораста рублей.
— Да где же деньги ваши? — спрашивает Савицкий. — Мне достоверно известно, что у вас сорок тысяч капитала.
— Монастырский капитал в банке, — отвечают ему, — и всего-то его тридцать тысяч, а мы живем на проценты.
— Меня нагло обманули! — негодовал Савицкий. — Мне незачем было к вам и ходить.
Шарили на кухне в надежде хорошо закусить; нашли только хлебы, спеченные из ржаной муки с примесью картофеля. Попробовали.
— Тьфу, гадость какая! и вы это едите?
— Едим, — был ответ.
— Как же вы так можете жить? Чего ради вы так живете?
— Бога ради, — отвечали сестры.
— Ради Бога? — подивились разбойники; тогда окончательно смягчилось их сердце. Молодым послушницам они стали давать кому мыло душистое, кому духи, но никого не обидели ни действием, ни словом. Один только из разбойников, по-видимому, жид — с жидовскими лицами их было несколько — хотел было обнять одну из наших девочек. Савицкий громко на него прикрикнул:
— Сказано вам, никого не обижать и не трогать!
Тот и отстал. Тут уж мы все осмелели, а то до полусмерти были напуганы, наслышавшись всяких ужасов о Савицком и об его шайке… И вот после этого произошло нечто, что даже и вовсе нас умилило. Подойдя к одной келье, Савицкий приказал монахине, его сопровождавшей, остаться в коридоре, а сам с товарищами взошел в келью, сказав, что хочет переодеться. Вдруг в келье что-то упало, и вслед послышалось пение тропаря:
— Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим!
Пел тенор, молодой, красивый, задушевный. Монахиня не вытерпела, открыла дверь и увидела, что с божницы упал крест, а Савицкий поднимает его бережно с пола и поет. Поднял крест, приложился к нему и стал выговаривать товарищу за то, что тот его уронил. Не выдержала тут монахиня, весь страх свой забыла…
— Батюшка, — возопила она к Савицкому, — покайся, брось свои поганые дела: ведь еще горит в тебе искра Божия!
— Поздно, матушка, — отвечает ей Савицкий, — теперь уж поздно, назад возврата нет.
До чего ж, батюшка, Сергей Александрович, нам было это трогательно, и сказать невозможно! Мы Савицкому и его шайке весь свой страх и разорение простили за тропарь этот. Вскоре после этого вышел Савицкий на монастырский двор, посвистал своей шайке и с нею вместе скрылся, не причинив нам особого вреда, а только крепко напугав, да и то первое только время, пока мы с ним не освоились и не увидели, что ему нужны были только наши деньги, а не наши жизнь и тело. У нас даже и Богослужение не прерывалось, хотя петь уже клиросные не могли, а только читали…
Прошло некоторое время, шла всенощная. Смотрим, стоит в толпе Савицкий и с ним еще один из его шайки; одеты оба по-крестьянскому. Постояли недолго, должно быть, догадались, что замечены, и удалились.
Вскоре к матушке игумении приехала ее племянница.
— Ехала я, — говорит, — в вагоне с каким-то господином. Разговорились. «Куда едете?» Я говорю: в Р…й монастырь. Он говорит: «Я два раза в обители этой был и дорого бы дал, чтобы там хоть одну еще чашку чая выпить».
Стали расспрашивать, какой из себя господин этот. По приметам оказался Савицкий: лицо круглое, глаза черные и одного переднего зуба недостает — вылитый он.
Прошло еще какое-то время. Одна наша сестра видит сон: бежит Савицкий, а за ним гонятся преследующие. Савицкий бежит к нашему монастырю, падает от изнеможения на ступенях нашего храма и кричит в ужасе:
— Спасите меня! Вы одни меня можете спасти!
Сестра вслед пошла и рассказала сон матушке игумении. А матушка и говорит:
— А у меня вот и газета: пишут, что Савицкого только что убили.
Странным нам показалось и неспроста такое совпадение. Матушка припомнила нападение на нас шайки Савицкого.
— Все-таки, — говорит, — могли обидеть, да не обидели. — Про крест уроненный, про пение тропаря вспомнила…
— Не взять ли, — говорит, — нам этого несчастного на молитву?
И велела поминать о нем 40 дней на проскомидии. И что ж? Является Савицкий другой монахине во сне на 9-й день и благодарит за молитвы, а на 40-й день ей же снится такой сон: будто входит к ней в келью Савицкий, земно кланяется и говорит:
— Спасибо вам и сестрам великое: я спасен теперь вашими молитвами.
Сказал, сам светлый такой стал; потолок в келье раскрылся, и Савицкий исчез в небе.
Вот вам, батюшка мой, Сергей Александрович, какое и тут великое дело крест-то Господень сотворил: разбойника в едином часе спас для вечной жизни! И заметьте: после нашего погрома — как потом нам говорили — Савицкий ни одного более разбоя не совершил до самой своей смерти, когда был убит при преследовании не то войсками, не то стражниками.
Зато в одной из местных газет вражонок устроил нам подсаду: вскоре после нашего сорокоуста по Савицкому в ней напечатано было, что в Р…й — наш то есть — монастырь Савицким был сделан большой вклад с тем, чтобы его вечно там поминали: не мог известный клеветник не нанести на нас поклепа за душу, омытую кровью, спасенную покаянием, силою Честнаго Животворящаго Креста Господня, молитвами Церкви, бескровной жертвой и бесконечной благостию и милостию Божиею».
Записываю я сказание это и… плачу.
Нечто из моей записной книжки — только для внимательных.
Прошу моего читателя простить меня: я на этот раз откладываю в сторонку записки свои, веденные мною во дни 1910 года, когда я жил в благословенной Оптиной. Мне хочется под свежим еще впечатлением только что пережитого, прочувствованного и продуманного поведать о том, что приключилось в нашем доме на самых последних днях в богоспасаемом и пока еще тихом городке Валдае.
Прошу я прощения и думаю: а не все ли равно для моего читателя, куда потечет Божья река моя и куда понесет она его и меня в совместном плавании? Для такой реки, как эта, нет границ ни в пространстве, ни во времени, ибо струит она свои бездонно-ласковые глубины «амо же хощет», куда управит их не человеческое хотение, а духовная польза христианской души, ищущей спасения в вечности…
Есть у нас друг, друг давнишний, по-всячески испытанный и верный. Друг этот — младшая возрастом подруга моей жены, женщина высокой православно-христианской настроенности и очень внимательная к духовной стороне своей жизни. Мы ее зовем Катюшей. Те из нашей семьи и друзей, кто ее знает, те ее в рассказе этом признают: а кому она не знакома, с того довольно знать, что она — милая, добрая, дорогая наша Катюша, чистое сердцем дитя Божие, преисполненная любовью к Богу и ближнему, а из ближних — к нам в особенности.
Но все это в виде предисловия, а теперь обратимся к моим запискам за текущий июнь и в них найдем дословно следующее.
«28 июня. Вторник
Вчера, в день рождения жены, мы с нею и Катюшей причащались Святых Христовых Тайн в Иверском монастыре, а сегодня, в 7 часов 20 минут утра, наш дом был осчастливлен посещением батюшки преподобного Серафима, явившегося в тонком сне[216] нашей Катюше в ее спаленке не в сонном мечтании, а истинно въяве. И было это так.
Катюша приехала к нам из Петрограда 10 июня. Ехала она на Дно и Старую Руссу.
— А со мною, — объявила она тотчас по приезде, — чудо-то какое было — послушайте! Ехала я к вам, как вы знаете, не на день, не на два, а по крайней мере недели на три; и пришлось мне поэтому взять багажа столько, что не могло уместиться в обычную мою укладку, — я и купила себе дорожную корзину. В эту корзину я уложила все свое носильное белье, платья, покупки для вас по вашему поручению — словом, все самонужнейшее.
— Время военное, — говорю я мужу, — боюсь я отдавать корзину в багаж: ну как пропадет?!
— Чего, — говорит, — бояться: Бог милостив, не пропадет.
Приехали мы на Царскосельский вокзал спозаранку. Муж взял мои баульчики, а носильщик подхватил мою корзину и понес ее в багажное отделение; а там уже горы всякого багажа. Ну, думаю, не миновать пропасть моей корзине.
На этом месте, сейчас (в 1 часов 5 минут пополудни) мне пришлось от неожиданности и испуга прервать свою запись: откуда ни возьмись зашла небольшая тучка, и по левую сторону от моего письменного стола за окном блеснула ярким пламенем и ударила молния; раздался такой страшный удар грома, какого я за всю свою жизнь не слыхивал. В пальцах обеих рук у меня закололо, как от сильного электрического тока, и перо едва не выпало у меня из рук… Ой как не любит враг преподобного Серафима!… Открыл окно, смотрю, не загорелось ли где от громовой стрелы князя силы воздушной. Двое соседей, перепуганные, выскочили на улицу.
— Куда ударило? — спрашиваю.
— Тут где-то, — отвечают, — ну уж и удар был!
— У меня, — говорит один, — котенка с окна сшвырнуло за окошко.
— А я оглох, — жалуется другой.
Вижу, не горит нигде и начинает накрапывать дождик; закрыл окно, хочу продолжать записывать Катюшины речи и не могу, весь охваченный сознанием, что был на волосок от гибели и чудом жив. Да, именно чудом! — так сердце чувствует и не дает успокоиться на мысли о случайности происшедшего[217]. Преподобный Серафим отвел стрелу вражию, никто, как он, дорогой наш батюшка!… Достойно замечания, что в то же время, когда я писал свои записки и ударила молния, со мной в одной комнате сидела жена и Катюша: жена писала письмо сестре, описывая подробно явление Преподобного Катюше, а Катюша читала Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря.
Самый воздух, нас окружавший, казалось, напоен был благоуханием близости к нам Преподобного.
Опять пришлось прервать свои записки: пришел сосед, старик кровельщик Илья Михайлович Богданов (он же Усачев), сказывает, что молния ударила на его огороде, — а огород его от окна, у которого я записываю эти строки, саженей 20-25 не более, — и зовет посмотреть, что там молния сделала. Я ходил смотреть. Молния, как бы изогнувшись от нашего дома стрелой, — это видела наша прислуга, мимо которой она промелькнула, — ударила у большого дерева на огороде в железные грабли. Грабли стояли у изгороди железными клевцами кверху. Удар направился в деревянную рукоятку грабель и расколол ее надвое от железной трубки, в которую она была насажена, до самого ее конца. На диво ровный раскол этот был сделан точно рукой ловкого мастера, и тут же рядом в земле оказалось свежее углубление-ямочка, как от сильного удара железной мотыгой, и лежали две длинные лучинки, равные по длине расколотой рукоятке и из нее выщепленные, точно острым косарем отколонные, как по ниточке. И нигде ни малейшего следа огня молнии — ни ожога, ни опаления. И больше — ничего.
Много шуму из пустяков. А могло быть, пожалуй, плохо, если бы не защитил Преподобный. А почему у меня такая уверенность и почему все так вышло, то будет видно из дальнейшего повествования так неожиданно и чудесно прерванного рассказа.
Продолжаю рассказ Катюши.
— Носильщик мой оказался парень ловкий: быстро вскинул он на моих глазах корзину на весы; другой кто-то мигом шлепнул на нее наклейку и скинул ее с весов. Тут откуда-то подскочил третий в красной фуражке.
— Зачем, — крикнул он носильщику, — ты эту корзину на этих весах вешал, неси на другие!
И я видела, как ее вновь взвесили на других весах, и мне тотчас же выдали на нее квитанцию с надписью «Валдай».
Тут бы мне и успокоиться, но нет, я вдруг увидела, что корзину мою перевернули вверх дном. Батюшки мои! — испугалась я, — что теперь будет с капотом моим и одеколоном? Прольется одеколон и сгонит всю краску с моего капота! — Так я встревожилась, что и сказать не умею.
Вышли мы после первого звонка на платформу к своему поезду, зашла я в свое отделение, разложила ручной багаж, а усидеть не могу, говорю мужу:
— Пройдемся по платформе: времени еще много. — Пошли.
— Покажи, — говорю, — где тут наш багажный вагон.
Он от моего вагона оказался не то третьим, не то четвертым. Я подошла к нему; смотрю: одна половина вагонной двери открыта и внутри багажный кондуктор разбирается в вещах. Я заглядываю туда и глазами ищу свою корзину.
— Вам, — спрашивает багажный, — сударыня, что угодно?
— Да вот, — отвечаю, — смотрю, с вами ли идет моя корзина?
— А куда она направлена?
— В Валдай.
— Нет, — говорит, — в вагоне у меня в Валдай нет ни одного места.
— Как же так, — взволновалась я, — когда вот у меня на нее квитанция.
— Позвольте взглянуть.
Я показала.
— А какая, — спрашивает, — видом ваша корзина? Вы можете мне ее указать?
— Могу.
— Пожалуйте в вагон.
Он протянул мне руку, и с его помощью я взобралась внутрь вагона.
— Вот она!
Корзина стояла ко мне задом, замком к стенке.
— А какой на ней, — спрашивает багажный, — замок? Один или два?
— Один, французский, и висит на железном засовчике: засовчик такой рогатый.
— Верно, — говорит, — корзина, видно, ваша, только наклейка на ней совсем в другое место. Пожалуйте вашу квитанцию, я сейчас все выясню.
Взял квитанцию, меня высадил на платформу и ушел.
Ну, — думаю, — теперь ни корзины, ни квитанции!… Не прошло и пяти минут, прибежал багажный.
— Благодарите, — говорит, — Бога: если бы вы вовремя не спохватились, не видать бы вам вашей корзины, по крайней мере, с месяц, а то бы и вовсе пропала.
От души поблагодарила я тут багажного…
— Ну, скажите, — обратилась к нам Катюша, — разве ж не чудо все это? и не чудо ли, что в такое-то время Господь послал мне в лице багажного такого доброго человека?
«Правда, на чудо оно как будто и похоже», — подумали и мы и единодушно согласились с нашей Катюшей.
Но все это еще только присказ, а самый сказ впереди.
Прошло с приезда Катюши около трех недель. За это время она неоднократно возвращалась воспоминанием к истории с корзиной, дивясь бывшему. Настали, наконец дни нашего говения. С великим желанием и умилением причастились мы 28 июня вместе с Катюшей Святых Таин в Иверском монастыре[218] и вернулись домой счастливые, довольные, радостные, в особо повышенном настроении. Перед обедом, часу в пятом, прочитали все вместе 9-й час и зажили после того вновь своей тихой обыденной, но все еще мирской жизнью.
Настал вечер. Поужинали мы на террасе, на вольном воздухе, попили чайку и от духовной настроенности целого дня незаметно для себя перешли к иным чувствам и настроениям: вспомнились прожитые дни в мире, их полузабытые впечатления, музыка, опера, которую мы все одинаково страстно любили; пришли на память любимые напевы, арии, которые в былые времена и сами мы певали. Запела Катюша, — у нее когда-то был чудный голос, — запел и я… Куда девалась вся высота духовного полета души нашей, насыщенной утром святыми чувствами, живым общением с Христом в Пречистом Теле Его и Святейшей Его Крови?.. Я запел арию Хозе из 1-го действия оперы «Кармен»:
Ma mere, je la vois,
Oui je re vois mon doux village…[219]
Жена у меня очень не любит этой оперы и уверена, что она — вдохновение вражьей силы.
— Сережа! — обратилась она ко мне с полуупреком, — не пой из этой гадости: ведь мы сегодня причастники.
Я было запротестовал: ведь в этой арии поется только о матери да о святых воспоминаниях детства, проведенного в деревне, — что тут гадкого? Запротестовал, но в сердце услышал упрек и тотчас смирился.
«От юности моея мнози борют мя страсти», — запела Катюша. Мы подхватили с радостью стихи «степенны», стали петь разные церковные песнопения и неожиданно закончили вечер пением акафиста преподобному Серафиму.
Наутро вышли мы на террасу пить кофе. Вскоре пришла и Катюша.
— Ну, мои родные, — воскликнула она почти вне себя от волнения, — что только сегодня утром со мною было то!… Я видела преподобного Серафима.
Надо знать, как знаем мы, что за человек наша Катюша, чтобы понять, как мгновенно ее волнение при этих словах передалось и нам. Мы все обратились в слух.
— Спала я ночь великолепно, — взволнованно продолжала она, — и, засыпая, ни о чем не думала. Проснулась я, взглянула на часы: было ровно 7 часов 20 минут утра. Хотела было я опять заснуть, но перед тем, как закрыть глаза, посмотрела на дверь и увидела: стоит в ней преподобный Серафим, сгорбленный, седенький, в белом балахончике, в одной руке палочка, а другой показывает мне на мою корзину. Я ахнула и… вновь проснулась. Часы показывали то же время, что я раньше видела. В спальне никого не было, и кругом все было тихо. И тут взгляд мой упал на икону преподобного Серафима, которую я с собой привезла из Петрограда в той корзине, о которой я вам столько рассказывала. И, милые вы мои! столько раз рассказывала, а самое-то главное во всем этом и забыла, а вспомнила только тогда, когда сегодня утром на икону Преподобного взглянула: ведь главное-то чудо было в том, что сохранением в пути своей корзины я только преподобному Серафиму и была обязана. Стала я укладывать в нее свои вещи, а сердце болит: не миновать, чудится мне, пропасть моей корзине. Вынула я тут из киота икону Преподобного, помолилась на нее, перекрестила ею корзину, завернула в белый шелковый платок и поставила ее к стене внутрь корзины с чистым своим бельем. «Ну, — сказала я ему, как живому, — помоги мне сам, Батюшка!» Помолилась и вслед и о молитве своей к нему, и о нем самом забыла, да так накрепко забыла, что только и помнила, и беспокоилась, что об одеколоне, да о капоте. И вот он сам, родимый, сегодня обо всем напомнил.
Надо было видеть Катюшу, когда она это рассказывала! Поглядеть бы и на нас, когда мы ее слушали!
Отпили мы свой утренний кофе и всем семейством пошли в нашу моленную петь акафист преподобному нашему покровителю и молитвеннику Серафиму Саровскому и всея России чудотворцу.
А в 1 час 5 минут дня, когда заносились эти строки в мой дневник, громовая стрела князя силы воздушной едва не убила самого писавшего с женой и Катюшей. И убила бы, если бы не Преподобный. Тако верую, тако и исповедую.
Не пой, раб Божий Сергий, бесовских песен в велик день твоего причащения, а пой хвалу Богу, дивному во святых Своих и в угоднике Своем, Серафиме.
Радуйся, правило веры и благочестия,
Радуйся, образе кротости и смирения…
Радуйся, преподобне Серафиме,
Саровский чудотворче!
«Радующийся третий». Детский паралич.
Большой перерыв произошел у нас с тобою в беседах, читатель! «Божья река» моя, круто повернув свое течение от берегов Оптинских к иным далеким берегам, унесла и меня своим течением на страну далече.
Не сетуй и прости меня! На руках у меня была большая работа, которой я был вынужден отдать все время и силы мои. Если будет угодно Богу, она увидит свет в начале будущего года, когда выйдет из печати новая моя книга «Близ есть, при дверех». В эту книгу я вложил всю свою душу, все силы моего разумения и знания, и в ней я сказал все, что мне стало известным о том, чему люди века сего не хотят верить и что так близко, так угрожающе-страшно близко…
Теперь я свободен. Dixi et animam levavi — сказал и облегчил душу. Теперь я опять зову, кто хочет меня слушать, на берег моей «Божьей реки», хотя и под другое, а не оптинское небо. Придет время — мы опять под него вернемся, а пока… пока я расскажу повесть с берегов Дальнего Запада, с берегов Северной Америки.
Повесть эта не моя: она вышла из-под пера двух евреев-корреспондентов «Биржевых Ведомостей», двух врагов веры нашей, Бога нашего, но тем назидательнее смысл ее и значение как для нас, верующих христиан, так и для добросовестных Неверов, ищущих правды Божией, кто бы они ни были, не исключая и евреев, если еще есть между ними искатели этой правды.
В нумере, если не ошибаюсь, от 12 февраля текущего года «Биржевых Ведомостей» было напечатано письмо из Нью-Йорка некоего А. Коральника (бессомнительного еврея). Письмо это было озаглавлено «Радующийся третий». И вот что в письме этом было изображено дословно.
«Нью-йоркские старожилы говорят, что никогда еще в Нью-Йорке не праздновали так шумно, весело, бесшабашно и богато конец старого года и начало нового, как в этом году. Никогда и нигде, ни в одной столице нашей старой и милой Европы, я не видел подобных празднеств, подобного чествования отходящего, умирающего года.
Канун нового года Wall-Street — центр американских финансов, т.е. артерия, золотая жила всей Америки, а может быть, в ближайшем будущем и всего мира, эта улица бешеных спекуляций, этот узкий коридор, ведущий в храм «золотого тельца», — плясала.
В два часа дня, когда биржа закрылась, из здания биржи вышли биржевики, джентльмены во фраках и с цилиндрами на голове, джентльмены англосаксонской, кельтской, германской, еврейской крови — откормленные, сытые, самодовольные, с блуждающим огоньком в умных, зорких глазах — вышли на улицу, взяли друг друга за руки и пошли в пляс. К ним присоединились и другие менее «джентльменские» типы из биржевого мира: уличные биржевики, мелкие маклеры, биржевые служащие, и все они отплясывали танец золота.
А вечером весь город праздновал. Broadway — «Широкая улица», Нью-йоркский проспект, был освещен миллионами лампочек, во всех ресторанах гремела музыка; все столики были заняты, все увеселительные заведения были переполнены, всякое место бралось с бою и за бешеные деньги… В иных шикарных ресторанах столик[220] обходился в 500 долларов[221]. Нью-Йорк провожал 1915 год благодарственно и торжественно.
Это был год небывалого «рекорда», фантастического роста американской промышленности, исполинского скачка всей американской хозяйственной жизни. До войны — в 1913 году — американский торговый оборот достиг четырех биллионов долларов; 1914 год несколько поколебал американскую хозяйственную жизнь, внес тревогу и беспокойство за страну. Но 1915 год вернул ей сторицей все потерянное. Баланс прошлого года показывает 5 355 580 003 долларов… В 1915 году ввоз золота в Америку равнялся 539 291 014 долларам, а вывоз — 23 736 680.
Германская торговля уничтожена, английский вывоз уменьшился почти вдвое, а Америка торжествует на развалинах. Она снова вошла в полосу благоденствия, prosperity — как говорят здесь — и оптимизма.
Однако любопытно то, что это благоденствие мало заметно в стране. Несмотря на могучий приток золота, благосостояние широких масс, рабочих и среднего класса не только не повысилось, но как будто даже понизилось. Среди рабочих вы слышите постоянные жалобы на безработицу, низкие заработки, трудную, тяжелую жизнь и страшную дороговизну. Со всех сторон жалуются на «плохие времена». Только одна биржа ликует[222], только Wall Street пирует победу.
Ибо этот год принес богатство исключительно только биржевикам и спекулянтам, счастливым владельцам акций стальных и амуниционных фабрик. Люди становились за ночь миллионерами. Играли наверняка, без риска и без страха. Волна повышения все росла и росла, и как будто нет предела ее росту. Разве только конец войны положит ему предел… А пока что Wall-Street пирует и отплясывает танец золота и крови.
Она — Tertius gaudens, «радующийся третий», в безумно-кровавой, убийственной схватке европейских народов. И она диктует политику Соединенных Штатов[223].
Когда я, — так кончает свое письмо Коральник, — в последнюю ночь умирающего года протискивался среди огромной, возбужденной, шумной толпы по феерически ярко освещенному Broadway, мне вспомнились стихи одного американского поэта, которые я читал как-то на днях: Пан[224] плясал по Нью-Йорку…
Пан плясал по Broadway, по Wall-Street, наигрывая на своей свирели свою песнь, песнь красоты и любви и зеленых дубрав. Но толпа не видела и не слышала Пана, козлоногого бога. Она спешила на поклонение другому, страшному двуликому богу — Мамону-Молоху…
Так в феврале 1916 года писал в «Биржевые Ведомости» из Нью-Йорка некий еврей Коральник.
Прошло семь месяцев. В № 15837-м тех же «Биржевых Ведомостей» от 2 октября текущего года появилось из того же Нью-Йорка письмо другого (а может быть, и того же) еврея, пишущего под русским псевдонимом Осина Дымова. Привожу в подлиннике.
«Зимний сезон, — пишет этот еврей, — Нью-Йорк закончил с огромным барышом. Это был барыш на крови. Америка, точно огромная пиявка, насосалась золота из тела воюющих стран. Пожар Европы способствовал украшению Америки. Благоденствие (prosperity) разлилось по стране. Процветают науки и искусства. Процветает промышленность. Никогда не было столько роскошных балов. Никогда невесты не были богаче, красивее и изящнее, как в эту годину всемирного пожара. Война платит ростовщические проценты. Война сделала Америку вдвое богаче.
Зимний сезон был закончен. Америка «сосчитала цыплят» по весне. Впереди было лето отдыха, лето дач, курортов, флирта, идиллии и спорта[225]. Нью-Йорк готовился разъезжаться.
Неожиданно грянула беда.
Сначала газеты писали об этом глухо, не придавали значения. Быть может, газетная утка, пустая сенсация, живущая один день? Нью-Йорк еще не верил. Но мало помалу дело становилось все яснее и оттого, что яснее, — тревожнее, загадочнее. Уже газеты завели особую рубрику. Нет! это не сенсационный слух, это — правда.
Эпидемия детской смертности! Детский паралич! Загадочная болезнь, превращающая детей в калек или убивающая в три-четыре дня. Страшная болезнь, почти незнакомая докторам.
Эпидемия появилась вдруг, внезапно, и почему-то очагом заразы было предместье Нью-Йорка — Бруклин. Врачи растерялись. Еще больше растерялась публика.
Что-то библейское, сурово-жестокое чуется в этой загадочной болезни, постигшей именно детей. Точно чума во время пира — богатого пира, устроенного на крови. Гром проклятия поразил слабейших, невиннейших.
Эпидемия разразилась уже тогда, когда школы были закрыты. Родители стали увозить своих детей из Нью-Йорка и таким образом разнесли заразу по всей Америке. Было ошибкой со стороны властей допустить это, но тогда еще не предполагали, что болезнь примет такие размеры…
Сейчас Нью-Йорк насчитывает около девяти тысяч жертв. Все это почти преимущественно дети в возрасте от 2 до 7 лет. Из этого количества две тысячи умерло — процент огромный, устрашающий! Остальные уцелели в виде калек… Только незначительное количество поправилось быстро и окончательно. Это надо считать почти чудом.
Что больше всего пугает нью-йоркскую публику, это — загадочность болезни… В учебниках говорится кратко и неясно. Ее никогда не считали заразительной, так что заболевшего ребенка до сей поры даже не изолировали в больницах. Но если она незаразительна, то каким же образом она могла принять размеры эпидемии, и притом столь быстро и угрожающе?
Настоящая эпидемия, как это ни странно, не только не уяснила природу болезни, но как будто еще более затемнила ее. Целый ряд явлений ставит в тупик не только обыкновенного наблюдателя, но и человека науки. Так, например, опыт выяснил, что дети негров весьма мало склонны к заболеванию… Дети хилые, болезненные не так восприимчивы к заболеванию, сколько дети здоровые и жизнерадостные… Врачи были застигнуты врасплох. Способы лечения почти неизвестны. Способы предохранения от заражения — и того меньше. Бродили в темноте, ощупью. Решено было очистить город. Мыли, чистили, жгли, скребли.
Между тем дети беднейших кварталов, нечесаные, немытые, преблагополучно выдержали эпидемию, а сын богача, за которым смотрели в десять глаз, заражался. Умирали дети миллионеров, в то время как дети дворников в подвале оставались живы и здоровы. Примечательно, например, что густонаселенная, небогатая, а местами и прямо бедная часть Нью-Йорка, так называемый Бронкс, очень мало пострадал от этой страшной болезни. В наиболее страшные дни, когда число жертв доходило до двух сотен, Бронкс давал не больше десяти-двенадцати!… Сейчас в Нью-Йорке можно видеть жуткую картину: среди огромных домов вы видите дом, к фасаду которого прикреплена надпись, короткая и многозначительная: «Здесь случай детского паралича. Остерегайтесь. Карантин».
Окрестности Нью-Йорка тщательно охраняются. Детей ниже шестнадцати лет не впускают и не выпускают из города. На пристанях, на вокзалах особые дежурные инспектора. Требуются специальные свидетельства, выдаваемые департаментом здоровья. Страшное впечатление производят эти полевые карантины, установленные среди роскошной зелени лугов и лесов. На повороте дорог, на мостах, у станций электрических железных дорог дежурят инспектора. Осматривается каждый автомобиль, каждая повозка.
Дети исчезли. Их не видать…»
Письмо это заканчивается словами: «Нигде, кажется, так не любят детей, как в Америке. Дети эмигрантов, дети странников, собравшихся со всего света, они — надежда Америки, они — будущее, которое объединит разрозненные элементы в одно целое. Это — грядущая нация, это те корни, те ростки, которые пускает молодая почва новой страны. И страшный бич поразил именно детей.
Самое печальное лето за много лет. Среди грохота отдаленных выстрелов, приносящих Америке золото, тянутся маленькие гробы…»
Таковы два письма из Нью-Йорка.
Нам с тобой, мой читатель, смысл их понятен. Понятен ли он самим писавшим и их читателям? Будет ли он понятен, если только дойдет до их слуха, тем, кого во дни переживаемой великой народной страды зовут «мародерами тыла»?.. Мене! Текел! Упарсин […]
Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл сие младенцам (Мф.11:25).
Боже мой, какие времена переживаем мы!… Мудрено ли мне, ловцу умного бисера в тихих водах Божьей реки, струящейся у берегов Оптинских, оставить свои мрежи на время там, у белокаменных стен святой обители, а самому устремиться вниманием и слухом туда, где льется потоками христианская кровь, откуда доносятся до меня вопли и стоны страдальцев, дополняющих собою число убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели… (Апок.6:9 и 11.)
Истинно апокалипсическое время переживает теперь все человечество, время, может быть, последнее пред великим и страшным отчетом на Страшном Суде Христовом! И только тот не слышит громов Божиих, кто намеренно слышать не хочет, тот только не видит молний гнева Господня, кто слепит свои очи фальшивым блеском блуждающих огней спустившейся на нас беспросветной духовной ночи…
В дни моей Оптинской жизни Господь свел меня со скитским иеродиаконом о. Мартирием… Теперь он покойник — Царство ему небесное!… Раб Божий верный был этот смиренный инок, и Господь, дающий смиренным Свою благодать, не раз открывал ему в сновидениях или видениях — Бог весть — нечто от тайн Божественного Своего домостроительства.
Вот что однажды поведал он из этих тайн Божиих некоему своему сотаиннику:
— У нас в Скиту на днях что один брат-то наяву видел — послушай-ка! Стоял он в саду скитском, и вдруг сада не стало и явилось на его месте бесчисленное множество угодников Божиих, заполнивших собою все пространство от земли и до самого неба. И там, в небе небес, высоко-высоко, видит он, отверзлось подобие как бы узенькой калиточки, а до калиточки этой от сонма угодников только самое маленькое незаполненное местечко осталось. И услышал брат голос некий: «Видишь, как мало осталось свободного места. Заполнится оно, тут и Страшному Суду быть».
А брат, имевший это видение, был не кто другой, как сам отец Мартирий, только он из скромности так сказывал не от себя, а от третьего лица, как бы от некоего брата.
Видение это было о. Мартирию незадолго до его смерти, а скончался он осенью 1908 года…
Кто не помнит, во что после недоброй памяти «освободительных» годов обратилась наша деревенская Россия — о городской и говорить нечего (она и до пресловутых «свобод» в христианском образе своем давно была отпетая)? Откуда, казалось, набраться было угодникам Божиим, чтобы заполнить собою остающееся свободным пространство? Куда ни поглядеть, повсюду виделось одно Отступление от правды Божией, жизнь по плоти, по стихиям мира, в служении богу чрева — мамоне. Откуда взяться было праведникам?
И вот, разразилось величайшее бедствие, какого еще не видывала земля, — всемирная война, человекоистребление по последнему слову братоубийственной науки.
Страшный гнев Божий, кара и казнь, но и… человеколюбие крайнее, и всепрощение безграничное, и милосердие Божие.
Когда война была уже в разгаре, Ангел Божий поверг серп свой на землю, и обрезал виноград на земле и бросил в великое точило гнева Божия. И истоптаны были ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий (Апок.14:19-20), — в те дни дошел до меня слух из Дивеева, от дивеевских «сирот» Преподобного батюшки отца Серафима:
— Блаженная «маменька» Прасковья Ивановна все радуется, все в ладоши хлопает да приговаривает: «Бог то, Бог-то милосерд-то как! — разбойнички в Царство небесное так валом и валят, так и валят!»
За мученичество, значит, свое на войне от утонченного зверства культурных диаволов в образе человеческом, от разрывных пуль, от удушающих газов и, что всего для небесного Царства важнее, — за слезу покаяния, за одинокую слезу на поле смерти, вознесенную к Престолу Божию Ангелом-Хранителем.
И вот, в то же время, только в другом месте — в том маленьком захолустном городке, куда поселил меня Господь, одной рабе Божией, умом и сердцем препростой (я не назову ее имени, смирения ее ради) было даровано видение во сне судеб Божиих, сокрытых от разумения премудрых и разумных и открываемых младенцам. Очень скорбела эта раба Божия о тех ужасах войны, которые так нежданно-негаданно для многих (немногие-то ее уже давно ждали) обрушились на Россию. Было это, помнится, вскоре после многодневных жестоких боев на австрийской границе, увенчавшихся взятием Галича и Львова, после великих страданий армии Самсонова в Восточной Пруссии, словом, после великой кровавой жертвы, принесенной Россиею за грехи свои перед правдой Божией. И видит эта раба Христова: стоит она будто бы на незнакомом месте. Ночь. Небо темное. На земле ни зги не видать. И вдруг разверзлось небо и в лучезарном блеске ослепительного величия и неизобразимой славы явился на небе пречудный, предивный град Сион, великий город, святый Иерусалим. Он имел славу Божию; светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному (Апок.21:10-11). Не находя слов к описанию дивного града этого, раба Божия в восторге от видения своего сказывала: «Ну, как Новый Афон, что ли…»
Так прекрасен был град тот. А краше и лучше Нового Афона раба Божия, его видевшая, ничего себе и представить не могла. Да и как вообразить себе и изобразить людям красоту небесную, когда ей на земле и подобия-то нет?!
И от града этого, Иерусалима святого, имевшего славу Божию, увидела она, спустилась до земли от неба величественная лестница. И устремилась к ней всем желанием своим имевшая видение, чтобы как можно скорее подняться по ней и взойти в град небесный, войти в славу его, насладиться небесной его красотою. Но, увы! — до земли не досязала лестница, и концы ее были от земли выше роста человеческого, так что и протянутым кверху рукам нижней ее ступени достать было невозможно.
«И отошла я, — сказывала раба Божия, — к сторонке и стала; смотрю и неутешно плачу о том, что недостойна я града того небесного. И что же, милые мои, вижу? Откуда-то взялись воины: идут в серых шинелях, винтовки за плечами, идут один по одному, целое огромное воинство, полки за полками, без числа, без счету, идут и проходят мимо меня; подходят к лестнице и без всякого труда, как бестелесные, восходят по ней и скрываются в открытых вратах небесного Иерусалима. И пред тем как вступить им во врата Иерусалима небесного, — вижу я, — загораются на них венцы такой красоты и сияния, что их не только описать, но и вообразить себе, не видавши, невозможно… И долго я стояла и смотрела на них и плакала, плакала. А они все шли да шли мимо меня полки за полками, шли и возносились по лестнице к небу, и сияли своими венцами, как яркие звезды на, тверди небесной… Проснулась я — вся подушка моя была мокрая от слез; и была я вне себя от умиления и радости, от благодарности милосердию Божию. И проснувшись, я опять плакала, слез удержать не могла: зачем я на земле оставлена, зачем недостойна я красоты той небесной, тех венков, которые, как звезды, горели на главах небесною славою прославленного воинства?»
Прошел год войны, пошел второй.
Проездом по делу в Петрограде меня с женою навестили в нашем захолустье две давно знакомые и любимые монахини одного из монастырей Ч[ернигов]ской епархии, того монастыря, что когда-то был ограблен разбойником Савицким. Я об этом ограблении уже рассказывал читателю «Троицкого Слова». Разговорились о войне, стали доискиваться ее духовного смысла и значения и, конечно, пришли единогласно к заключению, что не простая это война и что имеющему уши слышати и очи видети есть о чем над ней призадуматься. И вот что за беседой рассказала мне старшая из моих собеседниц, пожилая, образованная, а главное, духовно настроенная монахиня.
«Поблизости от нашего монастыря, — сказывала она, — есть помещичья усадьба. В этой усадьбе устроен теперь лазарет для раненых воинов. Зовется он Барышниковский лазарет. Много выздоровевших в этом лазарете раненых перебывало в нашей обители: вылечатся и идут к нам помолиться Богу, поблагодарить за исцеление и поговеть — кто пред возвращением в строй, а кто пред отправкой на родину для окончательного восстановления здоровья. И вот среди таких-то богомольцев мне раз довелось увидеть одного раненого солдата с таким особенным выражением лица, что оно приковало к себе все мое внимание. Что-то совершенно нездешнее, неземное, в высшей степени одухотворенное было в лице этом, в глазах, во всем облике этого человека. Такое выражение только на иконах можно видеть, на ликах страстотерпцев-мучеников, когда от тягчайших испытаний плоти истомленная душа страдальца внезапно ощутит небесную помощь и узрит ниспосланного ей свыше Ангела — утешителя.
Подошла я к этому человеку.
— Откуда ты, — спрашиваю, — раб Божий?
— Сейчас из лазарета, а то был на войне.
— Заболел, что ли, или был ранен?
— Ранен, матушка, теперь, слава Богу, выздоровел. Вот у вас отговею и обратно в строй, к своим, туда, на Карпаты.
— Ну, небось сперва к своим домой съездишь? Ты, что ж, холостой или женатый?
— Женатый, матушка, — жену, двоих детей имею. Только я, матушка, домой теперь не поеду, а в строй, на позиции. Я своих всех поручил Царице Небесной — Она их и без меня ладно управит. Жду я, матушка, жду не дождусь, пострадать желаю за веру святую, за Царя батюшку, за родимую мать — землю Русскую, за православный наш народушко, пострадать и помереть в сражении.
Я была поражена: нашему ли времени такие речи слышать? «Пострадать и помереть в сражении»?!
— Да откуда ж, — воскликнула я, изумленная, — откуда ж у тебя такие мысли и желание?
— Ах, матушка! — вздохнул он мне в ответ, — если б только знали вы, как я томлюсь в ожидании этой смерти, как жду ее, ищу ее, а она мне, как клад какой, не дается… С чего это у меня, спрашиваете вы? А вот с чего: было дело это за австрийской границей. Нашу часть пустили в обход одной горы, поверив жидам, что мы захватим врасплох австрийцев, а жиды нас предали: и попали мы под такой перекрестный огонь неприятеля, что от нашей обходной колонны мало кто и в живых остался. Меня тут контузило, и я упал без сознания. Когда опомнился, то стало уже темнеть. Бой продолжался, но не рукопашный, а огневой. Кругом меня живых никого — одни трупы, горы трупов и своих, и неприятельских. Почти совсем стемнело. И услышал я вскоре нерусский говор. Ну, думаю, австрийцы или немцы идут добивать наших раненых и грабить трупы. Смотрю: они и есть, только от меня еще далеко. Я поскорее — да под трупы убитых, залез под них и притаился, не дышу, словно тоже убитый… Прошли немцы, обшарили трупы, обобрали, кого штыком ткнули. Меня не тронули: не заметили — глубоко был зарывшись. Прислушиваюсь — ушли. Подождал я немножко и стал потихоньку вылезать из-под трупов на свободу. А уж стало — вовсе темно; только вспыхивали, как молнии, разрывы шрапнелей да повизгивали пули. И вдруг, матушка, такой свет увидел, тому и поверить, кажется, невозможно! Смотрю: идет между павшими в бою Сама Матушка Царица Небесная, сияет светом, как солнце, идет и ручками Своими пречистыми возлагает то на ту, то на другую голову павших воинов венцы красоты неизобразимой. Я как крикну:
— Матушка! Матерь Божия! Даруй и мне такой же венец из ручек Твоих пречистых!
Уж, видно, не в себе я был, коли так крикнул. А Она, Царица Небесная, на крик мой взяла да и остановилась, не побрезговала простым солдатом, да и говорит:
— Тебе не время еще. Иди и зарабатывай. Заработаешь, — такой же получишь.
— Куда ж, — говорю Ей, — пойду я? Кругом стреляют — меня убьют, и заработать не успею.
— Иди! — сказал Богородица и перстом Своим указала во тьме, куда мне идти было надобно.
И куда Она пальчиком Своим показала, там свет проложился, как дорожка; и по свету этому я дошел до своих невредимый, хоть и свистали, и щелкали вокруг меня пули… И вот, с той самой ночи нет мне на земле покою, и все мне стало на земле немило. Ищу я заработать себе венец из ручек Матери Божией, да, видно, все еще не умею: во скольких боях был и все ни одной царапины. В последнем наконец ранило. Ну, думаю, заработал! Нет, опять выздоровел. Теперь выписался я из лазарета, отговел у вас, слава Богу, и причастился; скорее опять в строй — теперь-то уже, Бог даст, венец себе заработаю.
Так на этом мы с этим рабом Божиим и простились», — закончила свой рассказ моя собеседница-монахиня[226] из монастыря, который некогда ограблен был разбойником Савицким и в котором тогда жила еще такая любовь Христова, что могла и самому Савицкому исходатайствовать у Бога спасение.
Вот, стало быть, что значит, что приоткрылась одним уголком завеса, до времени скрывающая от нас Царствие небесное и славу венцов его нетленных: блеснуло на человека тем светом, пред которым весь свет наш тьма, и жить уж не стало охоты, и все стало немило, и все земное заслонилось одним видением, одним желанием заслужить и заработать венец на главу из пречистых ручек Царицы Небесной.
А поглядеть да послушать, что пишут да что говорят о войне газеты и умные люди!…
Исповедаютися, Отче, Господи небесе и земли, яко утаил еси сия от премудрых и разумных, и открыл еси та младенцем. Ей, Отче, яко тако бысть благоволение пред Тобою (Мф.11:25-26).
5 марта
Опять в Оптиной. — Письмо И. В. Киреевского к старцу о. Макарию о том, как произошло знакомство между ними. — Эпитафия на памятнике И. В. Киреевского в Оптиной. — «Спасаяй, да спасет свою душу». — Письма еклесиарха великой церкви о. Мелетия о болезни и кончине митрополита Киевского Филарета.
Пишет к старцу о. Макарию Иван Васильевич Киреевский, духовный сын старца и один из старших богатырей самобытного русского духа и русской мысли:
«1855-го года. 6 июля. Полночь. Искренне любимый и уважаемый батюшка! Сейчас прочел я ваше письмо из Калуги к Наталье Петровне[227] и теперь же хочу поздравить вас с получением наперсного креста. Хотя я и знаю, что ни это, ни какое видимое отличие не составляют для вас ничего существенного, и что не такие отличия вы могли бы получить, если бы сколько-нибудь желали их, однако же все почему-то очень приятно слышать это. Может быть, потому, что это будет приятно для всех любящих вас. Мы всё видели, как вы внутри сердца носите Крест Господень и сострадаете Ему в любви к грешникам. Теперь та святыня, которая внутри сердца вашего, будет для всех очевидна на груди вашей. Дай Боже, чтобы на многие, многие и благополучные лета! Дай Боже, многие лета за то и благочестивому архиерею нашему!
Другая часть письма вашего произвела на меня совсем противоположное действие. Вы пишете, что страдаете от бессонницы и что уже четыре ночи не могли заснуть. Это кроме того, что мучительно, но еще и крайне вредно для здоровья. Думаю, что сон ваш отнимают забота о всех нас, грешных, которые с нашими страданиями и грехами к вам относимся: вы думаете, как и чем пособить требующим вашей помощи, и это отнимает у вас спокойствие сердечное. Но подумайте, милостивый батюшка, что душевное здоровье всех нас зависит от вашего телесного. Смотрите на себя как на ближнего. Одного вздоха вашего обо всех нас вообще к милосердному Богу довольно для того, чтобы Он всех нас прикрыл Своим теплым крылом. На этой истинной вере почивайте, милостивый батюшка, на здоровье всем нам. Отгоните от себя заботные мысли как врагов не только вашего, но и нашего спокойствия и, ложась на подушку, поручите заботы о нас Господу, Который не спит. Ваша любовь, не знающая границ, разрушает тело ваше».
Знакомство И. В. Киреевского с благостным старцем нашим о. Макарием произошло, по словам супруги Ивана Васильевича, Наталии Петровны, при следующих обстоятельствах:
— Сама я, — так поведала нам Наталия Петровна, — познакомилась с о. Макарием в 1833 году через другого приснопамятного старца, его предшественника о. Леонида, тогда же сделалась его духовной дочерью и с тех пор находилась с ним в постоянном духовном общении. Иван Васильевич мало был с ним знаком до 1846 года. В марте того года старец был у нас в Долбине[228], и Иван Васильевич в первый раз исповедывался у него; писал же к батюшке в первый раз из Москвы в конце октября 1846 года, сказав мне:
«Я писал к батюшке, сделал ему много вопросов, особенно для меня важных; нарочно не сказал тебе прежде, боясь, что по любви твоей к нему ты как-бы-нибудь чего не написала ему. Мне любопытно будет получить его ответ. Сознаюсь, что ему будет трудно ответить мне».
Я поблагодарила Ивана Васильевича, что он мне не сказал, что решился написать к старцу, и уверена была, что будет от старца действие разительное для Ивана Васильевича.
Не прошло часа времени, как приносят письма с почты, и два надписанные рукой старца — одно на имя мое, другое на имя Ивана Васильевича. Не распечатывая, он спрашивает:
«Что это значит? Отец Макарий ко мне никогда не писал!»
Читает письмо, меняясь в лице и говоря:
«Удивительно! Разительно! Как это? В письме этом ответы на все мои вопросы, сейчас только посланные».
С этой минуты заметен стал зародыш духовного доверия в Иване Васильевиче к старцу, обратившийся впоследствии в усердную и безпредельную любовь к нему, и принес плоды в 60 и во 100, ибо, познав, «яко не инако сдержится премудрость, аще не даст Господь», он при пособии опытного руководителя «шел к Господу».
Иван Васильевич Киреевский и брат его Петр вместе с супругой Ивана Васильевича Наталией Петровной погребены у Введенского храма Оптиной пустыни рядом с могилами великих старцев: Леонида (в схиме Льва), Макария и Амвросия. На памятнике Ивана Васильевича начертана надпись;
«Надворный Советник Иван Васильевич Киреевский. Родился 1806-го года, Марта 22-го дня. Скончался 1856 года Июня 12-го дня.
Премудрость возлюбих и поисках от юности моея. Познав же, яко не инако одержу, аще не Господь даст, приидох ко Господу.
Узрят кончину праведника и не уразумеют, что усоветова о нем Господь.
Господи, приими дух мой!»
Какую премудрость возлюбил Иван Васильевич, ясно видно из слов его Старца.
«Сердце обливается кровью, — так писал Старец одному своему духовному чаду, — при рассуждении о нашем любезном отечестве, России, нашей матушке: куда она мчится, чего ищет, чего ожидает? Просвещение возвышается, но мнимое — оно обманывает себя в своей надежде, юное поколение питается не млеком учения Святой Православной нашей Церкви, а каким-то иноземным, мутным, ядовитым заражается духом. И долго ли этому продолжаться? Конечно, в судьбах Промысла Божьего написано то, чему должно быть, но от нас скрыто, по неизреченной Его премудрости. А кажется, настанет то время, когда, по предрешению отеческому, «спасаяй, да спасет свою душу».
Очевидно, не премудрость века сего возлюблена была и Ивану Васильевичу Киреевскому.
18 декабря 1856 года писал нашему о. архимандриту Моисею еклесиарх Великой киево-печерской церкви, бывший наш скитский послушник, иеромонах Мелетий (Антимонов):
«Ваше высокопреподобие отец архимандрит Моисей, благословите.
Его высокопреосвященство милостивый Архипастырь наш[229] изволил сказать мне, что получил от вас письмо, в котором изволили поздравить его высокопреосвященство со днем святого тезоименитства.
За долговременное и неизменное к высокой особе его ваше благоговейное уважение и примерную вежливость он изволил радостно благословить вас и вверенную вам святую обитель архипастырским благостынным благословением.
«Хотел бы я сам ему написать, да видишь, как я слаб здоровьем: голова моя отказывается работать, руки мои не хотят делать, желудок не хочет варить, и ноги мои отказываются ходить, а душа радуется, что приближается время ее покоя. Так и напиши».
Вот собственные слова его Высокопреосвященства, которые, как драгоценный гостинец, имею честь вашему высокопреподобию на сем листочке доставить. Эти слова изволил говорить мне грешному в субботу перед вечернею, 15 декабря, в кабинете его. В Воскресение, 16-го числа, по слабому здоровью и не служил».
Следующее письмо о. Мелетий писал от 24 декабря 1857 года батюшке о. Макарию и в нем извещал уже о кончине приснопамятного великого архиерея Божия и благодетеля нашей обители Филарета.
«Великий Святитель наш, — так пишет о. Мелетий, — декабря 1-го[230] изволил совершить Божественную литургию в ближних пещерах, в храме преподобного Антония, был и в дальних с поклонением святым мощам угодников Божиих, а последние часы того дня провел в безмолвии (не принимал никого) в келлии о. Парфения, что на ближних пещерах. После того силы его стали очень слабеть, иногда опять укрепляясь. 15-е число, 16-е и 17-е утро было ему очень трудно, вечером же стало получше. Призвал меня и изволил сказать: «Завтра, после ранней обедни, я желаю пособороваться маслом, сделайте распоряжение».
Память и слух очень чисты.
18-е число, в среду, в 8 часов утра, началось Елеосвящение. Таинство совершал преосвященный Стефан и шесть архимандритов. Владыка лежал в спальне на кровати. По окончании таинства, начал у всех просить прощения, и стала подходить братия для благословения. Между сим изволил говорить: «Поручаю вас благости Божией, поручаю вас Матери Божией. Молитесь Господу Богу, дабы даровал вам пастыря доброго, учительна и благонравна».
Я стоял в ногах его кровати и после всех подошел. Кланяясь в землю, целовал его руку.
«Ну, — сказал он, — отец еклесиарх, послужи Матери Божией. Матерь Божия тебя не оставит».
Из глаз моих полились слезы, и с ними пришел к себе в келью.
Память, слух и зрение по-прежнему хороши.
19-го, в четверг, утром в половине 8-го часа, призвал меня и сказал: «Возьми алмазные андреевские знаки и цепь для сохранения в ризнице».
Взявши это, я поклонился ему в землю и сказал: «Преосвященнейший Владыко, помяните меня у престола Божия!»
«Хорошо. А ты послужи. Ты призван сюда по особому Промыслу Божию: на такую должность трудно сыскать человека — здесь особая нужна верность».
В 10 часов сего утра преосвященный Стефан, после обедни (он служил для ставленника и я с ним), взошел к владыке со мною вместе, сказал несколько слов и возвратился. Здесь поклонился я ему и просил благословения Оптиной Пустыни.
«Напишите, — промолвил он, — полное мое благословение, а я сам не могу писать».
Эти истинные его слова имею счастье, как драгоценный дар, принести Оптиной Пустыни.
Императрица Мария Александровна спрашивала два раза в день о здоровье; наконец потребовала от докторов положительно удостоверения на сие. Доктор отвечал 20 го числа, в пятницу, в 6 часов вечера: «Больной не принимает пищи, дыхание более на поверхности, силы еще упали, сознание полное, надежды нет».
Владыка потребовал: «Прочтите мне, что вы написали».
Начал читать, и когда последние слова произнесены — «надежды нет», — он сам изволил подтвердить: «И очень безнадежен».
В 11 часов ночи о. наместник присылает за мной в келью. Я явился. Говорит мне: «Приготовьте часть Св. Даров на случай, потому что владыка подозвал меня и сказал: «Ну, если я не доживу до ранней обедни, то приготовьте часть Св. Даров».
Еклесиарх тогда же и приготовил.
21-го. Суббота. Раннюю обедню приказал начать в 3 часа и дожидался Св. Таин с большим нетерпением. Наконец, приобщился и начал повторять: «Ныне отпущаеши раба Твоего» и проч.
В 8 часов 15 минут утра Святитель наш предал святую душу свою в руки Спасителя своего и нашего мирно, тихо, спокойно. Тело вынесено в Великую церковь 22-го, в Воскресенье, в 3 часа пополудни. Погребение предположено на 2-й день праздника. Могила в церкви на ближних пещерах, против входа в пещеры. Место сие он сам прежде назначил и завещание написал.
Так умер праведный митрополит Филарет, благодетель Оптиной Пустыни и основатель ее Скита во имя святого Предтечи Господня и Крестителя Иоанна».
На этом заканчиваются мои выписки из скитских дневников послушника Льва Кавелина.
6 марта
Опять в Оптиной. — Елена Андреевна Воронова. — Вор-рецидивист и Святитель Николай.
В конце прошлого месяца, после поздней Литургии, подошла ко мне в Казанском храме незнакомая, скромно одетая дама.
— Не вы ли С. А. Нилус?
— Я. Чем могу служить?
— Я — Елена Андреевна Воронова. Вам это имя вряд ли что говорит, хотя мы оба с вами служим одному и тому же делу; я пишу во славу Божию о делах Его Промысла в жизни человека. А главное мое дело — это забота о духовном питании заключенных в тюрьмах Петербурга и даже в Шлиссельбургской крепости. В этом деле я являюсь как бы помощницей известной вам, вероятно, княжны Марии Михайловны Дондуковой — Корсаковой.
С этого началось наше знакомство, очень быстро перешедшее в тесную дружбу с моей женою и со мною. Да и нельзя было не полюбить этого кротчайшего и любвеобильного создания Божия.
«Она — как Ангел Божий!»
Так про нее сказал кто-то из семьи моей. И это была истинная правда.
Утро и день эта раба Христова посвящала оптинским церковным службам и своему духовнику и старцу о. Варсонофию, а вечера, кроме дней говения, проводила у нас. И чего-чего только не понаслушались мы от нее великого и дивного из сокровенных тайников человеческой души, открывавшейся ее любви в крепостных казематах и камерах одиночного и общего заключения, не исключая камер так называемых смертников — лиц, приговоренных к смертной казни. Сколько из этих смертников, приведенных ею к распознанию своей вины и покаянию, спасла она от смертной казни, выхлопатывая для них иногда даже и полное помилование! Бог знает да еще митрополит Антоний Петроградский, через которого доводит до кого следует просьбы своих тюремных духовных детей наша Елена Андреевна.
Не успели познакомиться, а я ее уже называю «наша». Думается, что не только нам одним она «наша», а всем, кто бы только ни приходил в соприкосновение с душой этой ангельской[231].
Спросили ее, какого вида Бог? Ответила: «Нельзя сказать человеческими словами. Он стоял около меня».
И, действительно, она страдала до 12 часов ночи Великой пятницы, когда страдания ее прекратились. Она затихла, стала ровнее дышать, попросила все свои святыни. Положили ей крест на грудь. Она сама, своей рукою, закрыла себе глаза, и больше их не открывала, и тихо опочила. Была она все время в памяти. Почерк был твердый и ясный… После ее кончины пришел пристав, и кроме носильного платья да кое-какого старого белья ничего не нашлось…»
Записываю со слов Елены Андреевны нечто из ряда вон выходящее, что произошло с одним из ее духовных питомцев.
«В Выборгской тюрьме, — так рассказывала Елена Андреевна, — мне довелось встретить одного молодого вора-рецидивиста. Он теперь в Обуховской больнице умирает, если уже не умер, от злейшей чахотки, и потому я могу назвать его имя: зовут его Александр Гадалов. Несмотря на то что он, казалось, был неисправимый вор, в нем светилась такая чистая, детски-верующая, бесхитростная душа, что сердце мое при ближайшем с ним знакомстве не могло не полюбить его милой души, мимо которой, как это ни странно, пронеслась, не запятнав ее, вся внешняя грязь его преступлений. Теперь страданиями своими он уже искупил все, чем провинился пред Богом и человеками. Так вот, полюбила я душу Гадалова, и любовь моя настолько открыла мне его замкнувшееся в себе сердце, что, зная приближение своей смерти, он подарил мне свои записки — довольно объемистую тетрадь, в которой он наивно и необыкновенно-трогательно описывает свою горемычную жизнь от дней детства до теперешней его предсмертной болезни. В беседах его со мною он рассказал мне об одном бывшем с ним событии, настолько необыкновенном и поразительном, что удивило даже и меня, видавшую всякие виды.
— Вы, обеспеченные люди, — говорил мне Александр, — понять не можете нашего брата-вора, которого на воровство толкает неуменье и непривычка взяться за труд и такая безысходная нужда, такой волчий голод, что нет времени ни подумать, ни сообразить, есть ли какая безнравственность в покушении на чужое добро. Впору только об одном думать, как бы, где бы раздобыть чего-нибудь пожрать, а уж об остальном и головы себе не забиваешь. Так-то вот раз случилось и со мной, когда я в первый раз пошел на воровство. Подвело у меня в животе так, что впору из-за корки черного хлеба человека зарезать. Вот и подумал я что-нибудь украсть, чтобы сытым быть. Пошел воровать, а сам в душе молюсь Николаю Чудотворцу: угодничек Божий, батюшка, помоги!… Ловко удалось мне тогда стибрить! Хоть и погнались было тогда за мною, да я за молитвы угодника от погони как в воду канул. И от второй, почти на второй день кражи я также легко скрылся оттого, что все время, пока бежал, на молитве угодника Божия Святителя Николая призывал и молил спасти меня от погони. Пошел на кражу я таким-то образом и в третий раз, как и прежде, усердно помолившись угоднику, но уж тут пришлось пережить такие страсти, что и вспомнить жутко. Было дело это на окраине города. На краже меня заметили, и украсть мне ничего не удалось; пришлось дать тягу. За мной погнались. Я — в огороды, погоня за мной. За огородами был лесочек, так, рощица небольшая; я — туда, думаю в кустах укрыться, а там чисто, ни одного кустика… За рощей голое поле, а кругом никакого прикрытия на большое расстояние. Ну, смекаю я, попался! А погоня за мной по пятам, вот-вот нагонят… И взмолился я тут Святителю: батюшка, выручай! выручишь, свечку тебе поставлю!… Вдруг вижу: валяется невдалеке палая лошадь; брюхо огромное раздуто, как гора, и один бок проеден — дыра, как пещера, зияет. Долго думать было нечего: я в нее, в дыру-то эту самую, закопался в нее с головой, да и с ногами в ней схоронился!… Ну уж, матушка, Елена Андреевна, истинно, свет Божий не взвидел я в этом смрадном логове — чуть было не задохся. И что же? не нашла ведь меня погоня — мимо меня промчалась, а в тушу палую заглянуть и не подумала. Долго ли, коротко ли лежал я в падали, а вылезать пришла таки пора. Высунул я осторожненько на белый свет голову да чуть было не ослеп от осиявшего меня внезапно необыкновенного света — у меня внутри даже все перевернулось от страху! Опомнился мало-маленько и вижу: стоит около меня сам Святитель Николай, строгий такой и говорит: «Ну что? хорошо тебе было в этом смраде?»
«Ой! — говорю, — тошнехонько!»
«Так-то, — говорит, — смраден Богу и мне твой грех. Три раза, — говорит, — я тебя жалел, а теперь больше жалеть не буду».
Сказал и стал невидим.
Ну уж и натерпелся я тогда страху, Елена Андреевна, как вспомню, так и посейчас трясусь от страху».
— Что ж? — спросил я Елену Андреевну, когда она кончила свое удивительное повествование, — что же с вашим Александром потом было?
— А было то, что он не утерпел и опять взялся было за грешное свое ремесло и, конечно, угодил в тюрьму. В тюрьме у него развилась злейшая чахотка и с нею по отбытии срока своего наказания он и был выпущен на волю. Да воля-то была хуже неволи: больной, еле дышащий, в рубище, без единой на всем свете сострадающей души он мотался несколько дней, питаясь днем кой-каким подаянием, а ночи проводя под мостами да на пустых барках, голодный, холодный, как жалкий дикий зверек, загнанный гончими собаками. Скитался он так, где день, где ночь, несколько дней и, наконец, не стерпя скитальческой своей муки, кинулся на какой-то пустынной улице на проходившую одинокую барыню и вырвал у нее из рук ридикюль, попробовал убежать и тут же упал к ее ногам, захлебываясь хлынувшей у него из горла кровью. Спасибо, барыня-то доброй оказалась, пожалела бедного страдальца, Грех его простила да еще сама лично доставила в Обуховскую больницу, где он теперь и умирает в скоротечной чахотке, примирившись и с Богом, и с людьми горькой своей жизнью и тяжкими страданиями.
Такова жемчужинка из заветного ларца рабы Божией Елены Андреевны Вороновой. Высыпала она ее в мою кошницу и уехала 21 февраля, в Воскресенье, обратно из Оптиной на делание свое: приводить к Богу и спасать озлобленные души для жизни в красоте и радости блаженной вечности.
Великое делание! Великая праведница!…
7 марта
Опять в Оптиной. — Сновидение о. Варсонофия. — Нечто от «клеветы человеческой». — Слова о. Егора Чекряковского. — О. Варсонофий о «Троицком Слове». — О. Н[ектари]й и помещица-пустынножительница. — Не грозится ли небо?
Ходили с женой на благословение к о. Варсонофию. Е. А. Воронова слышала от него, что он в ночь со среды 17 февраля на четверг 18-го видел сон, оставивший по себе сильное впечатление на нашего батюшку.
«Не люблю я, — говорил он Елене Андреевне, — когда кто начинает мне рассказывать свои сны, да я и сам своим снам не доверяю. Но бывают иногда и такие, которых нельзя не признать благодатными. Таких снов и забыть нельзя. Вот что мне приснилось в ночь с 17-го на 18 февраля. Видите, какой сон, числа даже помню!… Снится мне, что я иду по какой-то прекрасной местности и знаю, что цель моего путешествия получить благословение о. Иоанна Кронштадтского. И вот, взору моему представляется величественное здание вроде храма, красоты неизобразимой и белизны ослепительной. И я знаю, что здание это принадлежит о. Иоанну. Вхожу я в него и вижу огромную как бы залу из белого мрамора, посреди которой возвышается дивной красоты беломраморная лестница, широкая и величественная, как и вся храмина великого Кронштадтского пастыря. Лестница от земли начинается площадкой, и ступени ее, перемежаясь такими площадками, устремляются, как стрела, прямо в бесконечную высь и уходят на самое небо. На нижней площадке стоит сам о. Иоанн в белоснежных, ярким светом сияющих ризах. Я подхожу к нему и принимаю его благословение. Отец Иоанн берет меня за руку и говорит:
— Нам надобно с тобой подняться по этой лестнице.
И мы стали подниматься. И вдруг мне пришло в голову: как же это так? Ведь отец Иоанн умер: как же это я иду с ним, как с живым? С этой мыслью я и говорю ему:
— Батюшка! Да вы ведь умерли?
— Что ты говоришь? — воскликнул он мне в ответ. — Отец Иоанн жив, отец Иоанн жив!
На этом я проснулся… Не правда ли, какой удивительный сон? — спросил Елену Андреевну о. Варсонофий. — И какая это радость услышать из уст самого о. Иоанна свидетельство непреложной истинности нашей веры!»
Елена Андреевна надумала было просить благословения у Старца напечатать это благодатное видение. Старец даже за голову схватился…
«Помилуй вас Бог! Не для печати это вам рассказано, а для вашего назидания. И не думайте этого печатать»[232].
Принял нас наш батюшка с обычной для него лаской, усадил меня на диван в той комнатушке своей кельи, которую он трогательно величает «зальцей», и стал мне говорить о той радости, которую испытало его сердце от прочтения № 1-го «Троицкого Слова», издаваемого под редакцией епископа Никона[233].
— Вот это хорошо, мудро! — восторгался он. — Это доброе слово.
Вдруг батюшка прервал речь свою…
— А знаете ли, — сказал он, — против вас начинается восстание, да еще какое восстание!
— Откуда, батюшка?
— И извне, и изнутри, со стороны одной партии…
На этом слове в келью вбежал один из скитских послушников, письмоводитель батюшки, с тревожным возгласом:
— Батюшка! ему так плохо, что едва ли он уже не кончается!…
— Ну давай скорее епитрахиль и одеваться, — заторопился батюшка, — а с вами, С. А., уже до другого, видно, раза.
Батюшка благословил меня и поспешно вышел.
— Кто это кончается? — спросил я письмоводителя.
— Наш отец И[234].
Не один уже раз с конца прошлого года начинал заводить со мной Старец речь о «клевете человеческой», и всякий раз беседа наша на эту прискорбную тему прерывалась на начальном полуслове столь же неожиданным образом. Знаю, что там где-то в пространстве кто то что-то замышляет против нашего оптинского уединения, но кто и почему, так и не удается мне дознаться от своего Старца.
— Годочка два, ну, три поживите, — говорил нам в 1907 году о. Егор Чекряковский, благословляя нас на поселение в Оптиной. Два года исполнилось, начинаем жить третий, и «кто-то» уже начинает подрывать наши корни в святой земле Оптинской.
Тому, видно, быть — не миновать! Буди воля Божия.
Вернувшись из скита домой, застали целое общество, в том числе дорогого нашего духовного друга о. Н[ектария] и одну помещицу, духовную дочь старца о. Амвросия, поселившуюся жить ради Оптиной и ее старцев в лесной сторожке соседнего с Оптиной помещика К[ашки]на.
— Мне К[ашки]на говорила, — так за беседой у самоварчика сказывала нам пустынножительница-помещица, — что по милосердию и любви Божьей все, даже нераскаянные злодеи и отступники, скорбями и земными страданиями спасутся. Мне это кажется правильным. Как думаете об этом вы, отец Н[ектари]й? — обратилась она к нашему другу.
— Два, — ответил он кратко, — разбойника висело на крестах рядом со Спасителем, а в рай вошел только один.
— Ах, какая правда! — воскликнула она. — Как же это мне не пришло в голову так ответить К[ашкин]ой?
«Оттого и не пришло, — подумалось мне, — что ты, матушка, не отец Н[ектари]й».
Посидели гости наши и вскоре ушли, а мы, в свою очередь, оделись и пошли вдвоем с женой гулять мимо заветных старческих могилок в чудный монастырский лес. Было уже довольно поздно. Солнце склонялось к закату, небо было покрыто мрачными тучами; кое-где на западе их пронизывали сверкающие, прощальные лучи заходящего солнца. Было довольно холодно и ветрено… От могилок великих старцев мы пошли по направлению к Скиту. В это мгновение солнце ударило из-под туч косыми лучами по верхам архимандритского корпуса, канцелярии и братских келий и заиграло на них таким густым, ярко-малиновым огненным светом, что мы остановились как зачарованные пред красотой волшебных красок, каких не найти ни на какой палитре. А когда мы вышли за ограду и обернулись еще раз взглянуть на монастырь, то даже ахнули от изумления: весь верх архимандритского корпуса стороною, обращенной к солнцу, горел, как пламенный уголь. Незабываемо-красивое и вместе почему-то жуткое было это зрелище… Но что творилось в это время в лесу, осеняющем скитскую дорожку, того ни в сказках сказать, ни пером описать невозможно. Лес горел, каждое его дерево горело и сквозило огнем, как сквозит и пламенеет полоса железа, только что вынутая из горна кузнечными клещами. Деревья не отражали кроваво-огненных лучей заката, а насквозь ими светились своим внутренним огнем. Это был пожар леса, но без дыма, без треска и шума пожара. До чего же это было красиво и… страшно, и глаз невозможно было оторвать от этой волшебной картины!
Не грозит ли небо духовным пожаром дорогой обители? Не огонь ли небесный готовится свыше излиться на мир великого отступления? Не оттого ли так и страшно, и жутко стало моему бедному, робкому человеческому сердцу?
Как знать?..
8 марта
«Николай-Подкопай».
Носил к о. архимандриту деньги за квартиру и задержался у него беседой о делах житейских. Невесело глядит и авва наш на то, что творится там, за оградой монастырской. За беседой я рассказал ему трогательную историю Александра Гадалова, сообщенную мне Е. А. Вороновой.
— Ну, что вы скажете, батюшка, — спросил я, — о чуде Святителя Николая с Гадаловым? Как вы к этому чуду относитесь?
— А вам, — на мой вопрос ответил вопросом о. архимандрит, — известно ли сказание о чудотворной иконе Святителя Николая в Москве, что в церкви, известной под именем «Никола-Подкопай»?
— Что-то не слыхивал.
— Ну, так послушайте! В какой местности Москвы находится эта икона, это мне неизвестно, но я твердо знаю, что она есть и носит именно то название, которое я вам сказывал. В том приходе, в церкви которого находится эта икона, жил один богатый купец. Человек он был честный и глубоко верующий, как и большинство русских православных людей того времени. Особенную же веру он имел к Святителю Николаю, икону которого в приходе своем чтил какой-то особенною, чисто сыновнею любовью, часто служил пред нею молебны и всегда усердно, с любовью молился. Случилось так, что его подвели в одном крупном торговом деле и, воспользовавшись его доверчивостью, кругом так обманули, что он лишился разом не только всего своего достояния, но запутал и других, веривших его честности. Положение его было во всех отношениях отчаянное. И усилил тут купец усердную свою молитву к Святителю Николаю, неотступно стал ему молиться день и ночь, умоляя его о помощи. И вот, помолившись ему как то раз на сон грядущий с великой верой и обильными слезами, лег купец этот спать и видит в тонком сне, стоит перед ним великий Святитель Божий и говорит ему:
— Не плачь, я выручу тебя из беды. Ступай, сними с иконы моей ризу и продай ее. Что за нее выручишь, пусти в оборот; а как разбогатеешь, расплатишься с долгами, сделай на мою икону новую ризу, но только смотри, чтобы она было точка в точку такая же, как старая.
А риза на иконе той была богатейшая — чеканного золота, вся усыпанная бриллиантами и драгоценными каменьями большой ценности.
— Как же я это могу сделать, — спрашивает купец, — когда икона стоит в храме? Кто же мне это позволит?
— Позволю я, — сказал Святитель, — я ей хозяин, а ты слушай, что я тебе говорю. Вот придет ночь, ступай ты на церковный двор к храму, подкопай под ним стену и через подкоп влезь в храм да сними ризу.
— Да ведь это — святотатство! — возражает купец.
— Говорю тебе, я — хозяин! — ответил Святитель и стал невидим.
Купец проснулся весь в слезах от умиления и благодарности. Пришла следующая ночь. Помолился купец Богу и св. Николаю, взял кирку, лопату и пошел добывать ризу со святителевой иконы. Ризу добыл, принес домой, драгоценные камения вынул, а золото сплавил — все сделал без помехи, по святительскому благословению. Большие деньги выручил тогда купец за ризу эту, обернулся в своих делах и разбогател пуще прежнего. Когда вошел он вновь в силу и настало, стало быть, время исполнить повеление Святителя о сооружении на его икону новой ризы, тогда пошел купец к приходскому своему батюшке и говорит ему:
— Хочу послужить великому Божьему угоднику, Святителю Николаю: благословите, — говорит, — батюшка, соорудить ему новую ризу на икону.
— Доброе дело надумал ты, раб Божий, — благословляет его батюшка, — только к чему ему риза, когда на его иконе и старой ризе цены нет?
Такое чудо сотворил Святитель: ризы на его иконе давно нет, а она всем видится — никому и в голову не взойдет, что снята, продана, а купца — на корень поставила.
— Знаю, батюшка, — говорит, — что и старой цены нет, да таково мое усердие: хочу новой ризой украсить Святителя, да еще ровно такой, какая на ней и раньше была, чтобы и видом своим, и ценностью ничем не отличалась от старой.
Видит батюшка, что купца не переупрямишь, а жертва его богатейшая.
— Ну, что ж, — говорит, — с тобой делать? — Делай как хочешь: Бог благословит.
И вот, соорудил купец новую ризу, во всем подобную старой. Дивятся прихожане вместе со своим батюшкой, дивятся и радуются богатейшему вкладу. Когда пришло время облачать икону новой ризой, отслужили торжественно Литургию при полном храме молящихся. После Литургии, перед молебном Святителю, стали надевать ризу на икону, и еще больше дивятся прихожане: новую ризу надевают на старую…
— Да хоть бы старую-то сняли! — пронеслось тихим шепотом по Божьему храму среди молящихся…
Прижали к старой ризе новую, как пришили; хотели было начинать и молебен, да остановил жертвователь. Выступил он вперед, положил три поклона Святителю, оборотился к народу да и стал говорить ему про скорби свои, про явление ему Святителя и про святителево великое чудо. По церкви ровно стон пошел: кто верит, а кто не верит; ведь старую-то ризу все видели, и как на нее новую надевали, тоже все видели — что такое говорит он? Не с ума ли свихнулся?.. Слышит это купец да и говорит мастеру, что новую ризу делал:
— Сними ризу!
Сняли, а под ней никакой старой и нету. Что тут после того с народом стало, и пересказать невозможно…
Вот с той поры и зовется приходский тот храм «Никола Подкопай». Вот, мой батюшка, Сергей Александрович, — закончил свой рассказ, отпуская меня, о. архимандрит Ксенофонт, — какие в старину-то, еще недавнюю, чудеса на Руси Православной бывали!
Пришел я от о. архимандрита домой, рассказываю, что слышал, а наша Ляля:
— У нас в Тамбове, — говорит (она тамбовская), — еще на моей памяти точно такой же случай был со Святителем и с обедневшим сапожником: тоже явился сапожнику Святитель и так же велел ему для поправки дел снять со своей храмовой иконы драгоценную ризу, а когда разбогатеет, сделать новую, подобную.
Трогательно, умилительно и как по-христиански! Одежду с себя снимает Божий угодник, чтобы одеть ею неимущего…
«Социализм это — завершение христианской морали, — внушают нам мудрецы века сего, — он есть не что иное, как ее последнее, современное, заключительное и совершенное слово».
«Социализм, — говорят христиане, — учит отнимать у ближнего его достояние; христианство — отдавать свое». Похоже!…
Поди-ка попробуй отнять у верующего православного его преисполненную чудес любви веру, его бессмертную надежду!…
9 марта
Ожидание близости Страшного Суда. — Съезд раввинов. — Банкир Шиф и «враг рода человеческого».
Сегодня получил письмо от одного иерея Божия, пишет:
«…Страшная мысль смущает ум, что признаки близкого пришествия Спасителя и Страшного суда Его уже открываются. Эти землетрясения, это наводнение в Париже[235] — все эти поразительные явления заставляют глубоко задуматься, тем более, что они предсказаны словом Божиим. И сбывается Писание, что в последние дни будут чудеса и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма (Деян.2:19). Знамения на земле мы уже видим, да и на небе показываются[236].
Эта комета, появившаяся на западе и вызвавшая столько толков, так ярко блеснувшая и так быстро исчезнувшая, не есть ли она вестник явления миру антихриста или его пророка, подобно звезде, некогда явившейся на востоке и бывшей вестником рождества Спасителя Самого Христа? История человечества на всем протяжении своем имеет столько доказательств того, что небесные явления были знамениями для земли. Еще приводит в смущение это повсюдное стремление к единению: эти международные съезды и конгрессы, этот «волапюк» или эсперанто — международные языки. Не наводит ли все это на мысль, что человечество близко к соединению в единую государственную семью, пока внеконфессиональную, а затем с новой единой религией, общим для всех царем и… новым «богом»? Подножие престолу и алтарю этому новому царю и богу уже сооружено из всеобщего преклонения пред слитым всемирным иудеем золотым тельцом. Не замедлит явиться и «сидящий». И то, что прежде казалось странным, как это антихрист должен произойти из еврейского народа и быть обладателем всей земли (я, по крайней мере, не мирился с этою мыслью), то теперь с несомненной ясностью видишь, как жизнь всех народов опутана одними и теми же еврейскими нитями, которые все более и более стягиваются и ныне грозят всему человечеству одною общею мертвою петлею. И вижу я и чувствую теперь, что немного уже остается времени для исполнения всего, от века предреченного».
Так пишет иерей Бога Вышняго. Надо ли отмечать, что его мысль — ныне мысли всего искренне и истинно верующего христианского мира?!
В Петербурге директор департамента духовных дел Харузин открыл всероссийский съезд еврейских раввинов.
В Соединенных Штатах Северной Америки еврейский банкир Шиф, финансировавший Японию в войне ее с Россией, вновь грозит «страшной» войной России, этому, по его выражению, «врагу рода человеческого».
Он прав, этот еврейский финансовый король: Россия действительно враг человеческого рода, если только стать на точку зрения морали талмуда, по которой только одни евреи люди, а все остальное человечество — скот с человеческими лицами, предназначенный для рабского услужения «князьям мира», евреям. Пока Россия православна, она не склонит своей головы под пяту Шифа и компании. Как же еврею не называть Россию «врагом рода человеческого»?!
Все это знамения. Но кто за ними наблюдает? Кому до них дело?
10 марта
Никитушка-блаженный.
Пишет мне из женской обители одна раба Божия:
«… Извините меня. Может быть, я и затрудняю вас, но сама не знаю, зачем и почему хочется мне рассказать вам об одной своей сокровенной любви — о Никитушке-нищем. Душа моя при воспоминании о нем полна слез, и я, конечно, не передам желаемого так, чтобы вы совсем ясно представили себе духовный образ этого человека. Мы знаем Никитушку давно, хотя он ходит к нам в обитель очень редко (не чаще двух раз в год). Говорят о нем крестьяне, что прежде они его знали «умным» и богатым. Он когда-то хорошо торговал в Туле, но вдруг с ним что-то сделалось, и он переменился в корень: распродал почем попало свое имущество, сделался дурачком и пошел нищенствовать. Быть может, тысячи людей, среди которых ходит Никитушка, считают его за самого обыкновенного нищего, но я и, кажется, вся наша Община думает о нем как о великом человеке Божием, превратившемся уже в Ангела. Нельзя вспомнить о нем без волнения, нельзя не любить его любовью о Христе, бесконечной и пламенной. Хочется его так любить, как не любило его на земле ни одно человеческое сердце и как умеют любить и любят его только небесные силы Ангельские…
Никитушка наш роста довольно высокого, худощавый, широкоплечий, волосы стриженые с большой проседью; лицо всегда запачканное, и на грязном лице этом чудные, ясные, голубые глаза цвета чистейшего весеннего неба. Одевается Никитушка всегда — лето и зиму — в плохую, холодную одежку и лапти. На вид ему лет шестьдесят. Слух в народе ходит, что он иногда из своего тела вырывает куски мяса, но что пораженные места у него как-то необыкновенно быстро заживают; иногда пачкается рудой или грязью, вызывая тем против себя всякие издевательства со стороны всегда безжалостных деревенских мальчишек. Если бы знали вы, какое неизреченное смирение, золотое и совершенное — ужас какой-то смирение, — имеет этот нищий. Когда он приходит к нам в обитель, он целует пороги, полы, стены, камни, лужи, грязь; иногда языком делает на земле или на церковном полу крест… Говорит Никитушка очень мало и не всегда понятно. Как то одна из наших монахинь, будучи больной, позвала его к себе в келью. К удивлению всех, он послушался и пришел. Монахиня попросила у него святых молитв, он тотчас же стал молиться перед ее иконами, только вместо молитвы он с невыразимой быстротой стал перечислять по парам разных животных и птиц: голубь и голубка, петух и курица, волк и волчица и т. д. Надо думать, что он испугался, как бы она не приняла его за святого, раз надумала у него просить святых молитв, вот он и поспешил изобразить из себя полоумного. А может быть, и иное что: кто может постичь вполне таких рабов Божиих?.. Только монахиня та не смутилась этой странности и осталась с твердой верою в его святость… Пришлось мне однажды, выходя из церкви, увидать его около церковного крыльца; в руках у него была старенькая деревянная чашечка на ремешке. Я обрадовалась его приходу, нежно-детскому виду и, целуя его худой кафтан, подумала: вот он, святой! Никитушка шепотом ответил на мои мысли вразумительно: «Все святии, все святии!»
Из благоговейного к нему страха, чувствуя свою греховность, я никогда не беспокоила его словами и отходила скорей, чтобы вниманием к нему не прогнать его из обители, так как стоит только отнестись к нему повнимательней, как он тотчас же удаляется с быстротою вспугнутой ласточки. На первый день Великого поста Никитушка был у нас. Я выходила от вечерни и встретилась с ним у крыльца. Он упал передо мной, приник головою к оледенелой земле, попросил благословения и молча, крепко поцеловал мне руки. Сердце мое всегда считает счастливым те мгновения, когда я стою перед ним. «Я всегда покоряюсь вашему благоволению», — скажет он с ясным светом в глазах и улыбкой младенца; и какое-то блаженное, трогательное чувство затрепещет в моей груди. После я долго плачу в своем уголке, думая о нем: где-то ты умрешь, дорогой мой, никому не понятный, неуловимый, всем чужой, но в моей памяти навеки запечатленный? Кто будет тебя хоронить? Кто станет, прощаясь, целовать твои грязные святые руки, омывая их слезами?.. Боже мой, Боже мой! Я верю, что на грязь той дороги, где будет умирать этот Божий странник, этот самоотверженный, так жестоко самораспявшийся смиренник, Ты пошлешь целый лик святых Твоих Ангелов, и они унесут его благоуханную душу в тот великий свет, которого нам никогда не видать! Там, Господи! приими его о нас, грешных, молитвы!…»
Кончается удивительное письмо это словами:
«Еще раз прошу прощения! Интересен ли вам наш Никитушка и моя к нему любовь? Думаю — мало. Но, написавши вам о нем, я почувствовала на душе облегчение. Возможно, что и вы заочно полюбите его…»
Какие есть у Тебя еще и доселе, Господи, сокровенные сердца и души! Какое богатство неизмеримое любви, смирения и всякой милости!
14 марта
Кончина монаха Феодосия. — Его тетрадка. Знамение у нас в крещенской воде.
На днях скончался мантейный монах о. Феодосий. Он был регентом за ранней обедней. За неделю перед кончиной был пострижен в схиму. Доброй и внимательной жизни был монах и, по нашим мирским понятиям, интеллигентный. Рода он был купеческого и годами нестарый — годам к пятидесяти пяти, не старше. Умер от какой-то хронической болезни сердца. Много терпел скорбей и даже раз выходил из Оптиной, но вновь вернулся и дожил свой век благополучно в родном монашеском гнезде. Пред кончиной ежедневно причащался Святых Христовых Таин.
Один из близких к покойному о. Феодосию монахов принес мне сегодня оставшуюся после него тетрадку, и в ней я нашел следующую его собственноручную запись:
«Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Я, многогрешный Феодор (до мантии его имя), недостойный раб Господа и Бога моего Иисуса Христа, рясофорный послушник святой Оптиной Пустыни, пишу эти строки не из какого-либо вымысла или лжи, но сущую и неложную правду. Да будет вам, отцы и братья мои, моя эта повесть не на соблазн, а для душевной пользы.
1893 года, декабря 16-го дня, Господь посетил меня болезнью, и я сделался жестоко болен инфлуенциею. Лечил меня врач Оптиной Пустыни о. Димитрий. 18 декабря вечером я сделался очень слаб. В это время меня посетил иеромонах о. Варлаам, пришел и врач о. Димитрий, который стал меня спрашивать о здоровье и начал мне примачивать голову эфиром. Тут я почувствовал во всех членах онемение, и в мгновение кровь моя совершенно застыла, и я сделался недвижим. И вот, слышу я, кто-то говорит: «Не бойся, ничего не страшись!»
В это время сделался страшный и непонятный шум и стук, как от множества едущих по каменной мостовой экипажей, и кто-то тут же ударил меня по голове каким то орудием так сильно, что и покров моей келлии тоже слетел. И увидел я свое тело, как какое-то брошенное платье. Тут под руки меня взяли двое монахов, один — о. Варлаам, а другой неизвестный; оба в мантиях. Они подняли меня на воздух, и долго мы неслись в высоту. По всему воздушному пространству и на всем нашем пути мне ничего не было видно, но со всех сторон был слышен страшный шум. Определить его или применить к чему-либо земному никак нельзя, но только в это время душа моя трепетала. И когда донеслись мы, казалось, до самого предела неба, тут нас внезапно облистал необыкновенно-яркий свет, как бы луч какого-то ярчайшего солнца, бесконечно светлейшего нашего земного солнца. Это продолжалось только мгновение. И мы стали спускаться вниз. Но чудесное то осияние с такою силой запечатлелось в моей душе, что я от восторга во весь обратный путь книзу только и мог что твердить: «Слава Тебе, Господи! Благодарю Тебя, Господи! Ничего я плохого для себя не вижу».
И мы по воздуху опять спустились к моей келье. И вижу я, что над моей кельей на воздухе стоит некий муж и некая жена, но лиц я их не вижу. Когда же мы спустились в келью, то я увидел, что посреди ее на палу стоит гроб и в гробу мое тело. По сторонам гроба сидят два монаха. Один из них говорит: «Что нам нужно теперь делать?»
Жена, виденная мною, отвечает: «Возвратите его, а болезнь оставьте ему: пусть прославляет Бога, как прославлял Его».
В это время я посмотрел на северо-западную сторону и увидел провал земли, и из него вылетает пламя и страшный дым. От страха я очнулся и увидел себя лежащим на койке, и около меня не было никого.
Богу одному известно, была ли в это время душа моя в грешном теле или это представлено мне из сна, но как было от начала до конца, говорю, что видел, и это сущая правда.
Прошу вас, отцы и братия, помолитесь о мне многогрешном ко Господу Богу, да помилует меня. Грешный ваш собрат, Феодор Ширнин».
Отец Феодосий скончался 9-го или 10 марта. Видение его прообразовало последующую жизнь его и кончину: болезнь его была с ним неотлучной спутницей во все дни его жизни, а жизнью своею он, действительно, славил Бога. Замечательным показался мне конец его видения — провал, дым и пламя. Не пришелся ли конец земной жизни о. Феодосия к тем дням, которые в книге жизни предназначены стать днями пятого апокалипсического Ангела, когда отворится кладезь бездны, и выйдет дым из кладезя бездны, как дым из большой печи, и помрачится солнце и воздух от дыма из кладезя? (Апок.11:2.) Современность на то похожа…
В той же тетрадке о. Феодосия было записано его рукою следующее:
«Пристав 2-го стана Горбатовского уезда Нижегородской губернии получил от урядника донесение и письмо, написанное к уряднику церковным старостой села Епифанова Горбатовского уезда. В письме дословно написано было следующее:
«Сим имею честь просить вас, чтобы вы приехали к нам в село Епифаново сего года 21 мая, т.е. в Воскресенье, к литургии, так что [sic] у нас будет освящение источника, который находится при часовне, где и чудотворная икона Тихвинской Божией Матери. Вот у нас в источнике сотворились чудеса, каких никто не слыхивал и не видывал. Сначала этот источник замерз в конце месяца марта. 15 мая стали лед пробивать, но не могли пробить. Потом пришлось его разрыть. Разрыли и лед пробили. В этом льду оказались чудеса, такие чудеса! Было изображение нашего храма, паникадила, изображение Господа Иисуса Христа в темнице, Божией Матери, колокола и креста над ним. Прошу приехать без всякого отлагания. Церковный староста Иван Савин».
24 мая пристав 2-го стана составил в селе Епифанове протокол следующего содержания:
«Близ села Епифанова, приблизительно в полуверсте от него, находится деревянная часовня, в которой устроен колодец над родником. Родник этот издавна привлекал к себе не только жителей окрестных селений, но и дальний народ. Из него брали воду, которую считали целебной. Никто из жителей не помнил, чтобы родник этот когда-нибудь замерзал, и когда он замерз, то это крайне удивило прихожан, и они обратились к местному священнику о. Михаилу Студенецкому с просьбой о молебствии, которое и совершено было 8 мая. Однако вода не появилась. 16 мая стали рубить землю в часовне, чтобы вынуть чан, помещавшийся в колодец. Земля была настолько замерзшая, что с трудом поддавалась топору. 17 мая чан вынули с частью льда, и тотчас показалась вода. Затем из чана стали выламывать лед и выбрасывать его в сторону. Находившийся тут же крестьянин села Епифанова Савин обратил внимание на лед, который был необыкновенно светлый, поднял одну льдину величиною с поларшина и заметил в ней изображение паникадила, нескольких подсвечников и лампад; вещи эти казались в середине льда, как будто сделанные из серебра. Савин тотчас предъявил льдину и другим, и все видели те же самые изображения. Другие льдины после этого также стали поднимать, и в них оказались разные изображения; так, в одних ясно замечались присутствующими колокольня и отдельно колокол с крестом сверху; в других льдинах были изображения Иисуса Христа в темнице, Божией Матери, пред Которой на коленях стоит молящийся. Все эти изображения представлялись сделанными из серебра. Изображения пропадали по мере таяния льда, но их можно было наблюдать в течение трех дней, пока лед окончательно не растаял. Слух об этом сверхъестественном явлении так быстро распространился, что за три дня приходили и видели изображения в льдинах тысячи народа. Упомянутые льдины с изображениями находили затем в течение трех дней, пока не растаяли, у священника Студенецкого, который и подтверждает изложенное в настоящем акте, написанном при дознании с показания очевидцев. Подписано священником Михаилом Студенецким, сельским старостой Андреем Лисиным, церковным старостой Иваном Савиным и многими крестьянами. Народ тысячами продолжает стекаться к роднику, и 21 мая было свыше 5[-ти] тысяч человек».
Таков акт дознания станового пристава, копия с которого найдена мною в тетрадке почившего о. Феодосия.
Сбоку приписка о. Феодосия: «Было это в мае 1900 года».
Читал я это вечером моим домочадцам, а Ляля и говорит:
— А помните, как в моей бутылке нынче зимой замерзла крещенская вода?
Я вспомнил: вода замерзла только внутри, а у стенок бутылки она оставалась талой. Замерзши же внутри, она своей льдиной представила точное подобие дерева, по виду — елки.
— Она потом у меня оттаяла, — продолжала Ляля, — и вновь замерзла, как и прежде, но уже не в форме дерева, а рыбы, хвостом вверх. И так это было похоже на настоящую рыбу, что даже видна на ней была каждая отдельная чешуйка. Наши на кухне все это видели и дивились.
Я объяснил Ляле, что образом рыбы первые христиане изображали Самого Спасителя, ибо греческое слово ιχδυς пятью своими буквами дает начертание пяти начальных букв имени Господа:
I — Ιησους — Иисус χ — Χριστός — Христос δ — δ(Θ)εου — Божий υ — Υιός — Сын ς — Σωτης — Спаситель.
Ляля так и ахнула, когда я это ей разъяснил.
Вот такие чудеса заключены бывают в тайниках нашей веры.
О, дивная вера наша!
17 марта
Болезнь отца Н[ектари]я. — Его видение. — Умилительная сценка и диалог между старцами. — Старая и новая Россия.
Ходил сегодня в нашу оптинскую больницу навещать больного друга нашего, отца Н[ектария]. Уже 4-й день идет, как его привезли из Скита и поместили в ту самую келью, в которой только что скончался о. Феодосий. К великой радости, нашел батюшку на пути к выздоровлению. Отец Н[ектарий] встретил меня сообщением, что его всю ночь беспокоил страшный сон, виденный им с необыкновенной ясностью.
— Что же видели вы? — спросил я с особым интересом, зная духовную высоту нашего батюшки.
— Революцию в России видел, страшный мятеж.
Дальнейшее повествование прервано было появлением больничного монаха-фельдшера, пришедшего измерить температуру больного. К великой моей радости, температура оказалась уже нормальной.
По уходе фельдшера мне довелось быть свидетелем умилительной и незабвенной сценки. Не успели мы обратиться к прерванному повествованию, как вошел, помолившись, один из самых уважаемых Оптинских Старцев, живущий в больнице на покое. Смотрю: в рукавах у Старца что-то припасено вроде «утешения» для болящего… После взаимного приветствия взошедший Старец раскрыл свою ручку и на ее ладони, на чистенькой бумажке, оказались три фигурные мармеладинки. Старец с несравненно милой улыбочкой на детски-ясном лице стал степенно снимать с бумажки одну мармеладинку за другой и подносить их поодиночке нашему другу, приговаривая:
— Вот вам, батюшка, отец Н[ектарий], как изволите видеть, лапоточек. Простите только, что с подошвы его мы снежку стряхнуть не успели.
А снежок на мармеладном лапотке — несколько песчинок сахарного песку.
— А это, — продолжает в том же духе Старец, — среди зимы вам земляничка!
И «земляничка» таким же образом перешла из рук в руки о. Н[ектари]ю.
— А это, уж извините, один только ломтик апельсина.
И тут оба старца засмеялись таким ангельски-детским смехом, что глупые мои глаза даже слеза прошибла.
Принял о. Н[ектари]й богатые эти дары, положил их бережно на спальный столик и сказал:
— А лапоточек-то ваш, мой батюшка, вишь ведь что привел мне на память! Великий царь Петр до всего, как вам известно, старался доходить своим умом и личным опытом: он и плотничал, и столярничал, и на кузне работал; добрался, наконец, и до лаптей — задумал сам попробовать лапти сплесть. Вот он и стал их ковырять, плел, плел, а там взял их да и отбросил к сторонке, примолвив с неудовольствием: «Зело, — говорит, — дело многодельное и малоприбыльное». — Так вот, мой батюшка, захотелось царю лапти плести, а как не царское то дело, то пришлось и бросить.
И оба старца опять засмеялись до слез, без слов рассмеялись, и только старец-даритель сквозь смех успевал нет-нет да и вставить словечко:
— Ну и о. Н[ектари]й! Ну и затейник! И откуда только он все это знает?
А у меня слезы — кап, кап! Надо знать, как я, глубину смиренномудрия и духовного разума обоих святых старцев, чтобы по достоинству оценить успех и для них, и для меня этих невинных шуток, этого наивного смеха — всей этой евангельской чистоты сердца, этой детскости духа во плоти ангелов, выну зрящих лице Отца Небеснаго… Вот она, старая великая Россия!
Не поймет и не заметит Чудный взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит В красоте твоей смиренной…
19 марта
Мало «разумеющих». — Подробности видения о. Н[ектари]я.
Вчера исполнился год со дня кончины схиигумена Марка[237]. Когда перед самой кончиной его мне довелось иметь с ним беседу о событиях и знамениях времени, великий Старец сказал мне:
— Как мало, кто истинное их значение разумеет!
За истекший год еще более, думается, поредели ряды «разумеющих» и не только в мире, но даже в святых обителях.
О. Н[ектарий] все еще в больнице. Сегодня я опять заходил навестить его. Спросил о его сновидении.
— Оно было мне почти во всю ночь, — сказал батюшка и поведал мне в общих чертах его содержание. — Во всех подробностях, — прибавил он, — слишком долго рассказывать. Вот главное: вижу я огромное поле, и на поле этом происходит страшная битва между бесчисленным полчищем богоотступников и небольшой ратью христиан. Все богоотступники превосходно вооружены и ведут борьбу по всем правилам военной науки, христиане же безоружны. Я, по крайней мере, никакого оружия при них не вижу. И уже предвидится, к ужасу моему, исход этой неравной борьбы: наступает момент конечного торжества богоотступнических полчищ, так как христиан почти уже и не осталось. По-праздничному разодетые толпы богоотступников с женами и детьми ликуют и уже празднуют свою победу… Вдруг ничтожная по численности толпа христиан, между которыми я вижу и женщин и детей, производят внезапное нападение на своих и Божьих противников, и в один миг все огромное поле покрывается трупами внехристовой рати, и все неисчислимое скопище ее оказывается перебитым, и притом, к крайнему моему удивлению, без помощи какого бы то ни было оружия. И спросил я близстоящего от меня христианского воина:
— Как могли вы одолеть это несметное полчище?
— Бог помог! — таков был ответ.
— Да чем же? — спрашиваю. — Ведь у вас и оружия то не было.
— А чем попало! — ответил мне воин.
На этом окончилось мое сновидение.
Эту странную и чудную повесть услышал я сегодня из уст нелживых и облагодатствованных иерея Божия о. Н[ектария], иеромонаха святой Оптиной Пустыни. Сон этот привиделся о. Н[ектари]ю в ночи с 16-го на 17 марта сего 1910 года.
Как разуметь сон этот? Знаменует ли он победу Православной России над богоотступническим миром и продление Божьего благоволения грешной земле, или же он является провозвестником конечного торжества малого стада Христова над последним великим отступлением, когда уже явится беззаконный антихрист, егоже Господь Иисус убиет духом уст Своих и упразднит явлением пришествия Своего?.. Поживем — увидим, если… доживем. Но сон этот неспроста и утешителен как в том, так и в другом смысле.
25 марта
Благовещение
«Врагу» неймется. — Резолюция преосвященного Григория.
По народному поверию сегодня даже и птица гнезда не вьет, так велик сегодняшний праздник. Но врагу рода человеческого неймется и в этот день. Приходил кое-кто из друзей Оптинских и с горечью рассказывал о доносе, написанном на нашего авву-архимандрита кем-то из лже братии. Один из присутствовавших, старожил Оптинской, напомнил о подобном же случае, бывшем с восстановителем Тихоновой пустыни, игуменом Моисеем, выходцем и воспитанником оптинским. На него тоже враг-диавол воздвиг было гонение чрез некоторых братий, послушных его внушениям: тоже был написан донос и представлен епископу. Епископом тогда был великий монахолюбец и защитник доброго иночества, владыка Григорий. Вызвал к себе владыка доносчиков.
— Вы, — спрашивает, — это писали?
— Мы.
— А кто вас принимал в обитель?
— Игумен Моисей.
— А не вы его?
— Нет.
— Ну, так вот вам моя резолюция!
Взял и разорвал донос на мелкие клочки.
— Вам же, — продолжал он, — сказываю, что, если кто из вас вздумает еще пикнуть, того я обращу в первобытное состояние и упеку в такие края, куда и Макар телят не гонял. Поняли?
— Поняли.
— А теперь возвращайтесь в монастырь и в соборе при всей братии кланяйтесь в ноги игумену и просите прощения.
Игумена Моисея вслед за доносом владыка возвел в сан архимандрита. Тем дело и кончилось.
Увы! не те теперь времена, не те люди…
[187] См. 31 декабря [1909 года], в моей книге «На берегу Божьей реки» [Часть I].
[188] Из скитских рукописей. [Записано М. В. Чихачевым со слов Софии Ивановны Снессоревой. — Сост.]
[189] Александра Васильевна Жандр.
[190] См. книгу мою «Великое в малом», ч. 1, стр. 174-212, 3-е издание (Сергиев Посад, типография Св.-Тр. Сергиевой Лавры).
[191] Псевдоним «Басаргин».
[192] Мне лично представляется, что не только «чувствовал», но многое и «знал» как посвященный в тайны масоно-еврейского заговора раньше и глубже других «посвященных» современников. — Прим. сост.
[193] Курсив мой.
[194] «Критические заметки». «Моск. Вед.» № 18 — критический разбор романа Торна «Когда наступил мрак».
[195] Болотов. О нем в книге моей «Великое в малом», ч. 1, «Искатель града невидимого».
[196] Это в ответ на мой дружеский выговор за поздравление к празднику Р. X. открыткой.
[197] Из статьи «Русского Знамени». Не над «христианством», конечно, а над христианскими отступниками.
[198] Скитский богаделка; ноги у него отморожены и отрезаны немного ниже колен. Известен издавна всем постоянным оптинским богомольцам.
[199] О ней в книге моей «На берегу Божьей реки» (1909 год моих записок), 303-306 стр. Увы! кажется, эта Груша подпала под дурное влияние и стала теперь изображать из себя что-то вроде блаженной.
[200] О нем в книге моей «На берегу Божьей реки», стр. 311-312.
[201] Наш духовник и Старец, начальник Скита Оптиной Пустыни.
[202] Филя из Демьянского уезда Новгородской губернии — там так говорят.
[203] См. о ней книгу мою «На берегу Божьей реки», 37 стр. Теперь она покойница, звали ее Софией Александровной. Помяни ее, читатель, в святых молитвах твоих.
[204] У нас оказался общий духовник и старец.
[205] Церковь обители и при ней кладбище приписаны были к соседнему заводу.
[206] Тебе хочется знать, читатель мой дорогой, где находится эта обитель? Я ее назову тебе и скажу, где она, ибо и поныне бедность ее все та же, что была и раньше, и так же, как и прежде, она нуждается в чудесах Божиих, в тех чудесах, что Господь являет рабам Своим через добрых и благочестивых людей, еще больше, пожалуй, нуждается, потому что нет с ней прежней ее матушки. Зовется святая обитель эта «Отрада и Утешение», зовется так по главной ее святыне, иконе Божией Матери того же явления. Адрес ее почтовый и телеграфный: Дугненский завод, Калужской губернии. Ехать туда можно тремя путями: круглый год — на станцию Ферзиково, Сызрано-Вяземской ж. д.; от станции 12 верст на лошадях. Летом, до схода вод, по Оке пароходом: или от станции Ока Московско — Курской ж. д., или от Калуги — до пристани Дугненский завод. Что там за местность! Красота! Какой там воздух! Что за красавица Ока с ее высокими обоими берегами, увенчанными зелеными рощами, соловьиными песнями, обвеянными благоуханием бесчисленных цветов поемных лугов реки-красавицы, и... что за простосердечные и благоговейные молятся там святые души!... Съезди — не раскаешься!
[207] См. мою книгу «Великое в малом», 1 ч., 178 стр.
[208] Записано со слов о. Николая послушником Павлом Ивановичем Плиханковым, впоследствии начальник Скита Оптиной Пустыни, схиархимандрит о. Варсонофий.
[209] В подлиннике — «желтый, похожий на цвет радуги».
[210] «Великое в малом», ч. 1, 333 стр., изд. 3-е (Серг. Посад, 1911).
[211] На полях рукописи отмечено карандашом: «Записано со слов монаха Моисея, рясофорного монаха Илии Бирюкова и послушника Виктора Панина».
[212] Св. Макарий Александрийский передает следующее ангельское откровение о состоянии душ умерших в первые сорок дней по разделении их от тел своих: душа в первые два дня пребывает на земле и в сопровождении Ангелов посещает те места, в которых творила правду. В третий день повелевается христианской душе вознестись на небеса для поклонения Богу. При восхождении своем на небо душа проходит путь воздушных мытарств, на которых она обличается бесами в содеянных ею грехах. Прохождение мытарств происходит на третий день. После поклонения Богу повелевается душе показать различные обители святых и красоты рая. Это продолжается шесть дней. На девятый день душа опять возносится на поклонение Богу. После этого ей показывается ад со всеми муками, что продолжается тридцать дней, И наконец, в 40-й день по разлучении с телом, душа в третий раз возносится на поклонение Богу и тогда происходит над нею частный суд Божий (окончательный на Страшном Суде по всеобщем Воскресении), и ей определяется соответствующее ее земным делам местопребывание.
[213] См. мою книгу: «Святыня под спудом».
[214] Пересматривая газету «Колокол» за февраль для какой-то справки, нашел статью под заглавием «Еще целитель» и в ней прочел следующее: «В Петербурге явился некто А. С. Смольянинов, заявляющий, что он приехал сюда с целью на глазах всех светил науки произвести грандиозный опыт моментального исцеления бесноватых, которые не могут даже слышать его имени и которые якобы к нему в Калужскую губернию приезжали за тысячу верст. Г[-н] Смольянинов объяснил, что 25 лет он был актером, а теперь по внушению свыше исцеляет одержимых. У него есть сын, не получивший образования, но тоже по внушению свыше пишет разные «богомудрые» сочинения».
[215] Разбойник Савицкий еще юношей был увлечен потоком смуты 1905 года, которая его захватила в школьном возрасте (он учился в реальном училище). Исключенный из училища, он набрал шайку головорезов и в течение двух-трех лет терроризировал Черниговскую губернию и смежные с нею уезды соседних губерний. Он был убит, помнится, в 1908 или 1909 году в перестрелке с посланными в погоню за ним стражниками.
[216] Под «тонким сном» подвижники благочестия, опытные в духовном делании, разумеют особое состояние человеческого сознания между сном и бодрствованием, то именно состояние, когда душа может зреть духовными своими очами вместе и земное, и потустороннее — в теле ли, или вне тела, Бог весть.
[217] В книге моей «Сила Божия и немощь человеческая» в «Записках игумена Феодосия» напечатано следующее: «Изучая Священную Историю и Катехизис, — пишет игумен Феодосий, — я узнал, что есть Ангелы, которые охраняют нас, и бесы, которые ищут нашей гибели. Не знаю как и почему, но мне пришла мысль испытать, правда ли это? И вот, сидя на крыльце нашей квартиры, когда родители мои отдыхали после обеда, задумал я эту мысль свою привести в исполнение: встал это я с крыльца, пошел на задний двор и дорогой вслух сказал: «Послушай, бес, если ты что-либо можешь сделать, то уверь меня в этом: принеси мне в амбар тонкую, хорошую веревку. Если ты это исполнишь, то я пойду в хлев, куда коров загоняют, и там удушусь на этой веревке... Вот-то удивятся товарищи мои, когда увидят меня повесившимся на перекладине!... Ну, слышишь, бес, что я тебе говорю? Исполни ж мое желание!» На всем дворе в это время никого не было. День был жаркий, ясный. Бродили тучки по небосклону. Сказавши эти слова, я пошел к амбару, который был плотно затворен. По дороге к амбару в голове у меня мелькнула другая мысль: удушиться, подумал я, неприятно, а лучше брошусь-ка я в колодезь на заднем дворе. Колодезь этот был очень глубокий, и вода в нем была чистая и прехолодная. Принадлежал он соседу протопопу, и из него брал воду всякий, кто бы того ни пожелал. Был он выкопан между двумя дворами, у одной из стен. И вот, подойдя к амбару, я, растворивши дверь, к удивлению своему, увидел целый моток новой, тонкой бечевы. Взял я его в руки и, миновав коровник, пошел к колодцу и нагнувшись стал в него смотреть. Глубоко-глубоко поблескивала в нем его холодная вода; а в мыслях моих точно кто-то говорил: вот когда я туда брошусь и, конечно, утону, тогда товарищи мои и многие другие будут удивляться, как это и почему я утонул в колодце. Я невольно улыбнулся в ответ на эти мысли и сказал: «Нет, бес, лучше уж я пойду удушусь. Вот тогда-то мои товарищи придут и будут удивляться, когда я буду висеть в петле!» С этими словами, развязав найденный моток новой бечевы, я сделал петлю и завязал конец. Оставалось только всунуть голову в петлю, и жизнь моя была бы прекращена. Я оробел... и вдруг громко и весело засмеялся, воскликнув: «Лезь же ты сам, проклятый, а я тебя поддерну!...». И в это мгновение из туч на небе блеснула ослепительная молния и раздался такой громовой удар, что я во всю свою жизнь подобного не слыхивал...
[218] Первоклассный мужской монастырь, основанный патриархом Никоном и расположенный на одном из островов чудного Валдайского озера.
[219] О, мать моя! ее я вижу и вижу вновь деревню тихую свою.
[220] Отдельный столик в ресторане, за которым можно пообедать в компании. Собственно, плата лишь только за место.
[221] Более тысячи рублей.
[222] Читатель, вероятно, знает, что вся биржа в руках евреев.
[223] Запомни это хорошенько, читатель!
[224] Языческий божок, к концу язычества в Римской империи символизировавший собою самого сатану.
[225] Все эти иностранные слова означают праздное, иногда и развратное времяпрепровождение богатых людей, забывших звание христиан.
[226] Монахиню звали мать Людмила. Она происходила из румынского рода князей Гика. Рассказывала это при мне в Валдае Новгородской губернии, в 1915 году (Примечание Е. Ю. К[онцевич] // На берегу Божьей реки. Ч. 2. С.-Франциско, 1969. С. 138).
[227] Супруга И. В. Киреевского.
[228] Имение Киреевского, в Белевском уезде, Тульской губернии.
[229] Филарет [Амфитеатров], митрополит Киевский. Бывши на Калужской кафедре, он принимал живейшее участие в судьбах Оптиной Пустыни, которая ему обязана введением в ней старчества и постройкой Скита.
[230] День ангела митрополита.
[231] Господь удостоил эту праведницу венцом страдальческой кончины в день Страстей Своих, она скончалась в Страстную пятницу, 8 апреля 1916 года. Вот что писал нам о блаженной ее кончине один общий наш с нею друг: «... Со вторника на среду (Страстной седмицы) Елена Андреевна нам объявила, что страдания ее продолжатся до пятницы и затем умрет. Спросили ее, кто это ей сказал. Она отвечает: «Бог! Бог мне сказал: “У тебя доброе сердце — потерпи до пятницы, и тогда конец страданиям”».
[232] Запрет этот наложен был на Е. А. Воронову, а не на меня, да к тому же теперь и Е. А., и старец о. Варсонофий — оба покойники, и таить благодатного этого сновидения теперь нет причины.
[233] 1910 год был первым годом издания «Троицкого Слова».
[234] О. И. здравствует и поныне.
[235] Известное наводнение среди зимы 1909/10 года.
[236] Комета Галлея.
[237] См. «На берегу Божией реки», 90-95 стр.
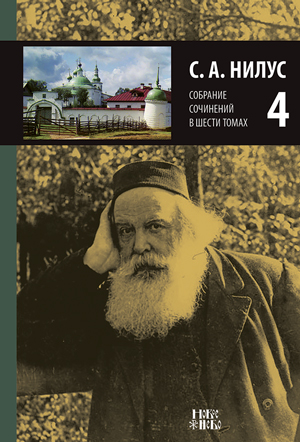
Комментировать