- Предисловие
- Перед смертью
- Юность
- Оправдание зла
- Абсурдность истины
- На собственных похоронах
- Христос воскрес
- Выходя из гроба
- В сумасшедшем доме размышляю о разуме
- Отношение к церкви
- Записки из красного дома
- Спор о России
- Два письма в редакцию журнала «Вече»
- Три открытых письма Н. А. Струве
- Отрывки из дневника
- Вера в чудо
- Письмо Наталье Сергеевне
- Трудиться на благо народа
- Путь жизни
- Иконный лик России (ответ Льву Андрееву)
- Разумная узость
- В секретариат президиума ВС СССР
- Как понимать нашу историю
- Как относиться к Советской власти
- Москва — Третий Рим
- В Президиум Верховного Совета РСФСР
- Идеальное государство
- Поездка к В.В. Шульгину
- Ответы на вопросы корреспондента журнала «Евреи в СССР»
- Письмо Патриарху Пимену
- Письмо Л. И. Брежневу
- Похвала священнику Александру Меню
- Лие Абрамсон
- Угнетение русских императорской России
- Дополнение к статье «угнетение русских»
- О капитализме
- Псевдодемократическое правосознание
- Пока не поздно
- Тема для размышлений
- О тайной природе капитализма
- Как делают кризисы
- После написанного
- Большие провокации (марксизм, гитлеризм и «Протоколы сионских мудрецов»)
- О семье и школе
- Открытое письмо в редакцию журнала «Молодая гвардия»
- Гнездо человечье
- Нужны семейные летописи
- Русские учителя, объединяйтесь!
- О социализме
- У нашей церкви нет своего социального учения
- Избыток собственности опьяняет ум человека
- Никакая свобода мысли не угрожала существованию СССР
- Две полуправды питают и поддерживают друг друга
- О полусоциалистической византии
- В наших храмах нет молитвы о русском народе
- Заслуга Н.В. Сомина
- Нельзя победить Кащеево царство, не имея здравой ему альтернативы
- О хозяйственном национализме
- Почему социализм невозможен без частной собственности
- Письмо Н.В. Сомину
- Ответ В.С. Макарцеву
- На развалинах былого
- О советском социализме
- О частной собственности при социализме (отклик на статью Н.В. Сомина)
- Старые и новые темы
- О чём помалкивают язычники
- Открытое письмо прокурору
- Отклик на диссертацию А.Ю. Кожевникова
- Разные мысли
- Да возродится русская община (отрывок из статьи)
- О русских собраниях
- «Лимит времени»
- Каким должен быть «Союз русского народа» (мечта)
- Нужна двусторонняя сосредоточенность человека
- Почему наша вера самая правильная
- Два условия действительного возрождения христианства в России
- Кто русский?
- Наш идеал
- Коренной порок русского национального движения
- Здоровая семья как условие национальной безопасности России
- Апология национальной общины
- Апология русских собраний
- О правильном и неправильном национализме
- Отцы и дети
- Примечания
О семье и школе
Открытое письмо в редакцию журнала «Молодая гвардия»
Уважаемая редакция, в последнем выпуске МГ (№ 9 за 1991 г.) меня порадовали слова писателя Андрея Платонова о семье как первоисточнике патриотизма. Добавлю к ним очевидное: семья начинается с брака. Следовательно, игнорируя эту тему, наша патриотическая печать игнорирует нечто фундаментальное, от чего зависят не только глубина и основательность осмысления русскими людьми семейной темы, но и всего остального, что естественно вырастает из брачно-семейных начал или естественно с ними связано.
Справедливости ради скажу, что о разрухе современной брачно-семейной жизни у нас писали за последние двадцать лет несколько раз. Но при этом старались не столько выяснить причины распада, сколько его иллюстрировать. И, разумеется, очень старательно обходили самую суть дела, т.е. довольно скользкую по нынешним временам тему, обозначить которую лучше всего известными церковными словами: «ЖЕНА ДА УБОИТСЯ МУЖА СВОЕГО» (Еф. 5, 33).
Если признать правильность современных представлений о свободе и достоинстве человека, то придётся сказать, что ап. Павел был лютейшим врагом свободы и, стало быть, махровейшим экстремистом. Вы только послушайте: «ЖЁНЫ, ПОВИНУЙТЕСЬ СВОИМ МУЖЬЯМ, ЯКО ГОСПОДУ» (Еф. 5, 22). У меня даже дыхание перехватывает. Это надо же. Не как своему начальнику на работе. И даже не как властям предержащим. И даже не как своему духовнику. А — как самому Богу.
Должен сказать, что я сам экстремист до мозга костей, потому что люблю справедливость и порядок. Но по сравнению с апостолом Павлом, этим духовным львом, я себя чувствую каким-то маленьким котёнком. Вот как он завершает своё поучение, словно заколачивая гвоздь по самую шляпку: «ЖЁНЫ ВАШИ В ЦЕРКВАХ ДА МОЛЧАТ; ИБО НЕ ПОЗВОЛЕНО ИМ ГОВОРИТЬ, А БЫТЬ В ПОДЧИНЕНИИ, КАК И ЗАКОН ГОВОРИТ. ЕСЛИ ЖЕ ОНИ ХОТЯТ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ, ПУСТЬ СПРАШИВАЮТ О ТОМ ДОМА У МУЖЕЙ СВОИХ» (1 Коринфянам 14, 34–35).
Вот, оказывается, на каком каменном фундаменте и как крепко, из каких могучих брёвен, строились раньше дома. И в них жили, похоже, люди, а не какие-то говорящие слизняки. И любили своих жён, а те их, не меньше, чем это бывает теперь. А то и поболе. А если любили, то, значит, и уважали.
Но я не хочу никому навязывать свои мысли. Только отмечу, что за последние десятилетия наши женщины стали всё чаще и всё решительнее выражать своё возмущение той кабалой, которой обернулась для них поначалу как будто сладкая свобода. И выражать это возмущение иногда даже в стихах:
Задыхаюсь от воли, от воли!
Душно даже на сквозняке.
Задыхаюсь от адской боли
Чувства лёгкости в правой руке.
Сотни принцев — тростинок певучих
(Нынче принцев — хоть пруд пруди!).
Упражняются в сладкозвучьях,
Усмиряют тоску в груди.
Яснооки и белоруки,
Сыплют нежности жемчуга…
О, нашествие принцев! О, мука
Ждать, смешно сказать, мужика
Домостроевского, земного.
Чтобы снял с меня воли хомут!..
Я к другому! — и вслед ни слова,
Даже за руку не возьмут.
Сто послушностей, сто Любовей,
Сотни замков на облаках…
О, тиранство тщедушной крови:
Ни перста, ни хлыста, ни замка!..
Лишь, как благо, сойдут пред рассветом,
Прямо на сердце, в лучшем из снов:
Сто амбарных замков,
Сто клеток,
Сто запретов,
Одна любовь.
(Валентина Якуничева,
«Наш современник» № 3 за 1990 г.).
Мне кажется, есть в этих стихах, помимо всего остального, нечто похожее на тоску детдомовских ребят по отсутствующим родителям. По своему дому. И я вспоминаю, что когда-то читал о демонстрации американских женщин, вышедших против феминисток на улицы с вызывающими плакатами: «МУЖЧИНЫ — НАШИ ГОСПОДА!». А мужчины над ними только посмеивались, потому что быть господином — слишком большая ответственность.
Но, как говорится, вернёмся к нашим баранам. Меня удивляет не равнодушие нашего замороченного общества к этой теме, но — равнодушие даже лучших русских мыслителей. Почему они так позорно молчат? Неужели не понимают важности этой темы? Не видят той отвратительной жижи, в которой тонут едва ли не все расстроенные в самих основах русские семьи? Неужели не понимают, размышляя о своем государстве, взаимосвязи устройства семьи с устройством общества?.. А если не понимают, то какие же они мыслители?
Поэтому и пишу это письмо в редакцию лучшего на сегодняшний день большого журнала. Прошу: не забывайте о ПЕРВООСНОВАХ здорового общества — о браке и семье, общине и нации, о национальной земле, о национальной педагогике, о национальном государстве, о национальном хозяйстве. Все эти темы стали для русского сознания за последние триста лет почти целинными. И на страницах патриотической печати ни одна из них не обсуждалась. А нужны не просто обсуждения ради обсуждений. Нужна выработка национальной идеологии, т.е. чётких определений по этим вопросам. Нужна ТВЁРДАЯ ПОЧВА, на которой только и можно строить здоровую национальную жизнь.
Русские патриотические журналы существуют на русские деньги, но они существуют не ради русских писателей, а ради русского народа. Поэтому игнорировать (чуть было не вырвалось: блокировать) эти темы они не имеют права. Если наши заслуженные писатели и учёные не умеют писать на эти темы, то пусть хотя бы не уподобляются собакам на сене и не мешают высказываться по этим вопросам самым простым русским людям. А желающих высказаться, уверен, найдётся достаточно. Надо с чего-то начинать разговор о фундаментальных ценностях русского народа и его проблемах, а затем по-хозяйски разворачивать этот разговор всё шире.
Со свойственной мне скромностью я предлагаю редакции МГ из десятка своих статей на указанные выше темы лишь одну в качестве возможной затравки для дискуссии подобного рода. Но если редакция располагает более ценными материалами для того, чтобы начать такой разговор, то, как говорится, слава Богу. Надо только по-настоящему зацепить сердца и умы русских людей, чтобы они почувствовали, что предлагаемые им размышления имеют не только теоретический характер, что они связаны с личными их проблемами и проблемами их детей.
Если не заработает в самых простых русских людях (инженерах, учителях, дворниках) САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РУССКАЯ МЫСЛЬ, то не будет РУССКОЙ ПОВСЕМЕСТНОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ. А без этой последней грош цена всем русским органам печати, всем русским партиям и т.д.
А что получается сейчас? Как говорил Ленин (или Щедрин, не помню), писатель пописывает, а читатель почитывает. Похожую мысль высказал Розанов, сравнивший читателя с ослом, разинувшим рот в ожидании, что писатель положит в него что-то вкусное. НЕ РАБОТАЮТ ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ, НЕТ ПОЛНОЦЕННОГО ОБМЕНА ИДЕЙ. И это тоже тема для большого разговора.
Фактическая монополия на мысль и публично звучащее слово привела к тому, что советская система сгнила на корню, хотя могла бы, в ином случае, дрейфовать к здравому смыслу и только выигрывать от этого дрейфа. Но та же самая перспектива загнивания, уверен, имеется у нашего патриотического движения. При нынешнем безмыслии по столь фундаментальным вопросам, речь о которых шла выше, мы будем постоянно строить на песке даже не свой национальный дом, а вообще непонятно что. А затем, при очередной катастрофе, винить снова одних евреев и их ставленников. Хотя куда полезнее и даже красивее было бы — не забывая о роли еврейства, — искать источники своего бессилия в первую очередь в самих себе, в своем неумении национально мыслить и национально строить. Искать свои собственные слабости ради того, чтобы от них избавиться.
Я буду признателен редакции МГ, если она не утаит это письмо от своих читателей.
24 сентября 1991 г.
Позднейшее примечание
Это письмо не было напечатано в журнале, и ответа на него я не получил. Журнал «Наш современник» отказался в начале 90-х годов печатать мою статью на брачно-семейную тему под тем предлогом, что «наши женщины против публикации вашей статьи».
Сам я открыл для себя брачно-семейно-общинную тему после того, как пришёл к вере в Бога и стал православным. Открыл её почти одновременно с другими темами: Как относиться к безбожному Советскому государству? Почему оно возникло в России? Как относиться к Западу?
В 1976 г. я выпустил самиздатский сборник под названием «ТРАКТАТ О ЛЮБВИ» объёмом в 126 страниц. Он состоял из статей на следующие темы: «О равенстве и неравенстве в браке», «О доверии и ответственности в браке», «Вступление в брак», «Ответственность государства перед семьёю», «Обручение», «Азы русского воспитания» и «Единственная правда» (об истинной любви). В Предисловии к сборнику я писал, что над ним следовало бы поработать ещё с десяток лет, чтобы представить его читателям в достойном виде, но нужда в созидающих брак и семью идеях сегодня так велика, что я решил представить его таким, каким он вышел из-под моего пера на сей день.
Ещё до выхода в свет этого сборника статьи, составившие его, ходили в самиздате, и одна из них, «О равенстве и неравенстве в браке», была напечатана в самиздатском журнале В.Н. Осипова «Земля» (то ли в первом номере, ещё до его ареста, то ли во втором, выпущенном после его ареста его заместителем В.С. Родионовым, уже не помню).
Единственный известный мне печатный отклик на «Трактат о любви» появился в подпольном машинописном журнале «СУММА», выходившем в Ленинграде в 1979–1982 гг. Все авторы журнала укрывались под псевдонимами. Редактировал журнал математик С.Ю. Маслов. Заметка о моём сборнике принадлежала, как я понял (все восемь номеров журнала с комментариями были изданы в СПб в 2002 г. издательством журнала «Звезда»), Револьту Ивановичу Пименову. Он писал, что, по его мнению, Шиманов вовсе не христианин, а скорее ницшеанец. Его речи больше напоминают речи Заратустры, нежели Нагорную проповедь. «Штирнер, писал Пименов, — тоже устремлялся обожить человека (себя), а православию чужда идеология «мировой истории». С представлениями референта плохо согласуется поистине революционный пафос автора, отказывающегося принимать современный (XIX–XX века) мир как творение Божие и рвущегося переделать мир заново по готовому плану, не считаясь с издержками…» (стр. 462 переиздания).
Почти на целой странице референт пересказывает, в собственном изложении, чудовищные мысли Шиманова: «ввести жесточайшую цензуру и не дозволять картин Пикассо и трудов Фрейда; не допускать к высшему образованию, к диплому врача «нравственно недостойных»… ввести что-то вроде законов Ману: за случайное прикосновение к чужой женщине смерть… Социальное устройство должно быть таково, чтобы было исключено общение разнополых неродственных лиц с самого детства, включая, конечно, учёбу, работу и отдых… Детям нельзя дозволять ловить стрекоз, а взрослым — путешествовать (не только за границу, а по своей стране!). Сиди в своей общине и люби её. Города — истребить, жить на земле, пребывая в духе соборности»… И т.д. в том же духе.
«Референту, — пишет он, — стыдно пересказывать эти благоглупости, но поскольку некоторым кажется, что Шиманов пророк и глубокий мыслитель, — приходится. Все фундаментальные мысли утопии Шиманова можно найти уже в «Соках земли» Кнута Гамсуна».
Июль 2010 г.
Гнездо человечье
Казалось бы, какая это простая вещь — брак. Тут каждому всё понятно. А на самом деле ясности нет никакой. Что же это за ясность, которая порождает такую эпидемию разводов? Это какая-то импотентная ясность. Ясность спокойного безмыслия, которого не могут одолеть ни отдельные наблюдения, ни случайные мысли, неизвестно откуда залетевшие в голову.
Между тем брачная тема заслуживает внимания не меньшего, чем хозяйственные и политические вопросы. Как можно созидать общество, игнорируя его первооснову? Или имея о ней превратное представление?.. Напрашивается сравнение такого общества с домом без фундамента.
Мужа — на свалку!
Как-то попал мне в руки антирелигиозный журнал начала тридцатых годов. Это был мартовский номер, посвященный празднику 8 марта. На титуле молодая женщина богатырского сложения разрывает цепи, в которые её заковали. И от мощного рывка её рук разлетаются в разные стороны, чуть ли не вверх ногами, изображенные маленькими и со злыми лицами царь, помещик, капиталист, поп и… Я не поверил своим глазам. Как!.. и он тоже оказался в этой шайке?.. Да, муж тоже отлетал в сторону, маленький и со злым лицом. Я протёр свои глаза и снова посмотрел на рисунок. Если бы какой-нибудь шутник нарисовал мартовских кошек с задранными хвостами, то я удивился бы куда меньше.
Но, несмотря на всю выразительность рисунка, чего-то в нём не хватало. И я это почувствовал. Но чего? Какой-то последней черточки. И тут меня осенило. Да как же… Конечно!.. художник не успел нарисовать (или ему не позволили) маленьких злых детей, которые тоже отлетают — в ясли! на пятидневку! в детский дом! А то и в мусорные контейнеры. Но эту последнюю черточку дорисовывает уже сама жизнь. Самый, похоже, честный и зоркий художник.
Золотой сон Клары
В те же почти времена (или чуть ранее) выдающаяся представительница марксистской мысли Клара Цеткин писала о том, что женщинам нельзя доверять воспитание детей. Женщины, учила она, это самая реакционная часть человечества, потому что они, в своей массе, невежественны и набиты отвратительными предрассудками. Как и знаменитая Вера Павловна из романа Чернышевского, она мечтала о тех золотых временах, когда человечество дорастёт, наконец, до её собственного понимания жизни.
Чтобы приблизить это светлое будущее, писала она, государство должно отнимать у неразвитых матерей их детей после того, как те выкормят их грудью. И воспитывать в специальных заведениях под руководством правильных воспитателей. Но… то ли денег не хватило у государства на создание интернатов по всей стране, то ли правильных воспитателей. То ли другие мечты выдающихся мыслителей заслонили эту мечту. А в результате получилось нечто среднее между золотым сном Клары и самым обыкновенным здравым смыслом. И как теперь быть — о том не знает никто. Ни наши лучшие педагоги, ни социологи, ни даже, похоже, крупнейшие богословы.
С оглядкой на прошлое
Думая о будущем, полезно оглянуться на прошлое. А нет ли там чего поучительного для нас? Хотя бы отчасти.
Вот, например, в древней Индии, согласно законам Ману, одного прикосновения к телу посторонней женщины, одной встречи в уединённом месте было достаточно для обвинения в прелюбодеянии; которое каралось, кстати, не общественным порицанием, но смертной казнью.
Экие были варвары. То ли дело мы. В наше время над такой крайностью, как у этих индийцев, можно только смеяться.
Но, даже посмеиваясь, приходится признать, что в нашем мире нет святынь и даже законов в защиту брака. А в древней Индии они были. Нам теперь даже трудно понять, что брак нуждается в защите со стороны общества и государства. И что законы Ману, при всех их крайностях, были в интересах как добрых жён, так и добрых мужей. И, разумеется, в интересах их детей. А в чьих интересах нынешние Содом и Гоморра?
Цветение без плодоношения
В современном браке, за редкими исключениями, состоят уже не муж и жена, но любовник с любовницей на первом этапе и сожитель с сожительницей на втором. Ни женихов, ни невест больше фактически нет, потому что эти звания предполагают целомудрие и насыщены вечностью.
Другое дело любовники, свободные и беспечные, которым нет дела ни до чего, кроме влечения друг к другу. Как хорошо цвести и цвести, не думая ни о чём, кроме продления своего цветения. Да и о чём думать, если вечность уже настала в этом мелькании дней? Любовники проникли в Рай с чёрного хода и уверены, что останутся в нём навсегда. Но… потом выясняется, что это не настоящий Рай, что это лишь его призрак. Время разрушает иллюзию, и любовники оборачиваются постепенно друг к другу своими будничными сторонами, которые так мало их радуют. Они превращаются в сожителей, старательно скрывающих друг от друга свою зевоту. Цветение ослабевает и прекращается, но не исчезает стремление к нему. Любовников связывает уже многое, но, за исключением дорогих воспоминаний и общих детей, почти всё внешнее. Общее жильё, общее имущество, общие будничные заботы. А то самое, что их свело, теперь начинает их разделять. Их разделяет психология любовников, уже не способных цвести друг для друга. Внутренне безбрачные эгоисты, они начинают, сознательно или бессознательно, высовываться из отцветшего брака в поисках нового цветения. И вызывают тем самым ревнивые содрогания у другой стороны. Боль, отвращение и ненависть проникают в остывающую любовь, загаживают её и отравляют.
Этот настрой на постоянное цветение без плодоношения есть характерная черта нашего времени. Плоды всё-таки появляются, но чаще как-то помимо воли. Всё меньше их в браке и всё они худосочнее. «Мы родились не от матерей, а от проституток», — сказал мне как-то один мой знакомый ещё в пятидесятых годах. Но, разумеется, он преувеличил и забыл о тех, кого проститутки обслуживают.
О детях начинают думать лишь после зачатия, а то и после рождения. Да и то думают кое-как. Достоинство происхождения им не готовят. О том, что духовное состояние родителей аукнется в их потомстве, не думают. Думают не столько о духовном здравии ребёнка, сколько о его физическом благополучии. Как будто последнее только и важно. И вырастают дети такими же пустоцветами, как и родители. А потому легко становятся жертвами расчеловеченного общества.
Э, ничего!.. Смотрите, детки, телевизор и набирайтесь ума в подворотнях. Мы ведь и сами такие. Сами себя воспитывали.
Умереть друг за друга
Любовь не совершается через равенство. Равенство мужа и жены некрасиво. Любовь требует неравенства, т.е. мужской власти, с одной стороны, и женского содействия ей, с другой.
Но любовь не совершается и через неравенство. Горько и гнило такое неравенство, когда обесценивается ведомое лицо. Как тяжело и нелепо содействовать тому, кто не готов за тебя умереть.
В готовности умереть друг за друга — главное проявление любви. Это та «малость», на которой держится весь мир. А сочетание этого внутреннего равенства с внешним неравенством — условие сохранения единства супругов. Не будет внешнего неравенства — уйдёт из брака любовь, как уходит вода из дырявого ведра.
Хорошо властвовать и подчиняться тогда, когда каждое из двух лиц сознаёт своё дву единство и воспринимает другое лицо как лучшую свою часть. А если нет любви, то что за радость даже во власти? Не говоря ужо подчинении.
Только при высокой любви (а другой не бывает) неравенство внешнее оказывается не позором, но славой и мудростью, и красотою. Сочетание равенства внутреннего с неравенством внешним — вот формула брачной любви. Формула, учитывающая как телесную, так и духовную специфику супругов.
Приятно быть чуточку пониже
Какая нормальная женщина хочет быть выше своего мужа? или даже вровень с ним?.. Нет, всякой приятно быть чуточку пониже. И не только росточком, но и по своей воле, и по физической, конечно, силе. И даже по уму. Но не по красоте. Тут уж никакая баба своего не отдаст. И правильно сделает, умница. Она чувствует, что так в самый раз. Тут норма, написанная в крови.
В смешанных компаниях женщины, как правило, больше внимают, нежели утверждают и доказывают. Но даже тогда, когда они что-то доказывают, их слова, при всей их нередко меткости и выразительности, оказываются чем-то вроде поездки по наезженной колее. Это как бы распевание собственным голосом и на собственную мелодию мужского, в конечном итоге, текста. А почему?.. Не потому ли, что женское отношение к слову и действию по преимуществу воспринимающее и пособляющее? И лишь при недостатке или отсутствии добротного мужского начала женщина принуждается изводить его из себя. Как черенок, чтобы не умереть, вынужден изводить из себя корни.
Жена да подчинится мужу своему
Подчинение мужу диктуется не столько физической слабостью жены, сколько интуитивным пониманием ею того, что её природа в целом более хаотична, менее организованна, более пластична и внушаема, нежели мужская. Как правило, она пассивнее мужской, а если бурна, то бурна безоглядно. Поэтому нуждается в опоре на мужской разум и мужскую твёрдость.
Это сознательное подчинение мужу не означает отмирания или бездействия высших духовных и душевных сил жены. Наоборот, именно в таком зависимом состоянии они раскрываются наиболее полно. Так детский умок в единстве с умом родительским, т.е. в зависимом от него состоянии, не увядает, но развивается полнее, чем предоставленный самому себе. Предоставленный самому себе, он дичает. И чем раньше оказывается на «свободе», тем катастрофичнее последствия.
Это сравнение уместно потому, что женщина ближе по своей организации к детям: она их вынашивает, кормит грудью, лучше их понимает, потому что живёт, как и они, больше чувствами, нежели разумом. Но эта близость её организации к детской, конечно, не так велика. Жена уступает мужу в росте в среднем на полголовы — примерно на столько же, вероятно, ближе и по своей организации к детской.
Малое не меньше большого
Хорошо Земле быть под Небом, а Небу над Землёю. А если в этом положении что-либо изменится, то как не быть катастрофе?
Вопреки циническому взгляду на роли супругов в христианском браке, нижнее здесь не унижается, а верхнее не надмевается. Общее и нераздельное тут достоинство супругов. Малое — не меньше большого, как и в отношениях между родителями и детьми. А большое — не больше малого. Вот ведь какое чудо совершается в этой брачной любви. Чтобы сделать его возможным, Бог не велел жене быть равной мужу по своему внешнему положению, но только по внутреннему положению.
Что такое это неравенство внешнее? Что такое подчинение жены мужу? Это начало и основа таинства любви, таинства взаимодоверия и взаимопонимания. Здесь происходит недоступное для духовно бесполых супругов ненасытное насыщение друг друга самыми лучшими частями своей души. Здесь несмолкаемый сладкий разговор, потому что любовь, которая от Бога, не умолкает.
А при отсутствии доверия сами собою смыкаются уста и оборачиваются супруги друг к другу не своими лучшими способностями, а худшими.
Подмена брачных отношений рыночными
Чтобы разрушить брак, следовало подменить идею брачной любви юридической идеей равноправия супругов, которая подразумевает их нравственное разделение и противоборство. А если подразумевает, то и провоцирует. В результате этой подмены супруги утрачивают свои духовные половые черты и оказываются способными не столько на внутреннее единство, сколько на физическую близость. Они стараются компенсировать ущербность своего союза богатством по части сексуальных поз и иных ухищрений, не понимая того, что подлинная любовь безыскусна. Она проста, но зато готова идти на всякие жертвы и тем обнаруживает себя.
Под видом брака у таких одураченных супругов (будем их так всё-таки называть) совершается лишь юридически закреплённое сожительство, не обязывающее их ни к чему определённому. Пусть они сами согласовывают свои интересы. И поначалу они более или менее успешно их согласовывают. А если бывают несогласия, то, как говорится, «милые бранятся — только тешатся». Однако впоследствии обнаруживается, что эти потехи не такие уж безобидные. В ход пускаются всё более твёрденькие копытца и всё более остренькие коготки. И так с перерывами по нарастающей до тех пор, пока не обнаруживается воочию, что нет, оказывается, у супругов не только роднящих их высших интересов, но даже общих весов, на которых можно было бы взвесить меру их уступок друг другу. Взвесить и хоть как-то согласовать общие интересы. У каждого свои собственные весы, причём иногда такие причудливые, что даже не знаешь, что сказать. Что на одних весах весит тонну, то на других килограмм или вообще ничего. Волком завоешь. А в результате растут, как снежный ком, с обеих сторон обиды и недоумения. Идут споры о том, чьи весы правильны, а чьи нет. А затем, за бесполезностью словопрений, начинается просто борьба без правил или, точнее, с такими правилами, которые каждый борец устанавливает для себя. Удары бьют рикошетом по детям, уродуя их души. Но на это обстоятельство уже нет сил обращать внимание. Главное — победить.
Власть в семье
Родительскую власть над детьми заменить нечем. Родители по самой природе своей любят своих детей, и этого правила не могут опровергнуть никакие из него исключения. Поэтому никакая власть над ребёнком не может быть для него так хороша, как родительская. Это самая необидная и самая полезная для него власть. Общество обязано лишь не допускать её перерождения во власть уродливую, порождаемую нравственными уродами. Каково состояние общества — таково и качество контроля общества над родительской властью.
Но то же самое можно сказать о контроле общества над мужской властью в браке. Заменить её тоже нечем, кроме брачной разрухи ей нет альтернативы.
В безвластном муже сникает чувство ответственности за лад в семье и порядок в обществе. Слабеют его разум и воля, слабеет характер. Слабеет его детородная сила. А чувство дискомфорта, осознанное или нет, которое неизбежно появляется при этом извращении его мужской природы, заглушается, как правило, алкогольным опьянением, привыкание к которому требует всё больших доз. Такой муж не может вызывать уважения у жены, а её неуважение усиливает его внутренний дискомфорт. Этот порочный круг подобен омуту, в котором тонут бесславно и муж, и жена. А дети? И дети, конечно.
Когда жене неудобно в браке
Подчинённое положение жены неудобно для неё в двух случаях. Во-первых, если она вертихвостка, т.е. внутренне безбрачная эгоистка. В этом случае держать её крепко в руках значит спасать не только её саму от неприятностей для неё же, но и честь её мужа. А также честь детей, что тоже немаловажно. Кроме того, это значит спасать добрых жён от её разорительных набегов на чужие владения. В свободе такой вертихвостки начало разрухи всего общества.
Но есть, как мне кажется, в её поведении (или может быть) какая-то частичная кромешная правда. Об этом не принято думать. О том, что какая-то часть вины за непотребство жены лежит на её муже, если он попуститель. Когда дело доходит до разборок, то, оправдываясь, она переходит, случается, в наступление: а ты куда смотрел? Почему не удержал меня? Муж ты или не муж?
Мужской либерализм свидетельствует о том, что муж либо равнодушен к жене, либо дурак и тряпка. В любом случае его попустительство оскорбительно для жены и провоцирует её бунт, сознательный или бессознательный. Да когда же ты дашь мне, наконец, по морде? Муж ты или не муж?
Мораль проста: жену люби, но воли ей не давай. В этом и заключается настоящий брак. Пусть её воля будет в кольце твоей воли. Добрая жена тебя поймёт и одобрит, а недобрая не должна выходить замуж. Ей в браке делать нечего. А женился на злой — пеняй на себя.
Если бы русские юноши искали добрых невест, то и невесты стали бы соображать. И всё стало бы приходить в порядок. Все стали бы искать добра и учиться ему. Тогда и зло упало бы в цене и стало бы презираться.
Но, говоря об этом, я уже влез в следующую тему. Вот второй случай, когда зависимое положение жены для неё неудобно. В первом случае это была вертихвостка, а здесь, наоборот, умная и добрая жена, которой достался недобрый муж. Как можно подчиняться ему, если он пустозвон, трус и т.д.? А то и садист. Это тот случай, когда нравственное начало уже не действует в браке. Как такого ни ублажай, он только наглеет от женской доброты. Тут поневоле проклянёшь все домостроевские порядки и заголосишь о сладкой свободе.
Но, увы, на этом и застревает мысль несчастных жертв. А как резонно было бы спросить: Слушай, а зачем же ты вышла за такого мужа? О чём ты думала?
В патриархальном мире возможность выйти замуж за недоброго человека и мучиться с ним всю жизнь настраивала девушку сызмальства на куда более глубокое и зоркое отношение к браку, чем теперь. И не только к браку, ко всей жизни. В предбрачных играх требовалось вызнать прежде всего истинное лицо юноши, а не вызвать сиюминутное его влечение к тебе. И затем, после решения, блюсти себя для него, провоцировать в нём лучшие чувства к себе, крепить их и охранять, как охраняют свой огород от сорняков и других напастей. Вот какая это трудная работа. И не всё здесь от тебя зависит. Без горечи в браке не обойтись. Без пота, потерь, понуждений себя и чёрной работы. Но это единственный путь к выращиванию брачного урожая. Пусть это сравнение с огородом снижает суть брачного дела, но позволяет зато представить нагляднее его трудную сторону. Скажем так: брак это возделывание на грешной земле небесного сада, по отношению к которому все земные сады лишь низкие его подобия.
Бог, нация и семья
Построить семью нельзя стараниями лишь одного супруга. Нужны усилия обеих сторон. Но лишь в редких случаях их достаточно, потому что современным супругам, как правило, не хватает понимания природы семьи и той общественной атмосферы, которой она должна быть окружена, чтобы быть здоровой. В современном безнравственном «обществе» семья отравляется его ядами. Особенно — если не вооружена религиозно и национально.
Без веры в Бога, этой первой и главной опоры всего доброго, семья — как дом, построенный на песке. Она держится чудом, за счёт благоприятных обстоятельств да наработанных предками нравственных начал, ещё хранящихся в сознании или в подсознании.
Сама половая любовь, без которой брак невозможен, слишком зыбкое основание для него. Она сама нуждается в спасении от разрушительных сил, заключённых во времени и в немощах, свойственных грешному человеку. Она сама нуждается в твёрдом фундаменте, который держал бы её и задавал бы ей правильные формы. В твёрдом фундаменте, который питал бы её мудростью и силой. Брачная любовь без любви к Богу несостоятельна. В лучшем случае это вещь двусмысленная. А в худшем — это начало вакханалии или, по-русски, беснования. Какими бы роскошными цветами это беснование ни украшало и ни маскировало себя.
Но семья связана не только с Богом. Она связана и со своим народом. Это её вторая духовная опора, без которой она разрушается или живёт в полуразрушенном состоянии. Потому что свой народ это как раз тот «ближний», на отношении к которому проверяется любовь к Богу.
Только работая на Бога и на свой народ, семья оказывается в правильном режиме — самом здоровом и позволяющем ей видеть зорко свою собственную природу и природу окружающего её мира. А потому быть единой и правильно выстроенной при полной свободе всех её составляющих. Таков идеал брачной жизни.
1990–1994 гг.
Позднейшее примечание
В моих статьях о браке и семье варьировались сравнительно немногие основные идеи, постепенно уточняясь и принимая более или менее полноценную литературную форму. Кочевали из статьи в статью и какие-то иллюстрирующие их примеры.
Первые варианты этой статьи появились в начале 70-х годов, а затем возникали всё новые варианты. Они печатались в разных газетах. В больших журналах «Гнездо человечье» в том виде, в каком оно представлено здесь (или почти в этом виде), публиковалось дважды — в журнале «ПОЛЕ КУЛИКОВО» (Новомосковск, 1994, № 2) и в журнале «ВСЕРУССКИЙ СОБОРЪ» (№ 1 за 2009 г.). Вошло «Гнездо человечье» и в мой сборник «Записки из красного дома» (2006).
Июль 2010 г.
Нужны семейные летописи
Представьте себе, что у вас сохранилась каким-то чудом рукопись вашего прадеда, рассказывающая о его жизни и о понимании им жизни вообще. Несколько гимназических тетрадей, кем-то заботливо переплетённых, а в них некогда неощутимый аромат тогдашнего времени, ныне же явный по контрасту с нашими днями. И суждения, с которыми не всегда согласишься, которые даже не всегда поймёшь. Но если вы не совсем пустой человек, то будете время от времени возвращаться к этим мыслям для более глубокого их прочтения. И не только вы, но и ваша жена, дети, внуки и правнуки. Занятие это, думается, полезнее игры в шахматы или разгадывания кроссвордов.
И чем дальше ваш род будет эту рукопись хранить, тем драгоценнее она будет. Даже в денежном отношении, не говоря уж о нравственном. Западные финансисты давно поняли выгоду накопления не только произведений искусства, но и реликвий, которые дорожают чуть ли не быстрее золота. А мы реликвиями не дорожим, даже семейными, памяти о своих предках не сохраняем. Но лучшая память о них это хранение их собственных рассказов об их жизни.
И сомыслие с ними. А с кем мы сомыслим теперь?
За редкими исключениями, родители наши не прибегали к перу и бумаге, чтобы поведать нам о себе. А у них на глазах совершались такие события. Как они видели их? Что о них думали? Или не столько думали, сколько переживали их и приспосабливались к ним? Нам достаются в наследие только случайные воспоминания, да и то устные, которые тают в памяти и наверняка не дойдут до внуков. А записать их не приходит в голову. Да и зачем? Кому нужны будут эти записи?
Но вот рядом с прадедовскими тетрадями лежат, оказывается, письма вашей прабабушки. А в них совсем иное понимание жизни, чем у её супруга. Или, может быть, не иное. Может быть, наоборот, они согласно смотрели на мир и не стыдились ни перед кем своего единомыслия.
Да ведь одно созерцание и неспешное обдумывание таких вот или подобных вещей, таких вот черт не каких-то измышленных литературных героев, а твоих же собственных предков, создаёт естественную и потому здоровую духовную почву для произрастания собственных мыслей о жизни. А на чём выращиваются мысли нынешних людей, в особенности молодых, на каких нитратах?
Либо средства массовой информации, направляемые разрушителями народов, окончательно загипнотизируют людей и превратят их в запрограммированно «думающие» машины, либо мы, сопротивляясь такой перспективе, начнём сознательно культивировать духовно-родственные связи. И не только с ныне живущими, но и с предками, и с потомками. Будем вместе с ними размышлять о жизни по большому счёту.
Всякую мысль можно довести до абсурда. А потому оговорюсь, что речь идёт, конечно, не о том, чтобы всех превратить в писателей, а о том, чтобы хотя бы некоторых приохотить к семейно-общинному и краевому летописанию. Каждая фамилия и каждое село должны выращивать и хранить своё письменное слово. Ибо такое слово организует.
И нет тут ничего невозможного. Как велико искусство пения. Но нет сейчас, за редчайшими исключениями, никого, кто умел бы красиво петь. Русские люди петь разучились. А раньше пели едва ли не все, и после работы, и даже, случалось, во время работы, не говоря уж о праздниках. И оставались при этом крестьянами, не лезли в артисты. Не ходили с шапкой по кругу, прося поддержать их искусство. Вот к такому же бескорыстию надо стремиться и в письменном слове. Не отдавать его целиком платным артистам в этом деле.
Вот писал же в своё время Владимир Мономах исповедь о себе и наставление своим детям. А не был писателем. От сердца и опыта сказанное слово очеловечивает всех — и слушающих, и говорящего. А тем более письменное слово. Оно более ответственно и более действенно. Оно может жить долго. А потому надо, чтобы каждый осознал его важность.
Такой неспешный разговор с потомками (когда никто никого не перебивает, никто никому не надоедает, когда каждый волен сказать своё до конца, не боясь ничего, кроме своей совести) должен стать, думается, одной из основ новой русской народной культуры. Если раньше она была практически полностью устной, то теперь, в технический век, должна приобрести это новое качество.
Подлинная культура может быть только живым и СВОБОДНЫМ творчеством (на всём профессиональном творчестве лежит печать, в той или иной степени, несвободы, печать цензуры, явной или скрытной) ВСЕГО НАРОДА, а не продуктом какой-то особой «элиты», отделённой от молчащего народа условиями своей жизни. Если бы наша профессиональная литература подпиралась письменным народным творчеством и вразумлялась бы им, то она много выиграла бы от такой конкуренции. И даже те профессиональные писатели, которые отстаивают интересы народа, научились бы меньше болтать, научились бы большей зоркости.
Такая семейная, а в дальнейшем общинная и районная, литература могла бы стать важнейшей частью семейных, общинных и районных библиотек, вокруг которой располагалась бы общенациональная литература. И только за нею, на горизонте, располагались бы лучшие иностранные писатели.
Усвоение начатков ведения из родных уст да на примерах из жизни своих близких должно стать правилом русской педагогики. Такое усвоение так же естественно, как пребывание ребёнка в семейном кругу, а не в казённых яслях или в казённом детском саду. И лишь постепенно, по мере его вызревания, должен расширяться его окоём. И по литературной части тоже.
В каждой почти семье, а тем более в кругу родственников и знакомых (или в деревне), довольно и происшествий (то значительных, то забавных), и мастеров о них рассказать не хуже патентованных литераторов. Запиши эти рассказы — и не только осталась бы память об отошедших и отходящих, но и места, с ними связанные, не оголились бы от преданий, как это бывает теперь почти везде у нас. А ведь предания, особенно значительные, это душа не только селений, но и нежилых мест. Всякое место настолько богато событиями, случаями, характерами, чудесами, достойными пера Пушкина или Гоголя, что только постоянное затухание нашей памяти делает это место пустым и скучным для его насельников и посетителей.
Память о прошлом и происходящем так же нужна для ныне живущих и их потомков, как сады и дома, и хозяйственные постройки на их земле. Как деревья выращивают впрок для детей и внуков, так надо готовить для них семейные и местные летописи.
— Бабушка, напиши для наших детей про свою жизнь.
— Что вы, я не умею.
— Письма-то пишешь? Вот и напиши нам письмо про свою жизнь.
— Вы смеяться будете. Какая из меня писательница?
— Не будем, пиши!
— Нет, засмеёте меня… И времени нету.
Надо, чтобы бабушки и дедушки взялись за перо. И не только они. Матери и отцы даже о первых годах своих детей не пишут, не оставляют им памяти. А с детьми бывает столько интересного. Они потом с любовью перечитывали бы о себе. И в десять лет, и в тридцать, и в шестьдесят. И шли бы такие рассказы по наследству, уча и других не молчать о своей и своих близких жизни.
Наша жизнь должна стать говорящей. И не просто говорящей, а выбирающей из множества слов, наряду с шутками и забавами, самые главные и спасительные слова. Поэтому так нужны исповеди. Думы. ИСПОВЕДЬ (если не перед современниками, то хотя бы перед потомками) ВЫПРЯМЛЯЕТ ДУШУ И СПОСОБСТВУЕТ ПРЯМОТЕ ДРУГИХ ДУШ. Она есть акт веры в истину и добро. Это начало добросовестного разговора человека с Богом и миром. А как жить без такого разговора? Как жить в немоте, в потёмках, в недомолвках и недоверии? Без взаимопонимания и взаимопомощи? Без откровенного разговора невозможно нравственное возрождение нашего народа. Невозможен духовный подъём. Без которого гнить нам и гнить, слабодушно попуская, чтобы всякие гады, чужие и собственные, наступали на лица наших детей, вдавливая их в нечистоты.
1990–1993 гг.
После написанного
Я забыл отметить, что, записывая свои мысли и возвращаясь к ним время от времени для дальнейшего их обдумывания, человек совершенствует их (и, следовательно, совершенствует свой разум) куда интенсивнее, чем тогда, когда их не записывает. И это ещё один важный довод в пользу семейного и местного летописания. Ибо от состояния русских умов зависит вся русская жизнь.
Февраль 2002 г.
Русские учителя, объединяйтесь!
Народ, отказывающий своим детям в национальном воспитании, обрекает себя на безнравственность, духовное бессилие и вырождение. Иллюстрацией этой простой истины может служить наша история последних веков: космополитический характер нашей педагогики стал одной из причин последовавшей в 1917 году национальной катастрофы русского народа.
«У нас нет совсем МЕЧТЫ СВОЕЙ РОДИНЫ, — писал В.В. Розанов… — У греков есть она. Была у римлян. У евреев есть… У англичан — «старая Англия». У немцев — «наш старый Фриц». Только у прошедшего русскую гимназию и университет — «проклятая Россия»… У нас слово «отечество» узнаётся одновременно со словом «проклятие» («Опавшие листья», короб второй).
О порочности нашей системы образования писали И.В. Киреевский и Н.В. Гоголь, И.С. Аксаков и К.Д. Ушинский, В.О. Ключевский и В.Я. Стоюнин, М.О. Меньшиков и В.Л. Величко, В.В. Шульгин и авторы вышедшего в Петрограде в 1916 году сборника «О НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» (Вл. Волжанин, В.Ф. Динзе, С.Д. Смирнов). Характерно название одной из лучших статей К.Д. Ушинского — «О НЕОБХОДИМОСТИ СДЕЛАТЬ РУССКИЕ ШКОЛЫ РУССКИМИ». Поистине, стоит вдуматься в эти многозначительные слова. Но сделать русские школы русскими не позволили ни Ушинскому, ни другим русским педагогам. И даже сама мысль о нерусскости системы образования в России старательно глушилась господствовавшими силами как в дореволюционные, так и в советские времена. Знать об этом нужно, чтобы, вылезая из советского педагогического болота, не оказаться в педагогическом болоте дореволюционном.
Итак, русская национальная педагогика разрушена, можно сказать, до основания. Если русские учителя не воссоздадут её заново — исчезнет, растворившись в других народах, русский народ. Поэтому нужно, не откладывая этого дела до лучших времён, уже сейчас собирать русские педагогические силы.
Русские педагоги-подвижники есть даже сегодня, но их мало и им очень трудно. Их почти никто не знает, и сами они почти не знают друг друга. За редчайшими исключениями, о них нигде не пишут. А если даже уделят им, как бы из милости, страничку журнального текста, то непременно забудут сообщить адрес, по которому можно было бы с ними связаться. Им фактически никто не помогает, зато опорочить их и расправиться с ними за их верность русскому народу желающих достаточно. И тут надо ещё отметить, что положение русского учителя куда более уязвимо, чем положение русского писателя, русского учёного или русского инженера. Поэтому без поддержки русской общественности возрождение русской педагогики невозможно.
Чтобы её слабые ростки не погибли, но укрепились и пошли в рост, надо им помогать. А самим русским учителям надо искать и налаживать связи между собою ради обмена опытом и взаимопомощи. Да и слышнее будет, если кого станут душить. Не зря говорится, что в единстве сила, а в разрозненности бессилие.
Сейчас возникают еврейские, грузинские, литовские и другие национальные школы. Нет только русской национальной школы. И даже нет планов её возрождения. Это невнимание или даже равнодушие русских людей, в том числе называющих себя русскими патриотами, к столь важному делу есть показатель глубины духовной болезни нашего народа.
При виде всего того, что совершается вокруг, многие русские люди впадают в отчаяние. И думают: до школы ли теперь’’ Мы уже проиграли третью мировую войну, и нами правят оккупанты. Теперь куда бы получше спрятаться…
А я думаю, что настоящий русский человек, и в первую очередь русский учитель, начнётся через одоление этого отчаяния. В подвижнической работе на ЧУДО русского воскресения.
Отчаяние было и в прошлом. И оно тоже сковывало умы и сердца, а, следовательно, и руки. Некогда Илья-пророк жаловался Богу, что не осталось верных и враги уже и его, Ильи, душу ищут. Но, как свидетельствует Библия, пророк ошибался: Бог сохранил 7 тысяч верных (Рим. 11, 4), и дело Божие делалось вопреки очевидной невозможности его делать.
То же самое было у нас на Руси. Как пугали бесы преп. Сергия, чтобы покинул свой пост в лесу. Брат его не выдержал, убежал. Но преп. Сергий выстоял, не испугался, и Бог дал ему силу благословить на победу русское войско перед Куликовской битвой. А ведь победа русских на Куликовом поле была тоже чудом: наших воинов было намного меньше татар, которые были по тем временам лучшими воинами в мире. И вооружены татары были лучше, и побеждать привыкли, что тоже много значит.
Вот и теперь нечто подобное. Опять очевидное всесилие зла, но уже на новый манер. Ибо бесы запугивают людей, применяясь к их представлениям об окружающем мире. И только впоследствии оказывается, что представления эти были неполны и действительные их возможности всегда оберегались Богом. Не потому ли Владыка всего, наш Господь Иисус Христос, говорил робеющим ученикам: «Не бойся, малое стадо!» (Лк. 12, 32)? Так и теперь: всесилие Божие ждёт подлинной русской веры. А вера, как известно, движет горами. Неодолимость зла сохраняется лишь при определённых условиях, изменить которые всегда может Бог. И дьяволы знают о хрупкости своего Кащеева царства куда лучше русских людей.
Кто знает, может быть, накануне Куликовской битвы один только преп. Сергий верил в нашу победу, а все остальные колебались или шли, как идут на заклание — чтобы только умереть достойно, то есть в бою. Поэтому он посылал вдогонку уже благословлённому на победу войску новое понукание. Не бойтесь. Бейте от Бога. И не бойтесь умереть ради победы. Нас ведь создал Бог не ради этой жалкой временной жизни. Ради вечного Царства. Заслужим ли его на этой земле испытаний?
Могут сказать: какая же это педагогика? Это какие-то мистические рассуждения. А я отвечу: ломаного гроша не стоит та педагогика, в которой нет вовлечения воспитанников в размышления о Боге и Его мире, в которой нет подвижничества, которая не зовёт и не учит спасать свою веру и свой народ. Которая не учит жить и работать ради того, чтобы родная земля стала Божьим садом. Но разве не к небесному саду на нашей земле тянется всякая добрая душа в своих лучших снах? А эту тягу надо сделать сознательной тягой всего народа, чтобы стала осмысленной жизнь всех — и взрослых, и их детей.
Сейчас же большинству русских людей просто некуда тянуться в поисках смысла и красоты, без которых жить невозможно. Такая везде замкнутая на себя мертвечина.
Надо, чтобы были на Русской земле и зажигались друг от друга неложные огоньки, на которые могли бы собираться со всех сторон ищущие правды русские люди. Чтобы общими силами, подсобляя друг другу, творили русскую мысль и русскую крепость, и многоцветную русскую красоту. В научении этому делу и заключается суть подлинной русской педагогики.
Только подвижники, собиратели русской правды, могут заново высоко поднять униженное ныне звание Учителя.
Но — повторю ещё раз — таким учителям-подвижникам надо помогать. В общем равнодушии к их делу они либо завянут, либо будут раздавлены враждебными силами.
В конце 80-х годов в городе Белореченске Краснодарского края возникло объединение юных казачат, которые стали издавать под руководством своей учительницы Марины Витальевны Сиротенко поначалу машинописный, а затем печатавшийся в типографии малотиражный патриотический журнал «Деревейко». После первого или второго номера этого журнала Марину Витальевну лишили работы в школе. Помыкавшись без работы с полгода, она устроилась в местный Дом пионеров. Но, по слухам, её и оттуда уже уволили. А как хорошо было бы питаться не слухами о трагических судьбах русских учителей, но достоверной информацией. Как хорошо и полезно было бы для души посильно помогать им. Ведь, помогая им, помогаешь самым ограбленным в мире детям — русским детям. Которым никто и, кажется, никогда не помогал (именно как РУССКИМ детям). У них только всё отнимали: убивая и репрессируя их родителей, развращая и спаивая их окружение, скрытно окрадывая их самих, отравляя их сознание космополитическими помоями и даже, как теперь, откровенной порнографией. А ведь русские дети — будущее нашего народа. Отдадим их окончательно на растление — кончится наш народ в ближайшие десятилетия.
Вот об этом-то, помимо многого другого, шёл очень трудный разговор на съезде русской молодёжи в июле этого года на Байкале. Трудный потому, что мало было веры в свои силы, в свою способность начать собирать русские педагогические силы. Но, в конце концов, решили: кто-то должен дать хотя бы адрес, по которому можно было бы сообщать свои мысли о русской педагогике, предлагать свою помощь. Нужен банк данных о русских учителях и их опыте, о русской педагогической литературе, об истории русской педагогики. Нужно создавать самим новые исторические и литературные хрестоматии. Создавать русскую педагогическую библиотеку. И многое-многое другое ещё нужно. Но на первом этапе хотя бы начать делать то, что уже посильно.
Главный организатор этого съезда Николай Иванович Засыпкин решил дать временно свой адрес для корреспондентской связи такого рода. Временно потому, что в дальнейшем, возможно, обнаружатся более свободные и способные к этому делу. Тогда и листок какой-нибудь педагогический начнём издавать. А, может быть, и съезд русских учителей соберём? А, может быть, и региональные организации русских учителей возникнут? Бог даст, в соборе русских педагогических сил не будет самолюбивой конкуренции, но только общая забота о возрождении русского народа.
Но вот что беспокоит меня: не уволят ли Николая Ивановича с работы после того, как моё обращение появится в печати? Кто знает.
Итак, вот адрес для неравнодушных к делу воссоздания русской педагогики: 664000, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 14, Городская Администрация, отдел по делам молодёжи, каб. 56, Засыпкину Николаю Ивановичу. Его рабочий телефон: 29-36-85. В случае увольнения с работы писать по домашнему адресу: 664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 208, кв. 200.
А в заключение хочу привести слова подростка, одного из участников байкальского похода. Он сказал: «Взрослые, не бросайте нас, прошу вас…».
Вот это молитва.
Июль 1992 г.
Позднейшее примечание
Эта статья была опубликована в новгородской газете «Вече» (№ 13 в 1992 г.) и во владимирской газете «Владимирский литератор» (№ 1, в 1993 г.). Иркутский центр по сбору информации и корреспондентской связи практически сразу же самоупразднился, так как иркутские писатели решили, по словам Н.И. Засыпкина, что они этого дела не потянут, а ему самому в скором времени пришлось уйти с работы. Дело кончилось, не начавшись.
Далее пойдут выписки из разных источников, имеющие отношение к затронутой выше теме.
1 мая 2002 г.
В записную книжку русскому учителю
- «Дети людей должны родиться на земле, а не на мостовой. Можно жить потом на мостовой, но родиться и всходить нация, в огромном большинстве своём, должна на земле, на почве, на которой хлеб и деревья растут… В земле, в почве есть нечто сакраментальное. Если хотите переродить человечество к лучшему, почти что из зверей наделать людей, то наделите их землёй — и достигнете цели» (Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ. Газета. «Литературная Россия» от 6.04.90, стр. 14).
- «Но общечеловечность не иначе достигается, как упором в свою национальность каждого народа» (Ф.М. Достоевский. Журнал «Русское самосознание», США, № 5, май 1986 г., с. 15).
- Св. Иоанн Златоуст: «Достаточно одного человека, воспалённого ревностью, чтобы исправить весь народ. А когда налицо не один и не два, и не три, а такое множество могущих принять на себя заботу о нерадивых, то не почему иному, как по нашей лишь беспечности, а отнюдь не слабости, многие погибают и падают духом» (Творения Св. Иоанна Златоуста, т. 2. Цитата из журнала «Русское самосознание», США, № 1 (76), 1990, стр. 40).
- Карем Раш: «…Всё как будто есть в колхозе, а главного нет. Нет памяти, нет музея станицы и колхоза, нет парка. А где нет памяти, там нет культуры, даже если ты в импорте от холки до хвоста…Когда в Швеции в школах было шесть процентов женщин, то в парламенте и обществе раздались голоса о надвигающейся национальной катастрофе. У нас, можно сказать, все девяносто шесть процентов. Мы давно живём в катастрофической ситуации при всех отрицательных явлениях феминизации. Никакие даже не «железные», а «булатные» леди, взятые вместе и порознь, не смогут привить юноше мужской характер, мужской ум и мужскую поступь. Об этой проблеме всех проблем нашей школы помалкивают реформаторы и критики просвещения…
На Западе давно подсчитали, что на свете нет более прибыльного помещения капиталов, чем вкладывание их в народное образование, но при одном неукоснительном правиле — школа ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ УБЫТОЧНА. Родители, отдавая детям всё, не думают о воздаянии. Ребёнок, выросший в лучах бескорыстия, ответит сторицей. Так же поступает мудрое общество. Те, кто говорят о детском производстве, о школьном хозрасчёте, о трудовом опережающем воспитании, закладывают страшное разрушение в завтрашний день общества… Когда запахло войной и гроза заставила страну подтянуться, у правительства хватило мудрости велеть Макаренко прекратить воспевать детский труд, к тому же в неволе и без истории и родной почвы. Ему жёстко и скупо было сказано, что революцию делали не для того, чтобы дети работали, а чтобы учились…
…Основание Академии педагогических наук в 1943-м, в суровый год Сталинграда, когда мы были прижаты к Волге, явилось одним из высших проявлений государственной мудрости и символом единства задач школы, армии и державы. Академия была при Министерстве просвещения РСФСР. И сейчас более половины лучших учебников те, что были изданы до начала 70-х годов…» (журнал «Молодая гвардия», 1989, № 10, стр. 206–207).
«…Заглянем на площадку, которая нередко подменяет собой понятие клуб. Танцы, увы, везде одинаковы: сбиваются в кучи и трясутся, почти не глядя друг на друга. Без улыбки, без тепла и радости. Подростки в одном углу, девочки в другом. Оркестр наяривает. Певец выдавливает из себя странные звуки, чтобы звучало не по-русски. Это даже не танцы. Трясунами или сектой хлыстов не назовёшь, потому что не хватает исступления. Куда им до хлыстов. Пора, должно быть, то, что происходит на танцплощадках и дискотеках, танцами не называть. Когда человек трясётся, уставившись в пол, это не танец. Перед нами человек не танцующий, а заблудившийся, заведённый массовой культурой в тупик. Он, похоже, уже и сам был бы благодарен тому, кто выведет его из этой трясучки. Суворов говорил, что «песня утраивает армию». Она утраивает и народ. Но песня унылая, песня бессмысленная, визгливая в такой же мере народ и армию уполовинивает, она убивает душу и обезоруживает её. Вся эта какофония, эти диски холодно и расчётливо направляются из Соединённых Штатов, страны, по признанию лучших её умов, безнадежно больной и обречённой. Сейчас у её массовой культуры цветение полураспада. Она и притягательна трупным ядом вседозволенности…
…Родина начинается не с ручейка и не с берёзки — вопреки популярной песне — родина начинается с семьи. Именно семья наше первое родное место на земле. Оттуда наши истоки… Здоровая семья — единственное в истории людей объединение, которое могло слить в органическом единстве власть с любовью, свободу с дисциплиной, искренность с честью и добротой. Сокровенная тайна семьи зиждется на бескорыстии родителей, бескорыстие — святая святых семьи, её негаснущий огонь, её душа. Вот почему ни один детский садик и ни одна школа не могут сравняться в воспитании с семьёй…
…Нет проблемы мужчин и женщин, есть только, строго говоря, проблема мужчин. Если в обществе мужчины зададут высокую нравственную шкалу, то женщины всегда подтянутся. Как нет, говоря честно, проблемы отцов и детей. Есть только проблема отцов…
…Чтобы расти, нужно тянуться, нужен недосягаемый эталон…
…Мы подошли к кардинальнейшей проблеме нашей школы и нашей жизни. Всё начинается с яслей и садика. Никому не дано измерить травму, немой ужас и горе младенца, выброшенного из родного гнезда в чужие руки, в чужие голоса, запахи, пищу. Детдом такой же казённый дом, как и детсад. Отдать ребёнка в садик не считается зазорным. Коли так, можно и в детдом» (из книги: К. Раш «Кто сеет хлеб тот сеет правду», М., 1988).
- ЮРИЙ БОРОДАЙ: «…В 1923 г. следует Указ ВЦИК о чистке учебных заведений по принципу соцпроисхождения. Исключению подлежали дети не только “дворянишек”, “буржуев”, “попов”, но и мелкой буржуазии. Значит, все дети крестьянские! Исключение делалось, как писали в документах той поры, для “нацменьшинств”. Через несколько лет после этого указа в основных вузах крупных городов страны более половины студентов составляли лица еврейской национальности… В 1939 г. вводится всеобщая воинская повинность: в армию хлынули крестьянские дети, не запятнанные участием в антирусских геноцидных акциях. Ещё во второй половине 30-х годов в вузы стали, наконец, принимать не только представителей “малых народов” и маргинальных активистов с революционными заслугами за плечами, но и обыкновенных русских “туземцев”…» (газета «День» № 14, июль 1991 г., стр. 3).
- Сергей АЛЕКСЕЕВ: «Общеизвестно, что после революции широко и серьёзно в стране обсуждался вопрос об общественном воспитании детей. Если говорить грубо, выглядело это примерно так: родители родили ребёнка и вскоре отдали его в детское учреждение — приют, пансион, детский дом, да назовите как хочется. Там обезличенный ребёнок получил бы настоящее, «коммунистическое воспитание, приобрёл бы нужное обществу образование и влился бы в ряды взрослых нового общественного типа» (журнал «Молодая гвардия», 1989, № 3, с. 4).
- Станислав ХОРОШАВИН: «…из выступления президента США 24 февраля 1958 г.: “…не будет преувеличением сказать, что битва, которую ведём мы сейчас, может быть выиграна или проиграна в школьных классах Америки”…
…Факт запуска первого в мире искусственного спутника Земли в Советском Союзе заставил президента образовать специальную комиссию для расследования причин опережающего развития космических исследований в СССР. В докладе этой комиссии в числе главных причин было названо преимущество советской системы народного образования…
Итак, в 1958 г. было объявлено о начале битвы в школьных классах Америки… По-прежнему каждый учебный день в каждом классе каждой школы начинался с клятвы верности американскому флагу и пения национального гимна…
… Два рычага повернули рельсы советской системы образования в то время, когда с неё решила брать пример Америка.
1) Изменение содержания образования. Неизбывна привычка, вбитая Петром I в наш народ: постоянно оглядываться на иностранцев. Коль скоро американские учёные взялись совершенствовать свою систему образования, то и наши академики возжелали последовать заокеанскому примеру. Инициаторами перехода на новое содержание образования выступили И.К. Кикоин и А.Н. Колмогоров… Кикоин оторвал физику от природы, от жизни, от техники… Зашифровал мёртвым языком абстракций, запутал дебрями математических преобразований.
Такая же участь постигла геометрию в изложении Колмогорова. Интересно то, что школьный курс геометрии Колмогорова не понимают не только ученики, но и академики-математики. Академик Понтрягин в своём письме в журнал «Коммунист» с возмущением говорил об этом школьном учебнике.
2) Не менее разрушительным оказалось действие второго рычага: новая дидактическая система Занкова Л.В. и педагогическая концепция Давыдова В.В…
…Пропагандистская шумиха вокруг «нового в педагогике», разыгранная на разных уровнях, начиная с примитивных лозунгов: «Ученик не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь», «Повторение не мать, а мачеха учения» и кончая срочно слепленными диссертациями, завершила переход на новое содержание образования… Начали осваивать новую форму подведения итогов работы: не по труду, а по отчёту… На учителя началось наступление. Сколько было опубликовано статей типа: «Оценка травмирует психику ребёнка»…
Начался страшный процесс: уход из школы самых честных, самых порядочных людей. Остались лишь энтузиасты, которые, несмотря на трудности, честно продолжали делать нелёгкое дело, и осталась педагогическая негодь. И процентное содержание таких «учителей» в школах стало быстро возрастать…
…Государственный комитет по народному образованию под управлением А.Г. Ягодина привёл советскую школу к американскому образцу тридцатилетней давности. К той американской школе, от которой сами американцы уже давно отказались…» (журнал «Молодая гвардия», 1990, № 9, с. 207–219).
- Александр НЕВСКИЙ: «Не припомню случая, чтобы героев газетной статьи, не названных автором, так оперативно «вычислили» работники прокуратуры, после чего ими занялись обком КПСС и Комитет по народному образованию. Нет, они вовсе не рэкетиры… а педагоги обычной ленинградской школы.
Такая реакция — следствие статьи Н. Логиновой «Химера», опубликованной 17 января 1990 г. в «Литературной газете»…
Но вот в редакцию «Молодой гвардии» пришло письмо из той самой школы, подписанное 17 педагогами во главе с директором Ф.И. Михайловым… «Мы поставлены в условия, в которых не можем защитить своё собственное достоинство и честь школы и призвать автора «Химеры» к ответственности… Однако многочисленные комиссии, работавшие в коллективе, как ни старались, не нашли ни одного факта «антисемитизма», в которых нас обвинила газета…».
И вот я вхожу в двери ленинградской 307-й школы… у директорского кабинета и в коридорах встречаю несколько групп взрослых людей. Оказалось, что это педагоги, приехавшие за опытом к Михайлову Фёдору Ивановичу из разных городов и весей…
— Считаю, что мы должны воспитывать наших школьников в духе российского патриотизма, — говорит Михайлов. — И честно признаюсь, меня поражает, почему иные люди спокойно относятся, когда говорят о возрождении национального самосознания в республиках Прибалтики, Закавказья, но стоит заговорить о России, русском патриотизме, они сразу начинают обвинять в шовинизме и антисемитизме, принадлежности к «Памяти»?.. (журнал «Молодая гвардия», 1990, № 7, с. 140–142).
- К.Д. УШИНСКИЙ: «Мы считаем выражением патриотизма те проявления любви к родине, которые выражаются не в одних битвах с внешними врагами; высказать смело слово истины бывает иногда опаснее, чем подставить лоб под вражескую пулю, которая, авось, пролетит мимо» (журнал «Наш современник», 1988, № 2, с. 182).
- В.Н. СОРОКА-РОСИНСКИЙ: «Нация, отказавшаяся от великих целей, от несбыточной мечты, перестаёт быть великой нацией…
В истории русской педагогики национальная идея в достаточно углублённой и развитой форме впервые выступила у славянофилов в виде утверждения, что русский народ есть народ особый, своеобразный (и даже избранный) народ, который в развитии своём идёт особым, своим путём и скажет миру особое, своё слово, более ценное, чем сказанные уже слова других западноевропейских народов… Русский народ создаст и свою культуру, более глубокую, идеальную и совершенную, чем материалистическая и рационалистическая западная культура, а потому и русская школа также должна существеннейшим образом отличаться от западноевропейской, основываясь на таких чисто русских началах, как православие, семейно-общинный дух и любовь, проникающая русскую жизнь…
Тот, кто говорит о национальной школе, должен отказаться не только от интеллектуализма, но и от мысли, что НАША СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА МОЖЕТ БЕЗ КОРЕННОЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ СТАТЬ ОРУДИЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ…
При таком положении вещей аскетическая суровость школы приобретает иной оттенок — школа с учащими и учащимися становится похожей на дружину, идущую в бой за родную землю, дружину, куда все поступили добровольно, где все знают, куда и зачем идут, где все сознают всю необходимость железной дисциплины, весь позор трусости и отступления, где все готовы на раны, на страдания и на смерть, где даже трусы, даже дезертиры, когда их расстреливают, признают всю законность такого сурового наказания». (В.Н. Сорока-Росинский «Педагогические сочинения», Москва, «Педагогика», 1991).
- Проф. П.И. КОВАЛЕВСКИЙ: «В январе 1803 г. Россия была разделена на шесть учебных округов, из которых только Петербургский и Московский вверены были русским сановникам Новосильцеву и Муравьёву. Виленский же и Харьковский округа полякам Адаму Чарторийскому и Потоцкому, а Дерптский и Казанский — немцам Клингеру и Мантейфелю.
Все учебные заведения, вся культурная жизнь и деятельность в Западных Русско-литовских губерниях были отданы в полное распоряжение и управление злейшим врагам русского государства, православия и русской культуры — кн. Чарторийского и его сообщников: Фаддея Чацкого, Гуго Коллантая, Яна Снидецкого и др., а также в руки польских иезуитов и различных латинских монастырских орденов… Типичным представителем русского космополитизма того времени был первый министр народного просвещения гр. Завадовский…
У нас, у русских, при существующем ныне национальном безразличии, сплошь и рядом бывает так, что попавший к нам инородец, исполненный великой наглости, начинает порицать нашу нацию, наши порядки, нравы, обычаи и проч., причём исходным пунктом для него является один какой-нибудь факт, из которого затем производится слишком смелое и неприличное обобщение. И мы, из любезности и деликатности, не только молчим, но даже ему поддакиваем, хотя в душе коренно не согласны с этим. При этом мы совершенно забываем, что таким своим отношением мы сознательно и в здравом уме начинаем чернить и позорить нашу мать-родину…
Но этого мало. Мы не только сами совершаем гнусный факт, но мы развращаем членов своей семьи, своих детей. Мы гасим в них уважение к родине и даём право и повод им относиться к своей народности и родине легкомысленно и непозволительно дерзко. Наши любезность и вежливость переходят в подлость. Мы должны иметь всегда мужество спокойно и решительно дать понять нашему невежественному и дерзкому гостю, что его поступок нарушает пределы порядочности… мы должны иметь решимость его осадить. Это будет не мужество и не геройство, а только НРАВСТВЕННЫЙ ДОЛГ. Такой поступок будет наилучшим уроком для наших детей, и навсегда укоренит в их уме и душе ДОЛГ И ОБЯЗАННОСТЬ СМЕЛО И ТВЁРДО ОТСТАИВАТЬ ЧЕСТЬ И ВЕЛИЧИЕ НАШЕГО НАРОДА И НАШЕЙ РОДИНЫ…
«Всякое государство, говорит Хомяков, обязано отстранять от воспитания всё то, что противно его собственным основным началам». Далее, как только Эльзас и Лотарингия были присоединены к Германии, французские учителя были удалены из школ и заменены немецкими. При Александре 1, как только поляк Чарторийский получил власть в Литве и Белоруссии, так немедленно все русские учителя были немилосердно изгнаны из школ и заменены поляками…
В образовании и воспитании детей играют важную роль системы, которые царят в наших средних школах. Систем этих две: классическая и реальная. Классическая, говорят, готовит тупиц. Реальная — безбожников и анархистов. Таков опыт прежней нашей жизни. И первая для родителей — ужас, и вторая — не меньший… Проклятье и ныне висит над Деляновым, Аничковым и др., избивавшими младенцев русских успешнее, чем Ирод царь в Иудее…
Изучение народной ИСТОРИИ должно быть особенно тщательно и предшествовать изучению всеобщей истории…
(Проф. П.И. Ковалевский «Национализм и национальное воспитание в России», Нью-Йорк, 1922).
Эти выписки нужно, конечно, продолжить, чтобы подготовить, в конце концов, русский педагогический словарь, а затем и русскую педагогическую энциклопедию. Вот бы кто взялся за это дело. Ведь существующие педагогические справочники не ориентируют русских учителей, а, наоборот, дезориентируют.
1997 (?) год.
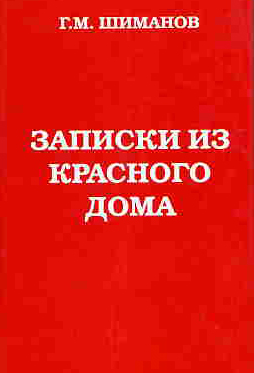
Комментировать