- От автора
- Предполагаем жить
- Центральное явление нашей культуры
- Пушкин и судьба России
- Христианство Пушкина: проблема и легенды
- Введение в художественный мир Пушкина
- Пророк
- Под небом голубым
- Несколько новых русских сказок
- "Евгений Онегин" как "проблемный роман"
- Да ведают потомки православных
- Поэт и толпа
- С веселым призраком свободы
- Слово о Пушкине
Слово о Пушкине
Произнесено на Совместном заседании Совета ученых советов МГУ и Президиума Российской Академии наук, посвященном 275-летию РАН и 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина, 8 июня 1999 года.
Глава из книги «Да ведают потомки православных. Пушкин. Россия. Мы»
«Бывают странные сближения», — написал Пушкин осенью 1830 года в Болдине. В самом деле, бывают: совсем недавно отзвонило Тысячелетие Крещения — события, с которого Россия отсчитывает свое бытие как нации и культуры, и это произошло ровно за десять лет до пушкинской круглой годовщины; и вот наступает новый век, надвигается третье тысячелетие христианской эры — и 200-летие Пушкина вплотную примыкает к этому, уже всемирно-историческому, рубежу, встречая нас на пороге нового зона человеческой истории.
Странные сближения, странный поэт.
Он менее всех мировых гениев переводим на языки и хуже всех постижим в переводе: в иноязычных культурах он берет за душу только тех, кто знает и любит наш язык, нашу культуру, кому Россия близка духовно.
Он, пожалуй, единственный в мире классик, который, будучи отделен многими поколениями, продолжает быть неоспоримым, животрепещущим едва ли не как газета, энергетически активным центром национальной культуры, заставляющим ее то и дело оглядываться на него и соотносить себя с ним.
Из гигантов мировой культуры лишь он один соединяет в себе предельную недоступность с предельной же фамильяризованностью, царственный статус с родственной близостью каждому; столь же объединяет, сколь и разделяет; является объектом как безумной любви (и неутолимой скорби о его гибели), так и зависти, а то и ненависти (о чем говорят некоторые опусы последнего времени).
Он есть неотъемлемая часть нашего национального мифа — в такой мере, в таком опорном качестве, с какими не идет в сравнение ни один из светочей других культур; и сам он есть национальный миф, вмещающий весь космос народного духа со всеми его гранями и оттенками, от религиозных и героических до анекдотических, — и потому он так же не укладывается в определения, как и то, что называют в мире «русской духовностью».
С ним связано явление, аналогов которому опять же нет ни в одной культуре мира и которое называется «мой Пушкин», — и это не требует комментариев.
Он — единственный, может быть, из великих поэтов есть, по счастливому выражению Цветаевой, «поэт с историей»: не воспроизводящий себя на каждом шагу как постоянную величину, а с каждым шагом меняющийся, растущий и как раз поэтому остающийся — точнее, постоянно становящийся — собой. Его текст — будь это отдельное произведение или все творчество в целом — есть сплошной процесс движения во времени: процесс роста и преображения личности, непрестанно творящей себя и могущей «на выходе» из текста оказаться иной, чем была «на входе» (перечитаем хотя бы «Роняет лес багряный свой убор», или «Безумных лет угасшее веселье», или «Памятник»); поистине «русский человек в его развитии», как терминологически точно определил Гоголь.
Он — самый очевидный и незыблемый мирской символ нашего духовного и культурного самостоянья; и в то же время, как никакой другой гений, он разомкнут навстречу всем флагам мировой культуры, что лишь укрепляет его воздушную монолитность.
Он — такой поэт, у которого — едва перешагнувшего порог тридцатилетия, находящегося в расцвете физических сил, обладающего огненным темпераментом и огромной интимной биографией, но наконец женившегося, обвенчавшегося, обретшего очаг, — отсутствует личная любовная лирика; слыхано ли такое?
То ли он, что называется, «другой», то ли, наоборот, воплощает в себе такую полноту явления «поэт», которая в других, даже великих, является лишь частично. Так случайны ли «странные сближения», связанные с ним, в том числе с его годовщиной, и побуждающие, чтобы постигнуть и объяснить явление по имени Пушкин, выйти за пределы литературы, в контекст большого бытия, где совершаются всемирные судьбы, где счет идет на эпохи, века и тысячелетия?
Вообще, жизнь, даже в обозримых нами масштаба, показывает, что Пушкин ничего, в сущности, не пишет «от себя», он лишь записывает то, что есть или имеет быть; что он лишь более других «покорен общему закону», согласно которому главное Слово было в начале, и не надо ничего придумывать — надо слушать; что Слово священно, и играть словом так же опасно, как детям играть со спичками.
«Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию», — писал Пушкин. В конце века и тысячелетия видно, как проиллюстрировала эту формулу наша история: в прямо обратном порядке: вначале иссякала, расшатывалась, ниспровергалась вера; затем уничтожили образ правления и наконец мы — даже и без такой роскоши, как пресловутый поворот рек, — на своей шкуре испытываем изменения климата. Все это — в связи с попытками и результатами сотворить «нового человека» — с новой, разумеется, «физиономией». Итоги этого процесса отчетливо проявились сегодня, на переходе от «развитого социализма» к недоразвитому капитализму; новая «физиономия» обнаружилась как раз сейчас, при том «образе правления», что сложился на основе посткоммунистического позднедиссидентско-номенклатурного синтеза, на почве приобщения России к джунглям «цивилизации и прогресса», где, по словам Пушкина, сказанным полтора века назад о Североамериканских Штатах, «все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort)». Как упирающуюся лошадь, дергая под уздцы и хлеща, нас тянут в этот мир большевики новой, «либеральной» и «демократической», генерации, не желающие (уже в который раз в истории) ни понять, ни хотя бы услышать Пушкиным услышанную истину: «Поймите же, что… история ее (России. — В.Н.) требует другой мысли, другой формулы», чем «мысль» и «формула» Запада. Нам дано воочию убедиться как на собственном, так и на международном опыте, что — при видимой идеологической и политической разности — духовные и методологические основы, глобальные и антропологические цели большевизма и американизма «не столь различны меж собой», как казалось; что и там и там — одна и та же «зелень мертвая ветвей» древа яда — одного во всей вселенной, но хватающего на всех.
С «Анчара» началось, по моему твердому убеждению, явление, называемое «поздний Пушкин». Явление это — не хронологическое, а мировоззренческое. Стихотворение о древе смерти, воплощении и символе мирового зла, — вопреки устоявшемуся мнению, глубоко лирическое, дающее образ не только мирового зла, но и моей причастности к нему. Осмелюсь сказать: поздний Пушкин — писатель эсхатологический. Смолоду столкнувшись в «Борисе Годунове» с проблемой истории, а в «Евгении Онегине» — с проблемой человека, — в последний период своей короткой жизни он вышел к вопросам о конечных судьбах мира и человечества (включая проблему спасения); чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно перечитать «арзрумский» цикл («Кавказ», «Обвал», «Делибаш», «Монастырь на Казбеке»), а также «маленькие трагедии» с их финалом — «Пиром во время чумы», маленькую поэму «Родрик» и большое стихотворение «Странник», «Медного всадника» и «Анджело», сказки о рыбаке и рыбке и о золотом петушке, неоконченную лицейскую годовщину 1836 года («Была пора; наш праздник молодой») и последний лирический цикл: стихи о Распятии, об Иуде, о кладбище, о «грехе алчном», преследующем человека как лев, о молитве преподобного Ефрема Сирина.
Взгляд этого писателя безусловно невесел — но вовсе не мрачен и не беспросветен — уже потому, что не уперт в физическую смерть. Пушкин, особенно зрелый и поздний, вообще не очень верит в смерть, вовсе не верит в абсолютность смерти; сквозь физическую смерть его взгляд устремлен к смыслу и цели человеческой истории и вообще сотворенного бытия. Гений позднего Пушкина — зрелый и умудренный дух, который смотрит прямо в лицо будущему мира, в лицо той истине, что человек — пал и живет с тех пор в мире падшем, в мире анчара — мире не только не бесконечном и не бессмертном, как уверен гуманистический прогрессизм, но чреватом гибелью — и неизбежной, и не столь уж далекой: «Наш город пламени и ветрам обречен, Он в угли и золу вдруг будет обращен». Но сквозь эту смерть интуиция гения прозревает заданность человеку бессмертия, возможность «нового неба и новой земли» (Откр.21,1), которые нужно заслужить:
Вращается весь мир вкруг человека —
Ужель один недвижим будет он?
(«Была пора; наш праздник молодой»)
Это взгляд, вовсе не отнимающий у Пушкина его «веселого имени», а просто — трезвый и ответственный, понуждающий, что называется, о душе подумать. Это требование вспомнить о высоком предназначении человека, которое на каждом шагу забывается, искажается, подавляется «неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort)», ставшими дороже неба и земли; подавляется силами, что непрерывно воспроизводят и провоцируют все низшее в человеке. Это призыв опомниться — хотя бы сейчас, на пороге, когда новое небо и новая земля — уже «близко, при дверех» (Мф.24,33), — опомниться и обратиться от одуряющей «недвижности» материального прогресса к духовному развитию.
Думал ли о чем подобном Гоголь, когда назвал Пушкина «русским человеком в его развитии в каком он явится, может быть, через двести лет»? Точно ли удалось ему выразить посетившее его пророческое наитие, в котором Пушкин и судьбы России связаны так, как не связан с судьбами своей страны ни один из иных мировых гениев? Во всяком случае, срок угадан верно: именно ко времени 200-летия Пушкина Россия встала перед неумолимой необходимостью выбрать верный путь. Ведь она, выйдя из почти вековой уже смуты национально-государственной, «домашней», прямиком вошла в поле смуты общемировой, имеющей отчетливо эсхатологический характер.
Современная история показывает, что символизированное в анчаре мировое зло уже не мыслится в качестве враждебного жизни начала, не является объектом, с которым надо бороться, — оно стало субъектом и вождем «прогресса». Все силы мирового зла направлены на то, чтобы осчастливить падшего человека в падшем мире, потакая всем его прихотям, переделать его окончательно из существа духовного в существо экономическое, вытеснить божественное в нем природным (в пределе — животным), творческое начало подчинить потребительской похоти, идеалы заменить интересами, просвещение и культуру — информацией и цивилизацией. Под знаменем рекламы, под девизом «изменим жизнь к лучшему» совершается унижение человечества, наступает стихия, говоря по-пушкински, «ничтожества»: ничто, из которого Бог сотворил бытие, стремится взять реванш, вернув Творение к состоянию небытия.
Разумеется, этот конь бледный шествует не без препятствий — и во всей христианской ойкумене наибольшее духовное сопротивление издавна сосредоточено в России. Это не потому, чтобы мы были в массе своей лучше других людей, совсем нет, — а просто в силу духовной традиции, связанной с православным исповеданием, которое породило Россию как нацию и культуру и определило ее систему ценностей.
Размышляя на эту тему, я недавно предложил типологию христианских культур, а именно — характеристики двух основных типов: «рождественского» (на Западе главный праздник — Рождество) и «пасхального» (в православном мире «праздников праздник» — Пасха) [см. статью «Удерживающий теперь» в моей книге «Пушкин. Русская картина мира». — В.Н.]. Речь идет о том, какой момент отношений человека с Богом переживается там и там как наиболее важный, строящий миросозерцательную систему, практическую ценностную иерархию, стало быть — культуру во всем объеме понятия.
В «рождественской» культуре такой момент — Боговоплощение, когда Бог, родившись от Девы, уподобился мне, человеку. В «пасхальной» — призыв ко мне, человеку, уподобиться Богу — призыв, осуществленный в крестной жертве, а затем Воскресении, и сформулированный в словах: возьми свой крест и иди за Мной.
Таким образом, один тип культуры ориентирован на человека, каков он есть сейчас, в его наличном состоянии и настоящих условиях; другой — на человека, каков он Богом замышлен, на его духовную перспективу, в конечном счете — на идеал человека, соотносимый со Христом, и притом в любых условиях.
Отсюда вытекает ряд важных различий.
В «рождественской» культуре главная гражданская ценность — права человека, категория юридическая, обеспечиваемая в интересах личности извне самой личности. В «пасхальной» это — обязанности человека (таково, кстати, название книги, получившей высочайшую оценку в пушкинской рецензии) — обязанности, основанные на Христовых заповедях: ценность внутренняя, духовно-нравственная, обеспечиваемая самим человеком.
В сфере общекультурной «рождественский» тип устремлен к успехам цивилизации, то есть сферы возделывания внешних условий и иных удобств жизни; «пасхальный» же тяготеет к собственно культуре как возделыванию человеческой души в свете идеала, то есть по образу и подобию Бога.
В сфере художественной, в частности литературы, основной предмет внимания «рождественской» культуры — судьба человека; «пасхальной» же — поведение человека и состояние его совести (к слову — ключевые моменты тематики и художественной структуры пушкинских произведений).
Конечно, абсолютных, «чистых» воплощений того или иного типа культуры не бывает: любая культура вообще есть, собственно, то или иное сочетание «рождественского» и «пасхального» начал; разумеется также, что если доминантой русской культуры генетически и типологически является начало «пасхальное» — в отличие от культуры Запада, — то это не значит, предположим, будто у нас заповеди исполняются, а «у них» нет, что у нас одна сплошная культура, а «у них» одна цивилизация, и пр. и пр.; люди везде по-своему разны и по-своему одинаковы, и душа человеческая, как говорит Тертуллиан, по природе христианка — только каждая тоже по-своему. Речь идет лишь о коренных мировоззренческих предпочтениях: «рождественский» тип основан на главенстве интереса — так сказать, на «отсчете снизу», от наличных условий, — в «пасхальной» же «отсчет» идет «сверху», от идеала.
Последний, то есть наш, случай — безусловно труднее и гораздо менее успешен на практике; иными словами, мы сами много хуже нашей ценностной системы, тогда как западные люди, надо думать, во многом лучше своей. Но при всех наших винах, грехах, безобразиях и бесчинствах, при всем извращении, какому, при нашем попустительстве, большевизм подверг российский духовный генотип — плоды чего мы пожинаем сегодня, — при всем этом сам по себе отсчет от идеала есть наш — и всей христианской культуры в целом — краеугольный камень, и в этом смысле высшая из человеческих ценностей (о чем — пушкинское стихотворение «Герой»): поистине камень преткновения, мешающий «низким истинам» корыстного интереса прибрать к рукам святая святых — область человечности человека. Стоит упразднить эту высокую, «пасхальную» точку отсчета, столкнуть камень — и в бытии произойдет обвал.
Этому и призвана противостоять Россия.
Не потому, повторяю, чтобы мы были лучше других, а потому, что для России наличие названного отсчета от идеала есть, волею истории, просто-напросто условие существования, вопрос жизни и смерти.
Последнее не требует даже доказательств. Свойственный нам очевидный разрыв между традиционной скромностью материальных запросов и высокими, порой до безрассудного максимализма, духовными устремлениями — он и обусловил ту пропасть между нами и так называемым цивилизованным миром, которая составляет и несчастие России, и ее надежду. Отсчет от идеала есть родовая черта русской классики XIX века, унаследованная ею от культуры Святой Руси при посредстве Пушкина. Она, эта литература, созданная Пушкиным, спасла Россию в смуте XX века, она воспитала народ, победивший во Второй мировой войне, но не возгордившийся, вынесший ГУЛАГ, но не озлобившийся. Она, во главе с Пушкиным, спасла и другую Россию, зарубежную, эмигрантскую, помогла изгнанникам не только выжить и уцелеть духовно, но и сообщить могучие импульсы мировой культуре, умножить ее сокровища. Она, эта литература, сыграла фундаментальную роль в формировании нашей системы образования, которая, при всех своих недостатках, была все же лучшей в мире; чтению русской литературы, писанию школьных сочинений, широкому гуманитарному фундаменту образования мы обязаны явлением, которое в мире называется «русскими мозгами»; природа этого явления — не этническая, не биологическая, а методологическая: для русской мысли характерна целостность подхода, высокий уровень обзора, она не эмпирична, а телеологична, устремлена к высокому смыслу, она не ползает, а парит, она видит иначе.
Пушкин — самая фундаментальная область нашей гуманитарной культуры. Все изложенные выше мысли основаны не на опыте культуролога, богослова, политолога — такого опыта у меня нет; они возникли исключительно из изучения Пушкина, в частности — его главной макроколлизии, определяющей, по существу, все пушкинские сюжеты, а во многом и пушкинскую художественную методологию. Суть этой универсальной коллизии — отношения человека (в данном случае — героя Пушкина), каков он есть в наличии, в реальной практике, в поведении, — с тем, каким он мог бы быть, то есть с тем, как прекрасно он замышлен Богом. В Борисе, Бароне, Сальери, в других преступных, падших, грешных героях у Пушкина просвечивает, как бы сквозь тусклое стекло, возможность величия и красоты, просвечивает образ Божий — та высшая реальность, что сияет в таких идеальных и бесконечно живых героях, как Татьяна и Петруша Гринев. Эта коллизия — отношения человека с собою идеальным, с Божьим замыслом в себе, отношения, как правило, трагические, — коллизия, универсальная по характеру, онтологическая по масштабу, есть неотъемлемое, специфическое условие пушкинского творчества, особенно зрелого и позднего, его среда и воздух. В иной масштаб Пушкин не вмещается, а в таком — как у себя дома; а сверх того — и онтологическое делает близким, и универсальное — твоим.
Подобный масштаб явления Пушкина не есть производная его собственных личных качеств, скорее наоборот: и масштаб этот, и иные качества феномена Пушкина обусловлены функцией России в мире, ее провиденциальным заданием — сохранять высокую точку отсчета ценностей и тем противостоять грозящему возрастанию энтропии. Такое задание должно было быть воплощено в слове (ибо слово в России есть вещь первостепенно важная, реальность сакральная) — и притом в слове, которое пригодно для мирского, так сказать гражданского, общекультурного применения. Оно, это задание, и воплотилось в Пушкине. Целью «революции Петра» (пушкинское выражение) было, сверх практических преобразований, создать «нового человека», переделать нацию на «рождественский» лад (конкретно — протестантский), создать нацию прагматиков. Явление Пушкина было ответом нации на это посягательство: впитав все конструктивное, что дали петровские реформы, Пушкин наследовал традициям допетровской культуры, культуры Святой Руси с ее идеальными тяготениями, с ее неотмирной устремленностью. Явление Пушкина соединило и возродило то, что Петр разъединил и разрушил, оно восстановило духовную родословную русской культуры и дало ей новое начало; оно способствовало тому, чтобы Россия не заплатила за материальную силу своею душой, чтобы она оставалась Россией и продолжала исполнять свое задание.
Явление Пушкина подтверждает, что слово стоит на высших ступенях иерархии ценностей. «Бессловесный» по-церковнославянски значит бездуховный, а «русская духовность» нашла высшее выражение в русской словесности, возглавляемой Пушкиным. «В начале было Слово» (Ин.1,1)- только потом был создан мир и сотворен человек. Судьбы России не менее, если не более, чем с проблемами экономики или политики, связаны с судьбами русского слова, русской речи, русской словесности и культуры. Та область гуманитарной культуры, которая называется филологией, сегодня есть область стратегическая с точки зрения нашего национального существования. Филология обычно трактуется в чисто словесническом смысле: греческое logos толкуется как латинское verbum; слово понимается лишь как единица речи. Но в нашу эпоху, когда самая актуальная проблема есть проблема глобальная: сохранит ли человек свои родовые свойства как существа вертикального, то есть духовного, в эту эсхатологическую эпоху, — пора вспомнить изначальный и полный смысл слова логос — и соответственно истолковать высокое назначение занятий филологией.
Может быть, никогда еще в истории общее бытие так не зависело от сознания, материя — от духа. Явленный в Пушкине исторический опыт России столь же неукоснительно ведет к пониманию этого, сколь надежно помогает нам понять самих себя, уяснить наш исторический жребий, определить нашу национальную стратегию — чтобы не исчезнуть вместе с ношей нашего тяжкого и спасительного мирового задания. Нынешняя эпоха похожа на петровскую — похожа с большим, опасным, трагифарсовым превышением; поэтому сегодня, «чрез двести лет» (Гоголь), Пушкин России нужен, по слову другого поэта, «не ради славы — ради жизни на земле».
1999
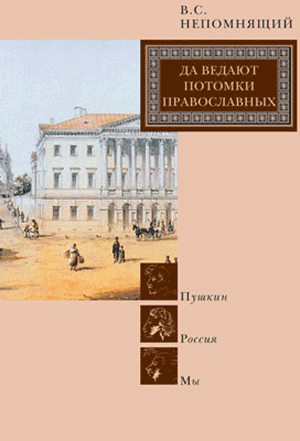
Комментировать