- От автора
- Предполагаем жить
- Центральное явление нашей культуры
- Пушкин и судьба России
- Христианство Пушкина: проблема и легенды
- Введение в художественный мир Пушкина
- Пророк
- Под небом голубым
- Несколько новых русских сказок
- "Евгений Онегин" как "проблемный роман"
- Да ведают потомки православных
- Поэт и толпа
- С веселым призраком свободы
- Слово о Пушкине
Введение в художественный мир Пушкина
Лекция учителю и ученику
Глава из книги «Да ведают потомки православных. Пушкин. Россия. Мы»
О Пушкине известно так много, как, может быть, ни о ком из великих писателей и мало о ком из великих людей вообще. Но остается прав Достоевский: «Пушкин… бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну». Причина не в том, что, наряду с нашим знанием о Пушкине, остается множество пробелов, загадок и секретов. Разгаданная загадка, раскрытый секрет исчезают как таковые; тайна остается тайной даже тогда, когда мы созерцаем ее лицом к лицу. Тайна — это не количество, а качество, не сумма и сложность, а целостность и простота. В тайну невозможно проникнуть, ею можно только проникнуться, и это уже проблема не ученая, а духовная. В сущности, любая простая истина заключает в себе тайну.
Тайна Пушкина проявляется, в частности, в том, что в нем необыкновенно много очевидного и простого — такого, что культурный наблюдатель улавливает, что называется, невооруженным глазом.
Очевидны не только уникальная высота закрепленного за Пушкиным в культуре царственного ранга, не только известные «заслуги» его: создатель русского литературного языка, родоначальник всех жанров отечественной литературы двух последних веков, оказавший решающее влияние на все области искусства, философской и общественной мысли России, писатель-пророк, центральная фигура русской культуры и т.д. и т.п.; очевидны и сами качества его гения. Настолько очевидны, что определения их звучат сами по себе общо и абстрактно:
— простота, совершенство, красота;
— сила, масштабность, глубина;
— точность, ясность, лаконизм;
— широта, неисчерпаемость, многозначность;
— сердечность, проникновенность, человечность;
— объективность, универсальность, мудрость… и т.д.
По отдельности и в разных сочетаниях эти качества свойственны многим произведениям и многим художникам; но соединяя их, перечисляя все эти «абстракции», мы тем самым словно набрасываем силуэт, в котором можно угадать только Пушкина и никого другого.
Для каждого великого художника можно подыскать одно или несколько определений, дающих представление о своеобразии его индивидуальности, ее оригинальных чертах; «индивидуальность» Пушкина представляется неуловимой, об «оригинальности» говорить неуместно. Зато нельзя не вспомнить, для аналогии, знаменитых слов Ломоносова о русском языке, чудесно сочетающем «великолепие Ишпанского, живость Французского, крепость Немецкого, нежность Италиянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость Греческого и Латинского языка». Пушкину бывает свойственна и могучая непосредственность Гомера, и головокружительная глубина, многообразие и темперамент Шекспира, и интеллектуальная мощь и спокойная мудрость Гете, и провидческая дерзость, мистическая напряженность, грандиозность архитектурных построений Данте, и музыкальное изящество Петрарки, и всепроникающий взгляд Достоевского в бездны человеческой души, и лукавая простота русской сказки, задушевность русской песни, и многое иное, в тол числе свойственное как динамическому Западу, так и созерцательному Востоку.
При всей этой универсальности о Пушкине можно сказать его же словами: «Там русский дух, там Русью пахнет». Пушкин наиболее полно и всесторонне выразил Россию — во всем объеме душевного и духовного склада ее, включающего самое, казалось бы, несовместимое?) безудержную страстность — и «верховную трезвость ума» (Гоголь), безбрежную широту — и тончайшее изящество, стремительность — и cозерцательность, «разгулье удалое» — и «сердечную тоску», «покой» — и «волю», земную крепость — и «духовную жажду», гордость — и тихое смирение, простодушие — и тысячелетнюю мудрость, пиршественость — и аскетизм…
И ни одно из названных качеств Пушкина не «выпирает», все слито в единый, целостный, гармонически устроенный мир.
Будучи единственным в мире «классиком», который для своего народа остается не достоянием истории, а в полной мере живым явлением, Пушкин в то же время есть, в определенном смысле, национальный миф, то есть выражение глубинных знаний и представлений народа о бытии; в сознании людей он порой роднится со знаменитыми героями мифологии, литературы, народной сказки и даже анекдота — оставаясь в то же время гигантским, величественным образом. При всем этом он — конкретная личность, единственная, неповторимая, не похожая ни на кого, кроме себя, личность живого человека, к которому и с которым у каждого могут быть, как в жизни, свои личные отношения.
В то же время с ним у нас связано представление о некоем человеческом идеале — не непогрешимости или святости, но жизненной полноты, в которой самые разные, может быть и противоположные, свойства и черты личности чудесным образом дополняют и уравновешивают друг друга, в которой все необходимо и нет ничего лишнего, все на своих местах, исполнено жизни, свободы, творческой энергии.
И хотя творческая индивидуальность Пушкина «неуловима», одно определение все же существует. Стоит сказать: солнечный гений, — и имени можно не называть, это приложимо только к Пушкину. Разумеется, в литературе немало радостных произведений и жизнелюбивых художников, немало шедевров и писателей, которые, изображая зло жизни, отвергают его и утверждают добро. Пушкин ничего не «отвергает» и не «утверждает»; но ни у кого больше не найдем мы — при столь плотной концентрации трагизма в изображении жизни — столь мощной солнечной энергии, источаемой вот этим самым художественным изображением. Здесь Пушкин решительно выделяется из всей литературы европейского Нового времени, насчитывающей тысячелетие.
В чем тут дело?
Основной темой европейской литературы — да и всей культуры — было трагическое противоречие между величием человека, его разума и духа, царственностью его положения в природе — и неблагополучием, катастрофичностью его реального бытия. Собственно, великая эта культура и возникла как выражение потрясенности загадкой, которую можно назвать парадоксом человека.
Пушкин отнесся к этому парадоксу иначе, чем вскормившая его культура. В этом причина (одна из главных, если не главная) его единственности, его — решимся на противоречие тому, что сказано несколько выше, — своеобразия, которое, однако, имеет совсем особый, выходящий за пределы литературы характер.
Чтобы уяснить это, надо иметь соответствующий фон и масштаб.
- Один из самых прославленных текстов древнегреческой литературы гласит:
Много есть чудес на свете,
Человек — их всех чудесней…
Мысли его — они ветра быстрее;
Речи своей научился он сам;
Грады он строит и стрел избегает,
Острых морозов и шумных дождей;
Все он умеет; от всякой напасти
Верное средство себе он нашел.
Это — Софокл, «Антигона». В его же трагедии «Эдип-царь» говорится:
Люди, люди! О, смертный род!
Жизнь людская, увы, ничто!
В жизни счастья достиг ли кто?
Лишь подумает: «Счастлив я!» —
И лишается счастья.
Рок твой учит меня, Эдип,
О злосчастный Эдип! твой рок
Ныне уразумев, скажу:
Нет на свете счастливых.
В античной трагедии ярко отразился кризис языческих представлений о мире и человеке. Древнее родовое языческое сознание относилось к бытию как к механизму, с которым надо уметь обращаться (без всякой, впрочем, гарантии успеха). С ростом индивидуального сознания, с накоплением достижений разума, с возрастанием роли человеческой личности такие отношения с бытием вызывали все большую тоску. Осознавая себя некой высокой, неповторимой, уникальной ценностью, человеческая личность все яснее ощущала свою беспомощность перед всемогущей, загадочной и совершенно безразличной к человеку силой — Судьбой, Роком.
То, что названо выше «парадоксом человека», стало наиболее мучительной из проблем, которые тревожили философскую и художественную мысль. Ведь античный человек очень высоко ценил свой разум, он был для него мерой всего, точкой отсчета и критерием истины. И «парадокс человека» для мыслителей и художников был не просто предметом переживания, но — вопросом рационального познания, своего рода интеллектуальной загадкой: как же устроен этот мир, который столь очевидно прекрасен, но в котором столь чудесному существу, как человек, так плохо? Несмотря на всю силу человеческого разума, загадка не разгадывалась. Противостояние гордого разума «секрету» бытия было настоящей мукой, что и отразилось в фатализме — трагическом представлении о непостижимом и бездушном Роке, который навязывает людям судьбу помимо их светлого разума и воли.
Это была драма разума, стремящегося овладеть тем, что ему по природе недоступно, попавшего в порочный круг; драма сознания, видящего загадку и секрет там, где на самом деле — тайна.
Однако в самой этой драме, в трагическом недоумении античного сознания перед непостижимостью и бесчеловечностью рока был страстный порыв к одухотворенному смыслу бытия. Это, в конечном счете, и способствовало торжеству христианства. Когда апостол Павел пришел в Афины проповедовать Христа, он обратился к собравшимся так: «Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны; ибо проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано: «неведомому Богу». Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я и проповедую вам» (Деян.17,22-23).
В самом деле, религия «неведомого Бога», религия Христа, пришла в Европу прежде всего через Грецию, которая была отчасти подготовлена к этому напряженными исканиями и предчувствиями культуры (среди которых, к примеру, прикованный к скале Прометей — смутный прообраз Распятия), выдающимися мыслителями языческого мира: отцом идеализма Платоном, учеником великого Сократа — «христианина до Христа», как называли его в средние века, — и их последователями.
(Впоследствии именно греческий вариант христианства был принят Русью: дух высокого «идеализма» и неотмирности характерен для нашего православного исповедания; в западном же христианстве возобладал более материалистический дух Рима с его первенством мирских ценностей. Забегая вперед, можно сказать, что это и повлекло принципиальную разницу в характере культур русской и западноевропейской.)
Христианство произвело переворот в европейском сознании и мышлении. Оно совсем иначе поставило проблему человека и его участи в мире. Точкой отсчета и центральным моментом оказались не человеческий разум и задача познания мироустройства, а как раз то, что разуму неподвластно: наличие тайны бытия. Стена, в которую уперся, о которую бессильно бился жаждущий всем овладеть разум, стала для нового мировоззрения фундаментом, краеугольный камень которого — величайшая тайна: вочеловечившийся Бог, крестной жертвой указавший людям путь к вечной жизни.
Новое представление о мире и человеческой участи в нем состояло в том, что Бог, сотворивший мир и создавший человека, изначально предназначал свое любимое творение для бессмертия, которое, однако, было утрачено человеком по его собственной вине. Любви к Богу человек предпочел хитроумие духа зла, сердечному доверию к Божьей тайне — овладение тайной, подчинение ее себе. Тем самым человеческое, рациональное, «естественное» было поставлено выше божественного, сверхъестественного; физическое — выше духовного; обладая свободой выбора, человек выбрал низшее, сочтя его за лучшее и высшее.
Совершив такой выбор — учило христианство, — отвернувшись от Творца, человек выбрал свой жребий. Он выбрал власть низших стихий «естества» (которые хоть частично и доступны желанному умственному познанию, зато безразличны к человеку) — власть законов «равнодушной природы» (Пушкин): стихийных сил, естественных инстинктов, биологического эгоизма, борьбы за существование, болезней и неизбежной смерти. Он выбрал закон той самой необходимости, которая в сознании античного человека приобретет мифологизированный облик Рока, повелевающего всем бытием.
Вместе с тем человек не превратился в результате грехопадения в существо, безотчетно живущее по животным законам: он лишился бессмертия в Раю, Царстве божественной любви и свободы, но личная внутренняя свобода, свобода выбора между добром и злом, осталась при нем вместе с разумом и другими дарами, отличающими человека от зверя, — только вот пользовался он этим даром в чуждых свободе условиях, где «необходимость», «польза», корысть побуждали на каждом шагу выбирать зло.
Так, по христианскому учению, началась история человечества — цепная реакция греха и зла, порождающего, по законам «естества», новое зло, тяготеющее на отдаленных потомках. И так возникло в сознании людей то, что названо выше «парадоксом человека». Истолковываться этот парадокс мог по-разному (античный фатализм — один из примеров), но истинная сущность его — это возникшее в падшем человеке противоречие между изначальной внутренней свободой — и той несвободой, тем миром необходимости и смерти, которые человек сам, своим выбором, предпочел.
До Христа «парадокс человека» казался неразрешимым потому, что на эту проблему смотрели с точки зрения наличных условий падшего мира, из сферы несвободы и зла, — смотрели как на нечто изначальное и роковое — забыв о грехопадении, породившем зло. Христианство «перевернуло перспективу»; участь человека на земле была увидена как бы «с другого конца» — из сферы свободы и добра, из перспективы вечной жизни или, как теперь говорят, из области идеала. Оказалось, что идеал — не отдаленная мечта, а то, что есть в каждом человеке, изначально заложено в него Богом при творении, — и все дело не в Роке, а в том, соответствует ли поведение людей этому идеалу; Царство Божие — внутри вас, сказал Христос (Лк.17,21). Оказалось, что корень «парадокса человека» — не в устройстве мира, не во всесилии Рока, а в рабстве человека греху, в противоречии между высоким призванием человека и его жизненной практикой, его поведением в жизни.
Жизнь человечества после грехопадения — непрестанный жестокий поединок между божественным и животным в человеке, между стремлением к идеалу, верой в него, и низшими интересами, между свободой, изначально дарованной человеку, и тиранией смертного физического естества. А рядом с эгоизмом, властью низших потребностей уживались высокий разум, стремление к добру, чувство красоты, способность к любви, подвигу, раскаянию и жертве, тоска и горечь от некой великой утраты — все то, что продолжает связывать человека с Богом, свидетельствует о высоком человеческом предназначении; все то, что Пушкин назвал «духовной жаждой» и что вечно «томит» человека в «пустыне мрачной», какою стал человеческий мир в результате греха.
Ответом на эту жажду, актом милосердия Бога к падшему человеку и было явление Христа — вочеловечение, искупительная крестная жертва, добровольно принесенная ради людей, и Воскресение — непостижимо таинственная, но очевидная победа божественного над «природным», закона любви над законами эгоистического «естества», жизни над смертью. Все, по чему томилось утратившее бессмертие человечество, что существовало для людей лишь в области мечты и идеала, во Христе воплотилось в реальность. Оказалось, что тайна бытия хоть и непознаваема, но исполнена любви к человеку, что зло и смерть не всесильны, мир замышлен и устроен прекрасно и человек, исказивший в себе Божий образ, может, если захочет, вернуть себе божественное достоинство и обрести вечную жизнь.
Переворот, совершенный христианством, был, помимо прочего, в том, что ум европейского человека перестал гордо противостоять тайне бытия, пытаться проникнуть в нее как в лагерь противника и уступил место вере — вере в истины, принесенные Сыном Божьим. В результате разум не уменьшил, а умножил свою силу — так доверие к интуиции ведет ученого и художника к открытиям. Христианство создало новый тип сознания, в котором «духовная жажда» из смутного и мучительного томления превратилась в ясную веру, в волевое усилие и энергию осознанной деятельности, направленной человеком как во вне, так и прежде всего внутрь себя, на свое совершенствование. Оно создало новую культуру.
Происхождение человеческой культуры не только в историческом, но и в духовном смысле связано с падшим состоянием мира. «Когда б вы знали, из какого сора Растут стихи, не ведая стыда» — эти слова Анны Ахматовой можно отнести ко всей культуре. Плод избранности человека, создание его богоподобного творческого дара, культура выросла, как изумительный цветок, из крови и грязи падшего мира, хранящего смутную и мучительную память или мечту о чем-то то ли несбывшемся, то ли несбыточном. Она возникла как выражение «парадокса человека», страданий его и сострадания ему, она придавала благообразие его страданию, стала органом самосознания и самообладания человечества.
С возникновением христианства культура стала осознавать и самое себя, осознавать, что она есть память об утраченном Рае, данная Богом человеку; и что как бы ни была она, культура, велика и прекрасна, она всего лишь менее или более бледное подобие той утерянной гармонии, по сравнению с которой даже Моцарт — слепой скрипач. Но все же — подобие, но все же — память; и призвание культуры — не только сострадать человеку и рефлектировать по поводу человеческой участи, но и напоминать человеку о том, для чего он был предназначен, что и почему утратил.
Возникшая на основе христианства культура средних веков преобразила или, лучше сказать, заново создала Европу, духовный строй ее наций, да и сами нации, их быт и государственность. Само мышление изменялось; осознание присутствия в мире тайны, небезразличной к человеку, дало мышлению новые масштабы, новую глубину. Средним векам мы обязаны, при всех темных сторонах (свойственных, впрочем, любой эпохе), многими открытиями и еще более — истоками последующих успехов; тогда была заложена глубинная основа всего великого в европейской культуре.
Все это не значит, что жизнь в христианском мире стала легче, — наоборот. Царство Божие — внутри вас, сказал Христос; но куда труднее обрести это Царство в борьбе с собственным злом, чем бороться с внешними врагами. «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною», — сказал апостол Павел (1Кор.6,12), и такова формула истинной свободы, рождающей не хаос, а целеустремленность. Величайшим открытием христианства как учения о свободе человека было открытие феномена совести. Ранее это свойство, присущее человеку, не было осмыслено: то жгучее чувство, что терзает нас в определенных случаях, древние греки понимали как боязнь позора и бесславия; Сократ первым сказал, что в человеке есть некий дух, подсказывающий ему, что должно и что не должно. Христианство осмыслило со-весть как безотчетное, но общее всем людям со-знание, со-ведение о существовании Высшей Правды, как проявление знания человека о его богосыновстве, как память о его грехопадении — память, предостерегающую каждого человека от повторения и укоряющую за него. Говоря иначе, совесть была осмыслена как принадлежность человеческой свободы, орудие никем и ничем извне не вынуждаемого выбора.
Однако осознанная свобода христианина, устремленного к идеалу оказалась тяжкой ношей — гораздо более тяжкой, чем несвобода язычника, возлагающего ответственность за все на то, как «устроен мир». Между тем материальный прогресс, другие успехи пробуждали в человеке сознание его безграничных возможностей, гордость своим разумом, инициативой и достижениями; успехи наводили на мысль, что для достижения идеала не обязательно уповать на будущую жизнь в невидимом и неведомом Царстве Небесном, жертвуя ради этого благами, которые гораздо доступнее, и что, в конце концов, вполне возможно реконструировать утерянный Рай средствами, предоставляемыми наукой, техникой, социальной и политической мыслью. Здесь исток всех утопических моделей счастливого общества и государства, земного рая, блаженство в котором хоть и не вечно, зато достигается не личными духовными усилиями, а правильным социальным устройством. И здесь же, спустя тысячелетие после того, как в Европе стало утверждаться христианство, в эпоху Ренессанса, вновь открывшего забытую культуру греческой и римской древности, оказался кстати идеал античного человека и античного общества, составившийся в основном из представлений о «золотом веке» Перикла.
Ошеломившая Европу неповторимая и неувядаемая красота античного искусства, гений трагиков и поэтов, архитекторов и скульпторов, философов, политиков и полководцев, мощная и разработанная мифология, величественная история, героические характеры, наконец демократические и республиканские черты античного общества — все это сложилось в идеализированную картину, представляющую некий утраченный Рай, в образ забытого, а вот теперь припомнившегося золотого века — мира радости, солнца, озаряющего белоколонные здания, мира свободы и творчества; в центре же этого мира был не Бог (поскольку многочисленные языческие боги — в сущности те же люди, только бессмертные, да и воспринимались они европейцами не всерьез) — в центре был Человек, сильный, свободный, разумный, «всех чудес чудесней». Античный фатализм, трагическое одиночество человека перед лицом Рока отошли в ренессансном сознании на задний план; незнание античным человеком Бога выглядело не источником трагизма, а наоборот — показателем свободы и самостоятельности (примерно так же, как афинская рабовладельческая демократия выглядела свободным обществом).
Возникла новая утопия, в высшей степени заманчивая для европейского человека, который, будучи вдохновлен успехами прогресса и цивилизации, начал в то же время духовно уставать — не только от власти западной Церкви с характерной для нее жесткой регламентацией всей жизни, но и от самого понятия о личной ответственности перед Богом, от сознания своего несовершенства, борьбы с грехом, необходимости покаяния и соблюдения заповедей. Воспитанная средними веками привычка, стоя на земле, тянуться к небу стала осознаваться как тяжкая обязанность, стеснение личной свободы, неуместное при таких достижениях цивилизации. Гораздо большей ценностью стали считаться природный ум, талант и практичность, деловитость и изворотливость, прочие личные способности, ведущие к земному благоденствию, славе и власти, питающие уверенность в себе и гордость. Все это понемногу вытесняло ценности христианские из практической области в умозрительную. Да и само понятие о Боге, по-прежнему оставаясь во всеобщем употреблении, на практике приобретало все более неопределенный и отвлеченный характер; христианство с течением времени все более понималось скептически: не столько как сердечная вера, сколько как идеология — и философская, и общепринятая, и официальная, — а христианская система духовных и этических ценностей, формально сохраняя общезначимость, практически становилась «чисто личным» делом каждого. Бурно развивалось философское направление, восходящее к античному материализму и гедонизму — учению о том, что главная цель человека — получить от этой жизни как можно больше выгоды и удовольствий («Миг блаженства век лови», — провозгласит лицеист Пушкин), прежде чем обратиться в глину, годную, как сказал Гамлет, на затычки для бочек.
Вместе с тем, абстрагировав Бога, человек не мог так же поступить с грозными стихиями бытия, природными, душевными и общественными, их буйство продолжало обрушиваться на людей. Смерть (по христианской вере — явление относительное, ступень в иное существование) приобретала смысл абсолютного конца существования, а бессмертие души превращалось в «великое Может быть», как выразился, умирая, Франсуа Рабле. Оттого вслед за верой в разум и прогресс, за культом наслаждений, за утверждением, что жизнь создана для счастья и удовольствий, снова ползло мрачной тенью трагическое сознание человеческого бессилия перед Судьбой и Смертью. В европейское сознание возвращались языческие представления о бессмысленной, бесчеловечной и безблагодатной силе, правящей миром, — Роке; человек вновь оказался заключенным в тюрьме времени — тесном промежутке между физическим рождением и физическим исчезновением; круг замыкался.
«Последнее время — а почему, я и сам не знаю — я утратил всю свою веселость, забросил все привычные занятия; и, действительно, расположение духа у меня такое тяжелое, что эта прекрасная храмина, земля, кажется мне пустынным мысом; этот несравненнейший полог, воздух, понимаете ли, эта великолепно раскинутая твердь, эта величественная кровля, выложенная золотым огнем, — все это кажется мне не чем иным, как мутным и чумным скоплением паров. Что за мастерское создание человек! Как бесконечен способностью! В обличий и движении — как выразителен и чудесен! В действии — как сходен с ангелом! В постижении — как сходен с Божеством! Краса вселенной! Венец всего живущего! А что для меня эта квинтэссенция праха?» («Гамлет»).
Этот вопль скорби и отчаяния раздался в начале эпохи, которой суждено было разработать и оформить философию, направленную «противу господствующей религии, вечного источника поэзии у всех народов» (Пушкин), философию материализма и рационализма, оборотной стороной которой стали фатализм, дурной мистицизм и разнообразные суеверия; в эпоху, признавшую единственной абсолютной реальностью небытие, из которого появляется на свет человек и в которое он возвращается, — и назвавшую себя эпохой торжества Разума, веком Просвещения.
Если христианство было, по выражению Пушкина, величайшим духовным переворотом в жизни Западной Европы, то теперь совершилась духовная катастрофа. Ведь все происходящее имело место не в языческом мире, не знавшем Бога, не среди людей, живших до Христа, а в таком мире, который существовал после Христа, знал Христа тысячу лет, да и возник-то, как таковой, благодаря христианству. В европейском сознании многое пошло так, словно никакого Христа не было, не было не только Евангелия, но и Ветхого Завета, не только тысяч христианских мучеников и подвижников, но и религиозных прозрений идеалистов Греции. Словно все вернулось далеко назад — к моменту грехопадения.
Вновь возникшее трагическое сознание пропасти между величием человека и его уделом на земле, между идеалом и реальностью (как понимало их новоевропейское сознание) было источником как вдохновеннейших дерзновений и открытий, так и мучительных и часто бесплодных поисков, путаницы, двусмысленностей и тенденций прямого нравственного, а порой и художественного упадка; «все высокие чувства, драгоценные человечеству, — пишет Пушкин, — были принесены в жертву демону смеха и иронии», «греческая древность осмеяна, святыня обоих Заветов (Ветхого и Нового. — В.Н.) обругана», поэзия превращалась в «мелочные игрушки остроумия», роман делался «скучной проповедью или галереей соблазнительных картин». Вольтер цинично осмеивал в своей поэме национальную героиню Франции Жанну Д’Арк, погибшую на костре; Байрон окружил романтическим «бунтарским» ореолом первоубийцу Каина; слова гетевского Мефистофеля: «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно творит добро», — истолковывались и стяжали авторитет в качестве оправдания зла. Это была эпоха и циническая, и трагическая — обе эти стороны ее получили выражение в словах пушкинского Сальери: «Все говорят: нет правды на земле; Но правды нет — и выше».
Но Христос был, Евангелие существовало, и уже ничто не могло сделать это не бывшим и уничтожить христианскую «закваску» европейского сознания — и оно металось между Роком и Богом, между Богочеловеком Христом и человекобогом Прометеем, между мечтой о бессмертии и жаждой получить все блага здесь и сейчас; металось, пытаясь то ли что-то выбрать, то ли как-то все сочетать, испытывая притом тайное чувство вины и тайную потребность оправдаться, — и в результате неудач выходя к агрессивной идее несовершенства мира. Идея эта, мрачная и демоническая, заключала в себе своего рода удобство: она была универсальна, то есть годилась для любого мировоззрения, от абстрактно-религиозного до безбожного, и, благодаря своей духовной пустоте, могла являться в разных вариантах: богоборчества или человекобожества, откровенного равнодушия ко всему кроме выгоды или призыва все разрушить, «все утопить» (Пушкин, «Сцена из Фауста»), утопических мечтаний или пафоса революционной переделки мира, откровенного аморализма («все дозволено» Ивана Карамазова) и уголовщины.
А этой разрушительной идее на каждом шагу противостояла очевидная красота мира, природы, человеческого творчества, проявлений высокого духа, разума и совести — все то, что было объяснено только христианской верой и непротиворечиво вписывалось только в христианскую картину мира. И все это с необыкновенной силой выражалось в лучших созданиях культуры Европы. Однако в ее художественном мире зло было, как правило, не только преобладающей, но наиболее действительной, наиболее действенной и активной реальностью; добро же чаще всего оказывалось в высокой и далекой области мечты, которую столь безуспешно стремился воплотить Рыцарь Печального Образа; добро, подобно солнцу в зеркальце, вспыхивало в душах героев, их чувствах и поступках, являя нечто близкое к идеалу, пробуждая надежду, но в то же время озаряя мрак жизни во всей ее далекости от мечты. Художник чаще всего творил свою картину жизни изнутри ее мрака; но из окна тюрьмы виден лишь клочок неба. Иная картина мира — мира, освещенного солнцем Высшей правды, — в таких координатах была невозможна, требовала условных приемов разного рода; такой условностью выглядит, к примеру, вторая часть «Фауста» Гете (особенно финал, где Мефистофель терпит поражение, а душу Фауста уносят ангелы) по сравнению с первой частью, где полновластно хозяйничает дух зла.
Трагизм новоевропейского сознания был иной, чем трагизм языческого фатализма: там была «загадка» мироустройства, неразрешимая интеллектуальная проблема, возникшая из незнания Бога, — здесь была духовная драма бунтующего сознания. Сознание это хотело бы обойти Бога, перешагнуть через Христа, переосмыслив христианские ценности, приспособив их к преходящим земным нуждам, — но не может этого сделать до конца, будучи сознанием христианским.
В результате единое Бытие было расколото надвое: все темное и мрачное в нем, все совершаемое в обход Бога, порожденное человеческим грехом, своеволием, ложью было отнесено к области действительности, подлинной и основной реальности (оттого «реализмом» нередко именовалось именно воспроизведение мрака жизни); а все причастное Богу как Источнику жизни, правды и добра — к области идеала, понимаемого притом как нечто не вполне реальное или вовсе недостижимое, доступное не практике, а мечте. Возникла фундаментальная коллизия художественной культуры нового времени: «противоречие между идеалом (мечтой) и действительностью».
Это противоречие выражала, им мучилась, его пыталась разрешить европейская культура — прежде всего литература; в этом стремлении — основа ее величия и ее трагизма.
Русским наследником ее оказался Пушкин. И в его лице культура совершила неожиданное; об этом выразительно сказал на рубеже прошлого и нынешнего веков в статье, посвященной столетию Пушкина, Лев Шестов:
«Пушкину нужно показать нам, что идеалы существуют на самом деле, что правда не всегда в лохмотьях ходит и что наряженная в парчу неправда на самом деле, а не только в мечтах склоняет свою голову перед высшим идеалом добра. Пушкин нашел в русской жизни Татьяну, и Онегин ушел от нее опозоренный и уничтоженный в своем бессмысленном отрицании. Он знает теперь, что ему нужно возвыситься, а не снизойти к Тане. В этом его спасение и наша великая отрада»; «Там, в Европе, лучшие, самые великие люди не умели отыскать в жизни тех элементов, которые бы примирили видимую неправду действительной жизни с невидимыми, но всем бесконечно дорогими идеалами, которые каждый, даже самый ничтожный человек вечно и неизменно хранит в своей душе. Мы с гордостью можем сказать, что этот вопрос поставила и разрешила русская литература, и с удивлением, с благоговением может теперь указать на Пушкина: он первый не ушел с дороги, увидев перед собой страшного сфинкса, пожравшего уже не одного великого борца за человечество. Сфинкс спросил его: как можно быть идеалистом, оставаясь вместе с тем и реалистом, как можно, глядя на жизнь, верить в правду и добро? Пушкин отвечал ему: да можно, и насмешливое и страшное чудовище ушло с дороги» (Лев Шестов. Умозрение и откровение. Религиозная философия Владимира Соловьева и другие статьи. YMCA-Press, Париж, 1964, с.337, 334. — В.Н.).
Размышляя о том, каким образом Пушкин, по словам того же Л.Шестова, «введший идеализм в нашу литературу, основал в ней также и реализм», какова художественная природа сочетания того, что ни у кого другого не сочеталось, — не следует искать никакого специфического «секрета»: Пушкин весь на виду и все основные присущие ему творческие особенности очевидны, они встречаются в том или ином качестве и сочетании у других художников — это общие свойства искусства, ничего небывалого Пушкин не выдумал. Другое дело — как и чему служат они у Пушкина.
- Общеизвестна феноменальная пушкинская точность: ни одного слова нельзя заменить иным или переставить на другое место. Вероятно, поэтому в начале нашего века одного исследователя (А.Тамамшева, автора обзора «осенних мотивов» у Пушкина — сб. «Пушкинист», вып.II, Пг., 1916 — В.Н.) привели в недоумение знаменитые строки «Осени»:
Октябрь уж наступил; уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей…
Указывая на «невозможность что-либо отряхнуть с нагих ветвей», исследователь причислил эти стихи к «неясным». Конечно, «яснее» и точнее было бы сказать о ветвях, на каждой из которых сохранилось два, три, несколько листочков. Однако такая точность уничтожила бы живой и эстетически полнокровный образ. Да и в бытовой речи, говоря об обнажающейся осенью роще, мы вряд ли будем говорить о количестве листьев и скажем, наверное, о голых или почти голых ветвях, то есть предпочтем выразиться «неточно». Пушкин пользуется для создания художественного образа обычным бытовым зрением, приблизительно фиксирующим некоторую очевидность.
С точки зрения рациональной, логической, выходит парадокс. Фактически точное определение, указывающее на количество листьев, не создает истины образа, а впечатляющий образ — листья, падающие с нагих ветвей, — неточен, не отвечает «фактам». Где же вся истина, полная и исчерпывающая? Выходит, что она непостижима: мы можем ее наблюдать, созерцать «бытовым» зрением, но овладеть ею логически, рационально не можем. Полная истина не вмещается ни в нашу логику, ни в наше слово: находясь совсем рядом, лицом к лицу с нами, доступная созерцанию, она в то же время находится словно в заколдованном пространстве.
Но Пушкин и не пытается в это пространство проникнуть. Подчиняясь предстоящей ему тайне, он лишь обозначает «заколдованное» пространство истины доступными ему координатами: двумя «неполными» и «неточными» определениями, которые к тому же состоят в парадоксальных отношениях, отрицая друг друга; в результате получается живая картина, которую мы можем увидеть внутренним взором: образ облетающих деревьев, полностью отвечающий истине — как художественной, так и фактической. Не «овладевая» истиной рассудочно и словесно, не проникая в нее рационально, мы проникаемся ею, попадаем в поле ее тяготения, в ее таинственное пространство.
На этом принципе парадокса — когда нам даются лишь некоторые «противолежащие» границы пространства истины — пространства тайны, — построено все стихотворение «Осень»:
Унылая, пора! очей очарованье,
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье…
Образ очерчивается, «обводится» определениями, каждое из которых не смыкается с другим, не дополняет другое, а резко другому противовесит. «Контур» получается прерывистым, пунктирным, равновесие — неустойчивым, качающимся, пространство — подвижным, мерцающим, незамкнутым и — втягивающим в себя. Истина — очевидная, но снова «непостижная уму», не названная «точно» никаким словом, но явленная, — овладевает нами.
Вряд ли можно найти другое стихотворение, которое было бы одновременно столь смиренным и столь страстным, умиротворяющим и пронзающим, как «Я вас любил; любовь еще быть может…»; мы никогда не сможем ни назвать, ни даже для себя решить окончательно, что же преобладает, что выражается здесь в итоге: подавляемая ревность или самоотвержение, понимание или обида, горечь неоцененного и потому затухающего чувства или его скрытое пламя, «любил» или «люблю». Мы в силовом поле, образуемом «разнозаряженными» реальностями, которые противостоят и взаимодействуют, борются и ведут диалог, в результате чего мы проникаемся истиной, созерцаем ее прекрасную непостижимость.
В известном эпизоде «Капитанской дочки» Гринев видит и слышит, как сидящие за столом «Пугачев и человек десять казацких старшин… разгоряченные вином, с красными рожами и блистающими глазами», поют народную песню о виселице, которая ждет и разбойника, героя песни, и их самих: «Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, — все это потрясало меня каким-то пиитическим ужасом». «Красные рожи» и «пиитический ужас» — стилистически несовместимые выражения, две правды, относящиеся к разным уровням жизни, между ними огромная внутренняя дистанция, эмоциональная и эстетическая. И снова «разряды», проскакивающие между этими «полюсами», образуют в контексте эпизода не нечто «третье» и не «сумму», а напряженное поле, где ужас и мрак жизни связаны с ее же светом и красотой какою-то парадоксальной трагической гармонией — «непостижной уму», но проникновенной и потрясающей.
Вспоминается «жало мудрыя змеи» («Пророк») — двойной, раздвоенный язык, которому дано поведать о тайне. Мудрость Пушкина в том, что он не берется выразить истину — он выражает ее невыразимость; он указывает на ее тайну — и тогда истина является сама: «Печаль моя светла».
Описанное есть одно из общих качеств искусства, природное его свойство, встречающееся нередко и у других художников. Но одно дело — природное свойство огня испускать свет, другое — использование огня для освещения. Природное свойство искусства для Пушкина уже не только свойство, но — творческое орудие, взятое у природы и усовершенствованное: принцип построения образа. В том числе — образа человека. И — что для нас в данном случае особенно важно — человека грешного, «падшего».
В мире Пушкина очень много таких людей — преступников, убийц, предателей. Деяния их несомненно ужасны, но сами эти люди вызывают не только антипатию (как, например, шекспировские Яго, Ричард III, Клавдий из «Гамлета», Эдмунд и другие персонажи «Короля Лира» и пр.). Пугачев и ужасен в своем зверстве, и прекрасен в бескорыстии, широте и благородстве. Барон из трагедии с откровенно парадоксальным названием «Скупой рыцарь» совмещает стяжательство с рыцарским духом, величие с низостью. Борис Годунов преступен, но и несчастен, он и знает свою вину, и катастрофически ее не понимает. Анджело, добивающийся Изабелы, сознает свою бесчестность, но не может бороться с собой, в финале же сурово говорит, что заслужил смерть.
Противостоянием злого и доброго художественно создается пространство личности, имеющее иррациональную глубину. Оказывается, что Пушкин, не умаляя зла, творимого героями, в то же время сочувствует им.
Однако здесь не то сочувствие, что знакомо нам по греческой трагедии, представлявшей человека жертвой Рока; не скорбь Гамлета над несчастной человеческой участью. В судьбах героев Пушкина нет фатальной неотвратимости, в мире Пушкина нет зла, которое совершалось бы по «роковым» причинам, по склонности характеров, будь то смерть Графини в «Пиковой Даме», или предательство Князя («Русалка»), или отравление Моцарта. Зло всегда обусловлено — наводнение ли это (результат горделивого произвола Петра, воздвигшего город в опасном месте, «под морем», «назло» не только «надменному соседу», но и самой природе) или иное стихийное бедствие («Бог насылал на землю нашу глад», — говорит царь Борис, втайне зная, за что). Зло всегда имеет свой «резон» и творится людьми сознательно, с вполне постижимыми целями, по свободному выбору. И делают этот выбор у Пушкина личности яркие, характеры могучие; в них есть качества, противоположные их преступлению; сквозь мрак их деяний различима печать человеческой силы и красоты, высокого духа; еще немного — и о них можно было бы сказать словами Гамлета: «Что за мастерское создание человек!»… Но к ним же применимы слова Татьяны: «Как с вашим сердцем и умом Быть чувства мелкого рабом?»
Понять «механизм» этого противоречия, составляющего суть пушкинских «злодеев», нередко пытались через анализ их психологии. Пушкин и в самом деле несравненный знаток человеческой души — но он не «психологический» писатель: то, что называется психологизмом — анализ душевных состояний, описание их, — не является его художественной целью.
Чужая душа — потемки, говорит пословица. Художник-«психолог» спускается в потемки чужих душ, чтобы докопаться, сквозь общее всем людям, до замкнутого мира личности, до тайны, которая у каждой души своя. Предмет анализа как такового — человек как именно другой человек, то есть как объект познания, интересный тем, чем он отличен от иных людей. То, что людей объединяет — некая общая для всех истина, — как бы выносится за скобки либо предстает преломленным через многие «частные» истины, которые, в свою очередь, преломлены через сознание художника, увидены и истолкованы так, как свойственно только ему.
Пушкин идет иным путем. Он не делает душу героя объектом анализа, предметом разъятия и изучения, как что-то чужое себе; не входит в «потемки» души со светильником своего понимания и истолкования, не посягает на ее недра. Точка зрения Пушкина помещается «снаружи» героя — так сказать, в другой перспективе. Смиряясь перед тайной человеческой души, он всматривается в то очевидное и простое, что доступно (вспомним листья, падающие с «нагих» ветвей) обычному «житейскому» взгляду. Он наблюдает в человеке то, что находится на поверхности, на свету, то, что выражает внутреннее в человеке внешним образом, общеизвестным и общеузнаваемым; он не доискивается в герое черт, которые лежат глубоко, а обращает внимание на те, что делают этого человека сопоставимым с другими.
Наиболее же сопоставимым и общим, а также и наиболее очевидным, в каждом человеке являются его действия и поступки, то есть его поведение, доступное нам во внешнем выражении, — будь то деяние практического характера, или воплощенное в слове, или проявленное каким-либо образом чувство [например, чувство, выраженное в простом физическом движении: «Он молча медленно склонился И с камня на траву свалился» («Цыганы»); «Она вскрикнула: «Ай, не он! не он!» — и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви без всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал: «Пошел!» («Метель»). Пушкин придавал большое значение изображению, как он говорил, «физических движений страстей». Этим было, кстати, положено основание реализма на русской сцене: краеугольный камень системы Станиславского — «метод физических действий». — В.Н.], и пр. Сообщаются, конечно, и мысли героев, и не высказанные в словах чувства, и внутренние монологи, но все это занимает у Пушкина довольно скромное место, появляется при крайней необходимости, подчиняется очень сходным принципам сопоставимости, выразимости, аскетической простоты.
В результате там, где у другого писателя могли бы быть целые абзацы, а то и страницы блестящего анализа или описания, мельчайшие детали, тончайшие нюансы, — у Пушкина несколько слов. «Ух, тяжело!., дай дух переведу… Я чувствовал: вся кровь моя в лицо Мне кинулась и тяжко опускалась…» «Германн глядел в щелку. Лизавета Ивановна прошла мимо его. Германн услышал ее торопливые шаги по ступеням ее лестницы. В сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести и снова умолкло. Он окаменел». Дон Гуан, увидев, что Статуя Командора кивнула головой, говорит всего лишь: «О Боже!» и «Уйдем».
Отсюда монолитность, монументальность пушкинских образов, порой парадоксально сочетающаяся с какой-то облачной воздушностью. Это, кстати, нередко ставит в тупик художников-иллюстраторов — Пушкин описывает внешний облик героев тоже в общих и внешних чертах: одежда, высокий рост Петра («Арап Петра Великого»), «кудри черные до плеч» у Ленского, «сорочка легкая», спустившаяся с плеча Татьяны, — вот и все; исключения редки и всегда имеют особые причины. Отсутствует портрет Онегина; Ю.Тынянов даже писал, что заглавный герой романа в стихах — пустота, обведенная «кружком имени»; он объяснял это по-своему, не обратив внимания на характер поведения Онегина, у которого поступки в сущности отсутствуют: все, что делает Онегин, лишь условно может быть названо поступками, на самом деле это лишь реакции, вызванные обстоятельствами, а не поступательные действия: герой романа похож на щепку, несомую течением обстоятельств.
Итак, можно формулировать два связанных между собой фундаментальных принципа изображения человека у Пушкина: человек есть тайна, на которую не следует посягать; изобразить человека можно только опосредованно — через его поведение, притом прежде всего в чертах, доступных нам во внешнем (в том числе словесном) выражении. Разумеется, эти принципы также выдуманы не Пушкиным, они — в природе искусства и в той или иной мере действуют в нем всегда, но у Пушкина они играют принципиально главную роль, являются не только натуральным свойством его искусства, но и целенаправленно используемым орудием автора.
Есть разные пути к достижению художником сопереживания читателя, у Пушкина они тоже бывают различны, но в основе у него — как раз наличие «пустоты» в том месте, где у других писателей — психологический анализ, описание, подробности и нюансы. Прикоснувшись к тайне личности, проявляющей себя вовне на языке поступков (общем для всего человечества, от злодея до праведника), попав в напряженное «поле», где пульсирует и прекрасное, и ужасное, причастное и «красе вселенной», и «квинтэссенции праха», встав на эту твердо очерченную почву, мы обнаруживаем, что и детали, и нюансы здесь есть, но — не «заданные» нам автором, а возникшие сами, возникшие у нас в процессе нашего личного вживания в обстоятельства героя — вживания, для которого автор, так сказать, «оставил место». Сопереживая герою, мы таким образом и его постигаем, и спускаемся в «потемки» собственной души, получая тем самым возможность познать самих себя, и притом не в мелких, случайных, суетных, проскальзывающих мимо сознания обстоятельствах и проявлениях, не в частных масштабах нашей личной отдельности от иных людей, а в заданном гением масштабе проблемы человека. Каждый из нас невольно акцентирует в пределах темы или ситуации, «заданной» Пушкиным, разные варианты и оттенки — и так проявляется неисчерпаемая многозначность Пушкина, в которой сама жизнь, в том числе — и наша жизнь, наша личность.
Отсюда и многочисленные разногласия относительно того, что Пушкин «хотел сказать» тем или иным произведением или образом. Пушкин ничего не «хочет сказать», он вообще не столько «говорит» о тайне бытия, мира, человека, сколько предъявляет нам ее. Каждым сюжетом, каждым образом предъявляется нам не только художественная, но прежде всего человеческая проблема, которую мы должны лично решить; а уж каждый смотрит в это «волшебное зеркальце» по-своему, каждый судит, размышляет, выносит оценки в пределах своих понятий.
Как это происходит — тому немало примеров в самих пушкинских произведениях. Герою поэмы «Цыганы» Алеко, горожанину, бежавшему от «неволи душных городов» и в поисках свободы приставшему к табору, мудрый старый цыган объясняет, что «не всегда мила свобода Тому, кто к неге приучен», что свобода нелегкая вещь, — и в подтверждение рассказывает о горькой участи Овидия, высланного из Рима в эти свободные, но скудные и дикие края. Выслушав рассказ, Алеко горестно восклицает, как бы обращаясь к тени прославленного поэта:
Так вот судьба твоих сынов,
О Рим, о громкая держава!..
Певец любви, певец богов,
Скажи мне, что такое слава?
Вопрос, конечно, справедливый (старик цыган даже не помнит имени Овидия), но куда более важно другое: старик хотел рассказать о том, что такое свобода, но Алеко не услышал этого. Только и говорящий о свободе, только ее, по его словам, и жаждущий, Алеко, выслушав рассказ, думает не о свободе, а о славе. И тем самым выказывает свое — быть может, неосознанное — истинное стремление: стремление не к свободе, а к славе и первенствованию; свою главную страсть: не свободолюбие, а себялюбие, — что подтверждается потом убийством Земфиры. Нехитрая история становится зеркалом души героя: реакция его на рассказ, выраженная в слове, отзывается затем в поступке.
Дистанция между словом и делом для Пушкина вообще исчезающе мала. Оттого и говорил он, по свидетельству Гоголя, что «слова поэта суть уже его дела». И наше восприятие «слов поэта», наши суждения о Пушкине, его слове, его мире, его героях тесно связаны с нашим внутренним миром. «Мой Пушкин» есть прежде всего мой автопортрет. Восприятие пушкинского слова, образа — немыслимое, понятно, вне восприятия эстетического — есть, по существу, акт духовный, осуществляемый каждым в пределах своих представлений о поведении и человеческих ценностях, в конечном счете в меру требовательности каждого к себе как человеку.
В ином случае — когда мы подходим к Пушкину как явлению «чисто художественному», призванному лишь удовлетворять наши интеллектуальные, эмоциональные, эстетические потребности и интересы, — все описываемые свойства его воспринимаются иначе. В частности, совсем по-другому трактуется его способность быть нашим «зеркалом»: он представляется художником, не имеющим, так сказать, своего мнения, пассивно отражающим все что угодно, стоящим по ту сторону добра и зла, — в конечном счете пустым; а многозначность его образов, их универсальность, обращенность ко всем, к каждому предстает неким духовным «плюрализмом», сущность которого в том, что единой для всех Истины не существует: сколько людей, столько и истин.
Такой вариант понимания тоже предусмотрен Пушкиным.
Глядя на пишущего летопись Пимена, Григорий Отрепьев сравнивает его с чиновником, который
Спокойно зрит на правых и виновных,
Добру и злу внимая равнодушно,
Не ведая ни жалости, ни гнева.
Но ведь все иначе: ни тени равнодушия к добру и злу нет ни в рассказе Пимена, ни в восклицании, которым заканчивается этот рассказ:
О страшное, невиданное горе!
Прогневали мы Бога, согрешили,
Владыкою себе цареубийцу
Мы нарекли.
Это голос личной и народной совести, вопль ужаса, в котором призыв к покаянию перед Богом. И летопись свою Пимен составляв в качестве исторического, нравственного, религиозного урока:
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро,
А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют.
Вовсе не «спокойно» «зрит» Пимен «на правых и виновных»; и за грешников молится, испытывая к ним «жалость», в которой ему отказывает Гришка. Будущий Самозванец ничего не понимает в человеке, с которым живет в одной келье как с духовным руководителем и о котором так легкомысленно судит. Пимен не «равнодушен», он — нелицеприятен, потому и четко отделяет «труды», «славу» и «добро» от «грехов» и «темных деяний», — но «Спасителя… умоляет» за всех, более всего за грешников.
И беспощаден он не к Борису (слово «цареубийца» — всего лишь констатация, всего лишь правда) — он беспощаден в самообвинении: «Прогневали мы Бога, согрешили… Мы нарекли».
Это беспристрастие, эту правду будущий Лже-димитрий, «вор» и узурпатор московского престола, и принимает за «равнодушие». Потому что для него-то, Гришки, воистину правды нет, это понятие для него лишь орудие в честолюбивых замыслах: ведь в восклицании Пимена он не слышит полной правды — но только ту ее часть, что ему, Гришке, на руку: обвинение Борису. Своим восприятием рассказа Пимена, пониманием выслушанного слова правды Гришка рисует свой истинный портрет.
Вот так пристрастно и частично понимается иными толкователями и пушкинская объективность.
«Борис Годунов» очень много значил в творческой судьбе Пушкина, и поэт отдавал себе в этом отчет, считая трагедию переломным моментом в своей жизни. Сцену с Пименом он опубликовал отдельно, задолго до выхода в свет всей трагедии — и был крайне огорчен реакцией критики, которая, вроде Гришки, ничего в Пимене не поняла. Образ старика-летописца, инока, созданный двадцатишестилетним поэтом, который еще недавно считал себя атеистом, был для него небычайно важен и дорог, был своего рода творческим «символом веры» художника, исповедующего правду и объективность в качестве художественного принципа.
Пушкин, конечно, не Пимен, а светский человек послепетровский эпохи, отмеченный многими ее чертами. Эпоха эта усвоила систему воззрений, перенятых у европейского «века Просвещения», у философии рационализма, материализма, атеизма, и передала их юному Пушкину. Его раннее творчество было во многом безотчетным исканием «неведомого Бога» человеком, воспитывавшимся, по существу, в неведении Бога. Поисками этими руководила интуиция, а она — пользуясь словами из «Гамлета» (в переводе Б. Пастернака) — есть «собственное место» веры.
Обращаясь в своей трагедии к допетровской России, Пушкин находит там тип глубоко верующего человека, который видит и оценивает все происходящее в жизни не со своей пристрастной «точки зрения», а в беспристрастном свете Божьей правды; человека, который и сам грех понимает как отступление от этой правды, от ее света, во тьму. Слово Пимена, которого Гришка считает равнодушным к добру и злу, есть слово света, огненное слово правды о народном грехе, о своем грехе. Такое слово могущественно вне зависимости от того, кто как его истолкует, — здесь у Пушкина поистине сама Высшая правда вмешивается в дела людей. Григорий ложно понял слово инока — но именно в силу этого оно, вне ведома Пимена, подвигает молодого честолюбца на замысел выдать себя за убитого Димитрия, делает его «бичом Божьим». В результате глухоты Григория слово правды становится искрой Божьего гнева, свет его превращается в пожар Смуты, пламя которого осветит наконец — в финале трагедии — безмолвствующему в ужасе народу картину его греха.
Здесь центральный момент наших рассуждений. Словами Пимена установлена у Пушкина «точка отсчета» в изображении человека и его поведения в мире — Высшая правда, правда Бога, сотворившего человека и предназначившего его не для «темных деяний».
Нет смысла сейчас рассуждать о том, сознательно ли, убежденно или интуитивно-безотчетно исходит сам Пушкин из наличия Высшей правды как всеохватывающей реальности; можно говорить лишь о том, что именно при такой «точке отсчета», в такой «перспективе» получают свое объяснение особенности и свойства пушкинских художественных построений.
Выдающийся кинорежиссер Л. Кулешов, учитель многих мастеров нашего кинематографа, анализировал в своих лекциях эпизод поэмы «Полтава»:
Тогда-то свыше вдохновенный Раздался звучный глас Петра: «За дело, с Богом!» Из шатра, Толпой любимцев окруженный, Выходит Петр. Его глаза Сияют. Лик его ужасен. Движенья быстры. Он прекрасен, Он весь, как Божия гроза.
Это место, считал Кулешов, есть наглядный образец искусства монтажа, раскадровки, игры планами: общий план — Петр, выходящий из шатра в «толпе любимцев»; максимально крупный — глаза; крупный — лицо, затем фигура; затем все более общий план, вписывающий героя в картину исторического события.
Одновременно перед нами образец описанного выше способа построения образа — «очерчивание» определениями, различными до парадоксальности. Особенно поразительно «ужасен» — «прекрасен»: словно молнии проскакивают между двумя «полюсами», перенося значения этих противоположных определений друг на друга; в двух рифмующих словах мерцают, вспыхивают противоположные смыслы, и все вместе складывается в образ надчеловеческого величия, вызывающего и восторг, и трепет. Мы не только чувствуем прикосновение истины, которую не определить и страницами прямого описания, — мы ощущаем, как условны наши слова, привычные представления о жизни, которая и сама-то на каждом шагу является нам одновременно и «ужасной», и «прекрасной».
В данном же случае истина еще и в том, что человек, о котором говорится, в исторической реальности чудовищно противоречив, в его личности и деяниях прекрасное сочетается с тем, что поистине ужасно и отталкивающе. Пушкин хорошо это знал, о Петре он думал всю жизнь, его отношение к царю-революционеру — сложное, меняющееся, но всегда потрясенное. Все это отразилось в «портрете» Петра в эпизоде Полтавского боя — отразилось вплоть до физического правдоподобия («Лик его ужасен» — вспомним лицо находящейся в Эрмитаже восковой фигуры Петра: это очень страшное лицо). Замечательно, что художественная мощь образа несомненно связана с присутствием слова «ужасен», которое и само по себе выглядит здесь парадоксально — да еще поставлено в центре всего «портрета», — и которое испускает невероятную энергию, и притом — положительного характера. Окруженное, очерченное, словно магическим кругом, двумя положительными определениями («сияют» и «прекрасен»), слово «ужасен», будто в инфракрасном излучении, «проявляет» как бы таившийся в нем возможный положительный смысл силы, твердости, энергии, — и оттого возникает образ мощной красоты человека — творца и воина.
Дело, однако, не только в чисто словесном искусстве Пушкина. Попробуем-ка представить строки: «Его глаза Сияют. Лик его ужасен. Движенья быстры. Он прекрасен», — отдельно, вне контекста всего эпизода: сохраняя художественную эффектность, фрагмент уподобится осколку неведомой прекрасной скульптуры, представляющему чисто «лабораторный» интерес, или великолепной безделушке, лишится одухотворяющего смысла, который сообщается ему связью с целым: с образом великого человека, воодушевленного великой целью, охваченного бурей вдохновения.
Природу такого душевного подъема Пушкин знал, разумеется, как никто: «Признак Бога, вдохновенье», — сказано в одном из стихотворений.
Обратим теперь внимание: на протяжении эпизода всего из восьми строк троекратно повторяется один и тот же мотив: «свыше вдохновенный» — «За дело, с Богом!» — «Божия гроза». Собственно, весь эпизод, один из важнейших в поэме, образован именно этим мотивом, который и четко обрамляет картину (первая и последняя строки), и звучит внутри эпизода, из уст Петра; Петр является вслед за своим возгласом о Боге, словно выводящим его из шатра. «Признак Бога, вдохновенье» — это и «рама», и стержень образа Петра, возглавляющего великую битву за Россию, ведомого великой целью, «вдохновенного» чем-то высшим, чем он сам.
Построение получается в своем роде концентрическое. Мотив присутствия Бога «охватывает» весь эпизод; Петр охвачен вдохновением, «признаком Бога»; отрицательное определение «ужасен», «охваченное» положительными, светится, как темная Луна, отражающая свет Солнца. Свет — тоже «признак Бога»; и даже «ужасное» оборачивается у Пушкина возможностью «прекрасного», когда человек ведом Богом и за Богом идет.
Здесь объяснение скрытого обаяния пушкинских «отрицательных» героев. Недостатки — продолжение достоинств, говорит пословица. Сатана — это бывший ангел, возгордившийся и падший. Самый свирепый гонитель Христа Савл стал самым пламенным апостолом Христа — Павлом. Великий злодей замышлен Богом как, может быть, великий подвижник, но избрал другой путь. Пушкинские злодеи преступники — люди прекрасных возможностей, только вдохновленные не «свыше». «Как с вашим сердцем и умом Быть чувства мелкого рабом?» («Евгений Онегин»); «Оставь герою сердце; что же Он будет без него? Тиран!» — говорится в стихотворении «Герой». Все «ужасное» в человеке есть извращение того «прекрасного», что дал ему Бог.
Гармоническое совершенство эпизода из «Полтавы» — опять-таки не изобретение Пушкина, не просто его «личный» взгляд на вещи. Еще один эксперимент: попробуем переставить, поменять местами слова «ужасен» и «прекрасен» («Его глаза Сияют. Лик его прекрасен Движенья быстры. Он ужасен. Он весь…» и т.д.). Тогда отрицательное определение «ужасен» из центрального станет итоговым; изъят из обрамления двух положительных, оно вернет себе прямую буквальность, гармоническое равновесие определений разрушится, герой, о котором говорится, что он «свыше вдохновен», предстанет исчадием ада с «прекрасным» «ликом»; наконец, отблеск «ужасного» неизбежно падет на рядом стоящую заключительную строку «Он веси как Божия гроза» — и тогда все окажется поставлено с ног на голову Ибо Божье может быть «прекрасно» и может быть «грозно», но не может быть синонимом того, что в мирском языке называется «ужасным» — иначе нет границы между добром и злом.
Но граница между добром и злом для нормального сознания очевидна; и значит, построение Пушкиным образа отражает мир как объективно гармоническую «систему». Систему, где есть свой священнный порядок, иначе говоря, иерархия, где все — в том числе прекрасное и ужасное — на своих местах относительно Высшей правды. Тайна человека, символизируемая у Пушкина «пространством» взаимодействия противоположных начал, «охвачена» другим «пространством», другою тайной, находится в «поле» высшей реальности, знаменуемой словом Бог.
У Пушкина это может быть прямо указано, как это трижды сделано в описании Петра, или обозначено косвенным образом, или вообще обойдено молчанием, — но именно эта «исходная позиция» Пушкина «задана» его гением, интуицией. Петр в «Полтаве» руководим Богом и отдает себе в этом отчет; Борис Годунов и поминает Бога, и хотел бы обойтись без Бога; Пимен, Патриарх и Юродивый все видят в свете Божьей правды, а Марине Мнишек до нее нет дела. Петр Гринев в чудесных обстоятельствах, устраивающих его судьбу, видит вмешательство Провидения, а Германну высшая сила представляется «очарованной фортуной», у которой можно «вынудить клад» с помощью темной силы карт. Свою любовь к Онегину Татьяна осмысливает как религиозное прозрение («То в вышнем суждено совете, То воля неба… Я знаю: ты мне послан Богом»), Онегину же религиозное чувство чуждо, и потому он проглядел то, что «было так возможно, Так близко». Сюжет «Пира во время чумы» построен вокруг религиозного отступничества главного героя. Но суть не в этих примерах, которые можно умножать, а в понимании Пушкиным тайны человека.
Прекрасно море в бурной мгле
И небо в блесках без лазури;
Но верь мне: дева на скале
Прекрасней волн, небес и бури, —
говорится в стихотворении «Буря». Необсуждаемая, доступная только вере («Но верь мне…») данность, из которой исходит Пушкин, состоит в простой очевидности того, что человек настолько, говоря словами Гамлета, «сходен с Божеством», настолько выше прекрасной, но «равнодушной природы», настолько свободен, что от него самого зависит отказаться от своей свободы, от своего сходства с Божеством — и приравнять себя «квинтэссенции праха».
Исходя из этой данности, мы и получаем ответ на вопрос о том, как появляется, как выбирается зло.
- Исследователи трагедии «Моцарт и Сальери» уделяют много сил рассмотрению Сальери как личности и как типа, анализу его психологии, его пути к преступлению; все это важно и интересно, но для исследователя порой чревато дурной бесконечностью, поскольку каждый вносит в ситуацию собственные нюансы. Важнее другое — самое начало трагедии, где Пушкин, по своему обыкновению, берет, что называется, быка за рога:
Все говорят: нет правды на земле;
Но правды нет — и выше. Для меня
Так это ясно, как простая гамма.
Оказывается, для преступления нужно не так много: всего лишь отвергнуть существование правды «на земле» и «выше». Выбор между добром и злом есть выбор между верой в Высшую правду и неверием в нее. Произнеся свои первые слова, Сальери готов к убийству.
Это значит, что всякое преступление имеет своим прообразом «сюжет», который в пушкинском творчестве не очень заметен только потому, что не лежит на поверхности, а присутствует в глубине: акт грехопадения, когда человек поверил не Богу, а сатане. Сальери — жертва демонической идеи, состоящей в том, что мир устроен Богом — если Бог вообще существует — дурно, несправедливо, неправильно и что, стало быть, «ошибку» следует исправить; это и сделал в свое время первоубийца Каин, обвинив перед тем Бога в несправедливости. Уверовав в эту идею, Сальери тоже убивает. Другого пути к преступлению нет: преступление — это окольный и ложный путь сделать мир лучше, чем он сделан, — хотя бы для одного меня. Преступление — это всегда отвержение Высшей правды во имя устроения, пользы, удобства («для меня» или «для всех» — разница не имеет значения).
Но когда такой акт совершается, с пушкинскими героями происходит нечто причиняющее им крайнее неудобство, нечто странное и противоестественное. Они не испытывают радости от достижения цели. Разрушив иерархию ценностей, перевернув ее вверх ногами, они лишаются спокойствия, мечутся, испытывают страх, подходя порой к грани безумия. Не веруя в правду, которая «выше», отвергнув правду, которая «на земле», они выстроили другой мир, в котором и в самом деле — говоря словами булгаковского героя — «ничего нет», то есть получили то, во что уверовали: «по вере вашей да будет вам» (Мф.9,29). Против ожиданий, это стало их катастрофой.
Отсюда — и наше сострадание к ним, и неравнодушие к их добрым свойствам, и ощущение их человеческой значительности. Ведь тот мир неправды и хаоса, в который они пали, должен был бы устраивать их, казаться им удобным, как мутная вода для рыбака, — если бы в них самих не было Правды, которую они преступили; и вот они бьются, как рыбы, выброшенные на песок. Сквозь темный мир преступных помыслов, идей и деяний, из недоступной тайны человеческой души через все ужасное мерцает свет прекрасного, который есть там потому, что правда есть и выше. Это отражение в душе солнечного света Божьей правды есть совесть, «генетическая память» человечества о своем божественном происхождении.
Совесть — не только свет Правды, но и ее открытый огонь. «Пожарный огнь их домы истребил», — говорит Борис о народе; но посланное Богом бедствие не пробудило в людях, избравших на трон цареубийцу, сознание вины — и тогда пожаром Смуты оборачивается слово совести, сказанное Пименом, искра правды, брошенная им простодушно в жаждущую славы и власти душу будущего самозванца. «Как язвой моровой Душа сгорит», — жалуется Борис. «…Живей горят во мне Змеи сердечной угрызенья» («Воспоминание»). «Глаголом жги сердца людей», — велит поэту «Бога глас». Солнце Правды отражается в человеческой душе, но душа — не мертвая, холодная Луна, и от мощного света она горит тем невыносимее, чем она темнее.
Человек оказывается в замкнутом кругу истинного, не мифического «парадокса человека»: человека падшего, поправшего свое высокое предназначение — и страдающего от того, что он еще сохраняет в себе образ и подобие Бога.
Собственно, парадокс человека в том, что, имея совесть, человек порой не хочет расстаться с миром неправды. Несмотря ни на что, этот мир все же в какой-то степени удобен — прежде всего своею темнотой, где все перемешано и неразличимо; где что возможно, то и позволительно.
Совесть побуждает Сальери после ухода Моцарта заново вслушаться в его реплику о гении и злодействе — и, вспомнив легенду о преступлении Микеланджело, в ужасе предположить:
…или это сказка
Тупой, бессмысленной толпы, и не был
Убийцею создатель Ватикана?
Это страшный вопрос. До сих пор поведение Сальери было поведением богоборца, стремящегося, отвергнув правду «выше», утвердить свою «правду». И вот ему приходит в голову: а вдруг правда есть?
Что в этом вопросе? Только ли отчаянный страх остаться без удобной «сказки», где злодейство — для гения естественное занятие где не место «неким херувимам», где все так, будто правды и в самом деле нет? Или это — очищающий «священный ужас» при звуках арфы серафима» (о котором в том же году писал Пушкин в стихотворении «В часы забав иль праздной скуки»)? Голос ли это «чада праха»; которого сорвалось, провалился замысел, — или «Бога глас», раздавшийся в падшей, но сохранившей все же богоподобие человеческой душе?
Тут не «простая гамма», тут снова — поле тайны и драмы человеческого духа, «тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей» (Достоевский).
Напряжение этого поля — напряжение между сердцем и совестью человека, с одной стороны, и безблагодатным, корыстным стремлением выпытать у «мироустройства» его «загадку»: есть ли некий «секрет», позволяющий преступать грань между добром и злом, между гением и злодейством? Нет ли «закона», который санкционирует попрание образа Божия в человеке? Существуют ли «три карты», помогающие «вынудить клад у очарованной фортуны»?
Последние слова Сальери, слова о Бонаротти, нагруженные все» внутренней драмой человека, попытавшегося поставить на место Бога себя, свой разум и интерес, а в результате цепенеющего пере простым для веры, но неразрешимым для рассудка вопросом: есть ли правда или ее нет? — все это объективно символизирует судьбу новоевропейской культуры.
Эта культура богата прозрениями своих гениев, высокими религиозными и нравственными устремлениями, «великими борцами человечество» (Л.Шестов); и все же общий пафос ее — рациональный и интеллектуальный. Он определяется тем, что наличие Высшей правды для этой культуры — в основном не столько факт, сколько проблема. Эта культура не столько верует в наличие Высшей правды и переживает извращение ее в падшем мире — хотя и верует, и переживает, — сколько утверждает свое понимание правды «на земле» и изучает вопрос о правде, которая «выше».
Идеальной же предпосылкой для того и другого является само наличие падшего мира, где царят мрак, зло и неразбериха «относительности». Падший мир — лаборатория и строительная площадка новоевропейской культуры; поэтому культура эта — невольно, в силу своей природы, несмотря на все устремления гениев — крепко держится за «видимую неправду жизни», за ее трагизм и ужас, эту вечную почву, на которой произрастают цветы искусства и чудеса цивилизации. Более того, культура эта чем дальше, тем все больше увлекается этим трагизмом и ужасом, все упорнее эстетизирует то и другое как некую подлинную, последнюю правду о человеке и мире.
У Пушкина мир, как уже говорилось, выглядит не менее ужасающим, но отношение к нему — другое. Оно выражено в покаянии монаха-летописца: «Прогневали мы Бога, согрешили…» Пимен смотрит на наш мир «снаружи», с точки зрения Высшей реальности не как «мечты», а как факта — такого, который доступен только вере. Именно неверие и породило Смуту — так же как грехопадение породило падший мир. Покаяние Пимена напоминает о существовании другого мира, который был изначально предназначен для человека и утерян им, отчего существование человечества превратилось в смуту. Этот другой мир не нуждается ни в каком совершенствовании, ибо он совершенен, — человек лишь может в него вернуться, верой и духовным усилием восстановить в себе соответствие попранному Замыслу.
* * *
Не стоит искать подтверждения всех этих размышлений на поверхности словесного текста самого поэта — в противном случае он не был бы поэтом. Все рассмотренное естественно для Пушкина как дыхание, как голос и походка, полученные от природы. Впрочем, то, что необыкновенные свойства пушкинского художественного гения именно получены, зрелый Пушкин сознавал ясно — это отражено в «Пророке»: «…И виждь, и внемли, Исполнись волею Моей», — повелевает Бога глас, — гений Пушкина руководим не «своей» волей. Строго говоря, в идеале всякий творческий талант есть способность внимать воле Творца всего; в этом смысле природа таланта близка к природе совести; все дело в том, насколько обладатель таланта это чувствует. Не всякий человек слушает свою совесть, не всякий художник духовно соответствует высоте своего таланта, нередко божественный дар становится орудием не Бога, а самого человека, его личных интересов и страстей, его себялюбия, гордыни, корысти. Не только от самого дара, но и от взаимоотношений с ним зависит масштаб художника, его творческая судьба, роль в культуре и истории. Чем внимательнее художник прислушивается к своему таланту как «Бога гласу», тем ближе он к подлинной правде, или — словами Достоевского — к «реализму в высшем смысле». У Пушкина безупречный слух на правду, его гений поистине «послушен» «веленью Божию» («Памятник»), его художественная совесть абсолютна. Это не значит, что лично он, поэт, непогрешим в жизни, совсем нет, — это значит, что он способен сознавать и видеть свои грехи, что бесконечно взыскательна его личная совесть. «Даже и в те поры, — писал Гоголь, — когда метался он сам в чаду страстей, поэзия была для него святыня — точно какой-то храм. Не входил он туда неопрятный и неприбранный; ничего не вносил он туда необдуманного, опрометчивого из собственной жизни своей; не вошла туда нагишом растрепанная действительность. А между тем все там — история его самого. Но это ни для кого незримо. Читатель услышал одно только благоуханье. Но какие вещества перегорели в душе поэта затем, чтобы издать это благоуханье, того никто не может услышать». Можно говорить о совершенно особого рода реализме, присущем Пушкину, — реализме онтологическом (бытийственном), который сквозь всю «растрепанность» человеческой жизни прозревает красоту и совершенство заложенных Богом основ бытия, величие божественного замысла о мире и человеке. Такой реализм и есть способность Пушкина «быть идеалистом, оставаясь вместе с тем и реалистом… глядя на жизнь, верить в правду и добро», о которой писал Л.Шестов и которая, по его мнению, ставит нашего поэта на совершенно особое место во всей европейской литературе. В то же время Пушкин — поистине европейский писатель, давший в русской культуре новую, исполненную смысла жизнь всем лучшим и высоким началам культуры Европы. Его творчество стало явлением, в котором европейская культура преодолела трагическое противоречие своего христианского сознания, разрывавшегося между мрачной действительностью и светлым идеалом. Напомним, что тот экскурс в духовную историю европейской культуры, что был предпринят у нас в самом начале, России не касался: Русь приняла христианство значительно позже Западной Европы. В силу этого «отставания» духовные процессы на Западе и в России шли по-разному и как бы в противоположных направлениях. Пока в Европе назревал кризис христианского сознания, о чем шла речь в своем месте, на Руси шло стремительное становление такого сознания; в то время как в Европе духовные ценности вытеснялись из области идеалов ценностями прагматическими, «заботами века сего», в культуре Руси происходило обратное: земные блага, отнюдь не отвергаясь, осмыслялись как ценность относительная, высшим же благом признавалась праведность. В культуре Европы нарастал трагизм — древнерусская же культура, вовсе не уклоняясь от изображения трагического и мрачного в жизни, в целом была светлой и полной радости жизни — вспомним несравненную красоту православных храмов, их яркое, праздничное убранство, сияние мира и гармонии, исходящее от «Святой Троицы» Андрея Рублева и других творений русской иконописи, жизнеутверждающую мудрость первого произведения русской христианской литературы — «Слова о законе и благодати» митрополита Илариона, могучую поэзию «Слова о полку Игореве». Это была высоко человечная культура, потому что основой ее была вера в человека как образ и подобие Бога, в Божью правду, в Божью любовь к человеку, пусть падшему, но все равно высшему творению Создателя, и надежда на Божье милосердие. Мрак падшего мира не ослеплял древнерусскую литературу, не толкал ее к трагизму или яростному обличительству: «нет убедительности в поношениях и нет истины, где нет любви» — пушкинские слова вполне применимы к характеру и пафосу этой литературы, которая поистине призывала «милость к падшим». Но настал момент, когда была предпринята попытка, кое в чем удавшаяся, радикально изменить весь строй этой культуры, переломить хребет «старой» Святой Руси с ее духовными традициями — «революция Петра» (определение Пушкина). Культура Руси с ее православными идеалами была расценена как нечто отсталое, не способствующее материальному прогрессу, не соответствующее стандартам европейской цивилизации, где ведущую роль играли уже не «невидимые идеалы», а интересы земного устроения. Петр несомненно хотел России добра, всего себя положил на то, чтобы страна стала сильной, богатой, современной державой, способной противостоять многочисленным недругам, быстро развиваться и крепнуть. Но он не видел к этой цели иного пути, как — переделать нацию по чужому образцу, перестроить не только ее жизнь, нравы, но и саму душу народа, не считаясь с привычным и глубоко народным убеждением, что на первом месте в жизни должно быть духовное, а не материальное. Он не понимал (да и сейчас это мало кто понимает), что культура нации — это не роскошь, не внешнее украшение ее материального бытия, а условие полноценного существования державы, в том числе и материального. И в этом была нешуточная угроза судьбам России. Но семь веков после Крещения (которое, собственно, и создало русскую нацию и ее культуру) не могли уйти одним махом в небытие — даже «по манию царя», и даже такого, как Петр Великий. Христианская, православная «закваска» исторически очень скоро дала себя знать — и притом в той новой, уже чисто светской культуре, что родилась в петровской России. Возникшая в XIX веке новая русская литература со временем поразила весь мир новой художественностью, новой правдой, новой духовностью, сочетающей «реализм» с «идеализмом», — и предъявила Европе христианский идеал в качестве «хорошо забытого» Европой «старого». Новой русской культуре принадлежит неоценимая заслуга в том, что Россия осталась Россией, не изменила своим православным идеалам — и именно благодаря этому стала мировой державой. Устремленность к этим идеалам, которая по-разному и порой противоречиво, но неизменно сказывается в русской литературе, будь то Лермонтов или Гоголь, Гончаров, Островский, Достоевский и другие, — эта глубоко народная черта и есть, собственно, основа загадочной «русской духовности», которая побудила Томаса Манна назвать русскую классику; XIX века «святой литературой». Употребив это слово, немецкий писатель оказался точен: ведь русская классика унаследовала — в новых условиях и новых формах — духовность культуры Святой Руси.
Ключевую роль здесь сыграл Пушкин. Проделанный выше анализ некоторых основных черт художественного мира Пушкина показывает, думается, что, будучи «по букве» писателем чисто светским, ярко и исключительно светским, он в то же время «по духу» унаследовал христианскую систему ценностей допетровской русской культуры, ее религиозную точку зрения на мир, жизнь и человека; но это проявляется не в «верхнем», идеологическом, слое пушкинского творчества, а на наиболее глубоком его уровне — в самом способе художественного мышления, в характере реализма, основанного на ощущении священности Бытия и обращенного к Высшей правде, в поэтической архитектонике и «строительных приемах», в голосе и походке пушкинского гения. «России определено было высокое предназначение», — сказал Пушкин, имея в виду спасение Европы от нашествия с Востока.
Высокое предназначение самого поэта состояло в том, чтобы залечить рану, нанесенную петровским переворотом, восстановить национальную преемственность и духовную родословную культуры, а значит — и самой России. Организм реагирует на травму, вырабатывая в самом себе залечивающие вещества, — культура России, отвечая на попытку изменить ее духовный строй, выдвинула Пушкина. Его творчество связало «концы» русской культурной истории, разрубленной Петром, и воссоединило ее в единое целое. В то же время все лучшее, что пришло из культуры Европы, получило у нас, благодаря Пушкину, свое место, свои русла, функции и пределы, стало работать на Россию, участвовать в строительстве новой великой культуры, которая, войдя в семью европейских народов на правах не только равной, но и «власть имеющей», явила в светских формах убереженные от катастрофы христианские идеалы. Все это и сделало Пушкина «солнечным центром нашей истории» (И. Ильин), определило его особую связь с судьбами России, его царственное место в национальной культуре и непрекращающуюся жизнь в народном сознании, в сердцах людей. Ведь история России продолжается; стало быть, и центр этой истории продолжает нести свою службу — независимо от того, осознаем ли мы, откуда, почему и зачем у нас такой центр, или только чувствуем его тепло и свет.
В заключение вспомним слова Достоевского о Пушкине как «некоторой великой тайне». Тайна пушкинского гения и в том, что столь великую миссию — историческую, культурную, духовную и в известном смысле религиозную — исполнил писатель, которого невозможно назвать ни религиозным, ни духовным писателем в специфическом смысле этих слов, который не перелагал псалмов, не размышлял в стихах, как Ломоносов, «о Божием величестве», не писал, как Державин, религиозных од, напротив — воспитывался в духе европейского Просвещения, скептицизма и материализма, в молодости писал о своем безверии, был автором «Гавриилиады» и на самом пороге «Бориса Годунова» склонялся к атеизму как «системе… более всего правдоподобной». Разумеется, все было бы понятней, если бы речь шла о деятеле, глубоко и ортодоксально верующем, благочестивом, вдохновленном высокими религиозными убеждениями и целями; правда, в таком случае мы, может быть, имели бы дело более с литературным проповедником — удалось ли бы ему сделать для России то, что сделал Пушкин, чей художественный мир, при всех сложностях личной духовной биографии автора, сам по себе пронизан светом божественной Правды? Как раз драматизм личного пути Пушкина особенно ясно показывает, что он делал свое дело, исполнясь не своей волей, повинуясь «веленью Божию»; в этом смысле миссия, совершаемая через Пушкина, — дело Промысла, который — говорит Гоголь — «лучше печется о человеке», нежели сам человек.
1994
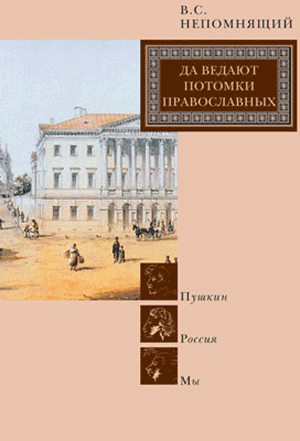
Комментировать