- Когда жизнь истинствует...
- Введение
- Глава 1. Истоки
- 1.1. Рейнская Сивилла
- 1.2. Св. Елизавета Тюрингенская: жизненный путь и жертвенное призвание
- 1.3. В родительском доме принцессы Гессенской и Рейнской
- Глава 2. Русский избранник принцессы Елизаветы
- 2.1. Детство и юность Великого князя Сергия
- 2.2. Великая мать Великого князя
- 2.3. Венчание Елисаветы и Сергия
- Глава 3. Петербург. Вхождение в мир русской культуры
- 3.1. Образ дома
- 3.2. «17 тетрадей»
- 3.3. Колокола рая
- Глава 4. Хлеб-соль Москвы — Великому князю и Великой княгине
- 4.1. В Александрийском дворце и на Тверской
- 4.2. Откровение о народной душе
- 4.3. Феномен благотворительного базара
- 4.4. Дружба с творческой интеллигенцией Москвы
- 4.5. Музыка в жизни великокняжеской четы
- 4.6. Контакты Великой княгини с дирекцией императорских театров
- 4.7. Поддержка образовательных начинаний
- Глава 5. Жизнь в подмосковном Ильинском
- 5.1. В окрестностях Саввино-Сторожевского монастыря
- 5.2. Жизнь в Ильинском в дни коронования Николая II
- 5.3. Детские воспоминания Великой княжны Марии Павловны о бытии Елисаветы Феодоровны в Ильинском
- 5.4. Культурная среда в подмосковном имении великокняжеской четы
- 5.5. Екатерина Шнейдер о повседневной жизни в Ильинском
- 5.6. Ильинское в дневниковых записях Великого князя Константина Константиновича
- 5.7. Отклик Великой княгини на беды и радости Ильинского
- 5.8. Дворец великокняжеской четы в Усово
- Глава 6. Августейшая попечительница детских приютов в Москве
- 6.1. Елисаветинское благотворительное общество
- 6.2. Комитет по устройству детских очагов в Москве
- 6.3. Награды Елисаветинского благотворительного общества
- 6.4. Общество попечения о неимущих и нуждающихся в защите детях в Москве
- Глава 7. Трагедия Великой княгини
- 7.1. Завещание Великого князя
- 7.2. Москва в трауре
- 7.3. Молитвенный памятник в Кремле
- 7.4. Возведение Сергиева скита
- 7.5. В память всех погибших во время смут
- Глава 8. Милосердная помощь русским воинам (1904–1905 гг.)
- Глава 9. Великая обитель Великой Матушки
- 9.1. Устав Обители. Основные учреждения
- 9.2. Повседневная жизнь Обители
- 9.3. Великая матушка в дни стихийных бедствий
- 9.4. Великая княгиня и M.B. Нестеров в годы создания Покровского храма Обители
- 9.5. Освящение Покровского храма
- 9.6. Игумен Серафим о подвиге сестер Обители в дни Первой мировой войны
- 9.7. Неотвратимость надвигающейся бури
- 9.8. Последние годы святого духовника Обители
- Глава 10. Августейшая паломница
- 10.1. Кашинские торжества
- 10.2. Посещение обители великого Вышенского затворника
- 10.3. Верхневолжское паломничество великокняжеской четы к христианским святыням
- 10.4. Орел. Паломничество в город воинского служения Великой княгини
- 10.5. Великая княгиня в Уфимской епархии
- 10.6. Паломнические путешествия Великой княгини в 1911 и 1912 гг.
- 10.7. Соловки
- 10.8. Паломничество Великой княгини в Оптину пустынь
- 10.9. Белогорье — путь на Сибирский Афон
- 10.10. Паломничество в Кострому
- Глава 11. Духовные наставники и друзья Великой княгини
- 11.1. Духовное учительство
- 11.2. Помощь ближним
- 11.3. Память о почивших друзьях
- 11.4. Поклонение святым
- Глава 12. Комитет Великой княгини в дни Первой мировой войны
- 12.1. Основные направления деятельности
- 12.2. Источники средств
- 12.3. «Под благодатным небом»
- 12.4. Личное внимание к страждущим
- Глава 13. Святыни Дармштадта и Майнау
- Глава 14. Уроки великокняжеской четы: русская святость и русская культура
- Послесловие
- Примечания
Глава 9. Великая обитель Великой Матушки
День убийства Великого князя Сергея Александровича многое изменил в мироощущении Великой княгини Елисаветы Феодоровны. Многое стало иным в образе мыслей, изменилось ежедневное питание, которое теперь состояло из молока, яиц, овощей и хлеба, и это задолго до принятия монашеского образа жизни. Никто не в силах был отвратить ее от избранного пути. «Казалось, — вспоминает А.А. Олсуфьева, — что с этого времени она пристально всматривалась в образ иного мира… посвятила себя поиску совершенства, и велика была ее благодарность тем, кто не превращал своей любви в цель удержания ее в рамках земных привязанностей, но кто доброжелательно наблюдал, как она преодолевала их»[440].
В духе отрицания выбора Елисаветы Феодоровны высказывались многие. Одна из близких Великой княгине дам отмечала, что обитель свидетельствовала о художественном вкусе Великой княгини, и полный цветов сад красиво выделялся на белом фоне стен обители и церкви. «Великая княгиня была так красива, что всякий костюм на ней хорошо выглядел, да и форма Марфо-Мариинских сестер не была уродлива, но тем не менее, каждый раз, что я видела ее в одежде монахини, меня это неприятно поражало»[441].
Осматривая в те годы церковь, где покоился Сергей Александрович, эта дама (В.В. Васильчикова) неосторожно заметила, что в храме вместе с мужем заживо погребена сама Елисавета Феодоровна. Это вызвало протест Великой княгини. Впоследствии В.В. Васильчикова глубоко сожалела о сказанных тогда словах, поскольку Елисавета Феодоровна была действительно заживо похоронена. В действительности же сама Великая княгиня неоднократно признавалась, что имела с детства желание помогать страждущим, прежде всего тем, кто страдает душой.
Все московские газеты писали в 1909 г. о главном деле Великой княгини — создании Марфо-Мариинской обители милосердия, которая с каждым годом становилась все более заметным явлением в жизни Москвы. В состав обители входили больница (22 кровати), аптека, амбулатория, библиотека, столовая для бедных, приют для девочек-сирот, воскресная школа. Для реализации этого святого начинания требовались большие средства. Кроме личных денег, Елисавета Феодоровна сумела привлечь многих добровольных помощников-благотворителей Марфо-Мариинской обители, таких, например, как И.А. и К.Ф. Колесниковы, М.Ф. Морозова и др.
Елисавета Феодоровна и духовник обители о. Митрофан Сребрянский, другие люди долго и обстоятельно работали над созданием устава обители и ее организацией. В сестры посвящали православных образованных вдов и девушек в возрасте от 21 до 40 лет. Сестры подразделялись на крестовых, более опытных и учениц.
9.1. Устав Обители. Основные учреждения
В Уставе Обители четко формулировалась ее цель, отмечалось, что Обитель учреждена Ее Императорским Высочеством на землях, принадлежащих Елисавете Феодоровне в Замоскворечье, на Большой Ордынке. Отмечалось, что Обитель милосердия пользуется самостоятельным управлением на основании Устава. Она принадлежит к ведомству местного епархиального управления, которому представляет ежегодные отчеты о своей деятельности.
В Уставе отмечалось, что первой настоятельницей Обители является пожизненно ее учредительница. Следующая настоятельница по уставу должна была назначаться в соответствии с выбором учредительницы Обители. Все дальнейшие настоятельницы избираются пожизненно общим собранием сестер Обители из своей среды по большинству голосов. Возглавлять такое собрание должен духовник Обители.
Духовника Обители милосердия избирает настоятельница и представляет его на утверждение митрополита Московского. Настоятельница вправе в случае необходимости отстранить от работы или уволить должностных лиц, исключить из числа испытуемых сестер лиц, недостойных носить это звание. Настоятельница, если на то есть веские причины, может быть устранена от должности митрополитом Московским. При настоятельнице должен быть Совет, в который входят духовник, казначея и благочинная. В случае необходимости, в Совет можно приглашать посторонних лиц, которые пользуются правом совещательного голоса. Сестры имеют право на отдых и отпуск по усмотрению настоятельницы. В Уставе было записано также, что Марфо-Мариинская обитель милосердия в будущем намерена построить свой скит вне Москвы, куда потрудившиеся сестры по желанию и с согласия Совета Обители, постригшись в мантию, могут удаляться, чтобы проводить последние годы жизни в молитве и исключительном служении Богу.
Перед поступающими в Обитель ставили вполне определенные требования:
— крепость духовной веры и готовность в смирении нести любое послушание во имя Господа;
— физическое здоровье, которое необходимо для сложной работы сестры милосердия.
Все сестры без исключения были обязаны посещать бедных, приносить им облегчение духовное и физическое, всегда помня, что главная цель обители — оказывать бедным помощь на местах.
Регулярное посещение сестрами бедных началось лишь с 1913 года, т. е. с тех пор как завершились подготовительные «курсы» настоятельницы и духовника обители, завершилось прохождение необходимого медицинского курса начальной доврачебной помощи. Среди сестер обители была также создана группа, которую специально готовили опытные врачи, предлагая этой группе прохождение специальной практики в больнице и амбулатории обители.
Часто сестрам приходилось раздавать бедным детям одежду, обувь, помещать детей в приюты, подыскивать рабочие места, оказывать денежную помощь, оплачивать различные учебные курсы.
И все же главное в деятельности сестер, как отмечалось во всех документах Обители, во всех дореволюционных публикациях, — оказание обездоленным людям духовной помощи, готовность сказать теплое, доброе слово.
В документах Обители и в печати неоднократно ставился вопрос о деятельности ее учреждений.
В условиях типичной для многих безудержности и бесцеремонности в своих притязаниях, на фоне бессердечной морали, полной духовной индифферентности к больному человеку Марфо-Мариинская обитель выдвигает принцип безвозмездности и максимальной гуманности при оказании медицинской помощи. Однако в обительской больнице было 10 так называемых именных кроватей для богатых больных. За учреждение такой кровати выплачивался взнос в размере 5000 руб. Больница находилась под руководством обительского доктора медицины А.И. Никитина. Кроме него курсы медсестер безвозмездно вели профессор А.А. Корнилов, Ф.И. Березкин, А.Н. Мясоедов. Все операции делались безвозмездно хирургами Ф.И. Березкиным, А.Ф. Ивановым. При больнице имелась отдельная библиотека. По решению настоятельницы больница не увеличивалась, так как, отметим это еще раз, главная задача сестер — посещать бедных и больных вне обители.
Те же принципы были заложены в основу деятельности амбулатории, где для бедных бесплатно выдавали лекарства, бесплатно делали инъекции, массаж, проводили электролечение. В шести кабинетах безвозмездно работали 34 врача в неделю.
Аптека обители работала как благотворительное учреждение для всех граждан, значительно понижая стоимость лекарств; для бедных лекарства отпускались бесплатно.
Такое отношение внушало доверие многим, помогало бедным преодолевать парализующий их страх, отодвигало на второй план предощущение неотвратимого тупика в случае тяжелой болезни. В обители бедняки встречали целую гамму целительных средств, которая создавала в их сознании новую духовную ткань мира.
Разумеется, забота о здоровье бедных была неотделима от задачи создания приюта для круглых сирот; воскресной школы для безграмотных девушек и женщин, работавших на фабриках. После воскресных уроков учениц угощали чаем и хлебом, затем они обучались пению и далее участвовали в богослужении в обительском храме. И приют и воскресная школа возглавлялись священником о. Е. Синадским.
Для насельников и учеников Обители была организована библиотека, насчитывающая более 2000 томов. Книги для чтения выдавались бесплатно.
В свое время, у истоков новой власти, все сказанное о медицинской помощи и образовании в Обители представлялось привычным, сбывшейся мечтой. Но в те годы такое отношение к бедным людям казалось настоящим чудом: предпринимались конкретные шаги для того, чтобы важнейшие сферы культуры обернулись к обездоленному человеку искренностью и добросердечием.
Достаточно в этой связи вспомнить и такое учреждение Обители, как столовая для бедных. Свыше 300 обедов ежедневно отпускалось из Обители, как правило, бедным многодетным женщинам. Одна из сестер Обители вспоминала, что в течение 1913 года было выдано 139 443 обеда. Беднякам не нужно было выстаивать в длинной унизительной очереди за тарелкой супа.
Без посредства, хитрости и лукавства мздоимцев они получали вовремя «стакан воды» от самого Спасителя. Эта благословенная глубина и сила милосердного подаяния помогала изживать в душе превратное представление о человеческом достоинстве.
Сам по себе факт владения квартирой или даже небольшой комнатой ничего небывалого не представляет. Но совершенно иная картина открывается любящему взору, если перед ним бедные юные существа — работницы фабрик, которые по иронии судьбы погибают от голода, страдания и своей ежедневной бездомности, а поэтому не в состоянии приблизиться к очагам образования. Настоятельница и сестры Марфо-Мариинской обители милосердия мечтали на своей земле с помощью добрых людей выстроить большой дом дешевых квартир для таких девушек, где за минимальную плату они имели бы место жительства и нормальное питание. Но пока реализовать такой проект не удавалось, в частном доме была выделена квартира, где проживали бедные курсистки — работницы фабрик. В этой квартире постоянно жила сестра Обители, имелась библиотека в 200 томов. Квартиру еженедельно посещал духовник для совершения молебнов и проведения бесед.
Сестры обители постоянно участвовали в работе многочисленных благотворительных Обществ, организуемых Великой княгиней. Так, в адресной книге «Вся Москва» в период с 1914 по 1917 год в Столешниковом переулке, в доме известного мецената Корзинкина, о котором мы писали выше, проживало семейство древнего рода Языковых (мать Надежда Никаноровна Языкова и ее дочери Елисавета и Евгения), которые, будучи сестрами Марфо-Мариинской обители, работали в «Складе кустарных изделий», состоявшем под покровительством Великой княгини. Елисавета Феодоровна была учредителем и попечителем ряда благотворительных организаций в Москве и Петербурге, в том числе «Высочайше утвержденного Комитета для устройства в Москве Музея Прикладных знаний», при котором было создано «Общество распространения технических знаний» в московском Политехническом музее. Одной из задач общества было — возродить на Руси кустарные народные промыслы и организовать продажу кустарных изделий. Продажа была организована в магазине «Родник» в Столешниковом переулке, д. 7, при котором был создан «Склад кустарных изделий», где трудились сестры Обители Елизавета и Евгения Языковы[442].
Именно сюда бедный молодой, никому тогда не известный художник Н.Я. Тамонькин сдавал на продажу рисунки для народных вышивок, зарабатывая таким образом на хлеб. На его рисунки, сдаваемые в магазин, обратил внимание меценат Владимир Владимирович фон Мекк, бывший в то время личным секретарем Великой княгини Елисаветы Феодоровны (внук Н.Ф. фон Мекк, которая в свое время покровительствовала П.И. Чайковскому). Пригласив к себе в дом на Новинском бульваре студента Строгановского училища, фон Мекк предложил ему оплачиваемую работу. Меценат развернул перед студентом обмерные чертежи небольшой часовни в саду Марфо-Мариинской обители и предложил расписать ее. Это был первый заказ, предоставлявший молодому художнику опробовать свои силы. Готовые эскизы были оценены по достоинству. И хоть роспись не состоялась по определенным причинам, художник получил новый заказ, теперь уже от Великой княгини на роспись иконостаса временной церкви обители. Великая княгиня осталась довольна росписью. А храм, первоначально считавшийся временным, после освящения его в честь святых Марфы и Марии превратился в постоянно действующую больничную церковь[443].
Так, со склада кустарных изделий Великой княгини Елисаветы Феодоровны начиналась многолетняя плодотворная деятельность художника, который, кроме проектов крупных архитектурных сооружений, оставил множество незабываемых эскизов старых храмов, где особое внимание было уделено отдельным элементам декора, которые свидетельствовали о том или ином стиле эпохи.
9.2. Повседневная жизнь Обители
День Обители выстраивался в строгом порядке. Подъем — в 6 часов утра. В 7.20 — общая молитва в больничном храме, после которой прочитывалось несколько фрагментов из Евангелия, апостольских посланий, псалом. Получив благословение священника, настоятельницы, сестры пили чай, а затем направлялись на выполнение своих послушаний. Свободные в этот день от послушаний сестры оставались в храме на литургии. Два раза в неделю с 11 до 12 часов дня духовник Обители проводил беседу с сестрами. Одна беседа катехизического характера, другая — святоотеческого. В 12.30 — трапеза с непременным чтением жития святого. В 4 часа дня — чай. В 5 часов — вечерня, в которой участвуют те сестры, которые свободны от послушаний. В 19.30 — вечерняя трапеза. В 21.00 — общая вечерняя молитва в больничном храме, после которой, получив благословение настоятельницы, сестры расходились по кельям. В 22.30 — сон.
Четыре раза в неделю в обительском храме во время вечерней службы читались акафисты: в воскресенье Спасителю, в понедельник Архангелу Михаилу и всем Небесным Силам бесплотным, в среду св. Марфе и Марии, в пятницу Богоматери и Страстям Христовым. Сестрам вменялось в обязанность посещать Чудов монастырь в праздники святителя Алексия, а также храм-усыпальницу Великого князя Сергея Александровича в день его убиения.
Сестры при посвящении получали кипарисовый крест на белой ленте с изображением Нерукотворного Спаса и Покрова Божией Матери; на обратной стороне — изображение святых жен Марфы и Марии. Получая этот крест, дав обет (на определенный срок) служить Богу и людям, сестры в решении всех вопросов настраивались на подчинение правилам Обители. Каждая сестра получала четки и ежедневно обязательно творила сто Иисусовых молитв. В случае войны обительские сестры не могли ехать с отрядами воинов. Эту задачу выполняли сестры Красного Креста. Задача обительских сестер — оказание помощи больным и раненым в Москве, а также помощь в случае эпидемий и стихийных бедствий.
Одним их главных послушаний, как уже говорилось, было посещение бедных. Ежедневно несколько сестер отправлялись к бедным (всегда по две сестры) в разные кварталы города. Елисавета Феодоровна получала в год по 12 000 прошений об оказании помощи беднякам. Всех обездоленных сестры стремились посетить, утешить, полечить, принести в их дома радость и мир.
«Но решение труднейших задач, — подчеркивала А. А. Олсуфьева, — всегда брала на себя их Великая Матушка, которая знала, что Бог умеряет ветер по отношению к смиренным и что она сама имеет силы на все. Ее душа укреплялась и расцветала в этой жизни, связанной с лишениями. Всегда спокойная и смиренная, она находила время и силы, получая удовлетворение от этой бесконечной работы»[444].
Великая княгиня жила в комнатах светлых и чистых, отделенных от госпиталя церковью, украшенных исключительно иконами, подаренными теми, кто любил и почитал ее. На руке она носила четки. Каждую свободную минуту перебирала их, творя Иисусову молитву.
Современники, посещавшие Елисавету Феодоровну в Марфо-Мариинской обители, отмечали доминирование белого цвета во всей обстановке дома. Повсюду был ситец светлых тонов. Им была обита мебель, на окнах во всех комнатах ситцевые занавески разных рисунков с изображением светлых полевых цветов. Полы устилались коврами светлых тонов. В доме было много редких цветов — зимой цветущая сирень в кадках, и тоже только белая. В церкви также светлые ситцевые занавески. Служба совершалась священником в белых, вышитых шелком ризах. Все сестры носили светлые длинные платья и белые покрывала.
В письме к Николаю II Елисавета Феодоровна сообщала о характере питания сестер Обители, стремясь преодолеть слухи о якобы суровом, полуголодном существовании там. Учитывая, что работа сестер трудная, им была разрешена любая простая, здоровая пища, в том числе и мясо. Сестры любили общую трапезу, возглавляемую обычно Гордеевой. О себе Великая княгиня сообщала: «Я ем одна у себя дома, меня это устраивает, и кроме того, надо держать некоторую дистанцию, хотя мы и живем вместе… Я живу в отдельном доме…»[445]. В этом небольшом фрагменте письма Елисаветы Феодоровны нашла выражение ее позиция относительно этики общения начальницы Обители и сестер. Здесь очевидно отрицание «уравниловки», «панибратства» в отношениях. Этот вопрос всегда решался Великой княгиней вполне определенно, что не снижало уровня духовного общения, не мешало полноценной церковной жизни.
Великая княгиня спала на деревянной кровати без матраца, с жесткой подушкой. Часто спала 2-3 часа, в полночь поднималась, чтобы помолиться в церкви, а затем посетить больных в больнице. Если кто-то из пациентов, как вспоминала А. А. Олсуфьева, по какой-либо причине испытывал сильную тревогу, она садилась возле него и оставалась там, стараясь успокоить его в тягостные часы ночи. Она обладала особой интуицией, находила особые слова, и больные легче переносили страдания.
В Москве вскоре узнали об исключительном уходе за больными в Марфо-Мариинской обители. И сюда начали направлять очень тяжелых больных.
А.А. Олсуфьева, будучи очень близким Елисавете Феодоровне человеком, вспоминала, как однажды в обитель привезли повариху из бедного дома, которая получила ожог, опрокинув на себя масляную кухонную плиту. Ожоги покрывали слишком большую часть поверхности кожи, чтобы можно было это исцелить — неповрежденной кожи не осталось за исключением ладоней рук и ступней ног. Ее привезли уже с признаками гангрены из одной городской больницы. Великая княгиня сама делала бедной поварихе перевязки, которые были столь болезненны, что она должна была каждый раз менять позу ради удобства и успокоения пациентки. Однако Великая княгиня упорно продолжала лечение вплоть до того момента, пока женщина не поправилась, к удивлению врачей, которые признавали ее безнадежной.
Хирурги Москвы просили матушку о помощи, когда им предстояла сложная операция. Она ассистировала с удивительным спокойствием и концентрацией внимания, чутко прислушиваясь к каждому пожеланию врачей. Елисавета Феодоровна основала Дом неизлечимых туберкулезных больных для женщин из беднейшего класса и посещала этот «дом смерти» дважды в неделю. Пациентки часто проявляли свое благодарное отношение к Елисавете Феодоровне, обнимая ее, но не думая при этом об опасности инфицирования. Великая княгиня ни разу не уклонилась от их объятий. Этому Дому женщин, больных туберкулезом, она была особенно предана (позднее Дом туберкулезных больных был переведен в специализированную городскую клинику).
Елисавета Феодоровна сердечно относилась к тяжело больным слугам, от которых отказывались бывшие хозяева и родственники. Ее главная цель состояла в том, чтобы дать немного комфорта и радости людям, которых отказывались принимать больницы, и им ничего не оставалось, как умирать в ужасной нищете. За этими бедными людьми ухаживали сестры в светлом доме с большим садом, где больные часто выздоравливали, и Великая княгиня помогала им в этом. Но нередко они умирали, поручая близких своей благодетельнице. Часто умирающая мать говорила Великой княгине: «Мои дети больше не мои, они Ваши, ибо у них в мире нет никого, кроме Вас!»[446].
Все свое богатство Великая княгиня разделила на три части. Одну часть вернула Русскому Императорскому Дому. Вторую — распределила между близкими. Третью — обратила на дела милосердия.
На свои личные нужды тратила крайне мало денег, носила скромную одежду, чтобы быть незаметной.
Огромные средства и силы Елисавета Феодоровна и ее обитель отдавали детям. В годы Первой мировой войны здесь не только выхаживали воинов, но и заботились о детях, которых перевозили в Москву из тех мест, где велись военные действия.
В этой связи в начале августа 1915 года Великая княгиня пригласила в Марфо-Мариинскую обитель настоятельниц московских женских монастырей. На этом совещании было принято решение, что Турковицкому Холмскому женскому монастырю Марфо-Мариинская обитель предоставит только что выстроенный дом в Денежном переулке для размещения там 300 детей. В октябре 1915 года там был освящен храм св. Елисаветы[447].
В деятельности Марфо-Мариинской обители особо привлекает стратегия отношения Великой княгини к воспитанию детей из зажиточных семей. В.Ф. Джунковский вспоминает, что вслед за лазаретом в одном из домов обители открылся кружок «Детская лепта». Цель кружка состояла в том, чтобы дети состоятельных родителей с раннего возраста помнили, что есть их сверстники, которым не до роскоши, которые нуждаются в самом необходимом, и что помогать этим детям своим трудом и излишком своего имущества есть обязанность каждого христианина[448].
Новый тип благотворительности, вызревавший в душе Великой княгини, был не от мира сего, но побуждал к жизни в миру с целью его преображения. Поэтому в основу будущей обители была положена мысль, которая проверялась Великой княгиней в общении с множеством людей, и прежде всего детей. Мысль эта — твердое предупреждение любителям педагогических экспериментов: «Никакой человек не может дать другим более, чем он имеет сам»[449]. Мы все черпаем от Бога, поэтому только в НЕМ можем действительно любить ближних и совершать должное научение юных. Только на этой основе можно было соединить жребий Марии, внемлющей вечным глаголам жизни, и повседневное служение Марфы.
Последовательность и стойкость в проведении концепции Обители в жизнь объясняется тем, что Елисавета Феодоровна всегда помнила закон духовной жизни, который очень кратко и мудро сформулировал великий старец: держи сердце в чувстве к Богу, всегда будешь в памяти Божьей. Помощь Божия придет лишь тогда, когда человек всем сердцем начнет говорить: «Господи, помоги!» Елисавета Феодоровна, молясь именно так, ощущала главный плод молитвы — страх Божий и сокрушение сердца. Опытом жизни она подтверждала справедливость суждения старцев о том, что Имя Божие, будучи призываемо, убивает все вредные страсти, хотя и не известно, как это совершается.
Несмотря на то что развитие Марфо-Мариинской обители милосердия требовало огромных усилий Великой княгини, знакомство с хроникой ее жизни убеждает в невероятной многоадресности и разнообразии ее усилий. Развитие главного детища Великой княгини не служило препятствием к ее умножающемуся участию в бедах и радостях Москвы. Если пунктирно отметить на карте ее жизни точки приложения усилий Великой княгини в деле благотворения в напряженные годы строительства Обители (1911-1913 гг.), то получится убедительная картина: 27 апреля 1911 г. Елисавета Феодоровна, как попечительница, присутствует на 50-летнем юбилее Братолюбивого благотворительного общества в храме Спиридоновского убежища, где была совершена литургия, а затем состоялась закладка дома бесплатных квартир, сооружаемого на капитал, пожертвованный Е.П. Самарджи[450]; в мае 1911 года Третьяковская галерея получила от Великой княгини Елисаветы Феодоровны и Великой княжны Марии Павловны восемь картин из коллекции Великого князя Сергея Александровича, имеющих огромную художественную и материальную ценность[451], «Голос Москвы» сообщал, что в Марфо-Мариинской обители сооружен новый корпус для сестер милосердия, построенный на средства М.Ф. Морозовой и И.А. Колесникова[452]; 2 января 1913 года в Консерватории состоялся концерт духовной музыки в пользу Елисаветинского благотворительного общества[453]; 26 января 1913 года в Сергиево-Елисаветинском приюте при Бутырской тюрьме открыт приют для подследственных девочек младше 18 лет[454]; 13 июня 1913 года Великая княгиня посетила Матросскую богадельню, где священник о. И.Н. Лихачев устроил огород для работы в нем детей улицы[455]; 13 августа напротив Ивановского монастыря был освящен и открыт приют-ясли «Маяк» для девочек Хитрова рынка[456]. Эти и множество других сообщений в прессе свидетельствовали лишь о малой части той огромной работы, которую постоянно осуществляла Великая княгиня.
9.3. Великая матушка в дни стихийных бедствий
Еще до создания Обители Елисавета Феодоровна активно занималась ее формированием, подготовкой к закладке Покровского храма в 1908 году. Великая княгиня никогда не замыкалась в одном, пусть даже самом важном деле. Ее лучшие качества всегда ярко проявлялись в дни всенародных бедствий, связанных с разбушевавшейся стихией.
Таким испытанием для Москвы и Подмосковья было невиданное до тех пор наводнение 1908 года. Население всей России горячо отозвалось на эту беду. Из числа крупных жертвователей первыми были московские дворяне, передавшие в фонд пострадавших 1000 руб., и Великая княгиня Елисавета Феодоровна, которая передала в этот фонд такую же сумму. Деньги немедленно распределялись по местам бедствия. Помимо того, В.Ф. Джунковский при милостивом участии Елисаветы Феодоровны и ее Общества распределял на местах нуждающимся хлеб и одежду, Великая княгиня приказала со своего склада выдать пострадавшим 500 комплектов мужской и женской одежды.
В мае 1908 года Елисавета Феодоровна выразила желание принять на себя заботы о населении Звенигородского уезда и внести из личных средств ту сумму, которой уездному комитету не хватало на покрытие убытков от наводнения. В результате этого доброго дела Великой княгини Звенигород обошелся без помощи губернского комитета[457].
Эта дань малой родине, имевшей в жизни Великой княгини особое значение, вновь обратила ее память к незабываемым, неповторимо прекрасным дням. Эта давно обозначенная связь требовала немедленной помощи именно Звенигородскому краю, его жителям, которым Великая княгиня была обязана своим радостным вхождением в новую отчизну.
В годы становления и развития Марфо-Мариинской обители милосердия Елисавета Феодоровна помнит и действует ради тысяч погорельцев Москвы и России, являясь председателем Общества помощи погорельцам.
В 1911 году она собирает общее собрание членов Совета этого Общества, где рассматриваются вопросы о мерах конкретной помощи пострадавшим в Москве, Клину, Волоколамске и т. д. 1911 год был отмечен как удачный в работе Общества, поскольку все местные отделы Общества при оказании такой поддержки сумели решить вопросы своими силами, не обращаясь в Главный совет.
Здесь было принято решение о пополнении склада вещей для погорельцев. К концу отчетного года на складе было всего 2460 вещей.
28 октября 1911 года для пополнения средств Главного совета по оказанию помощи погорельцам Попечительство о сборе пожертвований организовало в Охотничьем клубе спектакль. Это, разумеется, был лишь один из источников поддержки Общества.
По ходатайству Великой княгини Елисаветы Феодоров-ны некоторые активисты Общества помощи погорельцам получили Высочайшие награды.
Так, помощница председательницы Волоколамского отдела Общества была награждена золотой нагрудной медалью на Аннинской ленте. Секретарь Дмитровского отдела Общества Алексей Павлович Афанасьев был удостоен ордена св. Станислава 2-й степени. Помощник секретаря по Серпуховскому отделу Общества Дмитрий Петрович Бобровников был награжден золотой нагрудной медалью на Аннинской ленте[458].
Давно закончилась Русско-японская война, но помощь инвалидам Сергиево-Елисаветинского убежища продолжалась. 29 декабря 1911 г. «Голос Москвы» сообщал, что 28 декабря в Большом театре в пользу этого убежища и Сергиево-Елисаветинского начального училища для солдатских детей была поставлена «Травиата». Партию Альфреда исполнял Л.В. Собинов, Виолетты — А.В. Нежданова, Жермона — Л.В. Грызунов. В заключительной части вечера был показан возобновленный одноактный балет Байера «Фея кукол», в котором блистали В.А. Коралли и A.M. Балашова. Театр был переполнен. В антрактах при входе в зрительный зал шла активная продажа программ и цветов[459]. Все вырученные средства направлены указанным выше учреждениям.
Несмотря на вереницу великих жертв и тревог, вызванных войной и стихийными бедствиями, весной 1916 года в Москве не осталось незамеченным важное событие.
13 апреля, в среду Светлой Седмицы, Высокопреосвященнейший Владыка митрополит Макарий совершил Божественную литургию в храме Марфо-Мариинской обители милосердия и благодарственный молебен по случаю исполнившегося 25-летия со дня вступления Великой княгини Елисаветы Феодоровны в лоно Православной Церкви, вручив ей Федоровскую икону Божией Матери, Покровительницы царствующего рода Романовых[460].
В этот день слово в Обители говорил о. Иоанн Восторгов.
«В чем особенность и сила проповеди? — вопрошал о. Иоанн. — И Предтеча, и Сам Спаситель, и апостолы ничего не доказывают; они не изыскивают истины путем сложных размышлений, рассудочных построений и доказательств. Они только свидетельствуют об истине, и она сама, — сама истина, внутреннею, присущей ей силой покоряет сердца и преобразует души человеческие».
Именно так свидетельствовала об истине Великая княгиня, всей своей жизнью и деятельностью, взглядом, жестом, поступком.
«В такой христианизации, — продолжал о. Иоанн, — когда „жизнь истинствует», и заключается прогресс духовный, — во внутреннем и качественном изменении жизни под влиянием и воздействием истины…
И что же удивительного в том, что Высокая виновница нынешнего торжества, прибыв с запада Европы, очутившись лицом к лицу пред Православною Церковью и жизнью православною русского народа, почувствовала в душе неодолимое свидетельство православной истины?
«Приди и виждь» — это слово прозвучало и ей в сердце и принесло плоды…
«Не сердце ли мое горело во мне», — могла она сказать, видя пред собой не раз о. Иоанна Кронштадтского и всегда наблюдая жизнь и нравственный образ царственных братьев, Государя Императора Александра Александровича и Великого князя Сергея Александровича…
Промыслу Божию угодно было поставить ее здесь, в Москве, в ближайшее общение с русской жизнью, — и она почувствовала здесь всю захватывающую красу Православной Церкви, все биение жизни русского народа… Православия нельзя теперь от нее взять даже ценою мученической смерти…»[461].
В этот день было много радости и духовных, подношений, в том числе от членов Комитета, которые пришли поздравить Великую княгиню не только с 25-летием принятия православия, но и с 25-летием служения Москве. Лучшим подарком Елисавете Феодоровне были пожертвованные москвичами 33 тыс. руб. на организацию убежища для слепых воинов.
В этот, 1916 год Великая княгиня начала награждать людей специальной грамотой, вручавшейся за активную пастырскую деятельность и благотворительность.
В дни становления и развития Марфо-Мариинской обители Великая княгиня применяет те навыки и умения в области декоративно-прикладного искусства, которые обретала в Дармштадте, а затем в Москве.
Еще в 1901 году, наряду со множеством других наставнических назначений, Елисавета Феодоровна приняла под свое покровительство Строгановское училище технического рисования. Кроме ежегодного посещения вместе с Сергеем Александровичем весьма торжественных годовых актов и оказания помощи училищу, Елисавета Феодоровна личным примером побуждала студентов к благотворительной деятельности. Будучи образованной художницей, она, как сообщает о том художник Н.Я. Тамонькин, сама создавала всевозможные кустарные изделия, в чем ей коллективно помогали учащиеся Строгановского училища. Все выполненные вещи продавались ею с благотворительной целью. Н.Я. Тамонькин вместе с другими учащимися принял участие в оформлении серии небольших, переплетенных в пергамент Евангелий, где на обложке каждой книги Елисавета Феодоровна изображала сюжеты из жизни Христа, а учащиеся под рисунком славянским шрифтом делали надписи из текста Евангелия, выбранные Великой княгиней.
Однажды к дому И.А. Морозова, где жил его юный стипендиат Н.Я. Тамонькин, подъехала карета с гербами. Главный камердинер Великой княгини передал студенту благодарность за хорошую работу и в подарок одно из Евангелий, но было оно с рисунком более сложным и текстом, исполненным самой Елисаветой Феодоровной. В ответ на недоумение студента директор Строгановского училища сказал юноше, что считается большой честью получение подарка от члена Императорского Дома с его подписью. Это Евангелие в свое время сыграло значительную роль в развитии дальнейших отношений Н.Я. Тамонькина с Великой княгиней и сохранялось до последних дней жизни художника.
Такого рода подарки или вырученные от продажи изделий деньги передавались в дар во время рождественских елок, при посещении раненых и их обездоленных детей. Мы видим Великую княгиню с подарками на даче Богоявленского монастыря в Марфино, где размещался приют для детей воинов, в лазаретах раненых в Хлебном переулке, на Большой Ордынке, в Сивцевом Вражке, в Спасопесковском переулке, в Звенигороде и множестве других мест[462].
В 1910 году внимание Великой княгини и сестер Марфо-Мариинской обители привлекла выставка религиозной живописи В.М. Васнецова, открытая в Историческом музее. Каждая работа рассматривалась с огромным интересом, в частности и потому, что Елисавета Феодоровна в эти годы реализовывала ряд важных проектов, связанных с художественными росписями. Самое сильное впечатление на всех посетителей выставки произвело полотно «Распятие»[463].
Высоко оценила деятельность художника Московская Духовная академия, избрав В.М. Васнецова 29 сентября 1914 года почетным членом Академии. Действительный статский советник Виктор Михайлович Васнецов был признан на Совете Академии выдающимся русским художником, оригинально объединившим в художественном синтезе религиозные идеалы византийской и русской живописи и своим художественным гением глубоко приникшим к тайне святости тела душевного на пути его преображения в тело духовное[464].
9.4. Великая княгиня и M.B. Нестеров в годы создания Покровского храма Обители
Первая встреча Великой княгини с М.В. Нестеровым состоялась в 1900 году. Художник был приглашен в императорский дворец для ознакомления августейшей четы со своими эскизами абастуманских росписей. Когда Государь и Государыня закончили просмотр эскизов, похвалив работу художника, дверь открылась и вошла скромная, изящная, на вид совсем еще молодая, в выездном туалете, в черном с каракулевым воротником жакете Великая княгиня Елисавета Феодоровна. Нестерова представили. Великая княгиня «с первых слов очаровала меня своим прекрасным, ясным лицом, простотой, оживленностью». Елисавета Феодоровна просматривает эскизы, «искренне хвалит то, что ей нравится. Прекрасное лицо ее оживляется еще больше…»[465]. Так начиналась многолетняя дружба Великой княгини и великого русского художника.
Предметом особого попечения Великой княгини было создание уникального Покровского храма обители. По поручению Елисаветы Феодоровны гофмейстер А.П. Корнилов, и.о. секретаря Великой княгини, обращается к митрополиту Владимиру с просьбой об ускорении утверждения в техническо-строительном комитете при хозяйственном управлении Святейшего Синода проекта домовой церкви по Большой Ордынке, д. 40[466].
Прошение А.П. Корнилова направляется митрополиту с сопроводительным письмом архитектора этого храма А.В. Щусева[467]. Митрополит Владимир обращается в хозяйственное управление Синода с просьбой рассмотреть проект[468].
Закладка храма была совершена в 1908 году, а в 1912 году храм был построен в древнем новгородско-псковском стиле XVI в. Храм поразил москвичей своей красотой и необычностью. Драматична история создания этого храма.
В 1907 году М.В. Нестеров решил оставить Москве нечто небывалое, рассчитанное на века. И в этом смысле предложение Великой княгини о росписи Покровского храма ее обители стало благодатной, промыслительной вестью.
6 сентября 1907 года в письме из Абрамцева к своему ближайшему другу художнику А.А. Турыгину М.В. Нестеров признавался, что, несмотря на мизерность отпускаемых средств, он берется за роспись, так как здесь появилась возможность «оставить в Москве после себя нечто цельное»[469]. План росписи, предложенный художником, был принят Великой княгиней с самыми добрыми чувствами.
Размышляя о содержании росписи, М.В. Нестеров писал, что сестры Мария и Марфа ведут, указывают людям Иисуса Христа, являющегося этим людям в их печалях и болезнях среди светлой весенней природы. Это не только русские люди, потому что «идея общины — евангельская — общечеловеческая»[470]. На прощанье, как сообщает М.В. Нестеров А.А. Турыгину, Великая княгиня пригласила Михаила Васильевича отдохнуть в Ильинском, куда он и направился после Абрамцева.
В другом письме к А. А. Турыгину художник сообщает, что он доволен эскизами: «Они серьезно сработаны и гораздо самостоятельнее прежних моих церковных работ»[471]. Глядя на эскизы и подбадривая себя, художник признавался: главное состоит в том, чтобы не растеряться перед огромностью стены и сложностью замысла. «Это чувство громадности, которую надо одолеть, — страстно я люблю, тут есть как бы вызов на бой»[472]. Многие напрашивались посмотреть эскизы, например Дягилев. Но Нестеров отказывал всем, особенно учитывая желание Великой княгини до времени сохранить этот проект в тайне.
В 1909 году, когда роспись храма шла полным ходом, в прессе появляется сразу несколько статей В.В. Розанова об Обители, в письме к которому из Киева М.В. Нестеров признается, что с волнением ожидал публикации этих работ. Он пишет, что всегда ценил дар Розанова, относился с вдумчивым вниманием к его труду.
Не первая, а последующие статьи писателя вызвали искреннее приятие художника: «Вы вышли на простор. Тема получила живую, яркую окраску, в нее вложили Вы много теплоты, и я уверен, что именно эти последующие статьи могут сделать то дело, на которое можно было надеяться, т. е. обратить внимание общества в сторону новой прекрасной идеи человека, которому Бог дал талант быть вдохновенно-доброй и возможность по исключительным своим условиям выразить свою идею активно, подать людям вовремя не камни, хотя бы и самоцветные, а хлеб живой…»[473].
Роспись делалась год за годом, а художнику порой казалось, что до ее завершения еще дистанция огромного размера. Но он видел перед собой ясную цель. И сомневаться в наличии подобной целеустановки не приходилось.
Великолепно владея красками, живописными приемами, обладая своим сложившимся стилем росписи, М.В. Нестеров обращается к другому гениальному художнику, В.Д. Поленову, просит познакомить его с теми красками, которыми Поленов писал свои последние работы, просит сообщить, как они называются и где их можно достать[474].
В дореволюционной прессе, наряду с В.В. Розановым, много писали о работе М.В. Нестерова, писал об этом и сам художник в своих «Воспоминаниях». Но в силу известных обстоятельств, связанных с постоянным упоминанием о царской семье, ряд характерных деталей в «Воспоминаниях» был опущен (в недавние десятилетия).
В тот день, когда мы встретились с дочерью Михаила Васильевича Натальей Михайловной, мне показали неопубликованные фрагменты воспоминаний художника о Великой княгине. 15 сентября 2003 г. предстоял столетний юбилей Натальи Михайловны, в честь которого мы поторопились опубликовать эти драгоценные страницы. Подготовкой материала к изданию интенсивно начала заниматься сама Наталья Михайловна и ее неизменный добрый помощник, искусствовед по профессии, монахиня Варвара (Вилисова), сверяя содержимое рукописей с документами семейного архива Нестеровых.
Мы были рады, что наряду с публикацией воспоминаний самого М.В. Нестерова получили согласие опубликовать часть воспоминаний Натальи Михайловны о Великой княгине.
В течение четырех лет М.В. Нестеров, ревностно занимаясь созданием Покровского храма, имел возможность постоянного общения с Великой княгиней. В этом общении художник увидел жизнь человека, на котором почивал отблеск нетварного света, что позволило ему уже тогда, в начале XX века, говорить о жизни Великой княгини как о житии. Их объединяла мысль о новом евангельском строении мира, стремлении служить вселенскому делу спасения.
Опубликованные фрагменты воспоминаний М.В. Нестерова представляют собой важный источник достоверных дополнительных сведений о Елисавете Феодоровне той поры — круге ее общения, об Императоре и Императрице, о тех предметах и явлениях, которым Великая княгиня отдавала предпочтение, об особенностях ее реакций на поступки людей, об огромной благотворительной деятельности.
В 1911 году при написании «Пути ко Христу» в трапезной Покровского храма М.В. Нестеров пережил страшный удар и был поражен благородством Великой княгини, осознавшей подлинный драматизм ситуации. Закончив настенную роспись «Путь ко Христу», которая удалась, он готовился показать работу Великой княгине. Но, придя утром в церковь и поднявшись на леса, Нестеров вдруг заметил по всей поверхности росписи множество черных, маслянистых нарывов. Весь день и ночь думал, что же делать. Причины несчастья были налицо. А.В. Щусев, которому поручили подготовку стены под роспись, передоверил это знакомому живописцу, который плохо выполнил задание.
На следующий день Великая княгиня, как вспоминал М.В. Нестеров, радостная, оживленная, приветливая, пришла для просмотра завершенной работы. Внимательно всмотревшись в работу не на лесах, а снизу, она обратилась к художнику со словами самой искренней благодарности. М.В. Нестеров пережил тогда очень нелегкие минуты, сказав Великой княгине, что роспись придется уничтожить.
Потрясенная этим сообщением, Елисавета Феодоровна старалась утешить художника, полагая, что со временем злокачественные нарывы на стене пропадут. «Мне нельзя было ни на минуту поддаваться такому искушению, — пишет М.В. Нестеров, — и я не смалодушествовал, убедил Великую княгиню роспись соскоблить»[475] и повторить ее на медной доске.
В этой драматической ситуации ясно проявился духовный нерв всей работы, универсальное начало, объединяющее Великую княгиню и великого художника. Не впадая в самообман, губительный и ложный, понимая возможность и даже неизбежность ошибок в святом деле, они достигли положительного итога росписи. М.В. Нестеров отмечал особую внимательность и доброту, сердечность, чуткость Великой княгини по отношению к нему в эти тяжелые дни.
«Дела в церкви продвигаются быстро к концу, — писал Нестеров в январе 1912 года Турыгину, — еще неделя-другая и большой, четырехлетний труд окончен, и надо надеяться, что все написанное переживет меня. Церковь вышла интересная — единственная в своем роде»[476]. С разрешения Великой княгини весной 1912 года М.В. Нестеров начал показывать свою работу друзьям. В эти дни церковь посетило человек тридцать. Художник слышит много похвал, поздравлений, удивлений. Храм посетили В.Д. Поленов, В.М. Васнецов и другие художники, оставившие восторженные отзывы о росписи.
Великую княгиню и великого художника роднило во время росписи особое чувство цвета. В отличие от Абастуманской, густо орнаментированной церкви, в Покровском храме орнаментов было мало.
По согласованию с Великой княгиней роспись храма была задумана и осуществлена в светлых, пасхальных тонах. Основной фон росписи, как и в Абастумане, белый. Ему хотелось этим, как признавался художник, дать ощущение праздника, дать отдых душе. Строя роспись таким образом, М.В. Нестеров стремился найти свой собственный стиль, в котором воплотилась бы его вера, творческая сила, живая душа художника. Ему думалось, что в деле веры, религии, познания Духа Божия это было необходимо. Стиль — это его вера, стилизаторство же — это вера, но чья-то, за ней можно хорошо прятать отсутствие собственной веры.
И до освящения храма, и после этого события Великую княгиню поздравляли государственные и общественные деятели, художники. Но поклонники В.М. Васнецова, сторонники строгого следования канону в росписи, не унимались, считая, что Покровский храм имел право расписывать только такой художник, как Виктор Васнецов. Хулители М.В. Нестерова собирались поднять против него самого Федора Дмитриевича Самарина, признанного знатока канона. Слово его в Москве было свято, суд нелицеприятен. Этой встречи опасались и Великая княгиня, и М.В. Нестеров.
Федор Дмитриевич был тогда уже тяжело болен и не выезжал из дома. И все же, когда он почувствовал себя немного лучше, его уговорили и привезли в Покровский храм. На встречу с хулителями и Самариным Елисаве-та Феодоровна направилась одна, оберегая имя и покой художника. Через полчаса после вынесения приговора Ф.Д. Самариным Великая княгиня встретилась с М.В. Нестеровым в обительском саду. Елисавета Феодоровна шла навстречу ему сияющая и счастливая. Федор Дмитриевич, рассказала Великая княгиня, долго оставался в храме и был очень доволен. Более всего ему понравилось «Благовещенье» на пилонах, т. е. именно та часть росписи, которая вызывала у хулителей М.В. Нестерова резкое негодование. Ф.Д. Самарин заметил, что этот прекрасный храм необходимо беречь, что он не видит нарушения художником церковных уставов и иконописных канонов. Великосветские хулители были сконфужены и постарались поскорей отвезти строгого судью домой. С тех пор нападки на Нестерова прекратились.
Компетентная оценка Ф.Д. Самарина подтвердила, что в совместно задуманной и выстраданной росписи Покровского храма нет односторонности и умышленной ограниченности. Всем как-то сразу стало очевидно, что роспись осуществлял художник со свойственным ему типом мышления высокого этического и эстетического характера. Столкновение Великой княгини с хулителями нестеровской росписи убедило, что сила ее не только в положительной программе деятельности, но и в способности к последующему критическому стоянию за однажды избранный художественный проект храма.
Воспоминания Нестерова периода росписи Покровского храма приоткрыли ряд неизвестных ранее страниц в биографии Великой княгини. Они объясняли, например, почему Елисавета Феодоровна с некоторых пор перестала посещать Дармштадт, город, где прошли ее детство и юность. Однажды, во время работы Нестерова в Покровском храме, Великая княгиня сама рассказала художнику об этом. Елисавета Феодоровна только что вернулась оттуда с открытия усыпальницы ее родителей. В эти дни ей очень захотелось повидать тех профессоров, ученых, выдающихся лиц города, которые когда-то посещали ее родителей. В памяти Елисаветы Феодоровны они остались как носители самых высоких идеалов своего времени. Однако встреча с ними в начале XX века потрясла Великую княгиню. Теперь эти некогда дорогие ей люди были ярыми проповедниками милитаризма, завоевания чужой земли любой ценой. Прекрасное былое ушло с появлением Железного Канцлера, с шумным царствованием Вильгельма II. С тем большей радостью спешила она в свою московскую обитель, в свой родной дом.
По признанию Нестерова, Елисавета Феодоровна имела очень скромное мнение о себе. Единственным своим «талантом» она считала готовность отдать свое сердце людям. Но именно эта чистота помыслов и чувств Великой княгини оборачивалась восстановлением образа Божия в людях, обращала обитель Великой матушки в пристань спасения и утешения для многих.
Лишь однажды Нестерову пришлось видеть Елисавету Феодоровну не просто взволнованной, но гневной. Приближались Овручские торжества. В присутствии Государя предстояло освящение древнего храма, реставрированного А.В. Щусевым. Однажды, когда Елисавета Феодоровна беседовала с Нестеровым в Покровском храме, прямо из Овруча явился А.В. Щусев. На его вопрос, посетит ли Великая княгиня Овручские торжества, она ответила, что еще не решила. Она слышала, что наплыв паломников будет так велик, что не хватит для всех помещений. На что А.В. Щусев с амбициями человека власть имущего сказал: «Ну, Ваше Высочество, Вы только скажите — мы выгоним монахов из их келий и устроим Вас шикарно»[477]. Но не успел Алексей Викторович закончить фразу, как щеки Великой княгини стали алыми, глаза засверкали. Обычно такая сдержанная, она тогда резко сказала, что в Овруче она не будет. Она не хочет, чтобы ради нее выгоняли кого-либо из келий, что комфорт она знает с детства, жизнь во дворце знает. Говорила Великая княгиня быстро, горячо, не переводя дух. А.В. Щусев не понял, почему Великая княгиня так волновалась. Разговор был завершен в обычных мягких тонах. Но в Овруч Елисавета Феодоровна так и не поехала.
Художник признавался, что ему не раз хотелось написать Елисавету Феодоровну среди сестер обители и девочек-сирот ее школы-интерната. Это представлялось тем более важным, что Великой княгине не нравились ее портреты, написанные разными художниками. М.В. Нестеров уже видел ее тихим вечером, на лавочке, среди цветов, в ее сером обительском одеянии, в серой монашеской скуфье, прекрасную, стройную, как средневековую готическую скульптуру в каком-нибудь старом-старом соборе ее прежней родины. Но портрет был написан значительно позднее, по памяти, уже после убийства Великой княгини.
Ценным дополнением к воспоминаниям М.В. Нестерова стали опубликованные в этой же книге детские впечатления дочери художника, не померкшие с годами. «Самым светлым и прекрасным воспоминанием моего счастливого детства, — говорила Наталья Михайловна, — было двухмесячное пребывание в Марфо-Мариинской обители». В течение этих месяцев Елисавета Феодоровна укрывала в обители Наташу Нестерову от эпидемии скарлатины. «Я чувствовала, — писала Наталья Михайловна, — что Елисавета Феодоровна здесь старшая, я слышала, что она — „сестра царицы», но что это такое — „сестра царицы» — я не понимала. Я кидалась к ней на шею, обнимала, брала Елисавету Феодоровну под руку и так с ней ходила. Спокойствие, добро и любовь исходили от Великой княгини. Всю жизнь я ощущала, что встретила святого человека»[478].
В воспоминаниях Натальи Михайловны привлекают ее рассказы о матери Екатерине Петровне Нестеровой, о самоотверженности обительских сестер и самой Елисаветы Феодоровны, о дружбе с сиротой — будущей женой Павла Дмитриевича Корина, о начальнице Александровского интерната в Москве Ольге Михайловне Веселкиной, о духовнике обители о. Митрофане Сребрянском, который впервые исповедал Наталью Нестерову. «Никогда больше, — говорила Наталья Михайловна, — такой встречи со священником, как с о. Митрофаном, у меня не было»[479]. Во время бесед с Натальей Михайловной мы постоянно ощущали также ее необыкновенное отношение к памяти отца, папаши, как обычно она его называла, боязнь неосторожным словом бросить малейшую тень на дорогое имя.
Этот отблеск интеллигентности, такта, высокой культуры, благодарности Богу и людям лежал на всем облике и поведении Натальи Михайловны, что находило объяснение в традициях семьи и того культурного круга, к которому принадлежали Нестеровы.
«Мы, домашние дети начала XX века, были очень инфантильны, доверчивы и по-детски непосредственны, — признается в заключение своих воспоминаний Наталья Михайловна. — Папаша в своей картине «Христиане (На Руси. Душа народа)» изобразил весь русский народ, идущий с иконой Спасителя за ребенком, мальчиком с кузовком и в лаптях. Эпитетом к картине взял слова из Евангелия: „Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное» (Мф. 18, 3) Видимо, папаша видел душу народа как душу ребенка…»[480].
Если суммировать все сказанное и все оставшееся за скобками (т. е. в тексте воспоминаний), то следует признать, что нарисованный Нестеровым образ Великой княгини — это образ монахини в миру со всей полнотой ее социального служения.
В этой связи нельзя не вспомнить мысль отца Сергия Булгакова, близкого родственника и друга семьи Нестеровых, который полагал, что аскетизм, освобождающий себя от ответственности за мир, — это ложный аскетизм.
Подлинный аскетизм, как писал Булгаков, является величайшей культурной и творческой силой в мире. Применительно к опыту Великой княгини, можно сказать, что аскетизм был для нее не только целью, но и средством.
Во-вторых, созидая в обстановке глухой или явной борьбы, реализуя свой главный творческий замысел (т. е. Марфо-Мариинскую обитель) в лоне православного строительства, Елисавета Феодоровна всю силу аргументации обращает по сути против постулатов позитивизма, ибо без радостного удивления и благоговения перед творениями человеческого сердца и разума для нее немыслима жизнь.
И, наконец, третье, на что обращают наше внимание Михаил Васильевич и Наталья Михайловна Нестеровы: они свидетельствуют каждой строкой своих воспоминаний, что для Елисаветы Феодоровны высшей и последней инстанцией является Божественная любовь, которая побуждает к героическому служению путем деятельного и молитвенного обращения к совести нации.
Шли годы, десятилетия, но семья великого русского художника всегда ощущала рядом святое блаженство и святую тревогу Великой княгини, а ее житие они давно определили для себя как одну из основополагающих вех в развитии отечественной культуры.
9.5. Освящение Покровского храма
Храм поразил москвичей своей красотой и необычностью. Он был увенчан куполом старинной формы и древним, оригинального рисунка вызолоченным крестом. Над западной частью храма по углам устроены две звонницы. Над звонницами помещены главы продолговатой формы со старинными вызолоченными крестами. На звонницах 12 колоколов. В музыкальном отношении колокола подобраны так же, как знаменитые ростовские колокола. На западной стене храма расположены массивные дубовые двери, выполненные по древнему рисунку. Над ними — образ Спаса Нерукотоворного, превосходно созданный из цветной мозаики. Над образом помещен текст Священного Писания: «Аз есмь дверь: мною аще кто внидет, спасется…»
Южная стена храма украшена орнаментами из белого камня с изображениями Матери Божией и Распятия. На северном полукружье алтаря была помещена доска из белого мрамора, где сообщалось о создателях и дне освящения Покровского храма. Единственным в своем роде был иконостас Покровского храма, сделанный из резного дуба, обложенного чеканными, выполненными в древнем стиле серебряными вызолоченными листами.
По правую сторону иконостаса поместили икону Спасителя, по левую сторону Царских врат — икону Божией Матери. Северную и южную алтарные двери украсили изысканной резьбой. Возле них размещались иконы: Покрова Пресвятой Богородицы и свв. жен Марфы и Марии. По стенам трапезной разместили дубовые иконостасы в древнем стиле, иконы русских святителей.
В алтаре над горним местом — замечательное изображение: «Литургия ангелов», а над ним икона Покрова Божьей Матери. Икона эта, т. к. иконостас невысок, видна при входе в храм и производит большое впечатление на каждого. В северной части алтаря, возле жертвенника, помещен хрустальный крест необыкновенной работы, пожалованный Императрицей Александрой Федоровной. На Царских вратах драгоценная завеса голубого шелка, великолепно расшитая золотом, серебром и шелками. Вся церковная утварь была выполнена из позолоченного серебра по древним образцам и представляла большую ценность.
Наконец в Покровском храме Марфо-Мариинской обители, накануне его освящения, было совершено торжественное всенощное бдение. Молящимся раздавали брошюру о. Митрофана Сребрянского «Мысли и чувства православной русской души при посещении Покровского храма Марфо-Мариинской обители милосердия».
В воскресенье 8 апреля 1912 года состоялось освящение храма. На колокольне начался перезвон колоколов. В храм прибыла настоятельница обители с сестрами в белых одеждах с кипарисовыми крестами на груди.
К 9 часам утра прибыл митрополит Владимир, епископы Трифон и Анастасий, духовенство. В службе принимал участие Синодальный хор в парадных стихарях-кафтанах из шелковой серебряной парчи.
Освящение храма закончилось в половине одиннадцатого утра, и в новоосвященном храме началась литургия[481].
К освящению храма Обитель получила много подарков. Но за один из подарков Великая княгиня особенно тепло благодарила Николая II:
«Дорогой мой Ники!
Позволь мне еще раз от всего сердца поблагодарить тебя за самый драгоценный из всех даров, полученных нами для нашей новой церкви, за мощи моей небесной покровительницы св. Елизаветы и св. Иоанна Лествичника»[482].
Еще до освящения Покровского храма Елисавета Феодоровна, будучи почетным членом Московской Духовной Академии[483], выразила желание слышать в новом храме службу учащихся МДА. 15 апреля всенощное бдение, а 16-го литургию совершил ректор Академии епископ Феодор с протоиереем Митрофаном Сребрянским и священником Е. Синадским, а также духовенством МДА.
Великая княгиня поблагодарила студентов, отметила мощь и красоту звучания их хора, подарила всем платки с рисунками, изготовленные ко дню освящения храма.
Студенты, возвратившись в Академию, направили Великой княгине телеграмму, где благодарили за оказанную им честь служения в этом благодатном храме и завершили телеграмму словами: «Единым сердцем и устами поем Вам: многая лета».
Великая княгиня ответила студентам через телеграмму ректору, выразив «полную признательность за то молитвенное наслаждение, которое мы все испытали благодаря Вам и всем участникам воскресной службы. Прошу святых молитв Ваших. Елисавета»[484].
Выше уже говорилось об особом отношении Великой княгини к пению Синодального хора. Елисавета Феодоровна была хорошо знакома с этим хором, не только присутствуя на его концертах. В последние годы пребывания регента Н. Голованова в Синодальном училище ему поручалось руководить небольшим составом хора на службах во дворце Великой княгини, в церкви при Николаевском дворце (с 1907 по 1909 г.). Сразу после окончания училища, как вспоминает один из его воспитанников, Н. Голованов был приглашен регентом в Марфо-Мариинскую обитель и руководил там хором в течение двух лет (с 1 июля 1909 по 1 июня 1911 г.). В РГАДА хранится документ, выданный конторой двора Великой княгини, где говорится, что она была всегда довольна пением хора.
Великая княгиня постоянно слушала пение Синодального хора в Большом Успенском соборе Московского Кремля. В зимнее время, как вспоминает А.П. Смирнов, в соборе вместо всенощных служились утрени, где пела группа взрослых певчих в количестве десяти человек. Но поскольку пели они ночью, то группа носила название «ночников». Регент этого небольшого хора синодалов В.П. Степанов говорил, что в полутемном соборе почти никого не было, только слышалось рокотание низких голосов священнослужителей и пение мужского хора.
Ночное пение в пустынном полутемном соборе производило впечатление чего-то совершенно необычного и старинного. На эти ночные службы пешком из Марфо-Мариинской обители приходила Великая княгиня Елисавета Феодоровна. Ее всегда сопровождала женщина в светлом одеянии.
Елисавету Феодоровну постоянно видели и на других службах в соборе, где присутствовавшие приветствовали ее поклоном. Бывала она и в Синодальном училище. Иногда Синодальный хор пел литургию в Чудовом монастыре Кремля в память о Великом князе Сергее Александровиче[485].
Несмотря на тяготы военного времени, в 1915 году ожидали первого исполнения в Большом Успенском соборе «Всенощного бдения» С. Рахманинова, посвященного памяти Степана Васильевича Смоленского. Вместе с тем все ощущали, что для «Всенощной» Рахманинова время еще не пришло.
И тогда Синодальный хор под управлением Данилина решил спеть заключительную часть «Взбранной Воеводе». Успенский собор был переполнен. Как вспоминает А.П. Смирнов, Великую княгиню Елисавету Феодоровну и сопровождавшего ее обер-прокурора Священного Синода Саблера буквально притиснули к клиросу.
Последний раз перед революцией Всенощная исполнялась Синодальным хором в конце 1916 года в большом зале Синодального училища, где присутствовали СВ. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин, Н.Д. Кашкин[486].
Кто из людей, любящих Москву, не зачитывался рассказом И. Бунина «Чистый понедельник»?
Герои рассказа — люди богатые, молодые, красивые. Их повседневность — бесконечный праздник, нега, рестораны с шампанским, расстегаями, розовым рябчиком, роскошные подарки, цветы…
Писатель с истинным страхом смотрел всегда на благополучие, приобретение которого и обладание которым поглощало человека полностью.
Но такого рода повседневность тяготила молодую красавицу — героиню рассказа, которую все сильнее поглощала церковная служба. Она — то в Кремлевских соборах, то в Зачатьевском, то в Чудовом монастыре.
В последнюю встречу, в чистый понедельник, она неожиданно предупредила влюбленного юношу, что пойдет на послушание, а возможно, и на постриг и просит ее не искать.
«Прошло почти два года с того чистого понедельника, — пишет Бунин. — В четырнадцатом году, под Новый год, был такой же тихий, солнечный вечер, как тот незабвенный. Я вышел из дому, взял извозчика и поехал в Кремль. Там зашел в пустой Архангельский собор… стоял, точно ожидал чего-то, в той особой тишине пустой церкви, когда боишься вздохнуть в ней. Выйдя из собора, велел извозчику ехать на Ордынку…
На Ордынке я остановил извозчика у ворот Марфо-Мариинской обители…
Только я вошел во двор, как из церкви показались несомые на руках иконы, хоругви, за ними, вся в белом, длинном, тонколикая, в белом обрусе с нашитым на него золотым крестом на лбу, высокая, медленно, истово идущая с опущенными глазами, с большой свечой в руке, Великая княгиня; а за нею тянулась такая же белая вереница поющих, с огоньками свечек у лиц… И вот одна из идущих посредине вдруг подняла голову, крытую белым платом, загородив свечку рукой, устремила взгляд темных глаз в темноту, будто как раз на меня…Что она могла видеть в темноте, как могла она почувствовать мое присутствие? Я повернулся и тихо вышел из ворот»[487].
Писатель очень верно уловил неотразимую притягательность Великой княгини и ее великой обители. Подобное случалось со многими, кому удавалось близко соприкоснуться с таким свидетельством истины, каким была Великая княгиня. В этом явном, бесспорном, личностном свидетельствовании об истине кроется основной источник того, что центром жизни целого ряда людей становилась Марфо-Мариинская обитель, совершенно вытесняя все остальные страсти и желания.
В повседневных молитвах, заботах о раненых, сиротах, о беднейших москвичах, в покровительстве художникам, архитекторам, музыкантам протекала жизнь Великой княгини и руководимой ею общины милосердия, как в мирные, так и в военные дни.
9.6. Игумен Серафим о подвиге сестер Обители в дни Первой мировой войны
Высокую оценку служению сестер Марфо-Мариинской обители во время Первой мировой войны дал игумен Серафим в проповеди, произнесенной им здесь 6 августа 1915 года, перед молебном о даровании победы России.
Подчеркивая, что кровопролитная война попущена за грехи каждого, он утверждал, что необходимо оставить грех, соблюдать пост и усугубить молитву, «нести на алтарь отечества все, что можем, делать все, что умеем, для тушения разгоревшегося великого кровавого пожара»[488]. Ссылаясь на авторитет Максима Туринского, о. Серафим акцентирует важнейшую мысль: «Перестанешь грешить — неприятель побежден».
Высоко оценивая деятельность сестер, игумен Серафим отмечал: «Вы, дорогие сестры сей святой обители любви и милосердия, во главе со своей Августейшей Настоятельницей, уже не год, а десяток лет с неослабным усердием работаете на поприще любви к Богу и ближним. До войны здесь смягчались страдания, лечились болезни бедного народа, а теперь нашли ласку и утешение наши дорогие братья — раненые воины»[489].
Игумен Серафим, утешая скорбящих сестер, которым не выпала доля помогать воинам на поле боя, говорил, что и им готовятся венцы, ибо души сестер истерзаны ранами братьев. «В лице вас, тружениц любви и милосердия, во главе с Царственной Работницей, человечество будет видеть, среди прочих драгоценных камней в короне Державы Российской, ярко сияющие жемчужины любви. Благоухание ваших дел любви доносится и до передовых позиций, что мне пришлось слышать самому»[490]. Игумен Серафим так высоко ставил подвиг сестер обители, что с уверенностью говорил, что если кому-то из воинов суждено переселиться в мир иной, то и там они «не забудут вашего теплого к ним участия, ибо любовь не прерывается и после перерыва видимой связи, она сильнее смерти… Ваши дела как золото, останутся золотом»[491].
Вспоминая о том, как Государь год тому назад молился в Марфо-Мариинской обители о даровании победы христолюбивому воинству, игумен Серафим привлекает внимание сестер к тому образу, который в течение всей жизни вызывал трепет и поклонение Великой княгини. Тогда, год назад, во время молебна в Обители августейшая настоятельница благословила Государя на ратный подвиг иконой св. Михаила Архангела, которая в дни войны стала постоянной спутницей Его Величества. К этому образу прибегала Великая княгиня и тогда, когда подготавливала плакаты и открытки для отправки их на фронт, и когда молилась о преодолении козней внутренних и внешних врагов, и в других случаях.
Размышляя о судьбах России, игумен Серафим в беседах с сестрами вспоминал о сне, который он видел за пять лет до войны. Архистратиг Небесных Сил бесплотных парил в воздухе и предупреждал о том, что грядет ожесточенная и кровопролитная война. Архангел Михаил обещал свою помощь русскому царю[492], который, как подчеркивал игумен Серафим, имел «кротость и смирение Давида, веру Моисея и рассуждение Даниила»[493].
9.7. Неотвратимость надвигающейся бури
Не было предела перечню добрых дел Великой княгини и ее Великой обители. Как бы подводя итог своим воспоминаниям об этом главном деле Великой княгини Елисаветы Феодоровны, графиня Олсуфьева на правах человека, который много лет был рядом, свидетельствует: «Немыслимо представить себе, что когда-нибудь можно будет узреть подобное бытие, столь отличное от всех других, так далеко превосходящее общий уровень, столь пленительное в силу ее красоты и очарования, столь неотразимое в силу ее доброты; она обладала даром притягивать людей без усилий; все понимали, что она жила на более высоком уровне развития и доброжелательно помогала всем идти выше. Она никогда не давала человеку почувствовать его более низкое положение; напротив, без какого бы то ни было фальшивого смирения с ее стороны она выявляла лучшие качества своих друзей»[494].
Забывая о себе и думая только о других, Великая княгиня не помышляла о собственном физическом спасении, несмотря на то что злые ветры 1917-1918 гг. предвещали недоброе. Тесные связи с подмосковными селами, московскими госпиталями и больницами помогали поддерживать жизнь Марфо-Мариинской обители милосердия. Но уже раздавались угрозы в адрес Великой княгини, которая, видя неотвратимость надвигающейся бури, мыслила в иных, неземных категориях.
В апреле 1918 года она писала старому другу пророческие слова:
«Каждый должен фиксировать свои мысли о горнем мире для того, чтобы видеть вещи в их истинном свете и быть готовым сказать: „Thy will be done», когда все видят полное разрушение нашей любимой России. Помни, что Святая Русь, Ортодоксальная Церковь, которую не одолеют врата ада, все еще существует и всегда будет существовать. Те, кто могут верить в это, без сомнения увидят внутренний свет, который светит во тьме среди бури.
Я не в экзальтации, дорогой друг. Я просто уверена, что Бог, который карает, есть в то же время Бог, который любит.
Я недавно серьезно читала Библию, и если мы верим в огромную жертву Бога-Отца, отправившего Сына на смерть и Воскресение ради нас, мы почувствуем Святой Дух, освящающий наш путь, и наша радость станет непрерывной, если даже наши бедные человеческие сердца и суетный разум переживут моменты, которые кажутся ужасными.
Подумай о буре: в ней есть ряд величественных моментов и ряд ужасных; кто-то боится иметь укрытие, кто-то погибает, а некоторые широко открытыми глазами смотрят на величие Бога; разве это не подлинная картина настоящего времени?
Мы работаем, мы молимся, мы надеемся и каждый день все более чувствуем божественное сострадание. Это безусловное чудо, что мы живы. Другие начинают чувствовать то же самое и приходят в нашу церковь в поисках опоры для их души. Молись о нас… Всегда твой старый и преданный друг».
Далее, сообщает А.А. Олсуфьева, которая опубликовала в Лондоне это письмо Великой княгини, следует постскриптум, который был прочитан с глубокой благодарностью и душевным волнением человеком, к которому адресовано письмо:
«Спасибо тебе за дорогое прошлое».
Это было, как пишет графиня Олсуфьева, последнее слово, сказанное так просто, как все в ее жизни»[495].
Далее последовал арест, прощание с духовником и сестрами Марфо-Мариинской обители, долгий путь на Восток, полные любви письма сестрам обители, хранимое до сих пор фарфоровое пасхальное яичко, расписанное в дороге и посланное Великой княгиней о. Митрофану Сребрянскому.
Рядом — две сестры обители, одна из которых, Варвара, отправилась на добровольную смерть с Великой княгиней Елисаветой Феодоровной и другими представителями Царского Дома, близкими друзьями.
18 июля 1918 года Великая княгиня и другие страдальцы были живыми сброшены в глубокую заброшенную шахту возле Алапаевска. Реквием на земле — торжество в мире горнем.
Два долгих года игумен Серафим, родная сестра Елисаветы Феодоровны Виктория и множество добрых людей передавали нетленное, благоухающее сокровище из рук в руки, пока гробы с телами святых мучениц Елисаветы и Варвары не были доставлены на Святую Землю, в храм Марии Магдалины, построенный сыновьями Александра II в память их незабвенно прекрасной матери, в прошлом тоже принцессы из дармштадтского рода.
Один русский архиепископ, посетивший Иерусалим, когда там уже покоились мощи Великой княгини преподобномученицы Елисаветы Феодоровны, рассказывал Ф. Юсупову, что однажды стоял он на молитве у ее гроба. Вдруг раскрылась дверь и вошла женщина в белом покрывале. Она прошла вглубь и остановилась у иконы святого Архангела Михаила. Когда она, указывая на икону, оглянулась, он узнал ее. После чего видение исчезло[496].
Это, конечно, был знак людям со стороны Великой княгини о Страшном Суде, на который всех поведет Верховный Архистратиг Михаил.
Единственное, как пишет Юсупов, что осталось ему в память о Великой княгине Елисавете Феодоровне, — несколько бусин от четок да щепка от ее гроба. Щепка порой сладко пахнет цветами. «Народ прозвал ее святой. Не сомневаюсь, что однажды признает это и церковь»[497].
Великая княгиня уже два года, как обрела вечный покой, а ее любимое детище, Марфо-Мариинская обитель милосердия, продолжала бороться за право на жизнь этого святого дела.
Свидетель того времени Н.П. Окунев в своем «Дневнике москвича» писал, что все дома обители и в начале 1920-х гг. содержались в полном порядке. Он был поражен красотой Покровского храма и благолепием богослужения. Облик священников, всего причта храма, по мнению Окунева, свидетельствовали, что они были приглашены еще самой Елисаветой Феодоровной. Оба священника «такие чинные, «тихоструйные», благоговейные, представительные; дьякон… молодой еще, но хорошо ведущий свое дело и басящий в такую меру, которая как раз подходит к общему строю придворно-монастырского чина». Окунев отмечал необыкновенное звучание хора из 20 тонко подобранных женских голосов. Его покорила красота песнопений, архитектуры и росписей, алтарные и клиросные действия и звуки во вкусе «благоверных цариц». «Елисавета Феодоровна оставила по себе памятник такой светлый, христиански радостный и кроткий, такой обаятельный по красоте замысла и исполнения, который так и говорит, что эта женщина — подлинная христианка, красивая душой и разумом. Я думаю, что при устроении храма и вообще этой обители Жен Мироносиц она потрудилась больше всех, внеся туда огромные средства, хозяйственность и изысканный вкус. И чем более пройдет времени, тем более ее заслуга перед религией, страждущими и Москвой будет расти и вырастет в вечную ей добрую память».
Впечатления гостя обители свидетельствуют о том, что духовная концепция, заложенная Великой княгиней в это святое дело с самого начала, позволяла в крайне неблагоприятных условиях удерживать повседневную жизнь обители на должной высоте усердием клира и сестер, их безмолвным постоянным молитвенным общением с Великой княгиней.
Если судить по чисто формальным и внешним признакам, сестрам Обители и ее духовнику трудно было игнорировать сложные проблемы времени. Но умение предвидеть плачевные итоги жизни, если перестанет выполняться однажды данный обет, побуждало сестер неукоснительно следовать основным принципам их жизнеустроения. Всем было очевидно, что эту духовно устойчивую общность можно уничтожить только путем насильственной ломки. И это насилие было совершено.
По архивным материалам известный историк профессор В.Ф. Козлов показывает страшную картину постепенного разрушения обители, гибели бесценного памятника церковного искусства и православной святыни в 1920-е гг.[498].
Сестры обители и ее священники, о. Митрофан Сребрянский и о. Вениамин Воронцов, отбывали сроки наказания в различных концлагерях.
9.8. Последние годы святого духовника Обители
В письмах Елисаветы Феодоровны совершенная неизреченная радость часто вызывалась образом удивительного человека, который постоянно был рядом. Отец Митрофан Сребрянский был тем явлением в жизни Великой княгини, в котором, по слову св. Григория Нисского, присутствовало «невыразимое блаженство добродетели души». «Для нашего дела, — писала Елисавета Феодоровна, — это милость Божия, потому что он заложил правильную основу. Сколько людей он возвратил к вере, наставил на истинный путь, сколько людей благодарит меня за ту великую благодать, которую они получили, имея возможность приходить к нему… Его простая, чистая жизнь, одновременно скромная и высокая в своей безграничной любви к Богу и Православной Церкви, является для меня примером. Достаточно поговорить с ним всего несколько минут, как видишь, насколько он скромен и чист — Божий Человек…»[499]. В такой обстановке, рядом с таким человеком Елисавета Феодоровна чувствует, что она «полна совершенным миром, а совершенный мир есть совершенное счастье».
Непрестанное славословие и благодарение Бога позволяло о. Митрофану не только не делать зла, но и не помышлять о нем. Он проводил жизнь странника по характеру образа жизни и образа мыслей. А поэтому не искал блаженства, но жил в нем, не оставляя места в душе сторонним раздумьям.
Ближайшему другу и сподвижнику Великой княгини Елисаветы Феодоровны о. Митрофану Сребрянскому посвящено много добрых слов. Не повторяя сказанного, следует, тем не менее, обратить внимание на самый последний этап его жизни, который проходил во Владычне Тверской области после 16 лет лагерей и тюрем. Ибо именно этот период земного бытия батюшки проявил всю полноту его веры. Абсолютная утрата или ограничение свободы не повлияли на цельность его христианской жизни. В эти сложные годы он избирает пути, соответствующие христианскому смыслу человеческого бытия. Жизнь во Владычне по форме была подобна новому рождению старца, но по содержанию, как и прежде, любовь рассматривалась в качестве главной меры бытия. Тем более ценными представляются воспоминания Натальи Федоровны Борячек, дедушка которой отец Квинтилиан принимал последнюю исповедь отца Митрофана. Слово особой благодарности обращено к тем людям, которые и ныне берегут место во Владычне Тверской области, где после 16 лет ссылок завершалась земная жизнь о. Митрофана, где он упокоился на скромном сельском погосте в окружении преданных ему монахинь Марфо-Мариинской обители и самых близких людей.
В те далекие годы домик о. Митрофана стоял возле погоста в полном одиночестве, что особенно ощущалось в долгие зимние вечера, когда за окном ветхой избушки был слышен вой волков да стон вьюги.
После смерти отца Митрофана сестры обители, Надежда и Любовь, продолжали ухаживать за вдовой о. Митрофана Ольгой Владимировной, которая лежала после инсульта, с трудом произнося отдельные слова и короткие фразы, передававшие, тем не менее, суть ее отношения к происходящему.
О том, что со временем о. Митрофан будет канонизирован, знали многие. Одним из первых ощутил это о. Квинтилиан, который продиктовал (т. к. уже плохо видел) своей жене (бабушке Натальи Федоровны Борячек) некоторые раздумья на этот счет. Отец Квинтилиан говорил, что в миру о. Митрофан вел жизнь пустынника. Эта способность к созерцанию была обусловлена его духовной чистотой. Отец Квинтилиан отмечал: «Евангельская чистота, бесстрастие, которыми была проникнута его последняя предсмертная исповедь, которую я принимал от него, привела меня в какой-то священный ужас. Я после этого понял душевное состояние апостола Петра, когда он воскликнул: „Господи, отойди от меня, ибо я человек грешный»».
В свою очередь отец Митрофан, обладавший даром различать грани и оттенки духовной природы человека, поддерживал о. Квинтилиана, говоря: «Вы счастливы, очень счастливы, ибо стоите у престола Божия. А я, за свои грехи и недостоинства, лишен этой милости Божией».
О. Квинтилиан говорил, что его все удивляло в о. Митрофане. И прежде всего незлобие батюшки. Как-то раз о. Митрофан заметил: «Плохих людей нет, есть люди, за которых особенно нужно молиться». В беседах его не было даже тени неприязни к людям, несмотря на то что он много страдал от них. Кротость и ласка, как говорил о. Квинтилиан, были отличительными свойствами о. Митрофана.
Жарким июльским днем 1999 года мы по предварительной договоренности посетили святую горницу во Владычне, где все сохраняется так, как это было при сестрах Марфо-Мариинской обители. Домик, в котором жили о. Митрофан и его жена Ольга Владимировна (монахиня Елисавета), сгорел. Но на том же самом месте, с той же планировкой воссоздана горница, в которой все наполнено духом Великой княгини и о. Митрофана, где бережно хранятся их портреты, иконы, старые пожелтевшие фотографии.
Все удивительно благоприятствовало нашей поездке и по стечению обстоятельств было похоже на чудо, которое мы особо ощутили в горнице. Весь дом освящают утопающие в цветах портреты Великой княгини Елисаветы Феодоровны и о. Митрофана Сребрянского, которые помещены на отдельном столе. К большим портретам этих святых людей по-дочерни прислонены небольшие фотографии монахинь Надежды и Любови — сестер Марфо-Мариинской обители, которые после ссылок верно служили Богу и людям под водительством духовника обители во Владычне. Хранители дома с радостью показывают нам фотографии Елисаветы Феодоровны с сестрами, о. Митрофана в молодости, а на одной из фотографий он с матушкой Ольгой окучивает картошку. Здесь он молился, там находилась его кроватка. А вот та самая печка, разбирая которую в 1998 году Наталья Федоровна и Виктор Иванович Борячек обрели припрятанные в свое время и завернутые в газету апостольник Великой княгини, епитрахиль о. Митрофана, кадило, ладан (все хорошо сохранилось, несмотря на то что прошло несколько десятилетий).
Отец Митрофан думал и об украшении земли, о чем свидетельствуют деревья, посаженные его руками около дома во Владычне. Хранители святой горницы с радостью показывали нам пушистую высокую елочку, привольно раскинувшуюся в огороде, и несколько могучих крепких берез возле дома, которые о. Митрофан оставил как живую память о себе.
Прошло много лет, но добрые христиане свято хранят лампаду из кельи Великой княгини, мешочек с частицами волос Елисаветы Феодоровны и о. Митрофана Сребрянского, их кресты, иконы, фотографии, пасхальные яйца, предметы повседневного обихода, Библию о. Митрофана.
Перед смертью настоятель Скорбященского храма на Ордынке протоиерей Борис Гузняков передал дочери Надежде Борисовне великую святыню — вышитую руками Елисаветы Феодоровны икону Марфы и Марии.
Несколько раз эта удивительная икона была в Академии славянской культуры, освящала Свято-Елисаветинские чтения, которые мы проводили в Оружейной палате Московского Кремля, в Паломническом центре Московского Патриархата, в Марфо-Мариинской обители, в Сергиевом дворце Петербурга, в Экспоцентре и других залах. Всякий раз, когда мы с внутренним трепетом прикасались к этому изысканному творению Великой княгини, ставили икону на мольберт, украшали ее живыми белыми лилиями, в зале наступала та особая тишина, которая ощущается как реальное присутствие святой души.
Великая княгиня Елисавета Феодоровна давно канонизирована Русской Православной Церковью. В России, Белоруссии, на Украине, в других государствах открываются монастыри и храмы, посвященные этой великой благотворительнице. Через несколько десятилетий после закрытия возобновила свою деятельность Марфо-Мариинская обитель милосердия. А мы сегодня, осенью 2007 года, проводим уже девятые и десятые Свято-Елисаветинские чтения, посвящая их рассмотрению роли Москвы (9-е) и Петербурга (10-е) в жизни Великой княгини.
Завершая главу, справедливо подумать об уникальном месте Марфо-Мариинской обители в сонме русских монастырей. Здесь все было самобытно и единственно. Во-первых, в Обители неповторима структура взаимосвязи различных степеней сестричества. Во-вторых, здесь поставлены определенные возрастные границы для возможности поступления в сестры, обеспечивающие таким образом стабильность и дееспособность Обители. В-третьих, и с этого, возможно, следовало бы начать, — Обитель по дороге жизни вели два святых человека, авторитет которых был абсолютен и поэтому обеспечивал единодушное выполнение повседневных послушаний. В-четвертых, вся деятельность Обители была обращена к миру бедных, больных, страждущих. В-пятых, эта деятельность была евангелична по духу, интернациональна по сфере влияния на людей. В-шестых, работа Обители отличалась творческой импульсивностью. В-седьмых, поведение настоятельницы и сестер, их одежда, тон разговора, облик храма, росписи в нем, цветущий сад — все отличалось здесь изысканным аристократическим вкусом, изяществом, было пронизано лучами любви и добра.
Отстаивая свою позицию, свою точку зрения, Великая княгиня, скорее предполагала, чем реально ощущала, масштаб деятельности Обители, где преобладание этического, духовного компонента в повседневной работе обеспечивало бесспорность ее результатов.
[440] Countess Alexandra Olsoufieff A. The Grand Duchess... P.6
[441] Васильчикова В.В. С. 309-311
[442] Рукопись книги Е.Ф. Гордеевой (Малиновской). Из истории моих родных. М., 2001. С. 73
[443] Дудина Т.А., Никитина Т.Н. Каменное узорочье Москвы. М., 2006. С. 8-9
[444] Olsoufieff A. The Grand Duchess Elisabeth Feodorovna of Russia. LA, 1923. P. 7
[445] ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1254. Л. 48-55 об
[446] Olsoufieff А. Указ. соч. Р. 9
[447] Московские церковные ведомости. 1915. № 34. С. 505; № 42. С. 600-601
[448] Джунковский В.Ф. Воспоминания. Т. I. С. 272
[449] Материалы к житию... С. 74.
[450] Голос Москвы. 1911. 27, 28 апреля.
[451] Там же. 14, 15 мая
[452] Там же. 2 октября
[453] Московские ведомости. 1913. 4 января
[454] Голос Москвы. 1913. 27 января
[455] Московские ведомости, 1913. 13 июня
[456] Голос Москвы. 1913. 13 августа
[457] Джунковский В.Ф. Воспоминания. Т. I. С. 304-305.
[458] ЦИАМ. Ф. 457. Оп. 1. Ед. хр. 24. С. 20, 20 об. 30 об. 32, 61 — 64, 64 об
[459] Голос Москвы. 1911. 29 декабря. № 299. С. 4
[460] Московские церковные ведомости. 1916. № 18-19. С. 266
[461] Московские церковные ведомости. 1916. № 17. С. 226-230
[462] Московские церковные ведомости. 1914. № 42. С. 874-875; 1915. № 21. С. 338
[463] Там же. 1910. № 10. С. 208
[464] Богословский вестник. 1915. № 4. С. 885
[465] Цит. по: Нестеров М.В., Нестерова Н.М. Помнить себя — помнить всех... (из воспоминаний о Великой княгине Елисавете Феодоровне). Отв. ред. Кучмаева И.К. М., 2003. С. 11
[466] ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 478. Ед. хр. 3. С. 2
[467] Там же. С. 3
[468] Там же. С. 4
[469] Нестеров М.В. Письма. Избранное. Л., 1988. С. 228
[470] Там же.
[471] Там же. С. 231
[472] Там же.
[473] Там же. С. 234
[474] Там же. С. 240
[475] Цит. по: Нестеров М.В., Нестерова Н.М. Помнить себя — помнить всех... М., 2003. С. 29
[476] Нестеров М.В. Письма. Избранное. Л., 1988. С. 247
[477] Цит. по: Нестеров М.В., Нестерова Н.М. Помнить себя — помнить всех... М., 2003. С. 48
[478] Там же. С. 68
[479] Там же. С. 70
[480] Все фрагменты воспоминаний М.В. и Н.М. Нестеровых цит. по: Нестеров М.В., Нестерова Н.М. Помнить себя — помнить всех... М., 2003. С. 29, 30, 44, 48, 66-68, 70, 76.
[481] Подробнее об убранстве Покровского храма и его освящении см.(сб.: «Память как максима поведения») р. И.К. Кучмаева. М., 2001. С. 10-18
[482] Материалы к житию... С. 59
[483]30 сентября 1910 года Елисавета Феодоровна была избрана почетным членом Московской Духовной Академии «во уважение к высокому служению Ее Императорского Высочества делу христианской любви и благотворительности и покровительству духовному просвещению, особенно на миссионерском поприще» (Журнал собраний Совета Московской Духовной Академии за 1910 год. Сергиев Посад. 1911. С.389-390)
[484] Московские церковные ведомости. 1912. № 17. С. 450-451
[485] Там же. С. 575-576.
[486] Там же. С. 541
[487] Бунин И. А. Жизнь Арсеньева. Роман. Рассказы. М,. 1987. С. 534-535
[488] Голос долга. 1915. № 7-9. С. 349
[489] Там же.
[490] Там же. С. 350
[491] Там же.
[492] Там же. С. 351
[493] Там же. С. 349
[494] Olsoufieff A. The Ground Duchess... P. 9
[495] Там же. Р. 13-14.
[496] Юсупов Ф. Мемуары. С. 109
[497] Там же. С. 110
[498] Козлов В.Ф. Марфо-Мариинская община сестер милосердия в 1920-е годы // Память как максима поведения. Отв. ред. И.К. Кучмаева. М., 2001
[499] ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1264. Л. 48-55 об
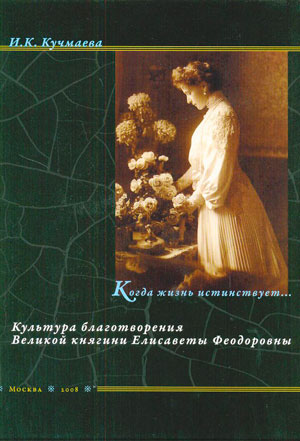
Комментировать