- Когда жизнь истинствует...
- Введение
- Глава 1. Истоки
- 1.1. Рейнская Сивилла
- 1.2. Св. Елизавета Тюрингенская: жизненный путь и жертвенное призвание
- 1.3. В родительском доме принцессы Гессенской и Рейнской
- Глава 2. Русский избранник принцессы Елизаветы
- 2.1. Детство и юность Великого князя Сергия
- 2.2. Великая мать Великого князя
- 2.3. Венчание Елисаветы и Сергия
- Глава 3. Петербург. Вхождение в мир русской культуры
- 3.1. Образ дома
- 3.2. «17 тетрадей»
- 3.3. Колокола рая
- Глава 4. Хлеб-соль Москвы — Великому князю и Великой княгине
- 4.1. В Александрийском дворце и на Тверской
- 4.2. Откровение о народной душе
- 4.3. Феномен благотворительного базара
- 4.4. Дружба с творческой интеллигенцией Москвы
- 4.5. Музыка в жизни великокняжеской четы
- 4.6. Контакты Великой княгини с дирекцией императорских театров
- 4.7. Поддержка образовательных начинаний
- Глава 5. Жизнь в подмосковном Ильинском
- 5.1. В окрестностях Саввино-Сторожевского монастыря
- 5.2. Жизнь в Ильинском в дни коронования Николая II
- 5.3. Детские воспоминания Великой княжны Марии Павловны о бытии Елисаветы Феодоровны в Ильинском
- 5.4. Культурная среда в подмосковном имении великокняжеской четы
- 5.5. Екатерина Шнейдер о повседневной жизни в Ильинском
- 5.6. Ильинское в дневниковых записях Великого князя Константина Константиновича
- 5.7. Отклик Великой княгини на беды и радости Ильинского
- 5.8. Дворец великокняжеской четы в Усово
- Глава 6. Августейшая попечительница детских приютов в Москве
- 6.1. Елисаветинское благотворительное общество
- 6.2. Комитет по устройству детских очагов в Москве
- 6.3. Награды Елисаветинского благотворительного общества
- 6.4. Общество попечения о неимущих и нуждающихся в защите детях в Москве
- Глава 7. Трагедия Великой княгини
- 7.1. Завещание Великого князя
- 7.2. Москва в трауре
- 7.3. Молитвенный памятник в Кремле
- 7.4. Возведение Сергиева скита
- 7.5. В память всех погибших во время смут
- Глава 8. Милосердная помощь русским воинам (1904–1905 гг.)
- Глава 9. Великая обитель Великой Матушки
- 9.1. Устав Обители. Основные учреждения
- 9.2. Повседневная жизнь Обители
- 9.3. Великая матушка в дни стихийных бедствий
- 9.4. Великая княгиня и M.B. Нестеров в годы создания Покровского храма Обители
- 9.5. Освящение Покровского храма
- 9.6. Игумен Серафим о подвиге сестер Обители в дни Первой мировой войны
- 9.7. Неотвратимость надвигающейся бури
- 9.8. Последние годы святого духовника Обители
- Глава 10. Августейшая паломница
- 10.1. Кашинские торжества
- 10.2. Посещение обители великого Вышенского затворника
- 10.3. Верхневолжское паломничество великокняжеской четы к христианским святыням
- 10.4. Орел. Паломничество в город воинского служения Великой княгини
- 10.5. Великая княгиня в Уфимской епархии
- 10.6. Паломнические путешествия Великой княгини в 1911 и 1912 гг.
- 10.7. Соловки
- 10.8. Паломничество Великой княгини в Оптину пустынь
- 10.9. Белогорье — путь на Сибирский Афон
- 10.10. Паломничество в Кострому
- Глава 11. Духовные наставники и друзья Великой княгини
- 11.1. Духовное учительство
- 11.2. Помощь ближним
- 11.3. Память о почивших друзьях
- 11.4. Поклонение святым
- Глава 12. Комитет Великой княгини в дни Первой мировой войны
- 12.1. Основные направления деятельности
- 12.2. Источники средств
- 12.3. «Под благодатным небом»
- 12.4. Личное внимание к страждущим
- Глава 13. Святыни Дармштадта и Майнау
- Глава 14. Уроки великокняжеской четы: русская святость и русская культура
- Послесловие
- Примечания
Глава 12. Комитет Великой княгини в дни Первой мировой войны
12.1. Основные направления деятельности
Как только началась Первая мировая война, в России был создан Верховный Совет для координации усилий государственной и общественной деятельности по оказанию помощи семьям тех, кто был призван на войну, семьям раненых солдат и убитых. Возглавляла Совет Императрица Александра Федоровна. Родная сестра Императрицы Великая княгиня Елисавета Феодоровна увидела свой долг в оказании помощи государству и мощному патриотическому движению, став вице-председателем Верховного Совета.
В Москве под покровительством Великой княгини был образован Комитет по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну. По всей России организовывались отделения Комитета, которые оказывали необходимую помощь раненым, семьям призванных на войну или убитых воинов. В дни войны Великая княгиня возглавила десятки учреждений, где становилась либо августейшей попечительницей, покровительницей, либо председательницей организации.
Руководство огромной работой Комитета требовало создания постоянного координирующего органа. 29 июля 1914 года на заседании Комитета, состоявшемся в доме Великой княгини в Марфо-Мариинской обители, с докладом выступил Н.М. Гучков, обосновав необходимость незамедлительного открытия канцелярии Комитета, которая уже 30 июля 1914 года начала работу на Пречистенке. На этом же заседании Комитета обсуждалось предложение об открытии справочного бюро при Комитете и начале приема денежных и вещевых пожертвований, на нужды семей запасных, а также об учреждении «Еженедельника», в котором будут освещаться все эти вопросы. Прием пожертвований был открыт в Марфо-Мариинской обители, Николаевском дворце и канцелярии Комитета, о чем немедленно публиковались сообщения в московских газетах.
Одна из главных задач Комитета состояла в обеспечении работой жен солдат, призванных на войну, что гарантировало выживание их детей. Под мастерские, где работали женщины, были задействованы дом генерал-губернатора, дом Российского благородного собрания и Старо-Гостиный двор.
В доме генерал-губернатора разместили швейную мастерскую на 475 машин. Здесь работали наиболее нуждающиеся женщины, не имеющие своих швейных машин. Для облегчения их труда в доме генерал-губернатора Москвы были открыты ясли и столовая с дешевыми обедами.
Дом Российского благородного собрания стал центром закройки для всех мастерских Москвы и раздаточным пунктом для работниц, у которых были свои швейные машинки и которые проживали в Москве.
В Старо-Гостином дворе открыли отдел, который снабжал раскроенным материалом иногородние организации.
В докладе члена Комитета А.А. Бахрушина сообщалось также, что в хозяйстве Комитета есть склад упаковочных материалов, собственный обоз с 25 рабочими лошадьми и два грузовых автомобиля.
В московских мастерских во время войны работало 11 тыс. женщин, в уездных — 15 тыс.[669].
В работе мастерских Комитета были сложные моменты. Так, 28 мая 1915 года на заседании Комитета в доме Елисаветы Феодоровны на Ордынке обсуждался вопрос о том, что к этому времени мастерские выполнили весь заказ и бездействуют. Комитет просил Великую княгиню телеграфировать Императрице и ходатайствовать о получении заказа.
Пока мастерские вынужденно бездействовали, жены воинов получали бесплатное питание в столовой Комитета. Вскоре от Красного Креста поступил заказ на 250 000 комплектов холодного белья, а председатель московского склада А.Д. Самарин передал Комитету заказ на шитье респираторов. Работа в мастерских Комитета возобновилась[670].
2 сентября 1915 года на заседании Комитета был заслушан доклад комиссии общих дел по поводу организации трудовой помощи семьям призванных. Отмечалось, что дело оказания такой помощи значительно продвинулось в течение последних двух месяцев, поскольку от интендантства получен крупный заказ. Требовалось срочно изготовить для фронта 665 000 штук ватных телогреек, 735 000 — теплых брюк, 600 000 — свитеров, 800 000 — теплых кальсон. Наличие столь крупного заказа потребовало открытия третьей мастерской в Благородном собрании, о чем говорилось выше.
Наряду с этим, поступил срочный заказ, который предстояло выполнить к лету: нужно было сшить 825 000 летних брюк защитного цвета, 30 000 походных рубах, 3 200 000 порционных сухарных мешков, 100 000 штук холодных кальсон (для Красного Креста)[671].
Самоотверженно выполняя эту остро необходимую армии работу, женщины спасали детей солдат, защищавших родину, от голодной смерти. Спасая семьи призванных на войну, Комитет Елисаветы Феодоровны делал главное для душевного спокойствия воинов.
Трудовая помощь семьям воинов, раненых или убитых на фронте была лишь одной из форм их поддержки. Не менее значимыми были две другие формы: помощь в возделывании крестьянских полей и призрение детей лиц, призванных на войну.
Журналы заседаний Комитета Великой княгини изобилуют рассмотрением просьб от жителей различных губерний об оказании помощи семьям призванных на войну в обработке пашни, в приобретении семян, необходимых для посева. Так, на заседании Комитета 27 марта 1915 года в доме московского генерал-губернатора с такой просьбой обратились отделения Комитета Московской, Тульской, Орловской и других областей[672].
В Москву отовсюду шли сообщения о создании ученических дружин по оказанию трудовой помощи семьям призванных на войну. Из Архангельска, Москвы, Оренбурга, Киева, Одессы, Минска, Петербурга, Ялты и других городов шли беспрерывные сообщения о трудовой помощи на полях, которую взрослые дети оказывали детям малым и их матерям. Вспашка и боронование паров, заделка яровых посевов, расчистка лугов и многое другое совершали старшеклассники.
Из Минска в Москву сообщали об отличной работе 19 трудовых ученических бригад. Киевляне докладывали Великой княгине о том, что 126 семьям воинов оказана сельскохозяйственная помощь. Сообщалось, что каждый ученик работал на крестьянских полях по 10 часов в день[673].
Работа старшеклассников была столь результативна и нравственно значима, что 28 июня 1916 года было утверждено по Высочайшему повелению положение о нагрудном знаке за участие в ученических дружинах по оказанию трудовой помощи семьям лиц, призванных на войну.
Этот знак имел зеленый эмалевый фон с вензелем Елисаветы Феодоровны в центре. Верх знака увенчивался золотой великокняжеской короной. Средняя часть знака окружена эмалевым белым ободком с надписью «За участие в ученических дружинах». На обратной стороне знака было написано: «Комитет Ее Императорского Высочества Великой княгини Елисаветы Феодоровны по оказанию помощи семьям воинов»[674].
После издания знака последовало много ходатайств в комитет Великой княгини о награждении старшеклассников.
На заседаниях Комитета Великой княгини непрерывно рассматривались вопросы об оказании помощи малолетним, особенно грудным детям лиц, призванных на войну.
На одном из первых заседаний Комитета в 1914 году было заслушано предложение Московского общества борьбы с детской смертностью о предоставлении в распоряжение Комитета стационарного отдела этого общества под ясли, а также о выдаче остро нуждающимся клиентам Комитета 800 бутылок молока в консультациях общества. Это сообщение было принято с благодарностью[675].
В свою очередь Комитет Елисаветы Феодоровны в 1915 году ассигновал Обществу борьбы с детской смертностью пособие в размере 1000 руб. на помощь грудным детям солдат, призванных на войну[676].
В первые же годы войны на улицах Москвы и России оказалось множество сирот. Как и в периоды прошлых войн, эта беда сразу нашла отклик в сердцах москвичей.
27 сентября 1914 года Комитет Великой княгини принимает решение об открытии ряда детских учреждений, в частности приюта грудных детей им. Ижболдиной (по Большой Ордынке, д. 68). Возраст младенцев, принимаемых в приют, не старше двух лет.
В этот же день Комитетом утверждается смета Марфо-Мариинского приюта на 300 детей; принимается предложение Сиротского дома Лобковых (Дурновский переулок) о представлении в распоряжение Комитета 10 свободных мест для девочек-сирот; женской гимназией В.В. Ломоносовой предоставлено 5 вакансий; Обществом распространения практических знаний между образованными женщинами 10 вакансий для девочек в школах этого общества[677]. А на предыдущем, августовском заседании Комитета было с благодарностью заслушано заявление Виктора Иммануи-ловича Баташева о его желании взять на воспитание 12 детей из семей лиц, призванных на войну[678].
Свое значимое место занимало Строгановское училище в оказании помощи семьям лиц, призванных на войну. Здесь обучались ремеслам 800 детей воинов, размещался лазарет раненых, предоставлялись семьям призванных дешевые или бесплатные квартиры и т. д. Посильную поддержку юным строгановцам оказывал, в свою очередь, Комитет Великой княгини. Так, на заседании было принято постановление разрешить члену Комитета Н.В. Глоба, зав. отделом трудовой помощи, директору Строгановского училища, произвести продажу обрезков, полученных при раскрое белья для воинов и внести вырученные деньги в кассу Общества вспомоществования (недостаточным) ученикам Строгановского училища[679]. Это решение было обусловлено не только гуманными чувствами по отношению к взрослым детям, но и тем, что ученики Строгановского училища безвозмездно раскраивали материал для шитья воинского обмундирования в закройной мастерской Комитета Великой княгини.
Великая княгиня всегда с большим вниманием относилась к развитию Строгановского училища, видя в нем надежную опору в помощи фронту, в оснащении его безусловно необходимыми в войне символическими атрибутами. Поэтому мимо ее внимания не мог пройти тот факт, что 13 декабря 1914 года в городском манеже состоялось торжественное освящение знамен, изготовленных Строгановским училищем по заказу города для ополченских дружин.
Дружины были выстроены в манеже. Перед ними был поставлен аналой для богослужения. Здесь же разместились адъютанты и знаменосцы. На торжество прибыл московский комендант Т.Г. Гаркавенко, главноначальствующий г. Москвы А.А. Адрианов, члены управы вместе с городским главою М.В. Челноковым.
Прибывший сюда временно командующий войсками А.Г. Сандецкий обходил ряды дружин, здороваясь с ополченцами. По окончании молебна М.В. Челноков обратился к ополченцам с речью, в которой выразил уверенность, что дружины оправдают начертанные на знаменах дорогие всем слова: «За веру, Царя и Отечество».
Командир ополченского корпуса в своей речи выразил надежду, что по окончании войны знамена останутся в Москве как реликвия, которая всегда будет напоминать потомкам, как их предки сражались за Царя и Отечество[680].
Московские газеты 29 января 1915 года сообщали, что в помещении младших классов Императорского Строгановского художественно-промышленного училища на Мясницкой улице, находившегося под попечительством Великой княгини Елисаветы Феодоровны, открылась выставка «Война в рисунках детей», которая организована Обществом преподавателей графических искусств[681].
На выставке, как сообщалось в другой газете, экспонируются произведения маленьких художников в возрасте до 12 лет — учащихся начальных городских и сельских школ. Выставка привлекает большое внимание всех, интересующихся творчеством детей. Выставка показала, как отражаются события войны в рисунках детей. Какая же тематика преобладала в детском творчестве? Образы казаков, поражающих неприятеля; немецкие самолеты и летчики, бомбардирующие мирных людей; трамвайные вагоны, в которых перевозили раненых; сестры милосердия с повязками красного креста и т. д. Весь сбор от продажи входных билетов поступил в пользу раненых[682]. В период с 29 января по 3 февраля выставку посетило более 2000 человек. Продано много детских рисунков; сумма, полученная от их продажи, также передана в пользу раненых воинов[683].
По призыву Великой княгини артисты России проводили огромную благотворительную работу в пользу воинов и их семей. Уже в октябре 1914 года, в большом зале Московской Консерватории в пользу Комитета Ее Императорского Высочества Великой княгини Елисаветы Феодоровны для оказания помощи семьям лиц, призванных на военную службу, состоялся первый спектакль пьесы «Возрождение». Исполнителями выступили артисты Петербургского Малого театра во главе с Арбатовым. И содержание пьесы, и цель ее постановки привлекли много публики. 2 октября та же пьеса с той же целью была поставлена второй раз[684].
А 5 октября с участием А.В. Неждановой и под управлением М.М. Ипполитова-Иванова, как сообщалось в «Московских ведомостях», состоится патриотический концерт, сбор от которого поступит в Центральное бюро при Московской городской управе по оказанию помощи семьям запасных и пострадавших от войны. В концерте примут участие заслуженный артист У. Авранек, артисты Большого театра Г.С. Пирогов и Д.С. Крайн, тенор оперы СИ. Зимина и И.С. Дыгас, симфонический оркестр Общества взаимопомощи оркестровых музыкантов, оперный хор Большого театра и военный оркестр Александровского училища[685].
28 ноября Большой театр давал еще один спектакль в пользу Комитета Великой княгини с целью оказания помощи семьям лиц, призванных на войну. На этот раз зрителям представляли «Миньон»[686].
Немного позже, 14декабря 1914 года в большом зале Благородного собрания состоялся концерт капеллы Ф.А. Иванова. Сбор от концерта поступил в пользу Комитета помощи раненым воинам — русским, черногорским и сербским, а также их семействам. Концерт начался исполнением гимнов союзных держав, которые были выслушаны стоя. Во втором отделении исполнялись такие произведения, как «Верую» П. Чайковского, А. Веделя «Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь» и др.[687].
Среди форм оказания помощи воинам, сражавшимся на фронтах Первой мировой войны, следует особо выделить рождественские и пасхальные подарки. В декабре 1914 года Городская дума, Великая княгиня Елисавета Феодоровна отправили воинам русской армии несколько составов с рождественскими подарками. Для сбора вещей Москва была подразделена на 14 районов. В то время как взрослые москвичи оказывали пожертвования деньгами, переводя их от частных предприятий и отдельных лиц, табаком, чаем, сахаром, мылом, бельем, сапогами, дети средних школ изготовляли пакеты для отправки подарков. Сбором денежных и вещевых подарков занимался Комитет Великой княгини, расположенный в Марфо-Мариинской обители[688].
Благотворительная деятельность продолжала плодотворно развиваться и после Рождества Христова, достигнув значительного размаха к Вербному воскресенью. В эти дни в доме Лианозова (Камергерский переулок) была открыта выставка пасхальных яиц, сбор от которой поступил в помощь раненым, опекаемым Всероссийским союзом городов. Организаторы выставки получили пасхальные яйца от художников В.И. Сурикова, М.В. Нестерова, В.М. Васнецова, Н.П. Крымова, от композитора А.Г. Гречанинова, пианиста А.Б. Гольденвейзера, певицы А.В. Неждановой, архитектора А.В. Щусева. Старинные пасхальные яйца пожертвовала великая русская актриса М.Н. Ермолова, скульптор А. Голубкина, писатель А.Н. Толстой. Особую ценность представляли пасхальные яйца с автографами умерших писателей Л.Н. Толстого и А.П. Чехова. Многие экспонаты поражали своим художественным совершенством. На яйце М.В. Нестерова сохранилась надпись: «Христос Воскресе! Да будет этот дивный клич надеждой нашим воинам и нам всем на воскресение Родины, ее мощи, славы и величия»[689].
Анализ этих и многих иных фактов, опубликованных в московских газетах 1914 года, свидетельствовал о широком творческом диапазоне и многообразии форм помощи людям, пострадавшим от войны. Все эти формы рождались в человеке с чистым сердцем, который всегда невольно, без мучительных усилий вызывал отклик в сердцах людей. Жизнь в самые тревожные дни безошибочно определила непригодность многих модных проектов, но без раздумий принимала и реализовывала те, что рождались чистым сердцем Великой княгини и ее друзей.
С большим вниманием относился Московский комитет Великой княгини к сохранению детских школ, где обучались древним народным промыслам, например, к просьбе о материальной поддержке Кочемировской кружевной школы в Темниковском уезде Тамбовской губернии, где проходили обучение 40 девочек — дочерей воинов, сражавшихся на фронтах Первой мировой войны[690].
Но всенародная готовность помогать страдающим детям иногда выливалась в организацию случайных учреждений, не способных оказывать детям необходимую поддержку.
В этой связи на заседании Комитета 6 ноября 1915 года было принято и обнародовано решение, что за Комитетом Великой княгини должна быть сохранена руководящая роль в области всех начинаний в деле призрения сирот погибших воинов. А поэтому всякая организация, создаваемая с той же целью, должна работать в тесном сотрудничестве с учреждениями Комитета[691]. Это прозвучало в Москве как директива и не могло не учитываться в повседневной практике.
Несмотря на трудности военного времени, Великая княгиня никогда не забывала о том, что дети ожидают праздника и подарков. Поэтому по ходатайству Елисаветы Феодоровны к праздникам, особенно к Новому году, Комитет специально отпускал деньги на устройство елок для детей солдат, которые жили в приютах Комитета[692].
Громадное число инвалидов и раненых, поступавших с фронтов Первой мировой войны, требовало незамедлительных решений со стороны Комитета Великой княгини об устройстве их дальнейшего бытия.
В первую очередь Комитет решил открыть в Москве и Московской области временное пристанище для увечных воинов на 150 человек для их пребывания в Москве с целью выяснения в государственных инстанциях своих прав и положенных льгот, а также подыскания для трудоспособных места заработка.
Вторая задача состояла в создании или расширении трудового убежища с мастерскими на 200 человек. Особенно остро стоял вопрос об обучении увечных воинов ряду ремесел, крайне необходимых в дальнейшем для жизнеобеспечения.
Еще одно важнейшее направление деятельности Комитета Елисаветы Феодоровны заключалось в организации дома инвалидов на 100 человек для призрения увечных воинов, совсем потерявших трудоспособность.
Не менее важным сотрудникам Комитета представлялось создание института для восстановления трудоспособности увечных воинов на 200 кроватей.
Следующей задачей Комитета было создание посреднического бюро для приискания заработка увечным воинам. Важная работа Комитета состояла в организации склада одежды для распределения ее между воинами, которых определяли на рабочие места в Москве или отправляли на родину (дом Н.К. Пупышевой, Большая Ордынка, д. 37).
Наконец, актуальнейшей задачей было открытие Справочного бюро, где воины могли бы получить содействие в исходатайствовании прав на получение пенсии, различного рода пособий и иной помощи[693].
Со всех концов России в Московский Комитет Великой княгини поступали просьбы от воинов, изувеченных в сражениях за Родину. Воины ходатайствовали об отпуске им топлива, леса для строительства жилья; они просили денежной поддержки для приобретения инвентаря и домашних животных, поскольку в голодные годы скот вымирал; солдаты ожидали от Московского комитета и его отделений на местах защиты в связи с бытовыми тяжбами родственников или соседей.
Воины обращались в Комитет с просьбами о пособиях на лечение и помещение их в санатории; ходатайствовали о пособиях для приобретения одежды, оплаты квартиры и питания, о покупке специальных дорогостоящих предметов, необходимых для жизни, таких, например, как швейная машинка. Приобретение протезов, одеял, сахара, овса для лошадей, создание учебных пасек для инвалидов войны[694] — с какими только просьбами не обращались изувеченные солдаты к Великой княгине. И подавляющее большинство прошений удовлетворялось.
В июне 1915 года Комитет Великой княгини принял решение выделить 500 тыс. руб. на расширение Сергиево-Елисаветинского убежища для увечных воинов. Это решение было обусловлено не только тем, что убежищу, где уже жили инвалиды Русско-японской войны, предстояло разместить увечных воинов Первой мировой войны. Необходимо было, кроме того, поселить в убежище сирот — детей воинов, погибших в дни этой войны.
Увечные воины и сироты погибших солдат обучались в убежище ряду основных ремесел. Те, кому предстояло возвращаться в деревни, обучались сапожному и портновскому делу и применяли полученные знания и навыки в быту. Увечные воины — жители городов — нередко обучались в убежище переплетному делу[695], добрым словом вспоминая Московский комитет Елисаветы Феодоровны, который в трудные дни жизни помог устоять и обрести себя в новом трудовом качестве.
Сотрудники Комитета неоднократно обращались к рассмотрению вопроса об отношении к увечным и погибшим учителям. В дореволюционной России высоко оценивали личность учителя, понимали особую значимость этого труда.
Неудивительно поэтому, что Комитет уже 22 октября 1914 года рассмотрел предложение Всероссийского Фила-ретовского общества о принятии этим обществом на себя забот об удовлетворении повседневных нужд семей народных учителей, ушедших на фронт. Общество считало (и Комитет Елисаветы Феодоровны полностью поддержал его), что в особой заботе нуждались те педагоги, которые, вернувшись домой увечными, по недостатку стажа не могут рассчитывать на обычную пенсию. Особую заботу общество проявило также о семьях погибших учителей[696].
Размышляя о поддержке увечных учителей, Комитет Великой княгини в то же время думал об охране учебных заведений воинами, доказавшими в открытом бою способность постоять за свою отчизну и ее детей. Поэтому с таким вниманием и одобрением было заслушано на заседании Комитета сообщение Комиссии общих дел по поводу доклада Императрице Александре Федоровне, представленного учителем Городищенского мужского училища Пензенской губернии, губернского секретаря Павла Александровича Фокина. Комитет Елисаветы Феодоровны полностью поддержал предложение П.А. Фокина о представлении увечным воинам (участникам Первой мировой войны) исключительного права занятия должности сторожа учебного заведения[697].
Совершенно особой категорией воинов, которые нуждались в поддержке, были те, кто не выдержал трагедии войны. Поэтому забота о призрении душевнобольных воинов стала одним из направлений деятельности Комитета Великой княгини. Вместе с тем далеко не все в окружении Елисаветы Феодоровны были единодушны в подходе к этому вопросу, полагая, что эту заботу должно осуществлять лишь государство. Однако авторитетные члены Комитета: А.Д. Самарин, доктор А.П. Корнилов и др. — оказались в большинстве и были поддержаны Комитетом[698].
В трудные военные дни 1916 года принципиальное значение имело проведение все новых, разнообразных, ярких благотворительных базаров. Так, 1 апреля 1916 года вечером в Большом театре открылся грандиозный благотворительный базар, организованный Великой княгиней Елисаветой Феодоровной и Московским городским общественным управлением в пользу жертв войны. Базар был открыт оркестром и хором театра, а затем выступлением в «Танцах народов» г-жи Балашовой и г-жи Коралли. Зрительный зал был переполнен во всех ярусах, за исключением бенуара, занятого выигрышами лотереи-аллегри. На сцене были расположены киоски дружественных держав, где продавались различные вещи. В центре разместилась лотерея-аллегри с крупными выигрышами, в ряду которых много пожертвованных высочайшими особами, в том числе дорогой автомобиль. Рядом разместился киоск, где продавали изящные изделия императорского фарфорового завода. Зрительный зал был декорирован русскими национальными флагами, а киоски союзных держав на сцене — их национальными флагами и тропическими растениями.
В фойе при Императорской ложе организовали чайный буфет, где прислуживали дамы в костюмах маркиз. В левом боковом фойе устроили буфет с холодными закусками, а на специальной эстраде — концерт кабаре, в котором приняли участие артисты оперы и балета. Днем на сцене была дана специальная детская программа, а 3 апреля, в последний день базара, помимо других увеселений, предполагалось предложить зрителям еще цыганский концерт. Важная цель базара нашла отклик у московской публики[699].
Великая княгиня непременно принимала непосредственное участие в самых важных духовных акциях Отечества, к числу которых в 1916 году, в пору кровопролитных сражений Первой мировой войны, следует отнести отправление на фронт чудотворной Владимирской иконы Божией Матери, одной из главных святынь древней столицы. Икона 27 мая с торжественным крестным ходом была перенесена на Александровский вокзал, чтобы ее благословением осенить христолюбивое русское воинство на полях сражений. До начала крестного хода в 10 утра в Успенском соборе Кремля была совершена Божественная литургия, а затем молебен с акафистом Божией Матери. На богослужении присутствовала Великая княгиня в сопровождении B.C. Гордеевой. В своем слове протопресвитер Н.А. Любимов отметил огромное значение перенесения в действующую армию «великого и священного знамени Отечества», как называется в грамотах 1612 года эта чтимая святыня[700].
Когда в 2 часа дня в Кремле раздался торжественный благовест, к Успенскому собору начало съезжаться духовенство из всех храмов Москвы, облаченное в ризы из малинового бархата, на которых был изображен крест Христов с надписью: «Сим победа».
В 3 часа дня в Успенском соборе перед вынесенной на середину храма Владимирской иконой был отслужен молебен, который совершал Высокопреосвященный Макарий, митрополит Московский и Коломенский, другие представители высшего духовенства, протопресвитер собора Н.А. Любимов. На богослужении присутствовала Ее Высочество, другие официальные лица, огромное число молящихся.
Крестный ход, возглавляемый митрополитом, при пении Синодального хора направился на Красную площадь. Участники крестного хода несли множество хоругвей кремлевских соборов и монастырей, корсунские кресты, большой образ святителя Гермогена, написанный В.М. Васнецовым. Раздавался торжественный звон всех колоколов столицы. По пути от Успенского собора до Спасских ворот стояли части Московского гарнизона с оркестром. Через Спасские ворота крестный ход последовал на Лобное место, где была совершена лития. На Красной площади к торжественному шествию присоединилось духовенство с иконами и хоругвями из собора св. Василия Блаженного и Казанского собора. У Иверской часовни крестный ход остановился. Здесь была совершена вторая лития. Далее крестный ход двинулся по Тверской улице во главе с рядом епископов. Весь путь крестного хода от Кремля до Александровского вокзала следовала Ее Императорское Высочество Великая княгиня Елисавета Феодоровна с сестрами Марфо-Мариинской обители милосердия.
Как писала пресса, крестный ход представлял величественную картину. Многочисленные хоругви, блистая на солнце теплого весеннего дня, медленно двигались по обеим сторонам Тверской. В центре шествия — длинная малиновая лента идущего попарно духовенства, растянувшаяся почти на версту. За духовенством следовала чудотворная Владимирская икона, украшенная роскошными живыми цветами. За святынями сплошной стеной следовали десятки тысяч людей. Синодальный хор и хор общенародный попеременно исполняли тропарь Владимирской иконе Богоматери «Днесь светло красуется славнейший град Москва» и другой — «Заступнице Усердная»[701]. Из монастырей и церквей, находившихся по пути, выходило для встречи духовенство с хоругвями и иконами.
После молебна на Александровском вокзале чудотворная икона, помещенная в новый металлический киот, выложенный внутри малиновым бархатом и покрытый сверху зеркальным стеклом, была установлена в особом вагоне, убранном живыми цветами.
Приложившись к св. иконе, Ее Императорское Высочество отбыла с вокзала.
В 7 часов вечера поезд с чудотворной иконой вышел из Москвы. Святыню в действующую армию сопровождали: протопресвитер Успенского собора Н.А. Любимов, старший сакелларий собора Н.И. Пшеничников, протодьякон К.В. Розов и приехавший из ставки Верховного Главнокомандующего иеромонах Троице-Сергиевой лавры о. Максимилиан[702].
Непрестанное скольжение в воздухе в эти раскаленные дни небезупречной мысли о том, что не помогла, мол, великая святыня русскому воинству, указывало на пустоту, которая образуется в человеке через его отпадение от Бога.
Русские люди всегда шли в бой с верой в победу, но многие получили в этот день благословение, духовное подкрепление перед смертью, что для православного человека в предсмертной ситуации было последней, вожделенной требой, подобной предсмертной исповеди. Поэтому переоценить величие и значимость этой акции невозможно. Как невозможно не понять значимости для русского воина своих походных церквей, которые жертвовались или создавались вручную из доступного материала.
Число погибших множилось. Остро встал вопрос о братском воинском кладбище.
Уже в 1914 году Великая княгиня Елисавета Феодоровна начала работу по организации московского Братского кладбища, где могли найти упокоение воины и медсестры, положившие свою жизнь за спасение Родины. И вновь при определении места для Братского кладбища выбор пал на Всехсвятское. С этой целью приобрели более 11 десятин сосновой и липовой рощ. Причем значительная часть лесного массива была пожертвована из угодий расположенных здесь царских дач, а также земли полковницы А.Н. Го-лубицкой.
Для организации кладбища была создана подкомиссия, возглавлявшаяся председателем Совета московской общины сестер милосердия «Утоли моя печали» Сергеем Васильевичем Пучковым, который позднее стал попечителем Братского кладбища. Организаторы этого великого начинания в центре кладбищенской территории устроили зеленый партер с концентрически расположенными местами захоронений.
Попечительницей этого проекта стала Великая княгиня Елисавета Феодоровна, которая обратилась в городскую думу с предложением о создании мемориала в память об офицерах, солдатах, сестрах милосердия, погибших в годы войны за Отечество.
В храме Сергиево-Елисаветинского убежища, расположенного поблизости, состоялась литургия, где присутствовала Великая княгиня, представители московских властей, попечитель кладбища СВ. Пучков, сотрудники зарубежных посольств. После окончания литургии на кладбище состоялись первые похороны офицеров и солдат. Война продолжалась, на кладбище появлялись новые захоронения. Территория его увеличилась до 20 десятин. Москвичи украшали могилы цветами.
Братское кладбище с самого начала стало местом патриотических духовных деяний. Так, в день Усекновения главы св. Иоанна Предтечи во всех московских храмах совершалось поминовение воинов, погибших во время войны. На Братское кладбище из часовни у Москворецкого моста принесли чудотворную икону Всемилостивого Спаса. У могил воинов отслужили общую панихиду.
Московский архитектор Р.И. Клейн в 1915 году предложил план создания здесь грандиозного мемориала с памятниками и музеями. Выступая на заседании городской думы, он подчеркнул, что кладбище должно представлять собой один величественный всероссийский памятник — пантеон самоотверженным героям, покрывшим неувядаемыми лаврами славы и русское воинство, и русскую землю. Храм был построен в духе своеобразной стилизации под средневековую архитектуру Пскова по проекту А.В. Щусева и посвящен Преображению Господню.
Средства на сооружение этого храма были переданы супругами Катковыми, потерявшими в Первую мировую войну двух сыновей — Михаила и Андрея, святым небесным покровителям которых посвящены пределы церкви — св. Михаилу Архангелу и св. Андрею Первозванному.
После революции 1917 года память о героях, павших в дни Первой мировой войны, была предана забвению.
В августе 1918 года недалеко от этого кладбища были расстреляны архиепископ Ефрем и протоиерей, настоятель храма Василия Блаженного Иоанн Восторгов, которого почитала Елисавета Феодоровна и которому поручала самые ответственные задания в России и за рубежом по линии Императорского Православного Палестинского Общества.
В 1920-е гг. храм все еще действовал, но часть его помещений уже использовалась под склады. Видимо, в начале 1930-х гг. в храме уже не совершали богослужения. Братское кладбище постепенно сносили. В конце 1940-х — начале 1950-х гг. уже перестроенный храм Преображения Господня был разрушен при массовой застройке этого района. В 1959 году на месте храма построили кинотеатр «Ленинград». С начала 1990 года здесь идет сооружение воинского мемориала, построена часовня, установлены кресты, памятные знаки.
12.2. Источники средств
Многообразны были источники средств, которые в огромных размерах добывал и тратил Комитет на нужды воинов, создание инвалидных и детских организаций, на обмундирование армии и т. д.
В первые месяцы войны, когда еще не был организован целый комплекс мероприятий по накоплению средств, особую роль в решении этих вопросов играла инициатива Великой княгини, которая обратилась в Верховный Совет с ходатайством о получении в распоряжение ее Комитета 1 200 000 руб. Не получив такой суммы денег, Елисавета Феодоровна все же сумела достать 600 000 руб. для своего Комитета на призрение семей и лиц, призванных на войну, а также для оказания помощи раненым и похороны погибших воинов[703].
Большим источником доходов Комитета были пожертвования Русской Православной Церкви. Так, на одном из первых заседаний Комитета был заслушан и одобрен доклад о крупном пожертвовании Свято-Троице-Сергиевой лавры[704]. Неоднократно Великая княгиня обращалась к митрополиту и Священному Синоду о проведении кружечных сборов в пользу деятельности Комитета. Так, на заседании Комитета 22 октября 1914 года сообщалось о ходатайстве Елисаветы Феодоровны перед Святейшим Синодом о кружечном сборе по церквам России 20 и 21 ноября, в день св. Архангела Михаила, на что последовало официальное разрешение Синода[705]. Далее, по определению Святейшего Синода от 28 октября 1915 г. № 2751 Комитету Великой княгини было разрешено произвести во всех церквах Империи 2 февраля 1916 года, в день празднования Сретения Господня, за литургией и накануне за всенощным бдением тарелочный сбор пожертвований в пользу семей, призванных на войну[706].
Несколько раз Комитет Великой княгини проводил сбор средств, как и в прежние годы, на «Красное яичко» (март 1915 и апрель 1916 г.) для опеки бездомных детей в приютах Комитета и достройки помещения Детских трудовых артелей.
Важным источником доходов Комитета Великой княгини было проведение Вербных базаров. На заседании Комитета 6 февраля 1916 года заместитель Великой княгини по Комитету П.А. Базилевский докладывал, что на имя Елисаветы Феодоровны от директора Императорских театров г-на Те-ляковского поступила телеграмма, сообщавшая о предоставлении Комитету Ее Высочества зала Большого театра на 1, 2 и 3 апреля с оплатой аренды помещения за один день.
А.А. Бахрушин доложил, что сбор средств в эти три дня Вербного базара решено разделить на 3 части: 1/3 — на постройку дома для инвалидов; 1/3 — на подарки воинам передовых позиций к празднику Св. Пасхи; 1/3 — в пользу Комитета Великой княгини.
На Вербном базаре предполагалось устроить лотереи с большим количеством выигрышей и другие развлечения. В организации Вербного базара представителями Комитета были B.C. Гордеева, А.П. Корнилов, А.А. Зубов, А.А. Бахрушин, Н.С. Соколов[707].
Для предстоящего Вербного базара Елисавета Феодоровна пожертвовала фарфоровый кофейный сервиз Императорского завода Александра II, скатерть ручного шитья шелком и различные серебряные вещи[708].
Определенную прибыль приносили сборы от благотворительных концертов, например, в театре «Аквариум», где, наряду с профессиональными актерами, играли юные добровольцы; поступления от благотворительных выставок, организовывавшихся в Музее изящных искусств, в Строгановском училище и т. д.; от издания календарей, плакатов и открыток.
Своеобразной помощью фронту было издание открыток-репродукций с картин великих русских художников и рисунков самой Елисаветы Феодоровны. Множество таких открыток сохранилось в фонде Королевы эллинов Ольги Константиновны с подлинной подписью Елисаветы Феодоровны. Это большая авторская литография Великой княгини 1915 года с изображением Архангелов и мольбой об исцелении страждущего человечества, о сопутствии доблестным русским воинам, об укреплении служителей милосердия. Это и открытка, посвященная реальному факту явления Пресвятой Богородицы в небе на фоне огромного креста, указующей изумленному и благодарному воинству возможное направление их битвы, которую они выиграли. Это и специально изданная репродукция с картины М.В. Нестерова «Милосердие». Вспоминая о помощи, которая оказывалась фронту, М.В. Нестеров в ноябре 1915 года писал: «Вчера только я кончил второй рисунок для Великой княгини, на этот раз для благотворительных марок. Календарь же будет в конце ноября выпущен в 100 тысячах экземпляров по 75 коп. за штуку, да с этим же рисунком 100 тысяч открыток, да с другим открытки для „однодневного» сбора. Так что в этом году мой вклад в общее дело будет изрядный»[709]. На фронт большим тиражом была отправлена открытка «Покров Пресвятой Богородицы». Комитет Ее Императорского Высочества Елисаветы Феодоровны в 1916 году издает открытку, посвященную св. Георгию Победоносцу. Высоко в небе парит всадник на белом коне, сопровождая и охраняя русских воинов. Эту открытку Елисавета Феодоровна отправляет королеве эллинов накануне Пасхи с подписью «Христос Воскресе. 1916. Элла»[710].
Этот вид благотворительной деятельности Великой княгини, средства от которого направлялись в семьи воинов, внушал глубокое уважение. Нередко можно было наблюдать, какое доброе влияние оказывали эти открытки на воинов и их семьи, ожидающие возвращения родных домой. Открытки с картин великих художников, снабженные фрагментами из Евангелия, открывали воинам путь к культуре и православию.
Большим подспорьем в приобретении Комитетом необходимых средств было ежегодное издание календаря. Так, в 1916 году по примеру 1915 года Комитет Великой княгини приступил к изданию нового календаря. Рисунок к календарю выполнил художник академик М.В. Нестеров. Тираж календаря — 100 000 экземпляров, цена каждого экземпляра 22 коп., накладные расходы 30 коп., продажная цена 75 коп.[711].
Идея создания календаря принадлежала сестрам Марфо-Мариинской обители, в частности B.C. Гордеевой; идея была поддержана Комитетом в 1914 году, но тираж был в тот год увеличен со 100 000 экземпляров до 200 000[712].
С момента создания Комитета Елисаветы Феодоровны до 1 января 1916 года привлеченные средства позволили организовать следующие виды поддержки:
— оказана трудовая помощь семьям 75 000 призванных воинов;
— в приютах Комитета призревались 45 000 детей воинов, из них 30 000 в яслях;
— выдано остро нуждающимся 7 800 000 обедов;
— призревалось в бесплатных и дешевых квартирах и с этой целью получили пособие 25 000 лиц из числа призванных в действующую армию;
— изготовлено для нужд армии более 25 000 000 штук предметов обмундирования;
— выдано топлива бесплатно или по льготной цене примерно 89 000 семей воинов;
— оказано денежных пособий примерно 341 500 семей.
Общее число зарегистрированных нуждающихся семей воинов, которым оказывалась та или иная помощь учреждениями Комитета Елисаветы Феодоровны, превышает число 895 000.
В кассу Комитета Ее Императорского Высочества в Москве поступило за этот период 9 789 779 руб., израсходовано 8 781 554 руб.
На 11 августа 1916 года в Комитет Ее Высочества поступило 111 775 просьб, из которых удовлетворены 61 871, находилось в производстве 2639, направлены в другие организации 43 106 и отклонено Комитетом 2675 просьб[713].
Таков далеко не полный отчет Комитета о ряде основных направлений расходования собранных средств.
12.3. «Под благодатным небом»
Чем ближе к завершению подходило земное житие Елисаветы Феодоровны, тем чаще напоминало о себе ее материнское отношение к духовным истокам детских судеб.
В этой связи обращает на себя внимание короткая публикация в «Московских церковных ведомостях» за 1914 год № 40, где сообщается, что в продажу поступило новое роскошное издание «Под благодатным небом», принадлежащее Ее Императорскому Высочеству Великой княгине Елисавете Феодоровне[714]. Чистую прибыль от издания она отдает в пользу детей воинов, вставших во время мировой войны на защиту Отечества. К этому изданию как символу связи с большим миром страждущих детей Елисавета Феодоровна привлекла лучшие силы России — членов Императорской семьи, просвещенное духовенство, писателей, выдающихся художников.
В иллюстрировании этой редкой книги, которая представляла собой собрание житий, посвященных детству святых восточной и Русской Православной Церкви, приняли участие: сама Великая княгиня Елисавета Феодоровна, Великая княгиня Ольга Александровна, Рерих, Нестеров, Поленов, Богданов-Вельский, Одоевский-Маслов, фон Мекк, Щусев, Виноградов, Корин. Составлению житий особое внимание уделили ректор Императорской Московской Духовной Академии епископ Феодор, профессор Академии Д.И. Введенский и др.
Пройдитесь неторопливым взором по страницам этой удивительной книги, и вы откроете для себя множество сокровенных мыслей Елисаветы Феодоровны. С первых страниц сборника становится ясно, что это издание — исповедь Великой княгини перед огромной детской семьей и одновременно ее завещание, столь понятное современникам. Книга посвящена племяннику — сыну горячо любимой сестры, с будущим которого были связаны надежды России: «Посвящаю Его Императорскому Высочеству Государю Наследнику, Цесаревичу и Великому князю Алексию Николаевичу»[715].
Сборник открывает очень серьезное, «недетское» обращение к читателю, где говорится о том, что в постоянных житейских заботах изглаживается память о смерти. Но смерть для каждого расставила как бы поверстные столбы, дальше которых нет пути. Дни кровавой брани 1914 года особенно часто напоминают о ней.
Каждый знает, что не трудно проводить жизнь в праздности. Гораздо труднее победить смерть. А эта победа дается только духовным богатырям. Внимание читателя останавливает эмоционально и жестко выраженная адресность сборника. Книга предназначена для «будущих граждан земли Русской и для взрослых, которым дороги их дети не только как будущие участники праздника жизни, но главным образом как честные деятели, с чистым сердцем, с ясным сознанием христианского долга. Такие деятели всегда нужны нашей Родине». Поражает масштаб вопросов, которые Елисавета Феодоровна ставит перед детьми. Если иметь в виду, что основным состоянием Елисаветы Феодоровны с детства было ощущение счастья, то, на первый взгляд, ее размышления с детьми о смерти могут кому-то показаться диссонансом. Однако Великая княгиня считала необходимой открытую постановку этих вопросов. Она сумела на сравнительно небольшом материале показать бесспорность жизни тех, кто свят с детских лет.
Принимая личное участие в иллюстрировании книги, Елисавета Феодоровна (как художник) избирает подготовку эскизов для двух житий — св. мученицы Василисы и св. Димитрия, митрополита Ростовского.
В житии юной мученицы Василисы мы видим ряд тонких штрихов, созвучных жизни самой Елисаветы Феодоровны. Та же чистота с глубокого детства, та же готовность простить мучителя, то же ощущение безмятежного счастья, несмотря на горькие испытания. Но есть еще одна деталь, которая приковывает внимание читателя: мученица Василиса изображается постоянно в обрамлении белых душистых цветов, которые Елисавета Феодоровна предпочитала всем остальным. Не случайно Великий князь Сергей Александрович все вагоны поезда, в котором Елисавета Феодоровна впервые ехала из Дармштадта в Петербург, украсил белыми душистыми цветами. В житии мчц. Василисы читаем, что она, сплетя венок из белых роз и душистого жасмина, надела его на золотые кудри и сказала: «Я невеста Христова». И далее — в огне она стояла как белая лилия.
Белые душистые цветы сопровождали Елисавету Феодоровну в течение всей жизни, свидетельствуя о необычной внутренней чистоте детски открытой и доверчивой души. «Она отовсюду вносила с собой чистое благоухание лилии; быть может, поэтому она так любила белый цвет: это был отблеск ее сердца»[716], — замечание архиепископа Анастасия уточняет причину ее выбора при иллюстрировании книги.
Иллюстрация детского образа св. Димитрия избрана тоже не случайно. Елисавету Феодоровну, безусловно, пленяло отношение святого к детям. Будучи основателем Ростовской школы, где он почитался главным учителем и воспитателем, он отдавал детям свою любовь, всегда вспоминая, какой любовью и попечением окружала его мать и как он, взращенный ее любовью, сам относился к сверстникам. Он преподавал детям, исповедовал и причащал их. Дети пели составленные им псалмы, играли написанные святым пьесы, а в каникулы по приглашению святого Димитрия жили у него на даче. Не случайно в день кончины он позвал в келью певчих-детей и просил их петь. Самую последнюю беседу на земле он имел с ребенком, которого ласково благодарил за сугубое усердие в переписывании его сочинений и поклонился мальчику до земли.
В течение всей жизни рядом со св. Димитрием Ростовским был образ св. великомученицы Варвары, которую он называл своим «патроном», своей «благодетельницей». Нельзя не видеть еще одного обстоятельства. Св. Елисавету до смертного часа сопровождала св. мученица Варвара.
12.4. Личное внимание к страждущим
Целый пласт жизни Великой княгини Елисаветы Феодоровны во время Первой мировой войны заслуживает специального изучения. Речь пойдет о бесчисленном количестве индивидуальных встреч с ранеными в лазаретах, с сиротами в приютах и т. д. Встречи увечных воинов и страждущих детей с человеком, на облике которого лежала печать гармонии, духовного равновесия, достоинства и огромных потенциальных сил, с человеком, который в те годы был одним из высших авторитетов Москвы, сообщали каждому импульс жизни, давали надежду на спасающее милосердие.
Так, уже в августе 1914 года в московской прессе «сообщалось о посещении Царской семьей и Великой княгиней Елисаветой Феодоровной первых раненых в хорошо оборудованной, просторной Солдатенковской (ныне Боткинской) больнице, построенной на Ходынском поле на средства знаменитого издателя — «текстильного короля» Козьмы Терентьевича Солдатенкова.
В декабре того же, 1914 года товарищ августейшей председательницы Комитета П.А. Базилевский сообщал на заседании Комитета, что 2 декабря Императрица Александра Федоровна с дочерьми Ольгой и Татьяной осчастливили своим посещением учреждения Комитета Ее Высочества, размещавшиеся в доме генерал-губернатора, а 3 декабря — посетили склад Комитета при Марфо-Мариинской обители, затем детский разборный пункт, приют в доме Ижболдиной. Императрица была глубоко удовлетворена состоянием учреждений Великой княгини Елисаветы Феодоровны[717].
Не имея возможности в рамках одной книги представить объемный указатель движения Елисаветы Феодоровны по болевым точкам Москвы, сделаем лишь небольшой срез этого пути в течение двух месяцев 1915 года с помощью публикаций «Московских ведомостей».
Вот лишь несколько хронологических зарисовок.
11 апреля Великая княгиня посетила госпиталь для раненых при Покровском мужском монастыре, где была встречена преосвященным Модестом, епископом Верейским с братией монастыря. После молебна Великая княгиня обошла всех раненых в госпитале[718].
7 мая Великая княгиня прибыла в Останкино на освящение дома для детей воинов, отданных матерями в приют. После молебна, на котором пели дети, состоялось окропление всего помещения святой водой.
Затем Елисавета Феодоровна посетила еще один детский приют и разборный пункт, где детей выдерживали до распределения их по приютам. Елисавета Феодоровна нашла детей и помещения в прекрасном состоянии. Дети были бодры и веселы, живя на деревенском приволье.
Далее в тот же день Великая княгиня направилась в село Марфино Богоявленского монастыря, где в большом каменном здании с церковью призревались девочки и мальчики — дети, чьи родители призваны в действующую армию. После молебна Елисавета Феодоровна осматривала классы, работы детей, а затем на лугу смотрела гимнастические игры детей, слушала пение детского хора. Особое внимание этим приютам обусловлено тем, что все они находились под наблюдением Комитета Елисаветы Феодоровны[719].
21 мая Елисавета Феодоровна прибыла в санаторий для больных воинов, устроенный на средства покойной А.И. Коншиной и находящийся в Петровском парке по Истоминскому проезду[720].
В тот же день она посетила лазарет имени А.И. Коншиной в Петровском парке. Лазарет устроен душеприказчиками покойной Н.А. Цветковым и А.Ф. Дерюжинским в ее бывшем владении, представляющем собой целый поселок. В прекрасном парке находился главный дом, вблизи было раскинуто несколько дач. Во всех этих зданиях находились раненые с ампутированными конечностями, ожидавшие изготовления протезов.
Помимо прекрасного ухода раненые в этих лазаретах с пользой проводили свой досуг, изучая различные ремесла и рукоделия. Образцы работ раненых — деревянный оправленный металлом ларь и братина, удивительно тонкой работы волосяная цепочка — были поднесены Елисавете Феодоровне. Здесь раненые обучались также сапожному мастерству, для чего им предоставляли необходимые материалы. Великая княгиня выразила глубокую признательность персоналу[721].
На следующий день, 22 мая, Елисавета Феодоровна посетила дом, который приобрела для раненых воинов. Предполагалось, что это строение будет соединено с лазаретом А.И. Коншиной на Большой Якиманке и станет представлять с ним одно учреждение.
В тот же день она побывала в 81-м свободном эвакуационном госпитале для душевнобольных воинов на Большой Полянке, в доме Учительского института. Находившимся в госпитале воинам Елисавета Феодоровна раздавала образки и св. Евангелия, а также живые цветы. После посещения госпиталя Великая княгиня зашла помолиться в домовую церковь при Учительском институте.
В те же майские дни Елисавета Феодоровна посетила городской лазарет СТ. Морозова по Ново-Песковскому переулку. Прибыв туда, прежде всего проследовала в сооруженную при нем временную церковь, где присутствовала на литургии. Раненые воины приобщались Святых Тайн. Из церкви Великая княгиня прошла в лазарет, где беседовала с ранеными воинами, раздавала им образки и св. Евангелия[722].
После посещения лазарета для раненых воинов на Большой Ордынке Елисавета Феодоровна осматривала дома, которые предполагалось снять для Марфо-Мариинской обители с целью создания приюта для слепых воинов[723].
Затем посетила лазарет для слепых воинов в Денежном переулке, обошла всех воинов, беседовала с ними. Отсюда проследовала в лазарет для ослепших воинов в Старо-Монетном переулке и беседовала с больными[724].
19 мая в 10 утра Великая княгиня посетила садоводство при Беклемишевском приюте Общества попечения о неимущих и нуждающихся в защите детях, расположенное при доме названного приюта на Большой Серпуховской улице. Здесь Елисавета Феодоровна осмотрела оранжереи, где работали воспитанники приюта. Затем она отбыла в лазарет Общества распространения между образованными женщинами технических знаний, осматривала лазарет, беседуя с ранеными, раздавая им образки и св. Евангелия[725].
На следующий день, 20 мая, Елисавета Феодоровна посетила Нестеровский приют (для девочек) в доме Общества попечения о неимущих и нуждающихся в защите детях, где состоялось годичное собрание Общества, утвердившего отчет за 1914 год. Елисавета Феодоровна присутствовала в саду приюта на играх девочек. Руководители приюта привлекли к работе над садовыми культурами мальчиков. Работа начала давать прибыль приюту. Великая княгиня выразила глубокую благодарность всем труженикам приюта[726].
4 июня Великая княгиня побывала у выздоравливающих воинов при 197-м пехотном запасном батальоне в Хамовнических казармах, где работали сестры Марфо-Мариинской обители. В тот же день после панихиды по Великом князе Константине Константиновиче в Архангельском соборе Кремля Елисавета Феодоровна направилась в склад Государыни Императрицы Александры Федоровны, где осматривала респираторы для действующей армии, которые были остро необходимы на фронте[727].
5 июня Великая княгиня с супругой главноначальствующего Москвы княгиней Юсуповой посетила лазарет при Мариинской больнице. Более двух часов беседовала с ранеными, оделяя их образками, Евангелиями и карточками для писем[728].
15 июня Елисавета Феодоровна прибыла в Строгановское художественное училище, где женами и дочерьми воинов, призванных на войну, изготавливались противогазы по новейшей технологии. После осмотра производства и беседы с руководителями Великая княгиня проследовала в лазарет, где раздавала раненым образки и св. Евангелия. В тот же день посетила Ново-Екатерининскую больницу, где обошла всех находящихся на лечении воинов, дарила образки и Евангелия, подробно расспрашивала о здоровье[729].
23 июня Великая княгиня прибыла в Комитет по оказанию помощи семьям лиц, призванных на войну, где ознакомилась с качеством работы по подготовке белья для воинов. В этот же день вновь посетила Строгановское художественное училище, где в складе интендантства наблюдала за упаковкой готовых вещей, белья и других предметов, отправляемых на фронт[730].
Как отмечалось выше, неизменное внимание Великая княгиня уделяла призрению воинских кладбищ. «Московские ведомости» сообщали, что в июне 1915 года Елисавета Феодоровна посетила находящееся под ее покровительством городское Братское кладбище в селе Всехсвятском. Великая княгиня обошла могилы воинов и возложила букеты живых цветов на могилы нижних чинов Никиты Еремина и Осипа Молякова, скончавшихся в лазарете Марфо-Мариинской обители от ран, полученных на войне. Затем посетила часовню при кладбище и помолилась там в ожидании погребения генерал-майора В.Н. Токарева. Затем присутствовала при погребении рядовых Матвея Маслова и Феофана Петренко. Осмотрев работы, которые ведутся по благоустройству кладбища, отбыла в Москву[731].
В жизни Великой княгини периода Первой мировой войны особое место занимали юные добровольцы. Поскольку поступало огромное количество обращений с просьбой принять мальчиков для зачисления в добровольцы и разведчики, о чем мы упоминали выше, возникала потребность в организации общежития для них. Но цель общежития состояла не в организации их воинской подготовки, а в оказании временного приюта эвакуированным с войны юным добровольцам до момента возвращения их родным и постоянного убежища тем юным добровольцам, которые не имеют родных или опекунов[732].
Узнав о создании такого общежития, многие люди начали оказывать содействие его развитию. Так, Великая княгиня Елисавета Феодоровна получила от господина Невежина 500 руб. на эти цели. Деньги с согласия жертвователя было разрешено употребить на устройство образовательных экскурсий. В числе первых для юных добровольцев была организована экскурсия в Хотьково и Сергиев Посад[733].
В годы Первой мировой войны объем деятельности Великой княгини достигает огромных размеров. Предметом специального исследования в будущем станут многие из ниже названных направленных усилий Великой княгини в годы войны (с 1914 по 1917 г.). Пресса сообщала: заботясь о помощи детям, Высокая покровительница детских трудовых артелей и детских ночлежных домов просила преосвященного Анастасия, епископа Серпуховского, отслужить молебен перед началом однодневного сбора «Красное яичко». Сумма пожертвований — более 41 тыс. руб.[734]; своим непосредственным участием отметила Великая княгиня 50-летний юбилей Рукавишниковского приюта для малолетних преступников[735]; перед отправкой на театр военных действий сестер милосердия общины «Утоли Моя Печали» в Городской думе преосвященный Дмитрий, епископ Можайский, совершил торжественный молебен, где присутствовала Елисавета Феодоровна, председатель попечительского совета общины СВ. Пучков, сорок сестер милосердия[736]; 17 августа 1914 года Комитет Великой княгини открыл в доме Н.Ф. Рихтера первую бесплатную квартиру для семейств призванных на войну[737]; 26 августа в Анненгофской роще в присутствии Елисаветы Феодоровны открыл сборный пункт для раненых при складе Красного Креста[738]; 5 октября 1914 года дамский и мужской тюремные комитеты оборудовали для раненых лазарет на 100 кроватей, устроенный в помещении попечительства Сергиево-Елисаветинского приюта[739]; 15 октября 1914 года на станции Московско-Киевско-Воронежской дороги в присутствии Елисаветы Феодоровны состоялось освящение поезда имени Ее Высочества[740]; 20 октября Елисавета Феодоровна посетила бесплатные квартиры Комитета, устроенные в доме на Пустой улице, д. 4, безвозмездно переданные Комитету домовладельцем Зотовым[741]; в канун праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы Комитет Елисаветы Феодоровны организовал сбор средств для оказания помощи семьям призванных на войну[742]. Объединенное совещание Управы и комиссии гласных Думы приняло решение перечислить в Комитет Великой княгини 10 тыс. руб. для снабжения увечных воинов искусственными протезами[743]; 17 февраля 1915 года состоялось открытие мастерской по изготовлению протезов для увечных воинов, устроенной Комитетом Елисаветы Феодоровны по Трубниковскому переулку, д. 9[744]; 16 июля 1915 года Елисавета Феодоровна присутствовала на освящении лазарета челюстных ранений при студенческом общежитии им. Великого князя Сергея Александровича на М. Царицынской улице, д. 18[745]; 26 апреля 1916 года Великая княгиня провожала поезд ее имени с ранеными, подлежащими лечению на Одесских лиманах[746]; 19 февраля 1916 года Великая княгиня присутствовала на молебне по случаю открытия на Пречистенке приюта для детей офицеров, священников и докторов, пострадавших в войну[747].
Неустанными заботами о людях была насыщена повседневная жизнь Елисаветы Феодоровны. Эти встречи преображали и укрепляли души страждущих. В предыдущем фрагменте приведена мизерная часть добрых дел Великой княгини, которые она всегда творила, прибегая к поддержке Русской Православной Церкви.
В 1917 году Комитет Елисаветы Феодоровны, столь самоотверженно служивший святому делу, начинает переживать трудные времена.
После отречения Императора от престола и переговоров Великой княгини с министром-председателем Правительства ЕЕ. Львовым и комиссаром Временного правительства Н.М. Кишкиным работу Комитета и его органов, согласно телеграмме князя Львова от 9 марта 1917 года, можно было продолжить, за исключением того, что Комитет стал называться теперь иначе — Московский комитет по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну.
24 марта 1917 года П.А. Базилевский на заседании Комитета сообщил, что его председательница Великая княгиня Елисавета Феодоровна сложила с себя это звание.
С благоговением и любовью совершала свой непомерный труд Великая княгиня Елисавета Феодоровна, достигая тех результатов, той благодатной мощи, которая присуща русским страстотерпцам. Овеяв высоту исповедуемых идеалов своим божественным и милосердным всеприсутствием, огромным размахом социального служения, Великая княгиня под давлением жестких, бескомпромиссных обстоятельств смиренно оставила пост защитницы русского воинства и детства, но до смертного часа осталась верна России, продолжала служить вселенскому делу спасения.
В эпоху духовного смятения Елисавета Феодоровна открыто культивировала ценности социального служения. Люди видели яркий пример наполненной святостью воли, которая становилась огромной социально значимой силой. Культура милосердия Великой княгини как проявление культурного стиля со всей очевидностью заявила о себе в ту пору, когда Елисавета Феодоровна на глазах у всей России становилась все более целостной личностью. В период потрясения русской культуры в самых ее основаниях святой человек самоотверженно включился в процесс охраны самого бытия народа, помогая каждому выполнить свое главное назначение на земле, прививая людям вкус к святому поведению.
Великая княгиня сложила с себя полномочия руководителя Комитета. Она не могла больше автоматически брать на себя ответственность за его победы и поражения, видя, что ее нечеловеческие, сверхмерные усилия не находят должного ответа. Несмотря на крайнюю фрагментарность решений, принимаемых Комитетом в 1917 году, нельзя не видеть их благодатной силы и необходимости. Это и публикация тарифа № 59-1916, согласно которому с 20 октября 1916 года до окончания войны на учреждения Комитета по ходатайству Великой княгини распространялись льготы по железнодорожным перевозкам. Это и циркуляр Комитета от 17 мая 1917 года для региональных отделений о проведении на местах закупок продуктов первой необходимости (муки, крупы, макарон, масла и фуража для конных обозов). Продукты были остро востребованы для сирот воинов, находившихся на попечении Комитета, который в случае закупки гарантировал немедленный перевод денег региональному отделению. Это и циркуляр Комитета от 20 мая 1917 года, изданный в связи с дровяным кризисом. Комитет просил в недельный срок сообщить, какое количество и какие именно дрова потребуются учреждениям Комитета на отопление в 1917/18 гг.
Несмотря на крайне тяжелую ситуацию, которая ухудшалась с каждым днем, еще в декабре 1916 года было принято предложение об устройстве по окончании войны повсеместно в России особого военно-народного праздника согласно прилагаемой программе, разработанной еще в конце 1914 года на двух совещаниях в Туле и Курске. Основная идея празднества — единение народа и армии. Цель — оказание почета и народного внимания героям — воинам, пролившим кровь за Царя и Родину с тем, чтобы отметить и поддержать высокую доблесть и дух армии.
Эти и многие другие решения Комитета в последние трагические годы его работы повсеместно выполнялись. Однако положение радикально изменилось, когда 5 сентября 1917 года Московский комитет был упразднен, а его обязанности переданы министру Государственного призрения[748].
Летом 1917 года Великая княгиня Мария Павловна (младшая) посетила Елисавету Феодоровну, которая уже не руководила Комитетом. Поразил ее больной и измученный вид. Мария Павловна заметила перемены в поведении Елисаветы Феодоровны: ранее «она никогда не сидела на месте, теперь большую часть времени проводила в плетеном кресле с вышивкой или вязанием»[749].
Великая княгиня, в те дни еще более равнодушная, чем прежде, ко всему, что касалось ее быта, отчетливо видела признаки сознательной, планомерной подготовки конца света. Заняв открытую позицию ко всему, свершаемому на ее глазах, не имея возможности противостоять духовному и психическому распаду людей, она тем не менее смотрела на этот процесс смиренно и с надеждой на то, что это некое переходное состояние больного общества. Стремясь осмыслить новый наличный опыт, Великая княгиня понимала бесплодие лозунга свободы вне братской любви. Ей было очевидно, что спектакль, который развертывался перед ее взором, — это извращенная форма исканий, которая несет в своей основе демоническое начало, ставит вполне определенный социальный диагноз. Понимая двусмысленность своего положения, Великая княгиня могла теперь только напряженно ожидать финала, который стал мученическим венцом ее бескорыстного, всепоглощающего служения Богу и людям.
[669] ЦИАМ.Ф. 113. Оп. 1.Ед. хр. 3. С. 108 об. 109
[670] Там же. С. 62 об
[671] Там же. С. 83 об, 84, 84 об
[672] Там же. С. 47
[673] Там же. Ед. хр. 161. С. 9, 19,45,56,79
[674] Там же. С. 3, 5
[675] Там же. Ед. хр. 3. С. 2
[676] Там же С. 83
[677] Там же. С. 9-10
[678] Там же. С. 4 об
[679] Там же. С. 31
[680] Голос Москвы. 1914. 14 декабря. № 288. С. 5
[681] Московские ведомости, 1915. № 23. 29 января. С. 5
[682] Там же. 31 января. № 25. С. 4
[683] Голос Москвы, 1915. 3 февраля. № 27. С. 5
[684] Московские ведомости. 1914. 2 октября. № 228. С. 4
[685] Там же.
[686] Там же. 1914 г. 28 ноября. № 276. С. 4
[687] Голос Москвы. 1914. 15 декабря. С. 2. Экстренное прибавление к № 288
[688] Московский архив. М., 2000. С. 488, 489
[689] Цит. по: Московский архив. М., 2000. С. 493
[690] ЦИАМ. Ф. 113. оп. 1. Ед. хр. 3. С. 92 об, 93
[691] Там же. С. 96 об
[692] Там же. С. 100 об
[693] Там же. С. 102
[694] Там же. Ед. хр. 139. С. 37, 40, 42, 42 об, 58, 59, 91, 92, 94
[695] Там же. Ед. хр. 3. С. 69 об
[696] Там же. С. 15 об
[697] Там же. С. 24
[698] Там же. Ед. хр. 3. С. 102 об
[699] Московские ведомости. 1916. 2 апреля. № 76. С. 4
[700] Там же. 28 мая. № 122. С. 3
[701] Там же.
[702] Там же.
[703] ЦИАМ. Ф. 113. Он. 1. Ед. хр. 3. С. 21 об, 22
[704] Там же. С. 9
[705] Там же. С. 6
[706] Там же. С. 88 об
[707] Там же. С. 108, 108 об
[708] Там же. С. 119 об
[709] Нестеров М.В. Письма. М„ 1988. С. 263
[710] ГАРФ. Ф. 686. Оп. 1. Ед. хр. 74. С. 418
[711] ЦИАМ. Ф. 113. Оп. 1. Ед. хр. 3. С. 93 об
[712] Там же. С. 16 об
[713] Там же. С. 136 об
[714] Московские церковные ведомости. 1914. № 40. С. 795-796
[715] Под благодатным небом. Сергиев Посад. 1914. С. 1
[716] Материалы к житию... С. 69
[717] ЦИАМ.Ф. 113. ОпЛ.Ед. хр. 3. С. 21
[718] Московские ведомости. 1915. № 83. С. 4
[719] Тамже. № 105. С. 4
[720] Там же. № 117. С. 3
[721] Там же. № 121. С. 3
[722] Там же.
[723] Там же. № 125. С. 3
[724] Там же. № 126. С. 4
[725] Там же. № 114. С. 3
[726] Там же. № 116. С. 3
[727] Там же. № 128. С. 3
[728] Там же. ,о 129. С. 4
[729] Там же..Мо 137. С. 3
[730] Там же. № 144. С. 3
[731] Там же. № 143. С. 3
[732] Там же. № 139. С. 4
[733] Там же.
[734] Московские ведомости. 1914. 28 марта
[735] Там же. 22 мая
[736] Там же. 8 августа
[737] Там же. 17 августа
[738] Там же. 26 августа
[739] Там же. 5 октября
[740] Там же. 16 октября
[741] Там же. 21 октября
[742] Там же. 20 ноября
[743] Там же. 9 декабря
[744] Там же. 1915. 18 февраля
[745] Там же. 17 июля
[746] Там же. 1916. 26 апреля
[747] Там же. 19 февраля
[748] ЦИАМ. Ф. 113. Оп. 1.Ед. хр. 2а. С. 7, 10,53,55,59
[749] Мария Павловна. Указ. соч. С. 268
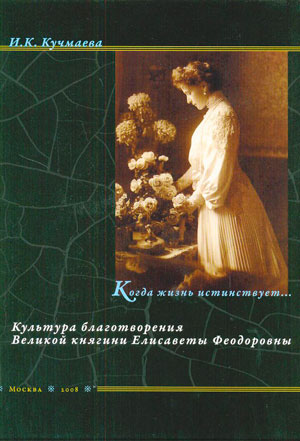
Комментировать