- Когда жизнь истинствует...
- Введение
- Глава 1. Истоки
- 1.1. Рейнская Сивилла
- 1.2. Св. Елизавета Тюрингенская: жизненный путь и жертвенное призвание
- 1.3. В родительском доме принцессы Гессенской и Рейнской
- Глава 2. Русский избранник принцессы Елизаветы
- 2.1. Детство и юность Великого князя Сергия
- 2.2. Великая мать Великого князя
- 2.3. Венчание Елисаветы и Сергия
- Глава 3. Петербург. Вхождение в мир русской культуры
- 3.1. Образ дома
- 3.2. «17 тетрадей»
- 3.3. Колокола рая
- Глава 4. Хлеб-соль Москвы — Великому князю и Великой княгине
- 4.1. В Александрийском дворце и на Тверской
- 4.2. Откровение о народной душе
- 4.3. Феномен благотворительного базара
- 4.4. Дружба с творческой интеллигенцией Москвы
- 4.5. Музыка в жизни великокняжеской четы
- 4.6. Контакты Великой княгини с дирекцией императорских театров
- 4.7. Поддержка образовательных начинаний
- Глава 5. Жизнь в подмосковном Ильинском
- 5.1. В окрестностях Саввино-Сторожевского монастыря
- 5.2. Жизнь в Ильинском в дни коронования Николая II
- 5.3. Детские воспоминания Великой княжны Марии Павловны о бытии Елисаветы Феодоровны в Ильинском
- 5.4. Культурная среда в подмосковном имении великокняжеской четы
- 5.5. Екатерина Шнейдер о повседневной жизни в Ильинском
- 5.6. Ильинское в дневниковых записях Великого князя Константина Константиновича
- 5.7. Отклик Великой княгини на беды и радости Ильинского
- 5.8. Дворец великокняжеской четы в Усово
- Глава 6. Августейшая попечительница детских приютов в Москве
- 6.1. Елисаветинское благотворительное общество
- 6.2. Комитет по устройству детских очагов в Москве
- 6.3. Награды Елисаветинского благотворительного общества
- 6.4. Общество попечения о неимущих и нуждающихся в защите детях в Москве
- Глава 7. Трагедия Великой княгини
- 7.1. Завещание Великого князя
- 7.2. Москва в трауре
- 7.3. Молитвенный памятник в Кремле
- 7.4. Возведение Сергиева скита
- 7.5. В память всех погибших во время смут
- Глава 8. Милосердная помощь русским воинам (1904–1905 гг.)
- Глава 9. Великая обитель Великой Матушки
- 9.1. Устав Обители. Основные учреждения
- 9.2. Повседневная жизнь Обители
- 9.3. Великая матушка в дни стихийных бедствий
- 9.4. Великая княгиня и M.B. Нестеров в годы создания Покровского храма Обители
- 9.5. Освящение Покровского храма
- 9.6. Игумен Серафим о подвиге сестер Обители в дни Первой мировой войны
- 9.7. Неотвратимость надвигающейся бури
- 9.8. Последние годы святого духовника Обители
- Глава 10. Августейшая паломница
- 10.1. Кашинские торжества
- 10.2. Посещение обители великого Вышенского затворника
- 10.3. Верхневолжское паломничество великокняжеской четы к христианским святыням
- 10.4. Орел. Паломничество в город воинского служения Великой княгини
- 10.5. Великая княгиня в Уфимской епархии
- 10.6. Паломнические путешествия Великой княгини в 1911 и 1912 гг.
- 10.7. Соловки
- 10.8. Паломничество Великой княгини в Оптину пустынь
- 10.9. Белогорье — путь на Сибирский Афон
- 10.10. Паломничество в Кострому
- Глава 11. Духовные наставники и друзья Великой княгини
- 11.1. Духовное учительство
- 11.2. Помощь ближним
- 11.3. Память о почивших друзьях
- 11.4. Поклонение святым
- Глава 12. Комитет Великой княгини в дни Первой мировой войны
- 12.1. Основные направления деятельности
- 12.2. Источники средств
- 12.3. «Под благодатным небом»
- 12.4. Личное внимание к страждущим
- Глава 13. Святыни Дармштадта и Майнау
- Глава 14. Уроки великокняжеской четы: русская святость и русская культура
- Послесловие
- Примечания
Глава 10. Августейшая паломница
Во все времена на Руси особой гордостью Царствующего Дома было прославление святых подвижников веры. Эта традиция с особой убедительностью проявила себя в последние годы Российской Империи, характеризуя своеобразную грань в развитии христианской культуры России. Путь к небывалой культурно-исторической катастрофе был отмечен рядом крупных событий, свидетельствовавших об осознанном противостоянии атеистическому гуманизму. Отцы нации в это переломное время помнили об ограничении и пределах скороспелых выводов человеческого разума. В поисках духовной опоры перед грядущей бедой они обращались к поддержке святых, особенно тех, кто незаслуженно был передан забвению или поруганию.
10.1. Кашинские торжества
Обозначая круг вопросов, касающихся особенностей паломничества Великой княгини, можно заметить ее осмотрительность в расходовании денег и времени на паломническое путешествие. «Много путешествовать, — писала она, — во-первых стоит денег, но главное, это было бы неправильно, ведь если ты „Возложил руку на плуг, не должно оглядываться назад»»[500]. Тем с большей духовной продуктивностью Елисавета Феодоровна использовала время, которое отводила на очередную паломническую поездку. Однако с полным правом можно говорить о богатой паломнической практике Великой княгини, в рамках которой она отмечала наиболее удачные путешествия. В их ряду Елисавета Феодоровна особое место отводила паломничеству в Кашин.
Возвратившись из этой поездки, она пишет Государю: «Милый Ники! Всем сердцем моим я стремилась вчера быть с тобой, чтобы благодарить Бога за это идеальное путешествие…
Я хотела бы рассказать о Кашине. Это было идеальное повторение Сарова… Была та молитвенная атмосфера, что так поразила нас тогда и что всякий раз возводит человека к Богу… Все были поражены идеальным порядком и тем, что можно было так легко подойти к мощам…»[501].
Этот редкий порядок во время вторичной канонизации св. Анны Кашинской, эта поразительная атмосфера высокой духовности, в которой протекало долгожданное торжество, преодолевали растерянность людей, которую вездесущие провокаторы стремились внести в ряды паломников, распространяя ложные слухи.
В этом путешествии, в общении с православным народом Елисавета Феодоровна особенно остро ощутила, что она «русская до мозга костей» и вместе со всеми глубоко предана Престолу. Каждый знак внимания по отношению к себе Елисавета Феодоровна с радостью относила к Государю.
Для участия в празднестве Великая княгиня приехала в Кашин из Москвы в сопровождении своей гофмейстерины А. Олсуфьевой, секретаря А.П. Гжельского, игуменьи московского Вознесенского монастыря Евгении и В.Ф. Джунковского. С вокзала под колокольный звон Елизавета Федоровна проследовала в собор.
Тихий маленький городок пленил Великую княгиню. Гостеприимство, патриархальные нравы, доброжелательность жителей, множество церквей и зелени, живописная извилистая Кашинка с высокими берегами, покрытыми сочной травой, древние земляные валы — все это подчеркивало красоту соборной площади. К своему празднику город был украшен флагами и гирляндами из листьев и цветов. Множество людей, местных и приезжих, заполнили все улицы и площади города.
Для поддержания порядка возле Кашина были размещены два полка — 11-й Фанагорийский из Ярославля и 12-й Астраханский. 800 городовых, казаки из разных городов помогали в организации всенародного торжества. Повсюду были расклеены объявления о правилах поведения во время торжеств.
По прибытии Великой княгини в Воскресенский собор ее приветствовал Высокопреосвященный Алексий, архиепископ Тверской и Кашинский:
«С чувством сердечной радости имеем счастье встречать Тебя, Благоверная Княгиня. Ты пришла разделить с православным русским народом уготованный здесь пир нашей веры по случаю восстановления церковного почитания во святых Благоверной княгини, преподобной Анны Кашинской…
Настоящее торжество в честь многострадальной Благоверной княгини Анны изволением промысла Божия суждено разделить с нами именно лично тебе, многострадальная, возлюбленная, Благоверная Великая княгиня, тебе, как близкой с нею по судьбе и родной по духу… Да подаст тебе Господь благодатное утешение терпеливо нести свой тяжелый крест, да упокоит во царствии Своем родного тебе и нам Великого князя-мученика»[502].
10 июня во второй половине дня к Воскресенскому собору начали подтягиваться крестные ходы из Красного холма, Бежецка и других городов. В б часов вечера архиерейским служением началось всенощное бдение (парастас), где поминали родителей Анны Кашинской, кашинских князей и т. д. О ходе этой и всех иных служб сделал подробные записи в летописи церкви Благовещения Пресвятой Богородицы г. Кашина о. Василий Соколов[503].
Не менее интересные записи опубликовал протоиерей Иоанн Попов во Владикавказе (издание строившегося в г. Грозном женского монастыря во имя св. Анны Кашинской).
Будучи в эти дни в Кашине в качестве паломника, о. Иоанн сумел вместе с московскими журналистами занять место возле левого клироса, что позволило наблюдать всю службу.
О. Иоанн замечал, что среди «всей молящейся интеллигенции выделялась августейшая паломница, Ее Императорское Высочество Великая княгиня Елисавета Феодоровна. Привлекала она взоры и сердца публики и царственной своей осанкой и еще более скорбным выражением лица, скромным туалетом, еще более скромным положением и молитвенным настроением.
Хотя место, приготовленное для Великой княгини, было задрапировано и устлано коврами и приготовлено мягкое кресло, но она тихо отодвинула от себя кресло, стояла все службы скромно в уголке и часто преклоняла колена… Так гармонировало это прибытие Великой княгини, скорбной и скромной паломницы, к раке Великой княгини — праведницы, что тогда же создались в народе целые легенды, увенчавшие августейшую богомолицу ореолом сверхцарственного величия.
Служили заупокойную всенощную; поминались царь Алексей Михайлович и другие лица, участвовавшие в прославлении благоверной великой княгини Анны, ее близкие по плоти и в заключение произносилось имя Великого князя Сергея Александровича — и в этот момент взоры многих снова обращались на коленопреклоненную царственную вдову»[504].
После Всенощного бдения в течение всей ночи перед гробницей благоверной княгини Анны, по распоряжению владыки, непрерывно служились молебны.
В эту ночь, сообщает в летописи о. Василий Соколов, из Сретенского монастыря «в сопровождении монашенки-послушницы приходила в собор слушать молебен Великая княгиня Елисавета Феодоровна. А так как пришла в простом черном одеянии, то почти не была замечена, принята за обычную богомолку; об ее присутствии в соборе только очень немногие догадывались»[505].
Утром 11 июня служили заупокойную литургию. В собор пропускали только по специальным билетам. Литургию совершали архиепископ Ярославский Тихон, Епископ Кишиневский Серафим (Чичагов) и епископ Саратовский Гермоген. Вдохновенное слово епископа Серафима и огненное слово епископа Гермогена произвели на всех сильное впечатление.
В 6 часов вечера в Воскресенском и Успенском соборах Кашина и во всех монастырях раздался благовест ко всенощному бдению. Службу возглавил прибывший из Москвы митрополит Московский Владимир. В службе приняли участие 13 архиереев, 14 архимандритов и более 100 священнослужителей. На литию, по воспоминаниям протоиерея Иоанна Попова, вышли два крестных хода из двух соборов на площадь, более сотни хоругвей расположили двумя полукружьями, которые сияли и переливались всеми цветами радуги от лучей заходящего солнца. В центре священнослужители в парчовых облачениях, далее массы народа, занявшие всю площадь и древние валы. «Августейшая богомолица заняла место на балконе северной двери собора…»[506].
Наивысший подъем религиозного чувства переживался всеми, когда с северного крыльца Воскресенского собора протодиакон московского Успенского собора Розов отчетливо, выразительно, на всю площадь прочел послание Святейшего Синода о Высочайшем утверждении восстановления почитания св. Анны.
Всенощная закончилась в 11 часу вечера. Ко времени перенесения мощей св. Анны из Воскресенского собора во всем городе раздался колокольный звон. Во время крестного хода при переносе гробницы св. Анны из одного собора в другой «Августейшая богомолица, Великая княгиня Елисавета Феодоровна, поддерживала гробницу у главы; изнесли ее на середину собора и всенощная продолжалась своим чередом, по особо составленной службе… В полночный час, говорили мне, Великая княгиня Елисавета Феодоровна снова посетила собор»[507]. Так же скромно, как и в предыдущую ночь и так же мало, кем была узнана, как сообщает о. Василий Соколов[508].
12 июня во время поздней литургии слово произносил Московский митрополит Владимир. Во время молебна при пении тропаря св. Анне рака с мощами на носилках красного дерева была вынесена на крестный ход вокруг двух соборов. Впереди крестного хода 30 хоругвеносцев, затем длинный ряд духовенства, рака с мощами св. Анны, за святыми мощами митрополит Владимир, архиепископы и епископы, за духовенством Великая княгиня Елисавета Феодоровна и лица ее свиты. Толпы народа встречали святыню. Как сообщает очевидец, о. Василий Соколов, все бесноватые умолкали у раки со святыми мощами, происходили поразительные исцеления: явившиеся к раке с костылями возвращались без костылей; прозрел 13-летний мальчик; заговорила восьмилетняя девочка. С особой надеждой обращались к св. Анне молодые, т. к. св. Анна, по народному преданию, наделена даром в устроении брачной жизни при обращении к ее молитвенной помощи.
В церквах Кашина в течение всего дня 12 июня совершался колокольный звон.
В телеграмме министра Императорского Двора сообщалось, что 12 июня в 10 часов утра императорская яхта «Штандарт» снялась с якоря и ушла в море. В 11 часов утра на яхте было совершено богослужение по случаю прославления мощей св. благоверной княгини Анны Кашинской, на котором присутствовали Их Величества с августейшими детьми, лица свиты, флаг-капитан Его Величества, командир, офицеры и команда яхты.
18 июня тверской губернатор получил от Императора следующую телеграмму: «Сердечно благодарю жителей славного древнего Кашина за их молитвы и чувства. Да возродятся в будущем под покровом Святой Благоверной Великой княгини Анны новые поколения истинно достойных своих предков сынов России. Николай»[509].
12 июня Елисавета Феодоровна отбыла в Москву, увозя с собой частицу мощей св. Анны Кашинской, данную ей митрополитом, которая хранилась в домовой церкви губернаторского дома.
13июня на обратном пути из Кашина в Москву Елисавета Феодоровна остановилась на 40 минут в Бежецке. Перрон, заполненный многотысячной толпой, был красиво освещен, декорирован зеленью и флагами. По выходе из вагона Елисавету Феодоровну приветствовали монахини Благовещенского монастыря. От городской депутации она с благодарностью приняла хлеб-соль. Бежецкий предводитель дворян Татищев преподнес Елисавете Феодоровне букет роз. При пении монахинями «Многая лета» Великая княгиня отбыла в Москву[510].
В те же дни, когда торжествовал Кашин, праздновала и Москва, где 11 июня во всех храмах было отслужено по этому поводу всенощное бдение. С особой торжественностью богослужение было совершено в Успенском соборе Кремля, где пел Синодальный хор в парадных кафтанах.
12 июня в епархиальном доме состоялось специальное заседание, где прозвучало несколько докладов, в том числе придворного иконописца В.П. Гурьянова «Святая благоверная княгиня Анна Кашинская в русской иконографии»[511].
Вскоре тверской губернатор получил телеграмму из Москвы от Великой княгини Елисаветы Феодоровны:
«Вернувшись в Москву под светлым впечатлением чудно радостных дней, только что проведенных в Кашине, я не могу не высказать Вам, как я была счастлива, что мне удалось принять участие в торжествах прославления Святой Анны Кашинской и провести эти дни в ее родном и бывшем столь близким ее сердцу городе. Я была глубоко растрогана тем дорогим, тонким вниманием, которым я была окружена все время пребывания в Кашине и мне было несказанно дорого, что к молитвам за усопших на заупокойных службах присоединили и молитвы за моего дорогого мужа.
Елисавета»[512].
После завершения кашинских торжеств была составлена опись подношений в дар кашинскому Воскресенскому собору в день церковного прославления святой благоверной великой княгини Анны Кашинской. Всего 129 дарений.
Опись начинается с дарений Великой княгини Елисаветы Феодоровны:
— лампада золотая с подвесным крестом, украшенная драгоценными камнями. На лампаде надпись — «Святая Благоверная Княгиня Анна, моли Бога о нас»;
— икона святой благоверной княгини Евфросинии, шитая шелками по рисунку Ее Императорского Высочества Великой княгини Елисаветы Феодоровны, с драгоценными камнями, пожертвованными Великой княгиней, — от игумений Евгении с сестрами Вознесенского монастыря в Москве.
В числе подарков, поднесенных Воскресенскому собору 12 июня 1909 года, были напрестольный малахитовый крест в серебряной позолоченной оправе, св. Евангелие больших размеров в металлических вызолоченных досках, много серебряных вызолоченных церковных сосудов, множество икон, лампад художественной работы, хоругвей, покровы малиновые бархатные, шитые золотом и серебром, воздухи атласные, бархатные, белые, сиреневые, розовые, малиновые, зеленые, расшитые золотом и жемчугом, покровы на престол, шелковые, парчовые, розовые, пунцовые, голубые, белые и т. д.[513].
Июньские торжества в Кашине всколыхнули всю Россию. В прессе и в храмах еще долго говорили о том, почему так значимо было в дни смут и разногласий чествование благоверной княгини Анны, почему так важен образ женщины-христианки в современном мире, образ святой женственности, смирения, нерассуждающей любви.
Видя, что происходило на их глазах в июньские дни, люди верили, что святые охраняют само бытие народа, помогают ему осуществить свое назначение в истории. Люди радовались, что запел 600-пудовый соборный колокол Кашина, прославляя возрождение церковного почитания св. Анны.
Люди были потрясены мощью и обилием крестных ходов, которые шли под проливным дождем и в знойный полдень. И все понимали тогда, что крестный ход — это живая движущаяся церковь, с которой реально движется Спаситель и святые угодники, а не просто иконы, торжественно несомые участниками этого святого действа. Повсюду звучал тропарь, который запрещали петь в течение двухсот лет: «Днесь восхваляем тя, преподобная мати, великая княгиня Анно».
В разных журналах и газетах перепечатывали Поучение ко дню прославления св. Анны, подготовленное пламенным патриотом и проповедником о. Иоанном Восторговым.
«В те дни, — писал о. Иоанн, — когда другие русские города, потеряв разум, обагрялись кровью, осквернялись вооруженными восстаниями, политическими преступлениями, бунтами, изменами, безбожными речами», Кашин «весь предался почитанию праведницы и усиленным ходатайствам о ее прославлении»[514].
Великая княгиня Елисавета Феодоровна через несколько месяцев после завершения торжеств поручает своему заведующему двором передать настоятелю Воскресенского собора Кашина о. Иоанну Аменитскому еще один дар, о чем сообщалось (22 декабря 1909 года) в письме этого помощника Великой княгини:
«Великая княгиня Елисавета Феодоровна поручила мне препроводить Вашему Высокопреподобию облачение из желтой материи с золотым шитьем для священника и стихарь диакону для служения в оных у мощей св. Великой княгини Анны Кашинской.
При этом ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО просит поминать в святых молитвах — в БОЗЕ почившего Великого князя Сергея Александровича.
О получении риз ожидается уведомление»[515].
Вторичному прославлению св. Анны Кашинской и участию в нем Великой княгини посвящались не только отдельные статьи в газетах и журналах, но и специальные исторические, богословские исследования. Это событие воспринималось благочестивыми людьми как свидетельство очищения духовных основ общественной жизни, как возрождение духовно-культурной самобытности России, где всегда с особым почитанием относились к духовной красоте и стойкости святых жен.
Погружаясь в молитву и раздумья о кашинской святой, Великая княгиня Елисавета Феодоровна в эти торжественные дни с особой силой ощутила, что богатые духовные дары посылаются человеку в ответ на подвиг, раскрывающий мощь и возможности подлинно христологической перспективы. В свою очередь цель подвига, раскрываемая в ракурсе духовной культуры, означала устроение души, освобожденной от ложных пристрастий, ведущей к стяжанию внутреннего мира и обладанию великим достоинством непамятозлобия.
В дни прославления Анны Кашинской стало очевидным то значительное, разноплановое влияние, которое оказывал тогда образ святой на все слои русского общества. В этой связи уместно отнести к Анне Кашинской обобщение, которое сделал М.Н. Громов применительно к образу другого, тоже очень близкого людям святого. Отмечая многоуровневость и многозначность характеристик семантического содержания образа святых, ученый выделил ряд аспектов их рассмотрения: архетипический, религиозный, политический, культурный, народный, патронимиальный[516].
Подвиг Анны Кашинской, который можно рассмотреть по данным направлениям, ее вторичное прославление нашли глубокий, искренний отклик в людях, широкое распространение через печать и народное признание.
Процесс прославления, всегда сопровождаемый несовершенством внешнего, осязаемого, доступного знания о святых, представлялся Великой княгине Елисавете Феодоровне лишь отдаленным приближением к пониманию их сущности. Поэтому ответственность момента прославления была сопряжена для Великой княгини с высококультурным, духовным, а следовательно, учительным поведением в эти необычные дни. Скромно, сосредоточенно молившаяся августейшая паломница стремилась тогда к главному — к постижению скрытого от глаз мотива, а значит, к пониманию движущей силы подвига святой Анны. Жизнь Великой княгини Елисаветы Феодоровны, в равной мере растворенная в служении ближним и поклонении святым, была созвучна подвигу Анны Кашинской, служила его естественным продолжением на новой ступени исторического развития.
Паломничество Великой княгини Елисаветы Феодоровны многообразно и целительно в духовном отношении.
Можно с полным основанием утверждать, что все время, свободное от благотворительных трудов, посвящалось Великой княгиней паломническим поездкам по России. Троице-Сергиеву лавру, Оптину пустынь, Саввино-Сторожевский монастырь, Тихонову пустынь, Соловецкий, Саровский, Новоиерусалимский монастыри, обители, расположенные возле древних поволжских, псковских, орловских, нижегородских, тверских поселений, неоднократно посещала царственная паломница.
Почему паломнические поездки были так притягательны для Великой княгини? Прежде всего потому, что позволяли на некоторое время обособить аскетическую молитву в келье от служения миру. Повседневная жизнь, наполненная заботой о ближних и дальних, оставляла для молитвы, как правило, лишь ночные часы. Это напряженное бытие, нераздельность молитвы и служения людям, разумеется, прокладывало путь к духовному восхождению Елисаветы Феодоровны. И все же такому беспощадно требовательному к себе человеку, как Великая княгиня, необходимо было специально выделенное время для взгляда на свое бытие со стороны и глубокого молитвенного покаяния. А это было возможно лишь во время паломнических поездок, когда, на короткие мгновенья оставляя важные мирские заботы, можно было молиться и служить только Богу.
Поэтому для Елисаветы Феодоровны паломничество было в первую очередь школой спасения души, постоянной борьбой с рудиментами мирского во имя своего духовного призвания.
Но в феномене паломничества Великой княгини есть и другая, не менее важная сторона. В этой связи следует ответить на вопрос: а чем паломничество Елисаветы Феодоровны становилось для русских людей, которые ожидали ее в святых местах России?
Мало сказать, что каждая паломническая поездка Великой княгини оставляла о себе добрую память. Сегодня, изучив многие архивные материалы, статьи в периодической печати дореволюционных лет, можно говорить об общерусском значении паломнических путешествий Елисаветы Феодоровны, поскольку народ уже тогда почитал ее как человека святой жизни. Каждому были очевидны добродетели Царственной паломницы: щедрость милостыни, беспредельное милосердие к больным и убогим, целомудренное немногословие, духовный такт, неутомимое молитвенное служение.
Все это и многое другое, что открывалось людям в общении с Августейшей паломницей, создавало в душах и сознании образ большой убедительной силы; побуждало к облагораживанию повседневной жизни. Воздействуя на людей кротостью и любовью, утешая их светлым и добрым взором, Елисавета Феодоровна в своих паломнических поездках становилась учителем христианских добродетелей.
Весьма интересной задачей будущих агиологических исследований может стать типологизация паломнических путешествий Великой княгини, выполненная по ряду оснований: поездки, связанные с канонизацией святых; путешествия обетного характера; паломничества в царские и ставропигиальные монастыри и т. д.
10.2. Посещение обители великого Вышенского затворника
Паломнические путешествия по России Елисавета Феодоровна начала совершать еще будучи лютеранкой. Неизгладимое впечатление произвело на нее посещение Вышенского и других монастырей, которые она совершала уже в петербургский период своей жизни.
В 80-90-е гг. XIX в. еще был жив великий духовный подвижник святитель Феофан, Вышенский затворник. Сыновья Александра II Великие князья Сергей Александрович и Павел Александрович, а также Великая княгиня Елисавета Феодоровна давно собирались посетить эту обитель. Царственные паломники стремились к чудотворной иконе Вышенского монастыря, спешили посетить епископа Феофана, которого уже тогда люди считали святым. Августейшим паломникам было известно: епископ Феофан — высокообразованный человек, который после окончания Киевской духовной академии служил в Иерусалиме и Константинополе, что духовно обогатило его, а затем был назначен ректором Петербургской духовной академии. Вскоре состоялась его хиротония во епископа Тамбовского, а затем перевод на древнюю кафедру Владимира.
Огромная проповедническая, миссионерская деятельность, покровительство духовным учебным заведениям, руководство всей административной и хозяйственной работой вверенных ему епархий в течение 25 лет позволила ему выразить свою просьбу об уединенном иноческом житии. Для такого жития он сам избрал Вышенскую пустынь и начал совершать здесь свой богословский литературный подвиг.
Началась вторая половина жизни св. Феофана, о чем с такой любовью напишет позднее И.К. Смолич. Первые шесть лет он по воскресным и праздничным дням совершал литургию с собором священников. В 1872 году епископ Феофан устроил в своем домике алтарь. С этого времени он ушел в затвор и непосредственно общался только со своим духовным отцом (игуменом обители) и келейником. С остальными людьми он общался лишь посредством писем. Литургию епископ Феофан служил один.
В промежутках между богослужениями Вышенский затворник работал над своими книгами, стараясь убедительно изложить нравственное учение Церкви. В теоретической части его учение основывается на древнехристианских представлениях об обожении, а в практической части вытекает из аскетического учения восточно-христианского патриархата.
Большую часть времени он посвящал переводу аскетических и мистических сочинений. На первом месте стояли монашеские правила св. Пахомия, св. Василия Великого, св. Иоанна Кассиана, св. Венедикта, пятитомное «Добротолюбие». Очень важны также его толкования Посланий св. апостола Павла, написанные в форме проповедей.
28 лет провел епископ Феофан в строжайшем затворе. Он занимал две комнаты в маленьком домике с темными стенами и самой простой мебелью: железная кровать, стол, стул, шкаф. Но в комнатах было огромное количество книг: «История России» С. Соловьева, «Всемирная история» Шлоссера, сочинения Гегеля, Фихте, Якоби на немецком языке и множество патристической и аскетической литературы на греческом языке, научно-богословские книги на французском, английском, немецком языках, труды по медицине и анатомии, географии. В его домике был также телескоп, микроскоп, фотоаппарат, краски, кисти и все, что необходимо для живописи. На стенах висели иконы и картины, которые он писал сам, например, образ Казанской иконы Божией матери, иконы св. Тихона Задонского и прп. Серафима Саровского, картины из жизни Христа: Распятие, Воскресение, Крещение и др.[517].
Крещение (Богоявление) имело особое значение в жизни св. Феофана (Феофан значит Богоявление): этому дню была посвящена его маленькая церковь, в этот день он умер.
Совершая литургию, св. Феофан неустанно поминал тех, кто находился с ним в переписке. Его пища была очень проста: утром — стакан чаю и кусок хлеба; в обед — яйца и стакан молока, кроме постных дней; после обеда — стакан чая и хлеб.
В последний день, 6 января 1894 года, он сидел за столом и работал. Немного поел, после чего в комнате стало совсем тихо. Владыка почил вечным сном[518]. Паломничество Великих князей в Вышенский монастырь в сентябре 1886 года было тем приятнее, что они откликнулись на настоятельное приглашение близких императорскому кругу людей, представителей дворянского рода Эммануила Дмитриевича и Александры Николаевны Нарышкиных, чье имение находилось недалеко от Вышен-ской пустыни.
Эммануил Дмитриевич, проведя детство за рубежом, вернувшись из-за границы, служил в Лутенском гусарском полку, затем в лейб-гвардии конном полку адъютантом шефа жандармов гр. А.Х. Бенкендорфа. На гражданской службе состоял в должности церемониймейстера Высочайшего Двора, в течение двух лет — в должности Гофмаршала. И, наконец, вышел в отставку, проживая в своем имении на Быковой горе Тамбовской губернии (ныне Рязанской области).
Дружба великокняжеской четы с Э.Д. Нарышкиным укреплялась в связи с тем, что он был одним из крупнейших благотворителей России. На дело народного образования и просвещения он пожертвовал огромную по тому времени сумму (700 тыс. руб.). Учительский институт с общежитием, библиотеку и читальню с большим количеством книг, исторический музей и много других помещений для образования в Тамбове были построены на деньги этого благотворителя.
Через несколько лет Э.Д. Нарышкина вызвали в Санкт-Петербург и назначили обер-гофмейстером, а в 1884 году — обер-камергером. Великие князья хорошо знали этого скромного, великодушного, честнейшего и благороднейшего человека. Э.Д. Нарышкин был удостоен всех высших российских орденов, вплоть до ордена св. Апостола Андрея Первозванного[519].
Елисавета Феодоровна особенно дорожила дружбой со второй женой Нарышкина Александрой Николаевной, Статс-Дамой Высочайшего Двора, попечительницей школ Императорского женского Патриотического общества. Ее хорошо знали в петербургском обществе как благородного, порядочного человека, всегда открыто высказывавшего свое мнение. За ней закреплялось имя «тетя Саша» (так называли ее в Императорском Доме).
В 1919 году в Тамбове она была арестована большевиками, приговорена к расстрелу, но по дороге на казнь погибла от разрыва сердца[520].
В тот, 1886 год само начало паломничества Великий князей к тамбовским святыням было организовано четой Нарышкиных необычно, тонко и даже романтично, что отвечало особенностям душевного и духовного настроя Августейших паломников. Прежде чем отправиться в Вышу, хозяева имения погрузили Великих князей в дивную игру красок и нежных светотеней увядающего осеннего леса, организовав путь следования Царственных паломников по особой лесной дороге от деревни Алеменевой, над берегом Цны. Теперь эта дорога утрачена. Путники с самого начала погружались в особую, ни с чем не сравнимую атмосферу предчувствия необыкновенного способа жизни, отличного от Петербургского. Завершением отрадной дороги был путь прямо через сад нарышкинской усадьбы в господский дом.
Духовную значительность и очарование этой усадьбе придавала красивая, построенная в русском стиле деревянная миниатюрная церковь во имя святой вмч. Екатерины, где по праздникам и воскресным дням в богослужениях участвовали монахи из Вышенской пустыни.
Вся епархия в эти дни пришла в движение, все готовились к встрече Их Высочеств. Для монашествующих и мирян это было событие крупного масштаба.
Первую службу с Великими князьями монахи служили в имении Нарышкиных. На следующий день после их прибытия настоятель Вышенской пустыни архимандрит Аркадий направил в очаровательную Екатерининскую церковь группу монахов для совершения службы в присутствии Их Высочеств. Сюда из села Лесное Конобеево пригласили дьякона П.А. Голосницкого, от природы наделенного могучим басом. На следующий день в этом храме состоялась литургия, которую Великие князья отстояли полностью, имея возможность еще раз слушать святое Евангелие и ектинии, которые своим могучим басом провозглашал дьякон.
В два часа Вышенская пустынь была готова к встрече царственных паломников, которым не хотелось торжества официальной встречи. Но настоятель письменно обратился к Нарышкиным с просьбой доложить Их Императорским Высочествам, что он очень хочет встретить их торжественно. Ответ был таков: «Их Высочества не уклоняются от торжественной встречи, ради народа».
Вышенский собор был празднично убран, залит морем света. Настоятель и братия одеты в великолепные бархатные ризы, расшитые золотом. С первым ударом большого монастырского колокола крестный ход двинулся из храма к святым воротам с иконой Богоматери Казанской Вышенской — копией с Чудотворной иконы. Как сообщалось в «Тамбовских епархиальных ведомостях», это было великое церковное и царское торжество. Множество людей выстроилось в два ряда от святых ворот до монастырского леса[521].
Их Высочества в сопровождении князей Нарышкиных на лодке по реке Цне доплыли до необходимого места, вышли на берег и в открытом экипаже под неумолкающий благовест по главной дороге, пролегающей по сосновому лесу, направились в монастырь. Как только экипаж миновал лес, «начался красный звон. Великие князья… по усыпанной песком дорожке, тихо шествовали к царским вратам, а стоявший по обе стороны густыми шпалерами православный люд мгновенно, как один человек пал на колени и поклонился до земли шествующим, — смотря и радуясь на дорогих гостей…»[522].
Сняв головные уборы, Августейшие паломники приложились к святыне и святому кресту, поднесенному им о. Аркадием, который окропил их святой водой. После службы в Казанском соборе паломники еще раз приложились к иконе Божией Матери Казанской Вышенской (копии с чудотворной иконы, которую торжественным крестным ходом обносили по Тамбовской губернии). Архимандрит Аркадий рассказал высоким паломникам о храме, о его престолах, об утвари храмов. Показывая окрестности монастыря, настоятель с гостями пригласил паломников посетить монастырский пчельник. По проложенной среди липового леса и усыпанной песком дорожке они шли и наслаждались глухой уединенностью и ароматом этого уголка природы, блаженной простотой и душевной его близостью. Минут десять посидели путники возле пчельника и на обратном пути вновь посетили келью архимандрита. Повсюду за Августейшими гостями безмолвно, боясь вспугнуть очарование этих незабываемых минут, бесшумно следовали толпы народа. Зайдя в келью настоятеля, Великие князья вкусили свежего сотового меда. Этот липовый мед, уложенный в липовом деревянном ставне, они взяли с собой. Их Высочества увозили с собой сокровище — подаренные им иконы Вышенской Богоматери.
Его Высокопреосвященству епископу Феофану и настоятелю монастыря архимандриту Аркадию они подарили свои фотографические кабинетные портреты.
Так впервые в Вышенской пустыни произошла встреча Великой княгини Елисаветы Феодоровны и св. Феофана, Вышенского затворника, двух людей, которых до канонизации народ почитал как святых.
Колокольный красный звон не умолкал, пока Их Высочества не доехали до усадьбы Нарышкиных.
Завершая этот раздел, необходимо заметить, что главная причина посещения Выши Великими князьями состояла не только в общении с великим пастырем, богословом, миссионером, писателем, художником епископом Феофаном Затворником. Они стремились получить божественный свет от чудотворной иконы Богоматери Казанской Вышенской. Их Высочества, получив копии этой иконы в Выше, направились в Новотомниково (Моршанского уезда), куда в имение графа И.И. Воронцова-Дашкова из Чернева монастыря был доставлен подлинник чудотворной иконы. В это время ее торжественным крестным ходом обносили по Тамбовской губернии (Священный Синод установил такую традицию с 1862 года). Теперь ее специально привезли в имение графа для поклонения Великих князей.
Царственные паломники знали, что эта святыня очень древней греческой живописи. Главная храмовая святыня помещалась по левую сторону царских врат главного иконостаса Казанского Вышенского собора. Поиск духовной значимости иконы был приоткрыт Великим князьям в предании об этой святыне. В 1812 году Мирония Данкова, монахиня одного из московских монастырей, в связи с нашествием Наполеона решила уехать из Москвы в Вознесенский монастырь в Тамбове. В пути извозчик, видя беззащитность монахини, решил убить и ограбить монахиню. Разгадав этот замысел, Мирония горячо помолилась Матери Божией, с иконой которой никогда не расставалась как со святыней и материнским благословением. В ответ на мольбу Мирония услышала голос, исходивший от иконы: «Не бойся! Я твоя Заступница!» Извозчик онемел от ужаса и был поражен слепотой. После глубокого раскаяния он обещал доставить монахиню в монастырь, получив при этом исцеление. Мирония умерла в 1830 году, а икону завещала в Вышенскую пустынь — перед смертью во сне ей явилась Божия Матерь и велела отдать эту икону в Вышенскую пустынь. Всем, кто приезжает в Вышу на поклонение Божией Матери, посылаются от Ее иконы исцеления в болезнях и заступление в бедах[523]. Посетив подлинные святыни жизни, Августейшие паломники на некоторое время сумели уйти от навязчивых ритмов повседневности. Здесь открылось для них новое измерение известных явлений и понятий. Стало еще более ясно, что подлинность деятельности человека проистекает из открытого и честного стояния перед Богом и вынашивается силой духа. Каждому из путников хотелось, завершив паломничество, сохранить в себе божественный свет и даровать его людям.
Истории известно немало безмолвных или почти безмолвных свиданий такого рода, как и встреча епископа Феофана с великокняжеской четой. В целом ряде монастырей Елисавета Феодоровна проводила многочасовые беседы с великими старцами. Несмотря на иной характер встречи Великой княгини с православным подвижником, она оказала неизгладимое влияние на различные стороны жизни Ее Высочества. Это не только обустройство повседневной жизни, как и у епископа Феофана, в двух предельно скромных по виду комнатах; не только характер и особенности молитвенной практики, но даже стиль питания. По свидетельству дочери художника М.В. Нестерова Натальи Михайловны Нестеровой и по признанию самой Елисаветы Феодоровны, она питалась, как правило, яйцами и молоком, лишь утром позволяя себе в непостные дни чашечку какао и булочку.
Непрерывная любимая работа, благодетельствование многим людям не изживали мечты Великой княгини позднее передать свое главное дело надежному человеку и удалиться в глухую обитель. Елисавета Феодоровна с годами все более отчетливо осознавала, что она одна из тех людей, кто все оставил, пришел ко Христу, чтобы сказать Ему: «Тобою для меня мир распят, и я для мира» (Гал. 6., 14).
10.3. Верхневолжское паломничество великокняжеской четы к христианским святыням
Опыт любой периодизации конкретной человеческой жизни страдает неизбежными погрешностями. Это вдвойне справедливо, если речь идет о святом человеке, знаковые переломы в бытии которого остаются загадкой и тайной даже для него самого, что требует соответствующего комментария. С определенностью можно говорить лишь о тех событиях, явлениях и фигурах, которые стали этапными в духовном, эстетическом развитии личности.
Общение Эллы с юных лет с богатым культурным наследием, с широким кругом художественной интеллигенции и многообразным предметным миром современной ей культуры обязывало и наполняло жизнь Эллы глубоким смыслом. В напряженные духовные искания юной дармштадт-ской принцессы, как отмечалось выше, все более органично вписывалась сфера ее особых интересов, связанная с художественной культурой и отраженная в занятиях различными видами искусства. Это и ежедневная игра на музыкальных инструментах, которых в великогерцогском замке, в дворцах Петербурга, Москвы, Ливадии, Ильинского перебывало великое множество. Это яркие образцы иконописа-ния, художественной вышивки святых, тонких акварельных рисунков, которые она выполняла. В кругу приоритетных интересов Великой княгини обнаруживается художественное оформление книг и тонкое декорирование небольших подарочных книжечек Евангелия, поздравительных открыток, плакатов; выжигание по дереву, художественное шитье и вязание, собственноручное изготовление убранств для ее новорожденных крестников. Все бытие Елисаветы Феодоровны — это выстраивание эстетики повседневной жизни, начиная от совершенного стиля одежды до убранства дома живыми цветами.
Однако творческая магистраль ее художественных усилий вполне очевидна — в любых занятиях музыкой, живописью, декоративно-прикладным искусством Елисавета Феодоровна всегда предпочтение отдавала агиологическому древу культуры, христианским основаниям этой деятельности.
Центральной фигурой, стимулировавшей духовный поиск Елисаветы Феодоровны в постижении глубин и значимости христианского искусства, стал Великий князь Сергий, встреча с которым позволила Великой княгине погрузиться в богатейший мир русской христианской культуры, всем сердцем ощутить чарующую неповторимость русского старчества и русских монастырей, увидеть поразительную духовную даровитость народа, который открыл Елисавете Феодоровне ее вторую родину.
Среди многообразных средств, которые формировали сознание Великой княгини, были паломнические путешествия. И не случайно одно из первых совместных таких путешествий великокняжеская чета совершила по монастырям и храмам Верхневолжья. Великая русская река, издревле населенная представителями разных народов, которые исповедали разные верования, тем не менее с давних времен была надежным форпостом христианства в самом сердце Отечества.
С глубоким волнением ожидали Их Высочества этого путешествия, прекрасно понимая, что Волга и ее святыни есть грандиозный замысел Бога о русском человеке, о русской национальной идее.
Весть о том, что Их Императорские Высочества посетят Ярославль проездом в Углич на торжество освящения отреставрированного дворца царевича Димитрия, задолго до их прибытия с радостью передавалась из уст в уста[524].
Елисавете Феодоровне давно хотелось посетить один из самых красивых городов Древней Руси, где уже в XVII веке сложились поразительные архитектурные ансамбли, украшенные богатыми фресковыми росписями и уникальными керамическими деталями.
2 июня 1892 года Их Императорские Высочества прибыли в Ярославль, где были встречены губернатором А.Я. Фриде и другими официальными лицами. В открытом экипаже Их Высочества направились в Спасо-Преображен-ский монастырь, сопровождаемые на всем пути следования громкими криками «ура!». Августейшая чета любовалась необыкновенной панорамой города, украшенной плотной группой церквей, которые в лучах утреннего солнца блистали десятками позолоченных глав. Народ, особенно старики и старухи, радостно плача, осеняя себя крестным знамением, благословлял царственных паломников и благодарил Бога за то, что довелось встретить дорогих гостей.
По совершении краткого богослужения августейшие путешественники проследовали в храм и приложились к глубоко чтимым ими мощам святых благоверных князей Федора и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев, мощи которых в 1463 году были обретены нетленными и прославлены чудесами. Не ограничившись знакомством со святынями и шедеврами Спасо-Преобра-женского храма, августейшие паломники направились по галерее в храм чудотворной иконы Печерской Божией Матери, прославившейся избавлением в 1823 году тяжко физически и душевно больной женщины от недугов. С того дня от этой иконы начались массовые исцеления.
После того как Их Высочества приложились к главной святыне храма, Преосвященный кратко изложил вопрос о восстановлении этого упраздненного уникального храма и сообщил о первом чуде, бывшем от Печерской иконы 20 мая 1823 г. Особое внимание августейшая чета обратила на иконостас, написанный на стене, а с галереи, по которой они следовали в архиерейские кельи, открылся поразивший их вид двух древних храмов — Иоанна Предтечи и Иоанна Златоуста в Коровниках. После паломнического путешествия по монастырю владыка преподнес августейшей чете ценные подарки, в том числе книгу «Житие и чудеса св. благоверных князей Федора, Давида и Константина», а начальница женского епархиального училища с двумя воспитанницами преподнесла Великой княгине, зная о ее творческих пристрастиях, роскошное саше и платок, выполненный ученицами.
Из Спасского монастыря Их Императорские Высочества отправились на Волгу, чтобы продолжить свое благословенное путешествие и войти на подготовленный для них пароход «Салтыков-Щедрин», который в сопровождении трех судов («Ярославль», «Легкий» и «Александр») отправился в путь.
Во всех прибрежных селах, как только флотилия приближалась, раздавался звон колоколов. Деревни, рассыпанные по обеим сторонам Волги, были празднично украшены. Крестьяне приветствовали Великого князя и его супругу, напутствуя их крестным знамением и благими пожеланиями доброго пути.
Вскоре за Полушкиной рощей открылся прекрасный вид на военные лагеря. Поравнявшись с ними, пароходы замедлили движение. На первом пароходе оркестр заиграл Преображенский марш, звуки которого слились с могучим «ура!» всех полков.
Во втором часу дня Их Императорские Высочества прибыли в город Романово-Борисоглебск, где проследовали в Воскресенский собор — одни из лучших памятников церковной архитектуры XVII в., в двух этажах которого находилось семь престолов. После совершения молебна перед чудотворной иконой Спасителя, высоких путников познакомили с удивительной историей иконы. Об этой иконе существует предание: когда несли ее из Ростова (возвращали по настоятельной просьбе жителей) и достигли ручья, отделяющего город от пригородной слободы, то носильщики остановились и обмывали икону в этом ручье; с этого момента явилась от иконы чудотворная сила[525].
Внимательно осмотрев памятники старины в соборе, колокола XVI, XVII вв., древние иконы, августейшая чета вернулась на пароход. Необыкновенно яркую, запоминающуюся встречу Их Высочеств устроил город Рыбинск. В значительном отдалении от города выстроился сплошной ряд судов, целый караван баржей, барок, лодок, украшенных флагами, которые встречали пароход «Салтыков-Щедрин», почтительно уступая ему дорогу. С высокой соборной колокольни разливался по волжским просторам праздничный колокольный звон. Служащие речной полиции Рыбинска в честь высоких гостей показали интересный опыт тушения пожара на реке. При ярком солнечном свете водяные столбы производили незабываемое впечатление: перед глазами зрителей то возникал сверкающий огненный фонтан, то играла роскошная радуга.
По мере приближения «Салтыкова-Щедрина» к городу толпы народа устремились к пристани и собору. Город поразил царственных паломников красотой украшенных жилищ. На левом берегу Волги невольно обращал на себя внимание великолепно декорированный дом предводителя дворянства СВ. Михайлова, который преподнес Великой княгине огромную корзину живых цветов. Основание корзины было убрано искусственными цветами — изделиями воспитанников местного приюта имени Александра II[526].
Их Высочества проследовали до соборного храма по лестнице, устланной красным сукном. Величественный собор, который вмещал до трех с половиной тысяч человек, производил сильное впечатление как архитектурой, так и внутренним богатством и благолепием. Высокие гости увидели в Преображенском соборе множество древних икон XV века. Из других церковных ценностей царские путешественники обратили особое внимание на два креста. Один был установлен в часовне, при которой под сенью этого креста погребали умерших «безвестной смертью неведомых пришельцев»[527]. Другой создан в 1693 году и украшен частицей животворящего древа Господня, святыми мощами и иными святынями.
По дороге от Рыбинска к Мологе появились новые и оригинальные убранства берегов в виде платков и скатертей с вензелями Государя Императора и Императрицы со словами «Боже, Царя храни», а также с вензелями августейших паломников.
Через полтора часа после отъезда из Рыбинска показался г. Молога, отличавшийся необыкновенной красотой в силу расположения между реками Волгой и Мологой. На откосе, образуемом этими реками, были построены развернутым фронтом учащиеся городского училища с различными фехтовальными принадлежностями, которые искусно отдавали честь великокняжеской чете. Поприветствовав встречающих, высокие гости отправились дальше.
Внимание путешественников привлекло большое село Коприно, имеющее несколько церквей и расположенное на очень крутом, высоком берегу в обрамлении леса. От Ко-прина до Мышкина жители прибрежных сел во тьме разводили большие костры на берегу Волги, выражая таким образом свою радость в связи с прибытием Их Высочеств.
Небольшой уютный городок Мышкин был избран для отдыха.
На следующие день к 10 часам утра великокняжеский пароход медленно приблизился к главной цели паломнической поездки — к Угличу, об очаровании которого в свое время говорили Екатерина II, Александр II, бывший в пору посещения этого города еще цесаревичем, поэт В. А. Жуковский, зарисовавший в свой альбом несколько видов Углича. Но 3 июня, в день своего торжества, город выглядел более нарядно, чем обычно. Весь народ тянулся к главному месту торжества — к дворцу царевича Димитрия и церкви «На крови», в нижнем этаже которой непрерывно служили молебны вплоть до звона к всенощной.
Пристань в Угличе для причала парохода Их Высочеств была специально перенесена и поставлена непосредственно напротив дворца царевича. Прямо от пристани поднималась лестница, украшенная венками, гирляндами, березками, елками, разноцветными флагами. Вся лестница до дворца была устлана красным сукном. Великий князь еще с парохода приветствовал народ. Углич наполнился звоном колоколов 26 церквей.
Кроме руководителей города великокняжескую чету встречали шесть предводителей дворянства: ярославский — князь В.Н. Урусов, рыбинский — СВ. Михайлов, пошехонский — Черносвитов, мологский — П.И. Азанчевский, даниловский — М.М. Борисов и мышкинский — А.А. Тютчев, а также члены реставрационной комиссии Н.В. Султанов, И.А. Шляков, А.А. Титов и др. Здесь присутствовало много гостей из других губерний: князь Куракин, профессор С.-Петербургского университета А.Ф. Селиванов, Московского — М.И. Соколов, представитель Ростовского музея церковных древностей Е.В. Барсов и др.[528].
На одной из площадок лестницы, ведущей ко дворцу, Их Высочеств приветствовали гимном воспитанники Угличского городского училища. А выше стояли девочки — воспитанницы угличского Николаевского приюта и усыпали путь царственных паломников ландышами. После совершения Божественной литургии по окончании обедни двинулись ко дворцу царевича и вокруг него совершили крестный ход, как это делали в течение веков благочестивые Угличские князья. Во дворце, куда прибыл крестный ход, был совершен благодарственный молебен и торжественное освящение отреставрированного здания. Высокопреосвященнейший Ионафан произнес следующую речь:
«Благоверный Государь и Великий Князь!
В настоящие минуты мы находимся в обновленном дворце св. Страстотерпца Царевича Димитрия, Угличского Чудотворца, и собрались сюда для освящения его молитво-словиями Св. Церкви и принесения благодарений Господу Богу за совершение сего обновления…
…Если бы теперь восстали из гробов первый собиратель земли Русской из Дома Рюрикова и первый избранник русского народа — царь Михаил Федорович — они бы не узнали своей Руси деревянной, пустынной, бедной и раздираемой врагами, в настоящей — громадной по объему, сильной по числу и духу народонаселения, славной по благоустройству и просвещению, грозной по вооружению, благочестивой по обилию и благолепию святых храмов и богослужений и сравнительно богатой по обстановке внешней, — Всероссийской Империи.
Кому же и чему обязана таким могуществом и величием Святая Русь? — Без сомнения, православию ее народа, самодержавию ее Государей и молитвам ее заступников — Угодников Божиих, одним из которых явил нам Господь невинно пострадавшего здесь Отрока»[529].
Особую радость встреча с августейшей четой произвела на учащихся Углича и учителей народа. Они были очарованы теплым, ласковым отношением к ним, постоянно делились радостными впечатлениями друг с другом, восхищались глубиной внимания Их Высочеств к церковным древностям и архитектуре.
В пять часов вечера Их Императорские Высочества отбыли из Углича в Ярославль, посетив по дороге знаменитый Толгский монастырь. По обеим сторонам от пристани до монастырских ворот выстроился живой коридор из представителей всех сословий; все крестьяне и крестьянки были одеты в национальные костюмы. Объяснения относительно церковных святынь и редкостей давал сам Высокопреосвященнейший Ионафан. Глубокую радость испытали Их Высочества во время прогулки по саду, составлявшему украшение Толгского монастыря, что было известно далеко за его пределами. Величественные кедры, роскошные цветы, свежий ветер, долетающий сюда от реки, мирная, спокойная обстановка монастыря создавали благодатное настроение.
Возвратившись в Ярославль, Их Высочества встретились в доме губернатора с предводителями дворянства поволжских городов, высшими чинами военной и гражданской администрации, представителями земств, ярославского купечества.
От имени ярославцев был преподнесен роскошный альбом видов Ярославля, сделанный известным ярославским фотографом И.Ф. Барщевским. Редактор неофициальной части «Ярославских губернских ведомостей» А.Н. Ушаков подарил свои труды — описание святынь и древностей Углича. В одну из книг включены фотографии, выполненные придворным фотографом г. Тилле, который во время путешествия Их Императорских Высочеств по Ярославской губернии сфотографировал много исторических достопримечательностей и встреч Их Высочеств в городах Ярославле, Романово-Борисоглебске, Рыбинске и Угличе[530].
Перед завтраком супруга губернатора преподнесла Великой княгине вышитое полотенце — образец работы мастериц под руководством госпожи Ханыковой в устроенной ею мастерской (в своем имении) для обучении крестьянок вышивальному кустарному промыслу.
Вторая половина дня была посвящена осмотру древнейших ярославских церквей, которым руководил любитель старины, действительный член Императорского археологического общества И.А. Вахромеев.
После обеда Их Императорские Высочества отправились за город, где были расположены лагерем войска. К этому времени Ярославль иллюминировали. Заволжская часть города, вдоль всего берега Волги, была буквально залита разноцветными огнями. На Волге напротив дома губернатора, на некотором расстоянии от противоположного берега поставили, укрепив якорями, роскошный иллюминированный паром, где были изображены инициалы Их Высочеств в огненных вензелях. С парома пускали ракеты, вокруг плавала масса иллюминированных лодок, на которых люди пели русские песни.
За чертой города при повороте с большой дороги к лагерю Их Высочества были встречены кавалькадой конных офицеров во главе с начальником дивизии генерал-лейтенантом Риттих и в сопровождении их проехали по всей линии лагеря.
Доброжелательно отвечая на приветствия, Их Высочества проследовали в лагерную церковь, где были встречены военным духовенством, высшими чинами и офицерами. После завершения молебна и многолетия Великий князь и Великая княгиня поблагодарили хор Нежинского полка за церковное пение и направились в офицерское собрание, где вспоминали Русско-турецкую войну, в которой принимал участие и был награжден Великий князь, а также многие из присутствовавших офицеров.
Последним местом посещения августейшей четы в Ярославле была военная школа. Приняв рапорт директора школы полковника Добошинского, Их Высочества последовали в зал, а затем в домовую церковь, где представители духовенства отслужили молебен. Народ с любовью провожал августейшую чету на поезд в Ростов Великий. На следующий день благовест «Сысоя» соборной колокольни Ростова известил ростовцев о выбытии высоких путешественников из Ярославля.
Ровно в 12 часов в Ростов прибыл давно ожидаемый поезд.
После искренних приветствий, традиционного хлеба-соли, подношения икон и цветов Их Высочества проследовали в Успенский собор, где приложились к чудотворной Владимирской иконе Божией Матери и поклонились мощам свв. чудотворцев Леонтия, Исайи, Игнатия и Феодора Ростовских.
Достопримечательности и святыни этого древнего собора, выстроенного подобно владимирскому собору из белого камня и по богатству древностями не уступающего иным знаменитым храмам, привлекли самое большое внимание августейшей четы. В пещерном Леонтьевском храме их поразила «Тайная вечеря» в рельефном изображении и древнейшие иконы в нижнем ярусе иконостаса, относящиеся к XIV-XVI столетиям.
Образ святителя Ростовского епископа Леонтия был особенно близок сердцу Великой княгини Елизаветы Федоровны. Дело не только в том, что он был неутомимым проповедником веры Христовой на Руси, несмотря на ожесточенное сопротивление закоренелых идолопоклонников. Видя их упорство в неприятии его проповеди, св. Леонтий решил обратиться с добрым увещевательным словом к детям. Он собрал их в церкви и, поучая основам веры, обращал в христианство. Озлобленные язычники при каждой встрече с великим проповедником наносили ему побои. Кроткий пастырь терпел и продолжал учить детей. Видя такое неповиновение их злой воле, язычники решили убить пастыря и однажды, когда он проповедовал детям, окружили церковь плотным кольцом. Св. Леонтий в ответ на это облачился в святительские ризы и в сопровождении духовенства, подняв крест, вышел навстречу разбушевавшейся толпе. Язычники были сражены этим чудным явлением и при виде святителя как мертвые пали на землю. В этот раз они смирились. Но святитель Леонтий, обучая детей основам христианства, умер как мученик, потерпев суровые истязания неверных. В 1164 году его святые мощи были обретены нетленными[531].
По выходе из собора Их Высочества оставались в его ограде, в специально устроенном для них павильоне, где слушали прославленные колокольные звоны — Ионинский, Акимовский и Георгиевский. Среди колоколов Ростовской соборной колокольни их особый интерес вызвали «Сы-сой» в 2000 пудов, полиелейный в 1000 пудов и третий — в 500 пудов.
Из собора Их Высочества отправились в Авраамиев монастырь, одну из древнейших русских обителей, основанную на месте языческого капища Белеса. Здесь их встретил настоятель монастыря архимандрит Ювеналий с крестом и святой водой. После молебна августейшей чете показали древнейшие иконы корсунского письма. Архимандрит Ювеналий подарил Великому князю копию того креста из жезла, который был дан, по преданию, прп. Авраамию св. Иоанном Богословом для сокрушения идола Белеса, но который, будучи взят Иоанном Грозным в поход под Казань, уже более не возвращался в монастырь. В подарок Великой княгине была передана икона с изображением встречи св. Авраамия и св. Иоанна Богослова. Затем высоким поклонникам святынь показали древние митры, куколь и шапочку митрополита Ионы Сысоевича, образ св. Авраамия, шитый золотом и шелками в XVII веке[532].
Пройдя через древнюю крестовую церковь ростовских митрополитов «Спасская на сенях» в «Отдаточную палату», а затем в «Белую палату», построенную известным митрополитом Ионой Сысоевичем для пришествия Государева, Их Высочества слушали игру учеников духовного училища на камертонах под руководством их педагога о. Аристарха Израилева. Ученики пели также псалмы и духовные канты, сочиненные и положенные на ноты святителем Димитрием, митрополитом Ростовским. Как изобретатель камертонной игры, так и ее исполнители и ученики удостоились самой лестной похвалы со стороны царственных паломников. Их Высочествам было отрадно думать, что св. Димитрий, основавший первое в Ростове Великом духовное училище, находил время заниматься с учениками различными науками и духовным пением.
Пение и камертонная игра произвели столь приятное впечатление, что оно продолжилось и во время завтрака Их Высочеств.
По окончании завтрака августейшая чета осматривала кремлевские церкви, соединенные между собой крытыми переходами. И прежде всего митрополичью домовую церковь Григория Богослова, откуда вышел великий проповедник слова Божия Стефан Великопермский. Вторая церковь, где они побывали, — Иоанно-Богословская, третья — Одиги-триевская и четвертая — Воскресенская. Его Высочество по обозрении этих великолепных храмов сказал: «Слава Богу, что сохранены такие дорогие памятники!»[533].
Возвратившись в Отдаточную и Белую палаты, Их Высочества были восхищены предложенными там их вниманию церковными памятниками: богатейшей коллекцией царских врат, икон, богослужебных сосудов, шитых плащаниц и покровов, венчальных венцов, множеством разных запрестольных крестов высокохудожественной работы, большим количеством церковно-славянских и русских рукописей с лицевыми изображениями, множеством жалованных грамот XVI-XVII вв.; здесь же их взору были представлены автографы св. Димитрия, собрание его портретов, писанных как при жизни, так и по открытии его нетленных мощей.
Из Белой платы Их Высочества перешли в Княжеские терема, которые служили хранилищем музея. После осмотра музея Их Высочества внесли свои имена в книгу посетителей и согласились принять музей под свое августейшее покровительство[534].
В летнем городском саду у пристани высоких гостей ожидал роскошно убранный пароход «Новый» крестьянина Макарычева и оркестр военной музыки. Отсюда под звуки музыки и восторженные приветствия народа августейшие путешественники направились по озеру Неро к Спасо-Яков-левскому монастырю, где в соборном Зачатьевском храме по особому желанию Их Высочеств был отслужен молебен перед гробницей святителя Димитрия Ростовского.
Вскоре августейшая чета простилась с приветливым старинным русским городом и отбыла в Москву.
Паломническое путешествие 1892 г. было совершено августейшей четой в дни глубокой скорби Великой княгини, поэтому редкие по красоте волжские пейзажи, приветливые люди, православные древности несказанно утешали опечаленную душу Елисаветы Феодоровны. Утопающие в зелени города и села Поволжья, плоские равнинные ландшафты, сменявшиеся зелеными холмами, охапки цветов, бросаемых под ноги царственным паломникам, множество богослужений — все это сообщало умиротворение душе.
Поволжье предстало перед великокняжеской четой, с одной стороны, как гигантский музей-заповедник, с другой — как благословленная Богом православная общность людей. Погружаясь в повседневную жизнь этой общности, невозможно было даже представить тогда, что через два десятилетия это благодатное бытие будет взорвано.
В ходе паломничества перед взором Их Высочеств прошел целый сонм великих русских святых. Икона каждого святого, будучи житием в красках, наполняла душу царственных паломников ощущением богатства их подвигов. Жития святых, будучи любимым домашним чтением семьи Великого князя Сергия, в дни этого паломничества обрели для них полноту и духовную близость.
Иконные изображения, архитектурные шедевры, высокое качество древней белокаменной резьбы, старинные рукописи, впитавшие в себя аромат веков и стилей, умелая постановка соборов на самых высоких точках волжских холмов, множество мануфактур, торговых рядов позволяли не только понять великое духовное, культурное и экономическое значение Волги, но и замирать, останавливаться перед красотой меняющих друг друга ландшафтов.
Они увидели, сколь велико значение мощей великих русских угодников, других глубоко чтимых святынь и эстетически совершенных произведений церковного искусства в формировании культурообразующего слоя русского общества.
Время стерло с лица земли многое из того, что восхитило тогда царственных паломников, но сохранило в исторических описаниях, эпистолярном наследии одно из интереснейших паломнических путешествий великокняжеской четы.
Отношение Великой княгини Елисаветы Феодоровны к церковным художественным ценностям, к их историческим судьбам занимает свое уникальное место в ее бытии, в философии ее духовной жизни. Вера в великую миссию христианского искусства пронизывала всю многогранную деятельность Великой княгини. Она отчетливо осознавала, что шедевры христианского искусства могут сформировать огромный, богатый мир человека, поскольку главное поле битвы между добром и злом проходит через сердца людей. Но превратно понятые ценности христианства порождают бесплодие художника, живущего вне христианской любви.
Все силы души Великая княгиня отдавала созиданию христианской культурной среды, активно противостоящей злу. И здесь особые надежды она возлагала на ту часть художественной интеллигенции, которая была готова к бескорыстному дарению, бескорыстному духовному инвестированию. Постоянное жертвование художника на доброе дело вызывало глубокое почтение и благодарность Великой княгини. Достаточно вспомнить объединение Елисаветой Феодоровной добрых порывов художественной интеллигенции и мастеров из народа в пору Русско-японской и Первой мировой — войн; множество благотворительных выставок, ярмарок, концертов, спектаклей, значительных акций помощи художникам, пострадавшим в дни наводнений, пожаров, голода в годы неурожаев.
Вполне понятно поэтому ее чуткое внимание не только к духовной, но и эстетической стороне христианских сокровищ, которые она открывала для себя в пору многочисленных паломнических путешествий по монастырям России; в дни богослужений в Успенском соборе, особенно тогда, когда там пел знаменитый Синодальный хор; ее родственное отношение к судьбам художников.
Размышляя над этими и другими вопросами, мы продвинемся в понимании ностальгии Великой княгини по утрачиваемым в мире ценностям искусства, ощутим ее отношение к предметному миру культуры, проникнутому дыханием подлинной старины.
Изучение массива дореволюционных источников все более убеждает в том, что и личностный творческий дар Великой княгини в этой области лишь отчасти открыт миру, как и ее бескорыстный вклад в широкое поле деятельности по приобщению людей к духовным богатствам христианского искусства.
10.4. Орел. Паломничество в город воинского служения Великой княгини
В течение целого ряда лет Великая княгиня была непосредственно связана с Орлом, поскольку она являлась шефом 51-го драгунского Черниговского полка, расквартированного в этом городе. Она оказывала полку постоянное внимание, ходатайствовала о его нуждах перед двором, поддерживала регулярную связь с воинами полка, где ежегодно в конных состязаниях победителю вручался приз в ее честь[535].
Елисавета Феодоровна неоднократно навещала свой полк. Ей особо запомнилось посещение полка в 1899 году, когда она прибыла в Орел вместе с мужем. Она ознакомилась с ходом строительства полковой церкви в Покровской слободе. Затем состоялся смотр войск, а также встреча с офицерами полка за завтраком. Настоятелем Покровского храма этого полка был назначен в 1897 году о. Митрофан Сребрянский, который с первых дней службы проявил себя как ревностный пастырь, прекрасный проповедник. Он создал при храме хорошую библиотеку и школу. В 1900 году он был награжден золотым наперсным крестом с драгоценными украшениями. В 1902 году в казарме Черниговского полка был открыт читальный зал для воинов полка[536].
В 1903 году в Сарове, в дни торжественного прославления прп. Серафима Саровского, о. Митрофан, присутствовавший здесь, был представлен Великой княгине Елисавете Феодоровне.
Летом 1904 года Великая княгиня из Орла провожала свой полк на Русско-японскую войну, куда вместе с полком отправился священник о. Митрофан Сребрянский. В это трудное время он не мыслил своей жизни отдельно от полка.
О. Митрофан использовал каждую возможность, чтобы установить походную церковь, подаренную Елисаветой Феодоровной, служить, исполнять требы, напутствовать раненых, совершать по-христиански погребение убитых.
15 марта 1905 года о. Митрофан был назначен благочинным 61-й пехотной дивизии и в этой должности прослужил до окончания войны. 2 июня 1906 года он вместе с полком вернулся в Орел для встречи с Черниговским полком, возвратившимся с Дальнего Востока. Здесь Елисавета Феодоровна вновь встретилась с о. Митрофаном Сребрянским.
В 1908 году Великая княгиня трудилась над созданием проекта Марфо-Мариинской обители. Свои предложения в этой связи подали несколько человек. Проект о. Митрофана настолько привлек внимание Елисаветы Феодоровны, что она пригласила о. Митрофана быть духовником обители[537]. С огромным трудом принимал о. Митрофан решение о переезде в Москву, слишком многое связывало его с Черниговским полком и любимым Орлом. Известны искушения и болезни, которые он претерпел, пытаясь избежать переезда в Москву.
Когда вторично заболела и начала отекать правая рука, он приложил ее к привезенной из Москвы Иверской иконе Богоматери. Стоя перед образом, он пообещал, что примет приглашение Великой княгини. Вскоре болезнь прошла. Желая получить благословение старцев, он отправился в Зосимову пустынь, чтобы побеседовать со старцем Алексием и другими старцами. Тогда его волновал вопрос, не берет ли он на себя дело выше сил. Старцы развеяли его сомнение и благословили[538]. Таково было духовное начало устроения Марфо-Мариинской обители милосердия. Великая княгиня писала в этой связи Государю: «Господь благословил это наше дело через священника, к которому в Орел издалека люди приезжали за утешением и поддержкой, — и вот оно мало-помалу начинается»[539]. Одним из последних был приезд августейшего шефа Черниговского полка в Орел 26 августа 1913 года в сопровождении B.C. Гордеевой и гофмейстера двора Корнилова. Поскольку Великая княгиня не хотела пышной, торжественной встречи, ее встречали только начальник губернии С.С. Андреевский и командир гусарского (с 1909 года) полка Н.П. Серебренников. Но орловцы узнали о ее приезде, и на всем пути следования во Введенский женский монастырь Великую княгиню радостно приветствовали люди. У входа в храм Ее Высочество встречали представители орловского духовенства, а на паперти игумения монастыря Рафаила с монахинями. При входе в храм Великую княгиню приветствовал Преосвященный владыка Григорий, который выразил радость в связи с ее приездом и пожелал, по молитвам священномученика Кукши, осуществления ее великой благотворительной миссии. Священномученик Кукша привлекал особое внимание Елисаветы Феодоровны не только потому, что он был великим чудотворцем, испросившим у Бога множество благодатных даров людям, связанных с влиянием на грозные состояния природы (низведение дождя, осушение озера) и многое другое. Великую княгиню покоряло его особое отношение к славянам. В частности, он был христианским просветителем племени вятичей, обитавшего на Оке. Св. Кукша был дорог Елисавете Феодоровне как человек, положивший огромные силы на духовное спасение людей и казненный по ложному доносу язычников. Завершение жизни этого печерского затворника XIII века, его бесстрашие и мученический конец находили глубочайший отклик в душе Великой княгини, пережившей подобную кончину своего дорогого мужа.
Пройдя в главный храм монастыря, Великая княгиня благоговейно трижды поклонилась кресту, внимательно выслушала приветственное слово игуменьи и приняла от нее Балыкинскую икону Божией Матери, вышитую монахинями, а от учениц Сергиевской школы — икону «Моление о чаше». В покоях м. Рафаилы Ее Высочеству поднесли хлеб-соль и букет белых роз, после чего она отправилась в кафедральный собор на вечернюю службу.
На следующий день Елисавета Феодоровна, встав в 4 утра, к 6 утра пришла в монастырскую церковь к ранней литургии и принесла с собой воздухи, которые просила использовать на этой литургии. После службы и молебна священномуче-нику Кукше, Великая княгиня направилась в кафедральный собор, где собралось около 15 тыс. орловцев. Службу совершали четыре епископа и множество священников[540].
Затем Елисавета Феодоровна возвратилась во Введенский женский монастырь, который в течение многих десятилетий посещали императрицы Елисавета (1744), Екатерина (1787), Александра Федоровна (1873). Здесь неоднократно бывал Сергей Нилус, святой праведный Иоанн Кронштадтский, имевший переписку с игуменией Антони-ей (Соколовой), возглавлявшей обитель более 30 лет, с 1874 по 1907 год[541]. Великая княгиня, не раз приезжая в Орел, знала этот монастырь, почитала его славную и трудную историю, помнила, что расцвет монастыря связан с именем подвижницы схиигумении Серафимы (Соковниной). В 1821 году она была переведена настоятельницей сюда из Севского Троицкого монастыря, где прожила в полузатворе более 20 лет. Усвоив под руководством старицы строгий аскетический образ жизни, она не изменила его в течение 24-летнего управления обителью. В пору ее игуменства число насельниц значительно возросло, так как их привлекала возможность духовного совершенствования под руководством старицы-игумений, неизменно повторяющей: «Монастыри обогащаются не деньгами, а благочестием. Живите благочестиво, и монастырь никогда не оскудеет»[542].
После пожара 1843 года, в котором погибли плоды труда старицы, монастырь постепенно восстановил былое могущество. В годы, когда Великая княгиня посещала эту обитель, в монастырский комплекс входило пять храмов, игуменский корпус, трапезная, деревянные кельи монахинь, больница, странноприимный дом, церковно-приходская школа. Монастырю принадлежали большие земельные угодья, пасека, мельница, рыбные ловли, водонапорная башня. Число насельниц достигало 700 человек. Обитель славилась своими золотошвейными мастерскими. Официальное закрытие обители произошло в 1923 году[543].
Главная святыня, перед которой столько раз молилась Великая княгиня Елисавета Феодоровна, список с Балы-кинской иконы Богоматери, была передана в дар обители в 1712 году святителем Иоанном (Максимовичем), впоследствии митрополитом Тобольским. Во все времена известны многочисленные случаи благодатной помощи по молитвам перед этим образом, который в трудные годы гонений на православие был сохранен и ныне возвращен в возрождающийся монастырь[544], где ныне настоятельница — игумения Олимпиада (Рожновская), а духовник — насельник Свято-Введенской Оптиной пустыни схиигумен Илий (Ноздрин)[545].
В свое время Балыкинская икона принадлежала пану Дульскому из Стародубского полка. В дни войны со шведами, когда враги подступили к г. Стародубу, икона начала слезоточить. Поняв такое явление как знамение, пан Дульский дал обет пожертвовать икону в какой-либо строящийся храм. Узнав о том, что в бедном селе Балыкине Черниговской губернии возводят храм, он обещал передать икону туда, но медлил с выполнением обета. Дважды во сне являлась пану Богоматерь, строго повелевая передать икону в этот храм, что и произошло в 1711 году. По России начали расходиться списки чудотворной иконы. Один из них, как уже говорилось, был передан в Орловский Введенский женский монастырь, где от иконы стали постоянно происходить исцеления и другие чудеса[546]
27 августа 1913 года Великая княгиня перед отъездом на вокзал посетила церковь своего Черниговского полка. После молебна Ее Высочество направилась в церковноприходскую школу при гусарском полке, которую создавал и возглавлял о. Митрофан Сребрянский, и где она неоднократно бывала ранее. Дети, пропев духовные песнопения, преподнесли ей цветы с лентами полка.
На всем пути следования к вокзалу ровными рядами стояли учащиеся орловских церковно-приходских школ, усыпая дорогу Великой княгини живыми цветами. На перроне Елисавету Феодоровну провожали 300 учениц Орловского епархиального училища, Преосвященный Григорий, начальник губернии и множество орловцев[547].
Как видим, паломничество Великой княгини в Орел всегда было особым — здесь, кроме великих святынь, квартировал знаменитый Черниговский полк, ее полк. В Орловской губернии располагалось имение Великого князя Сергия, где бывала Великая княгиня. Здесь долгие годы жил о. Митрофан Сребрянский, который внес огромный вклад в создание и развитие Марфо-Мариинской обители милосердия. Раннее знакомство с Черниговским полком, вхождение в его быт, обычаи, будни и праздники во многом определило отношение Елисаветы Феодоровны к русской армии. В этом уютном, тихом и благочестивом городе было положено начало особого, воинского служения Великой княгини.
Елисавета Феодоровна хорошо понимала, что всякий русский город собирался возле его главной святыни. Одним из средоточий Орла была Балыкинская икона Божией Матери. Припадая к святой иконе как величайшему сокровищу города, Великая княгиня возносила молитвы о России. И о себе, о своем целожизненном пробивании к Дому Истинному.
10.5. Великая княгиня в Уфимской епархии
В 1910 году Великая княгиня вошла в духовный мир Уфимской епархии ради реального противостояния тем, кто препятствовал духовному диалогу с черемисами-язычниками, которые, веря в могущество великого святого Николая Угодника, стремились перейти из язычества в православие.
Великая княгиня давно слышала о чудотворной иконе св. Николы, после явления которой в XVI веке под ее влиянием стало совершаться множество чудес. Не случайно на месте явления был создан монастырь, куда, наряду с православными, притекало множество язычников. Елисавета Феодоровна спешила в монастырь именно в июле 1910 года, чтобы успеть к освящению в новом храме, посвященном св. Сергию Радонежскому, предела, который освящался в память ее дорогого незабвенного мужа.
Авторы из Свято-Тихоновского института П.В. Волошун и А.Б. Ефимов в своей статье отмечают, что в это время в селе Николо-Березовка случился пожар, который уничтожил десятки домов. Великая княгиня, узнав об этом, сказала: «Да мне и нужно быть там, где несчастье, где страданье народное». Она срочно телеграфировала Государю.
Погорельцам была оказана немедленная финансовая, медицинская, материальная помощь[548].
В поездке в Николо-Березовку Елисавету Феодоровну сопровождала казначея Марфо-Мариинской обители B.C. Гордеева и другие лица. Во время церковных служб, которые Великая княгиня, как всегда, посещала постоянно, ее поразил тот факт, что, наряду с основным монастырским хором, пели инородческие хоры: черемисский, татарский и чувашский. «Пение церковных песнопений на инородческих языках очень заинтересовало меня»[549], — говорила Елисавета Феодоровна. Ее несказанно тронуло, что в крестном ходе правящий архиерей Уфимской епархии благословил нести чудотворную икону св. Николая именно Великую княгиню.
Все интересовало Елисавету Феодоровну в ходе этого паломничества — быт, нравы, религиозные верования народа, уровень его просвещения. Встречаясь с некрещеными черемисами, Великая княгиня была всегда приветлива, внимательна, с благодарностью принимала хлеб-соль из рук языческих жрецов, которые признавались ей, что давно ожидали этой встречи[550].
Уфимское паломничество Елисаветы Феодоровны стало заметной страницей в жизни епархии. Надежным свидетельством этого события явилось издание роскошного альбома, посвященного Государю Николаю Александровичу. Массивный, с любовью выполненный альбом этот представляет собой уникальное, раритетное издание. На фоне темных монашеских одеяний особенно светло смотрятся белые наряды Великой княгини и ее спутницы; заботливо, по-домашнему убранные для них кельи; привлекают большие фотографии, где Великая княгиня и ее спутница запечатлены с детьми коренных национальностей; привлекает внимание чаепитие, организованное для гостей в саду.
В канцелярии епископа Дмитровского, викария Московской епархии, содержится документ о благодарности этому епископу за помощь в принятии Великой княгиней Елисаветой Феодоровной Православной Миссии в Уфимской епархии под свое покровительство.
Здесь прежде всего сообщается о том, что 26 августа 1910 года в Уфимской епархиальной комиссии Православного Миссионерского общества слушали сообщение обер-прокурора Святейшего Синода от 27 июля 1910 г. за № 6944 на имя Преосвященнейшего Нафанаила, епископа Уфимского и Мензелинского, где говорилось о том, что Государь Император после обращения к нему Преосвященного Дмитровского епископа Трифона согласился на принятие Православной Миссии в Уфимской епархии под августейшее покровительство Великой княгини Елисаветы Феодоровны.
По итогам слушания постановили:
- 29 августа совершить в Кафедральном соборе торжественное богослужение и благодарственный молебен с участием всего городского духовенства и администрации с соответствующим сообщением об этом торжестве в епархиальных ведомостях и в газете «Уфимский край».
- Выразить огромную благодарность Государю Императору за его поручение о принятии под августейшее покровительство Великой княгини Уфимской православной Миссии и поднести Государю икону — копию с чудотворного образа в селе Николо-Березовка.
- Такую же копию иконы подарить Елисавете Феодоровне.
- Православное Миссионерское Общество уведомить о состоявшемся постановлении.
- Ходатайствовать перед Святейшим Синодом о разрешении в церквах Уфимской епархии возглашать здравие Великой княгине Елисавете Феодоровне после Государя и наследника.
Очевидно, что и Государь Император, и Великая княгиня Елисавета Феодоровна в своем отношении к судьбе Уфимской Православной Миссии исходили из глубокого размышления о поучительных уроках истории и современной им ситуации, которая выдвигала на первый план ряд проблем.
Первая из них состояла в необходимости осмысления этих уроков в условиях политического и поликонфессионального Уфимского общества. Прибегая к авторитету имени св. Николая Угодника, опираясь на деятельность миссионерского монастыря, можно было избежать нежелательных межконфессиональных столкновений.
Вторая, тесно связанная с первой, заключена в необходимости преодоления национальной замкнутости культурных процессов, в возрастании роли добрых культурных традиций в духовной жизни людей.
Третья, в значительной мере обуславливающая успешность решения многих проблем, сопряжена с расширением спектра более зрелого критического мышления людей, являющегося более высокой ступенью развития по сравнению с мышлением нормативным Раздумья Великой княгини о недопустимости, противоестественности кровопролитных сражений на почве межконфессиональных драм побуждали ответить на вопрос — в чем же суть такого явления, как урок истории? И если ответ на этот вопрос не отливался у Великой княгини в форму жестких формулировок, то характер понимания данного ответа был очевиден.
Уроки истории в культурной жизни людей суть интерпретации, философские осмысления исторических событий, ставших фактом для рода, обладающих универсальной или локальной значимостью. Люди обращаются к ним в особо сложных проблемных ситуациях, отыскивая в исторической глубине события его нынешний культурный смысл, своеобразное предупреждение о возможных промахах и ошибках.
Подобные единицы наследия уникальны по своему значению для рода и индивида. Вряд ли можно сомневаться в том, что социальные и межконфессиональные конфликты в России первого десятилетия XX века не были известны Государю Императору и Великой княгине: были, конечно, знакомы и неоднократно подвергались мучительному внутреннему анализу. Поэтому по высшим политическим и нравственным соображениям был столь незамедлителен отклик на ходатайство руководства Уфимской епархии, полагавшего, что Великая княгиня силой своего понимания людей и добросердечием сумеет реально противостоять негативным тенденциям и поддержать благородное дело миссионерского монастыря.
Вскоре после доклада Великой княгини в Петергофе Государю Императору о положении дел в Камско-Березовском монастыре деятельность обители приобрела новый уровень, начались необходимые совещания, под покровительством Елисаветы Феодоровны. Осенью 1910 года открылись краткосрочные миссионерские курсы. Большой радостью для монастыря стало получение от Елисаветы Феодоровны большой иконы Спасителя, которую она собственноручно написала и передала в монастырь.
Однако, несмотря на большую помощь, которую оказывала Православной Миссии Великая княгиня Елисавета Феодоровна, были очевидны значительные недочеты в этом важном деле. Как сообщалось в письме на имя Великой княгини, обучение детей черемисов со временем претерпело существенные перемены. Раньше для детей черемисов предоставлялось общежитие на 150 человек, они безвозмездно пользовались одеждой и пищей. В 1911 году их учебные занятии переместили в маленькое помещение, а число учащихся сократилось со 150 до 45 человек[551]. Теперь к обучению в русской школе допускались лишь черемисы, принявшие крещение и за плату. Налицо были злоупотребления денежными средствами, отпускавшимися на развитие миссии. Для устроения инородческих школ средств практически не оставалось. Задача воспитания учеников осложнялась поведением ряда монахов — насельников мужского миссионерского монастыря.
Эти события были тем печальнее, что отношение черемисов к чудотворному образу Николая Угодника стало итогом длительного развития. Язычники тысячами стекались в Николо-Березовский монастырь на поклонение чудесно явленной иконе св. Николая, которую считали великим покровителем черемисов-язычников, чтивших этот образ великой святыней.
Икона, пишет Елисавете Феодоровне автор письма, «была путеводного звездочкой их ко Христу чрез святителя Божия Николая, но священный огонек меркнет, ибо делание святой миссии в селе Николо-Березовка близко к полной ликвидации»[552].
Прочитав это письмо Елисавета Феодоровна особенно внимательно отнеслась к тем предложениям, которые выдвинул автор относительно мер по устроению св. Миссии.
— прежде всего необходимо иметь ясное представление о жизни черемисов-язычников, что можно получить через посредство благочинных на местах. Их истинное положение отражено в записке по Златоустовскому уезду[553];
— имеет смысл преобразовать Уфимский мужской монастырь в Николо-Березовский женский. Автор ссылается на Амвросия Оптинского, Иоанна Кронштадтского, которые призывали к созданию женских обителей, становившихся рассадниками живой веры во Христа, истинной христианской жизни, чего нельзя сказать о мужских обителях[554].
Автор просит, чтобы в работе миссии непосредственное участие в качестве учителей приняли сестры Марфо-Мари-инской обители, которые способны внести глубокую веру в святость миссионерского делания[555].
— было бы крайне необходимо приступить к строительству в Николо-Березовке миссионерского храма;
— в ходе необходимых преобразований важно сохранить мужские инородческие миссионерские школы. Но это должны быть школы-церкви с обязательным обучение детей-инородцев садоводству, огородничеству, пчеловодству и ремеслам: кузнечному, столярному, сапожному.
В заключение автор просит Великую княгиню ходатайствовать перед Императором о выделении небольшого количества земли и леса для постройки школы.
Обозначенные выше проблемы начали разрешаться с помощью Великой княгини, что стало очевидно во время ее второго посещения в 1914 году Николо-Березовки. Однако во время Первой мировой войны продолжение реформ оказалось делом весьма сложным. Но Николо-Березовка до сего дня хранит благодать посещения ее святым человеком.
Пристально вглядывалась Великая княгиня в повседневную жизнь инородцев-язычников, стремясь понять глубинные основания их верований, строения их бытия. Становилось все более очевидным, что образ, стиль, качество жизни людей — большая созидательная или разрушительная сила, если не всегда оправдывающая, то всегда объясняющая историю возникновения той или иной духовной ценности. И если человек стремится получить убедительные очертания конкретного явления духовной культуры, выяснить причины его индивидуальной неповторимости, одним из первых объектов анализа должен стать соответствующий образ жизни.
К сожалению, пласт духовной культуры, связанный с делом этого милосердного служения Великой княгини, не может быть в полной мере осмыслен в силу того, что важное духовное начинание было резко остановлено военными действиями и осталось незавершенным. Но поучительным уроком для грядущих поколений явилось отношение Елисаветы Феодоровны к пониманию особенностей национального самосознания, национального характера, национальной психологии людей через посредство предельно тактичного подхода к религиозным верованиям инородцев, желание помочь им в поиске пути ко Христу.
10.6. Паломнические путешествия Великой княгини в 1911 и 1912 гг.
В эти годы уже в полную меру заявила о себе деятельность Марфо-Мариинской обители милосердия. Тем более активно обращалась Великая княгиня к опыту древних обителей и святых людей.
Особое место в молитвенной памяти Елисаветы Феодоровны занимал образ великого русского святого Иоасафа Белгородского, который, пройдя обучение в Киевской духовной академии, через несколько лет принял монашеский постриг. Став через некоторое время игуменом Спасо-Преображенского Мгарского монастыря, затем наместником Троице-Сергиевой лавры, Иоасаф переводится наконец на место своего основного служения: в Белгород. Строго наблюдал святитель за нравственным обликом паствы, за состоянием храмов, уровнем образования духовенства, его верностью церковным традициям. Строго, взыскательно относился святитель и к себе, и к пастырям.
Великую княгиню покорил тот факт, что свое высокое подвижничество (постоянную помощь бедным, непрерывное творение молитвы, совершенное постничество) святитель совершал втайне ото всех. Милосердие и стремление к братской помощи людям со стороны святителя было столь велико, что после его смерти обнаружили лишь 70 коп., и хоронить великого святителя пришлось за счет казны.
Неудивительно поэтому столь глубокое внимание, которое уделяла в 1911 году 160-летию со дня преставления святителя царская семья, особенно Государыня Александра Федоровна и Великая княгиня Елисавета Феодоровна.
Как сообщалось в «Исторической летописи», к раке честных мощей святителя в этот юбилейный год было пожертвовано более ста лампад.
Давно собиралась Великая княгиня в Лубенский Спасо-Преображенский монастырь. Целью посещения обители в 1912 году было поклонение мощам св. Афанасия, патриарха Цареградского, нетленно почивавшего в этом монастыре в сидячем положении.
У святых врат обители Великую княгиню встретил Высокопреосвященнейший архиепископ Назарий, а в монастырском соборном храме со святым крестом и водой ректор семинарии архимандрит Варлаам.
При пении тропаря святителю Афанасию Ее Высочество со свитою приложились к мощам Лубенского чудотворца и местночтимой иконе Богоматери.
После Божественной литургии Елисавета Феодоровна с молитвой прошла по липовой аллее, посаженной руками Иоасафа, епископа Белгородского, в бытность его настоятелем этой обители; взяла на память кусочек дуба, растущего на месте, где, по преданию, молился святитель Афанасий, приобрела в иконной лавке его изображение. Ее Высочество благодарила за гостеприимство, а особенно за доставленное ей молитвенное утешение[556].
Не только большие дарования в области богословия, философии и филологии св. Афанасия привлекли внимание Великой княгини, но и его огромные усилия по просвещению славянских народов. Воспитанный в благочестивой христианской семье на острове Крит, св. Афанасий получил хорошее образование и после смерти родителей ушел на Афон, где основал ту келью, где позднее подвизался св. Паисий Величковский и которая затем стала русским Ильинским скитом. Через некоторое время он посетил Святую Землю и, вернувшись на Крит, в Синайском монастыре принял монашеский постриг. Будучи митрополитом Солунским, а затем патриархом Константинопольским, св. Афанасий последние годы провел в Молдавии и Валахии. В 1653 году, будучи в Москве, он поразил всех своей скромностью и кротостью. 13 апреля 1654 года на обратном пути домой он заболел и умер в Спасо-Преображенском Мгар-ском монастыре под Лубнами. Там и погребли его в сидячем положении по уставу Восточной церкви. Через десять лет после блаженной кончины патриарха Константинопольского, Лубенского Афанасия III были обретены его нетленные мощи[557].
Путешествие Елисаветы Феодоровны к мощам св. Афанасия — это, безусловно, паломничество, не совмещавшееся ни с какими иными задачами, как это было, скажем, в ее поездках в Орел. Чем более глубоко постигала она духовные возможности святого человека в его воздействии на мир живущих, тем условнее становились для нее границы времени и пространства.
В ходе этого паломничества для нее на редкость убедительно открылась еще одна весть. Лубенский Спасо-Преображенский монастырь, став местом упокоения, а не длительных трудов патриарха Афанасия, навечно закрепляет за святым не только имя Константинопольского, но и Лубенского святого. Тем самым подтверждается сакральный смысл последних дней и молитв святого, с одной стороны, а с другой — обозначается новая значимость хрестоматийного суждения о том, что Дух Божий дышит, где хочет, и место упокоения святого избирает в той стране, людям которой это необходимо. Ведь то же произошло и с самой Елисаветой Феодоровной. Будучи принцессой Гессенской и Рейнской по происхождению, она именуется ныне Елисаветой и Московской, и Алапаевской, по месту ее гибели.
Великая княгиня Елисавета Феодоровна в последний день 1912 года в сопровождении ее фрейлины, двух сестер Марфо-Мариинской обители и управляющего двором Ее Высочества прибыла в Павлово-Обнорскую обитель. Но по дороге невозможно было миновать Корнилие-Комельский мужской монастырь, основанный великим подвижником и наставником северного монашества — прп. Корнилием, св. мощи которого почивали здесь под спудом и на поклонение которому Ее Высочество уклонилась в сторону с основной дороги.
Св. Корнилий привлекал внимание Великой княгини, в частности, потому, что признаки его стремления к святой жизни стали очевидны уже в детстве. Будучи родом из знатной боярской семьи г. Ростова, он в 12 лет поступил в Кирилло-Белозерский монастырь. Юный инок в ранние лета возложил на себя тяжелые вериги, а в свободное от послушания время занимался переписыванием книг, чем весьма обогатил монастырскую библиотеку.
Когда св. Корнилию исполнился 41 год, он ушел на безмолвие в глухой Комельский лес, в сторону Вологодского края. Здесь святой нес трудный подвиг, сражаясь с бесами и злыми людьми. Через 20 лет к нему стала собираться братия. Началось сооружение обители с двумя храмами — в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы и во имя прп. Антония Великого, которого особенно почитал святой старец. Обустроив обитель, св. Корнилий удалился ради безмолвия на Сурское озеро в Костромские земли. Но по настоянию братии, которая не хотела видеть игуменом никого другого, ему пришлось вернуться в свою обитель. Почувствовав приближение смерти, старец вновь удалился в Кирилло-Белозерский монастырь, на место своего пострижения. Но под напором братии вновь возвратился в свою пустынь и, вторично уйдя в затвор, стал готовиться к исходу. В Пасхальные дни 1573 года, причастившись Святых Тайн, благословив братию, он мирно отошел ко Господу.
Житие этого святого мужа ставило перед Великой княгиней старый и неизменно актуальный вопрос — о духовной результативности бытия человека, стремящегося с детства соблюдать заповеди Спасителя, не отступая от главной — о любви. Именно так была выстроена жизнь святого подвижника, что находило отражение не только в явных откликах горнего мира на мольбы святого, но и в скупых свидетельствах о непреклонном авторитете св. Корнилия у братии[558]. Воздав молитвенное поклонение Комельскому преподобному, Великая княгиня продолжала прерванный путь.
Войдя в храм, где почивал прп. Павел Обнорский, приложившись к кресту и приняв окропление водой, она проследовала к недавно пожалованной Их Императорскими Величествами освященной высокохудожественной раке угодника, где стояла в течение краткого молебна. По совершении его вологодский епископ Преосвященный Александр, сердечно поприветствовав царственную паломницу, преподнес ей св. икону прп. Павла в среброзлащенном окладе и цате, в стиле XV века, исполненную Оловянниковыми, предварительно освященную на раке чудотворца. До начала всенощного бдения Ее Высочество внимательно осмотрела новоосвященный храм (а утром Троицкий собор и Предтеченскую церковь), царскую раку прп. Павла и выразила желание прийти в рощу за рекой Нурмою, где некогда стояла убогая келья Павла Обнорского, выкопавшего здесь колодец, над которым были поставлены две скромные деревянные часовни.
К шести часам, когда начался благовест ко всенощной, Великая княгиня вошла в храм и встала возле раки преподобного. По желанию Великой княгини всенощная совершалась как обычно, по уставу. И несмотря на то что служба продолжалась пять часов, Елисавета Феодоровна отстояла всю всенощную, отдыхая лишь во время чтения кафизм. «Глубокое молитвенное чувство, — писал автор статьи, — выражавшееся во всех движениях Царственной Паломницы, были красноречивым уроком и назиданием для всех присутствующих, как подобает в дому Божий жити»[559].
В пять часов утра 1 августа царственная паломница в сопровождении преосв. Александра отбыла в бывшую Спасо-Нуромскую обитель, где почивал прп. Сергий Нуромский — ученик преподобного Сергия Радонежского, духовный отец, друг и собеседник прп. Павла Обнорского. После молитвы на Нурме Великая княгиня в 7 утра возвратилась в монастырь. Во время литургии священник обратился к Елисаве-те Феодоровне с проникновенным словом, где отметил, что она, чужая нам по происхождению, необыкновенно близка и дорога по духу святого православия, служа для верующих образцом высокого благочестия и неисчислимыми дарами милосердия. По окончании литургии начался крестный ход, в котором приняла участие Великая княгиня, неся в руках Корсунскую икону Богоматери. В память о посещении ею монастыря Елисавета Феодоровна принесла в дар на раку преподобного Павла шелковый покров красного цвета, оставив обители свой фотопортрет с дарственной надписью, а в иконно-книжной монастырской лавке на значительную сумму приобрела образки преподобного[560].
Паломничество Великой княгини к Комельскому (Обнорскому) чудотворцу было предопределено. Прп. Павел, принадлежа по происхождению к благочестивой московской боярской семье, начав свой путь в одном из монастырей Поволжья, вскоре перешел в обитель прп. Сергия Радонежского и стал его достойным учеником. Именно по благословению прп. Сергия прп. Павел ушел на север в Ко-мельские леса, где вначале три года жил в дупле огромной липы, а затем выстроил себе келью на берегу реки Нурмы. Пять дней в неделю проводил он в строгом воздержании и лишь два дня кушал немного хлеба и воды. Однажды прп. Павел услышал ночью колокольный звон и увидел свет ярче солнца. Он рассказал об этом своему духовному другу — пустынножителю, спасавшемуся поблизости, прп. Сергию Нуромскому (тоже ученику св. Сергия Радонежского), который сообщил преподобному Павлу, что таким образом обозначено место, где будет построен монастырь во имя Пресвятой Троицы. После кончины прп. Павла (1429) и прп. Сергия (1412) от мощей этих святых начались великие чудотворения[561].
Беспредельное почитание прп. Сергия Радонежского, которому с рождения был посвящен Великий князь Сергий, наполнило душу Великой княгини огромным доверием и любовью к этим ученикам великого игумена Троице-Сергиевой лавры. Это паломничество стало поучительным примером реальной, неумирающей связи святых, встреча которых неизбежна.
Пребывание в Киеве и в Почаевской лавре Великой княгини было знаменательно не только само по себе, но и в связи с удивительной речью архиепископа Антония, которая емко и глубоко определила значимость такого рода путешествий особ Дома Романовых для русского народа.
Елисавета Феодоровна, пробыв три дня в Киеве, прибыла в Почаевскую лавру 18 августа 1912 года в сопровождении генерал-губернатора Ф.Ф. Трепова, управляющего двором Ее Высочества и нескольких сестер Марфо-Мари-инской обители. Елисавета Феодоровна присутствовала на литургии, а затем молебне Почаевской иконе Божией Матери, после чего спустилась в пещерную церковь преподобного Иова, прикладывалась к его святым мощам. Вечером Великая княгиня простояла 4 с половиной часа в новопо-стороенном Троицком соборе лавры.
Посещение таких великих святынь, как Почаевская Успенская лавра, было всегда самым вожделенным стремлением Елисаветы Феодоровны, которая, разумеется, знала, что монастырь, созданный в XIII веке, долгое время оставался незаметной обителью. Расцвет монастыря начался в конце XVI — начале XVII в., когда обитель получила в дар чудотворную икону, а игуменом стал прп. Иов Почаевский. Этот образ был подарен монастырю помещицей Горской после того, как от молитвы пред иконой исцелился ее слепорожденный брат. Она же в свою очередь получила этот образ от греческого митрополита Неофита, который проездом останавливался в ее имении[562].
С 1721 года монастырь находился в руках униатов, в 1831 году вернулся в лоно Православной Церкви и с 1833 года стал именоваться лаврой. Ныне Почаевская икона находится в иконостасе Успенского собора и каждое утро на лентах опускается, чтобы верующие могли приложиться к чудотворной святыне.
Великая княгиня, всегда ревностно относившаяся к чистоте православия, глубоко почитала Иова Почаевского. Он последовательно отстаивал ценности православия не только в Почаевской лавре, но и в Крестовоздвиженском монастыре возле г. Дубно на Волыни, где был игуменом более 20 лет в условиях ожесточенных нападок католиков и униатов на православных. После принятия схимы в 1642 году прп. Иов стал часто уединяться в пещеру. Он прожил более 100 лет и мирно скончался в 1651 году[563].
Не случайно Великая княгиня, видя те явления, которые все время угрожали Русской Православной Церкви, так стремилась к мощам прп. Иова Почаевского, желая получить поддержку великого борца за укрепление православных ценностей в сознании русских людей.
Встречая Великую княгиню, архиепископ Антоний приветствовал Ее Высочество в Почаевской лавре такими словами:
«С великой радостью святая Лавра сретает Ваше Императорское Высочество в своих стенах среди смиренных богомольцев-простолюдинов! Такой радостью исполняются всегда русские иноки и все русские люди, когда видят перед собой отрасль драгоценного для них Царствующего Дома, но сугубую радость испытывают они при виде Великой княгини — Подвижницы, воспроизводящей перед нами жизнь древних Московских великих князей, мало отличавшуюся от жизни монашеской и обращавшую дворцы державных властителей Московского царства в монастырскую обитель, где постоянно возносились молитвы, прочитывались божественные книги и исполнялись благочестивые обеты труда и благотворения.
Преданный всем сердцем своему Царствующему Дому русский народ с особенным умилением взирает на молитвенный подвиг его членов, совершаемый в храмах Божиих, потому что в этих святых местах русские люди сливаются друг с другом в единое молитвенное общение, объединяющее собою представителей всех сословий во Едином Христе и во едином братском чувстве. Внидите же, Ваше Высочество, в наш святой храм и приобщитесь этому благодатному единству молитвы, которая, сосредоточившись в Вашем благоговейном сердце, с новою силою разольется по сердцам взирающего на Вас верующего народа и невидимо привлечет в нашу среду Господа Спасителя»[564].
Слова архиепископа Антония — это еще один яркий пример, свидетельствующий о том, что в лице Ее Высочества под своды монастырей входил не просто представитель царствующей фамилии, не просто праведник, но святой человек. Нельзя не отметить, что об этом свидетельствовали не отдельные грани ее облика, но вся сумма всепобеждающих духовных манер пребывания в монастыре. Всем было очевидно, что на каждое явление монастырской жизни она смотрит духовным взором, оценивая каждый шаг своей жизни, каждый миг моления в монастыре через своеобразную духовную призму. Она видела в обителях великого Духа нечто единое, полное монашеского нестяжания, попечение о преодолении сущности обыденной мирской жизни. Монастырь, как прибежище для ищущих утешения и указания пути к истине, должен был стать, по мнению Великой княгини, основой для выстраивания правдоподобной версии индивидуального бытия. Тем более монастырь, подобный Почаевской Успенской лавре, где почивают мощи великого святого — Иова Почаевского.
10.7. Соловки
Великая княгиня давно готовилась посетить древний Соловецкий монастырь, воспитавший великих просветителей северного края, обитель, которую знал каждый русский православный человек, которая всегда отличалась трудолюбием и аскетизмом насельников. Обитель в народе называли Русский Афон; Морской Синай.
24 июля 1913 года на соборной площади Архангельска собралось множество людей, были выстроены дети городских приютов и учащиеся различных учебных заведений. Около трех часов дня с соборной колокольни раздался звон в большой колокол. Это была весть о выходе на соборную площадь крестного хода, возглавляемого Преосвященнейшим епископом Нафанаилом.
Путь от вокзала до пристани был устлан тростником. С любовью встреченная представителями администрации Великая княгиня направилась к пристани на пароход «Вологда». На краю пристани в полном архиерейском облачении, со святым крестом в руках стоял Преосвященный владыка, осеняя водный путь высокой паломницы.
Под звуки священных песнопений Елисавета Феодоров-на сошла на берег, поцеловала крест и приняла окропление святой водой. С пристани Ее Высочество вслед за крестным ходом последовала в кафедральный собор. С глубоким благоговением приняв от Преосвященного Нафанаила икону Святой Троицы старинного письма, Ее Высочество благодарила владыку за встречу. С большим интересом она знакомилась с росписями собора, рассматривала старинную митру, поручи, евангелие, саккос, пожалованный архиепископу Афанасию Петром I, деревянный крест, собственноручно вытесанный Императором Петром Великим.
В церкви Соловецкого подворья после напутственного молебна Великая княгиня проследовала на Соловецкий пароход «Вера» и отбыла в Соловецкую обитель. В этой поездке Елисавету Феодоровну сопровождали Преосвященнейший епископ Нафанаил, архимандрит Печенгского монастыря Ионафан, архангельский епархиальный наблюдатель церковных школ (состоящий в то же время делопроизводителем местного отдела Императорского Православного Палестинского Общества, возглавляемого Ее Императорским Высочеством) статский советник Н.Д. Козмин и несколько монахов Соловецкого монастыря. Вслед за «Верой» из Архангельска отправился пароход мурманского Товарищества «Королева Ольга Константиновна» с архангельским губернатором С.Д. Библиковым и другими лицами[565].
Ранним утром следующего дня Великая княгиня была уже на палубе и, увидев очертания Соловецких островов, с благоговением осенила себя крестным знамением.
Послышались выстрелы монастырских пушек, салютующих прибытию высокой паломницы, и одновременно загудел 1000-пудовый монастырский колокол. К борту парохода подошел катер, управляемый иеромонахом, с гребцами-иноками, внутри обитый красным сукном и устланный коврами, который доставил Великую княгиню к специально устроенной гавани, украшенной флагами, вензелями из хвои и аркой с надписью на одной стороне «Благословенна грядущая во имя Господне», а на другой под Государственным гербом были инициалы Ее Высочества. Здесь ее встречали настоятель монастыря архимандрит Иоанникий со всей братией и множеством паломников.
С крестным ходом, при пении тропаря преподобным Соловецким Великая княгиня через святые врата направилась сначала в древний соборный Преображенский храм, а затем в обширный Свято-Троицкий собор, где по желанию Ее Высочества отслужили молебен перед мощами святых Зосимы и Савватия, почивающими в деревянных раках с серебряными покрытиями. В безмолвии стояло огромное множество народа, видя усердную, горячую, смиренную молитву Великой княгини.
После службы Елисавета Феодоровна с огромным интересом осмотрела главную ценность Преображенского собора — пятиярусный резной иконостас, который был установлен в 1697 году на пожертвования Петра I после первого посещения им обители.
С трепетом подошла Великая княгиня к раке, в которой покоилось ранее тело святителя Филиппа, а в то время находились лишь частицы мощей, оставленные обители в память при перенесении их в 1652 году митрополитом Никоном по просьбе царя Алексея Михайловича в Москву. Елисавета Феодоровна преклонила колена пред частицами мощей того, кто так много сделал для Соловецкой обители, завершив свою жизнь мученической кончиной.
Великой княгине, глубоко почитавшей св. Филиппа, было особенно отрадно осознавать, что расцвет Соловецкой обители пришелся на период его игуменства, в середине XVI века. Молитвами и трудами святого подвижника было сделано очень много: начато каменное строительство; выстроен кирпичный завод; устроена пекарня; 52 озера соединены каналами с расположенным возле монастыря святым озером, что позволило построить в обители водопровод и водяные мельницы; проведены дороги по большому Соловецкому острову; на берегу святого озера устроена кузница и т. д. Но за этими важными хозяйственными делами игумен Филипп не забывал о самом главном деле инока — непрестанной молитве. Он сам соблюдал строгий пост и находил время для уединения в месте, названном позднее Филипповой пустынью[566].
Поклонившись самым главным святыням монастыря, Великая княгиня познакомилась с множеством его других святынь и достопримечательностей. Монастырская ризница произвела на Великую княгиню незабываемое впечатление как по археологическому и художественному достоинству хранящихся в ней предметов, так и по благоустройству. С огромным вниманием рассматривала Елисавета Феодоровна старинные Евангелия, писанные на пергаменте в XIV веке и употреблявшиеся в церковном богослужении при прп. Зосиме; деревянный, времен прп. Зосимы потир, который святой использовал при совершении Бескровной Жертвы; древнюю и новую утварь, напрестольные драгоценные кресты, златокованные Евангелия, ценные митры, священные облачения и иконы. Много внимания уделяла Великая княгиня царским грамотам с изящно нарисованными виньетками, громадными восковыми золочеными печатями, заключенными в металлические футляры и висящими на богатых шелковых шнурах и лентах.
После краткого отдыха Елисавета Феодоровна на монастырских лошадях отправилась в Сергиевский скит в десяти километрах от обители. Будучи на острове Муксалма, который соединен с Соловецким островом длинным каменным мостом, сложенным из громадных валунов, Великая княгиня была поражена Муксаломским мостом, проложенным через бурное море, как чудом человеческого труда. Не менее поразила ее ферма, луга, хлебные поля, возделанные на осушенной болотной трясине[567].
На следующий день в пять с половиной утра с монастырской колокольни раздался могучий благовест 1000-пудового колокола, возвещавший о литургии, совершаемой Преосвященным Нафанаилом.
При первых ударах колокола высокая паломница пришла в Преображенский храм. Торжественное архиерейское богослужение с мощным, ярким монастырским пением производило сильное впечатление. Коленопреклоненно молилась Великая княгиня у мощей прп. Еермана, Соловецкого чудотворца, прп. Иринарха, почивающих здесь старцев Маркелла, архиепископа Вологодского, Игнатия, митрополита Тобольского, инока Иона Шамина, старца и восприемника святителя Филиппа и др. Привлекло внимание благоверной княгини место упокоения славного в истории отечества постриженика Соловецкой обители, инока-героя Авраамия Палицына (келаря Троицкой лавры), над могилой которого настоятелем того времени была устроена высокая плита с надписью, и, наконец, могила автора «Домостроя» — иерея Сильвестра.
Через некоторое время в тот же день Великая княгиня в сопровождении Преосвященного, настоятеля монастыря и других лиц отправилась в Филиппову пустынь, которая находится в двух верстах от монастыря и название свое получила потому, что это место освящено молитвенными подвигами святителя Филиппа. Называется она еще и Иисусовой: как написано на доске, находящейся в построенном здесь храме во имя иконы Богоматери «Живоносный Источник», святителю Филиппу незадолго до его избрания митрополитом всероссийским, во время молитвы, «явился Иисус Христос в терновом венце, в оковах, униженный, обагренный кровью, с ранами на теле…; на месте этого явления брызнули из земли струи чистой ключевой воды»[568]. В память о данном событии св. Филипп поставил здесь часовню, сделав из дерева резное изображение Иисуса Христа, а там, где брызнула из земли вода, велел выкопать колодец. Церковь над колодцем во имя иконы «Живоносный Источник» поставлена в 1858 году. После молебна Великая княгиня приложилась к резному изображению Иисуса Христа, отпила воды из колодца и с крестным знамением поцеловала хранящийся здесь камень, служивший св. Филиппу возглавием при отдыхе.
Помимо религиозной значимости Филиппова пустынь очаровала Великую княгиню необыкновенной живописностью места. На возвышенности стройный, богатый хвойный лес оттеняет красоту озерной глади, обрамленную зеленой травой.
Из Филипповой пустыни Великая княгиня отправилась в Макарьевскую пустынь, расположенную на высокой горе в пяти верстах от монастыря. Ее Высочество с интересом осматривала постройки скита, разбитый иноками сад с пышными кедрами, малиной и т. д. и воскобильню. И эта местность покорила Елисавету Феодоровну своей красотой.
Спутники Великой княгини — архангелогородцы — предложили Великой княгине спелую чернику, собранную в лесу. К великому удовольствию спутников, ягода очень понравилась Елисавете Феодоровне. Поездки в эти пустыни заняли не менее шести часов, поэтому Великая княгиня проследовала сразу в Зосимо-Савватиевский собор к вечерней службе, совершаемой настоятелем монастыря архимандритом Иоанникием.
Всех поражал молитвенный подвиг Ее Высочества, благоговейность, с которой она осматривала святыни, необычайная приветливость в общении с людьми любого звания. Автор статьи, свидетель паломничества Великой княгини, писал: «Особенно это величие в простоте и высота в скромности поразили паломников из простого народа, а также монашествующих Соловецкого монастыря», большинство которых тоже вышли из среды народа — труженика и богоносца…»[569].
Далее путь Ее Высочества пролегал к Секирной горе. По преданию, гора была названа таким образом в память бывшего здесь изгнания ангелами жены человека, имевшего намерение поселиться на острове. Это одно из самых святых, красивых мест в Соловецком монастыре. Недаром монахи говорят, что Соловецкие острова — венец, а Секирная гора — адамант этого венца[570].
На Секирной горе Великая княгиня посетила двупре-стольную каменную церковь (в честь Вознесения Господня и во имя Архангела Михаила), построенную в 60-х гг. XVIII века, колокольню и расположенный над колокольней маяк, который виден с моря за 60 верст. «Необыкновенно чуткая к красоте природы, — пишет очевидец, — Великая княгиня не могла им (ландшафтом. — И.К.) не залюбоваться. Зачарованный взор ее долго останавливался и на виднеющемся вдали монастыре, с переливающимися на солнце золотыми крестами церквей, и на гигантской аллее, которую образовал лес, раздвинувшийся по обе стороны дороги, прямой колеей взвивающейся на гору, и на гладкой поверхности видимого вдали Белого моря, и на обширных пространствах окружающего скит почти со всех сторон хвойного леса, и на множестве мелких озер, окаймленных зеленью, которые с высоты, при солнечном свете казались как бы небольшими серебряными кружками»[571].
С Секирной горы Ее Высочество направилась в Савва-тиеву пустынь, устроенную на месте первоначальной пустыннической жизни прпп. Савватия и Германа, срубивших в 1424 году свои хижины на берегу пресного озера, в версте от моря. Здесь есть каменная церковь во имя Смоленской иконы Божией Матери — Одигитрии, обретенной игуменом Филиппом в 1543 году. Недалеко от церкви стоит деревянная часовня во имя прп. Савватия, замечательная тем, что в ней находится деревянный крест св. Филиппа, как видно из сохранившейся надписи. После службы, уже ночью, Елисавета Феодоровна вернулась из Савватиевой пустыни, а в пять часов утра, как простая богомолица, пошла в Зосимо-Савватиевский предел Троицкого собора, где совершалась обычная ранняя литургия рядовыми иеромонахами. А в 8.30 она уже обозревала соединяющие многочисленные монастырские озера каналы, начало сооружения которых было положено еще св. Филиппом[572].
Погода для столь необычного путешествия была весьма благоприятной, солнечной, безветренной. Проехав до ближайшего озера на лошадях, Елисавета Феодоровна переместилась в специально подготовленную и украшенную шлюпку, которая была взята на буксир небольшим паровым катером. Во время следования по озерам и каналам рядом со шлюпкой Ее Высочества шел баркас с монастырскими певчими, которые пели церковные песнопения, главным образом догматики обиходным напевом.
После осмотра места на одном из островков, предназначенного для строительства санатория для чахоточных больных, Елисавета Феодоровна направилась к Белому озеру, где на пристани ее ожидали монахи. Вход в канал был прегражден цветной лентой, которую Ее Высочество после совершения соответствующего молебного чина перерезала, тем самым обозначив открытие канала, названного Елисаветинским.
Поездка по каналам закончилась в 3 часа дня. А в 6 часов вечера Елисавета Феодоровна уже была на всенощной в больничной церкви во имя святителя Филиппа, митрополита Московского. После службы она посетила все больничные покои и сердечно беседовала с больными, желая им скорейшего выздоровления.
В кладбищенской церкви св. Онуфрия после литургии была совершена панихида с поминовением всех почивших лиц Дома Романовых и некоторых близких Ее Высочеству покойных[573].
В тот же день Великая княгиня вторично посетила Филиппову пустынь. А в 8 часов вечера уже была на пароходе «Вера», где отслужили молебен, и Ее Высочество отправилась в Архангельск. Торжественным звоном колоколов и пушечным салютом провожала Соловецкая обитель высокую паломницу. На море был штиль.
Утром на палубе по случаю дня рождения наследника цесаревича по желанию Ее Высочества служили молебен св. Алексию, митрополиту Московскому и Иоанну Воину.
Ее Высочество выразила желание остановиться в Соломбале, чтобы посетить Соловецкое подворье. Затем она на лошадях отправилась в город. На пути ею были сделаны остановки у городских церквей: у Успенской (XVIII века), Михайло-Архангельской (тоже XVIII века), в Михайло-Архангельском монастыре (XIV века) и на подворьях монастырей: Сурского, Красногорского и Николаевско-Корельского.
Останавливаясь в этих обителях, Великая княгиня с чувством глубокого благоговения осматривала святыни храмов и внимательно слушала разъяснения Преосвященного Нафанаила. Вскоре после прибытия в Архангельск Ее Высочество в сопровождении огромного количества народа отправляется поездом в обратный путь.
31 июля, еще будучи в дороге, из Семигороднего монастыря Вологодской епархии Великая княгиня направляет Преосвященному Нафанаилу телеграмму:
«Переживая с умилением чудные молитвенные дни в Соловецкой святой обители и посещение Архангельских святынь, сердечно благодарю Вас, Владыко, за сопутствие и радушный прием в Вашей епархии. Прошу Ваших святых молитв. Елисавета»[574].
Разумеется, множество обителей, которые в течение жизни посетила Великая княгиня, занимает свое, вполне определенное место в ее православной эволюции и укреплении. И все же соловецкому паломничеству принадлежит особое место, определяемое масштабностью духовного воздействия всех святынь монастыря на мироощущение Елисаветы Феодоровны.
Нас, переживших в XX веке самые трагичные страницы бытия этой великой обители, каждая встреча с Соловками ошеломляет, наполняя душу чувством глубочайшего внутреннего отторжения тех страшных событий, которые вершились здесь в послереволюционные годы.
Для Елисаветы Феодоровны паломничество на Соловки было великим событием. Но все же трагедии, связанные с прошлой жизнью монастыря, были в то время историей, что позволило ей, кроме горячей молитвы об ушедших, увидеть монастырь как одно из неповторимых мест, неповторимых по духовной насыщенности и красоте. Такая позиция по отношению к Соловкам в те годы была не нова, имела свою традицию. Отличие же состояло в том, что душа святого человека обладает талантом восприимчивости, не сопоставимым с уровнем постижения подобного явления обыкновенным человеком. Поэтому, когда мы стремимся понять место такого паломничества в жизни святого человека, необходим менее прямой, более тонкий путь исследования, связанный не только с обращением к массиву архивных материалов, но и к молитвенному стоянию.
10.8. Паломничество Великой княгини в Оптину пустынь
В ряду наиболее духовно близких Елисавете Феодоровне обителей следует отметить Оптину пустынь. Особая социально-культурная роль этого монастыря была так очевидна Великой княгине и так дорога ей: ведь оптинские старцы XIX века все свои духовные силы отдавали мирянам, притекавшим в обитель со своими сомнениями, вопросами и радостями. Трудно было представить себе другой монастырь, насельники которого так умели бы любить каждого приходящего к ним человека, так стремились бы служить духовной опорой для всех.
Елисавета Феодоровна чутко улавливала душой, что оптинское старчество — это особый пласт культуры, сложившийся спонтанно, естественно, не будучи насаждаем сверху.
Великая княгиня понимала эту особенность оптинского старчества, видела силу его влияния на культурное развитие и нравственное совершенствование многих. Здесь витал древнехристианский аскетический дух, не противостоящий миру, но спасающий мир любовью. Здесь древний аскетизм приобретал новую форму, преодолевающую замкнутость и отстраненность от мира.
К Оптиной пустыни того времени можно с полным правом отнести слова князя С.Н. Трубецкого. «Монастыри — это самое драгоценное сокровище нашей жизни, наша гордость, с каким бы высокомерным презрением ни относились к ним те, кто не знает духовной жизни, кто не хочет даже подумать о том, ради чего столь многие люди избирают этот жертвенный путь… Мы ценим монастыри как учреждение, в котором учение Церкви выразилось в самой жизни… Мы ценим монастыри, невзирая на их недостатки и немощи, ради тех святых жемчужин, которые сияют из-за их стен. Они были местом духовного и нравственного воспитания народа»[575].
Елисавета Феодоровна стремилась к Оптинским старцам не для того, чтобы учиться отречению от мира, но для того, чтобы, преодолевая запросы плоти, достичь духовного преображения, но не для себя только, а для постижения премудрости руководства сестрами. В постижении этой премудрости — глубокий смысл и огромный труд, поскольку, по мнению св. Григория Назианина, руководить людьми при многообразии их характеров — это искусство искусств и наука наук.
Серьезно готовилась Великая княгиня к каждой паломнической поездке, а особенно к путешествию в такую уникальную обитель, как Оптина пустынь. И вот наконец 27 мая 1914 года она со станции Козельск проследовала в Оптину пустынь на монастырских лошадях, высланных за нею, прямо к Божественной литургии. При входе в собор ее приветствовал настоятель обители архимандрит Ксенофонт и бывший Уфимский епископ Михей, проживающий в Оптиной пустыни на покое. В своем слове владыка Михей подчеркнул, что в Оптиной все особенное, потому что здесь не на словах, а на деле поддерживается дух смирения, кротости и братолюбивого отношения друг к другу. Здесь все проникнуто особой духовной жизнью. После молебна владыка подарил Ее Высочеству чудную художественной работы Калужскую икону Божией Матери.
После молебна Казанской иконе Богоматери Великая княгиня, поклонившись умершим старцам Амвросию, Иосифу, Варсонофию, погребенным у собора с восточной стороны, направилась в отведенное ей помещение, куда подан был чай, за которым присутствовали г-жа Гордеева, епископ Михей, о. Ксенофонт и старец о. Анатолий (Потапов). В пустыни глубоко чтили настоятеля о. Ксенофонта как строгого молитвенника и подвижника, аскета, надежного руководителя монастыря.
Великая княгиня усердно готовилась к святому причастию, немного вкушала растительной пищи, посещала все службы: вечерню в половине шестого, утреню в половине второго ночи, позднюю литургию в девять утра. Молилась усердно, проникновенно, всегда отвечала низкими поклонами на поклоны священнослужителей и братии на службе. Всенощное бдение 28 мая совершалось, как всегда, с 6 часов вечера до половины двенадцатого ночи. Великая княгиня молилась от первого удара колокола до самого конца всенощной. Превосходно пел полный братский хор. «Благослови, душе», «Блажен муж», «Хвалите имя Господне» исполнены были киевским распевом по желанию Великой княгини, а оптинские «подобны» — местным распевом[576].
Особой торжественностью была отмечена Божественная литургия 29 мая. Службу вел Преосвященный Михей со старшей братией. В служении литургии участвовал старец о. Анатолий, у которого исповедовалась Великая княгиня.
Старец Анатолий, по мнению многих, редкий человек — бодрый, неутомимый, мудрый советник страждущих людей, весь объятый пламенем живой, горячей веры в Бога. Всех людей, приезжавших из необъятной России, он принимал с утра до ночи, утешал, ободрял. Во время литургии Преосвященный Михей возложил на о. Анатолия золотой наперсный крест.
В начале 1900-х гг. иеросхимонах Анатолий младший (в миру Александр Александрович Потапов) стал общепризнанным оптинским старцем. Он в 30 лет пришел в Оптину пустынь (в 1885 году) и был определен в скит келейником прп. Амвросия. В 1906 году был рукоположен и назначен духовником Шамординской обители. В 1908 г. переселился из скита в монастырь, в келью при церкви Владимирской иконы Божией Матери. В 1911 г. из-за болезни старец перешел в специальный келейный дом. Большое значение старец Анатолий придавал Елеосвящению, которое регулярно совершал во Владимирской церкви.
Старец Анатолий находился в глубокой духовной связи со старцем Нектарием. Они часто посылали друг к другу приходивших к ним людей для благословения и наставления.
Иеросхимонах Нектарий (Николай Васильевич Тихонов) родом из Ельца. По совету жившей в Ельце старицы схимницы Феоктисы, духовной дочери святителя Тихона Задонского, он отправился в Оптину пустынь и после беседы со старцами Иларионом и Амвросием остался в скиту. С 1887 года, после пострижения в мантию, почти перестал выходить из своей кельи. Кроме чтения духовных книг, изучал математику, историю, литературу, латынь и французский язык. В 1913 году, по указанию архимандрита Агапита (Бело-видова), избран старцем и духовником братии. В 1922 году старец Нектарий был арестован. После освобождения жил в Козельске, а затем в селе Холмищи у своих духовных чад. Власти запретили ему принимать посетителей, но до самой кончины он принимал и поддерживал своих духовных чад.
Был подвергнут аресту и старец Анатолий. В 1921 году он принял схиму, а через год умер. Многих своих духовных детей о. Анатолий перед смертью поручил старцу Нектарию.
26 июня 1996 года иеросхимонах Анатолий и иеорсхи-монах Нектарий причислены к лику местночтимых святых — Оптинских старцев[577].
Таковы старцы Оптиной, которые были одним из главных источников духовного вдохновения Великой княгини. Но вернемся вновь в 1914 год.
После литургии Великая княгиня посетила преосвященного Михея, старца Анатолия; затем побывала в больнице, где беседовала с больными, библиотеке, ризнице монастыря. В 5 часов вечера Ее Высочество посетила Иоанно-Предтеченский скит, расположенный в четверти версты от Оптиной. В скитских вратах Великую княгиню встретил Преосвященный Михей при торжественном колокольном звоне. Дорожка к храму была усыпана розами, что погружало путников в атмосферу нежного аромата. Настоятель скита о. Феодосии преподнес Елисавете Феодоровне с добрыми пожеланиями икону св. Иоанна Предтечи в дорогом окладе.
После вечерней службы Великая княгиня посетила библиотеку скита, рассматривала достопримечательные рукописи, побывала в келье монаха Иова, посетила старцев — последнего игумена скита о. Феодосия, отличавшегося особым миролюбием. С о. Нектарием, удивительно смиренным человеком, она долго беседовала.
30 мая, побывав в скитском храме на утрене, которая начиналась в половине второго ночи, она, в половине восьмого, выехала в Шамординский женский монастырь. После литургии Елисавета Феодоровна проследовала в домик жены Сергея Васильевича Перлова Анны Яковлевны, который построил храм в этой обители и был ее главным благотворителем. Затем Великая княгиня знакомилась с работой позолотной и иконописной мастерских, типографией, вышивальной, трапезной, богадельней, детским приютом, усыпальницей. Побывала в домике, где жил последний год и скончался старец Амвросий.
С радостью встречали Елисавету Феодоровну в Оптиной. Сразу после прибытия из Шамордино она вновь долго беседовала со старцем Анатолием, а потом со старцем Нектарием[578].
После встречи епископ Михей с братией отслужили молебен, по окончании которого владыка произнес прощальное слово: «Теперь я благодарю Вас не за посещение только, а за ту ласку, которую Вы оказали всем нам. Говорю не от своего имени, а по просьбе всей братии. Мы поражены тем простым, задушевным и ласковым отношением, которого Вы удостоили нас, а потому братия просила меня земно благодарить Вас»[579]. При этих словах Епископ Михей в полном облачении поклонился до земли, поклонилась до земли и вся братия, и все молившиеся в храме. Великая княгиня тоже поклонилась до земли. А затем в сопровождении братии и всего народа направилась к парому, где приготовлены были экипажи. Весь путь от собора до парома был усыпан листьями и цветами. Паром тронулся, а братский хор запел величественный догматик 5-го гласа «В Чермнем мори».
Поклонившись до земли настоятелю о. Ксенофонту, попрощавшись с братией, Елисавета Феодоровна села в экипаж и отбыла в Козельск.
Посещение монастыря убедило Великую княгиню, что Оптина пустынь, как ни один другой монастырь России, была тем мощным, не только духовным, но и культурным основанием для поддержки и спасения множества писателей, священнослужителей, философов, ученых, художников, публицистов, в ряду которых можно назвать М. Погодина, Ф. Достоевского, Великого князя Константина Константиновича, Н.В. Гоголя, А.К. Толстого, К. Леонтьева, А. Жемчужникова, А. Апухтина, Д. Болотова, митрополита Трифона (Туркестанова), архиепископа Серафима (Соболева), протоиерея Валентина Свенцицкого, о. Алексия Мечева, о. Павла Флоренского, М. Чехова, Г. Чулкова, Л. Бруни и др.
Оптина пустынь наиболее полно символизирует значимость такого рода монастырей, где понятия «культура», «нравственность», «духовность» располагались если и не в прямом рядоположении, то в значительной близости друг от друга. Елисавета Феодоровна увидела пустынь как целый пласт самобытной духовной культуры, чутко улавливающий запросы людей, создающий сложные, богатые образы общения. Старцы монастыря оказывали огромную помощь людям не только в решении сложных жизненных проблем, но и пробуждении интереса к поиску своих творческих задач, подлинных истоков своего задания на земле.
Прибегая к глубочайшему самоограничению личностных потребностей в этот последний, наиболее аскетический период жизни, Великая княгиня проявляла особую чуткость к вопросу индивидуального творчества людей, поскольку, кроме основной деятельности своей обители, имела непосредственное отношение к работе творческих союзов, музеев, высших учебных заведений, театров и т. д.
А это требовало строить всю деятельность не только на принципе историзма, т. е. правильности понимания событийной логики, пренебрежение к которой сковывало бы мысль и уводило ее на ложный путь. Еще большее внимание следовало уделять устойчивым преданиям, в опоре на опыт старческого окормления в таком уникальном монастыре.
Удивительно точно неотразимость влияния культуры Оптиной пустыни на паломников отметил писатель Борис Константинович Зайцев, друг Бунина и Шмелева. Он неоднократно писал о том, что в течение XIX века в Оптиной пустыни прошла целая династия старцев, которые не управляли ничем, но были живым словом монастыря миру. В результате святыня становилась не отдельно сияющей, а своей, родной.
В ряду гармоничных, ясных типов Оптинского старчества он указывал на старцев Нектария, Анатолия младшего, с которыми неоднократно беседовала Великая княгиня Елисавета Феодоровна. Один из близких людей Бориса Зайцева особо отмечал старцев Анатолия младшего, Нектария и Варсонофия, усматривая в них соединение высокой аристократичности, тончайшей духовной «выделки» с простонародным русским обликом. Друг Зайцева писал об острейшей душевной проницательности этих старцев, об их способности сразу и безошибочно определить человека, видеть его насквозь, со всеми его дарованиями и грехами. Он называл этих старцев «великими художниками души» и замечал при этом, что «жутко перед взглядом человека, от которого ничто в тебе не скрыто, которого долгая святая жизнь так облегчила, истончила, что как будто через него уже иной мир чувствуется»[580]. Неудивительно, что старец Нектарий, подобно Амвросию Оптинскому, читал письма, не распечатывая, но сортируя их: налево — просьбы, благодарственные письма — в другую сторону.
Именно этим старцам, Анатолию младшему и Нектарию, которых так почитала Великая княгиня, которых Зайцев называл могиканами оптинской династии, пришлось вынести всю тяжесть неравной борьбы за Оптину пустынь в послереволюционные годы. До времени Оптина как бы ушла на дно таинственного озера. Но к старцам, поселившимся возле монастыря, не иссякал поток паломников. Здесь поселились люди из Москвы, православные художники и другие носители высокой культуры, которые питались подземным светом монастыря[581].
Почему же таким мощным было излучение света? Ведь и в других монастырях были ценные древности, чудотворные иконы и подвижничество.
Сюда влекла особая сила любви, осиянности, утешения и ласки. Старец здесь уже не принадлежал себе. Он был народный, т. к. принадлежал высшему. Через него шли токи света и добра, токи любви неиссякающей. Оптина стала духовно-культурным центром в XIX веке, явилась притяжением для высшей русской духовной культуры.
Два света — старцы Оптиной и Великая княгиня встретились в монастыре, чтобы свидетельствовать о возможной гармонии духовных миров, о совершенной культуре общения между людьми.
10.9. Белогорье — путь на Сибирский Афон
Пермский журнал «Голос долга», который создал, редактировал и писал тот самый игумен Серафим, что был всегда близок царской семье, Елисавете Феодоровне и выполнил данное обещание похоронить ее по-христиански, оставил потомкам удивительные записки о паломничестве Ее Высочества в Пермскую губернию в 1914 году.
Предваряя приезд Великой княгини, о. Серафим писал, что это свершилось по воле Того, Кто управляет всем небесным и земным. Это паломничество «обновит светильник патриотизма и подольет обильно елею в народную сердечную лампаду.
В лице Августейшей Паломницы в смиренном одеянии пермский народ увидит дышащую любовью родную сестру Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны… Он еще более укрепится в сознании, что цель нашей жизни не земля, а небо. Никакой гений ума человеческого не в силах разубедить верующего люда в этой истине, когда он увидит пример в лице не только простого смертного, а человека, имевшего высшее земное удовлетворение и презревшего все земное и всецело посвятившего себя на благо ближних ради неба, для которого мы предназначены Творцом»[582].
Игумен Серафим характеризовал это паломничество как событие исключительное, воспоминание о котором будет жить века, сохраняясь в журналах и книгах.
Еще до прибытия в Пермь, Великая княгиня попросила, чтобы пароход «Межень» сделал остановку в селе Елово, в пяти километрах от которого находилась Спасо-Преображенская Фаворская пустынь. Приветствуемая массой собравшихся людей Великая княгиня проследовала в сельский храм по пути, усыпанному зеленью и цветами. С благодарностью приняла она хлеб-соль от волостного старшины, а от крестьянки Ирины Фотиной вышитый шелком по сукну портфель.
Возле церковной ограды августейшую паломницу с крестным ходом встретило духовенство в белых пасхальных облачениях во главе с настоятелем Фаворской пустыни игуменом Ювеналием, который подарил Елисавете Феодоровне образ Преображения Господня. По пути шествия Ее Высочества от ворот ограды до паперти шпалерами стояла братия Фаворской пустыни, народ пел «Спаси, Господи, люди Твоя». После молебна перед иконою св. равноапостольной великой княгини Ольги, приняв от игумена Юве-налия просфору, она с интересом беседовала об истории и сегодняшнем дне Фаворской пустыни с настоятелем, затем с местными священниками. Особое внимание Ее Высочество проявила к школе, расспрашивала местного учителя Волокитина о времени ее открытия и об учащихся. Пермь, красиво расположенная на левом берегу Камы, нарядилась к приезду высокой гостьи. Вся набережная заполнилась народом. Путь Великой княгини пролегал через ряд ярко украшенных арок, по обе стороны дороги рядами стояли воспитанники учебных заведений.
При звоне колоколов Великая княгиня Елисавета Феодоровна с Ее Высочеством Викторией Федоровной, принцессой Баттенбергской и дочерью принцессой Луизой в сопровождении казначеи Марфо-Мариинской обители B.C. Гордеевой, гофмейстера Высочайшего двора А.Н. Корнилова, егермейстера Высочайшего двора А. А. Зурова проследовали с пристани в кафедральный собор, к святителю Стефану Великопермскому, где были встречены Пермским владыкой Палладием.
Отдавая дань подвигу св. Стефана Великопермского, Елисавета Феодоровна давно стремилась побывать на земле, которая своей христианизацией обязана этому великому святому XIV века. Будущий просветитель зырян родился в Великом Устюге и с самых юных лет проявлял огромное усердие к церковной службе. Приняв иноческий постриг в Ростовском монастыре, он тщательно изучил книги богатой обительской библиотеки.
Много лишений и скорбей перенес праведный Стефан, живя среди язычников, поклонявшихся идолам. В ежедневной самоотверженной борьбе он сумел переломить их неверие: многие пермяки и зыряне с радостью принимали святое крещение. Стефан Великопермский в бытность епископом Малой Перми перевел на зырянский язык Святое Писание и богослужебные тексты, основал несколько монастырей, открывал училища при храмах, помогал пастве в голодные годы, защищал людей от лихоимства сборщиков податей[583].
Великая княгиня высоко чтила подвижническую жизнь и проповеднический дар св. Стефана, внимательно изучая путь его духовных исканий и постижений. Она понимала, какая сила и непреклонная стойкость необходима для успеха христианской проповеди среди язычников. Ведь достаточно даже небольшого отклонения проповедника от однажды избранного христианского взгляда на мир, чтобы изменить ход и сущность движения человека к истине.
После молебна святителю Стефану Великопермскому и благоговейного осмотра святынь собора Ее Высочеству были представлены игумений женских монастырей Пермской епархии. Матушки-игумении преподнесли Великой княгине свои рукодельные работы и альбомы с видами своих обителей. С 19 до 23 часов вечера Елисавета Феодоровна присутствовала на всенощном бдении, а в 6 утра следующего дня — на ранней литургии в Пермском Успенском женском монастыре.
Большое впечатление на всех молящихся произвело слово, сказанное после литургии помощником инспектора Пермской Духовной семинарии Н.И. Колосовым. Он начал с того, что рассказал, как недавно встретил в одной из смежных с Пермью деревень простого русского человека, который уже несколько лет, кроме трудов по сельскому хозяйству, ходит от села к селу, от города к городу и живым, умным, горячим словом борется с различными недугами народа. Кто-то из духовного кружка спросил, а зачем он трудится над разумным просвещением крестьян. В ответ был задан другой вопрос: что заставляет множество русских людей идти в монастырь при сложности современной ситуации? И далее последовали смежные вопросы.
Почему русский народ так любит храмоздательство? Почему, нуждаясь во многом, не отказывается жертвовать на строительство храмов и часовен? Почему в некоторых старинных русских городах храмов бывает так много при малой населенности этих городов, что храмы вроде бы можно было не строить? Почему русские люди при скудости материальных ресурсов содержат школы и духовные учебные заведения? Почему русский человек при перенасыщенности рынка всевозможной литературой более всего дорожит Библией и житиями святых угодников? Почему прежняя русская жизнь, быт русский, искусство, воспитание русское, русская философия — все строилось на церковности и благочестии, вследствие чего один из самых вдумчивых современных художников (Нестеров) в картине «Святая Русь» изображает и богатых и бедных, и здоровых и больных, и старых и молодых устремленными к одному Идеалу, одному Источнику счастья, к Господу Богу Спасителю нашему?»[584].
Ответ на эти вопросы он видел в словах одного из наиболее близких народу, наиболее искренних русских писателей Ушинского, который говорил, что каждый народ — это особая душа. Англичанин, по мнению Ушинского, более всего занят выработкой в себе твердой воли, благородства джентльмена во всех внешних поступках. Француз — усвоением и развитием точных знаний, а также изящества во всем строе своей жизни. Немец наделен способностью к объединению разрозненных явлений жизни в одно целое и к отвлеченному философскому знанию. А для русского человека дороже всего Небо, выше всего вечная правда, ценнее всего жизнь no-Божьи. Русский народ прежде всего идеалист, искатель вечной правды Божьей, а затем проповедник ее. Поэтому и влекут его святые обители, службы церковные, труды по созданию храмов, слушание и проповедование заповедей Господних. Все это потому, что боголюбива, правдолюбива и богоносна русская душа. И этой душе свойственны грехи и падения, но она умеет отшатнуться от бездны.
Какое это счастье сознавать, как говорил далее Н.И. Колосов, что русский народ, к которому мы имеем счастье принадлежать, обладает не только огромными природными богатствами, но и чуткой, правдолюбивой и отзывчивой богоносной душой.
«Как нужно беречь, как нужно лелеять всем нам эту главную национальную святыню… Многие из врагов наших пытались похитить у нас эту святыню. Многие и теперь ничего не хотели бы больше, чем похитить это великое народное сокровище, этот драгоценнейший народный клад…
Нам, призванным к делу духовного служения нашей родине, первее всего предстоит охранять святыню души народной от всяких покушений на нее. В нашем распоряжении много средств для этого: и храмы с высоко воспитывающими службами церковными, и школа, где всюду преподается Закон Божий, и всякая вообще просветительная и благотворительная деятельность, и бесконечно разнообразные формы практического доброделания»[585].
Живым и ободряющим примером духовного служения нашей родине Н.И. Колосов назвал Великую княгиню Елисавету Феодоровну, которая своей любовью к храмам Божьим, своей самоотверженной деятельностью по благотворению, врачеванию является «воистину олицетворением правдолюбивой и богоносной русской души»[586].
По окончании литургии игумения Пермского Успенского монастыря преподнесла Великой княгине Казанскую икону Божией Матери хорошего письма в шитой золотом ризе. В покоях игумений Елисавета Феодоровна беседовала с воспитанницами выпускного класса учительской семинарии, которые подарили ей воздухи своей работы белого цвета, вышитые ромашками.
Вскоре Великая княгиня поездом отбыла в сторону Белогорского монастыря. Но через 8 верст от Перми поезд остановился по желанию Елисаветы Феодоровны. Она знала, что в полуверсте от разъезда Яранычи расположен царский монастырь, созданный в память рождения наследника цесаревича Алексея Николаевича, любимого племянника Великой княгини. Сестры молодой обители со слезами радости встречали Елисавету Феодоровну.
Игумения Глафира, вручая Ее Высочеству икону Божией Матери, просила помолиться о них и благословить их юную обитель. Приняв альбом с видами обители и корзиночку свежей клубники из сада монастыря, Великая княгиня с добрым чувством выслушала немудреное, но очень искреннее стихотворение, которое прочла десятилетняя послушница монастыря Галина. Оно начиналось так:
Мать родная, Мать святая,
Как благодарить Тебя не знаем!
Ты нас посетила, Ты нас утешила,
Ты нас духом воскресила…[587]
Обласкав девочек, как горячо любящая мать, и побеседовав с сестрами об обители, Великая княгиня отправилась поездом далее, а затем на тройке лошадей к главной цели своего паломничества. Елисавета Феодоровна посетила храмы в селе Трельга, где ее приветствовали не только священники с народом, но и рота потешных в красных костюмах; молилась она в храмах села Ерши и Бымовского завода. По всему пути следования народ приветствовал быструю тройку, уносившую Великую княгиню вперед к цели.
Последняя перед приездом августейшей паломницы ночь была тихая, теплая. И монастырские, и миряне долго не спали. Ожидалось что-то необыкновенное. «Эта тишина, мир и покой, — писал игумен Серафим, — были предвестниками пришествия на гору Той, Которую русский народ называет в сердце своем Ангелом мира и кротости»[588].
Белогорская обитель, расположенная на самой высокой горе этой части западных Уральских гор, создалась в течение последних двадцати лет и стала привлекать к себе десятки тысяч паломников, со временем получив народное наименование Сибирский Афон. Обитель эта была создана в память о спасении в 1891 году наследника всероссийского престола Николая Александровича во время его путешествия по Японии.
С Белой горы на десятки верст открываются необъятные просторы, чередуются леса, горы, поселки. По мере того как начинается пологий подъем на Белую гору, происходят перемены в растительности. По обе стороны дороги — могучие ели и пихты, сочная зеленая трава; встречается черемуха и цветущий красный пион (или, по-местному, Марьин корень), благодаря которому нет на Белой горе ни одной змеи. В 1914 году обитель питала 400 человек братии и до 70 000 приходящих богомольцев в год[589].
В день прибытия Великой княгини все проснулись с утренней зарей. «На душе у всех было точно в пасхальное утро… Все готовились к светлому празднику, который несет насельникам радость, о которой никто не смел ни думать, ни мечтать. Готовились, как к Светлому Христову дню»[590].
В 5 часов 45 минут вечера послышался звон с монастырской колокольни, возвещая радость грядущей встречи. Насельники Белой горы и все прибывшие богомольцы, осеняя себя крестом, спешили в Иверский храм. Все молились Матери Божией о благополучном прибытии царственной паломницы. Хотя люди еще не видели и не знали ее, но чувствовали, что она близка им, так как слышали о ее доброте ко всем, ласковости, любвеобильности. Игумен Серафим рассказывал, что Елисавета Феодоровна по своему глубокому смирению избегала подобающих ей встреч, почестей, внешнего блеска, предпочитая во всем простоту. Она едет молиться вместе с народом… Она любит быть там, где простота, где скорбь и страдание, чтобы пролить на людей луч утешения.
Ее Высочество подъехала к площади Иверского храма, где была встречена братией монастыря во главе с архимандритом Варлаамом. Все священнослужители были в красных бархатных ризах. «Благоверная Княгиня в серой одежде, как будто прибывшая из другого мира, вышла из коляски. Ее глубокий, молитвенно-сосредоточенный взор с благоговением остановился на Животворящем Кресте, которым осенял ее настоятель обители. Ее добрый и милостивый взор ободрил всю народную громаду, как будто на время находящуюся в немом восторге… Все чувствовали, что окинул их своим ясным взором человек с горячо любящим сердцем и открытой душой»[591]. Приветливо отвечала она народу на его восторженные детские приветствия.
Внимательно выслушала Великая княгиня слово настоятеля монастыря, с поклоном приняла хлеб-соль, вместе со всеми проследовала по дорожке из красного сукна в Иверский храм, где благоговейно приложилась к чтимой Иверской иконе Божией Матери, к иконе Печерских чудотворцев с частицами их мощей. Затем проследовала в приготовленные для нее покои в верхнем этаже большого каменного корпуса.
Не прошло и получаса, как послышался звон к всенощному бдению. Одна служба сменяла другую, и каждую из них посещала Великая княгиня. На одной из служб с проникновенным словом о роли подвижников в нашей жизни выступил игумен Серафим.
Наконец настало время посещения Серафимо-Алексеевского скита, расположенного в пяти верстах от Белой горы, в лесной глуши. Скит сразу создавался игуменом Серафимом как царский в память о рождении Его Императорского Высочества Государя Наследника, Цесаревича и Великого князя Алексея Николаевича. Место под скит было пожертвовано коммерции-советником Павлом Степановичем Жирновым. Им же был выстроен первый скитский храм во имя прп. Серафима Саровского. При совершении первой литургии 22 июня 1905 года был рукоположен о. Серафим. Трудами братии в горе вырыты пещеры: в одной из них, большого размера, по благословению Преосвященнейшего Никанора устроена церковь во имя преподобных Антония и Феодосия и всех Печерских чудотворцев. Закладка этого храма совершена 30 июня 1905 года, а освящение 2 сентября того же года. Устав в скиту строже монастырского, при постной пище во все время года.
При торжественном колокольном звоне и пении скитников тропарей святителю Алексею, прп. Серафиму Великая княгиня проследовала за крестным ходом в Серафимовский храм. За Ее Высочеством следовали в храм казначея Марфо-Мариинской обители милосердия B.C. Гордеева, сестры обители Варвара и Анна, другие лица.
«Редкое, небывалое торжество увидала юная обитель! — писал игумен Серафим. — Среди собравшихся людей всех положений, званий и состояний царило равенство, братство, пламенная вера и взаимная любовь. Всех объединила Царственная Молитвенница. Для всех открыт духовный пир веры в безлюдной пустыне»[592].
После окончания литургии Преосвященнейший Палладий в мантии, епитрахили и омофоре при колокольном звоне направился в пещерный храм, за ним последовала Великая княгиня. Здесь отслужена панихида о благоверном Великом князе Сергее Александровиче. «Усердно молится Августейшая молитвенница, — вспоминал игумен Серафим, — вознося пламенные слезные молитвы к Богу о упокоении с праведными души своего незабвенного благоверного спутника жизни. Царственного страдальца, положившего душу свою за други своя.
Великое дело любить отдельных людей и полагать за них жизнь свою, но несравненно большее дело любить свою святую родину, весь свой родной народ, не щадя и самой жизни»[593].
По завершении службы Ее Высочество пожаловала в скит большого размера икону преподобного Серафима с большой частью камня, на котором молился преподобный тысячу дней и ночей. Этот священный дар для насельников скита стал дороже всех земных сокровищ. Начальнику скита игумену Серафиму Великая княгиня пожаловала свой портрет в рамке с короной и подписью.
Посетив пещерную келью игумена Серафима, Великая княгиня проследовала в деревянную временную часовенку над колодцем у пещерного храма. Здесь Елисавета Феодоров-на выпила чистой воды, которая бьет ключом с горы из-под пещерного храма. Игумен Серафим выразил общую просьбу насельников скита в память о пребывании здесь августейшей паломницы именовать источник Елисаветинским, а над ним выстроить часовню во имя святой праведной Елисаветы, на что было получено согласие Великой княгини[594].
Быстро пролетел день, и вот уже собирается уезжать из скита августейшая гостья. Вот уже лошади стоят у святых ворот. Под звуки «Спаси, Господи, люди твоя…» и трезвон колоколов Ее Высочество садится в украшенную живыми цветами коляску. Медленной рысью пошли лошади по дороге, усыпанной цветами и зеленью. Рыдали, прощаясь, и молодые монахи, и старцы-насельники.
Скрылась из глаз коляска, но еще долго с грустью в душе стояли скитники и пели молитвы.
Вернувшись в Пермь, Великая княгиня прямо с вокзала проследовала на миссионерские курсы братства святителя Стефана Великопермского. При входе Ее Высочества в зал курсисты пели «Достойно есть…» болгарского распева. После молебна педагоги курсов продемонстрировали уровень знаний курсистов, которые на предлагаемые им вопросы давали блестящие ответы. После беседы с педагогами и курсистами Великая княгиня благодарила за хорошую постановку дела и отличные ответы учащихся.
Поздно вечером Ее Высочество отбыла в г. Верхотурье и была первой из Дома Романовых, кто за 300 лет посетил этот город.
В эту паломническую поездку по монастырям Урала Великая княгиня Елизавета Федоровна посетила кроме Перми, Белогорского монастыря, Алапаевск, место своего грядущего убийства, и Верхотурье. В фондах Екатеринбургского историко-краеведческого музея хранятся два документа, связанные с пребыванием Елизаветы Федоровны в этих местах — сафьяновая папка с автографом Великой княгини от 19 июля 1914 года и групповая фотография, сделанная на Каменных палатках[595].
В Верхотурье Великую княгиню торжественно встречали епископ Екатеринбургский Серафим, архимандрит монастыря Ксенофонт, настоятель монастыря Аверкий. Путь к Крестовоздвиженскому монастырю был устлан красным сукном с разбросанными по нему живыми цветами. По обе стороны ковровой дорожки стояли учащиеся, которые бросали под ноги Великой княгини букеты цветов. Над храмом горела надпись: «Да будет благословенно вхождение твое». В соборе состоялась служба у раки св. Симеона Верхотур-ского. В Верхотурье Великая княгиня провела два дня. Все это время она находилась в женском Покровском монастыре в покоях игумений Таисии[596].
Город, готовясь к встрече с высокой гостьей, буквально преобразился — повсюду ремонтировали дома, дороги, улицы, установили несколько триумфальных арок. Стены монастыря, учреждений и даже частных домов были украшены государственными флагами. В вечернее время некоторые дома были иллюминированы. Приезд Великой княгини произвел глубокое впечатление на жителей города. По возвращении в Москву Елисавета Феодоровна направляет в Верхотурье телеграмму, которую недавно обнаружил в архивах настоятель монастыря: «Верхотурье. Архимандриту Ксенофонту. 6. IX. 1914 г. Сердечно благодарю вас и братию за радушный прием. Сохраняю отрадное воспоминание о посещении вашей обители. Храни вас Господь. Елисавета»[597]. Покидая Пермь, Великая княгиня подарила пермскому губернатору свой портрет с автографом, а пермскому полицмейстеру — золотые запонки с сапфирами[598].
После церемонии радостной и взволнованной встречи Великая княгиня проследовала в Крестовоздвиженский собор Николаевского монастыря. При входе в собор Ее Высочество с глубоким благоговением, сделав три земных поклона, приложилась к мощам св. праведного Симеона Верхотурского и после молебна отбыла в Покровский женский монастырь, где для нее были приготовлены покои на время пребывания в городе.
На всенощном бдении Ее Высочество зажгла пожалованную ею к святым мощам праведного Симеона серебряную художественной работы лампаду. Великая княгиня посетила ряд храмов, присутствовала на нескольких богослужениях и причастилась святых Божественных Христовых Тайн.
Абсолютная бессеребреность и стремление к безвестности св. Симеона Верхотурского были давно знакомы Великой княгине. В 1692 году на погосте села Мер-кушинского, на Урале, неожиданно из земли выступил гроб с нетленным телом неизвестного праведника, возле которого начали совершаться чудеса. Архиерейская комиссия установила, что это мощи святого. Общими усилиями местных жителей вспомнили, что праведника звали Симеон, который скрывал свое знатное происхождение из рода южнорусских дворян. Путешествуя по деревням, он шил беднякам полушубки и другую верхнюю одежду. Но чтобы не взимать с них плату, что-нибудь не доделывал и уходил. За что терпел поношения, постепенно достигая полного смирения и нестяжания. Часто молился на камне в тайге. Питание добывал за счет рыбной ловли. Умер святой Симеон в тридцать пять лет. В 1704 году его святые мощи перенесли в Никольский монастырь Верхотурья. С давних пор было известно, что по молитве к св. Симеону люди исцелялись от глазных болезней, паралича, пьянства, он спасал странствующих путешественников[599].
Молитва Великой княгини перед мощами св. Симеона Верхотурского творилась накануне национальной трагедии.
17 июля радостное настроение Великой княгини и всех горожан было омрачено сообщением о мобилизации войск. Началась Первая мировая война.
18 июля после Божественной литургии Великой княгине были преподнесены две иконы — св. праведного Симеона и образ Божией Матери «Утоли моя печали», копию с находящегося в храме архиерейского дома Екатеринбурга и особо чтимую народом. В связи с тревожными днями в Екатеринбург Елисавета Феодоровна уже не могла ехать.
Поздно вечером 20 июля Великая княгиня Елисавета Феодоровна и Великая княгиня Виктория Федоровна, принцесса Баттенбергская с дочерью Луизой отбыли из Перми через Вятку в Москву.
19 июля настоятель Белогорского монастыря архимандрит Варлаам получил из Перми от Ее Императорского Высочества следующую телеграмму:
«Вчера на обратном пути от небесного покровителя здешнего края Симеона праведного молилась за всенощной у горы Благодати, служил епископ Серафим, молитвенно соединялась с вами в тихом благодатном Вашем скиту. Сегодня были за литургией в крестовой церкви епископа Палладия, отрадно было присутствовать на рукоположении Ваших двух иноков. Ввиду осложнившихся политических событий возвращаемся в Москву. С умилением, благодарностью вспоминаю молитвенные дни Белой горы и Ваше теплое гостеприимство. Прошу передать игумену Серафиму и братии Мое молитвенное приветствие с праздником, искреннюю благодарность Вам всем. Елисавета»[600].
Настоятель Верхотурского Николаевского монастыря архимандрит Ксенофонт 20 июня получил из Перми от Ее Высочества телеграмму следующего содержания:
«Очень прошу помолиться, особенно за всю Мою Семью и дорогую нашу Родину. Ужасно скорбное тяжелое время. Ваш небесный покровитель праведный Симеон меня в прошлую войну укреплял и теперь как бы получила Его благословение. Елисавета»[601].
10.10. Паломничество в Кострому
В строительстве гармонии реального мира рождается подлинная культура и общества, и отдельной личности. Относительно законченная стройность этого мира складывается, когда в центре внимания оказываются города и события общенациональной значимости. В России именно такие города и события становились наиболее притягательными для царствующего Дома Романовых, представители которого считали своим долгом непременно посетить Кострому с ее Ипатьевским монастырем, положившим основание правящей династии. Этот город, связанный с романовской Россией, нуждается в особом исследовании как исток многообразных и многострадальных ветвей царского рода, как свидетельство постоянного паломничества к его святыням.
Это обстоятельство хорошо понимал костромской священник Евтихий Петрович Вознесенский, оставивший свои «Воспоминания о путешествиях высочайших особ благополучно царствующего императорского Дома Романовых в пределах Костромской губернии в XVII, XVIII и текущем столетиях». Эта ценная книга, изданная в Костроме в 1859 году, хранится в научно-справочной библиотеке Государственного архива Костромской области. Историко-культурная значимость работы обусловлена тем, что она создана на основе множества уже утраченных источников, таких как летопись Макарьево-Унженского монастыря, копий с жалованных грамот Ипатьевскому монастырю и причту Кинешемского Успенского собора, записок протоиереев Костромского и Кинешемского Успенских соборов, ряда документальных и краеведческих материалов, опубликованных в XIX веке.
Автор обращает внимание читателей на годы 1619, 1767, 1798, 1817, 1824, 1834, 1837 и 1850, которые пробуждают «приятнейшие для сердца русского имена августейших путешественников по нашей родной стране: блаженныя памяти царя Михаила Федоровича и матери Его, инокини Марфы Иоанновны, Императрицы Екатерины II, Императора Павла I с августейшими Его детьми, Великими князьями: Александром Павловичем и Константином Павловичем, Великого князя Михаила Павловича, Императора Александра I Благословенного, Императора Николая I Незабвенного, ныне благополучно царствующего Государя Императора Александра Николаевича, Их Императорских Высочеств Великих князей Николая Николаевича и Михаила Николаевича»[602].
При переиздании этого ценного труда составители предложили вниманию читателей краткую хронику посещений высочайшими особами Императорского Дома Романовых г. Костромы с 1858 по 1918 гг.
До дня, когда Великая княгиня Елисавета Феодоровна впервые посетила Кострому в 1913 году, здесь побывали многие из наиболее близких ей особ рода Романовых.
В эти годы Великая княгиня, все более равнодушная к придворным церемониям, прежде всего стремилась понять неотложные повседневные нужды воинов и детей, которые остро нуждались в ее общении и помощи. Все встречи убеждали ее в таком же внимании к духовной и обыденной жизни костромичей тех представителей рода Романовых, которые посещали город до ее приезда[603]. В 1858 году Кострому посетил Император Александр II, Императрица Мария Александровна. После молебна в Успенском соборе в течение двух дней Их Императорские Величества приняли представителей дворян, купечества, потомков Сусанина; посетили Мариинский детский приют, губернское училище для девиц, Ипатьевский монастырь, завод Шилова, губернскую гимназию, городскую больницу, выставку фабричных произведений Костромской губернии.
Еще более зорким попечителем повседневных нужд костромичей был рано умерший наследник Цесаревич Николай Александрович, посетивший город в 1863 году, где ознакомился с деятельностью прядильной фабрики купцов Зотова, Брюханова, Михина, гвоздильного завода купца Колодезникова, литейного — Шиловых, губернского присутствия по крестьянским делам, изучил произведения, представленные на выставке мануфактурных и ремесленных изделий.
Так же внимательны к успехам костромичей были особы Императорского Дома Романовых, которые посещали город в 1866, 1868, 1888, 1908 гг., где, усердно молясь, прежде всего в Ипатьевском монастыре, они уделяли больше внимания деятельности других монастырей и храмов, учебных заведений, таких как Романовский пансион, принимали делегации костромских крестьян белопашцев, посещали чугуноплавильный и другие заводы.
1913 год стал рекордным по единовременному присутствию особ Дома Романовых в Костроме, куда они прибыли на празднование 300-летия царствования Дома Романовых. Три парохода «Межень», «Царевич Алексей» и «Тургенев» доставили в Кострому Государя Императора Николая Александровича, Государыню Императрицу Александру Федоровну, наследника Цесаревича Алексея Николаевича и Великих княжон Ольгу Николаевну, Татьяну Николаевну, Марию Николаевну и Анастасию Николаевну. В Кострому прибыли также Великая княжна Мария Александровна, Герцогиня Саксен-Кобург-Готская, Великая княгиня Анастасия Михайловна, Великая герцогиня Мекленбург-Шве-ринская, Великая княгиня Мария Павловна, Великий князь Кирилл Владимирович, Великая княгиня Виктория Федоровна, Великий князь Борис Владимирович, Великий князь Андрей Владимирович, Великая княгиня Елисавета Феодоровна, Великий князь Дмитрий Павлович, Великий князь Николай Николаевич, Великая княгиня Анастасия Николаевна, Великий князь Дмитрий Константинович, Великий князь Петр Николаевич, Великая княжна Милица Николаевна, княжна Елена Георгиевна Романовская, герцогиня Лейхтенбергская, Сергей Георгиевич, князь Романовский, герцог Лейхтенбергский, княжна Мария Петровна, Великий князь Георгий Михайлович, Великий князь Александр Михайлович, Великая княгиня Ксения Александровна, Великий князь Сергей Михайлович, Великая княгиня Ирина Александровна, Великая княгиня Ольга Александровна, Принц Петр Александрович Ольденбургский, Великий князь Иоанн Константинович, Великая княгиня Елена Петровна, Великий князь Гавриил Константинович, Великий князь Константин Константинович, Великий князь Дмитрий I Константинович, князь Александр Георгиевич, Герцог Лейхтенбергский, княгиня Елена Георгиевна, герцогиня Саксен-Альтенбургская, Михаил Георгиевич, герцог Мек-ленбург-Стрелецкий[604].
Этот великий общенациональный праздник получил обширное отражение в современной данному событию прессе. А впоследствии были подготовлены более солидные работы, всесторонне обозначившие место Костромы в истории Отечества. Поэтому специально рассматривать мотив пребывания здесь в 1913 году Великой княгини Елисаветы Феодоровны мы не будем. Но обратить внимание на пребывание Ее Высочества в Костроме в 1916 году считаем необходимым.
Прибыв 8 июля 1916 года в Кострому утренним поездом, Великая княгиня в сопровождении губернского начальства отбыла на казанский пароход «Павел» и проследовала прямо в Троицкий соборный храм Ипатьевского монастыря, где с искренним благоговением участвовала в Божественной литургии, отслуженной Преосвященнейшим Евгением. Во время литургии Великая княгиня стояла возле царского трона, присланного Ипатьевскому монастырю 1 июля 1613 года царем Михаилом Федоровичем в память его воцарения в этом храме. Приветствуя Великую княгиню, Преосвященнейший Евгений отметил, что в течение истекших 25 лет Елисавета Феодоровна жила в строгой верности духу и укладу Русской Православной Церкви. И в настоящее время, как подчеркнул далее глава епархии, она продолжает свою высокую благотворительную деятельность по оказанию помощи раненым доблестным защитникам Отечества, что явилось целью приезда в Кострому Ее Высочества в этот раз.
С глубокой благодарностью приняла Елисавета Феодоровна подарок архипастыря — копию чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери и просфору. Затем в сопровождении Преосвященного Евгения прибыла в лазарет Ипатьевского монастыря, размещенный в Арсениевской богадельне для священнослужителей Костромской епархии. В лазарете Великая княгиня беседовала с больными воинами, подарила каждому из них по Евангелию и крестику[605].
Необычность беседы Елисаветы Феодоровны с больным человеком состояла в том, что она удивительным, незримым образом умела восполнить недостаточность формально-логических суждений многих утешителей, которые на рассудочном, чисто материальном уровне пытались преодолеть духовные страдания увечных воинов. Лекарство Великой княгини было иного, духовного свойства и поэтому очень часто становилось действительно целительным.
Из Ипатьевского лазарета Елисавета Феодоровна пароходом прибыла в Романовский госпиталь Красного Креста, а затем в Кафедральный Успенский собор для поклонения чудотворной Феодоровской иконе Богоматери. Не остался без ее внимания лазарет духовенства, а также памятник возле собора, сооружаемый в память трехсотлетия царствования Дома Романовых.
Переночевав в Богоявленском женском монастыре, Великая княгиня присутствовала на заседании Елисаветинского комитета в губернском доме[606]. Посещение таких заседаний в годы Первой мировой войны позволяло яснее видеть достоинства и недостатки в деятельности ее комитета на местах, получать отчетливые представления о сущности трудноре-шаемых проблем и предпринимать необходимые шаги для преодоления неизбежно возникающих препятствий.
Каждый участник подобных заседаний видел, до какой степени волновало Великую княгиню все, что было необходимо для блага Отечества, для помощи воинам и раненным. Личное присутствие Елисаветы Феодоровны на таких деловых встречах становилось ощутимой необходимостью не только в силу ее близости к Государю. В ней зримо проявлялась та искренняя серьезность мыслей и поступков, та моральная сила, которая поддерживала надежду в разрешимость самых сложных вопросов.
О многих событиях во время поездок Великой княгини читатель узнает лишь через короткие, порой косвенные упоминания о них. При всей своей занятости Елисавета Феодоровна стремилась в каждом монастыре, где она ночевала, присутствовать на Божественной литургии. Так и здесь утром 9 июля по желанию Великой княгини была совершена литургия в подхрамовой усыпальнице с небольшой церковью во имя св. вмч. Никиты, тезоименного основателю монастыря, и прп. Сергия Радонежского. После литургии была совершена панихида с поминанием старца Никиты (XV в.), основателя обители, Императора Александра III, Великого князя Сергея Александровича и «зде почивающего схимонаха», нетленные мощи которого были найдены в 1866 г. при сооружении фундамента в северо-западном углу этого храма[607].
В непременном посещении такого рода захоронений, в служении молебнов и панихид праведникам России отразилось особое свойство души Великой княгини. Призванная ежедневно решать трудные практические задачи, причем решать их в высшей степени ответственно и оперативно, Великая княгиня вместе с тем всегда была незримым жителем идеальной страны одухотворенных людей. Поэтому, если вдуматься, то совсем не случайна была для Елисаветы Феодоровны литургия в подхрамовой усыпальнице, вместившей такие высокие духовные смыслы и сущности.
В тот же день в покоях игумений Сусанны Великая княгиня встретилась с 18 ранеными офицерами, душевно беседовала с ними, подарила каждому Евангелие и серебряный крестик. После полудня — встреча в госпитале Крестовоздвиженского монастыря, приписанного в 1886 г. к монастырю Богоявленскому, а в нем — посещение яслей общества «Помощь детям». Не обошла своим вниманием Елисавета Феодоровна и госпиталь при фабрике Товарищества Большой льнопрядильной Новой Мануфактуры (воины получили в дар те же предметы, а воины-евреи — по Псалтири на еврейском языке)[608].
И где бы Елисавета Феодоровна ни бывала: в Ипатьевском монастыре, в детском приюте в доме Акатова, в лазаретах женского Богоявленского монастыря, льняной мануфактуры или в лазарете в доме Столонина — повсюду люди видели ненарочитое, но очевидное всем личное свидетель-ствование о величии и могуществе христианской веры Великой княгини. И взрослые раненые воины, и дети чувствовали, что Великая княгиня верит в промыслительное и своевременное вмешательство небесных сил в ход болезни и преодоление разного рода невзгод. Уникальный талант человеческого общения Елисаветы Феодоровны придавал неповторимый мягкий блеск Дому Романовых.
Завершая этот раздел книги, необходимо заметить, что ряд важных паломнических путешествий Великой княгини остался вне специального внимания. С одной стороны, в силу достаточного отражения тех или иных событий в литературе (например, паломничество на Святую Землю, в Саров, Троице-Сергиеву лавру, Саввино-Сторожевский монастырь, Зосимову пустынь и т. д.). С другой — в связи с необходимостью выявления некоторых деталей путешествия, но невыполнимости этого в рамках одного исследования и т. д. Материал, предлагаемый здесь, позволяет акцентировать еще раз несколько моментов.
Многоплановые паломнические поездки Великой княгини соединяли царственную паломницу с народом России, раскрывали ему облик полной гармонии и духовной цельности представительницы Царской семьи. В своем стремлении глубже постичь главные ценности народа Великая княгиня в каждой паломнической поездке открывала для себя, что русскому человеку, по словам Ушинского, «дороже всего небо, выше всего вечная правда».
Постижение этой отзывчивой богоносной души народа становится тем важнейшим сокровищем, которое Великая княгиня обретала в паломнических путешествиях.
Великую княгиню Елисавету Феодоровну при ее жизни называли Ангелом-хранителем Москвы, небочеловеком, устремленным к единственному Идеалу. Поэтому, преодолевая трудности долгого пути, зной и непогоду, устремлялись к ней люди, осведомленные о времени ее паломничества. Великую княгиню всегда встречали звоном колоколов; путь, по которому она шла к храму, покрывали красным сукном и усыпали цветами, а духовенство встречало ее в красных пасхальных ризах. Соборные площади к приезду царственной паломницы украшали надписями на полотнищах: «Благословенна грядущая во имя Господне»; «Боже мой, к Тебе утренюю»; «Блажен, кто вместо всех стяжаний приобрел Христа».
Благочестивый русский народ хорошо знал чистую, целомудренную жизнь Великой княгини, наполненную благотворительными трудами, ощущая внутренне духовное родство с августейшей паломницей.
Проходя школу духовного воспитания у старцев Алексия и Германа Зосимовских, у старца Гавриила из Спасо-Елеазаровской пустыни, подвижников Чудова монастыря, Оптиной пустыни, Великая княгиня укреплялась духовно перед грядущими испытаниями. Поэтому особой сосредоточенностью отличались ее паломнические поездки в Царские обители, предназначенные для молитвенной защиты помазанников Божиих. Не случайно внимание августейшей паломницы привлекали монастыри особой аскетической строгости и уставной бедности скитов. Паломнические посещения таких обителей (например, Белогорского монастыря, Серафимо-Алексеевского скита возле Перми) было похоже на земной венец ее подвигов. Оно оказалось своеобразным предчувствием, освящением пути последних земных страданий, преддверием мученичества за принадлежность к Царской семье и за глубину христианской веры.
[500] ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1254.
[501] Там же. Л. 44-47 об
[502] Джунковский В.Ф. Воспоминания. Т. I. С. 398, 400.
[503] ТГОМ. Каш Ф. КВФ. 141. Кашинский филиал Тверского государственного музея.
[504] Протоиерей Иоанн Попов. В Кашин и Полтаву. Владикавказ, 1909. С. 6
[505] ТГОМ. Каш Ф. КВФ. 141. С. 54. Кашинский филиал Тверского государственного музея. С. 56
[506] Протоиерей Иоанн Попов. В Кашин и Полтаву. С. 7
[507] Там же.
[508] ГТОМ. Каш Ф. КВФ. 141. Кашинский филиал Тверского государственного музея. С. 56
[509] Тверские епархиальные ведомости. 1909. № 23-24. С. 256
[510] Московский листок. 1909. № 135. С. 2
[511] Там же. № 134. С. 12.
[512] Тверские епархиальные ведомости. 1909. № 23-24. С. 258.
[513] Тверские епархиальные ведомости. 1909. № 25. С. 275-282
[514] Тверские епархиальные ведомости. 1909. № 20. С. 391
[515] ТГОМ. Каш Ф. КВЖ 1481
[516] Громов М.Н. Философская семантика образа святого Георгия // Святой Георгий Победоносец в истории и культуре. Сост. и отв. ред. И.К. Кучмаева, М.Н. Громов. М., 2000. С. 18
[517] Смолич И.К. Русское монашество. М., 1999. С. 434
[518] Там же. С. 434-435
[519] Тамбовские епархиальные ведомости. 1886. 1 ноября
[520] Там же.
[521] Там же.
[522] Там же.
[523] Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание чудотворных Ее икон. Ярославль, 1993. С. 222-223
[524] Пребывание Их Императорских Высочеств Великого князя Сергея Александровича и Великой княгини Елизаветы Федоровны в пределах Ярославской губернии. 2-6 июня 1892 г. Ярославль, 1892. С. 1.
[525] Там же. С. 20
[526] Там же. С. 25
[527] Там же. С. 26
[528] Там же. С. 32-33
[529] Там же. С. 35-36
[530] Там же. С. 70-71
[531] Словарь исторический о русских святых. М., 1990. С. 147
[532] Пребывание Их Императорских Высочеств Великого князя Сергея Александровича и Великой княгини Елизаветы Федоровны в пределах Ярославской губернии. 2-6 июня 1892 г. Ярославль, 1892. С. 98-99
[533] Там же. С. 102
[534] Там же. С. 104
[535] Мищенко А.К. Святые Елизавета и Сергий (пребывание в Орле). Орел, 2004. С 7
[536] Там же. С. 31
[537] Там же. С. 33
[538] Там же. С. 34
[539] Там же.
[540] Там же. С. 10
[541] Свято-Введенский женский монастырь Орловской епархии. Орел, 2004. С. 4
[542] Там же. С. 2
[543] Там же. С. 3-4
[544] Там же. С. 6
[545] Там же. С. 5-6
[546] Сказание о чудотворных иконах Богоматери и ее милостынях роду человеческому. Коломна, 1993. Т. 1. С. 399-400; Энциклопедия православной святости Авт.-сост. А.И. Рогов, А.Г. Парменов. М., 2003. Т. I. С. 69
[547] Мищенко А.К. Указ. соч. С. 10-11
[548] Волошун П.В., Ефимов А.Б. Покровительство Великой княгини Елисаветы Феодоровны Православной Уфимской Миссии // Петербург и Москва в жизни Великой. княгини Елисаветы Феодоровны. Отв. ред. И.К. Кучмаева. М., 2008
[549] Там же.
[550] Там же.
[551] ЦИАМ. Ф. 1786. Оп. 1. Ед. хр. 147. Л. 2, 2 об
[552] Там же. Л. 2 об
[553] Там же. Л. 3
[554] Там же. Л. 3 об.
[555] Там же. Л. 4
[556] Голос долга. (Пермь). 1912. № 8. С. 438-439
[557] Энциклопедия православной святости. Т. I. С. 64
[558] Энциклопедия православной святости. Т. I. С. 320-321
[559] Голос долга. Пермь. 1913. №2. С. 112
[560] Там же. С. 13
[561] Энциклопедия православной святости. Т. II. С. 63, 151
[562] Там же. С. 102-103
[563] Там же. Т. I. С. 273-277
[564] Голос долга. Пермь, 1912. № 6. С. 343
[565] Голос долга. Пермь, 1915. №3. С. 184-185
[566] Православные обители России. М., 1998. С. 119-123
[567] Голос долга... С. 188-189
[568] Там же. С. 192-193.
[569] Там же. С. 194
[570] Голос долга. Пермь, 1915. № 4. С. 237
[571]Там же. С. 238. В период ГУЛАГа в храме скита был устроен штрафной изолятор. А.И. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» рассказывает об изуверском характере пыток в этом изоляторе: так называемые «жердочки», на которых заключенные должны были балансировать, не касаясь ногами земли и не засыпая; лестница, по ступеням которой смертников скатывали с этой высокой горы, привязав к бревну. У подножия Секирной горы проходили массовые расстрелы. У лестницы, ведущей на вершину горы, в 1992 году был воздвигнут деревянный крест в память о мучениках и жертвах Соловецкого лагеря
[572] Там же. С. 239
[573] Во времена ГУЛАГа храм братского кладбища был единственной действующей церковью Соловков до конца 1920-х годов. В 1939 году разрушен до основания. Православные обители России. С. 176— 177
[574] Голос долга ... С. 243
[575] Цит. по: Смолич И.К. Русское монашество. М., 1999. С. 367-368
[576] Голос долга. Пермь, 1914. № 12. С. 759.
[577] Православные обители России. С. 328-329, 330-331, 334,343
[578] Русский паломник. 1914. № 29
[579] Там же.
[580] Зайцев Б.К. Река времени. От Афона до Оптиной. М., 2007. С. 458-486
[581] Там же. С. 490
[582] Голос долга. Пермь... 1914. № 8. С. 521-522.
[583] Энциклопедия православной святости. Т. II. С. 202-204
[584] Голос долга. Пермь... 1914. № 8. С. 530-532
[585] Там же. С. 533
[586] Там же. С. 534
[587] Там же. С. 536
[588] Голос долга. Пермь, 1914. №9. С. 611
[589] Там же. С. 613.
[590] Там же. С. 615
[591] Там же. С. 617
[592] Там же. 1914. № 10— 11. С. 708
[593] Там же. С. 710
[594] Там же. С. 711
[595] Великая княгиня Елизавета Федоровна в Верхотурье. Верхотурье, s.d., s.l. С. 4
[596] Там же.
[597] Там же. С. 6
[598] Россия. Романовы. Урал. Сб. материалов. Екатеринбург, 1993. С. 23
[599] Энциклопедия православной святости. Т. II. С. 157-159
[600] Голос долга. Пермь, 1915.№2.С. 114-115
[601] Там же. С. 115
[602]Вознесенский Е.П. Воспоминания о путешествиях высочайших особ благополучно царствующего Императорского Дома Романовых в пределах Костромской губернии в XVII, XVIII и текущем столетиях. Кострома, 1859. СП
[603] Там же: Приложение.
[604] ГАКО. Ф. 756. Оп. 1. Ед. хр. 266. Л. 199-200.
[605] Костромские епархиальные ведомости. 1916. №1. С. 202
[606] Там же.
[607] Там же. С. 202-203
[608] Там же. С. 203
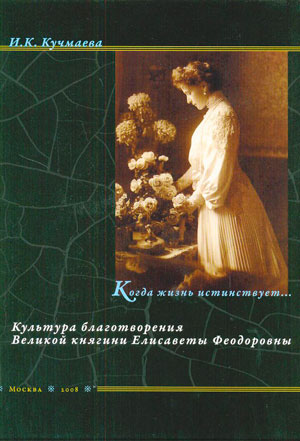
Комментировать