- Когда жизнь истинствует...
- Введение
- Глава 1. Истоки
- 1.1. Рейнская Сивилла
- 1.2. Св. Елизавета Тюрингенская: жизненный путь и жертвенное призвание
- 1.3. В родительском доме принцессы Гессенской и Рейнской
- Глава 2. Русский избранник принцессы Елизаветы
- 2.1. Детство и юность Великого князя Сергия
- 2.2. Великая мать Великого князя
- 2.3. Венчание Елисаветы и Сергия
- Глава 3. Петербург. Вхождение в мир русской культуры
- 3.1. Образ дома
- 3.2. «17 тетрадей»
- 3.3. Колокола рая
- Глава 4. Хлеб-соль Москвы — Великому князю и Великой княгине
- 4.1. В Александрийском дворце и на Тверской
- 4.2. Откровение о народной душе
- 4.3. Феномен благотворительного базара
- 4.4. Дружба с творческой интеллигенцией Москвы
- 4.5. Музыка в жизни великокняжеской четы
- 4.6. Контакты Великой княгини с дирекцией императорских театров
- 4.7. Поддержка образовательных начинаний
- Глава 5. Жизнь в подмосковном Ильинском
- 5.1. В окрестностях Саввино-Сторожевского монастыря
- 5.2. Жизнь в Ильинском в дни коронования Николая II
- 5.3. Детские воспоминания Великой княжны Марии Павловны о бытии Елисаветы Феодоровны в Ильинском
- 5.4. Культурная среда в подмосковном имении великокняжеской четы
- 5.5. Екатерина Шнейдер о повседневной жизни в Ильинском
- 5.6. Ильинское в дневниковых записях Великого князя Константина Константиновича
- 5.7. Отклик Великой княгини на беды и радости Ильинского
- 5.8. Дворец великокняжеской четы в Усово
- Глава 6. Августейшая попечительница детских приютов в Москве
- 6.1. Елисаветинское благотворительное общество
- 6.2. Комитет по устройству детских очагов в Москве
- 6.3. Награды Елисаветинского благотворительного общества
- 6.4. Общество попечения о неимущих и нуждающихся в защите детях в Москве
- Глава 7. Трагедия Великой княгини
- 7.1. Завещание Великого князя
- 7.2. Москва в трауре
- 7.3. Молитвенный памятник в Кремле
- 7.4. Возведение Сергиева скита
- 7.5. В память всех погибших во время смут
- Глава 8. Милосердная помощь русским воинам (1904–1905 гг.)
- Глава 9. Великая обитель Великой Матушки
- 9.1. Устав Обители. Основные учреждения
- 9.2. Повседневная жизнь Обители
- 9.3. Великая матушка в дни стихийных бедствий
- 9.4. Великая княгиня и M.B. Нестеров в годы создания Покровского храма Обители
- 9.5. Освящение Покровского храма
- 9.6. Игумен Серафим о подвиге сестер Обители в дни Первой мировой войны
- 9.7. Неотвратимость надвигающейся бури
- 9.8. Последние годы святого духовника Обители
- Глава 10. Августейшая паломница
- 10.1. Кашинские торжества
- 10.2. Посещение обители великого Вышенского затворника
- 10.3. Верхневолжское паломничество великокняжеской четы к христианским святыням
- 10.4. Орел. Паломничество в город воинского служения Великой княгини
- 10.5. Великая княгиня в Уфимской епархии
- 10.6. Паломнические путешествия Великой княгини в 1911 и 1912 гг.
- 10.7. Соловки
- 10.8. Паломничество Великой княгини в Оптину пустынь
- 10.9. Белогорье — путь на Сибирский Афон
- 10.10. Паломничество в Кострому
- Глава 11. Духовные наставники и друзья Великой княгини
- 11.1. Духовное учительство
- 11.2. Помощь ближним
- 11.3. Память о почивших друзьях
- 11.4. Поклонение святым
- Глава 12. Комитет Великой княгини в дни Первой мировой войны
- 12.1. Основные направления деятельности
- 12.2. Источники средств
- 12.3. «Под благодатным небом»
- 12.4. Личное внимание к страждущим
- Глава 13. Святыни Дармштадта и Майнау
- Глава 14. Уроки великокняжеской четы: русская святость и русская культура
- Послесловие
- Примечания
Глава 5. Жизнь в подмосковном Ильинском
С момента встречи с Великим князем в Елисавете Феодоровне вызревает и пробуждается нечто более драгоценное, чем образованность и воспитанность, приобретенные в юные годы. Пробуждение это предвещает восторженная встреча Елисаветы Феодоровны русским народом, когда она впервые посещает Россию. При всем многообразии встреч с древними обителями России, музеями, картинными галереями, с радушными людьми ее круга постепенное пленение новой отчизной совершалось в долгие летние дни в окрестностях Звенигорода, в имении Великого князя Ильинском. Здесь, вдали от городской суеты происходило вхождение Елисаветы Феодоровны в православную веру, здесь она постигала тайну души русского крестьянина. Ежегодный продолжительный летний отдых в Ильинском с 1884 г. до трагической гибели Великого князя в 1905 г., совместное чтение православной литературы, помощь деревенским детям, создание для них школы, церковные службы, дружеские спектакли, складывающаяся общность запросов, привычек, желаний, интересов — все это формировало великокняжескую семью, отмеченную многозначным понятием «единство». Здесь Елисавета Феодоровна с Сергеем Александровичем совер шали продолжительные прогулки, собирая цветы, в особенности васильки, и лесную клубнику.
Жизнь в Ильинском протекала в стабильном ритме, с однажды установленным распорядком дня. Начало большому сбору на обед давали часы, привезенные со всемирной Лондонской выставки. Элла любила смотреть на механизм часов, где приведенные в движение молоточки методично отстукивали по серебряной чашечке положенное время.
После обеда музицировали или читали вслух. Однажды Великий князь Константин Константинович предложил читать «Бедных людей» Достоевского. Он говорил, что эта книга когда-то потрясла его до слез. Но Сергей возразил, так как считал, что Достоевский слишком тяжел для Елисаветы. Константин был готов немедленно достать «Идиота» на французском языке. Однако Сергей отклонил и это предложение. Тем самым Великий князь Сергий обозначал темы, которые ранимая душа его жены не осилит. Он проявлял таким образом внимание к душе Эллы, которую рассматривал как самостоятельную безусловную ценность.
Вечером обычно с гостями пили чай[251].
Примечательны в этом отношении фрагменты из дневника Великого князя Константина Константиновича о пребывании в Ильинском в сентябре 1884 г.: «Какая тишина, какое спокойствие… Все веселы, довольны… На душе у меня было так тихо… Холодная погода, но ясно. Странно, здесь, в Ильинском, я чувствую себя более дома, чем летом на Дудергофской даче… После завтрака до 6 часов была репетиция. Потом мы с Сергеем вдвоем вышли погулять. Солнце садилось, освещая холодными, румяными лучами оголенную осенью природу и золотя желтые верхушки деревьев. Мы разговорились. Он рассказывал мне про свою жену, восхищался ей, хвалил ее; он ежечасно благодарит Бога за свое счастье»[252].
Далее Великий князь Константин Константинович дает яркую зарисовку крестьянского праздника на Воздвижение Креста Господня, который великокняжеские семьи после обедни помогали организовывать. Это был настоящий народный праздник, инициатором которого был Сергей Александрович. В празднике участвовали и зажиточные, и бедные крестьяне, а также множество детей. Победителям в детских состязаниях Елисавета Феодоровна вручала призы. Играли в лотерею, получая из рук Великой княгини выигрыши на каждый билет: байковые одеяла, платки, ситец на платья и рубахи, самовары, сапожный товар, фарфоровые чайники и чашки с блюдцами. Запускали бумажный воздушный шар. Елисавета Феодоровна дарила детям игрушки. Здесь были волчки, деревянные мельницы, трубочки, дудочки. В толпу детей летели пригоршни конфет, пряников, орехов.
В переписке управляющего двором Великого князя с разными лицами, сохраняемой в ГАРФе, много прошений о помощи, об устройстве на работу, немало телеграмм, благодарений, просьб о жертвовании на воспитание сирот. Великокняжеская чета с любовью занималась решением этих вопросов не только в городе, но и во время отдыха в Ильинском. В массиве сохранившихся бумаг можно встретить имена множества детей, которым Великий князь оказывал систематическую материальную помощь для их обучения в гимназиях, училищах, музыкальных школах — таких, например, как Александро-Мариинское училище, лицей цесаревича Николая, училище при церкви Святого Михаила, школа в Свято-Варваринском сиротском доме, в Императорском техническом училище и т. д.[253].
Есть здесь также искренние и бескорыстные предложения о помощи в любом качестве. В их числе — предложение о профессиональном описании усадьбы Ильинское со всеми ее архитектурными и историческими достопримечательностями. В ряду подобных обращений привлекает внимание письмо к Сергею Александровичу и Елисавете Феодоровне от девушек-наборщиц частной типографии Гербек Елизаветы Константиновны, которые очень хотели бы пропеть литургию в церкви Ильинского в присутствии Великого князя и Великой княгини. В письме сообщается, что в хоре 25 девушек. Регент — певчий хора Чудова монастыря Золотницкий. Хор поет в Москве в храме Адриана и Натальи. Сергей Александрович и Елисавета Федоровна с радостью приняли это предложение[254].
Жизнь в Ильинском, сотканная из любви и ежедневной милостыни, приближала великокняжескую чету к перво-творческим основаниям мира, сообщала полноту и цельность бытию, показывала, что мир держится идеальными связями людей. Становилось все более очевидным, что необходимость этих связей важна не только для тех, кто доверчиво пишет прошение, но и для тех, кто с радостью оказывает помощь. Ежедневное творение добра через невидение собственных достоинств выводило на путь, соответствующий смыслу человеческой жизни. Усердная милостыня, как избавление от гнета богатства, указывала на подлинный источник переживаемой благодати.
Показательным актом снятия обременительных для души ограничений было непосредственное общение, особенно в праздничные дни, с крестьянскими детьми и молодыми непрофессиональными хористами. Юные поклонники великокняжеской четы при встрече радовались, что не ошиблись в своем ожидании.
В этот первый год совместной жизни великокняжеской четы раздавалось немало злобных голосов в адрес Великого князя. Как бы отвечая всем на клевету, Елисавета Феодоров-на просила брата говорить о ней что угодно, но не прикасаться грязным словом к Сергею. Она просит брата сказать всем, что она обожает мужа и Россию. И таким образом научилась любить религию этой страны, называя православие самой высокой религией. В другом письме она сообщает бабушке, королеве Англии, что очень хочет повидать ее, но занятость мужа не позволяет ей предпринять это путешествие, которое она не мыслит без «драгоценного Сергея».
Великая княгиня никогда не смогла бы учить людей этикету семейной жизни, если бы не сумела достойно выстроить свое бытие. Абсолютные ценности-святыни жили в ее сердце нерасторжимо от образа Великого князя. Такой уровень отношений означал прорыв горизонта общечеловеческого и выход к вышемирным ценностным истокам.
5.1. В окрестностях Саввино-Сторожевского монастыря
Великий князь и его августейшая супруга, давая свой человеческий ответ Богу, более всего реагировали на почитание их усадебной Ильинской церкви. Осознавая, что церковь есть, по слову св. Феофана Затворника, «вместилище сосудов благодати», а также понимая, что церковь — это мир Таинств, через посредство которых происходит Бого— и человекообщение, они пристально вглядывались в образы посылаемых им духовных почитателей.
В первый же год совместной жизни великокняжеской четы они посетили находящийся поблизости Саввино-Сторожевский монастырь, куда самого Сергея Александровича привезли, когда ему было 4 года. Монастырь всегда занимал особое место в жизни русских государей, в строении монаршей семьи. Высокопреосвященный Леонид, архиепископ Ярославский, вспоминает об одном из посещений Саввино-Сторожевского монастыря Великой княжной Марией Александровной и Великим князем Сергеем Александровичем. «Мы остановились в роще у самой лестницы, ведущей к пещере. Резко запели малые здешние колокола. Внизу Великого князя братия встретила с крестом и святой водою. Я ввел в пещеру князя и княжну, рассказал им, что сюда преподобный удалялся на молитву, что здесь молились их родители, помолился с ними и дал им по иконе „Преподобный в пещере». Отсюда взошли в церковь, где я прочитал перед храмовою иконою молитву преп. Саввы. Строгость византийского рисунка и изящность отделанного иконостаса из орехового розового дерева очень им понравилась… Я спросил Великую княжну, как нравится ей здешняя местность. Она… сказала: «Здесь лучше Ильинского»»[255].
Неудивительно, что первое же посещение святой обители Великой княгиней стало для нее событием огромной важности, ибо в центр духовной жизни этого монастыря были поставлены смыслообразующие основы бытия, выраженные, в частности, в высоких образцах древнерусской богослужебной практики. И если Саввино-Сторожевскому монастырю суждено было стать многовековой резиденцией и ядром царского паломничества, единственной обителью, где были построены и царевы, и царицыны палаты, то дело здесь не в самом обычае гостеприимства, свято соблюдавшемся в монастырях нашими предками, и не просто в уникальности уголка природы, где расположен монастырь. Государи тем охотнее посещали Саввино-Сторожевский монастырь, чем очевиднее становилось внутреннее единство обители в верности основным ценностям, Отечеству и престолу, незримо укрепляемое преподобным Саввой и его святым учителем преподобным Сергием Радонежским.
Именно здесь, вдали от столичной суеты, Великая княгиня начинала осознавать, что промысел Божий незримо вершил свое дело в России, где государи в виде простых богомольцев ходили от монастыря к монастырю, покаянно, вместе с народом стояли у подножья Креста Господня. Смиренными подвигами русских святых и непрестанной молитвой государей охранялась и укреплялась земля.
Русские монастыри и русские государи в деле православного служения имели общее оружие: крест, Евангелие и молитву. Монастырь спешил дать опору государям, поднять любовь к Отечеству на уровень религиозного служения.
Живя летом в окрестностях знаменитой обители, Великий князь Сергий подводил Великую княгиню Елисавету к пониманию главного. С устроением хорошего монастыря связана подлинная основа самосознания и русского народа, и русских государей. Монастырь был тем более привлекателен для Великой княгини, что он испокон веку складывался как уникальный центр культуры.
Во время съемок небольшого сюжета о Саввино-Сторожевском монастыре, который был показан по РТР в программе «Сад культуры», режиссер передачи задала вопрос: «Каково культурное значение монастыря?» Отвечая на этот вопрос, можно было бы рассказать о традициях церковного пения и колокольного звона, об уникальной архитектуре, о необыкновенной библиотеке, культуре монастырского сада, о том месте, которое занимала обитель в жизни русского духовенства, известных деятелей культуры. Однако в конечном счете ответ на этот вопрос зависит от того понимания культуры, которое мы избираем. Поэтому по телевидению прозвучал следующий ответ: «Если культуру понимать как обретение опыта богообщения, то Саввино-Сторожевский монастырь — это самый плодоносный сад духовной культуры».
Обитель, в свое время названная «небесным раем», играла незаменимую роль в жизни династии Романовых. Богомолье в ее стенах, щедрые жертвования стали для великокняжеской четы необходимым этапом к подготовке и совершению в ближайшем будущем духовных и гражданских подвигов.
С момента назначения Великого князя Сергея Александровича генерал-губернатором Москвы подмосковное Ильинское занимает еще более прочное место в жизни великокняжеской четы.
5.2. Жизнь в Ильинском в дни коронования Николая II
Особой вехой в жизни Их Императорских Высочеств стало коронование на престол Николая II в мае 1896 г. По случаю коронования к подмосковным имениям русской знати стекалось множество гостей. Ф.Ф. Юсупов вспоминает, что в эти дни особенно многолюдно было в его имении Архангельское и в Ильинском, имении Великого князя Сергея Александровича и Елисаветы Феодоров-ны, которые с утра до вечера принимали у себя гостей и родных. Поскольку Ильинское находилось всего в пяти верстах от Архангельского, Сергей Александрович и Елисавета Феодоровна часто появлялись в Архангельском у Юсуповых, где всегда звучала музыка, радовал глаз прекрасный архитектурно-ландшафтный ансамбль имения.
Появлялись здесь и Государь с Государыней — на балах, по блеску не уступавших дворцовым.
На торжество коронования прибыла в Москву и единственная дочь Александра II Мария Александровна, родная сестра Сергея Александровича, которая вышла замуж за Альфреда, принца Эдинбургского и переехала жить в Англию. Многие считали этот переезд огромным счастьем. Но Великая княгиня Мария Александровна очень любила Россию, была глубоко православным человеком, безмерно любила свою мать, Императрицу Марию Александровну и никогда не чувствовала себя вполне счастливой в Англии. Поэтому она была бесконечно рада каждому посещению Москвы. В 1896 г. она привезла в Москву на коронацию детей.
Ее дочь, в будущем королева Румынии Мария, оставила весьма интересные воспоминания о пребывании в этот год (и другие годы) в Ильинском и Архангельском[256].
В книге «История моей жизни» она вспоминает, что Великий князь Сергей Александрович летом 1896 г., в дни коронационных торжеств, пригласил их в течение нескольких недель пожить в Ильинском. Но поскольку там невозможно было разместить всех, часть гостей пригласили Юсуповы в Архангельское.
Дети были поражены множеством скульптур в парке Архангельского, радовались возможности покататься верхом и на лодках по реке, обилию танцев, пикникам и ужину под луной, посещениям соседних княжеских имений.
Хозяйкой была необыкновенно привлекательная женщина З.Н. Юсупова, с дивными серыми глазами, очаровательными волосами и невероятно добрая. Она распространяла радость вокруг себя.
Дядя Сергей в Ильинском, как вспоминает королева Мария, был исключительным хозяином. Он хотел, чтобы все хорошо провели это время.
Вместе с тем, «он был строг и критичен, подобно Мама, в то время как дядя Павел (Великий князь Павел Александрович. — И.К.) был нашим настоящим защитником, когда Мама обвиняла нас во фривольности»[257]. За эту защиту малыши благодарили дядю Павла и целовали его.
«Дорогой дядя Павел, — пишет королева Мария, — у него был такой приятный голос. Он всегда был добр ко всем. А как он был строен, оба брата Сергей и Павел были преданы друг другу, но являлись контрастом: один строгий, почти до неистовства, другой — мягкий, добродушно-веселый и легко прощающий. Я искренне любила их обоих»[258].
Из всех дядьев (сыновей Александра II), как подчеркивает королева, дети более всего боялись дядю Сергея, но, несмотря на это, он был их фаворитом. Он был строг, держал детей в благоговейном страхе, но он любил их… Он никогда не проходил мимо плохого детского поступка[259]. Если имел возможность, приходил, чтобы проследить за купанием детей, укрыть одеялом и поцеловать на ночь.
Королева Мария вспоминает удивительно эффектную внешность Сергея Александровича: он носил коротко стриженную красивую бороду. В темно-зеленом кителе, галифе, высоких сапогах и маленькой белой фуражке он имел внушительный неприступный вид: резкие движения, краткая речь, стальные глаза.
«Но, о, как красив он был, с такой необыкновенной выправкой, с такой внушительной фигурой, хотя не было сомненья в том, что в его лице было нечто фанатичное, как и в его сердце. Но когда я смотрела на него доверчивыми, обожающими глазами маленькой девочки, которая пренебрегала тяжелыми, жестокими, недобрыми явлениями этого мира, его стальной взор на минуту смягчался…»[260]. Все видели, что он не был похож на своих братьев. Это был совсем иной тип личности. Но, несмотря на это, «мы любили его, ощущая непреодолимую тягу к нему»[261].
А вот тетя Элла обладала, как вспоминает королева, «ангельской красотой». Дядя Сергей часто был резок с ней, как и со всеми другими, но поклонялся ее красоте. Он часто относился к ней, как школьный учитель. «Я видела восхитительную краску стыда, которая заливала ее лицо, когда он бранил ее….»Но, Серж…» — восклицала тогда она, и выражение ее лица было подобно лицу ученицы, уличенной в какой-либо ошибке. Как только я вспоминаю это ее смирение, мое сердце тает»[262].
В течение нескольких недель 1896 г. и в иные времена, наблюдая жизнь великокняжеской семьи, королева Мария заметила, что у тети Эллы были удивительные драгоценности. И дядя Сергей, который обожал ее, хотя и был строг к ней, рад был придумывать разные причины и поводы, чтобы дарить ей необыкновенные подарки.
Сергей Александрович был счастлив, что может дать отдохновение своему Государю, в дневнике которого можно прочесть слова восторга об этом тихом, хорошем месте.
Здесь занимались спортом, катались верхом, играли в теннис, разгадывали шарады, ставили сценки. Николай Александрович признавался, что для этой цели в Ильинское из Москвы привезли целый театральный гардероб.
5.3. Детские воспоминания Великой княжны Марии Павловны о бытии Елисаветы Феодоровны в Ильинском
В «Воспоминаниях» читатель ясно видит те достоинства и недостатки, которые присутствовали в системе обучения племянников Сергея Александровича и Елисаветы Феодоровны. Вполне ощутим характер рефлексии детей по поводу той суммы знаний, которую они получали в Ильинском и Петербурге. Наряду с резким неприятием этой системы очевидно признание ее единственности: «…даже если бы у меня были живы мать и отец, совместно ведущие свое хозяйство, это бы ничего не изменило: меня воспитывали в строгом соответствии со стандартами и правилами, которые существовали почти во всех дворах европейских монархов в конце девятнадцатого столетия.
Воспитанию как таковому придавалось мало значения: главным, по мысли моих наставников, было обучение началам православной веры и внушение норм нравственности»[263].
Однако ощущение разочарования в подготовке к практической жизни не отменяет главной ценности этого обучения — евангельского обоснования познавательного процесса. Всецелое вхождение великокняжеских детей в православие, участие с ранних лет в делах милосердия, воспитание культуры и благочестия формировали исполненную горнего зова жизнь.
Не понимая в те далекие годы уникальной значимости такого воспитания, великая княжна пишет: «О моем образовании не заботились и давали мне весьма поверхностные знания… К тому времени, когда меня вытолкнули во взрослую жизнь, я скорее была подготовлена для монастыря, чем для плавания по житейскому морю»[264].
Необходимо отдать должное прямоте и безапелляционности, с какой Мария Павловна высказывала свои суждения. Тем не менее справедливости ради следует заметить, что Великая княгиня Елисавета Феодоровна не выталкивала во взрослую жизнь свою воспитанницу, но стремилась устроить ее бытие наилучшим образом. Однако она и предположить не могла, что Марии Павловне придется строить свою жизнь после развода с мужем, после революции совсем по иным законам и вдали от родины. Это воспитание не готовило человека к практической жизни в Америке. Здесь Марии Павловне пришлось учиться законам бизнеса и выживания, получая великий урок через множество испытаний и бед.
«Но, — признается Мария Павловна, — несмотря на все отрицательные стороны моего воспитания и обучения, обстановка, в которой я росла, была удивительной и чарующей. Она была далека от условий современной жизни, старомодна… но во всех своих частностях пронизана патриархальным духом, что располагало к себе и глубоко волновало»[265].
Когда Мария Павловна после развода с мужем приехала в Петербург, Великая княгиня все поняла, горько пожалела о поспешности, с которой она выдала племянницу замуж. Для восстановления здоровья Мария Павловна отправилась отдыхать в Италию и Грецию, на о. Корфу, где родилась ее покойная матушка. Это место она с радостью увидела как «сказочное».
Встретив Великую княгиню после разлуки, Мария Павловна ощутила, что вокруг Елисаветы Феодоровны в эти годы «образовалась тонкая дивная аура». Она расширила круг своей благотворительной деятельности, но в глубине души всегда лелеяла мысль о полном отдалении от мирской суеты, даже от управления своим любимым монастырем. Она хотела вести жизнь отшельницы и втайне надеялась, что я займу ее место»[266].
И в Петербурге, и в Москве, и в Швеции, куда Елисавета Феодоровна уже в монастырском одеянии приезжала навестить племянницу, в ней чувствовалась спокойная уверенность, полная удовлетворенность от того, чем она занималась. Мария Павловна даже позавидовала тогда своей тете и попросила взять с собой, принять в обитель. Но Елисавета Феодоровна «лишь печально улыбнулась на мою горячность и ничего не ответила»[267]. Ей была очевидна неготовность Марии Павловны к безответному служению. Дальнейшая судьба племянницы подтвердила эту мысль. Великая княгиня внимательно наблюдала за духовным развитием Марии Павловны, но никогда не пыталась открыто повлиять на ее решение.
Несмотря на печальные события семейной жизни, в Швеции Мария Павловна приобрела для себя ряд полезных знаний и навыков — в школе верховой езды, в художественной школе, на уроках пения и фортепиано. Однажды по дороге в художественную школу она познакомилась со старым кондуктором, который пленил ее тем, что из своего заработка регулярно переводил деньги небольшому дому для незаконнорожденных детей, брошенных родителями. Мария Павловна восхищалась тем, с каким достоинством держался в ее доме этот старый человек[268]. Многое в духовном мире открывалось Марии Павловне впервые, многое сближало ее с Елисаветой Феодоровной. Не случайно, видимо, Мария Павловна, находясь в эмиграции, писала: «Если бы не революция, сейчас я могла бы быть настоятельницей Марфо-Мариинской обители»[269].
Домашнее воспитание сформировало широкий взгляд Марии Павловны на то большое дело благотворения, которое стало содержанием части ее жизни. Это воспитание защитило ее как от нерешительности в действиях, так и от безбрежной фантазии, вредной и губительной. Досада на просчеты в образовательной практике, которые не позволяли Марии Павловне достаточно быстро адаптироваться в окружающей среде, вместе с тем никогда не заслоняли главного. «Есть нечто, — признавалась она, — что сохранилось во мне из прошлого и что я ценю превыше всего на свете. Это любовь к Родине. Это глубокое чувство привила мне моя семья. В своих великих деяниях и даже в своих ошибках все поколения Романовых ставили интересы и славу России выше каких бы то ни было личных выгод. Ради нее они всегда были готовы всем пожертвовать, и они доказали это своей жизнью. Я молюсь, чтобы их сила духа поддерживала меня до конца моих дней»[270].
Это признание Марии Павловны прозвучало в эпоху апокалиптического разрушения жизненной среды людей, в пору огромного упадка моральных устоев общества, в годы смертельной опасности для всего живого.
Первый период детства Мари и Дмитрия, даже после того как трагически умерла их горячо любимая мать, был озарен теплом, добротой их отца Великого князя Павла Александровича. Из окон дворца, с третьего этажа, где располагались их комнаты, открывался прекрасный вид на Неву. Это был особенный, собственный маленький мир, где правила английская няня Нэнни Фрай и ее помощница Лиззи Гроув. До шести лет Мари не говорила по-русски. Дети обожали отца, высокого, доброго, широкоплечего, красивого, который дважды в день навещал их. Все знакомые с Великим князем Павлом Александровичем говорили о его необыкновенном обаянии. Каждое слово, каждый жест Великого князя нес на себе отпечаток индивидуальности. На веки вечные запомнили Мари и Дмитрий праздник Рождества Христова во дворце Павла Александровича, необыкновенные елки и подарки, которые заранее тщательно подбирались каждому.
Лето подрастающих Великих князей было связано с подмосковным селом Ильинским. Юную Мари подкупало отношение дяди Сергея к памяти ее покойной матери, которая всегда вызывала благоговейные чувства девочки. Мари была глубоко благодарна дяде Сергею за то, что он приказал оставить нетронутыми комнаты, в которых ее мать провела свои последние часы. Он запер их и сам хранил от них ключи, не позволяя никому туда входить. Мари отмечает, что многие считали Великого князя Сергея Александровича холодным, жестким человеком, но «по отношению ко мне и Дмитрию, — пишет Мария Павловна,-— он проявлял почти женскую нежность»[271]. Великий князь очень любил проводить время с племянниками, но всегда ревновал их даже к отцу, своему родному брату.
Каждая новая встреча Мари и Дмитрия с Ильинским была отмечена неповторимым своеобразием первого чувства. Весна. Вот уже вновь знакомый усадебный дом. «В полумраке вестибюля, — вспоминала Мария Павловна, — где было прохладно и приятно пахло цветами, дядя нежно заключал нас в свои объятья»[272].
До завтрака по традиции дети вместе с дядей Сергеем совершали обход хозяйства, пили парное молоко, заглядывали на птичник. Великий князь Сергий единственный в России занимался разведением арденской породы лошадей. Он непременно что-нибудь строил: то новую школу, то расширял теплицы. У него было великолепное стадо коров голштейнской породы и современно оборудованные птичники. А еще оранжереи, огороды и целые поля цветов, выращиваемых для дома.
После обхода хозяйства Сергей Александрович и племянники пили чай на балконе. К ним присоединялась тетя Элла после часовой прогулки в одиночестве. Дядя смотрел газеты, тетя — английские или французские иллюстрированные журналы мод. Дети занимались уроками. Тетя иногда рисовала в тени крытой террасы. Кто-нибудь читал вслух, придворные дамы вышивали. Французская литература не вызывала у тети восхищения. Она читала только книги английских авторов и была весьма осторожна в их выборе.
Трезвый и проницательный взгляд ребенка сумел отыскать в Ильинском ключ к пониманию России, увидеть отдельные пленительные черты ее облика, ее деревень, неприметных тропинок и густых рощ. Откликаясь на красоты природы Ильинского, Мария Павловна особо выделяет парк. «Парк был необычайно хорош, — пишет она. — Он выходил к реке, его пересекали красивейшие аллеи»[273]. Вспоминалось посещение соседей, праздников Ильи Пророка, Сергия Радонежского. После обедни Великий князь открывал в селе ярмарку. Тетя и дядя что-нибудь непременно покупали у торговцев — льняное полотно, набивные ситцы, шали, гончарные изделия, ленты, тесьму, сладости. Среди обычных вещей можно было найти и неожиданные. Например, графин с выдутой внутри цветной птицей или огромный лимон, законсервированный в спирте. Часто ходили в лес и приносили целые мешки орехов и белых грибов.
Среди всех посетителей Ильинского Мари выделяла Великого князя Михаила Николаевича. Этот человек, вспоминала она, «восхищал нас изысканностью манер, приветливостью и всем видом знатного вельможи уже ушедшей эпохи»[274].
Эта колоритная, но пока еще недостаточно изученная фигура старой России являла собой образец человеческой порядочности, отличалась незлобивым нравом при всей последовательности исповедуемых взглядов. Великий князь Михаил твердо держал любой удар, оказывал мгновенную достойную реакцию на взрыв агрессивной энергии. Неприметные на первый взгляд детали в его поведении говорили людям о нем как о ценнейшем даре Божьем. Дети под влиянием таких личностей воспитывались в духе традиции, в рамках созвучия задачам своего духовного роста.
Воспитанница Великой княгини Мария Павловна младшая, которая имела возможность ежедневного общения с Елисаветой Феодоровной, отмечала, что Елисавета Феодоровна была одной из самых красивых женщин, каких Мари когда-либо видела. Она была высокой и хрупкой блондинкой с очень правильными и тонкими чертами лица. Даже живя в Ильинском, пишет Мария Павловна, тетя Элла много внимания уделяла своему внешнему виду. Она разрабатывала фасоны своих нарядов, делая эскизы и раскрашивая их акварельными красками. Наряды эти замечательно смотрелись на Елисавете Феодоровне, подчеркивая ее индивидуальность. Переодевание к обеду или ужину обращалось в настоящую церемонию, которая занимала много времени. На помощь приходили камеристки, горничные и гофмейстерина. Батистовое белье с кружевами уже лежало наготове в корзине с розовой атласной подкладкой. Ванна была наполнена горячей водой, пахнущей вербеной, где плавали лепестки роз. Приняв ванну, Елисавета Феодоровна с помощью горничных надевала выбранный ею наряд, внимательно осматривая себя в трехстворчатом зеркале, и собственноручно делала необходимые поправки. Одна из горничных делала ей прическу, а затем сама Великая княгиня приступала к маникюру. Ногти у нее были очень плоские, тонкие и удлиненные. Когда маникюр был завершен, вечернее платье надето, наступала очередь Мари участвовать в ритуале. Тетя говорила, какие драгоценности она собирается надеть, и Мари шла к застекленным шкафчикам, похожим на витрины ювелирного магазина, и приносила то украшение, что выбрано. По заведенной традиции дядя стучал в дверь и сообщал, что обед готов. Оба они целовали Мари и Дмитрия перед ужином и уходили[275].
Мария Павловна обращает внимание читателя и на такой факт, как отношение Елисаветы Феодоровны к косметике: она, по наблюдениям Мари, никогда не пользовалась румянами и пудрой. Единственно, что она делала в этом отношении — самостоятельное изготовление лосьона из огуречного сока и сметаны. Летом, стремясь предохранить кожу от солнечных лучей, она выходила на улицу, как правило, в шляпе с вуалью и шелковым зонтиком с зеленой подкладкой.
Следуя строгим правилам английского этикета, Великая княгиня решительно запрещала детям восторгаться ее нарядами, ее обликом. «Помню как-то раз, когда я еще была маленькой, — пишет Мария Павловна, — я увидела тетю в парадном платье — величественную, с длинным парчовым шлейфом, сверкающую драгоценностями и ослепительно красивую. Онемев от восторга, я подошла на цыпочках и поцеловала ее сзади в шею, ниже изумительного сапфирового ожерелья. Она ничего не сказала, но я видела ее глаза, и от этого холодного, строгого взгляда мне стало не по себе»[276].
Однако все вышесказанное вовсе не означает природной жесткости Елисаветы Феодоровны и находит свое объяснение в стиле и назначении ее жизни той поры. С одной стороны, она в воспитании детей следовала строгим принципам королевской семьи Великобритании; с другой — опиралась на кодекс воспитания, который был выработан и успешно применялся в великогерцогском доме Дармштадта. И, наконец, небольшой, но печальный опыт своей жизни побуждал Елисавету Феодоровну воспитывать детей сдержанными, умерять их чрезмерные эмоциональные порывы. Еще более важно отметить, что Елисавета Феодоровна понимала, какую уникальную роль предстояло в будущем выполнять детям императорского круга, а потому умение властвовать собой необходимо было развивать в них с детства.
Мы увидим далее, как легко отказалась Великая княгиня от всех нарядов, драгоценностей и аксессуаров после убийства мужа и особенно после создания Марфо-Мариинской обители милосердия, но сейчас, когда ее муж занимал столь видное место в обществе, Елисавета Феодоровна знала, что должна не просто соответствовать светскому этикету, но занимать на столичном Олимпе самое достойное положение. Не забудем и то, что она была молода, любила и была любима. А потому так понятно ее стремление к эстетическому совершенству. Об этом совершенстве писали все. Ни одна алая роза, по мнению будущей королевы Румынии, не могла состязаться с ее красотой.
«Она была подобна лилии, ее чистота была абсолютна, — утверждала королева Румынии Мария, — от нее невозможно было оторвать взгляд. И проведя с ней вечер, каждый страстно ожидал часа, когда сможет увидеть ее на следующий день»[277].
Королева Румынии вспоминает тетю Эллу в русском наряде, с кокошником на голове во время торжественных вечеров. Красоту ее на этих вечерах невозможно передать словами. «Если бы можно было, — восклицает королева, — хоть на одно мгновение воскресить ее…
Вот она идет! С этой дивной улыбкой, играющей на устах, с румянцем на лице, сравнимым лишь с цветущим миндалем и почти робким взглядом ее удлиненных ярко-голубых глаз. Она держит в руке несколько веточек майского ландыша — ее любимого цветка»[278].
Внутреннее благородство Великой княгини находило отражение в ее внешнем облике. Поэтому многие страницы книги королевы Марии пронизаны ощущением гармонии от пребывания в Ильинском, «у прекрасной тети Эллы», доброй детской памятью о необыкновенном уголке на берегу большой реки, окруженной густыми лесами и перелесками. А рядом Архангельское, именье Юсуповых, — настоящее поле культуры.
Здесь будет уместно сказать несколько слов о королеве Румынии Марии, двоюродной сестре Марии Павловны. Ее очень любил и во всем доверял муж, король Румынии. Именно эта королевская чета протянула дружескую руку Романовым, когда они оказались в беде. По воспоминаниям Марии Павловны, которая жила некоторое время в Румынии, от королевы Марии исходил свет, искренность, задор. Она умело выполняла функции государственного дипломата, добивалась многого для Румынии. Королева, как и Елисавета Феодоровна, была большой благотворительницей, создавала организации в помощь инвалидам, вдовам, сиротам. Ее дочь Елизавета в свое время стала королевой Греции, другая дочь Мария — королевой Югославии.
5.4. Культурная среда в подмосковном имении великокняжеской четы
Усадьба Юсуповых заметно выделялась среди множества других. Своеобразие ее культурному облику придавало наличие подлинных рукописей, записок, автографов, писем, музыкальных произведений выдающихся деятелей отечественной и зарубежной культуры. Юсуповы хранили у себя документальные материалы разного рода, принадлежавшие Жуковскому, Карамзину, Гюго, Тургеневу, Шиллеру, Гегелю, Гумбольдту, Фихте, Шеллингу, Распайлю, Беллини, Берлиозу, Бетховену, Веберу, Гайдну, Керубини, Ланнеру, Листу, Львову, Мейерберу, Мендельсону, Оберу, Паганини, Сальери, Тальбергу, Черни, Штраусу, Шуману, Мазини, Та-льони, Тамбурину, Айвазовскому, Васнецову; письма монархов Карла V, IX, X, Генриха IV, Людовика XIII, XIV, XV, XVI, XVII, Дома Романовых, Марии-Антуанетты, Медичи, русских Великих князей, герцогов, маркизов и т. д. Великокняжеская чета знакомилась здесь с подлинными шедеврами искусства и описями рисунков, находившихся в альбомах Юсуповых[279].
Фонды РГАДА дают представление о характере музыкальных концертов в Архангельском, которые посещали Великий князь Сергей Александрович и его супруга. Здесь могли быть представлены романсы друзей — Голицыных, камерная, инструментальная музыка, вокальные произведения (фрагменты итальянских и русских опер, например «Русалка», венские вальсы, цыганские песни из оперы «Пан Твардовский», польские полонезы, пьесы для органа и многое другое)[280].
Другие соседи по Ильинскому, князь и княгиня Олсуфьевы, были милейшей четой, как отмечает Ф. Юсупов. Княгиня, в ту пору гофмейстерина, походила на маркизу XVIII в. Рядом находилось также именье князей Голицыных, продавших прадеду Ф. Юсупова Архангельское. Щедро и радушно принимали всех в своем имении князья Щербатовы. Дочь их, Мария, красавица и умница, вышла замуж за графа Черны-шова-Безобразова. Была одной из самых близких друзей хозяев Ильинского и Архангельского. Ни ум, ни красота ее, по мнению Ф. Юсупова, не поблекли от времени.
Дружба в Ильинском и Архангельском в пору осенней охоты непременно приводила в Ракитное Курской губернии (именье Юсуповых). Великий князь Сергей Александрович и Елисавета Феодоровна всегда приезжали на охоту в Ракитное и непременно привозили с собой свой двор — людей юных и веселых. «Елисавету Феодоровну я обожал»[281], — вспоминает Феликс Юсупов. На охоту выезжали на рассвете. В дороге, чтобы не скучно было, его просили спеть. Итальянскую песню «Слез полны глаза» Сергей Александрович очень любил и просил петь ее с утра до вечера[282]. После ужина детям полагалось идти спать. «Но я и не думал спать, — пишет Ф. Юсупов, — пока Великая княгиня не придет пожелать мне спокойной ночи. Она приходила, целовала и крестила меня. После ласки ее в душе моей воцарялся мир, и засыпал я спокойно»[283].
В жизни Великой княгини Елисаветы Феодоровны было много прекрасных усадеб, где благословенно протекала первая половина ее жизни. И все же, отметим это еще раз: особое, неповторимое место в их ряду занимало Ильинское. Усадьба Ильинское под Москвой, где проходили самые мирные и радостные дни великокняжеской четы, была старинным родовым поместьем, переходившим от дворян Стрешневых к А.И. Остерману-Толстому, генералу, герою войны 1812 г., затем к роду Голицыных и, наконец, в 1860-е гг. — к Царской семье.
Императрица Мария Александровна уделяла много внимания обустройству дворцовой территории. Здесь была построена молочная ферма; весь дворец был украшен экзотическими растениями; созданы три оранжереи: персиковая, ананасовая и цветочная; аккуратно посажены молодые рощи, пересекаемые дорожками; крытые аллеи, мостики, домики с причудливыми названиями. К западу от дворца располагался романтичный пейзажный парк. Здесь среди сосен был построен каменный флигель «Не-чуй-горе», рядом с которым находился павильон «Галерея», где обычно устраивались спектакли. По инициативе Марии Александровны дворцовая больница Ильинского была расширена и преобразована в сельскую больницу для крестьян. По распоряжению Императрицы в селе выстроили новую школу: она не жалела средств для крестьян.
В 1870 г. Императрица начинает строить здесь «Сервизный домик» для хранения богатейших сервизов, которые изредка украшали стол во время приемов. В наши дни в «Сервизном домике» разместился ресторан «Русская изба». Гостей принимают в различных залах, сохранивших интерьеры XIX в.: «Светелка», «Курная», «Русский», «Трапезная», «Охотничий», «Плетенка».
С 1880 г., по завещанию императрицы Марии Александровны, имением стал владеть Великий князь Сергей Александрович. После его гибели имение опекала Елисавета Феодоровна. Но, полностью посвятив себя Марфо-Мариинской обители, она подарила Ильинское племянникам Сергея Александровича — великой княгине Марии Павловне и великому князю Дмитрию Павловичу, равно как и свой дворец в Петербурге на Невском проспекте возле Аничкова моста[284].
Ильинское по тем временам считалось весьма скромным имением. Однако, обратившись к описи Московского отделения Первого российского страхового общества (1908-1914 гг.), можно видеть, что 152 строения этого поместья весьма привлекательны внешне, затейливы и оптимистичны по названиям гостевых домиков, многофункциональны, добротно и эстетично оформлены.
Так, сообщается, что в главном Ильинском дворце печи голландские изразцовые, камины мраморные, комнаты оклеены французскими обоями, полы паркетные, лестницы дубовые, двери сосновые. Так же хорошо оборудованы двухэтажные дома «Не-чуй-горе», «Приют для приятелей», «Пойми меня», «Миловид», «Кинь-грусть», «Сервизный домик», дом Ее Высочества, кухня августейших детей. В описи дана характеристика и других строений: библиотеки, беседки, Березового павильона с галереей, сараев, ледников, складов, кузницы, теплицы, оранжерей, телеграфного дома, водокачки, дома главного садовника, родильного приюта, яслей, женской школы с квартирой учительницы, мужской школы с квартирой учителя, бараков, кухни, мастерских для раненых и т. д.[285]. И, разумеется, Ильинской церкви. Таким образом, имение представляло собой хорошо обустроенный, уютный городок, отвечающий многим запросам обыденной жизни. Не случайно Великая княжна Мария Павловна, воспитанница великокняжеского дома, проводившая каждое лето в Ильинском, писала: «Это наш маленький мирок на просторах огромной России, те неразрывные узы, что связывают меня с родной землей… Имение было достаточно скромным, и возможно, именно это придавало ему чарующую прелесть»[286]. Мария Павловна с большой теплотой вспоминала отрадный путь от станции Одинцово до имения. Тропка аккуратно въезжала на прекрасную аллею из четырех рядов огромных лип. На балконе стоял дядя Сергей и улыбался детям. Начиналась обыденная летняя жизнь. После уроков — купанье в специальном месте, куда доносилось мычание коров деревенского стада, блеяние овец и крики деревенских ребятишек, которые прибегали купаться.
Имение утопало в цветах. Здесь были оборудованы богатейшие оранжереи. Цветами садовыми и полевыми был постоянно убран дом, что отвечало тонкому вкусу великокняжеской семьи и прежде всего самой Елисаветы Феодоровны. Все это, по воспоминаньям Марии Павловны, создавало особую атмосферу лета в Ильинском.
После купания дети торопливо возвращались домой, чтобы успеть ко второму завтраку. Дядя Сергей не терпел даже минутного опоздания. Чтение, сон после еды, беседы, ярмарки, богослужения, строгое следование нормам повседневной жизни погружало детей в мир патриархального быта.
В течение нескольких столетий Ильинское было одним из наиболее притягательных имений России, своеобразным культурным центром, где в разное время бывали П.А. Вяземский, А.И. Полежаев, А.П. Елагина, В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Е.А. Баратынский, В.Ф. Одоевский, П.В. Киреевский и многие другие деятели русской культуры. У последнего владельца усадьбы великого князя Дмитрия Павловича и его сестры в Ильинском гостили Ф.И. Шаляпин и А.В. Нежданова[287].
Гостями великокняжеской четы в Ильинском бывали молодые художники, которых Великий князь приглашал писать этюды. Всю жизнь Сергей Александрович интересовался живописью, специально изучал живописные школы. Художницей была и Великая княгиня. Поэтому в доме с такой любовью встречали живописцев.
В конце XIX в., когда усадьбой владели Великий князь Сергей Александрович и Великая княгиня Елисавета Феодоровна, добрая слава об этой усадьбе, об эстетизме повседневной жизни и культуре хозяйствования разлетелась по всей России. В губернской прессе неоднократно появлялись сообщения на эту тему. Так, в «Калужских губернских ведомостях» сообщалось, что село Ильинское, которое принадлежит Великому князю Сергею Александровичу, славится «красотой местоположения и образцовым хозяйством. В селе чудный парк, дворец, прекрасные оранжереи и богатейшая ферма при скотном дворе, откуда можно получать различные продукты»[288].
Ильинское с годами становилось все более посещаемым имением со стороны членов Императорского Дома. Здесь многие открывали незнакомые до встречи в Ильинском черты натуры того или иного великого князя. Так, В.Ф. Джунковский вспоминает, как он открыл для себя в Ильинском редкое, подкупающее обаяние старейшего представителя Дома Романовых — Великого князя Михаила Николаевича, четвертого сына Николая I. Выдающийся боевой генерал и редкой души человек, он пользовался огромной популярностью на Кавказе, где был наместником. «Его высокая фигура старого рыцаря, — пишет Джунковский, — производила обаятельное впечатление на всех, кто с ним имел соприкосновение. Он умел соединить величие с удивительной простотой. Он был очень добрый человек. Я лично никогда не забуду того внимания, которое он проявил ко мне в 1894 году, когда он летом гостил у Великого князя Сергея Александровича в Ильинском, а я лежал там больной суставным ревматизмом. Он не пропустил ни одного дня, чтобы не зайти ко мне, навестить меня, просиживал у моей кровати, до слез трогая меня своей заботой и лаской»[289].
Еще в Петербурге, где мирно и ровно протекала жизнь Царской семьи, одним из наиболее дорогих людей Сергею Александровичу, а затем и его супруге, стал его брат Павел Александрович. А.А. Волков справедливо замечает, что в петербургский период жизни «самыми близкими для них людьми… были Сергей Александрович и Елизавета Федоровна»[290].
После назначения Сергея Александровича генерал-губернатором Москвы Павел Александрович и его прелестная супруга часто гостили в Ильинском, пока там в результате трагического стечения обстоятельств не погибла жена Павла Александровича. «Селу Ильинскому, — пишет А.А. Волков, — и было суждено сыграть роковую роль в судьбе великокняжеской четы»[291].
Королева Румынии Мария, племянница Великого князя Сергия, вспоминала, какой трагедией стала смерть любимой жены для великого князя Павла и как переживал Великий князь Сергий это печальное событие. Она и много лет спустя ощущает невероятную грусть Великого князя Павла в те дни, видит, как в час прощанья слезы непрерывно текут по его щекам и «как дядя Сережа, его любимый брат, обнял его в момент отчаянного протеста Павла, когда, наконец, закрыли крышку гроба над прекрасным лицом, которое он так любил»[292].
После смерти принцессы Александры Великий князь Сергий, который был к ней очень привязан, принял решение о непрекосновенности ее комнат и вещей. И он, и Великая княгиня Елисавета Феодоровна понимали редкость личности почившей. Много позднее свое понимание духовной сущности матери выразит ее дочь, воспитанница великокняжеской семьи Мария Павловна младшая. В ее сознании мать всегда представала молодой, нарядно одетой, озаренной радостью жизни. «Но была ли она действительно счастлива? Сожалела ли она, умирая, о том, что оставляет этот мир? Мне она казалась принадлежащей к другому веку, хотя прошло всего семь лет, как ее не стало»[293]. Вскоре резко изменяется жизнь Павла Александровича, а Сергей Александрович и Елисавета Федоровна, оставшись опекать его детей, Дмитрия и Мари, очень привязались к своим малым племянникам.
5.5. Екатерина Шнейдер о повседневной жизни в Ильинском
Стремление видеть повседневную жизнь великокняжеской семьи в ее целостности, намерение понять основные принципы жизнестроения требуют особого внимания к тому ближайшему окружению, в недрах которого протекало это бытие. Более того, не может быть исчерпывающего объяснения многим моментам жизни Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича, если не ощутить дух, атмосферу этой среды. Достаточно верно уловить настроение, ритмы этой жизни помогают дневники, письма людей, которые в течение многих лет не просто навещали Ильинское, но жили в великокняжеской семье. В этом отношении привлекают внимание воспоминания о пребывании в Ильинском гофлектрисы Е.А. Шнейдер, женщины, которую любили и которой доверяли в Царском Доме, ласково называя ее между собой Трина.
Екатерина Адольфовна Шнейдер, гофлектриса императрицы Александры Федоровны, учительница русского языка Елисаветы Феодоровны, в скупых строках своих воспоминаний дает небольшие зарисовки повседневной жизни в Ильинском, которые очерчивают круг встреч и занятий великокняжеской семьи в долгие дни лета и ранней осени в Ильинском в 1887 г.[294]. Е.А. Шнейдер погибла вместе с Царской семьей в Екатеринбурге в 1918 г. Тем дороже ее воспоминания.
Мы узнаем из воспоминаний, что Их Высочества, фрейлина Козлянинова, адъютант М.П. Степанов и автор воспоминаний специальным поездом 11 августа отбыли из Петербурга в Ильинское. Деревни, принадлежавшие Великому князю Сергию и находившиеся на пути следования в Ильинское, были разукрашены флагами, их жители подносили Великому князю и его супруге хлеб-соль. В первый же день по прибытии в Ильинское направились в лес за грибами и нашли их великое множество. Такие прогулки, как замечает Екатерина Адольфовна, совершались каждый день, но всякий раз в другой лес.
В субботу 15 августа, ездили в Петровское к Голицыным, пили чай. По возвращении домой в усадебном парке набрали полную корзину белых грибов. Вечером Великий князь Павел Александрович читал вслух. Все остальные были заняты вырезыванием гравюр.
Путешествие в Петровское пленило Великую княгиню. Как замечал большой знаток русских усадеб А.Н. Греч, есть места бесконечно типичные и цельные, полные гармонических созвучий природы и искусства. Именно таким было Петровское. «Разросшиеся деревья на склоне холма отражались в водоеме, полускрывая белый дом с нарядным портиком коринфских колонн. Задумчиво смотрится он в зеркале вод, повторяя в них свои благородные пропорции. Раскрытой рамы касается ветка липы, в угловой комнате кто-то играет на рояле, красные цветы на клумбе ярко освещены солнечными лучами… Прямая, долгая аллея ведет к беседке-ротонде над крутым откосом Истры. Отсюда на много верст открывается вид на луга, дальние деревни, села и усадьбы… Субботними вечерами спускается вниз по реке колокольный звон. Глухой, нескончаемо вибрирующий голос саввино-сторожевского колокола, торжественный и патетичный, точно из музыки Бетховена. После него долгая пауза. А потом, звоны звенигородских церквей, собора на Городке. Перекликаются Вве-денское с Поречьем, звон подхватывают Аксиньино и Ислав-ское, Уборы и Петровское, Усово и Ильинское…»[295].
Простые формы усадебного дома, неповторимая красота пейзажей и колокольных звонов, радующие хозяев, покорили Елисавету Феодоровну. Редкая внутренняя организация убранства дома, тонкий вкус внутренней отделки комнат привлекли внимание Великой княгини. Анфилада комнат начиналась голубой гостиной с мебелью XVIII в., с картинами старых мастеров и изящной росписью стен в синих тонах; продолжала анфиладу коричневая гостиная с фамильными портретами, где во фресковых десюдепор-тах изображены были корзины с цветами; далее комнаты в розовых и палевых тонах. Особенность интерьеров дома определялась тем, что старые вещи никогда не покидали свой старый дом. Портреты ушедших людей жили в привычной для них обстановке. Это придавало Петровскому удивительную гармоничность. В усадьбе строго соблюдались и бытовые семейные традиции — в доме никогда не переставлялась мебель, здесь не было ламп — их всегда заменяли свечи[296].
В своем дневнике Екатерина Шнейдер фиксирует маршруты путешествий каждого дня.
16 августа по случаю праздника все вместе направились к обедне в Усовскую церковь. Беседовали со священниками. К полуденному чаю вернулись домой. Вечер прошел за чтением.
17 августа Екатерина Адольфовна начала заниматься с Великой княгиней русским языком.
Во вторник 18 августа отправились в Никольское к Голицыным. Погода была прекрасна, пили чай на открытой площадке. Екатерине Шнейдер этот вечер запомнился особой любезностью обращения к ней Великого князя, который просил передать ему фрукты, сказав: «Будьте ангелом, передайте мне вазу», а затем: «Целую Ваши ручки»[297].
20 и 21 августа проводили во встречах с князьями Голицыными из Никольского и Петровского.
23 августа отправились в Кораллово к князьям Васильчиковым, где были удобно размещены в просторном красивом доме и пробыли там два дня. Ездили в Звенигород, посетили графов Олсуфьевых в Ершове.
Кораллово и Ершово — имения, где часто бывала Великая княгиня. Кораллово — имение друга детства Великого князя Сергея Александровича — Марии Васильчиковой, которая, как отмечалось выше, была близким человеком Императорского Дома, человеком, который часто делил досуг с Великой княгиней. Гостеприимный дом в Кораллове очаровывал Елисавету Феодоровну не только радушием хозяев, но и необыкновенной обстановкой. Интерьеры дома были заполнены мебелью Средневековья и Северного Возрождения. Дом был похож на коллекцию «антиков» — в стены и столбы вестибюля были вмонтированы десятки фрагментов мраморных включений, которые Васильчиковы привезли из Италии.
В книге Д.А. Седова «Один век из истории Звенигорода в фотографиях» опубликованы благодарственные телеграммы, которые отправляли М.А. Васильчиковой из Ильинского.
25 августа 1887 г.
Еще сердечно благодарим за милое гостеприимство. У Вас жилось так хорошо. До свидания. Елисавета.
2 сентября 1887 г.
Пожалуйста, привезите машинку для выжигания. Радуюсь Вас скоро увидеть. Елисавета.
16 августа 1891 г.
Очень тронут. Совершенно здоров. Радуемся быть у Вас на будущей неделе. Сергей.
21 августа 1891 г.
Еще раз от души благодарим за прелестные два дня, проведенные у Вас. Надеемся — до свидания в Кораллове. Сергей, Елисавета.
Мария Александровна Васильчикова активно помогала Великой княгине в ее благотворительных начинаниях. Так, в 1904 г. она оказала поддержку в устройстве Елисаветин-ского убежища в Новороссийске. У себя в Кораллове она организовала богадельню[298].
Родственными узами было связано Кораллово с другой усадьбой — Ершовым, куда также нередко наведывалась Елисавета Феодоровна. Ее привлекал этот тихий, спрятанный от глаз людских уголок России с миниатюрным прудом и крошечным островком посреди него. Великую княгиню поражала красота этого места в пору цветения незабудок, которые укрывали имение сплошным голубым ковром. Эта отличительная черта старинного парка волновала и притягивала к себе впечатлительную романтическую душу Великой княгини.
Недалеко от Ершова находилось имение Поречье, принадлежавшее в конце XIX в. А.К. Медведниковой, которая вела огромную благотворительную деятельность, а в самом Поречье основала приют для престарелых священнослужителей[299].
Усадьбой Введенское в те годы владел тоже большой благотворитель, неоднократно поддерживавший Великую княгиню в ее милосердном служении. В этом имении в разное время жили П.И. Чайковский, А.П. Чехов, М.В. Якун-чикова, И.И. Левитан, В.Э. Борисов-Мусатов[300].
27 августа, пишет в дневнике Екатерина Шнейдер, приглашены к Голицыным в Никольское на пикник. Вечером продолжали читать «Детей Солнцевых».
2 сентября — идут приготовления к 5 сентября. Великая княгиня выжигает число и месяц на веерах и портсигарах, которые будут раздаваться во время танцев. Великий князь преподнес Екатерине Адольфовне маленький шерстяной платок из тех вещей, которые предполагали дарить 5 сентября крестьянам.
4 сентября ездили всем обществом (18 человек) к Вериги-ным, осматривали их дом, пили чай под открытым небом.
11-13 сентября — погода начала портиться, накрапывал дождь, гости постепенно разъезжались.
14 сентября ездили в Архангельское, осматривали дом Юсуповых. Заходили в оранжереи. Великий князь подарил Шнейдер на счастье флер д’оранж и миртовую ветку[301].
В воспоминаниях Шнейдер о жизни в Ильинском нет описания значительных событий. Тем в большей мере мы благодарны ей за открытие неприметных деталей бытия, которые обычно ускользают, оставаясь в тени незаурядных происшествий. Сквозь призму воспоминаний мы постоянно видим великокняжескую чету в небольшом кругу Великих князей, княжеских и графских семей. Усадьба Иль-инское живет своей жизнью, несуетно, размеренно и многообразно.
Любой опыт достоин осмысления. Вдвойне достоин, если речь идет об углублении нашего знания о великокняжеской чете. Что по существу сообщает нам Е.А. Шнейдер, что означают для нас ее признания? Прежде всего, нам становится очевидным, что во время летнего отдыха размеренность жизни была непременным условием бытия, сообщавшим ему благодатную полноту. Мы видим, с какой любовью Великая княгиня сотворяет милые подарки другим. Мы видим, как Великий князь Сергий одаривает Трину (Е.А. Шнейдер), и понимаем, что это не просто признак культуры и симпатии к другому человеку, но знак глубокой благодарности за помощь Елисавете Феодоровне в освоении русского языка.
В воспоминаниях Екатерины Адольфовны сохранилось множество шутливых стихотворений, которые позволяют увидеть портретные зарисовки обитателей великокняжеского дома, особенности их бытия, привычек, пристрастий.
Домашние рифмоплеты (конечно же, не поэты) плоды своего дружеского пера посвящают в первую очередь хозяину дома:
С последним ударом восьми на часах
Великий князь Сергий уже на ногах:
Пока он прогулку свою совершит,
За ним, хвост поджавши, собачка бежит.
Собачка та Шпуня, ее нет милей,
Резвее и краше, нежней и умней!!
Князь Сергий гуляет, все смотрит кругом:
Он требует строго порядка во всем…
Прогулку окончив, князь Сергий спешит
До дому, скорей утолить аппетит.
Княгиня давно его к кофию ждет
И рада, когда, наконец, он придет.
В этих беглых непритязательных строчках указан источник абсолютного порядка в Ильинском. Именно Великий князь, поднимавшийся рано утром, внимательно следил за его поддержанием.
Центром притяжения в доме Ильинского была, разумеется, Великая княгиня Елизавета Федоровна. Домашний поэт в адрес хозяйки дома слагает такие вирши:
Позвольте мне, лишь с маленьким варьянтом,
Воспеть Княгиню Пушкина стихом: Чистейшей прелести чистейший образец,
Княгиню создал нам на счастье наш Творец!
Какой в глазах ее глубоких мыслей гений,
И сколько детской простоты,
И сколько томных выражений
И сколько прелести и доброты.
Потупит их Великая княгиня:
В них скромных граций торжество!
Поднимет: Ангел Рафаэля Там созерцает Божество!
Есть ли в этих виршах нечто принципиально новое или поэтически совершенное, что пока неизвестно читателю? Конечно, нет. Но стихи привлекают наше внимание как еще одно свидетельство очевидца о необыкновенной красоте, светлом разуме и притягательности облика Великой княгини.
В наивных поэтических сочинениях можно встретить много точных характеристик отдельных лиц свиты великокняжеской четы:
Начну с Гофмаршала Двора
С Герман Генманыча Стенбока.
Он роста среднего, блондин
И борода его как клин.
Обстрижен гладко под гребенку…
Любезен, вежлив и приветлив…
Играет вальсы — божество!
Далее из стихов мы узнаем, что этот близкий Великому князю человек сочетает с добросердечьем осторожность, вкус, разум, просвещенность… И резюме:
Но, впрочем, добрый человек,
Так сам он о себе изрек.
Пространные поэтические зарисовки посвящены всем членам узкого, почти семейного круга друзей великокняжеской четы. Сообщает Екатерина Адольфовна и об отношении к ней, о дружеских чувствах. В стихах главная ее характеристика выражена в одной фразе — «До бесконечности добра!».
В воспоминаниях Е.А. Шнейдер — поэмы, шарады, мадригалы. Один из них посвящен ей главным воспитателем Великого князя Сергея Александровича адмиралом Дмитрием Сергеевичем Арсеньевым.
Усово, 5 сентября 1897 г.
«Когда же наконец представит адмирал
Мне подобающий любезный мадригал?»
Услышав это приглашенье,
Я впал в великое смущенье:
Меня за мадригал, пожалуй угодят,
Куда Макар и не гонял телят.
Но все ж попробую: — Сегодня за грибами
Вдвоем в лесу ходил я долго с Вами!
Грибов, конечно, я совсем и не искал.
На Вас я все смотрел, об Вас я все мечтал!
Вы скрылись от меня — я крикнул: где же Вы?..
Своим человеком в кругу великокняжеской семьи, подчеркнем это еще раз, была княгиня Мария Васильчикова, имение которой находилось в Кораллове. В архивном фонде Е.А. Шнейдер можно познакомиться с содержанием переписки Трины и Мэри Васильчиковой, где неоднократно упоминаются Ильинское и его обитатели.
«Я провела две недели самым приятным образом в Ильинском, — пишет Мария Васильчикова Екатерине Шнейдер 24 июля 1897 г., — но жара была такая нестерпимая, что ходить к себе в Миловид (домик для гостей в усадьбе Ильинское. — И.К.) был настоящий подвиг. Меня ожидает большая радость; в начале августа начинаются маневры и из Москвы идут в Звенигород. Их Высочества, генерал Данилов, М.П. Степанов, Годон, Джунковский, Юсуповы будут жить у меня в Кораллове. Лишне Вам говорить, какая это для меня радость… Крепко Вас обнимаю и целую. Маша»[302].
Это письмо дает нам возможность ощутить меру родственных чувств древней дворянской семьи к ближайшему окружению Великого князя Сергия и его супруги. Именно здесь, во время звенигородских маневров, было сделано множество фотографий, которые позволяют получить представление о манере общения офицеров и княгинь, об особенностях их времяпрепровождения, о неповторимом обаянии русского усадебного быта.
Пребывание в Ильинском было отмечено особым очарованием для М. Васильчиковой за год до маневров, когда она гостила в имении Великого князя Сергия с 4 по 12 июля. «Было очень тихо и спокойно, — пишет М. Васильчикова, — и я много сидела с моей милой Великой княгиней, наслаждаясь Ее обществом и Ее умными и зрелыми рассуждениями»[303]. В Ильинском и в Кораллове М. Васильчикова в это лето много читает, рисует и шьет для Великой княгини. По поручению Елисаветы Феодоровны Мария передает Шнейдер подарок — нечто для нарядной кофточки, лиловое гладкое украшение для вечернего туалета.
В другом письме М. Васильчикова сообщает, что, как всегда в Ильинском, ощущают отъезд Шнейдер, о чем неоднократно говорила Великая княгиня. Осенняя жизнь в Ильинском идет своим чередом — посещение храма, выезды на спектакли в Москву, посещение Великой княгиней совместно с графиней Олсуфьевой (тетей М. Васильчиковой) Иверской общины. Но отъезд Трины весьма ощутим, и, как замечает М. Васильчикова, «дорогая мне Великая княгиня просила меня остаться здесь еще несколько дней…»[304]. Медленно тянулись осенние дни. По вечерам Великий князь читал книгу на французском языке.
Письма дают ощутить, что в старой дворянской семье как-то удивительно лично воспринимаются радостные события в семье Государя. 4 июня 1897 г. М. Васильчикова пишет из Кораллова Е.А. Шнейдер: «Дорогая Трина, пожалуйста, не ленитесь и напишите мне длинное подробное письмо. Вы, наверное, уже видели маленькую Татьяну Николаевну. Дай Бог, чтобы она росла Своим Державным Родителям на счастье и утешение»[305]. Пишет, что очень хочет прибыть на крестины, но не может по семейным обстоятельствам. «Судя по Бюллетеням, — читаем далее в письме, — Слава Богу, Ее Величество быстро поправляется. Когда Вы ее увидите, то, пожалуйста, за меня с большим чувством поцелуйте Ее ручки…» Здесь в деревне «дивно хорошо… Розы начинают цвести»[306].
В этих письмах отражается гармония внутреннего мира, почитание тех ценностей, которые испокон веку считались в России главными, что было заложено традицией, системой воспитания. В отношениях не было замкнутости пространственными и временными рамками. Оно продолжалось в Москве и Петербурге, жизнь была наполнена заботой друг о друге. «Милая моя Трина, — пишет М. Васильчикова 15 января 1897 г. Е. Шнейдер. — Вчера вернулась я из Москвы и привезла Вам от Вашей княгини воздухи — кроме того, у меня есть несколько бумазейных детских платьиц для Общества Ее Величества… Великая княгиня послала Ее Величеству цветы только на показ — не нравятся — пришлите их обратно в Москву Великой княгине. Крепко обнимаю. Маша»[307].
Это, конечно, была забота друг о друге, но не только. Елисавета Феодоровна передает воздухи для храма, М. Васильчикова — детские платья в благотворительное общество. Цветы — лично сестре-императрице, но лишь в том случае, если отвечают вкусу Александры Федоровны.
Центром встреч друзей великокняжеской четы в Москве был гостеприимный генерал-губернаторский дом, где отмечались все крупные церковные и семейные праздники. «Сегодня Иордань, — читаем в одном из писем М. Васильчиковой. — Крестный ход на Москву-реку. Удивительное зрелище! Несметные толпы народа усеяли все набережные. Церемония длилась 45 минут… По окончании Церемонии поехали в Генерал-губернаторский Дом»[308].
Открывая неприметные детали общения между людьми, достойными доверия Царского Дома, эта переписка позволяет судить о том ритме и наполненности бытия, о тех его смыслах, которые отстаивались и бережно охранялись в окружении великокняжеской семьи. Они помогают осознать глубокую значимость и ценность «просто жизни» в Петербурге, Москве и особенно в Ильинском, которая навсегда сохраняла о себе благодарную память.
5.6. Ильинское в дневниковых записях Великого князя Константина Константиновича
Об особенностях культурной среды, которая сложилась в Ильинском, свидетельствуют дневниковые записи одного из самых близких Сергею Александровичу людей — Великого князя Константина Константиновича. Мы уже упомянули ранее об этих дневниках.
Каждый приезд в Ильинское Великого князя Константина Константиновича становился своеобразным стимулом для различных творческих начинаний. Первый же вечер по приезде в Ильинское 4 сентября 1884 г. был отмечен организацией выставки подарков, предложенных дамам Великими князьями Сергеем, Павлом Александровичами и Константином Константиновичем.
Уже на следующий день после обедни отдыхающее общество приняло решение ставить комедию В. Александрова «Шалость» в трех действиях. Об этом приятном для всех решении в тот же день сообщили на балу в Ильинском, куда были приглашены девицы Ермоловы, Голицыны, графиня Сумарокова, урожденная Юсупова. Танцуя с последней мазурку, Великий князь Константин Константинович вспомнил, что весной она примерно 40 дней была между жизнью и смертью. Никто из родных уже не надеялся на выздоровление. Но когда кронштадтский бедный священник Иоанн, уже к тому времени известный своей строгой, бескорыстной жизнью и исцелениями, приобщил ее Святых Христовых Тайн, она начала быстро поправляться. Бал был очень радостным, оживленным. Его душой стал Великий князь Павел Александрович («Павел дирижировал прелестно», — замечает Великий князь Константин).
Балы, репетиции «Шалости» перемежались дружескими поездками. В одну из таких поездок Великий князь Константин был поражен красотой богатейшего, но запущенного дома соседей — Юсуповых в Архангельском. Восхищали огромные картины в духе Веронезе, полотна Робера, богатая мебель, китайский фарфор. «Пили чай в оранжерее, — замечает Константин Константинович, — где цвели и благоухали апельсиновые деревья»[309].
Особую радость Великому князю и всему ильинскому обществу доставляло свободное музицирование. «Вечером играл на фортепиано, — вспоминает Великий князь, — общество прислушивалось, переносясь воспоминаниями в старые годы в Крым. Как хорошо подчинять слушателей своей игре »[310]. Однако предпочитали игру на двух роялях в четыре руки. Так, 11 сентября Элла играла в паре с графиней, а великий князь Константин с графом Стенбоком (звучала а-мольная симфония Мендельсона). И вновь просили Великого князя солировать, сердечно благодаря за игру. После концерта все вместе читали Евангелие от Луки (о страстях Господних).
Один вечер был прекраснее другого. На следующий день после чая вновь играли в четыре руки. Великий князь Константин с графиней, Великий князь Павел со Стенбоком. На этот раз исполнили д-мольную симфонию Шумана и сонаты Бетховена. Константин Константинович продолжал свои переводы, читал богословские тексты. В дневнике он специально отмечает, что читал так называемую исповедь графа Л. Толстого, существовавшую только в рукописи. «Жадно читал я эту исповедь и с трудом оторвался»[311], — признается Великий князь.
Наконец пришел сентябрьский вечер, которого все ждали — вечер генеральной репетиции «Шалости»; актеры в гриме и костюмах среди декораций, созданных воображением и руками Великой княгини. Первыми зрителями спектакля были обитатели Ильинского и вся дворня. Триумф окрылил актеров, и премьера у Юсуповых в Архангельском прошла еще удачнее, чем генеральная репетиция. Публики было значительно больше, прибыли все соседи.
Великий князь Константин вспоминает в дневнике теплый день после спектакля. Раннее утро. Успел пройтись по саду. «Над обрывом, вправо от дома, я остановился, сел на скамейку и стал смотреть. Подо мной река заворачивалась крутым изгибом, ее голубовато-серебристые воды мерцали на утреннем солнце. За ней расстилалось широкое поле с лесом вдали; видна была Усовская церковь. Долго не мог я оторваться от очаровательного вида»[312].
Вскоре возобновляются интенсивные музицирования. Приоритет, как и прежде, отдают Мендельсону и Бетховену. Великие князья Сергей и Павел вместе с княжной Лобановой, вдохновленные успехом первого спектакля, приступили к постановке французской пьесы в одном действии, а также русской пьесы «До поры до времени».
Великий князь Константин отражает в дневнике то настроение непрерывного творческого горения в Ильинском, которое несовместимо с суетой. И, разумеется, не само по себе создание завершенного художественного произведения было целью, но полнота отношений. Это позволяло с чистым сердцем встречать каждое утро. В одно из них Константин Константинович вышел на балкон дома в Ильинском. По Москве-реке сплавляли лес. «Легкий утренний туман стлался над водой, поднимался с полей, прихотливыми волнами колебался и таял под лучами яркого солнца. Дивная картина. Сергей гулял в саду и заметил меня на балконе. Элла тоже вышла на балкон. Сергей скоро пришел к нам. Мы все трое глядели вдаль и любовались видом»[313].
Эта картина позволяет ощутить, как возникала полифония разнородных личностных миров в процессе их встречи. Что, в свою очередь, рождало общую зависимость от гармонии, разлитой в окружающем мире, стремление свести к минимуму даже малые штрихи непонимания.
В эти последние дни в Ильинском много гуляли, радовались осенней благодати, заходили в оранжерею, где вдыхали совсем особенный тепличный воздух, посещали имения друзей. По дороге в Никольское застыли от восторга при виде храма с золотыми куполами среди желтой листвы. Долго ехали неширокой тропой, густым, частым лесом. Остановились на краю обрыва, где были накрыты столы, разостлан ковер на траве. Великих князей угощали чаем, медом, фруктами, пирогами.
Спустились в долину, где в древности, видимо, протекала река. Играли в горелки, в кошки-мышки, бегали взапуски и снова отдыхали в лесу, под большими соснами. Вечером вновь играли в четыре руки а-дурную симфонию Мендельсона и д-мольную — Шумана.
На следующий день поехали верхом с Великим князем Павлом полями, березовой рощей, сосновым лесом в Степановское — большое, запущенное имение с каменным недостроенным домом, с заглохшим садом и большими прудами. «Было такое приятное утро, теплое, солнечное, листья как золотые деньги падали с деревьев, кружась в прозрачном воздухе и мерцая в солнечных лучах. Я наслаждался прогулкой»[314]. Вот открылся вид на Дмитровское со старинной церковью над крутым берегом, а с левой стороны мелькнуло Знаменское.
24 сентября совершили последнюю прогулку верхом. Элла в коричневой амазонке, в коричневой шляпе. Миновав Усово, пустились по полям, рощам, перелескам, переходили вброд ручьи. Великий князь Константин ехал сзади и «сочинял стихи на Эллу. На душе было так светло и отрадно среди Божьего мира, словно праздник был в природе»[315].
25 сентября «сочинял стихи на Ильинское, но ничего не выходило»[316]. Последний раз играли в четыре руки.
26 сентября — «увы! Последний день в Ильинском… Село Ильинское! Укромный уголок России-матушки… Простоял в левом приделе Иоанна Богослова… Было грустно прощаться… Уехали на почтовой четверке на Химки»[317].
Так завершает Великий князь Константин Константинович свои воспоминания об этом посещении Ильинского в 1884 г.
Нельзя не заметить, что Ильинское стало местом особого вдохновения Константина Константиновича. Именно здесь он написал целый ряд стихотворений, которые затем были положены на музыку Чайковского, Рахманинова, Глазунова и других композиторов.
Но были годы, подобные 1893 г., когда в размеренный ритм повседневной жизни в Ильинском врывалось стихийное бедствие. И тогда весь круг друзей Великой княгини включался в помощь страдающим. Прекращались концерты, спектакли, свободное музицирование: в Ильинском и окрестностях в этот год свирепствовала холера.
5.7. Отклик Великой княгини на беды и радости Ильинского
Силами великокняжеской семьи был создан временный наблюдательный медицинский пункт, действовавший с июля по октябрь 1893 г. Помимо борьбы с эпидемией опытный земский врач Н. Комаривский, приглашенный на эту работу, оказывал крестьянам срочную оперативную помощь. В эти месяцы все сложные операции были успешно проведены им в родильном приюте имени Ее Высочества покойной Великой княгини Александры Георгиевны[318].
Наряду с созданием временного медицинского пункта в Ильинском по распоряжению Великого князя были поставлены палатки, оборудована изба для изоляции больных и ухода за ними. Из военного госпиталя приглашены в помощь врачу фельдшеры и санитарки.
В бараках, выстроенных на средства великокняжеской семьи, бывали исцеления. Но крестьянам само по себе пребывание в инфекционном бараке казалось весьма страшным, несмотря на очевидные факты исцеления. Об одном из таких чудес сообщает земский врач в своем отчете о деятельности временного наблюдательного медицинского пункта: «Про нашего больного, выздоровевшего в бараке Его Высочества, рассказывали, что доктора заколотили его уже в гроб, но он ушел и явился на работу плотничать»[319].
Земский врач Н. Комаривский, говоря о случаях исцелений, специально отмечал самоотверженность ряда медицинских работников, великокняжеской четы и князей Голицыных. Комаривский обращает внимание на то, что победа над эпидемией стала возможна благодаря дружным действиям интеллигентных, просвещенных людей, в первую очередь врачей и духовных лиц: «Священник и доктор в это время должны быть на высоте своего призвания и дружно помогать друг другу»[320].
В 1903 г. обитатели великокняжеского дворца в Ильинском вместе со всей Россией ликовали в связи с обретением мощей преподобного Серафима Саровского. Грандиозности торжества содействовала выставленная в Большом Успенском соборе Кремля полумантия преподобного Серафима — великая святыня, прикасаясь к которой многие получали исцеления от болезней.
После службы собор оставался открытым в течение суток, поэтому бесчисленное количество богомольцев продолжало прикладываться к мантии святого. Во время всенощного бдения было много чудес от прикосновения к святой мантии.
20 июля 1903 г. в половине восьмого утра был отслужен последний молебен московским духовенством, и мантию святого Серафима перевезли в домовую церковь Его Императорского Высочества Великого князя Сергея Александровича в селе Ильинском[321]. Можно представить себе ту огромную духовную радость, которую испытали все жители этого благословенного поселения.
История Ильинской церкви, которая удостоилась принятия под свой кров великой святыни, заслуживает того, чтобы специально сказать о ней несколько слов. Как сообщалось в клировой ведомости Звенигородского уезда за 1849 г., эта церковь была построена в 1735 г. тщанием действительного коммергера и кавалера Василия Ивановича Стрешнева. Изначально в храме было создано три престола: св. пророка Илии, св. мч. Феодора в Перги и св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В 1849 г., т.е. за полстолетия до рассматриваемого периода, храм имел много земли. Уже в те годы высшее церковное руководство отводило храму особую духовную роль. По резолюции митрополита Филарета Московского настоятелем храма был определен хорошо образованный, духовно и нравственно развитый иерей из священнической семьи — о. Андрей Воскресенский, отец шестерых детей. За ревностную службу был отмечен наградами. Традиция праведного служения сохранялась и его преемниками. Среди прихожан, как и во времена Елисаветы Феодоровны, в клировой ведомости тех лет выделены князья Голицыны, особенно помещик, каммергер, статский советник и кавалер — князь Леонид Михайлович Голицын[322].
В течение ряда лет в сознании Великой княгини все определеннее обнаруживалось ощущение подмосковного Ильинского как малой родины. Поэтому никогда не возникало вопроса, быть или не быть в Ильинском в дни сугубой печали или радости. 30 августа 1907 г. в 5 часов утра В.Ф. Джунковскому доложили по телефону, что в Ильинском большой пожар. Он прибыл туда в самый разгар бедствия. Каково же было удивление генерала, обнаружившего, что раньше, чем он, в Ильинском оказалась Елисавета Феодоровна. «Мы застали на пожарище, — пишет В.Ф. Джунковский, — Великую княгиню, которая ободряла служащих, потерпевших от пожара»[323].
С большой радостью Великая княгиня участвовала в важном для Ильинского событии. «В том же 1907 году 23 сентября состоялось освящение отреставрированного храма в честь Илии Пророка. Весь иконостас был реставрирован, возобновлена настенная живопись, драгоценные ризы на иконах вновь вызолочены. Елисавета Феодоровна пожаловала в храм дорогие облачения, была на богослужении. Литургию пели учащиеся церковной школы. Крестьяне Ильинского поднесли Великой княгине хлеб-соль»[324].
В настоящее время в дорогой русскому сердцу усадьбе сохранился лишь небольшой фрагмент полуразрушенной галереи.
5.8. Дворец великокняжеской четы в Усово
К 1892 г. рядом с Ильинским, в Усове, для великокняжеской семьи было выстроено красивое двухэтажное здание с примыкающим к нему зимним садом, рассчитанное на возможность проживания там в более холодное время года. Согласно описи московского отделения Первого российского страхового общества, в состав имения входило 52 строения (т. е. на 100 строений меньше, чем в Ильинском). Стены двухэтажного дворца были обиты специальным материалом. Для строительных работ, как и в Ильинском, использовались дуб и сосна. В доме была организована хорошая бильярдная комната, буфет, две открытые террасы, зимний сад. В числе прочих зданий — кавалерский корпус, дом для служащих, училище, водокачка, крытый манеж, конюшни, бани, погреба, амбары, дома садовника, священника, дьячка, псаломщика[325].
Во второй половине августа жители Ильинской усадьбы получили возможность переехать в теплый, просторный дом Усова, выстроенный из кирпича и серого камня, заполненный множеством цветов и тропических растений. Радость хозяев дома получила отражение на страницах московских газет.
«Московские церковные ведомости» откликаются на это событие специальной статьей «Освящение дворца в Усове», которое состоялось 29 августа 1892 г. Строительство дворца началось в 1889 г. За торжеством освящения дворца последовала литургия, которую служило местное духовенство (певчие — учащиеся местной церковно-приходской школы). На литургию пришло множество людей из разных приходов.
После литургии во дворце поставили аналой для местной иконы Спаса Нерукотворного, стол и чашу для водосвятия, которое началось в 12 часов дня в присутствии Сергея Александровича и Елисаветы Феодоровны, а также двадцати семи приглашенных гостей. Водосвятный молебен совершало местное духовенство, пел хор из Ильинского под управлением регента — учителя пения при Синодальном хоре.
После окропления святой водой всех комнат провозглашено обычное многолетие, высказаны пожелания, чтобы дом этот жил вековечно и всегда был обитаем, чтобы стал свидетелем только радостных событий, чтобы жилось в нем благополучно, приятно, в добром здравии, в отдохновении духа и тела, чтобы основание дому полагал благодатный покров Божией Матери, именуемой Владимирской, к Которой притекали с молитвой, полагая основание зданию.
Ф.Ф. Сумароков-Эльстон преподнес хозяевам хлеб-соль на серебряном блюде с инициалами из драгоценных камней. Свои подношения сделали крестьяне ближних сел, князь Владимир Михайлович Голицын. Особые поздравления принес крестьянин Иван Гаврилов, который выполнил почти все работы по созданию мебели, деревянных интерьеров дворца.
Всем приглашенным Елисавета Феодоровна предложила завтрак, каждый получил фотографию Усовского дворца. Сергей Александрович и Елисавета Феодоровна попросили, чтобы все гости вписали свои имена в специально приготовленный альбом. Погода в этот день была прекрасной, и все гости с радостью сфотографировались на фоне нового дворца. В празднике принимали участие 90 строителей, которых угостили пирогами, коврижками, пивом. Каждому на память подарили тарелку, нож и вилку, которыми они пользовались на завтраке. Из рук Елисаветы Феодоровны мужчины получили кумач на рубашку, а женщины — ситец на платье.
В 5 часов вечера Елисавета Феодоровна и Сергей Александрович отбыли в Ильинское.
Священник с. Усово о. Константин Махаев в заключение своей статьи в газете пишет, что с. Усово, почти никому не известное, в августе 1892 г. «было свидетелем небывалого, великого события, после которого оно будет приходить в известность… оно и стоит того — и по своему прекрасному положению, сухой почве и здоровому воздуху»[326].
Потомок о. Константина Т.В. Михаева справедливо подчеркивает, что в конце XIX в. центром общественной и духовной жизни села была Усовская Спасская церковь, о которой в документах Московской духовной консистории сообщилось: храм построен гвардии прапорщиком Александром Петровичем Хрущевым, освящен 24 августа 1824 г., возглавлялся священником о. Лукой Никитиным и относился к числу богатейших[327]. Постепенное обнищание храма было приостановлено во второй половине 1860-х гг., когда Александр II подарил Усово супруге-императрице Марии Александровне. В 1890-е гг. храм приобретает то значение, о котором не раз говорил его настоятель. Именно к Константину Махаеву прежде всего обращались крестьяне по самым важным вопросам повседневной жизни и всегда встречали добрый отклик пастыря на их нужды. В своих проповедях о. Константин неоднократно обращался к прихожанам с просьбой о пожертвовании раненым в Русско-японской войне, находящимся в госпитале, который организовала Великая княгиня[328].
Последний владелец Ильинского и Усова великий князь Дмитрий Павлович Романов в 1942 г. умер в Швейцарии от туберкулеза и похоронен на острове Майнау возле замка своего племянника Ленарта Бернадотта.
В годы советской власти имение Ильинское подверглось разорению. Из усадьбы Великого князя Дмитрия Павловича в Румянцевский музей и Строгановское училище вывезены картины, гравюры и литографии (87 предметов), а также письма. В примечании к описи содержался перечень усадебных вещей: статуэтки слоновой кости, миниатюрные портреты Александра I и Елизаветы Алексеевны, 8 гравюр XVIII — начала XIX в., 15 картин, 6 акварелей, 25 предметов мебели, большое зеркало екатерининского времени[329].
Заболевание легких великого князя Дмитрия Романова обнаружилось давно. Узнав об этом в 1910 г., его отец Великий князь Павел Александрович, проживавший в Париже, немедленно вызвал Дмитрия на отдых и лечение в Баварию. Но неоднократное посещение курортов не вело к радикальным переменам в состоянии здоровья.
В марте 1914 г. он вновь едет в Париж, но чувствует себя так слабо, что о вечерах, встречах, праздниках невозможно было и думать. Тогда принимается решение о переезде из Парижа в Палермо, где Дмитрий остановился в хорошей гостинице, вне города, шума и пыли. Гостиница была расположена над самым морем, в комнатах слышался шум волн. С каждым днем состояние Дмитрия Павловича улучшалось, кашель проходил, пробуждались силы, что позволило ему осматривать развалины старого греческого храма и театр V в. Он сообщал из Палермо Николаю II:
«В Булонь (где жил тогда отец Дмитрия. — И.К.) я посылаю сухой отчет»… А Николай II отвечал ему: «приятно писать, потому что я знаю и чувствую, что ты понимаешь меня»[330]. В декабре 1914 г. из Петербурга Дмитрий вновь пишет Николаю II: «Здоровье мое ничего себе, но не могу сказать, что совершенно удовлетворительно. Доктора возлагают большие надежды на мое пребывание в Москве, или точнее в Усове. Гонят меня туда, недель, вероятно, на шесть, после чего надеюсь быть совершенно здоровым и вернуться к службе»[331]. Подобные признания, вне сомнения, остаются похвалой этому удивительному месту Подмосковья, его целительной силе. Хотя вопрос с духовной точки зрения гораздо сложнее, чем это представляется на первый взгляд.
Однако, как бы ни было прекрасно Усово, его дворец и храм, это место было менее дорого Великой княгине. Любимой, родной подмосковной усадьбой всегда оставалось Ильинское. Сегодня в церкви Ильинского возобновлены богослужения и каждый может посетить этот благословенный храм Подмосковья.
Интересные наблюдения открываются при непредвзятом взгляде на обыденную жизнь Великих князей в их подмосковной усадьбе. Во-первых, они свое бытие осознанно строили вокруг ежедневных православных церковных служб, глубоко чтили подвиг созерцательной молитвы. Этот лейтмотив отдыха в Ильинском присутствует во множестве писем, в дневниковых записях, распоряжениях, деловых бумагах. Во-вторых, можно отметить и тот факт, что повседневная жизнь великокняжеской семьи была погружена в атмосферу культуры — как особого опыта духовного общения. Может быть, поэтому почти каждый вечер великокняжеский дом наполнялся звуками музыки великих композиторов и совместным чтением Библии. Быстротекущие дни оказывались плодотворными для каждого и открывали в душах «культуру чувства природы» в ее первозданном и межличностном выражении. В этом смысле уместно вспомнить Михаила Пришвина, подчеркивавшего, что выращивание культуры чувства природы в человеке есть рай. Именно таким раем и была внутренняя жизнь великокняжеской четы. Жизнь нерукотворной природы Ильинского в богатстве и неповторимости ее оттенков и настроений была подобна драгоценной оправе семейного союза.
Благодатная жизнь в Ильинском никогда не отгораживала Великую княгиню Елисавету Феодоровну от повседневных нужд беднейших жителей Москвы. В Ильинском эта ежедневная деятельность становилась менее напряженной. Но и здесь центральным оставалось представление о немыслимости гармонии при наличии резких социальных контрастов, а поэтому Великая княгиня всегда помнила о необходимости оказания максимальной помощи всем в ней нуждающимся.
[251] Маерова В. Указ. соч. С. 74..
[252] ГАРФ. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. № 24. С. 35.
[253] ГАРФ. Ф. 648. Оп. 1. Ед. хр. 150.
[254] Там же.
[255] Из записок высокопреосвященного Леонида, архиепископа Ярославского. 1866 г. Московские церковные ведомости. 1911.
[256] Marie, Queen of Roumania. The story of My Life. V. I. Ld, 1934. P. 76
[257] Там же. С. 79
[258] Там же.
[259] Там же. С. 93
[260] Там же. С. 93-94
[261] Там же. С. 94
[262] Там же.
[263] Мария Павловна. Мемуары. М., 2003. С. 7
[264] Там же. С. 8-9
[265] Там же. С. 9
[266] Там же. С. 172
[267] Там же. С. 134
[268] Там же. С. 123
[269] Там же. С. 173
[270] Там же. С. 10
[271] Там же. С. 19
[272] Там же. С. 25
[273] Там же. С. 23
[274] Там же. С. 47
[275] Мария Павловна. Мемуары. М., 2003. С. 19-20.
[276] Там же. С. 21
[277] Там же. С. 95
[278] Там же.
[279] РГАДА. Ф. 1290. Оп. 9. Ед. хр. 624.
[280] Там же. Ед. хр. 174. С. 2.
[281] Юсупов Ф. Мемуары. М, 1998. С. 85.
[282] Там же. С. 86.
[283] Там же.
[284] Гавриил Константинович (Великий князь). В мраморном дворце. СПб., 1993. С. 211
[285] ЦИАМ. Ф. 303. Оп. 2. Ед. хр. 255. С. 1-2, 2 об. 3-4.
[286] Мария Павловна. Мемуары. М., 2003. С. 22
[287] Давыдов В. Ильинское: Судьба подмосковной усадьбы // Московский журнал. 1991. № 12. С. 57
[288] Калужские губернские ведомости. 1898. № 80. С. 4
[289] Джунковский В.Ф. Воспоминания. Т. I. M., 1997. С. 426
[290] Волков А.А. Около царской семьи. Париж, 1928. С. 21
[291] Там же.
[292] Marie, Queen of Roumania. The story of My Life. V. I. l.d, 1934. P. 214-215
[293] Мария Павловна. Мемуары. М., 2003. С. 39
[294] ГАРФ.Ф. 1115. On. 1.Уд.хр.№7.С. 1-11
[295] Греч А.Н. Венок усадьбам // Памятники Отечества. Вып. 32. М., 1994. С. 7
[296] Там же. С. 8
[297] ГАРФ. Ф. 1115. Оп. 1. Ед. хр. № 7. С. 2
[298] Седов Д.А. Один век из истории Звенигорода в фотографиях. М., 2004. С. 97-99
[299] Там же. С. 99
[300] Там же.
[301] ГАРФ. Ф. 1115. On. 1. Ед. хр. № 7. С. 4.
[302] ГАРФ. Ф. 1115. Оп. 1.Ед. хр. №59. С. 5
[303] ГАРФ. Ф. 1115. Оп. 1. Ед. хр. № 59. С. 7-8
[304] Тамже. Ед. хр. №31. С. 8
[305] Там же. С. 3
[306] Там же. С. 4
[307] Там же. С. 7
[308] Там же.
[309] ГАРФ. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. № 24. С. 37
[310] Там же.
[311] Там же. С. 38-39
[312] Там же. С. 40
[313] Тамже. С. 42
[314] Там же. С. 44-45
[315] Там же.
[316] Там же.
[317] Там же.
[318] ЦИАМ. Ф. 184. Оп. 5. Д. 1255. С. 1 об., 2, 4 об
[319] Там же. С. 2 об
[320] Там же. С. 5 об
[321] Московские церковные ведомости. 1903. № 3. С. 397-398
[322] ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 744. Ед. хр. № 2335. С. 6 об., 7 об., 9 об
[323] Джунковский В.Ф. Воспоминания. Т. I. С. 236
[324] Московские епархиальные ведомости. 1907. № 39. С. 1223-1224
[325] ЦИАМ. Ф. ЗОЗ.Оп. 2. Ед. хр. № 255. С. 17 об. 18, 18 об
[326] Московские церковные ведомости. 1892. № 39. С. 532-533
[327] ЦИАМ. ф. 203. Оп. 209. Ед. хр. № 717. С. 1, 1 об
[328] Михаева Т.В. Страницы истории села Усово // Красногорье. 2004. № 8. С. 8, 12; Михаева Т.В., протоиерей Алексий Бабурин. Спасская церковь села Усово // Московский журнал. 2003. № 7. С. 38.
[329] Памятники Отечества. Мир русской усадьбы. 1992. № 25. М., 1992. С. 75
[330] Николай II и Великие князья. Л.-М., 1925. С. 52
[331] Там же. С. 53
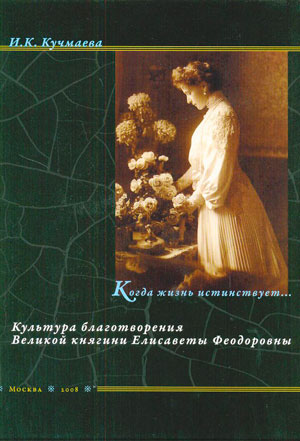
Комментировать