- Когда жизнь истинствует...
- Введение
- Глава 1. Истоки
- 1.1. Рейнская Сивилла
- 1.2. Св. Елизавета Тюрингенская: жизненный путь и жертвенное призвание
- 1.3. В родительском доме принцессы Гессенской и Рейнской
- Глава 2. Русский избранник принцессы Елизаветы
- 2.1. Детство и юность Великого князя Сергия
- 2.2. Великая мать Великого князя
- 2.3. Венчание Елисаветы и Сергия
- Глава 3. Петербург. Вхождение в мир русской культуры
- 3.1. Образ дома
- 3.2. «17 тетрадей»
- 3.3. Колокола рая
- Глава 4. Хлеб-соль Москвы — Великому князю и Великой княгине
- 4.1. В Александрийском дворце и на Тверской
- 4.2. Откровение о народной душе
- 4.3. Феномен благотворительного базара
- 4.4. Дружба с творческой интеллигенцией Москвы
- 4.5. Музыка в жизни великокняжеской четы
- 4.6. Контакты Великой княгини с дирекцией императорских театров
- 4.7. Поддержка образовательных начинаний
- Глава 5. Жизнь в подмосковном Ильинском
- 5.1. В окрестностях Саввино-Сторожевского монастыря
- 5.2. Жизнь в Ильинском в дни коронования Николая II
- 5.3. Детские воспоминания Великой княжны Марии Павловны о бытии Елисаветы Феодоровны в Ильинском
- 5.4. Культурная среда в подмосковном имении великокняжеской четы
- 5.5. Екатерина Шнейдер о повседневной жизни в Ильинском
- 5.6. Ильинское в дневниковых записях Великого князя Константина Константиновича
- 5.7. Отклик Великой княгини на беды и радости Ильинского
- 5.8. Дворец великокняжеской четы в Усово
- Глава 6. Августейшая попечительница детских приютов в Москве
- 6.1. Елисаветинское благотворительное общество
- 6.2. Комитет по устройству детских очагов в Москве
- 6.3. Награды Елисаветинского благотворительного общества
- 6.4. Общество попечения о неимущих и нуждающихся в защите детях в Москве
- Глава 7. Трагедия Великой княгини
- 7.1. Завещание Великого князя
- 7.2. Москва в трауре
- 7.3. Молитвенный памятник в Кремле
- 7.4. Возведение Сергиева скита
- 7.5. В память всех погибших во время смут
- Глава 8. Милосердная помощь русским воинам (1904–1905 гг.)
- Глава 9. Великая обитель Великой Матушки
- 9.1. Устав Обители. Основные учреждения
- 9.2. Повседневная жизнь Обители
- 9.3. Великая матушка в дни стихийных бедствий
- 9.4. Великая княгиня и M.B. Нестеров в годы создания Покровского храма Обители
- 9.5. Освящение Покровского храма
- 9.6. Игумен Серафим о подвиге сестер Обители в дни Первой мировой войны
- 9.7. Неотвратимость надвигающейся бури
- 9.8. Последние годы святого духовника Обители
- Глава 10. Августейшая паломница
- 10.1. Кашинские торжества
- 10.2. Посещение обители великого Вышенского затворника
- 10.3. Верхневолжское паломничество великокняжеской четы к христианским святыням
- 10.4. Орел. Паломничество в город воинского служения Великой княгини
- 10.5. Великая княгиня в Уфимской епархии
- 10.6. Паломнические путешествия Великой княгини в 1911 и 1912 гг.
- 10.7. Соловки
- 10.8. Паломничество Великой княгини в Оптину пустынь
- 10.9. Белогорье — путь на Сибирский Афон
- 10.10. Паломничество в Кострому
- Глава 11. Духовные наставники и друзья Великой княгини
- 11.1. Духовное учительство
- 11.2. Помощь ближним
- 11.3. Память о почивших друзьях
- 11.4. Поклонение святым
- Глава 12. Комитет Великой княгини в дни Первой мировой войны
- 12.1. Основные направления деятельности
- 12.2. Источники средств
- 12.3. «Под благодатным небом»
- 12.4. Личное внимание к страждущим
- Глава 13. Святыни Дармштадта и Майнау
- Глава 14. Уроки великокняжеской четы: русская святость и русская культура
- Послесловие
- Примечания
Глава 7. Трагедия Великой княгини
7.1. Завещание Великого князя
С первых дней генерал-губернаторства в Москве Великого князя Сергея Александровича ни у кого из благородных людей не возникало сомнения в значимости той огромной благотворительной и культурной деятельности, которую так самоотверженно вела великокняжеская семья. Круг идей и представлений этой семьи был близок многим москвичам.
За год до убийства мужа Великая княгиня Елисавета Феодоровна пишет брату, Великому герцогу земли Гессен в Дармштадт: «У нас все благополучно. Я и Серж так счастливы быть вместе…»[378].
Еще далеко было до начала Русско-японской войны. И все, казалось бы, благоприятствовало великокняжеской чете. Но задолго до 1903 г., каким датировано письмо Елисаветы Феодоровны Эрнсту Людвигу, во время безмятежного отдыха из Ильинского пишет Великий князь любимому младшему брату относительно своего завещания. Прошел всего лишь год, как Сергей Александрович стал генерал-губернатором Москвы. Но письмо дает ощутить, что Великий князь, видимо, имел достаточные внутренние основания для подготовки такого документа. Публикуем письмо почти полностью.
«Дорогой Цып! (Цып — домашнее имя Павла Александровича. — И.К.). Так как я еще не успел написать свое завещание, то прошу тебя передать Саше (Александру III. — И.К.) следующее: я желал бы пожизненно оставить жене моей пользование всеми моими капиталами, имениями и петербургским домом — ей же все вещи. После же ее кончины желаю, чтобы все (подчеркнуто Великим князем. — И.К.) вышесказанное перешло бы твоей дочери (которую после отъезда Павла Александровича долгие годы воспитывал Сергей Александрович. — И.К.); ей же немедленно после моей смерти все (подчеркнуто Великим князем. — И.К.) риллиантовые вещи, которые были мне завещаны Мама (это легко найти в завещании Мама). Ильинское переходит тебе, опять-таки по завещанию Мама. Жену попроси дать всем близким мне людям что-нибудь на память — пожалуйста, чтоб это были красивые вещи, а не гадости!..
Все мои дневники, как старые так и новые, оставляю тебе. Прошу тебя, Стенбока и Гадона разобрать мои бумаги и вещи — жечь сколько угодно. Письма Папа и Мама тебе. Если возможно, похоронить меня в Преображенском мундире с Георгиевским крестом, знаком Папа, оставив на мне все кольца и образа, кроме мощей прп. Сергия, которые возьми себе, если можешь, носи (это благословение Папа перед войной). Полковые подарки — в полковую библиотеку или так называемый музей. У меня остались бриллиантовые вещи, которые передать жене.
Христос с тобой. Твой Сергей.
Ильинское. 2 июля 1892 года»[379].
До дня убийства Великого князя еще более двенадцати лет, но письмо звучит как откровение и как бы подводит итог внешне невидимой борьбы. Обращает на себя внимание скупое, строгое и точное употребление слов. Очевиден взгляд на свою жизнь со стороны, взгляд спокойный и твердый. Великому князю важно оставить средства для жизни жене и племяннице, передать прекрасные вещи близким в память о себе. Видно, как дорожит он Преображенским полком, где остаются друзья, с которыми прожито вместе много добрых дней.
Но главное он передает брату. Особо выделен один священный предмет — частица мощей преподобного Сергия Радонежского. И одно место на земле — Ильинское, которое он хочет передать брату. И абсолютное безразличие к массе бумаг и вещей, среди которых множество случайных, бесполезных.
Письмо дает ощутить, как отличается душа, вовлеченная в мир земной суеты, от души, вовлекаемой в мир горний.
Письмо к брату имеет особый религиозный смысл, который заключен в том, что нет кратких и простых путей к спасению души. Трагический эпилог ожидается спокойно, потому что на путь к нему потрачена вся жизнь, все силы души.
Необходимо отметить одну характерную деталь. Письмо было написано Великим князем в Ильинском в тот самый месяц, которого так ожидали в великокняжеской семье. Приближался день ликования, день прп. Сергия Радонежского. И это еще раз говорит о крепости духа Великого князя, который, умея тонко различать грани, оттенки, перспективы событий, считал необходимым в безоблачные, счастливые дни поручить брату распорядиться самым важным после его возможного ухода в небытие.
7.2. Москва в трауре
В начале XX в., особенно в дни Русско-японской войны, ситуация в Москве становилась все более напряженной. Принципиальность и твердость в решении важнейших государственных вопросов со стороны Великого князя Сергея Александровича вызывает шквал угроз в его адрес. По решению Императора Николая II Великий князь оставляет пост генерал-губернатора, но остается командующим войсками Московского военного округа. В его сознании даже не возникает мысли о том, что в такой ситуации можно покинуть Москву, спасая свою жизнь.
Поскольку близким людям становилась все более очевидной небезопасность проживания великокняжеской семьи во дворце Нескучного сада, вспоминает В.Ф. Джунковский, было принято решение о немедленном переезде в Кремль, где, полагали, будет более безопасно.
9 января семья переехала в Николаевский дворец Кремля. Кроме Сергея Александровича и Елисаветы Феодоровны, августейших детей Великого князя Павла Александровича, во дворце поселились фрейлины Елисаветы Феодоровны М.А. Торопчанинова, княгиня С.Л. Шаховская и др.
В комнатах дворца в Нескучном в эту пору было очень холодно (+4°С). Но с данным обстоятельством можно было мириться, постепенно преодолевая его. Самое печальное и непоправимое состояло в том, что Великий князь скрывал от всех, даже от Джунковского, письма, в которых содержались открытые угрозы в его адрес. Все письма шли лично на Великого князя, которые он, получив и прочитав, немедленно уничтожал.
Жизнь в Николаевском дворце постепенно налаживалась: утром обычные приемы посетителей и доклады до завтрака. В 13.00 — завтрак, затем выезды Великого князя в город по делам; в 16-17 — дневной чай; 20.00 — обед. Если гостей не было, Сергей Александрович выходил к чаю в 10-11 вечера.
С того времени как стали поступать тревожные сигналы о готовившемся покушении, Великий князь не изменил своего режима дня, «только перестал брать с собой адъютанта, к нашей большой обиде» (в то время адъютантами были А.А. Страхович, граф Л.Н. Игнатьев, граф В.А. Олсуфьев, граф А.А. Белевский и В.Ф. Джунковский) «и ездил всегда один, никогда заранее не говоря, куда едет»[380]. Ни на какие уговоры об осторожности Великий князь не реагировал.
Каждый день, как и всегда, Великий князь уделял много времени детям, читая вместе с ними, посещая друзей, концерты и спектакли. И самый последний вечер жизни, 3 февраля 1905 г., он проводит с Елисаветой Феодоровной и племянниками в Большом театре, слушая пение Ф.И. Шаляпина, которое покорило Мари и Дмитрия, а Великого князя обрадовало их радостью.
В литературе много написано о взрыве, организованном в Кремле террористом Каляевым, в результате которого погиб Великий князь, об отчаянии Великой княгини, о страшной сцене собирания ею разбросанных останков мужа.
Графиня А.А. Олсуфьева, вспоминая об этом жестоком убийстве, писала: «Подобно отцу, Александру II, он (Сергей Александрович. — И.К.) стал жертвой революционеров с той лишь разницей, что в 1881 году убили Императора, который должен был на следующий день подписать самую либеральную конституцию; в то время как Великий князь Сергий никогда не скрывал своего мнения относительно дара свободы молодым людям, которую следовало ограничить во избежание злоупотребления ею. Теперь мы видим, что его опасения были оправданы…»[381].
В 16 часов вечера тело убитого Великого князя перенесли на катафалке, покрытом серебристо-голубой парчой, в Алексеевскую церковь Чудова монастыря в Кремле. Тело Сергея Александровича было покрыто покровом из синего бархата, на который был возложен образ в серебряной ризе преподобного Сергия Радонежского.
Первая поминальная служба закончилась. «Все поднялись с колен, — пишет Мария Павловна, — и я увидела приближающуюся к нам тетю Эллу. Лицо ее было белым и словно окаменевшим. Она не плакала, но в глазах было столько страдания: этого своего впечатления я не забуду, пока жива». Елисавета Феодоровна в тот день повторяла детям: «Он так вас любил, так любил…» Порой случалось, что служба заканчивалась, а она оставалась в том же положении, не замечая, что происходит вокруг. Тогда как можно осторожнее я брала ее за руку. Она вздрагивала словно от удара и устремляла на меня невидящий трагический взгляд»[382].
Потрясение было столь велико, что родной брат Сергея Александровича Павел, по воспоминаниям Марии Павловны, считал ее «психически ненормальной и утратившей все человеческие чувства»[383].
Но сильная духом, она преодолела кризис и вернулась к жизни, став тверже, деятельней, мудрее. И все же «в течение всех этих дней тетя демонстрировала непостижимый героизм, никто не мог понять, откуда у нее берутся силы так стойко переносить горе»[384].
Панихиды о Великом князе, вспоминает Джунковский, служились все время, почти без перерыва, с утра до вечера. По просьбе Великой княгини народ пропускали в Кремль беспрепятственно.
6 и 7 февраля в присутствии Елисаветы Феодоровны по желанию крестьян панихиды служили в Ильинском и Усово.
10 февраля, в день отпевания, на грудь почившего положили старинный крест с частицами мощей и Животворящего Древа, венки из живых цветов. В 11 утра печально зазвонил колокол на колокольне Ивана Великого. В 12.00 началась заупокойная литургия. Митрополит Владимир вручил Елисавете Феодоровне и другим августейшим осо бам свечи из желтого воска. При пении «Со святыми упокой» все опустились на колени. При пении «Зряще мя безгласна» Великая княгиня подошла ко гробу и, сделав земной поклон, простилась с мужем.
В этот день в храмах всех учебных заведений, благотворительных и иных учреждений, в приходских церквах были совершены заупокойные литургии и панихиды.
10 февраля в Чудовом монастыре, у гроба Сергея Александровича началось непрерывное чтение Псалтири послушниками монастыря. В 19 часов каждый день на служение панихиды приходила Великая княгиня.
12 февраля, на 9 день после убийства, были совершены особые службы в полковых, монастырских и приходских храмах. В этот день в 12.30 в Чудовом монастыре, у гроба Великого князя в присутствии Елисаветы Феодоровны служили панихиду от пятого гренадерского Киевского полка. На гроб возложили крест из живых цветов, перевитый красной лентой с надписью «Киевцы незабвенному шефу».
15 марта, на 40 день, служили несколько панихид в присутствии Елисаветы Феодоровны. 5 июля, в день тезоименитства Великого князя, в Чудовом монастыре, в присутствии Великой княгини, на заупокойной литургии на гроб возложили несколько крестов из живых роз, венок из красных роз и левкоев от Народного дома, венок из белых лилий и белых роз от Киевского гренадерского полка. Возле гроба поставили два снопа ржи с ромашками, васильками и другими полевыми цветами[385].
В эти дни многие будто впервые осознали, какого типа человек в течение многих лет руководил жизнью Москвы: участник Русско-турецкой войны 1877-1878 гг., генерал-майор, командир Преображенского полка, командующий войсками Московского военного округа, произведенный в чин генерал-лейтенанта, кавалер орденов св. Владимира I степени и святого Георгия IV степени, председатель Императорского Палестинского Православного Общества; почетный член: Академии наук, Императорского Московского Археологического общества, Московского общества сельского хозяйства, Общества любителей естествознания, Русского музыкального общества, Филармонического общества, Общества пособия нуждающимся студентам Московского университета; человек, приложивший огромные усилия к созданию и развитию Исторического музея и Музея изящных искусств, попечитель множества детских благотворительных учреждений.
Почти все письма, коих было великое множество, в эти дни Елисавета Феодоровна поручила читать Джунковскому, среди которых было немало оскорбительных по отношению к Великому князю и содержащих угрозы в адрес Великой княгини. Такие анонимные письма Джунковский немедленно сжигал.
Отдельной страницей жизни был подвиг посещения убийцы Елисаветой Феодоровной. Не посетить Каляева она не могла. «Она, по своему характеру всепрощающая, чувствовала потребность сказать слово утешения и Каляеву, столь бесчеловечно отнявшему у нее мужа и друга»[386]. Но раскаяние убийцы было кратковременным. Его больше волновали другие вопросы, что получило отражение в пьесе, написанной Каляевым в камере.
День убийства Его Высочества стал рубежом не только для Елисаветы Феодоровны, но и для многих людей в России. Это страшное событие получило отклик во всех уголках России, печатных изданиях, общественных и государственных организациях, в Русской Православной Церкви,в сердцах выдающихся деятелей русской культуры. «Убит Великий князь Сергей Александрович, — записывает в дневнике И.Е. Забелин. — Ужас. Онемели руки и ноги»[387].
4 февраля 1905 г., в день убийства Великого князя, шло заседание Комиссии по устройству чтений для рабочих. Председатель Комиссии ректор Московской духовной семинарии архимандрит Анастасий, узнав о трагедии, закрыл заседание и предложил немедленно встать на молитву «Об упокоении души благоверного Государя и Великого князя Сергея Александровича»[388]. Так была совершена одна из первых в Москве панихид о новопреставленном. После панихиды принято решение воспроизвести для московских рабочих «кроткий лик почившего» и напомнить им о его бесценных заслугах для их просвещения[389]. Немедленно было подготовлено и издано несколько брошюр, посвященных этой трагедии. Одной из первых откликнулась Комиссия по устройству чтений для рабочих, издав брошюру «Неоценимой памяти скончавшегося мученической смертью Великого князя Сергея Александровича».
6 февраля Комиссия в полном составе прибыла в аудиторию Епархиального дома, куда собралось несколько сот рабочих. К собравшимся с кратким вступительным словом обратился архимандрит Анастасий. Он прежде всего отметил, что общеобразовательные чтения для рабочих возникли по инициативе Великого князя, который всегда содействовал их развитию, «горячо принимая к сердцу умственные и нравственные интересы рабочих»[390]. Помогал средствами и перед кончиной согласился принять на себя звание почетного председателя Комиссии.
После краткого вступительного слова архимандрит Анастасий отслужил панихиду при участии большого хора рабочих. Затем архимандрит Анастасий выступил с обстоятельным докладом, изложив суть плодотворной заботы Великого князя о просвещении рабочих. Он отметил, что Сергей Александрович горячо заботился о том, чтобы свет «общечеловеческих знаний согрет был для вас теплом, любовью к Царю, Церкви и Отечеству, чтобы вы не были беспочвенными международными рабочими, а были русскими, — детьми Царя-Отца и Матери-России»[391].
Великий князь, как отметил далее архимандрит Анастасий, свято исполняя уставы Русской Православной Церкви, чтил ее праздники, принимал участие в крестных ходах, вместе с супругой сопровождал Государя в Саровскую обитель на великое торжество обретения мощей великого русского святого. Он радовался, что рабочие проявляют глубокую заинтересованность историческими судьбами Отечества, слушают лекции, знакомятся с памятниками отечественной истории в кремлевских соборах и московских древлехранилищах. Архимандрит подчеркнул сугубый интерес самого Великого князя к отечественной истории, его участие в раскопках; отметил, что Сергей Александрович бережно хранил святыни, имеющиеся в его доме. Заботясь, чтобы посредством просвещения рабочие становились более верными сынами Православной России, «он не заграждал пути к вам ни одной науке, ни одному искусству»[392], давал щедрые средства на изучение инструментальной музыки, на создание оркестра рабочих.
«Его кроткая идеальная личность, — говорил архимандрит Анастасий, — исполнена поучения и благотворного влияния на всех русских людей. Людская беда, горе и нужда всегда находили в Нем отзывчивый сердечный отклик и быструю помощь»[393]. Это знала московская беднота, воины Русско-японской войны, крестьяне села Ильинского, где Великий князь с супругой строили школу, больницу, проводили чтения, оказывали щедрую помощь при пожарах, организовывали ярмарки в Ильин день.
В течение 12 лет своего генерал-губернаторства Великий князь стремился поднять древнерусскую столицу как исконно русский центр. Поникшее под воздействием чуждых влияний значение ее святынь, исторических достопримечательностей, самого уклада жизни московской при нем поднялось и стало виднее во всех концах России.
Архимандрит Анастасий в заключение сказал, что злодеи хотели запятнать Кремль впервые пролитой здесь царской кровью выдающегося члена Императорского Дома. Но они в действительности создали «новый опорный камень для любви к Отечеству», дали «Москве и всей России нового Молитвенника»[394].
Это знаковое выступление архимандрита Анастасия перед рабочими Москвы свидетельствовало не только о высоких личных качествах Великого князя, до поры скрытых от многих, ибо Сергей Александрович никогда не искал пустой славы. Речь архимандрита констатировала главное: Великий князь укреплял авторитет Москвы как духовной столицы России, как главного центра православия.
О преступлении пишут «Московские ведомости», «Московские епархиальные ведомости», «Голос Москвы», авторы брошюр «Злодейское преступление в Москве», изданной по разрешению московского градоначальника генерал-майора Е.Н. Волкова, и «Мученическая кончина Его Императорского Высочества Великого князя Сергея Александровича», изданной Е.И. Коноваловой.
Из статьи в статью переходит мысль о породненности Великого князя с Москвой:
«Он был нашим, с самого рождения своего, ибо Царь-Освободитель нарек ему имя Сергия, поставил под покровительство преподобного Сергия, святого восприемника Московского царства.
Он был нашим, потому что всем сердцем полюбил Москву, проведя в ней Свои отроческие годы.
Он был нашим, так как Царь-Миротворец поставил Его над Первопрестольного Своею столицей в знак особой любви и к Нему и к ней.
Он был нашим, потому что долгие годы неустанно заботился и трудился на благо Москвы»[395].
Народ рыдал. На месте катастрофы как реликвии собирали смоченные невинной кровью щепки от кареты, в которой в этот день ехал Великий князь, частички шинели, частицы каретной обивки.
Елисавета Феодоровна обратилась к народу с просьбой передать ей все, что осталось после взрыва, все фрагменты вещей, особенно крест. Люди приносили все, что могли найти. Среди трех колец Великого князя, найденных и переданных Елисавете Феодоровне, особое внимание обращает на себя одно — серебряное с синей эмалью и надписью: «Св. великомученица Варвара». Кольцо как пророчество об особой близости к великокняжеской семье именно этой великомученицы, которая в смертный час пошлет к Великой княгине мученицу Варвару, добровольно разделившую с Елисаветой Феодоров-ной мученическую кончину и пребывающую мощами рядом с Великой княгиней на Святой Земле.
Постоянно в эти дни звучал голос совести многих:
«Мы не уберегли того человека, который нам, русским, служил примером прямоты и непоколебимости своих истинно русских убеждений, беззаветною верностью идеалам Александра III. Верный своему долгу Русского Великого князя, он не шел ни на какие компромиссы с врагами России, и вот почему они именно на нем сосредоточили свою адскую злобу, видя в Нем надежнейшего советника Русского Царя»[396].
По мере появления новых публикаций все яснее становилось, что не только Великая княгиня, но множество других людей видели прижизненную святость Сергея Александровича. Они не искали бесспорных и непреложных критериев, которыми обычно оперирует Комиссия по канонизации русских святых. Сугубая ситуация пробудила дремлющую во многих правоверных людях интуицию и позволила духовным оком увидеть то, что в обычные времена остается невостребованным.
Трагическая гибель Великого князя становится для его августейшей супруги тем рубежом, который подводит ее к завершению светской жизни, погружает в поиск всех возможных средств для сохранения памяти о муже.
7.3. Молитвенный памятник в Кремле
Вскоре после гибели Великого князя встал вопрос о месте его захоронения — в Петропавловском соборе Петербурга, который был местом погребения членов Императорского Дома, или в Москве, где он был генерал-губернатором, командовал войсками Московского военного округа. В итоге было принято решение о строительстве специального храма-усыпальницы при Чудовом монастыре в Кремле.
В 1909 г. генерал-лейтенант Михаил Петрович Степанов, который в течение многих лет служил у Великого князя Сергея Александровича, а затем у Елисаветы Феодоровны, издает фундаментальный труд «Храм-усыпальница Великого князя Сергея Александровича». Храм, сооружаемый по предложению Павла Васильевича Жуковского, сына известного русского поэта, под наблюдением архитектора академика Р.И. Клейна, по существу был творением святого сердца Великой княгини Елисаветы Феодоровны. Ее усилиями был создан не просто храм-усыпальница, но духовный музей великого человека. Видя непонимание, каким было окружено имя ее мужа со стороны целого ряда лиц, Елисавета Феодоровна сделала все для того, чтобы представленная в храме часть духовной жизни Сергея Александровича говорила сама за себя, говорила, разумеется, тем, кто хотел видеть, слышать, размышлять. «Лучшего молитвенного памятника не могло быть создано Тому, Кто сам так твердо, глубоко и чисто верил»[397], — справедливо замечает Михаил Петрович Степанов. Елисавета Феодоровна передала в храм все самое духовно драгоценное для Сергея Александровича, приоткрывая тайну и глубину молитвенной жизни мужа. Храм-усыпальница — музей-памятник — был единственным, уникальным явлением.
После его уничтожения вместе с Чудовым монастырем особую ценность представляет подробное, хорошо иллюстрированное издание (книга М.П. Степанова). Автор неоднократно отсылает читателя к фрагментам статьи «Из области церковного искусства», опубликованной в 1906 г. в «Московском голосе», где анализируется «необыкновенно изящная архитектурная концепция» храма-памятника. Оставляя сейчас в стороне рассмотрение этой действительно оригинальной концепции, отметим лишь, что украшение иконостаса было возложено на Клавдия Петровича Степанова и группу московских иконописцев, работавших под его руководством. Над царскими вратами, местными иконами и боковыми перемычками сквозных частей иконостаса располагался сплошной иконописный слой. Иконы были писаны по золоту.
В боковых частях иконостаса (в северной его части) стоял поминальный столик, в южной — два аналоя: на одном икона «Святцы», на другом в ковчеге мантия прп. Серафима Саровского. В храме находился именно тот аналой, перед которым Великий князь всегда стоял в храме за богослужением; книги, по которым он следил за церковной службой; благословения по разным случаям жизни; святыни, которые были особо дороги.
Эскизы семи икон для храма-усыпальницы Великого князя Сергея Александровича, выполненные Иконописной палатой при Святейшем Синоде в стиле раннего итальянского Ренессанса, были представлены на рассмотрение Великой княгине и полностью ею одобрены[398].
По стенам храма и в ризнице было развешано множество икон из молельной Сергея Александровича, из богатого собрания его икон. Здесь иконы по случаю его рождения, иконы его детства, иконы, висевшие над изголовьем его кровати, иконы-благословения от духовных лиц, иконы в память бракосочетания с Елисаветой Феодоровной и т. д. Всего около 300 икон, складней, крестов знаменитых иконописных школ Древней Руси и более позднего времени. В храм было передано много икон и других священных предметов, принадлежавших Елисавете Феодоровне. На многих иконах надписи, сделанные рукой Великого князя и его близких, а также дарственные посвящения.
В храме представлены иконы Спасителя и Божией Матери, прп. Сергия Радонежского и Серафима Саровского, прп. Саввы Звенигородского, св. Марии Магдалины, св. князя Александра Невского, прав. Елисаветы, прп. Илии, свв. Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Василия Великого, свв. Бориса и Глеба, св. Анны Кашинской, св. Великого князя Георгия Владимирского, память которого отмечается в день убийства Сергея Александровича и др.
Чтобы иметь представление об исторической, культурной и духовной ценности икон, которые находились в храме, достаточно упомянуть лишь некоторые из них:
— икона Казанской Божией Матери.
Внутри чернилами надпись: «29 апреля 1904 г. Этой иконой Александра Александровна Львова, урожденная княжна Долгорукова, крестница Государя Николая Павловича, благословила внука Его Великого князя Сергия Александровича»;
— икона прп. Саввы Звенигородского.
Надпись: «Благословение Преосвященного Леонида Дмитровского викария Московского, Великому князю Сергею Александровичу при посещении Великим князем Преосвященного в Саввинском подворье 14 декабря 1865 г.»;
— икона Святителя Алексия — «Благословение Преосвященного Филарета Великому князю Сергею Александровичу по приезде в Малый Кремлевский дворец: 27 ноября 1865 г.»;
— икона Богоявления Господня от Иерусалимского патриарха Никодима — дар Великому князю в 1888 г. (до дарения икона 6 лет находилась в святом Вертепе в Вифлееме);
— икона Господа Вседержителя.
На обороте на медной доске вырезана надпись: «Его Императорскому Высочеству Великому князю Сергею Александровичу и Супруге Его Великой княгине Елисавете Феодоровне от хоругвеносцев Московских Кремлевских соборов и монастырей: Спаса на Бору, Благовещенского, Архангельского и Двунадесяти Апостолов, Чудова и Вознесенского в память прибытия в Москву 5 мая 1891 г.»;
— икона Тихвинской Божией Матери.
Надпись: «От прихожан Тихвинской г. Богородска церкви. 28 мая 1891 г.»;
— тройной складень в серебряных финифтяных рамках XVII в. Дар Елисавете Феодоровне от Государыни Императрицы Александры Федоровны;
— икона в виде тройного складня, выполненная по заказу Елисаветы Феодоровны в день мученической кончины Сергея Александровича;
— вышитая шелком икона Божией Матери, список с иконы М.В. Нестерова, работа М.Н. Ермоловой;
— нерукотворный образ В.М. Васнецова;
— икона Благовещения Пресвятой Богородицы — дар Елисавете Феодоровне от наместника Чудова монастыря архимандрита Арсения 24 марта 1907 г.
В храме множество икон от полков, губерний, князей, других частных лиц.
Великая княгиня Елисавета Феодоровна передала в храм и другие святыни, которые были особенно дороги Сергею Александровичу: Евангелие Императрицы Марии Александровны (матери Великого князя) с длинной надписью, сделанной ее рукой; две золотые ладанки, где Сергей Александрович хранил волосы Императрицы Марии Александровны; бархатную шапочку св. Митрофана Воронежского; кусочек старого бархата от раки св. Симеона Верхотурского; серебряный ковчежец с частицей мощей св. великомученицы Варвары. В храм из молельной Сергея Александровича передается также дорогая ему церковная утварь: напрестольный крест, Дарохранительница, Евангелие напрестольное, дискос, звездица, кадило, лжица. Здесь же была укреплена полка с книгами Сергея Александровича, которые входили в круг его постоянного чтения, такими как «Вечный календарь» Е.А. Тихомирова (М., 1879); Фома Кемпийский «О подражании Христу» (СПб., 1877); «Свет жизни» (СПб., 1885) и др.
По своду ризницы было расположено множество серебряных венков; там хранились иконы, пасхальные яйца, подаренные Сергею Александровичу, книги.
В литературе неоднократно писали о том, что в храме был высокий дубовый крест со вложенными в него носилками, на которых перенесли останки Великого князя с площади в храм и гренадерская шинель, прикрывавшая останки. Перед крестом висела лампада синего стекла, оправленная в золотой браслет с сапфиром — подарок Великого князя Сергея Александровича Елисавете Феодоровне в день их помолвки 6 ноября 1883 г. Крест был увешан иконами, которые были подарены Великой княгине Елисавете Феодоровне в первые 40 дней по кончине Великого князя Сергея Александровича.
По сводам и столпам храма были развешаны лампады — вклады отдельных лиц и обществ в молитвенную память о Великом князе.
Все собранное в храме и в его ризнице служило, с одной стороны, своеобразной летописью, свидетельствующей о главной духовной компоненте жизни Великого князя, с другой — проявляло отношение к нему массы людей, которое от внешнего почитания при жизни переросло во внутреннюю потребность в неусыпной молитве о его душе. Человек, сохранившийся в памяти народной как эталон честности, справедливости и благородства, память которого неоднократно подвергалась поруганию, заслуживает того, чтобы воссоздать подземный храм-усыпальницу в Кремле. Благо что стараниями преданного генерала — автора упомянутой книги — можно восстановить каждую деталь этого храма — музея духовной культуры Его Высочества.
7.4. Возведение Сергиева скита
Члены Императорского Православного Палестинского Общества знали, что перед смертью Великий князь Сергей Александрович очень хотел построить на свои средства храм в честь преподобного Сергия Радонежского, но не успел претворить в жизнь это намерение.
4 февраля 1906 г. члены Калужского отдела этого Общества собрались в память о Великом князе Сергее Александровиче в годовщину его убийства. А.А. Офросимов, один из руководителей Общества в Калуге, сообщил, что к нему стали обращаться с предложениями о пожертвовании земли и денежных средств для возведения Сергиева скита. Князь Офросимов через генерал-лейтенанта Степанова обратился к Великой княгине Елисавете Феодоровне по этому вопросу, чему она несказанно обрадовалась[399].
Член Палестинского общества в Калуге Николай Эрне-стович Мантейфель принес в дар более 63 десятин земли при деревне Мстихиной Калужского уезда, в урочище, именуемом «Боровой лес», а калужская купчиха Серафима Федоровна Михайлова подарила Обществу 47 десятин земли, находящейся там же. Земли под скит располагались в двух верстах от разъезда № 19 Московско-Киевско-Воронежской железной дороги, в двух верстах от деревни Мстихиной и в шести верстах от Тихоновой пустыни. Земля песчаная, густо поросшая сосновым лесом, земля, которая находилась на пути богомольцев.
Жертвователи просили предоставить им право, во-первых, построить храм во имя прп. Сергия, в котором совершались бы непрерывные, ежедневные богослужения и неумолкаемое чтение Псалтири с поминовением мученически скончавшихся Императора Александра II, Великого князя Сергея Александровича и всех умерших членов Императорского Православного Палестинского Общества. Во-вторых, построить на этой земле церковно-приходскую школу. В-третьих, воздвигнуть странноприимный дом для приходящих богомольцев с богадельней на 12 мест для престарелых, раненых или увечных воинов.
Все эти сооружения и учреждения жертвователи решили содержать самостоятельно, ничего не требуя у Палестинского Общества. Напротив, весь доход отдавать этому Обществу. Часть дохода предполагалось получать за счет продажи билетов в Иерусалим. Здесь же предполагалось создать временный приют для паломников перед их отъездом в Иерусалим[400].
Правящий архиерей Калуги, члены Калужского отдела Палестинского Общества с благодарностью приняли эти пожертвования и постановили дать следующее название сему месту: «Сергиев скит Калужского отдела Императорского Православного Палестинского Общества в память в Бозе почившего Великого князя Сергея Александровича», о чем и сообщили Елисавете Феодоровне[401].
Великая княгиня откликнулась немедленно, направив телеграмму на журнал Калужского отдела Палестинского Общества: «Очень тронута постановлением отдела, утверждаю его. Сердечно благодарю за пожертвования Н.Э. Ман-тейфеля и С.Ф. Михайлову. Елисавета»[402].
С той поры строительство быстро двинулось вперед. На высокий каменный фундамент был поставлен перенесенный сюда из Тихоновской слободы приходской деревянный храм. Неизвестные лица принесли в дар священные сосуды, другую церковную утварь. Великая княгиня Елисавета Феодоровна пожертвовала храму местные иконы и церковные облачения. Генерал-лейтенант Степанов ходатайствовал перед патриархом Иерусалима о присылке в храм иконы с частичкой Гроба Господня.
Еще до закладки храма был построен дом для 12 увечных воинов Московского военного округа, которым командовал Великий князь Сергей Александрович. В этом доме в киоте был поставлен большой образ Божией Матери, портрет Великого князя, фотографии, отражающие его пребывание в Калуге в 1897 г. 5 июля 1906 г., в день тезоименитства Великого князя, состоялась закладка храма. Уже до закладки храма здесь было построено несколько зданий, выкопан глубокий колодец с большим количеством прекрасной воды. К 11 утра 5 июля духовенство, губернатор и вице-губернатор Калуги, военные казаки, члены Калужского отделения Императорского Православного Палестинского Общества приступили к чину закладки храма, который завершился многолетием августейшей председательнице этого Общества Великой княгине Елисавете Феодоровне и пением вечной памяти Великому князю Сергею Александровичу.
По окончании чина закладки Преосвященный Вениамин, епископ Калужский и Боровский, обошел войска, окропил всех святой водой, хор исполнил «Коль славен», совершил панихиду о Великом князе. Начальник воинского гарнизона объяснил солдатам значение закладки храма и учреждения богадельни. Войскам после совершения чина закладки предложили обед и чай с белым хлебом, а духовенство и начальствующие лица были приглашены в инвалидный дом на чай и пирог. Первый тост был поднят за здравие Их Императорских Величеств и августейшей семьи. Епископ Вениамин поднял тост за здоровье Елисаветы Феодоровны. Оркестр исполнил Преображенский марш. Вскоре войска под звуки марша выступили в Калугу[403].
Ровно через год строительство храма было завершено, и 5 июля 1907 г. освящен его главный престол во имя прп. Сергия Радонежского. Тогда же был освящен странноприимный дом и церковно-приходская школа.
Как удалось установить Калужскому краеведу В.В. Легостаеву, одним из первых обитателей инвалидного дома стал отставной рядовой, слепой на оба глаза вследствие ранения во время Русско-японской войны Прохор Волков, который был доставлен из Москвы в Сергиев скит.
По ходатайству настоятеля Сергиева Скита иеромонаха Герасима в 1908 г. железнодорожный разъезд № 19 переименован в Сергиев разъезд, ныне именуемый станцией Калуга-П.
Интересные сведения В.В. Легостаев обнаружил в архиве о личности строителя и настоятеля скита иеромонаха Герасима. Михаил Андреевич Гаврилов, выходец из крестьян с. Трубина Малоярославецкого уезда, в 1887 г. поступил в число послушников калужского Тихонова монастыря, где проходил послушание в качестве келейника старца иеромонаха Герасима, который, обладая даром провидения, указал юноше место будущего скита. Строитель Сергиева Скита принял монашеский постриг в 1899 году в калужском Лав-рентиевом монастыре, где был рукоположен вначале в иеродиакона, а затем в иеромонаха[404].
Губернатор Калуги князь Офросимов в своей речи в этот день вспомнил давнюю русскую пословицу: «Не купи имения, а купи соседа». Счастье состоит в том, подчеркнул он, что соседом Сергиева скита является Тихонова пустынь.
В связи с этим важным событием Великой княгине, Председателю Палестинского Общества, была направлена телеграмма:
«Москва. Великой княгине Елисавете Феодоровне.
Всепреданнейше докладываю Вашему Императорскому Высочеству, что в сегодняшний день тезоименитства Великого князя Сергея Александровича, незабвенного Августейшего Председателя Православного Палестинского Общества архиерейским служением состоялся чин закладки храма во имя Сергия, Радонежского чудотворца. Вместе с председателем отдела епископом Вениамином собрались члены Калужского Отдела Палестинского Общества. На месте был парад частей местного гарнизона во главе с начальником дивизии генералом Орловым, все горячо молились об упокоении светлой души Великого князя и о ниспослании здравия Вашему Императорскому Высочеству.
Губернатор Офросимов»[405].
Елисавета Феодоровна немедленно ответила:
«Калуга. Губернатору Офросимову.
Благодарю от всего сердца вас, членов Калужского отдела Палестинского Общества и генерал-адьютанта Орлова с войском за молитвы»[406].
С момента освящения обители паломники со всех концов России потянулись в этот удаленный от глаз мирских людей монастырь. В «Исторической летописи» за 1914 г. появился добрый отклик о Сергиевом ските русского паломника Г. Тулина, который в качества эпиграфа к очерку предпослал бесхитростные строки:
Вериги я ношу по воле Бога,
И в рубище я чую красоту,
Для странника вся жизнь — одна дорога
К чудесному источнику — Кресту.
И я пошел за веси и за горы, —
Отрекшимся, не помнящим родства…
К убогому жилью привыкли взоры…
Спасал Господь: была душа жива,
Мне хорошо с котомкой за плечами,
Как много встреч, юродивых, старух…
Бредут они, питаясь век кусками,
И снег дорог на их лаптях как пух.
Люблю я их, упорных, постоянных,
Бредущих в город иль в родную глушь,
К угодникам в одеждах златотканых —
Целителям покрытых мраком душ.
Стремясь передать свои первые ощущения о приближении к скиту, Г. Тулин сообщал будущим паломникам, что в стороне от большой дороги, ведущей на Калугу, внимание путников привлекает небольшая, красивая часовня Сергиева скита, закрытого от взоров путника частым сосновым лесом. От нее идет дорога к деревянному узорному скиту в те годы сквозь сосны проглядывали его башенки, шпили, звонница и купол церкви. В зимний вечер особые чувства путника вызывал тихий колокольный звон, влекущий в глубь соснового леса[407].
«Чистый девственный снег в полях, свежий воздух, зеленые сосны кругом обители и образ жизни смиренной братии могут внести мир в самую мятежную человеческую душу, — писал Г. Тулин. — Ничто так не подвигает людей к духовному усовершенствованию, как постоянное общение с природой, уединение и тишина. Нужно жить в обители зимой, когда малолюдны окрестности, чтобы понять тишину, чтобы знать, перечувствовать, как тяжела ночь, как радостно раннее утро»[408].
Прибыв в скит поздним зимним вечером, паломники направились в гостиницу, сиявшую огнями. По случаю праздника гостиница была переполнена паломниками, но впечатление оставалось такое, будто в ней никого не было. Суета и шум, царящие в других монастырях, здесь совершенно отсутствовали.
В церкви, где в это время совершалась служба, преобладали росписи светлых тонов, выполненные московскими живописцами по офортам академика Шмакова. Великолепно звучали два хора. Устав службы в скиту был самый строгий, так называемый оптинский.
На следующее утро путники увидели зачаток скита: два шалаша, переплетенные еловыми сучьями. На одном из них возвышался крест. В этой бывшей церкви стоял алтарь, перед которым возносились горячие молитвы к Богу. Вера не обманула их: маленький скит быстро рос, креп и обустраивался.
Насельники скита, ожидая приезда Елисаветы Феодоровны, в 1913 г. выстроили для нее скромный, уютный домик. Перед домиком разбили благоухающий цветник. Все посетители этого удобного, простого домика отмечали удивительную атмосферу духовного уюта, позволяющую забыть о мирской суете и тяготах жизни.
Высокая покровительница скита отметила в душе и возлюбила новый скит, а также устроителя его, старца Герасима.
Паломник Г. Тулин вспоминал, как после посещения скита вместе с братом Николаем они вышли в святые ворота и по лесной дороге направились к пчельнику, устроенному отцом Герасимом. Через две версты показался пчельник, за которым ухаживал малоросс, бодрый, крепкий старик. Он там жил зиму и лето, в лесной избушке, один. И лишь перед большими праздниками приходил в скит — приобщаться Св. Тайн. За оградой скита построены домики, которые отец Герасим сдает летом как дачи благочестивым семьям. Рядом со скитом выстроен кирпичный завод и скотный двор.
Устройству и украшению Сергиевского скита способствовала личность старца Герасима. Всем известны были его подвижнически строгая жизнь, неустанный труд, глубокая вера. Множество людей приходило к старцу Герасиму за вразумлением в пору горестных событий жизни.
Отец Герасим во время службы был строг к молящимся. Если он замечал небрежение прихожан, это давало ему повод сказать краткое, выразительное слово: «Я вижу, что многие из присутствующих в святом храме не умеют креститься — это нехорошо для православных. Креститесь хорошенько, и тогда на вас будет благодать Святаго Духа, — и, после паузы, добавляет: — особенная благодать…»[409].
В течение ряда лет насельники Сергиева скита приглашали Елисавету Феодоровну посетить их обитель. И наконец в 1911 г. Великая княгиня прибывает на разъезд № 19 ж/д с игуменией Покровской общины в Москве. На лошадях в открытой коляске Елисавета Феодоровна проследовала в скит, где в Сергиевом храме была встречена на паперти настоятелем скита с крестом и святой водою. Иеромонах Герасим приветствовал Великую княгиню следующими словами:
«С любовью о Господе Иисусе Христе встречаем Ваше Императорское Высочество в Сергиевом скиту, построенном в память незабвенного Августейшего супруга Вашего, Основателя и первого Председателя Императорского Православного Палестинского Общества. Грядите с миром под покровом Божией Матери»[410]. Тотчас же по прибытии Елисаветы Феодоровны в скиту началась литургия, которую совершал настоятель скита соборно с местным духовенством. По окончании литургии была совершена панихида по Императорам Александру II и Александру III, Великому князю Сергею Александровичу и прочим почившим членам Императорского Дома, а затем молебен о здравии. Около четырех часов вечера Ее Высочество посетила келью настоятеля и больницу скита, где внимательно выслушала всех, нашедших приют под покровом скита. После трапезы посетила книжную лавку, где приобрела несколько святых икон и крестиков. В шесть часов вечера началась заупокойная всенощная, закончившаяся в 11 вечера, на которой также присутствовала Великая княгиня.
На следующий день, 20 октября, в 6 утра, Ее Высочество проследовала в Тихонову пустынь, где была на ранней литургии, панихиде и молебне прп. Тихону. Из храма Великая княгиня отправилась в часовню, где хранился дуб, служивший обиталищем святому. После молебна у святого колодца она искупалась в источнике св. Тихона. По возвращении в монастырь посетила покои архимандрита Лаврентия, после чего были осмотрены Успенский собор, трапезная и книжная лавка. В три часа дня Великая княгиня возвратилась в Сергиев скит и присутствовала на всенощном бдении. Иеромонах Герасим и архимандрит Лаврентий поднесли Великой княгине святые иконы. Ее Высочество привезла в дар священнические и диакон-ские облачения. Иеромонаху Герасиму подарила образ свв. Марфы и Марии. В 10 часов вечера Ее Высочество с разъезда № 19 последовала в Москву[411].
Елисавета Феодоровна сделала для скита много доброго. В частности, отмечает В.В. Легостаев, на ее средства построена большая водокачка — единственное строение скита, уцелевшее до сего дня. Она сооружена мастером, отец которого проживал в скиту. Обитель вызывала у паломника глубокие, добрые чувства. Открытки, сохранившиеся с дореволюционных времен, позволяют увидеть деревянную колокольню, дом настоятеля, книжную лавку. У ворот — стол с чашей святой воды, которой кропили всех входящих в скит, что было символом очищения путника от суеты жизни. Возле скитской ограды была построена просторная трехэтажная деревянная гостиница, рядом велось строительство еще одной, каменной. В состав послушников Сергиева скита на 1 января 1915 г. входило 68 человек, выходцев из Калужской, Московской, Орловской, Тульской, Смоленской и других губерний. Каждый нес свое послушание, от которого были освобождены инвалиды по зрению[412].
Все благодетели, потрудившиеся над созданием святого скита и богадельни во имя Великого князя, оставили по себе благодарную и долгую память. Скит стал постоянным местом паломничества каждого, кто дорожил святынями Отечества, памятью его подвижников. В жизнь Великой княгини создание скита внесло чувство особой благодарности губернскому отделению Императорского Православного Палестинского общества, развитию которого Великий князь Сергий уделял так много внимания.
В настоящее время в этом святом месте ничто не напоминает о Сергиевом ските — дети гоняют мяч по территории, где были храмы и могилы трудолюбивых монахов, хранивших память о зверски убиенном генерал-губернаторе Москвы. Только огромные сосны, как молчаливые свидетели, хранят тайну искаженного образа исторической духовности. Мы с В.В. Легостаевым покидали территорию бывшего Сергиева скита, скорбя о полной ликвидации этой святой обетной обители и надеясь, что скит в свое время обретет вторую жизнь.
Калуга сказала свое слово в память о Великом князе. И Москва создала храм-памятник, о чем говорилось выше, но сердца москвичей не обретали покоя, поскольку не было специально отмечено место жестокого убийства. И вот наконец свершилось: 2 апреля 1908 г. состоялось освящение Памятника-Креста в Кремле на месте убийства Великого князя.
Перед освящением было совершено заупокойное богослужение в Сергиевском храме-усыпальнице, где присутствовала Великая княгиня и множество москвичей. На освящение были приглашены представители различных войск. К памятнику-кресту принесли знамена полков. После водосвятного молебна было совершено окропление памятника и знамен. К памятнику возложили венки, и войска церемониальным маршем прошли вокруг него, отдавая дань памяти Великому князю.
На граните с лицевой стороны памятника можно было прочесть надпись:
«Поставлен на доброхотные пожертвования, собранные пятым гренадерским полком Ее Императорского Высочества Великой княгини Елисаветы Феодоровны в память своего бывшего шефа Великого князя Сергея Александровича, на сем месте убиенного, и на пожертвования всех, почтивших память Великого князя»[413].
Много различных памятников создали москвичи в память о любимом генерал-губернаторе. Один из них — одно-арочный Сергиевский мост, построенный со стороны Нескучного сада, в зеленых просторах и во дворце которого Великий князь Сергей Александрович провел столько добрых дней с Елисаветой Феодоровной, племянниками Марией и Дмитрием, с близкими друзьями.
После революции памятник в Кремле был разрушен. В 1995 г., когда в Новоспасский монастырь принесли останки Великого князя, здесь установили копию этого креста.
Свою лепту в подвиг молитвенного поминовения Великого князя внесло Московское отделение Императорского Православного Палестинского Общества. Значительной вехой стало торжественное собрание Московского отдела Общества, которому предшествовало богослужение в Князе-Владимирском храме. К началу литургии прибыла августейшая председательница Общества Великая княгиня Елисавета Феодоровна. Заседание открылось пением слушателей пастырских курсов, которое сопровождало всю эту встречу, о чем в заключение с особой теплотой отозвалась Великая княгиня. Кульминацией заседания стало слово Преосвященного Анастасия, который, отметив исключительные заслуги перед Палестинским Обществом в Бозе почившего Великого князя Сергея Александровича, объявил, что Московский отдел Общества решил возжечь негасимую лампаду у Святого Гроба Господня в память князя-мученика: «Лампада готова и в ближайшее время будет отправлена в Иерусалим»[414].
Обращает на себя внимание тот факт, что Великий князь, как и Великая княгиня, ведя строгую и безупречную жизнь, все более глубоко размышлял о расширении присутствия Русской Православной Церкви на Святой Земле. Много усилий было приложено к созданию и украшению храмов в Иерусалиме, Кане Галилейской. После холодного, странного для русского сердца католического храма в Назарете храм в Кане кажется чудом. У русского православного человека есть особое чувство храма, рождающее живые, родные, близкие образы и ассоциации. Именно это благодатное состояние испытывает человек, переступив порог храма в Кане и понимая, что все лучшее в жизни светской и духовной в конечном счете проистекает из любви тех душ, которые вложили в дело свое бескорыстие и чистоту.
В создании этого храма велика роль председателя Императорского Православного Палестинского Общества Великого князя Сергея Александровича и его супруги. Не случайно в иконостасе, состоящем из икон, написанных в России, на северных дверях икона прп. Сергия Радонежского, а на южных св. прав. Елисаветы, помещенные в иконостас во имя небесных покровителей Великого князя и Великой княгини.
Зная об этом и других добрых деяниях великокняжеской четы на Святой Земле, члены Московского отделения Палестинского Общества с огромной радостью принимали отмеченное выше решение.
7.5. В память всех погибших во время смут
Особое место среди часовен и церквей, посвященных памяти Великого князя Сергея Александровича, принадлежит созданному на Ходынском поле в 1909 г. храму в честь иконы Божией Матери, именуемой Отрада и Утешение. В день освящения этого храма-памятника русской скорби, сооруженного на средства И.А. Колесникова, император прислал телеграмму на имя московского генерал-губернатора С.К. Гершельмана: «С чувством глубокого удовлетворения получил извещение о состоявшемся освящении храма в молитвенную память Великого князя Сергея Александровича и всех погибших во время смут честных людей русских…»[415]. Автор публикации справедливо замечает, что в этом сближении скорби с радостью, в этом принесении горя народного на алтарь Господень нельзя не видеть сокровенной и глубинной народной психологии, евангельской веры народной, которая всегда находит для себя высшее примирение с трагедией в Боге.
Храм возведен возле Николаевских казарм для 1-го Донского казачьего полка и 1-й гренадерской артиллерийской бригады.
В храме, исполненном в стиле древней базилики, белый мраморный иконостас, сооруженный И.А. Орловым, паникадила, сосуды в русском стиле XI в., стены украшены мраморными досками, на которых начертаны имена Великого князя Сергея Александровича и верных долгу и присяге воинов, убитых в разных концах России, всего 2000 имен. Москвичи называли этот список мартирологом убиенных охранителей русской самобытности и гражданственности. Иконы написаны придворным иконописцем В.П. Гурьяновым.
В иконостасе над Тайной Вечерей помещена мозаичная копия Лика Спасителя, которая была исполнена проф. В.М. Васнецовым для усыпальницы при церкви лейб-гвардии Семеновского полка. Местные иконы украшены шитьем из золота, ризами, которые выполнены инокинями Старо-Черкасского Ефремовского Донского монастыря. Достопримечательностью церкви является плащаница, созданная монахинями Алексеевского монастыря по рисунку В.М. Васнецова. По углам иконостаса в киотах из белого мрамора помещены две большие иконы: прп. Сергия и свт. Николая, принесенные в дар Троице-Сергиевой лаврой.
На освящение храма прибыла Великая княгиня Елисавета Феодоровна. На площади перед началом освящения были выстроены войска от всех частей Московского гарнизона для участия в церковном параде. В церковь внесли знамена всех воинских частей, приглашенных участвовать в параде. К освящению храма, наряду с Ее Императорским Высочеством Елисаветой Феодоровной и ее свитой, прибыли лица, состоявшие в свите Великого князя Сергея Александровича, градоначальник, губернатор, губернский предводитель дворянства, весь генералитет Москвы[416].
В своем слове Высокопреосвященный Владимир подчеркнул, что было бы позором для Москвы, если бы она не увековечила память князя-мученика[417].
После литургии при торжественном колокольном звоне совершили крестный ход из храма на плац, где были расположены войска. В крестном ходе приняла участие Великая княгиня Елисавета Феодоровна, которой храмоздатель преподнес роскошный букет цветов. На плацу возле храма архимандритом Макарием был отслужен краткий молебен, по окончании которого войска и знамена окропили святой водой. После троекратного залпа из орудий состоялся церковный парад. Множество москвичей присутствовало на этом важном событии.
Освящение храма в глазах Елисаветы Феодоровны являлось своего рода присягой на верность памяти дорогого ей человека. Храм стал своеобразным посредником между поколениями защитников Отечества. Освящение храма было вдвойне отрадно Великой княгине, поскольку духовный мир Великого князя был населен образами древней православной Церкви, что получило достойное отражение как в архитектуре, так и во внутренней организации храма. Следует акцентировать и тот факт, что освящение этого необычного по замыслу храма было особенно дорого Елисавете Феодоровне как самоотверженной исповеднице великокняжеского долга и благоговейной почитательнице Москвы, забота о жителях и страдальцах которой после смерти мужа становится безусловной.
Поэтому трагические события в первопрестольной переживаются Великой княгиней глубоко и эмоционально. Именно так откликается она на восстание в Москве, находясь в это время в Петербурге по случаю дня тезоименитства Государя.
В.Ф. Джунковский записывает в дневнике, что в эти трудные дни генерал-губернатор Москвы Ф.В. Дубасов направляет на имя Государя депешу с просьбой, чтобы Елисавета Феодоровна не приезжала в Москву до его уведомления. После завершения этих событий она собирается возвратиться в Москву, но вновь получает депешу от Дубасова с просьбой отложить возвращение до января. С этим она согласиться не может и отправляет письмо в Москву, где ощутимо страдание за Москву, за тех, кто выполнил свой долг до конца, и полное безразличие относительно собственной жизни: «Я себя чувствую здесь как за границей, я порываю связь с Москвой, а между тем мой долг заняться теперь помощью несчастным жертвам восстания. Я попросту считаю себя подлой, оставаясь здесь, предпочитаю быть убитой первым случайным выстрелом из какого-нибудь окна, чем сидеть тут, сложа руки… Покажите это письмо Джунковскому, он может объяснить Дубасову, что я снимаю с него всякую ответственность. Я принадлежу Москве. Оставаясь еще, как я уже говорила, я порываю нить со своими бедными и закрепляю за собой слово „подлая»… Не надо бояться смерти, надо бояться жить. Я понимаю Дубасова, но он меня не понимает, так как меня не знает. Я благословляю его энергию, его труды. Елисавета. Царское Село, 22 декабря 1905 г.»[418]. Вернувшись в Москву 26 декабря, Елисавета Феодоровна вся ушла в дела благотворения и заботы о раненых, наполнявших устроенный ею лазарет.
Ослепительно яркий талант человеколюбия и верности москвичам Великой княгини в дни революции получил отражение не только в ее письмах и телеграммах из Петербурга в Москву. С той же силой он проявился и в посланиях к близким, которые Елисавета Феодоровна отправляла в 1906 г. из Ильинского на свою первую родину в Дармштадт. После убийства мужа ее так тянуло к родным. Но революция, как и война, — процесс с жестоко обязывающими действиями для каждого, кто дорожил Москвой и Россией.
«Бог благословит тебя на будущее счастьем и миром. От всего сердца обнимаю вас, дорогие, и в молитвах я рядом с вами… — пишет в эти дни Елисавета Феодоровна родному человеку. — Как бы мне хотелось в эти дни быть рядом с тобой, но это теперь действительно невозможно. Я не могу в это тяжелое время уехать, нужно работать в меру своих скромных возможностей и оказывать любовь своему народу, особенно во время революции»[419].
Достаточно вспомнить эти слова, чтобы понять, какая пропасть разделяет людей в дни тяжких испытаний. Одни, укрывшись за прочным щитом извиняющих обстоятельств, пробираются в безопасные ниши, другие, не раздумывая, идут навстречу золотому правилу — «друг друга тяготы носите». Отсутствие малейшего ропота на судьбу, на неизбежные страдания и скорби, готовность к ограничению себя во всем, стремление служить в грозные дни москвичам любым действием и спасительным словом видим мы в этом послании.
Это признание Великой княгини свидетельствовало о ее нерасторжимой внутренней связи со своим народом и раскрывало смысл этой жизни как подвиг горячей нерассуж-дающей любви к нему. Без этого самого сильного аргумента в отношении Елисаветы Феодоровны к Москве и России не может быть исчерпывающего объяснения ее самоотверженного поведения в последние годы.
Она пишет в Германию, пишет людям иной культуры, но вполне рассчитывает на их родственное, дружеское участие в ее судьбе, в ее искренних чувствах к России: «Я уверена, что вы меня понимаете»[420]. Остается сожалеть, что до сих пор находятся люди, которые комментируют ее верность Москве и России, преданность русскому народу как безрассудство, безумие. Но тем самым они игнорируют тот бесспорный факт, что это жизнь, на которой почивал отблеск нетварного сияния, свидетельствующий о светоносности ее личности и даже об избыточности света, носителем которого она была.
Великая княгиня созидала невидимый храм на земле, к которому доверчиво притекали москвичи со своими бедами, стремясь получить поддержку и ответ на недоуменные вопросы. Ее не путала возможность смерти. Но как заклинание себе и другим она повторяла: «Надо бояться жить», если изменяешь долгу в критической ситуации. Она не изменяла, поэтому так почитала храм, посвященный тем, кто доказал верность Богу, Царю и Отечеству ценой собственной жизни.
[378] Государственный архив Дармштадта земли Гессен. Ф. Д 24. Ед. хр. 35/9
[379] ГАРФ. Ф. 648. Оп. 1. Ед. хр. 75
[380] Джунковский В.Ф. Воспоминания. Т. I. M., 1977. С. 34-42
[381] Olsoufieff A. The Grand Duchess Elisabeth Feodorjvna of Russia. P. 5
[382] Мария Павловна. Указ. соч. С. 63-65.
[383] Там же. С. 95
[384] Там же. С. 64.
[385] Московские епархиальные ведомости. 1905. № 7-12
[386] Джунковский В.Ф. Воспоминания. М., 1977. Т. I. С. 43
[387] Слово. М„ 1905. С. 28
[388] ГАРФ. Ф. 656. Оп. 1. Ед. хр. 21. С. 4
[389] Там же.
[390] Там же. С. 5.
[391] Там же. С. 6
[392] Там же. С. 7
[393] Там же.
[394] Там же. С. 8
[395] Там же. С. 38
[396] Там же. С. 60
[397] Степанов М.П. Храм-усыпальница Великого Князя Сергея Александровича. М., 1909. С. 29
[398] Степанов Ф.П. Отчет о состоянии в 1910 г. подведомых прокурору Московской синодальной конторы учреждений. М., 1911. С. 41-48
[399] Калужские епархиальные ведомости. 1906. № 14. С. 513-514.
[400] Там же. С. 516
[401] Там же.
[402] Там же.
[403] Там же. С. 517-518
[404] Калуга в шести веках. Калуга, 1997. С. 212-213
[405] Калужские епархиальные ведомости. 1906. № 14. С. 521
[406] Там же.
[407] Историческая летопись. 1914. № 5. С. 590-591
[408] Там же. С 591
[409] Там же. С. 597
[410] Калужские губернские ведомости. 1911. № 108. С. 3
[411] Там же.
[412] Калуга Б шести веках. Калуга, 1997. С. 212-213
[413] Московские церковные ведомости. 1908. № 15-16. С. 388, 392
[414] Московские епархиальные ведомости. 1909. № 49. С. 849-850
[415] Цит. по: Московские церковные ведомости. 1909. № 15. С. 291
[416] Новь. 1909. № 19. С. 212.
[417] Московские церковные ведомости. 1909. № 15. С. 296
[418] Цит. по: Джунковский В.Ф. Воспоминания. С. 135
[419] Государственный архив г. Дармштадта земли Гессен. Ф. Д 24. Ед. хр. 5/9
[420] Там же.
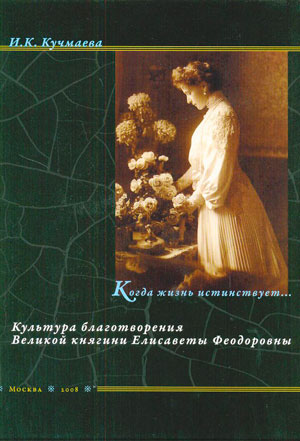
Комментировать