- Предисловие к первому изданию
- От автора
- Предисловие к шестому изданию
- Предисловие к двенадцатому изданию
- Часть I. Жизнеописание. Воспоминания духовных чад, исцеления, прижизненные чудеса и свидетельства прозорливости, посмертные явления и чудеса, проповеди
- Детские и юношеские годы
- Рукоположение. Служение Церкви в священном сане
- Закрытие храма. Арест и ссылка
- Возвращение из ссылки.
- Служение в Свято-Троицком кафедральном соборе в г. Днепропетровске
- Назначение в Курско-Белгородскую епархию. Монашеский постриг
- Перевод в Свято-Никольский храм
- Восстановление храма
- Гонения продолжаются
- Любовь к богослужению
- Проповедник Истины
- Батюшка пребывал в подвиге до конца своих дней
- Часть II. Воспоминания духовных чад
- Отзывы архиереев об отце Серафиме (характеристики из личного дела)
- Отзывы архиереев о возможной канонизации отца Серафима
- О силе креста
- Незрячий попутчик
- Царица Небесная путь указала
- Чернокнижник
- В утешение верующим
- Часть III. Ищите прежде Царствия Божия... Исцеления, прижизненные чудеса и свидетельства прозорливости
- Часть IV. Посмертные явления и чудеса
- Часть V. Проповеди и переписка отца Серафима
- В навечерие Рождества Христова
- Слово на Рождество Христово
- В Неделю о расслабленном
- Кресту Твоему поклоняемся, Владыко
- Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии
- В праздник первоверховных апостолов Петра и Павла
- Переписка
- Телеграммы отца Серафима
- Письма архимандрита Серафима
- Часть VI. Проповеди и публикации, посвященные отцу Серафиму
- Слово ко дню Ангела отца Серафима, произнесенное Александром Макрицким 2/15 января 1979 года в Ракитном.
- Проповедь на полугодие со дня кончины архимандрита Серафима, произнесенная иеромонахом Вадимом (Лазебным) в 1982 году.
- Слово, произнесенное в годовщину преставления отца Серафима архиепископом Курским и Белгородским Хризостомом в 1983 году
- Празднование 100-летия со дня рождения старца Серафима
- Письмо в комиссию по канонизации
- Публикации, посвященные отцу Серафиму
- Часть вторая. Подвижники благочестия и родные по духу
- Памяти Глинского старца — схиархимандрита
- Епископ Стефан (Никитин) (1895–1963)
- Митрополит Леонид (Поляков) (1913-1990)
- Слово в неделю Торжества православия. «Да будут все едино!» (Ин.17:21)
- Схиархимандрит Феофил (Россоха) (1928–1996)
- Высказывания, поучения старца Феофила
- Схиигумен (1898–1980)
- Случаи исцеления по молитвам старца Саввы
- Высказывания, поучения старца Саввы
- Стихи старца Саввы
- К 90-летию со дня рождения архимандрита Адриана (Кирсанова)
- К 90-летию со дня рождения и 60-летию монашества архимандрита Кирилла (Павлова)
- Вернуть Богу сердца людей
- К 75-летию со дня рождения схиархимандрита Власия (Перегонцева), духовника Свято-Пафнутьева Боровского монастыря
- К 70-летию со дня рождения архимандрита Нектария (Марченко)
- Пастырь строгий
- Оранский Богородицкий мужской монастырь
- Архимандрит Нектарий. Из проповедей
- К 80-летию со дня рождения схиархимандрита Илия (Ноздрина)
- Народная награда старцу
- Молитва на куполе Морского собора оптинского старца Илия в Кронштадте
- Проповедь «Об опасности малых грехов»
- К 62-летию со дня рождения протоиерея Владимира Волгина, настоятеля храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, г. Москва
- Бог даровал мне счастье общаться со старцами
- К 95-летию со дня рождения схииеромонаха Амфилохия (Трубчанинова) 1917–2011, духовника Белоцерковской и Богуславской епархии УПЦ Московского Патриархата
- К 70-летию со дня рождения отца Анатолия Шашко
- К 90-летию со дня рождения Александра Андреевича Гадицкого. «Направленный к свету»
- Сказ о старце
- Архиерейские отзывы о «Сказе...»
- Читательские отзывы о книге «Белгородский старец архимандрит Серафим (Тяпочкин)»
Белгородский старец архимандрит Серафим (Тяпочкин). Неугасимый свет любви
К 115-летию со дня рождения и 30-летию со дня кончины архимандрита Серафима (Тяпочкина)
Эта книга об исповеднике архимандрите Серафиме (Тяпочкине) пастыре святой жизни, явившем нам дивный образец Любви Христовой.
Автор книги — иеродиакон Софроний (Макрицкий) является также составителем книги о священномученике Онуфрии (Гагалюке, 1889–1938), архиепископе Курском и Обоянском, исповеднике, красотой своего жертвенного подвига показавшего нам образец верного воина Христова и книги о подвижнике благочестия старце Курской-Коренной пустыни иеросхимонахе Иоанне (Бузове, 1926–2002), духовном сыне и преемнике архимандрита Серафима (Тяпочкина).
Все предыдущие издания были изданы по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
Предисловие к первому изданию
«Он излучал свет праведности», — говорят об архимандрите Серафиме (Тяпочкине; 1894–1982) те, кто сподобился видеть этого дивного старца, прибегать к его помощи, следовать его наставлениям, кого Господь сподобил исповедоваться у него и причащаться за литургией, которую, просветленный молитвой, батюшка служил, со слезами прося Господа помочь нуждающимся, обремененным житейскими невзгодами. По молитвам отца Серафима многие получали просимое. После кончины батюшки чудесные исцеления совершаются на его могиле возле Свято-Никольского храма в поселке Ракитное Белгородской области, где он долгие годы был настоятелем.
Очевидцы подвижнической жизни старца свидетельствуют о его прозорливости, даре исцеления, о его кротости, смирении и беспредельной, безоглядной любви к каждому человеку.
И сама эта книга появилась как плод любви о Господе духовного сына старца — иеродиакона Софрония[1], положившего много трудов по сбору воспоминаний об архимандрите Серафиме и составившего его жизнеописание.
Редакция надеется, что публикация вызовет отклики тех, кто знал старца, помнит о нем. Это помогло бы исправить неточности и дополнить содержание новыми фактами и свидетельствами, необходимыми для составления подробного жизнеописания старца Серафима. К тому же известно, что одно и то же событие, освещенное несколькими лицами, приобретает полноту и ясность, не говоря уже о достоверности. Устами двух или трех свидетелей подтверждается всякое слово (Мф.18:16).
Всех, кто захочет поделиться своими воспоминаниями об отце Серафиме либо свидетельствами о помощи, оказанной им страждущим, просим направлять письма иеродиакону Софронию по адресу: 308007, г. Белгород, 2-й Садовый пер., д. 2, кв. 62.
От автора
«Бог есть любовь… Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы», — возвещает в своем послании апостол любви Иоанн Богослов (1Ин.4:8,1:5). Существуют ли слова, которыми можно описать Божию любовь или Божий свет? И как описать жизнь человека — носителя этого света и любви, на протяжении всей своей жизни излучавшего их ярко и беспрестанно? Какими словами выразить изумление его поистине смиренной жизнью и молитвенным подвигом? Много лет прошло со дня его праведной кончины, он живет в сердцах своих духовных чад, но, к сожалению, о дорогом батюшке, без остатка отдавшем себя служению ближним, мало что известно большинству людей. Появление данной книги в какой-то мере восполнит этот пробел.
В данных воспоминаниях приведены некоторые факты из жизни отца Серафима, фрагменты из бесед с его родственниками, о нем рассказывают его духовные чада и почитатели, близкие ему люди. Хотелось бы верить, что скудость биографических сведений, свидетельств его внешней жизни не охладит интереса читателей. Мы стремились решить более важную задачу: раскрыть духовный образ старца. Это было бы на пользу тем, кто не сподобился непосредственного живого общения с ним.
С чувством глубокого сердечного умиления приступаю к изложению своих личных воспоминаний об отце Серафиме, с искренним желанием правдиво и благоговейно рассказать обо всем, что я видел и слышал, что прочувствовал и испытал в присутствии дорогого батюшки. Воспоминания возгревают любовь к нему, духовно сближают с ним, способствуют сохранению душевной бодрости и радости о Господе, явившем нам удивительного молитвенника и великого подвижника.
Пастырь, которому было свойственно полное самоотвержение ради ближнего, безграничная любовь к несчастным, больным, душевно и телесно страждущим, не зная покоя ни днем ни ночью, трудился до полного изнеможения и еще при жизни был прославлен Богом даром чудес и исцелений. Перед его духовным взором открывалась душа человека. Бог есть любовь, и с Ним, Богом любви, Богом прощения и примирения, через Жертву Господа нашего Иисуса Христа он был в постоянном молитвенном единении. Бога любви и милосердия он носил в сердце, соединяясь с Ним в Таинстве Причастия. Батюшка горел божественным огнем ревности ко Господу, но этот огонь не опалял, а просвещал. В лучах исходящей от него любви согревались десятки тысяч людей.
Могла ли такая духовная сила любви Христовой исчезнуть с преставлением старца? Конечно же, нет. Это могут засвидетельствовать все, кто был на его погребении. От гроба старца исходило чудное благоухание, чувствовалось, что он умер только телом, а духом пребывает с нами, что он будет возносить свои молитвы у престола Божия за всех обращающихся к нему с верой и любовью, по-прежнему изливающейся на всякого приходящего к нему. Об этой неумирающей любви почившего старца свидетельствуют те исцеления и те незримые утешения, что совершаются на его могиле. Творя память отца Серафима, мы, сознательно или бессознательно, хотим пробудить в себе дух христианской любви, покоящейся на живой вере в Бога — Спасителя мира.
Пройдут годы, а этот светоч божественной любви не погаснет и не потускнеет. Он будет гореть все ярче, освещая путь ко Христу грядущим поколениям пастырей и всякой душе христианской.
Приношу сердечную благодарность всем, кто потрудился над созданием этой книги: Димитрию Тяпочкину, внуку отца Серафима, за предоставленные биографические сведения и редкие фотографии; Александру и Ольге Дрокиным за помощь в сборе материалов; протоиерею Валерию Бояринцеву и его супруге Наталии Михайловне за предоставленные воспоминания; Владимиру Пархоменко за фотографии последних лет жизни отца Серафима и всем скромным и боголюбивым душам, коих слишком много, чтобы можно было перечислить, без чьей помощи не удался бы наш труд.
Особо благодарю Его Высокопреподобие архимандрита Алипия, председателя Издательского отдела Свято-Троицкой Сергиевой лавры, за всемерное содействие в процессе издания книги, а также коллектив сотрудников издательского отдела, проделавших большую работу по подготовке книги к печати.
Низкий поклон Его Высокопреподобию архимандриту Исайе (Белову) за его мудрые советы и благожелательную рецензию.
Благодарю приснопоминаемого отца Серафима за его постоянную помощь в создании книги и прошу его предстательства перед Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом за всех наших читателей.
Недостойный иеродиакон Софроний, 1998 г.
Предисловие к шестому изданию
Дорогой боголюбивый читатель! Наше повествование об архимандрите Серафиме (Тяпочкине), прежде всего и по преимуществу, документально. Это итог более чем двадцатилетнего поиска свидетельств о жизни и трудах старца, которые расширились и обогатились благодаря письмам читателей, присланным после выхода первого издания книги в 1998 году в издательстве Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Первое издание, как и последующие, были осуществлены по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. За три года она переиздавалась четыре раза, как в России, так и на Украине, общий тираж составил 100 000 экземпляров. Книгу читали насельники Святой горы Афон, православные русские, проживающие в Болгарии, Италии, Польше, Германии, Голландии, США, Канаде, Израиле. Автор также получил отклики от многих людей. Большинство из них никогда не знали отца Серафима лично. Они рассказывали о всевозрастающем почитании угодника Божия, о его предстательстве за них в молитвах пред Господом. В настоящем издании, исправленном и дополненном во многом благодаря читательским письмам, помещены как новые фотографии, так и свидетельства помощи старца, которой удостоились страждущие, обращающиеся к нему после прочтения книги.
В письмах многие признавались, что не могли сдерживать слез, читая о жизни старца Серафима. А те, кто знал его, не могли не написать о своем опыте общения с батюшкой при жизни или уже после его кончины, когда они приезжали в Ракитное на его могилку, рассказывали ему о своих горестях и нуждах с верой в его заступничество за них — больных, одиноких, бесприютных — пред Господом.
Все эти откровения, жизненные истории, обстоятсльства, порой драматические, в которых старец упоминается как духовный пастырь, молитвенник, как целитель, являют собой яркую и убедительную картину христианской святости. Это согревает самые холодные души, смягчает окаменелые сердца, вызывает в людях любовь и благодарность к батюшке, которого они почитают как святого. А как иначе? Отец Серафим исцелял тех, кому бессильны были помочь самые известные врачи; подобно пастырю доброму, он оберегал каждого пришедшего к нему человека при жизни, не оставляет он своих чад и по своем успении, ибо нет силы, которая могла бы разлучить тех, кого соединила любовь, любовь Христова, великая, непреодолимо влекущая, исходящая от Самого Господа. Будучи в таинственном общении с Богом, отец Серафим, преисполненный этой любовью, источал ее при жизни, она не иссякает и сейчас, по прошествии двадцати двух лет со дня его кончины.
Чтобы не сложилось превратного представления о личности отца Серафима, хотелось бы заверить боголюбимых читателей, что автор и в малой степени не стремился приукрасить жизнеописание, и тем более своим повествованием возвести его в ранг святых. По мере сил, он постарался правдиво рассказать и о самом батюшке, и обо всем, что с ним связано, по крупицам собрав и приведя на страницах книги документальный материал, свидетельства духовных чад, воспоминания священнослужителей — учеников и сомолитвенников батюшки Серафима. В книге помещено более 180 фотографий из них 40 ранее не публиковавшихся редких снимков отца Серафима.
Всякий, кто откроет эту книгу, не сможет остаться равнодушным. То, что здесь написано, войдёт в его сердце и растворится в нем, ибо каждое слово дышит правдой и любовью к старцу.
Недостойный иеродиакон Софроний, 2004 г.
Предисловие к двенадцатому изданию
Прошло шесть лет после выхода в 2004 году шестого издания книги Белгородский старец архимандрит Серафим (Тяпочкин), которая переиздавалась пять раз как в России, так и на Украине тиражом 78000 экземпляров. Много писем пришло от читателей из разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья. Авторы писем с трепетной любовью и благоговением благодарят приснопоминаемого отца Серафима за оказанную помощь и молитвенную поддержку в трудные минуты их жизни. В настоящем издании, исправленном и дополненном, помещены свидетельства читателей, что после прочтения книги они пришли к вере в Бога, многие обрели еще одного молитвенника и предстателя за них перед Господом. Пастырский подвиг архимандрита Серафима, его самоотверженная любовь к Богу и ближнему изменили их жизнь, укрепила веру и любовь к людям.
Из мест лишения свободы от узников приходят теплые и задушевные письма, книга о батюшке согревает самые холодные души, смягчает окаменелые сердца, вызывает любовь и благодарность батюшке Серафиму за его молитвы…
«…На днях закончили читать книгу. Читали и перечитывали несколько раз и плакали. Мы благодарны, что Вы донесли до наших огрубелых сердец благую весть об отце Серафиме. Неизвестный раньше нам старец стал столь близким и любезным» — пишут в своем письме-исповеди заключенные Дмитрий и Виктор[2].
Вторая часть книги об отце Серафиме «Подвижники благочестия» посвящена великим старцам — родным ему по духу, одни духовно общались с отцом Серафимам, другие были его духовными чадами: схиархимандрит Андроник (Лукаш, 1888–1974), епископ Стефан (Нкигин, 1895–1963), митрополит Леонид (Поляков, 1913–1990), схиархимандрит Феофил (Россоха, 1928–1996), схишумен Савва (Остапенко, 1898–1980), архимандрит Адриан (Кирсанов), архимандрит Кирилл (Павлов), схиархимандрит Власий (Перегонцев), архимандрит Нектарий (Марченко), схиархимандрит Илий (Ноздрин), протоиерей Владимир Волгин, схииеромонах Амфилохий (Трубчанинов; 1917–2011), протоиерей Анатолий Шатко, Петр Ильич Мельник (1895–1997), Александр Андреевич Галицкий.
Книгу об отце Серафиме читаешь и с радостью и со слезами. О ней хочется говорить непрестанно, показывать ее друзьям и знакомым, делиться ею как великим сокровищем. Ее читаешь не разумом, а сердцем. Она вся пронизана светом, теплом и любовью к батюшке Серафиму.
Низкий поклон директору исторического музея села Сурско-Михайловки Днепропетровской области Ирине Бижко и всем сотрудникам за собранные и предоставленные бесценные воспоминания односельчан за период служения отца Димитрия Тяпочкина в Сурско-Михайловке с 1920 по 1941 год.
Приношу сердечную благодарность всем скромным боголюбивым душам, без чьей молитвенной и материальной помощи не удался бы наш труд.
Автор просит тех, кто желает поделиться своими воспоминаниями об отце Серафиме, либо свидетельствами о его молитвенной помощи, направлять свои письма по адресу: 308007, г. Белгород, 2-й Садовый пер., д. 2, кв. 62. Макрицкому Александру Андреевичу.
Недостойный иеродиакон Софроний, 2010 г.
Часть I. Жизнеописание. Воспоминания духовных чад, исцеления, прижизненные чудеса и свидетельства прозорливости, посмертные явления и чудеса, проповеди
Дивен Бог во святых Своих
(Пс.67:36)
Детские и юношеские годы
Архимандрит Серафим (Тяпочкин) родился 1/14 августа 1894 года в городе Новый Двор Варшавской губернии[3], в благочестивой дворянской семье. Во святом крещении младенец был наречен Димитрием, в честь великомученика Димитрия Солунского (память 16 октября / 8 ноября). Его отец, Александр Иванович Тяпочкин (1861 г. рождения), надворный советник, отставной полковник, бывший командир полка, служил начальником почты и телеграфа в городе Екатеринославе. (Город Екатеринослав с 1926 года стал называться Днепропетровском.) Мать, Элеонора Леонардовна Тяпочкина (1869 г. рождения, в девичестве Маковская, в православном крещении — Александра), дочь премьер-министра польского правительства, вела свое происхождение от богатого и знатного рода. Одна из двух ее сестер, Полина, была замужем за генералом Осетровым. Супруги жили в Ялте при императорском Ливадийском дворце. Двое братьев пребывали в Варшаве и одно время занимали важные государственные посты в польском правительстве (уже после 1918 г.). Один был премьер-министром, другой — министром сталелитейной промышленности Польши (до 1939 г.).
Родители Димитрия были людьми благочестивыми и богобоязненными, отличались душевной теплотой, любовью к Богу и ближним. Господь послал им шестерых детей — троих сыновей и трех дочерей. Димитрий был последним ребенком в большой и дружной семье Тяпочкиных. Уже в детстве было очевидно для окружающих Божественное благоволение к этому избраннику. С детства Димитрий полюбил храм и часто убегал с занятий на богослужения. «На деньги, данные для обеда в школе, — вспоминает его сестра Надежда Александровна, — он покупал свечи в храме». Пример добродетельной жизни родителей, их стремление памятовать о Боге, ходить пред лицем Его не могли не повлиять благотворно на впечатлительный ум и чистую душу отрока Димитрия.
В роду Тяпочкиных не было ни одного священнослужителя, отец Серафим был первым. Его старший брат, Константин, служил в кадетском корпусе при императоре Николае II и был расстрелян большевиками в 1922 году. Второй брат, Александр, также погиб в смутное революционное время. Сестры Мария и Елена стали врачами, а Надежда — домохозяйкой, воспитывала своих детей.
Отец семейства, Александр Иванович, скончался после болезни в 1913 году, а мать, Александра Леонардовна — в 1930 году. После смерти отца семья переезжает в Брест и проживает в крепости. Во время Первой мировой войны, когда немцы приблизились к Бресту, семья возвращается в Екатеринослав.
В 1901 году, в семь лет, Димитрий был досрочно принят в Варшавское духовное училище. С юного возраста мальчик чувствовал зов Божий и свое священническое призвание.
Ему казалось, что нет ничего важнее в жизни, чем служение Богу и ближним. У него появилась тяга к уединению. Со своими сверстниками он почти не играл, ему было хорошо, когда он оставался один. Любимым занятием его было чтение духовных книг и жития святых. Тихо мерцала у икон лампада, за чтением он не замечал времени. Стремление к Богу, искание Царства Божия и правды Его, любовь к молитве становилась в юном сердце отрока добрым семенем, из которого потом выросла крепкая христианская душа.
«Когда настало время моего учения, — вспоминает отец Серафим, — отец взял меня с собой на богослужение, в котором принимали участие выпускники духовного училища: Это богослужение глубоко запало в мою детскую душу, я просил отца определить меня на учение в духовное училище. Желание мое было исполнено».
1903 год — время прославления преподобного Серафима Саровского — девятилетний Димитрий запомнил на всю жизнь. Уже в пять лет он прочел житие старца Серафима и на протяжении всей своей жизни любил и почитал преподобного Серафима как своего небесного покровителя, постоянно чувствуя благодатную связь с ним.
В 1911 году, испросив благословения родителей, Димитрий поехал в г. Холм (ныне г. Хельм, Польша) поступать в духовную семинарию[4], где окончательно укрепился в своем стремлении к пастырскому служению… Бричка раскачивалась и поскрипывала, подъезжая к городу с простым названием Холм. В бричке сидел юноша, это был семнадцатилетний Дмитрий Тяпочкин.
Вскоре показался и сам Холм. Весь город лежал в низине и только на высокой горе возвышался белый кафедральный собор. Вокруг собора росли вековые липы и вязы, но они не закрывали его небесную красоту. Дмитрий долгим взглядом посмотрел на возвышавшийся над городом собор и медленно перекрестился. Бричка подкатила прямо к зданию семинарии. Он, взяв свой нехитрый багаж, направился к двери. Холмская семинария была небольшая и благоустроенная. В ней учились не только дети священников, как в большинстве других семинарий, но и дети учителей, чиновников, крестьян. Одно время ректором семинарии был архимандрит Тихон (Белавин), будущий патриарх Московский и всея Руси, который устроил в семинарии второй храм в честь только что прославленного святителя Феодосия Черниговского. В этом храме совершались ежедневные богослужения, и семинаристы пели там на клиросе, каждый класс один раз в неделю.
Обстановка в семинарии была непростой. Холм был польским и на половину католическим городом. Часть местного русского населения оставалась в унии. Большим влиянием в городе пользовались еврейские общины.
Будучи учащимся семинарии, Димитрий был серьезен, молчалив, избегал любых праздных разговоров, не участвовал в развлечениях и розыгрышах семинаристов, больше любил читать под партой Евангелие, за что его звали «монахом». Такая настроенность способного, преуспевающего в учебе, глубоко верующего, скромного, склонного к аскетизму юноши, не укрылась от взоров окружающих. «Меня приблизил к себе преподаватель семинарии — иеромонах Даниил[5], родной брат инспектора Московской Духовной академии, тогда архимандрита, Илариона (Троицкого)[6]; меня принял под духовный отеческий кров незабвенный отец — ректор семинарии архимандрит Серафим»[7] — вспоминал батюшка. Отец-ректор полюбил богобоязненного юношу и оказал благотворное влияние на его духовное формирование.
Димитрий Тяпочкин благополучно поступил в семинарию и стал прилежно учиться. Он и раньше любил читать Библию, особенно Евангелие, но теперь его знания стали приобретать порядок и полноту. Семинаристы изучали историю сотворения мира, создание человека и первое грехопадение людей — как человек отпал от Бога.
Человек, рождаясь в мир, не выбирает ни места своего рождения, ни времени. Но мир, в который он приходит, уже другой, чем до прихода Спасителя. Христос приносил Себя в жертву не только за тех, кто жил во время Его пришествия, но и за давно умерших (Он даже в ад сошел, чтобы освободить их от мучений). Христос освободил от рабства греха и тех, кто жил или живет на земле после Его Воскресения. Человек, приходящий в мир в любое время, не одинок, потому, что его знает Христос, Который страдал за него. Смысл жизни каждого человека — узнать по-настоящему Христа. Господь открывается каждому, кто хочет Его встретить. Самая прямая и хорошо известная дорога к этой встрече — Святая Православная Церковь.
Главной святыней Холмского собора была очень древняя икона Божией Матери, память ее праздновалась в сентябре, в день Рождества Пресвятой Богородицы. В этот день в Холм стекалось множество народа из всех окрестных сел и деревень, и праздник всегда был поистине всенародным. Икона эта была удивительной. Сохранилось предание, что Холм основал князь Владимир, крестивший Русь. Однажды он был в тех лесах на охоте и заблудился. Ища выхода из леса, он набрел на место, которое ему так понравилось, что он решил основать город, построить церковь и подарить ей икону Божией Матери. Эта икона, написанная на холсте, наклеенном на доску, была привезена из Греции. В то время, когда жил князь Владимир, а может даже и раньше, это была настоящая святыня. Она пережила нашествие татар, завоеватели сорвали с нее золотую ризу и нанесли удар острым кинжалом, от которого на лике остался большой шрам. Неоднократно ее пытались украсть, и икону приходилось скрывать от похитителей, закапывая в землю. Димитрий любил приходить в собор до начала службы, чтобы постоять в тишине, помолиться перед древней святыней. Он смотрел на лик Богоматери, которая заботливо взирала на всех приходящих к Ней. Божия Матерь любила и жалела страждущий народ, который пел Ей свои простые, трогательные песнопения: «Пречистая Дево, Мати Холмского краю, яко на небе, так и на земле Тя я величаю». Глядя на нескончаемый поток людей, приходящих к Пресвятой Богородице, у Димитрия ещё больше разгоралось желание быть священником и молиться перед Господом Иисусом Христом и Его Пречистой Матерью за свой народ.
В связи с началом Первой мировой войны Холмскую Духовную семинарию эвакуировали в Москву.
С 1917 года был введен такой порядок: студентов, окончивших Духовные семинарии, светские средние и высшие учебные заведения по I и II разряду, принимали в Духовную академию без экзаменов.
В 1917 году по окончании семинарии по первому разряду Димитрий продолжил учебу в Московской Духовной академии — в одном из крупнейших центров духовного образования России, оказавшей огромное влияние на развитие религиозной и философской мысли.
…Любовь к обители Преподобного Сергия и ее святыням отец Серафим пронес через всю жизнь. Димитрий хорошо знал древнееврейский язык и, учась в академии, подрабатывал репетиторством, получая в те голодные годы за урок только ужин. С большой теплотой отец Серафим вспоминал преподавателей академии, среди которых был отец Павел Флоренский. Его фотография висела рядом с фотографией епископа Игнатия Брянчанинова в келье старца. В последние годы своего дореволюционного существования (до закрытия в 1919 г.) Московская Духовная академия находилась в зените своей славы. Здесь преподавали такие знаменитые профессора, как епископ Феодор (Поздеевский)[8], С.С. Глаголев, отец Павел Флоренский, И.В. Попов, архимандрит Иларион (Троицкий)[9], будущий священномученик, ныне причислен к лику святых, Д. Введенский, С.И. Соболевский и др. Яркими событиями в жизни академии 1917–1918 годов были оживленные диспуты при защите магистерских и докторских диссертаций, блистательная лекция архимандрита Илариона в защиту патриаршества, посещение вновь избранным Святейшим Патриархом Тихоном академии и совершение им богослужения в Покровском академическом храме.
В марте 1918 года Советское правительство подписало Брест-Литовский мирный договор. По этому договору от России отторгались Польша, Финляндия, Прибалтика, Украина, часть Белоруссии, Крым и Закавказье.
Из 350 находящихся в Польше храмов и монастырей осталось верных Православию лишь 50. Остальные были или закрыты, или обращены в костелы. Можно сказать, что Православная Церковь в Польше стала гонима.
Отец Серафим жил в такое время, когда в России группа людей, называвших себя большевиками, увлекла народ идеей отвергнуть Бога и построить на земле «счастливую жизнь» по своим понятиям о счастье и справедливости. Народ поверил в эти призрачные идеи и пошел за большевиками. В 1917 году в стране произошел переворот, большевики захватили власть и стали строить «новую жизнь». Построение счастливого общества утверждалось кровавыми методами.
Основой прежней жизни была Церковь и вера в Бога. Поэтому, закрывая монастыри и церкви, арестовывая священников и монахов, расстреливая их, они боролись с Самим Богом. Эту власть так и стали называть — богоборческой. Времена были очень тяжелые. Голод, разруха, царящее по всей стране беззаконие. Большевики сажали в тюрьмы не только священнослужителей или верующих людей, но и вообще всех, кто не поддерживал Советский строй или подозревался в этом. Новые правители опасались за свою власть, за свою жизнь и в каждом видели своих противников. Тюрем не хватало по всей необъятной России, особенно на Севере и в Сибири, были построены специальные лагеря для заключенных, куда вместе с преступниками попадало много ни в чем не повинных людей.
В 1918 году декретом Совета народных комиссаров Церковь была отделена от государства, а школа — от Церкви. Во всех учебных заведениях отменялось преподавание Закона Божия, из них выносили иконы, ликвидировали домовые церкви. Повсеместно закрывали духовные учебные заведения. Занятия в академии продолжались до Великого поста 1919 года, а затем студенты были распущены[10].
«Господь судил недолго быть мне в академии. В 1917 году я поступил, а в 1919 году академия была закрыта. Время мною проведенное в стенах Свято-Троицкой Сергиевой лавры осталось для меня неизгладимым на всю жизнь», — вспоминал батюшка.
Димитрий Тяпочкин вернулся в Екатеринослав. В селе Сурско-Михайловке Екатеринославской губернии ему предоставили место преподавателя географии. Там он познакомился со своей будущей супругой Антониной, преподавательницей математики. Родители ее были благочестивые христиане, происходили из дворянского рода. Они с радостью благословили свою дочь выйти замуж за будущего священнослужителя. Намеченная свадьба не состоялась: Димитрий заболел тифом и проболел целый год. Они венчались только в 1920 году.
Рукоположение. Служение Церкви в священном сане
…Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною.
18 октября 1920 года епископ Евлампий[11], викарий Екатеринославской епархии, рукоположил Димитрия во диакона, а в день памяти святого апостола и евангелиста Луки, — во пресвитера. Хиротония была совершена в Свято-Тихвинском женском монастыре города Екатеринослава.
Пастырское служение отец Димитрий проходил в Екатеринославской епархии в смутное время, в обстановке гонений на Церковь и расколов. После рукоположения во священный сан, с 1921 года иерей Димитрий Тяпочкин служил в церкви Первоверховных апостолов Петра и Павла села Сурско-Михайловка Солонянского уезда Екатеринославской епархии.
Если поставить вопросы: где берет начало благодатный источник пастырского служения Богу и людям — светоч Православия старец архимандрит Серафим (Тяпочкин)? В каких условиях выкристаллизовался его характер и укреплялся дух будущего подвижника, сердце которого было преисполнено Христовой любви к людям? То мы с уверенностью можем ответить словами самого старца, написанными в прошении Высокопреосвященнейшему Гурию[12], архиепископу Днепропетровскому и Запорожскому в 1957 году, где он просит владыку не переводить его из села в город, дабы не потерять то духовное сокровище, которое так бережно собирал он от юности своей в продолжение всего пастырского пути. В прошении отец Дмитрий пишет:
«Ваше Высокопреосвященство, высокопреосвященнейший владыко, при всем своем старании, никак не могу представить себе свое служение и жизнь в городе. Когда бываю в нем, выезжая из него, считаю себя счастливым, городом я тягощусь. «Мне любезна пустыня» могу сказать словами сет. Григория Богослова. Путь своей пастырской жизни я начинал, проходил и прохожу в сельской тиши. У меня сложились определенные правила духовной и личной жизни. Изменить их сейчас, в условиях городского служения и жизни мне будет трудно.
Не по летам своим я немощен телом (14 лет в заключениях и ссылках). В продолжении своего пастырского пути имею дерзновение сказать, что не о себе только я заботился, но и о других (Флп.2:4). Да будет же мне позволено ныне некую часть внимания уделить и себе самому. Если же в селе я не могу восстановить свое здоровье, то могу ли я надеяться на это в городе. Больше того, я опасаюсь, что в городе мое здоровье еще более истощится, а в духовной жизни я могу потерять то духовное сокровище, которое так бережно собирал от юности своей и в продолжении всего пастырского своего пути.
Припадая к святительским стопам Вашего Высокопреосвященства, смиреннейше прошу прощения и слезно прошу не перемещать меня в город. Прошу святых молитв Вашего Высокопреосвященства, всегдашний молитвенник и слуга протоиерей Димитрий Тяпочкин».
(Настоятеля Свято-Архангело-Михайловской
церкви села Верхний Такмак Черниговского района Запорожской области.
От прот. Димитрия Тяпочкина)
18 мая 1957 года.
«Мне любезна моя пустынь, — это село Сурско-Михайловка» — говорит батюшка. Чтобы нам лучше понять в какое сложное время пришлось начинать свое пастырское служение молодому отцу Димитрию, вернемся в историческое прошлое Сурско-Михайловки. Прихожане с первых дней прониклись уважением к молодому священнику за его ревностное и самоотверженное исполнение Христовых заповедей. Они единодушно избрали его председателем комитета помощи голодающим. Обильные пожертвования односельчан позволили отцу Димитрию помогать не только своим обездоленным прихожанам, но и голодающим близлежащих сел.
Жители этого села отличались сложной и неоднозначной трактовкой исторических событий — село казацкой вольницы… Оно раскинулось в глубокой балке, вольготно и просторно было ему в долине речки Суры. Раньше оно так и называлось — Великие Вольные Хутора. Основанное запорожским казаком Никитой Леонтьевичем Коржом, село принимало всех, кто хотел быть хозяином на прекрасных черноземных землях, иметь достаток и процветание. Бывало время, когда жители села принимали и тех, у кого были проблемы с властями.
«…Местность низменная, сырая» — записано в справочной книге Екатеринославской епархии за 1913 год. Наличие десятков озер из сточных весенних ручьев, высокий уровень грунтовых вод — 12 километров сплошной грязи, улицы — понятие весьма условное, не приносили особых неприятностей жителям и не были преградой для наплыва населения. Село, в котором труд был главным мерилом ценностей, в окружении помещичьих владений, считалось островком благополучия, и многие мечтали «перемахнуть через гору», чтобы сбросить ярмо крепостной зависимости и насладиться свободой.
Какое же село без церкви? Хутор! Церковь от времен казацких возникла в селе еще в 1835 году. Основатель его — Никита Корж, строго чтил духовные традиции запорожского казачества. И когда небольшая деревянная церквушка сгорела от удара молнии, старый казак на 104 году жизни лично собирал подаяния на строительство новой церкви. Но от простуды слег и преставился в 1835 году. Содействием Никиты Коржа церковь в Михайловке действительно восстановилась. «При подножии алтаря ея ищи преданий источника, кому он приятен», — писал в 1842 году архиепископ Екатеринославский, Херсонский и Таврический Гавриил (Розанов), который лично был знаком с Никитой Коржом и приглашал его для духовных бесед.
Благодарные односельчане с почестями похоронили останки тела Никиты в ограде вновь отстроенной церкви. На надгробии установили крест из чистого золота.
Церковь способствовала развитию образования в селе, первая школа — церковно-приходская. Позже открыли школы: министерскую, земскую, ремесленное училище.
Октябрьский переворот 1917 года никак не сочетался в умах людей с лучшим «новым миром». Люди «в штыки встретили советскую власть». Их бунтарские корни проявились в полной мере. К тому же в село, как сточные весенние воды, хлынули из окрестностей все, кто не принял новые порядки. Сурско-Михайловка превратилась в «базу местной контрреволюции».
В это непростое время в 1919 году в селе появился молодой, интеллигентный человек дворянского происхождения — Дмитрий Александрович Тяпочкин.
Пришел в село из города Екатеринослава, чтобы найти работу.
В Екатеринослав он вернулся сразу же после закрытия Московской Духовной академии. В городе проживали его мать и родственники.
Возвращение в Екатеринослав совпало с освободительными соревнованиями — так в украинской истории называют период 1917–1920 гг. Во время противостояния разных властей и режимов, власть в Екатеринославе менялась до двух десятков раз.
Летом 1919 года город русской интеллигенции Екатеринослав встречал Добровольческую армию Деникина. Но надежд белогвардейцы не оправдали, армия не смогла навести порядок: в городе продолжались расстрелы, погромы, безработица, голод, мародерство. Не работали предприятия, был введен налог на содержание войска… И Дмитрий Тяпочкин оказывается в селе Сурско-Михайловка, в 40 верстах от Екатеринослава.
В селе на широкой площади стояла красавица церковь, названная в честь святых Первоверховных апостолов Петра и Павла. Она напоминала учителю Дмитрию Тяпочкину о его истинном пастырском призвании. В ту пору в церкви настоятелем служил отец Михей Журавель, родом из Мариуполя, диаконом был отец Кирилл.
В соседнем селе Николаевка (Кар-Хутора) в условиях террора Гражданской войны буденновцы Первой конной армии, контролировавшие выполнение продразверстки, расстреляли отца Антония. Причиной послужила нехватка материи на звезды и петлицы новобранцам, и они решили восполнить это за счет красных «поповских риз» (этот случай рассказал р. Б. Виталий — духовное чадо отца Димитрия, псаломщик Свято-Покровского храма поселка Таромское Днепропетровской области).
По просьбе жителей Николаевки диакон Кирилл перешел служить в Николаевку, а на его место, в Петро-Павловский храм, отец Михей пригласил отца Димитрия Тяпочкина.
Мужики — оплот сельской громады — нутром учуяли в молодом священнике ревностного защитника и ходатая за них перед Богом.
Предвзято к батюшке отнесся только молодой атаман Трифон Гладченко, националист, не местный. Быстрый на расправу, Трифон, улучив момент, повел отца Димитрия в поле, чтоб свести с ним счеты. Случайно увидевшая их женщина сообщила об этом жителям села, и мужики, оседлавши лошадей, прихватив оружие, догнали Трифона и вернули батюшку, сумев договориться с непокорным атаманом.
Жители села приняли отца Димитрия под свою опеку, «бесхитростного, настоящего, истинного батюшку», который, по выражению Екатерины Танцюры «сильно пропадал верою»…
Отец Михей был уже в летах, и всю работу в приходе осуществлял отец Димитрий, который «все наперед шел». Иногда уходил из села, служил в других приходах благочинным, так как многие священники после революции были убиты и замучены.
Семья батюшки проживала в Сурско-Михайловке. Селяне собрались и справили им хату, бабы сделали мазку, побелили. Люди снесли рушники, рядна. Но все же семья жила бедно-бедно. Батюшка никогда не брал деньги за требы, а панихиду раздавал людям. Мария Дворецкая вспоминает: «До войны мы с Тяпочкиными были соседями, жили на озерах. Я дружила с девочками, часто бегала к ним в гости. Помню в передней комнате, где мы играли, стоял длинный деревянный стол, ничем не покрытый, и такая же лавка. Мы, дети, прыгали со стола на лавку, а потом на пол. А вторая комната служила им всем за спальню».
В 1927 году умирает отец Михей, и приход в селе возглавляет отец Димитрий. Период служения в церкви отца Димитрия был расцветом духовной жизни в Сурско-Михайловке. Здание церкви не могло вместить всех желающих. Церковь была построена крестообразно, срублена без единого гвоздя. Стены и купола окрашены в голубой цвет, так что в ясную погоду она сливалась с лазурью неба. Возле церкви — деревянная колокольня — на 5 или 6 звонов. «Как зазвонят — сердце мрет, а ноги сами несут в храм», — вспоминает Мария Дворецкая.
При церкви был склеп, где покоился прах Никиты Коржа — основателя села, и могилы нескольких священников. «Отец Димитрий строго следил, чтоб горели лампады на могилах повсякчасно…», — говорит Оляна Иванченко.
Имелись и хозяйственные постройки — амбар (сейчас перестроенный в школьный спортивный зал), конюшня для лошадей. Трапезная для прихожан, которые приезжали издалека, так как приход отца Дмитрия состоял из нескольких приселков.
Мария Горленко еще помнит то время, когда в церкви «не протолпишься». Люди стояли и за церковью, а на праздники и церковная площадь была заполнена людьми.
Количество населения возрастало, и по решению сельской общины был заложен высоченный каменный фундамент новой церкви, освященный отцом Димитрием. По рассказам очевидцев, в то время, это событие было знаменательным, приезжало много духовенства, в том числе и из России.
…Мария Дубина «не могла спокойно спать», первая из села начала собирать сведения об отце Димитрии. Она успела записать воспоминания р.Б. Матроны (1904 г.р.): «Когда Мария показала ей фото отца Димитрия, она начала так громко рыдать и рассказывать, что таких священников как отец Димитрий она больше не встречала. Он всецело был предан Богу. Когда он молился, бил земные поклоны, то на земле образовывалась ямка и место окроплено слезами. Как его все любили! Церковь была большая, с верхним клиросом, людей ходило много. И когда батюшка выходил из алтаря, каждому хотелось взять благословение. Любили его за доброту и за его молитвы…
Службы батюшка служил так, что никто не сомневался: Бог рядом».
Отец Екатерины Танцюры Онуфрий Соколенко был старостою при храме. Он стал просить батюшку сокращать службы, которые в воскресные дни или праздники длились до 2–3 часов дня. Батюшка на это не пошел, но благословил тихонько уходить из храма тем, кто не выдерживал. Таких было немного: матери с детьми, которые просили есть, некоторые больные. Все ждали благословения и проповеди. На проповедях батюшка всегда плакал. Почему? Люди по-разному это толкуют. Может, обличал чужие грехи… своими слезами. Мария Турочкина подметила это: «Хиба ж вин всих переплаче…»
Слава Богу, жива еще Мария Горленко, которая поведала следующее. В их благочестивой семье по просьбе родителей девочки помогали «по свободе» матушкам. Она — матушке отца Михея Марии, а ее сестра — Анна — матушке отца Димитрия Антонине. Анна рассказывала, что сразу после службы отец Димитрий приходил домой в свою комнату, закрывался, вставал на колени и долго-долго молился. В дверях была щель, и Анна периодически заглядывала: «Ага… молится. Значит, обед откладывается…». Получается, что в воскресный день, он целый день был на молитве. Екатерина Танцюра говорит: «Как станет на колени — так до утра: молится без конца и краю».
Когда батюшка молился, никто не смел заходить в его комнату. Селяне с пониманием относились к этому. Они терпеливо поджидали его летом, сидя на траве, зимой — в передней. Правда, был случай, когда правило это было нарушено. Свидетельствует Екатерина Танцюра: «Однажды отец мой Онуфрий (староста) утром пошел к батюшке за ключами от церкви и хотел с ним поговорить. Матушка вынесла ключи и сказала, что батюшка на коленях с ночи. Отец пришел в обед — картина та же. К вечеру во дворе отца Димитрия стали собираться люди, принесли еду: белый хлеб, грудку сыра да кружку сметаны. Осмелились зайти в комнату: батюшка стоял в слезах на коленях перед образами. Одна женщина всплакнула, другая тихо окликнула: «Батюшка, Вы поешьте, и мы пойдем по домам».
Батюшка любил молитву. Его молитва была неисчерпаема. На молитве время для него останавливалось: сутки прошли или вечность — это не имело значения. С такой усердной молитвой великие старцы отрекались от мира, уединялись, чтобы стяжать Благодатные Дары и уже потом, обновленными нести их людям. Но отец Димитрий не мог позволить себе этого. Он был приходским священником, имел семью, детей.
Его жизнь проходила на глазах у всех односельчан и прихожан, которые знали буквально каждый шаг своего пастыря. Люди всегда были при нем, при этом не мешали ему и не раздражали. Они шли к нему за советом «чуть — шо — до отца Димитрия»… и просто так, чтоб увидеть. Ему открывалась каждая душа, ему доверяли самое потаенное. Евдокия Стесенко: «Отец Дмитрий знал обо мне то, что никто не знал». Дети, увидев батюшку, окружали его, а малые просились на руки. Говорит Оляна Денисенко: «Моя Надя как ботюшку узрит — на коленки просится, и крестится, крестится…». А с мужиками — особые отношения — уважительные, на равных… И всех он жалел, жалел, жалел… Несомненно, здесь начинались истоки той особенной, всепрощающей, «беспредельной, безоглядной любви к каждому человеку».
Из воспоминаний Параскевы Сахновской.
Где-то в 1928 году мой отец собрал хороший урожай арбузов. Домой привез полную гарбу (подвода с высокими бортами), а арбузы в тот год уродились огромные, как ведра.
К нам пришел отец Димитрий. А во дворе большая собака. Пес метнулся и встал лапами отцу Димитрию прямо на грудь. Батюшка застыл. Мой отец отозвал собаку. По какому делу приходил отец Димитрий неведомо, но после разговора мой отец говорит: «Я не буду выгружать всю гарбу, а отвезу немного Вам». На что батюшка Димитрий сказал: «Да что ж это Вы будете тратиться?» — «Да мы ещё не все собрали» — ответил мой отец.
Отец Димитрий был очень хороший человек — так всегда отзывался о нем мой отец Василий Корнеевич, который был знатным человеком в округе. Он хорошо знал технику, имел запчасти, охотно делился с другими и давал нужную консультацию. Во дворе у нас была олейница (маслобойня) и ещё стояли жернова, где можно было шеретовать (очищать) просо.
А что касается победно шествующей советской власти, то ее красноречиво характеризует расхожая и в наши дни поговорка: «Да, я — за советскую власть, но — в другом селе». Районное начальство закрывало глаза на «кулацкий очаг», который уже не тревожил разбоем и бандитизмом. Село расцветало. Односельчане, чтобы разобраться в сути, во всем советовались с батюшкой: растолкует, утешит и подаст каждому надежду. Через батюшку люди находили гармонию между собой и миром. Его слово спасало тех, кто хотел спастись.
Совсем недавно дед Андрейченко сказал: «За Дмитрием все село жило — оце и все… Не понимаете? Как баба за толковым мужиком — шо ище скажешь?»
А Оляна Денисенко все время твердила: «Страшно хороший батюшка». Почему страшно? Из долгих объяснений бабы Оляны стало ясно, что было в батюшке что-то величественное и непостижимое, что было сродни Богу.
Ей вторит Мария Дворецкая: «Батюшка похож на Иисуса Христа…»
До начала 30-х годов в Сурско-Михайловской волости сформировалось зрелое гражданское общество. Церковь, а не сельсовет задавал тон жизни. Церковь была поддерживаема народом, священник выступал духовным лидером, а все дела совершались по благословению отца Димитрия. Несмотря на пестрый национальный состав, сельская громада отличалась сплоченностью и единодушием. Село никогда не голодало. Малоимущие были, инвалиды и многодетные. Все они были на строгом учете у батюшки Димитрия и регулярно получали помощь из церковного амбара: муку, зерно, подсолнечное масло. Со слов Марии Горленко батюшка особенно беспокоился о таких прихожанах с приселков — Верминчина, Новотарасовка, Богдановка и других. Батюшка часто добирался к ним через овраги, по бездорожью, наведывая их, исполняя требы и помогая материально.
Период насильственной коллективизации принес неисчислимые беды в село. На помощь местным властям приехали «сознательные» рабочие из Днепропетровска и Днепродзержинска (Камянского).
За одну ночь ГУЛАГ проглотил в 1929 году самых состоятельных и непримиримых единоличников.
А с 1932 года в селе начался террор голодом. Святой Иоанн Кронштадтский писал, что «мы не можем влиять на ход истории, но мы можем сделать выбор в ту или другую сторону». Люди предпочитали умереть, чем расстаться со своими кровными 11–12 десятинами земли. Чтобы заставить написать заявление в один из пяти колхозов, под видом хлебозаготовок конфисковывали у крестьян зерно, овощи, хозяйственную и домашнюю утварь.
Мария Турочкина хорошо помнит, как «люди падали и умирали на ходу».
В эту страшную пору в 1932 году у батюшки Димитрия умирает маленький сын Владимир, следом, не дожив до годика, — второй сын Алексей. Это было тяжелым испытанием для любящих родителей.
Люди сочувствовали батюшке, каким-то немыслимым образом привели во двор корову, чтобы поддержать оставшихся детей и спасти матушку от чахотки… Но власти узнали — корову конфисковали, а Тяпочкины попали в списки раскулаченных … В 1933 году от туберкулеза скончалась матушка Антонина. Семья батюшки голодала. На его попечении осталось трое несовершеннолетних дочерей: старшая Нина (1921–1994 гг.), впоследствии работала в больнице главрачом; Людмила (1924–1995 гг.), была медсестрой; младшая многодетная Антонина (1926–2004 гг.), была домохозяйкой в своей семье. Но более всего батюшка заботился о прихожанах…
Одна из них — Оляна Денисенко. У нее уютная хата. Образа в рушниках. В божнице — фотография отца Димитрия. На разговор идет тяжело. Все время плачет. Вот ее рассказ:
«Мы же свои с отцом Димитрием. Ну, как одна семья. Тато уважали батюшку. Помню, тато вынули дротик из настенной керосиновой лампы — Мишку наказать, ослушался тата. А тут отец Димитрий на пороге. Увидел: «Олекса, а ну… Олекса — все». Тато обмяк и повесил назад дротик. А отец Димитрий перекрестился на образа и сказал: «Будет он у тебя учиться в городе». Так и вышло, Мишка стал капитаном.
Тата забрали в 1932 году за кочан пшинки (кукурузы). Батюшка Димитрий нас не покинул, заменял нам отца, чем мог, помогал матери. И мы все семеро, с Божьей помощью, пережили голодовку».
Одарка Костенко: «Я поняла, почему так долго живу, для чего дожила до сегодняшнего дня. Чтобы рассказать, сколько людей отец Димитрий спас в голодовку подаянием. Вы ж не знаете, а я знаю… Ось тут его и хата стояла. Все голодающие до его дому и церкви тянулись. А что он мог дать? Крохи. Спасал причастием и словом. А сам — одни очи и ряса…»
Батюшка много молился. Проявлял ко всем сострадание и участие. Вместе со всеми испил чашу горести и лишений, но сохранил при этом нравственный облик. Его непоколебимая вера вселяла надежду в сердца людей.
В это тяжелое время батюшка служил панихиды по умершим и помогал голодающим. «На улице из кирпичей сложили печку, ставили котел, «варили борщи, и нас, голодающих, кормили…» вспоминает Мария Турочкина.
Ох, как не понравилось это местным властям! Бесконечные списки поминаемых за панихидой убиенных и умерших от голода селян. И это во время победно шествующей второй «безбожной пятилетки». Власть раздражало, что сельский священник в своих молитвах поминал умерших от голода. На батюшку Димитрия продолжались гонения.
Из воспоминаний Евдокии Стесенко. «Как сейчас вижу эту церковь — каменный фундамент, черепичный пол. Купола небесного цвета глаз радуют, а звоны сердце жалью переполняют. При церкви хор был. Хористы — Наталия Гуня, Полина Танцюра, Полина Ситало, Дарья Плыска… Бывало, как затянут, им подпевают, человек 40 в хоре было… Плачет батюшка Димитрий, и мы все плачем. Помню, перед разгромом церкви во время службы зашел в храм конвой. Не наши, видно, из района. Сняли фуражки, окликнули батюшку. Тот даже голову не повел в их сторону. Окликнули громче. Батюшка не обращает никакого внимания. Тогда старший, с кобурой, процокал через всю церковь и остановился прямо перед батюшкой. А хор поет, а батюшка правит… Старший поднял руку, чтоб одернуть отца Димитрия, да, видно, передумал, махнул рукой и быстро удалился…»
…С 1921 по 1936 год отец Димитрий состоял благочинным церквей Солонянского района Днепропетровской епархии. Это были годы самой жестокой борьбы безбожной советской власти с Церковью. Повсеместно происходило осквернение святынь, разрушение храмов и обителей, гонения на священнослужителей. Впоследствии батюшка вспоминал, что в то тревожное время, когда хитон Церкви был раздираем также обновленчеством, самосвятством и другими расколами различных направлений, он деятельно боролся с ними, отстаивая чистоту православного учения, и вел вверенную ему паству по пути, проложенному Святейшим Патриархом Тихоном. Как говорил сам отец Серафим, Святейший Патриарх поручил ему, благочинному, изымать антиминсы из закрытых церквей, захваченных живоцерковниками[13]. Он говорил: «Я замечал, что с ними невозможно бороться, и изымал антиминс из захваченных ими церквей». За это миссионерское служение он был награжден Святейшим Патриархом Тихоном Патриаршей грамотой.
В своих воспоминаниях об отце Серафиме Высокопреосвященный Никодим, митрополит Харьковский и Богодуховский, пишет: «Архимандрит Серафим (Тяпочкин) рассказывал в середине 1970-х годов архимандриту Геннадию, впоследствии схиархимандриту Григорию (Давыдову) о тех трудностях, которые встречались отцу Серафиму, когда он служил в Днепропетровской епархии в 20-е годы XX столетия, упоминая имя Елисаветградского архипастыря Онуфрия (Гагалюка)[14]. Владыка Онуфрий призывал к себе священнослужителей и просил их сохранять веру православную, не поддаваться на различные провокации и соблазны. Через шесть дней владыка Онуфрий был арестован и заключен сначала в Одесскую тюрьму, а затем в Днепропетровскую.
Там отец Серафим и встретился с владыкой Онуфрием и просил молитв у святителя на стойкость и сохранение веры православной в это тяжкое время»…
В двадцатом столетии, в эпоху невиданных по своим масштабам, коварству и жестокости гонений за веру, Промыслом Божиим посылаются священнослужители, способные выстоять в годину огненных испытаний. Их жизнь и смерть — убедительнейшая проповедь истинности Христова дела. Уразумев волю Спасителя, они сохранили верность своему призванию до смерти.
Вслед за Иисусом — Вечным Первосвященником и Ходатаем Нового Завета — они вошли во святилище со своею кровию: да очистятся грехи людские, ибо без пролития крови не бывает прощения (Евр.9:22).
Святитель Иоанн Златоуст писал: «Почитать святого — значит участвовать своею жизнью в его подвиге», а подвиг неисчислимого сонма священнослужителей, иноков мирян, которые в годы репрессий на Святой Руси отдали на алтарь Церкви Христовой свою жизнь, велик и славен.
Первый Всероссийский Священный Собор 5/18 апреля издал Определение о мероприятиях, вызываемых происходящим гонением на Православную Церковь и 9-й пункт этого определения гласит: «Поручить церковному управлению собирать сведения и оповещать православное население посредством печатных изданий и живого слова о всех случаях гонения на Церковь и насилия над исповедниками Православной Веры».
Подвиг исповедничества первых христиан и их страдания за Христа научили сотни тысяч людей умирать с верою, молитвой и покаянием за веру христанскую, вступать в единоборство с силами ада за Святую Церковь.
Никакие трудности жизни, расколы, унижения, клевета и политические обвинения, узнические испытания, умерщвления не могли отлучить их от любви Божией (см. Рим.8:35), посеять в них мрак неверия и вражды против своего Творца, превратить их совесть в поле страстей и беззакония.
На юбилейном архиерейском соборе в 2000-м году прославлены поименно в лике святых 1478 новомучеников и исповедников российских, в том числе Белгородские святители-новомученики: епископ Никодим (Кононов, 1871–1919)[15]; архиепископ Онуфрий (Гагалюк, 1889–1938); епископ Антоний[16] (Панкеев, 1892-1938); священник Митрофан Вильгельмский (1883–1938); священник Александр Ерошов (1884–1938); священник Михаил Дейнека (1894–1938); священник Матфей Вознесенский (†1919); священник Виктор Каракулин (1887–1937); священник Ипполит Красновский (1883–1938); священник Николай Садовский (1894–1938); священник Василий Иванов (1876-1938); священник Николай Кулаков (1876–1938); священник Максим Богданов (1883–1938); священник Александр Саульский (1876–1938); священник Павел Попов (1890–1938); священник Павел Брянцев (1889-1938); псаломщик Михаил Вознесенский (1900-1938); псаломщик Григорий Богоявленский (1883-1938).
Ни жизнь, ни смерть, ни теснота, ни гонения, ни голод, ни опасность, ни мен не могли отлучить его от любви Божией. Все это им преодолевалось, по слову апостола, силою Возлюбившего нас (Рим.8:35,37).
Епископ Амвросий (Гудко, †1918) говорил: «Мы должны радоваться, что Господь привел нас жить в такое время, когда можем за Него пострадать. Каждый из нас грешит всю жизнь, а краткие страдания и венец мученичества искупают грехи всякие».
Мы прославляем их в церковных песнопениях:
Тропарь, глас 4-й
Земли нашея Белоградския / новомученицы и исповедницы: / святителие Никодиме, Онуфрие и Антоние, / с вами же — иерее, диакони и миряне благочестивии, / в житии своем светом Христовым просиявши, / за Негоже добре страдавши и венчавшийся, / и ныне нас, во трудех и службах сущих, / предстательством своим вразумляющий и укрепляющий / ко возрождению и возвышению Православия! / Христа Бога молите / мир и благоденствие Отечеству нашему даровати / и душам нашим — велию милость.
…Образованный, ревностный и любимый народом отец благочинный обратил на себя внимание гонителей Церкви. В 1922 году на Крещение Господне, после литургии, отца Димитрия попросили совершить освящение воды в соседнем храме, сказав, что настоятель этого храма заболел. Ничего не подозревая, отец Димитрий сел в бричку и поехал в соседнее село, дорога к которому вела через мост. Не доезжая моста, лошади вдруг понесли со страшной силой, их невозможно было остановить. Чтобы не упасть, отец Димитрий лег на дно брички. Неожиданно раздались крики: «Стой! Стой» — и послышались выстрелы. Стреляли в направлении брички. Но она катила так быстро, что бандиты не смогли попасть в цель. Приблизившись к храму, лошади сами замедлили бег и остановились. Оказалось, что священник этого храма за сутки до праздника Богоявления был арестован ГПУ. Целью же тех, кто послал за отцом Димитрием, было расправиться с ним по дороге. Но Господь сохранил Своего верного служителя.
Как вспоминает Михаил Корнеевич Баденко из Никополя, в 1923 году отца Димитрия направили в село Токмаковку. Узнав, что там есть служащий священник, он сказал, что не сможет принять приход, «на живое место» не пойдет. В другом храме, захваченном «живоцерковниками», которые подчинили себе местного священника, отец Димитрий выступил с проповедью в защиту Православной Церкви и Патриарха Тихона. Говорил он открыто, смело, так просто и убедительно, что перед всеми раскрылась сомнительная и пагубная деятельность обновленцев. Их тут же разогнали, а прежний священник по требованию прихожан принес публичное покаяние за проявленное малодушие. Впоследствии, когда отцу Серафиму нужно было в каких-нибудь анкетах, церковных и светских, отвечать на вопрос: «Состоял ли в обновленческом расколе?» — он всегда отвечал: «Никогда».
Закрытие храма. Арест и ссылка
…Пастырь добрый полагает жизнь свою за овцы своя.
(Ин.10:11)
В тридцатые и сороковые годы продолжались массовые аресты и расстрелы духовенства, закрывались храмы. До 1 марта 1930 года подверглись арестам и ссылкам 177 православных епископов. К концу так называемой «безбожной пятилетки», в 1937 году, на свободе осталось всего семь епископов Русской Православной Церкви. Атеистическое государство поставило перед собой цель покончить с религией на территории СССР.
Отца Димитрия арестовывали много раз, но, допросив и предупредив, отпускали. Он был взят на учет органами ГПУ за то, что пользовался большим авторитетом среди духовенства и верующих.
Однажды отцу благочинному предложили закрыть храм. Отец Димитрий ответил: «Мой долг не закрывать, а открывать храмы». Ему пригрозили: «Понимаете, чем для вас это может кончиться?!» «Это мне не страшно, — смиренно сказал батюшка, — не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более Того, Кто может и душу, и тело погубить в геенне» (Мф.10:28).
Осенью 1934 года церковь святых первоверховных апостолов Петра и Павла, где служил отец Димитрий, закрыли, превратив в колхозное зернохранилище.
Возможно так и осталась бы церковь стоять непреложно, сливаясь с лазурным небом, возвышаясь над белыми хатами да кудрявыми вербами, как постоянное напоминание о жизни вечной… Да не давало покоя новой власти «корживське золото».
Предмет притязания — большой золотой крест, который был на надгробной плите основателя села Никиты Коржа. Зачинщиком разгрома был молодой мужчина, из сельского совета, по имени Антон. Он начал будоражить людей, дескать, церковь возле школы и сельсовета — не положено, несознательно… Победило тщеславие, и было принято решение о разрушении церкви.
Непосредственным исполнителем разгрома церкви был назначен человек (назовем его — человек «икс»), который доказал «преданность делу партии». Не встретилось ни одной семьи из опрошенных, которая не имела личных счетов с ним. Это он, по очень скромным подсчетам, уложил треть села в могилы.
Не успело село оплакать жертвы голодомора, а уже ползли зловещие слухи: будут ломать церковь. Время было выбрано подходящее: обезлюдевшее и обескровленное село было не в силах противостоять бесчинству власти.
Из воспоминаний Михаила Бессараба. «Мой прадед Иван был звонарем при отце Димитрии. Он был уже в преклонном возрасте, когда услышал, что будут рушить церковь. Разволновался, слег и больше уже не поднялся. Все сокрушался, что ничего не может сделать…»
Дмитрию Деикенко в мае 1935 года было почт 15 лет. Он заканчивал 7-й класс и готовился кэкзаменам. Помнит, как на урок пришел человек из сельсовета и объявил, что «Бога нет и грех отменяется», а они должны помочь советской власти — выносить иконы и книги из церкви на подводы и в сарай.
Церковь крушили с неоправданной жестокостью.
Иван Стовбун: «Начали со звонов. Привезли лебедку, трос, прикрепили к звонам. Рабочие отказались крутить лебедку, тогда это очень быстро сделал председатель сельсовета Гринь. Колокола в один момент погрузили в грузовик и увезли. Видно, на переплавку».
«Когда звоны упали — земля летела в разные стороны, а звоны застонали, как будто им так тяжко было, тем звонам» — добавляет Анна Литвин. Из воспоминаний Василия Резника: «Чтоб завалить деревянный каркас церкви, пригнали два трактора и с помощью цепей стали наклонять её. Церковь неохотно стала наклоняться. Из душника вылетели напуганные летучие мыши. Я одну успел схватить, она меня укусила. Я тогда впервые узнал, что и у неё есть зубики».
Михаил Бессараб. «Летучих мышей было столько, что они в одну минуту закрыли солнце. Нам, пацанам, стало жутко. Какая-то старушка истошно завопила: «Прости нас, Господи».
Нина Резник. «Мы, школьники, бегали смотреть как разбирают церковь, а народ стоял подальше, люди плакали, крестились, но подойти ближе боялись.
Иван Стовбун. «Раскопали могилу Никиты Коржа, достали золотой крест, прикрепленный к мраморной доске, а там — запечатанная бутылочка с запиской, мол, ходил до царя, принес вольную селу. С могилами священников сделали то же самое».
Нина Резник. «Валялись черепа и кости. Ветер перекатывал длинные волосы священников. Сейчас как вспомню с высоты прожитых лет — страшный суд». Это происходило в мае 1935 года. Церковь простояла ровно 100 лет. Евдокия Стесенко говорит: «Без церкви мы враз стали пешками».
Отца Димитрия не было при погроме. Под покровом теплой майской ночи он пришел выполнить свой пастырский долг. Вместе с певчей и верными церкви людьми, собрали кости и перезахоронили на сельском кладбище. Хоронили по всем правилам. Дарья Плыска, певчая, свидетельница, сама не дожила, но успела рассказать об этом людям.
Основателя села, автора небезызвестного «Устного повествования, бывшего запорожца, жителя Екатеринославской губернии и уезда», Никиту Коржа, отец Димитрий перезахоронил в ограде, некогда богатой и благочестивой семьи Петриченко, истребленной в коллективизацию. Так перехлестнулись судьбы двух замечательных людей — праведника наших дней отца Димитрия Александровича Тяпочкина и личности исторической — Никиты Леонтьевича Коржа, оставившего нам уникальные сведения о запорожцах.
Отца Михея перезахоронили на горке, рядом с могилой матушки отца Димитрия Антонины и её двоих сыновей, Владимира и Алексея.
Когда закрыли храм в селе Михайловке, где служил отец Димитрий, он, верный своему пастырскому долгу, тайно совершал литургию дома, тайно крестил, исповедовал, венчал, причащал больных, отпевал умерших. В этих условиях нужно было учиться совершать Божие дело тайно, и оно совершалось подпольной церковью. Об этом донесли властям, и ему пришлось скрываться. Однажды он даже прятался в поле. Отец Димитрий переехал в другое село и продолжал служить тайно. Слежка продолжалась. Дочь, Нина Дмитриевна, вспоминала, как приходили к нему по ночам люди из разных мест, и он уходил с ними в дальние селения, пробираясь оврагами, чтобы исполнить требы. Иногда его не было три-четыре дня, и дети сидели в холоде, голодные, боясь выйти из дома.
В те времена много плохих людей бродило по селам, были всякие банды, грабежи, убийства, по ночам стрельба и взрывы, везде кровь и слезы. На дорогах лежали трупы людей и животных, сожженные дома. Атмосфера полного уныния и безнадежности.
Разбита церковь, осквернены святыни… Но вера не уничтожена. Дом батюшки стала храмом, где совершались все православные обряды.
Из воспоминаний Екатерины Журавель. «Рассказывала свекровь, Татьяна Евтихиевна, которая была свидетелем следующего. К батюшке принесли крестить ребенка. Зная что за ним следят, отец Димитрий не отказал. «Я от креста никогда не отказываюсь» — это его ответ, за что и пострадал». Мария Курис имела прекрасный голос и пела в церковном хоре. Набожная женщина хранила фотографию отца Димитрия и рассказывала детям, что приходилось батюшке служить службу в степи или в поле. И каждый раз на новом месте. Так же собирались и в домах прихожан.
«Тяжко было, но батюшка сохранял бодрость духа, был прост, разговорчив, ко всем относился одинаково хорошо, а если кто не придет на службу — так, Боже сохрани, сам домой пойдет. За каждого болел. А доброты у него было много и мы за ним тянулись» — осталось в памяти Евдокии Стесенко.
Отец Димитрий оставался духовным отцом многих своих чад. Он не отошел от церковного служения, как это сделали шесть пастырей его благочиния, уйдя на светскую работу бухгалтерами, рабочими, служащими и даже отрекались от Бога через газету. Он один остался верен своему пастырскому призванию, хотя не раз ему говорили, что это опасно, он отвечал: «Мне это благочиние вручил Господь через епископа, всегда служить — мой пастырский долг, а трудно сейчас всем».
Батюшка не думал уходить из села, его детей забрала тётя Мария в Днепропетровск. Но обстоятельства складывались по-иному…
Память Ивана Стовбуна донесла до наших дней следующее: «Мой отец, Иван Стовбун, секретарь сельского совета, был дружен с отцом Димитрием ещё с молодости.
Мы жили рядом, по-соседски. Он с дочерями часто приходил к нам летом. Жарко, а он подрясник никогда не снимал. Мама напекала огромную кастрюлю пирогов с капустой, вишнями, у нас корова была — молоко, сметана, и мы, дети, целый день таскали их.
Однажды моего отца вызвали в райком партии и предупредили, что за дружбу со священником его выгонят с работы и лишат партбилета.
Предупредили, так как уважали: отец был командиром артиллерийского эскадрона в будённовской армии и очень этим гордился… Отец приехал и рассказал Тяпочкину, что такая обстановка сложилась. У отца была возможность сделать для батюшки две справки, что он житель села и бывший работник колхоза «Схид» («Восток»). Отец Димитрий не мог допустить, чтобы через него кто-то пострадал и вынужденно покинул село. На прощание он подарил нам большую икону «Спаситель в багрянице и терновом венце» и угольник к ней с датой 1910 г.
Это было в 1936 или 1937 году. Скоро по селу прокатились «чистки». Забрали бывших царских офицеров, больше из дворянского звания в селе никого не осталось».
1937–1938 годы массовых репрессий, в том числе священнослужителей. Иногда приходится слышать словно в упрек, почему такой подвижник как отец Димитрий не был арестован? Во всем есть Промысл Божий.
Ведущие специалисты по репрессиям из государственного архива Днепропетровской области, в частности директор Нина Киструская и ученые Днепропетровского национального университета едины во мнении: вопрос очень неодназначный и можно лишь догадываться почему не арестовали отца Димитрия Тяпочкина в 1937–1938 годах.
Возможны следующие причины:
— большое количество потенциальных врагов народа;
— не представлял особой угрозы, так как не имел публичной трибуны — своего храма, да что там храма, ему негде было головы приклонить — угла не имел;
— бывало, в каком районе всех священников арестовали (например в Новомосковском), а в каком
— вообще не тронули;
— просто не нашли, а на его место взяли другого -сначала брали, а потом фабриковали дела, главное было выполнить план.
Кем уходил из Сурско-Михайловки отец Димитрий Тяпочкин, фактически выдворенный из села? Нищим, с узелком в руках, со справкой отчисленного из числа колхозников. Кто возьмет на работу с такой справкой? На какую работу можно устроиться человеку, который «самовольно» покинул своё колхозное хозяйство? Как долго искал работу — мы не знаем. Но то, что бедствовал — точно. В 37-м осталось лишь его происхождение.
В 1937 году при массовых арестах духовенства, он арестован не был. Тогда были заключены в тюрьму Днепропетровский епископ Георгий (Делиев) и основная часть священнослужителей епархии, Для их осуждения было сфабриковано дело о возглавлявшейся епархиальным епископом «фашистско-повстанческой организации» из своих подчиненных. Но имя отца Димитрия среди «членов» этой «организации» было названо лишь одним заключенным и так вскользь, что даже в 1937 году это не послужило основанием для ареста.
В 1939 году, чтобы прокормить семью и помогать ближним, батюшка устроился через знакомых ночным сторожем на железнодорожном топливном складе в Днепропетровске. «Жил он, — вспоминает духовная дочь батюшки схимонахиня Ермогена (Денисенко), — у моей бабушки Пелагеи (она родная сестра Мавры) в селе Карнауховке, Днепропетровского района. Помню, батюшка молится и бабушка Мавра говорит: «Батюшка, скоро поезд», а он не торопится, все молится, перекрестится и идет на остановку, я не знаю, как он не опаздывал на пригородный поезд. На угольном складе отец Димитрий проработал год. Ночью в сторонке продолжал тайно совершать службы с преданными ему людьми. В это время жил он у нас на квартире в поселке Таромске, где и был арестован».
Из воспоминаний Марии Петриченко. «Когда нашу семью раскулачили и выгнали из хаты, мы пошли кто куда. Я с отцом после стольких скитаний попала в Новые Кайдаки (сейчас район Днепропетровска). Помог случай, и отец устроился сторожем в детский сад. В Кайдаках на угольном складе в 1937–1938 годах работал отец Димитрий. Откуда я знаю? Так говорил отец, я помню 1937–1938-е годы. Кем работал? Сторожем. Подводы уголь получали, а он стоял на воротах за охранника. Подметал двор. Мой батько — Петриченко Трофим Филиппович чем мог поддерживал батюшку (ведь копеечки свои все деткам батюшка отдавал), покормит там, троячку даст. И мы довольны, что Бог не оставил нас без духовного покрова. На работе быстро узнали, что он священник, он на дому причащал. Коммунисты его быстро выследили и забрали… После лагерей он приходил к нам домой, они много с отцом говорили. Когда отец спросил: «Отец Димитрий, за что Вас посадили?» — он ответил: «За то, шо Богу молился». Перед смертью он причащал моего отца и хоронил его»…
Евдокия Стесенко: «До войны мы часто ездили в город торговать диевом (молочным). Зашли к Надежде, сестре отца Димитрия, дочек проведать, гостинца передать. Вдруг в квартиру ворвались люди в военном и начали шастать по всем углам, заглядывать в шкафы и под кровать. Один стал заигрывать с дочерью. Она заступилась за барышню. Когда они вышли — мы посмотрели в окно, непрошеные гости садились в «воронок».
В Михайловке не было секрета, где ютился отец Димитрий, но не сдавали «своего». Почему? Он слыл в округе большим странником — одиночкой и бессребреником. Его крайняя чистота обескураживала злейших врагов церкви, а его любви не могли воспротивиться самые жесточайшие сердца.
…Однажды поздно вечером с поезда возвращался человек «икс». Этим поездом в село приехал отец Димитрий… Дорога — пару часов разговора. О чём говорили — не знаем. Но на другой день председателя сельсовета (а в ту пору человек «икс» уже «заслужил» эту должность) как подменили. Он не скрывал своей радости от разговора с батюшкой и к подчиненным относился доброжелательно».
Вспоминает Владимир Иванович Нечепоренко. Он как раз пришел в это время в сельсовет и был удивлен, как переменился председатель сельсовета.
В период с 1937 по 1941 год отец Димитрий выполнял все обязанности приходского священника в Сурско-Михайловке: совершал службы, крестил и хоронил людей. Удивляешься, как хорошо батюшка знал, что делается в селе. «Считал своим долгом проводить в последний путь сельских мужиков, не пропускал похорон. Всегда долго отпевал, шёл пешком на кладбище, читал молитвы всю дорогу, на перекрёстках останавливался», со слов Параскевы Сахновской.
Последний приезд отца Димитрия в село в 1941 году при наступлении немцев хорошо помнят две женшины. Одна из них — Нина Резник. «Лето 1941 года выдалось дождливым. Мы жили на озёрах, вода подступала к порогу, и наше занятие с сестрой было следующее: выметать метлой жаб со двора. За этим занятием нас застали дочери отца Димитрия — Нина, старшая, серьёзная, Люда — балакучая… Бабушка нас кормила на улице, а в хату запретила заходить. Там она потчевала отца Дмитрия. Он с моим дедом — Андрианом Дмитренком — регентом хора, родычалися давно. Потом тихонько пели что-то церковное…»
А вот что вспомнила Мария Руденко. «Я вышла замуж в войну. Попала в семью Турочкиных Терентия и Домахи — это родители моего мужа. Люди набожные, у них вера не от людей, а для Бога. Они во всем слушались наставлений отца Димитрия, которого называли боголюбивым. Батюшка в войну ночевал у нас и я стелила ему постельное белье. Мой свёкор Терентий служил псаломщиком при батюшке».
Весть о том, что отец Димитрий побывал в селе, облетела приход. Он не боялся немцев, не скрывался от своих. Нина Резник говорит, что бабушке нельзя было выйти за калитку. Бабы облепили её со всех сторон «Ольго, а правда шо Димитрий був?»
Отец Димитрий был праздником в будничной крестьянской жизни. Потом был арест. Соседка Анны Литвин в Днепропетровске, проходя мимо тюрьмы, разглядела за оградой батюшку. Людей там было много, но батюшка выделялся — был бледен и печален.
«Люди плачем встретили весть об аресте отца Димитрия. Так за чужими не плачут» — заметила Мария Руденко.
Когда немецкие войска наступали, НКВД подбирал всех, кто был в списках «неблагонадежных» ещё с репрессий 1937-38 гг., но батюшка по каким-то причинам не был арестован. Возможно был донос, возможно, отец Димитрий как-то себя обнародовал, но скорее всего он был взят при «зачистке территории». Эта пресловутая «зачистка территории» в июле 1941 года в Днепропетровске шла полным ходом. Кроме НКВД работали и «тройки». 5 июля арестован отец Димитрий, 9 июля началась бомбежка Днепропетровска. Батюшке относительно «повезло» — его брали не «тройки». А вот другого священника, по имеющимся документам, арестованного 7 июля «тройкой» сразу же расстреляли. Ввиду режима военного времени.
В 1941 году, в связи с быстрым наступлением немецких войск, были сформулированы новые предписания для выявления лиц, подлежавших аресту. Одним из них было не великорусское происхождение. Отец Димитрий родился, как известно, в городе Новый Двор Варшавской губернии, это стало достаточным основанием для репрессии. Арестован он был в «последний момент», когда немецкие войска подходили к Днепропетровску, и городская тюрьма эвакуировалась. Это было еще милостиво, в Киеве советские власти не утруждали себя заботой о заключенных, а просто всех, находившихся в тюрьме, расстреливали прямо в камерах.
Следствие по делу отца Димитрия проходило в июле-августе 1941 года. Но уже в начале августа начались бои за Днепропетровск.
Все управленческие структуры области, в том числе и областной суд, были переведены в город Павлоград, который был оккупирован на полтора месяца позже Днепропетровска (11 октября 1941 года).
15 августа 1941 года отец Димитрий был осужден областным судом по ст. 54-10 ч. I. Спешили так, что получилось несоответствие между статьей УК и характером преступления. Инкриминируемая статья звучит как антисоветская агитация.
В чем обвиняли? «…являлся организатором нелегальных церквей в селе Тритузном и Диевке, где по день ареста проводил нелегальные молитвенные собрания», а также «за участие в антисоветской повстанческой организации, куда был «завербован» архиепископом Днепропетровской епархии Георгием (Делеевым). Подвергнуть к лишению свободы в далеких местах заключения сроком на 10 лет».
Суп проходил в процессе эвакуации и состоялся в городе Павлодаре. Ему предъявили обвинение в том, что он, «являясь организатором нелегальных церквей в селах Тригуном и Дневке, по день ареста проводил нелегальные молитвенные собрания, за что получал от собравшихся лиц определенное вознаграждение…». По итогам рассмотрения дела отец Димитрия оказалось, что такое «преступление» не может быть основанием для заключения, что никакой вины заштатного священника не обнаруживается. Защитник настаивал на его освобождении. Получалось так, говорил он, что обвиняемый осуждается за то, что «удовлетворял насущные религиозные потребности верующих». Осудил» человека по такому обвинению было невозможно. Тогда и было поднято дело 1937 года и найдено упоминание имени отца Димитрия. Вместо освобождения, согласно приговору Днепропетровского областного супа от 15 августа 1941 года, он получил 10 лет заключения в отдаленном ИТЛ (и 5 лет поражения в правах), причина которого не была ему объявлена.
«Тяжелый и незаслуженный приговор! Вопрос: за что? — меня тяготит и мучит с момента произнесения приговора и по настоящее время», — писал отец Димитрий через 12 лет. Перебирая возможные причины осуждения, он был склонен искать обстоятельства, оправдывавшие жестокость суда: он предполагал, что обстановка эвакуации не давала суду времени вынести справедливое решение, «Правосудие не могло уделить мне должного внимания к оправданию меня».
Мы располагаем копией уголовного приговора, которая хранится в областном апелляционном суде. Следы уголовного дела находим в длинной цепи судопроизводства. А где же само уголовное дело (камень преткновения канонизации архимандрита Серафима). Его нет.
…Через 2 дня после суда, 17 августа 1941 года, немцы были уже на подступах к Днепропетровску, и маловероятно, чтоб уголовное дело доставлялось в Днепропетровские архивы. В настоящее время дело отца Димитрия в архивах не значится. Куда были эвакуированы областные архивы из Павлограда? Вернулись ли они обратно? Может быть на начальном этапе эвакуации архивы были уничтожены?
Куда бы дело ни ходило, оно должно было бы вернуться по месту осуждения — так сказал ведущий специалист по репрессиям из государственного архива Днепропетровской области. Но дела нет в области, значит, оно не существует.
Историки могли бы проследить на каком этапе оно уничтожено, но, увы, ведомственные архивы, в частности архив СБУ (Службы безопасности Украины), для них закрыт. Из соответствующих же органов один ответ: «не известно… не выявлено…». Получается, что уголовное дело священника Димитрия Тяпочкина не существует вообще и нет документов, что оно уничтожено. Только за последние 7 месяцев в СБУ Днепропетровской области было направлено три обращения: облгосадминистрашш, духовенства Павлоградского района и Днепропетровской епархии с просьбой помочь выявлению местонахождения уголовного дела репрессированного отца Димитрия Александровича Тяпочкина. Эти обращения свидетельствуют о том, что людям далеко не безразлична судьба великого подвижника XX века архимандрита Серафима (Тяпочкина). Этот дивный старец почитаем не только в России, но и на Украине. Вопрос канонизации — это всего лишь вопрос времени. Будем уповать на милость Божию.
Но вернемся в Сурско-Михайловку, в 1941 год. Из воспоминаний Михаила Бессараба. «После ареста отца Дмитрия село осиротело. В нем стало как-то неуютно, грустно. Обласканные любовью батюшки, люди вдруг поняли, что они потеряли его на долгие годы. Но огонек православия горел, как и горела надежда в сердцах простых людей на возвращение духовного наставника и доброго пастыря в свой приход»
Более двух лет в селе хозяйничали немцы. Большой разрухи в селе не было. Они открыли две церкви — славянскую и украинскую.
…На следствии отцу Димитрию перечислили все тайные места его служения, начиная с 30-х годов. В 1941 году по статье 54 Украинского Уголовного кодекса он был осужден на десять лет. Три дочери батюшки, двадцати, восемнадцати и пятнадцати лет, остались с его духовной дочерью Маврой. Крестный путь отца Димитрия начался в степном лагере при городе Джезказган одном из казахстанских ГУЛАГов[17].
Вместе с отцом Димитрием за ним по этапу в ссылку последовали три его прихожанки из села Михайловка. Две из них там и умерли. Долго никто из родных не знал о нем ничего. Но он непоколебимо верил в благой Промысл Божий о каждом человеке, в покров Царицы Небесной над каждым из нас, безропотно и мужественно переносил страдания все долгие годы заключения. Когда его однажды спросили: «Батюшка, били ли вас в лагере?» — он с кротостью ответил: «Чем я лучше других? Что всем было, то и мне. Я рад, что Господь сподобил меня пострадать вместе с моим народом и потерпеть сполна все скорби, которые не единожды выпадали на долю православных. Всю свою жизнь я благодарен Богу, что никогда не оставался в стороне от трудностей тех лет… Горе и лишения, которые происходят с нами, надо принимать как милость от Бога».
В лагере, в нечеловеческих условиях тюремного барака, где теснота, злоба, драки, отец Серафим чувствовал себя как в пустыне. Он не боролся за власть, за влияние, за лишний кусок хлеба, за лучшее место; ему не надо было ничего. Как преподобного Онуфрия в пустыне волосы, выросшие на теле, защищали от холода и зноя, так благодать Божия защищала отца Серафима от озлобления и обид. Во всех бедах и напастях он оставался спокойным и смиренным, прощая людям их пороки и грехи.
Часто заключенным целыми ночами не давали спать. Не успевали они заснуть, как врывались в барак охранники и кричали:
— Подъем! На улицу, строиться!
Люди, застегиваясь на ходу, выбегали из тепла в дождь и ветер, а там, на тюремном дворе, их ждало одно мучительство:
— Лечь, встать, лечь, встать!
И приходилось всем, молодым и старым, больным и изможденным, падать прямо в грязь, в лужи. Поиздевавшись, охранники давали команду «отбой», и только люди начинали приходить в себя и согреваться на своих арестантских койках, как опять раздавался крик:
— Подъем, строиться!
И так до утра. А утром надо было идти на тяжелую работу.
В Казахстане погибло много священнослужителей, архиереев, верующих мирян и монахов. Советская власть вела массовые уничтожения людей самых различных профессий, национальностей, разных народностей и вероисповеданий. Был расстрелян и бывший ректор Холмской семинарии Серафим (Остроумов)[18], который стал к тому времени архиепископом Смоленским. Ныне прославлен в лике святых.
О своей лагерной жизни отец Серафим рассказывать не любил, но от его родственников известно, что, будучи в лагере, он продолжал свое пастырское служение, как верный пастырь Христовой Церкви: вел беседы с заключенными, крестил новообращенных, исповедовал, отпевал умерших и один раз даже венчал. Пел хор из сокамерников, которых подготовил сам батюшка. Епитрахилью служили два сшитых полотенца с вышитыми на них крестами. Все это строго запрещалось лагерным начальством, и за нарушение полагался карцер, из которого можно было и не выйти. Поэтому служба совершалась в строжайшей тайне, в тайге, там же велись духовные беседы.
В эти лагерные годы отец Димитрий чувствовал, что он, как чаша, постепенно, по каплям, наполняется благодатной любовью к Богу и ближним. А вместе с тем сердце его напитывалось простотой и детской незлобивостью. Это чувствовали в общении с ним заключенные, даже уголовники, и проникались к нему доверием. Они оберегали этого святого для них узника, установив для него особую охрану.
Однажды отец Димитрий пробрался в сельский храм и, войдя в алтарь, признался батюшке, что он священник, из заключенных, и желал бы причаститься. Перед причащением настоятель храма объявил о необходимости известить о его посещении начальство. За это прибавляли срок, но отец Димитрий ответил: «На все воля Божия». И настоятель нашел в себе мужество не заявлять о случившемся. После освобождения отца Димитрия он приезжал в Днепропетровск навестить батюшку.
После десяти лет лагерей, перед освобождением, начальник лагеря спросил отца Димитрия: «Что собираетесь делать на свободе?» Отец Димитрий ответил: «Я священник, служить намерен». «Ну, коль служить, — рассудил следователь, — тогда посиди еще». Предлагалось тихо уйти от Христа. Скажи он тогда: «Где-нибудь устроюсь. Найду какую-нибудь работу»… Но отец Димитрий повел себя как мужественный исповедник, готовый умереть за Христа. Он не искал страдания, а согласился на него. Он горел желанием возвратиться в родные места, к детям, к любимой пастве, но он оставил все, чтобы следовать за Христом, Которого любил больше всего на свете.
Отцу Димитрию добавили пять лет, отправив в ссылку в Красноярский край, на полустанок Денежек, возле Игарки.
Как-то к началу суровой зимы отец Димитрий оказался без средств и работы. Усердная молитва к Богу о помощи, любовь к своему пастырю духовных чад и на этот раз спасли его от неминуемой гибели. В последние годы своей жизни батюшка делился со своими духовными чадами пережитым в те годы: «Если бы не посылки от знакомых из Днепропетровска, я бы умер с голоду». Из рассказа отца Валерия Бояринцева и схимонахини Ермогены (Денисенко) известно, что у отца Серафима были преданные ему духовные чада из Михайловки: Агриппина, Ольга, Стефан, Мария и Анастасия, еще с 30-х годов знавшие батюшку, помогал ему и врач-рентгенолог Адриан Михайлович Одынецкий, который отправлял ему в ссылку продукты и вещи.
Разные люди по-разному относились к насильственному разрушению их жизни, обреченности на ничем не заслуженные «наказания»: унизительные и бесчеловечные условия заключения, несение непосильной трудовой повинности. Кто-то терпел и исполнял требуемое, а кто-то протестовал, бойкотировал, вступая в конфликт с начальством и подвергаясь новым страданиям. Как же вел себя в лагере отец Димитрий? Документы говорят о том, что за годы заключения он не «получил ни одного взыскания, имел право бесконвойного хождения. За хорошее поведение и хорошие показатели в работе ему выносилась благодарность начальства лагеря с занесением в личное дело». Отец Димитрий был даже участником слета стахановцев-ударников, получал премии, пользовался зачетами, благодаря которым был освобожден на 69 дней раньше срока.
Это кажется удивительным. Чем объяснить такое «исправное» прохождение лагерных обязанностей, усердие в их исполнении? Желанием оградить себя от больших притеснений и бед, душевным сломом или чем-то другим? По плодам заповедано нам судить о древе, об источнике, питающем их. Плоды пережитого насилия бывали разными: — очень многие люди вернулись из лагерей с навсегда искалеченной душей, немногие — в силе духа. Последнее невозможно было без помощи благодати Божией, соприсутствие которой всегда было явленным свидетельством совершавшегося сокровенного духовного подвига. Широко известные духовные дары, раскрывшиеся, просиявшие в старце архимандрите Серафиме, являются зримым свидетельством того, что был он человеком высокой сокровенной духовной жизни. Видя, какой Промысл Божий о нем, батюшка не возроптал, но «подклонился под крепкую руку Божию», принял возложенный на него крест и со всем усердием понес его перед очами Божиими. Он не примирился с окружавшим его злом, противостоял не каким-либо людям, а тому источнику зла, который руководил этими людьми, противостоял по евангельски — кротостью. Ибо кроткие наследят землю, и только за напрасное осуждение, по слову Евангельскому, ожидает нас награда на Небесах. Ценой каких усилий стяжал он эту добродетель, и что он в лагере пережил, осталось сокрытым.
Как только встретили Победу, стали искать своего батюшку через сестер Тихвинского монастыря, открытого в 1942 году. Узнав адрес, стали переписываться, слать ему посылки.
Из воспоминаний Валентины Савченко. «Моя бабушка Агриппина была духовным чадом отца Дмитрия. Так же помню то время, когда нельзя было в слух произносить имя священника. Вечерами бабушка занавешивала рядном окна и они тихо, вместе с сестрой, молились, просили, чтобы Господь укрепил их наставника.
Так же в ссылку отправляли посылки. Запомнилось, что отправляли яблоки, просверливая дырки в посылочном ящике, а так же теплую одежду…»
Со слов Раисы Суховой. «Люди в 1947 или 1948 году посылали ему передачи в лагеря. Коржики пекли, лук клали, кусочек сала. Все надеялись, что отец Димитрий вернется. Моя мама — Ефросинья Юрко благоговела перед этим батюшкой и всегда молилась о нём».
Пребывание отца Димитрия в лагере должно было окончиться 26 апреля 1951 года. Но освобожден он был только через месяц. Очередной неожиданностью для него явилось то, что окончание срока лагерного заключения вовсе не означало освобождения. Согласно распоряжению лагерного начальства, «по истечении наказания Д.А. Тяпочкин этапируется в тюрьму МГБ г. Красноярска… для направления в ссылку». В приговоре 1941 года о ссылке речи не было, дополнительным наказаниям во время заключения священник также не подвергался. Причина ссылки отцу Димитрию была совершенно непонятна, он не мог знать, что была она следствием того же вымышленного обвинения 1941 года — участие в «антисоветской повстанческой организации» в 1937 году. На дорогу в Красноярск отец Димитрий получил продовольствие на трое суток, начиная с 2 июня, а ехал 19 дней…
В Красноярске он поступил в распоряжение 9 отдела УМГБ и отправлен был в ссылку в Игарский район, станок Денежкино, куда добрался 25 июня. Сразу выяснилось, что в этом поселении имеется лишь один рыболовецкий колхоз. Поскольку лагерные труды не остались без последствий, отец Димитрий был слаб и болен, никакой подходящей работы найти он не смог. Это означало голодную смерть. Через месяц такой жизни, без обвинений и возмущения, он начинает обращаться к начальству. 21 июля 1951 года отец Димитрий написал прошение местному коменданту МГБ, объяснял ему, что остался безработным, и просил не облегчить условия, а перевести в любой другой станок, находившийся в ведении этого коменданта. Объяснял ему (будто тот не знал!), каковы его обстоятельства. Резолюция гласила «отказать за отсутствием основания». Незамедлительно с отца Димитрия была взята подписка о невыезде с места жительства с угрозой, в противном случае, подвергнуться заключению в концлагерь на 25 лет.
Отец Димитрий смертельно скорбел. Его мог утешить только Господь. Поэтому душа его вспоминает в эти тяжелые дни гефсиманский подвиг Иисуса Христа. Только самым близким душам он мог поведать в письме из уз тайну своего страдания. Сохранилось письмо того времени, адресованное батюшкой своей духовной дочери:
«Совершишася, и паки голгофа, и паки Крест
Дорогая дшерь моя, незабвенная Мавро!
Душа моя скорбит смертельно. Воспоминая гефсиманский подвиг Христа Спасителя, нахожу утешение в своей скорбящей душе. Скорблю, скорблю тяжело, скорблю о себе, скорблю о детях, сродниках своих, скорблю о пастве своей, скорблю о чадах своих духовных, скорблю о любящих, помнящих обо мне и ожидающих моего возвращения ныне. Но совершилось то, о чем я горячо и усердно молил Господа: да мимоидет от Мене чаша сия (Мф.26:39).
Я горел желанием возвращения в родные места, желанием видеть родных, дорогих и близких, но, увы, получил назначение на жительство в Красноярский край. После долгого и утомительного железнодорожного и водного пути достиг я тихого пристанища у далеких берегов реки Енисей, где и … ныне[19]. Здесь рыбный промысел и небольшое хозяйство. Здесь я должен трудиться и от трудов своих себя питать и одевать. Старость моя не приспособлена… к таковой жизни (я не от мира сего ведь)… крайне смущают меня. Притом в настоящее время я без средств. Приближается зима суровая и продолжительная.
Да будет воля Твоя.
Верю, что Господь везде и всегда со мною — служителем его. Верю, что Он не оставит меня. Уповаю, что в любви своей, которая николиже отпадет, и вы не забудете меня — пастыря своего, полагающего за овцы душу свою. Однако боюсь быть в тягость вам, дети мои дорогие. Простите и не осудите, чадо мое возлюбленное Мавро! Как апостол Павел имел в скорби своей ученика — апостола Тимофея, так и я — тебя. Посети моих благодетелей — деток моих духовных, направь стопы свои к возлюбленной о Господе Катерине Никаноровне… — Днепропетровск, ул. Производственная, № 3. Прочитайте вместе послание сие, пролейте слезные молитвы обо мне и решите вопрос утоления скорби моей. Господь Милосердный и Его Пречистая Матерь со святыми да хранят нас!
Усерднейше прошу у всех молитв святых и прошения!
Дорогих моих Стефана Васильевича и Анастасию Иоанновну с … семейством, Ольгу, не забывающую о мне, тебя, Мавро[20], верную сподвижницу келии моей, Екатерину, возлюбленную во Христе, и всех … своих благословляю …
Всегда ваш, всегдашний молитвенник ваш, ваш скорбящий пастырь отец Димитрий.
Мой адрес: Красноярский край, город Игарка, Игарский район, полустанок Денежек».
Спустя годы на вопрос внука, почему у батюшки хроническая простуда, отец Серафим поведал следующее. Везли их ранней весной в ссылку. Буксир тянул баржу с заключенными. Узников партиями по пятьдесят человек высаживали на берег по пути следования. Кругом тайга, места незнакомые, все разошлись. Отец Серафим заблудился и не мог отыскать дорогу к лагерю. В поисках дороги прошел день, настал вечер, в тайге было холодно, лежал глубокий снег, от реки тянуло сыростью. Стемнело. Вокруг выли волки, двигаться не было сил. «Продрогший, совсем обессиленный, превозмогая боль, я встал на колени и с глубокой верою горячо помолился Господу, Владычице, Святителю Николаю — моим небесным заступникам. Сам не знаю, сколько продолжалась молитва и как я оказался в десяти шагах от людей, сидящих у костра на территории лагеря». Так чудесным образом Господь сохранил своего избранника.
Наступил 1953 год. После смерти И.В. Сталина, в пору хрущевской «оттепели», начали пересматривать дела репрессированных, реабилитировать замученных и расстрелянных. Однако священнослужителей оправдывать не спешили. Многие из них все еще оставались в лагерях и ссылках.
Схимонахиня Ермогена (Денисенко), духовная дочь отца Серафима, вспоминает: «Когда отец Димитрий был в ссылке и ходил без конвоя, он заходил в храм. Священнику храма было откровение во сне: без сомнения возьми его к себе, и он будет сослужить тебе. «Я зашел в церковь, — рассказывал батюшка, — как заключенные: в телогрейке с лагерным номером. Встал на паперти. Вдруг вышел священник, подошел прямо ко мне и сказал: «Батюшка, идите в алтарь, облачайтесь и служите». Я был поражен, но без малейшего смущения пошел и сослужил ему в Пасхальную ночь. От радости я не знал, где нахожусь — на небе или на земле, ведь четырнадцать лет…» — батюшка заплакал. «И он не сказал, и я не спросил, — продолжал он, — как он мог, не зная меня, взять сослужить. Утром в лагере стало известно, что я сослужил в храме».
Отца Димитрия вызвали к лагерному начальству и потребовали, чтобы он письменно отрекся от Бога. «Нас, всех верующих, собрали — рассказывал батюшка, — и принуждали подписать отречение. Но этого не произошло. Вскоре нас сослали». Я спросила, куда их сослали (все время, пока он рассказывал, я плакала). Он ответил: «Деточка, туда, где белые медведи… Везли нас водой, затем выбросили на берег, где только небо, снег и лес. Слава Богу, что я с детства приучился кушать понемногу. Съем крошечку с молитвой и подкреплюсь, а другие от недоедания, как мухи, умирали. Я был очень слаб, настолько слаб, что не мог ничего поднять. Видя, что я такой слабый и худой, мне вручили в руки палку и сказали: «А ты, поп, сторожи лес, чтобы его не украли». А кто его может украсть? Я понял, что обречен на гибель, на растерзание зверям… И вот когда я увидел, что на меня идут медведи, я поднял два креста — один большой, другой поменьше. Стою с этими крестами, медведи подошли совсем близко ко мне и остановились. Посмотрели на меня, стали озираться по сторонам и ушли. Так что крестами я спасся». Одним из этих крестов я благословляю тебя на твою жизнь, а другой оставляю себе». (Матушка Ермогена подошла к иконостасу, взяла небольшой, сантиметров десять-двенадцать, деревянный крест и подала его мне. Я с благоговением его поцеловал. — Автор).
…Как он прожил еще полгода без средств существования, неизвестно. 21 февраля 1952 года отец Димитрий обращается с прошением к министру Госбезопасности СССР о переводе в другое место, в котором пишет с удивительным священническим достоинством:
«…Я — священник Православной Патриаршей Церкви, окормляемой ныне Алексием, Святейшим Патриархом Московским и всея Руси, и хочу, подобно ему, трудиться на благо Родины, и могу быть полезным для Нея, здесь же проживаю как инвалид.
На месте настоящего моего жительства один лишь всего рыболовецкий колхоз. По преклонным летам своим и слабому состоянию своего здоровья посильной работы здесь для меня нет. Собственных же средств к жизненному существованию не имею никаких. Посему обращаюсь с убедительнейшей просьбою дать мне право проживания хотя бы в Сибири, но в каком-нибудь городском или районном центре, где я мог бы для своего существования найти для себя соответствующую службу».
Резолюция последовала через 2 месяца: «Заявление оставить без удовлетворения, так как Сибирская область не является местом ссылки». При ее оглашении в комендатуре со священника вновь была взята подписка о невыезде.
Дочь отца Димитрия Антонина пыталась помочь голодающему отцу. Но посылки в Игарскую область не принимали. Тогда она обратилась с заявлением к И. М. Швернику с просьбой перевести отца Димитрия в европейскую часть страны.
Но ей было отказано на том основании, что названные ею территории не являются местами ссылок.
Прошла первая зима отца Димитрия в Сибири. По милости Божией батюшка выжил. Многие ссыльные, оказавшиеся в таком же безысходном положении, просили начальство МТБ о заключении их в концлагерь: там хоть чем-нибудь кормили, а в ссылке ели кору и траву… Но Бог милостив, и еще спустя некоторое время для священника все же нашлась какая-то работа в колхозе. Хотя появились средства существования, но жизнь одинокого батюшки оставалась тяжелой.
Шло время, и еще через год отец Димитрий послал третье обширное прошение — Председателю Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилову. Подробно описав историю своего осуждения и свою жизнь в станке Денежкино, он просит о пересмотре дела и оправдании: «Дорогой Климент Ефремович! Обращаясь к Вам, я верю, что просьба настоящая не останется гласом вопиющего в пустыне, что Вы чутко отнесетесь, обратите Ваше внимание на мое вопиющее дело, снимите с меня ту моральную скорбь, которая тринадцатый уже год тяготит и мучит меня, и верните меня к детям моим и в семью великой нашей дорогой Родины». Ответ пришел и был объявлен отцу Димитрию 11 сентября следующего 1954 года. Содержание его осталось неизвестным, зато известно, что в тот же день с него взяли очередную подписку о невыезде.
Наконец, наступил день окончания ссылки. Неизвестно, что последовало бы потом, но времена изменились, судьбы Божии вершились над всей многострадальной Россией. 19 января 1955 года чудом выживший протоиерей Димитрий Тяпочкин был освобожден, так как «меру наказания отбыл полностью».
Испив полную чашу скорбей, «мужем совершенным», он вновь был призван Богом к священнослужению и поставлен на служение более трудное и более высокое, чем исполнял ранее. Оно вновь требовало от него ежечасного подвига, который он самоотверженно, кротко и усердно совершал до конца своих дней.
К приснопоминаемому старцу, архимандриту Серафиму (Тяпочкину), вполне можно отнести слова Деяния Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2000 года о соборном прославлении новомучеников и исповедников российских XX века: «Боголюбивая Полнога Русской Православной Церкви благоговейно хранит святую память о жизни, подвигах исповедничества святой веры и мученической кончине иерархов, священнослужителей, монашествующих и мирян. <…>
Терпя великие скорби, они сохранили в сердце мир Христов, стали светильниками веры для соприкасавшихся с ними людей. Будучи столь стесняемы внешними обстоятельствами, все встречавшиеся испытания они переживали с твердостью и смирением, как это подобает каждому подвижнику и делателю на ниве Христовой».
Возвращение из ссылки.
Если пребудете во Мне и слова Мои в вое пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам.
(Ин.10:11)
В 1955 голу отцу Димитрию отменили ссылку. Внук отца Серафима, диакон Димитрий Тяпочкин, вспоминает: «Мама рассказывала, что после смерти Сталина (1953 г.) родственники решили начать розыск дедушки. Дядя Юра, как самый смелый, возглавил это дело. Все прошли войну, были при чинах и при орденах и медалях. Эго добавило смелости, и они обратились к Берии с запросом о судьбе отца, арестованного в 1941 году. Прошло около полугола, и их вызвали в Москву. Они прождали в приемной министерства целый день. Никто не обращал на них внимания и не давал ответа, кроме: «Ждите». Напряжение было очень сильным. Дядя Юра вспоминал: «Было такое ощущение, что больше мы отсюда не выйдем, нас арестуют». Только вечером их приняли. Выслушали, обещали помочь. Потом сообщили адрес места заключения и сказали, что дело пересматривается. Когда дедушку освободили, дядя Юра его встречал. Прибыл поезд — вспоминал он, — на перроне в телогрейке стоит худой старик с деревянным чемоданом, перевязанным веревкой. Я подошел к нему и спросил: «Вы отец Димитрий?», а он мне в ответ: «А вы — Георгий?» Так дедушка впервые увидел мужа своей младшей дочери Антонины.
В то время, чтобы создать у народа иллюзию благополучия, заключенных иногда отпускали на волю, если их разыскивали родственники. Но дедушку освободили только через несколько лет. В Днепропетровск он возвратился очень больным человеком: у него были отбиты легкие, поражены все внутренние органы, весь простуженный, с постоянным удушающим кашлем.
Мама вспоминала ту первую встречу. Она очень волновалась, теряла сознание, все происходило как во сне. Прижалась к отцу и не могла разжать руки. Очнулась на диване. Отец сидел рядом успокаивал. И только к концу дня немножко пришла в себя. Мама говорила, что на войне она насмотрелась на уставших от тяжелой военной жизни людей, пораженных дистрофией. Дедушка мало чем отличался от них внешне, хотя и поразил всех своим спокойствием и решительностью, когда на вопрос: «Что делать дальше?»— ответил: «Конечно, служить Богу». Дети его просили: «Папочка, отдохни, подлечись. Люди все так же исчезают в «черных воронках». Мы так устали от прошедшей войны. Только тебя нашли, а ты опять от нас уходишь». На это он ответил: «Я всегда был с вами и буду вместе с вами, мои родные сиротки, всегда».
Из воспоминаний внука отца Серафима диакона Александра Пилепенко: …В 1955 году произошло событие, которое я запомнил на всю жизнь. Был теплый летний день, я со своими друзьями играл на улице. К нашему дому подъехал легковой автомобиль. Я догадался, что к нам приехала из Киева погостить бабушка Надя — родная сестра дедушки, отца Серафима. Я побежал домой. Бабушка приезжала к нам часто и всегда привозила нам, детям, гостинцы. В комнате я увидел как мама стояла, обняв незнакомого мне пожилого мужчину и сильно рыдала, а он успокаивал ее, стараясь усадить на стул. Эта сцена сильно взволновала меня, и я вдруг тоже начал плакать, понимая, что приехал к нам очень близкий и родной человек.
…Из письма родной сестры отца Серафима Марии 16 февраля 1955 года.
«Здравствуйте, дорогие мои, Ниночка, Людочка, Таиска,
Ванюшка, Мишенька, Юрочка и внучатки. Ура! Ура! Ура! Великая радость и счастье… Наш дорогой, горячо любимый братик, а ваш — папочка, освобожден. Печаль нашу Господь Милосердный обратил в радость. Сегодня, 23 января (видно, по с.т. стилю), в сей священный день пишет вам папочка, получено телеграфом известие о его освобождении и о направлении меня за документами в город Игарку. На днях выеду за документами и в последующем письме сообщу, когда выеду к вам. …Жду! Жду! Жду! С великим нетерпением жду (вашего. — Авт.) папульку. Получили ли мои письма? Целую всех крепко! Любящая вас Г. Маруся. Как я счастлива и рада. Ура!»
…Это была первая встреча дедушки со своей старшей дочерью Ниной после 15-летней разлуки, пребывания в ссылках и лагерях. Но об этом я тогда ничего не знал. Нас, детей, не посвящали в эту семейную тайну. Лишняя информация, что мы родственники «врага народа», могла повредить нам в дальнейшем при поступлении в институт.
Этот эпизод встречи глубоко запал мне в душу. Когда я спрашивал маму «кто к нам приезжал?», она обещала рассказать мне обо всем, когда я повзрослею…
…Будучи студентом Киевского Политехнического института я неоднократно обращался к бабушке Наде (родной сестре отца Димитрия) с просьбой рассказать мне — кто же приезжал к нам летом 1955 года. Она мне пообещала, что мама мне все сама расскажет. И только через 13 лет, в 1968 году, после окончания 2-го курса института, нам с братом Димой рассказали, что приезжал к нам мамин родной отец, наш — дедушка, репрессированный в 40-е годы священник отец Димитрий.
…Вскоре мы с отцом и мамой поехали в Ракитное, где служил дедушка. Раньше мама тайно приезжала к отцу, когда он, после освобождения служил в Днепропетровске, а позже в Соколовке и Ракитном. В Ракитном отец Серафим и келейница монахиня Иоасафа жили в небольшом ветхом домике недалеко от церкви (сейчас на том месте стоит дом настоятеля храма отца Николая. — Авт.), в котором было 2 небольшие комнаты и коридорчик.
…В то атеистическое время я в храм не ходил и религией не интересовался. В школе и в институте нас воспитывали в атеистическом духе. Но душевная теплота и бесконечная любовь дедушки к родным и всем окружающим его людям потрясли меня. Наш отъезд после первой встречи с дедушкой был очень тяжелым, мы все плакали. Отец Серафим прочитал над каждым молитву и благословил нас в дорогу. Я помню, что у всех нас душевное волнение было настолько сильным, что никто не мог успокоиться. Все переживали расставание очень долгое время.
…Из письма отца Серафима.
«Дорогой и миленький мой Шурик! Пишу тебе, как любящий тебя дедушка любимому внуку. Считаю своим долгом дать тебе свое наставление. Ты всегда был внимательным к моим словам. Пусть и настоящее мое слово падет на сердце твое и принесет плод и для меня и родителей твоих. Всегда помни о них, воспитавших тебя и возлагающих надежду на тебя в приближающихся годах их старости. Кто может быть ближе тебе, как не они! Кому ты дороже, как не им! Утешь их своим сыновним отношением к ним. Отблагодари их за все их труды воспитания любовью и преданностью.
Помни, что родительская любовь незаменима никакой другой любовью к людям. Прошу тебя, будь таким, как был прежде в отношении их. Прислушивайся к их наставлениям, люби их и будешь счастливым в жизни. Благословляю, обнимаю и целую тебя как дорогого моего внука и, надеюсь, внемлешь словам моего наставления и утешишь родителей своих и меня, горячо любящего дедушку. О. С.
Полагаю, что тебе нужно устроиться по работе в Киеве; ближе быть к своим родителям и держать постоянную связь с ними. Надеюсь, дорогой мой, любимый Шурик, что послушаешься моего наставления…»
…Второй раз я приехал к дедушке самостоятельно в 1969 году в период зимних каникул. Дорога была сложной и утомительной. Я решил лететь из Киева в Харьков самолетом. Однако погода была нелетная. Я просидел целый день в аэропорту Борисполь, а вечером поехал на железнодорожный вокзал. Билетов не было, пришлось ехать в общем вагоне. Доехал до Харькова и далее до станции Готня и автобусом до Ракитного. В дороге очень устал. Наконец я оказался на пороге дедушкиной кельи. Дверь мне открыл Валерий Бояринцев, с которым я впоследствии много общался, сейчас он священник. От него я много узнал о церковном богослужении, святой Евхаристии и многом другом, что существенно повлияло на формирование моего православного мировоззрения.
…После долгой и утомительной дороги я попал в какое-то особенное место. В домике царила благодать Божия. Было тихо, спокойно, умиротворенно. В келье много икон. Большая икона преподобного Серафима Саровского, горящие лампады и фотографии святителей Православной Церкви.
…Вот уже много десятилетий после трудового дня, когда в голове калейдоскоп, вереницы мыслей и невозможно уснуть, я вспоминаю дедушкин домик в первый мой самостоятельный приезд и погружаюсь в состояние тихой радости и покоя. Вся мирская суета и проблемы куда-то исчезают, уходят на задний план на фоне Божественной благодати. Сердце успокаивается, разум светлеет и каждой клеточкой своего тела ощущаешь величие Божие и присутствие отца Серафима… К сожалению, приехать на похороны дорогого и любимого дедушки я не смог из-за болезни. Все мы очень переживали невосполнимую, тяжелую утрату. Я чувствую, что отец Серафим и сегодня, спустя 25 лет со дня кончины, рядом с нами, руководит нашей жизнью. До конца дней своих на земле я буду благодарить Бога за Его милость к нам, за посланного нам всем молитвенника и утешителя отца Серафима. Вечная ему память».
17 декабря 2006 года.
Пришло время, и отец Димитрий вернулся после ссылки в село Сурско-Михайловку.
Оляна Иванченко вспоминает: «Вернулся худющий, от ветра качается». Оляна Денисенко: «Как сейчас помню, была среда… Я воду тянула с колодца. Вдруг кричат: «Отец Димитрий, отец Дмитрий вернулся!»
Первым делом батюшка стал искать спрятанные на сохранение предметы для службы из алтаря и облачение. Люди, которым доверил хранение, вероятно уже ушли из жизни. Следы привели его в другой дом, где его радушно встретили.
Потом видели отца Димитрия возле фундамента своей новой недостроенной церкви. Он долго сидел на фундаменте и… плакал. Этот эпизод записал протоиерей Владимир Афонин, который служил в Сурско- Михайловке в начале 90-х годов.
Фундамент церкви, заложенный и освященный протоиереем Димитрием Тяпочкиным, — очередной повод для покаяния сурско-михайловцев. В облархиве хранятся несколько обращений жителей села с просьбой вернуть церковной общине фундамент и разрешить возвести храм. Писал их от имени громады в послевоенное время Онуфрий Соколенко — церковный староста. Отказали. Советская власть нашла ему иное применение: несколько сбитых досок — и готовая трибуна для митингов и демонстраций. И так на протяжении почти семидесяти лет.
Этот фундамент и сейчас стоит возле вновь возведенного здания церкви, которое задумывалось как крестилка. На фундаменте возвышается крест.
Жизнь в советском безбожном обществе наложила свой отпечаток на сознание людей. Это коснулось и прихожан церкви, которая к тому времени была устроена в сельском доме. Отец Димитрий не мог выносить корысти и лицемерия. Как-то по поводу размолвки в церковном хоре он обмолвился: «Михайловка та, а люди — не те…» — вспоминает Параскева Сахновская.
Отец Димитрий несколько раз уходил из села, а на приход присылали другого священника. Но прихожане разыскивали его и требовали у властей его возвращения.
Под духовное крыло батюшки стали съезжаться его духовные чада и те, кто нуждался в его духовном окормлении. Но увы, село отторгало чужих.
Александра Егорова говорит: «Появилась одна монахиня. Побыла, ей сказали, что пора и честь знать. Позже — еще двое. Собрали им кошелки с харчами и отправили подводой на станцию».
Вот таким своеобразным образом прихожане оберегали своего батюшку. У них был отец Димитрий, они ему верили безоговорочно, его молитвы действовали, а советы: «как скажет — так и будет»… К тому же, не хотели, чтобы ему чужие доставляли хлопот.
Из местных была только монахиня — Римма (Чичкань), насельница Свято-Тихвинского женского монастыря. Она после очередного закрытия обители вернулась в село, стала духовным чадом отца Димитрия. Пекла просфоры, раздавала их людям. До сих пор в селе пользуются одеялами, вытканными её руками.
Когда отца Димитрия перевели в Днепропетровский Свято-Троицкий собор, к нему приезжали его духовные чада, очень многие привозили детей. Когда батюшке уполномоченный по делам религии запретил служить в Днепропетровской епархии, отец Димитрий был принят в Курско-Белгородскую епархию, стал служить в селе Соколовка, а позже в селе Ракитном. Его духовные чада продолжали поддерживать с ним связь. Матушка Римма и Александра Якименко вели с ним переписку, организовывали поездки к нему. Люди передавали ему свои просьбы, и он молился о них.
Больше некому было молиться за михайловцев: село оказалось без священника, церковь разобрали, приход закрыли…
Похоронив на сельском кладбище матушку Римму, через некоторое время Александра Якименко выехала из села в Диевку (район Днепропетровска). С собой она увезла фотографии, письма отца Димитрия.
Связь с батюшкой прервалась. Эго было в конце 60-х годов. Но остается духовная связь, которая сохранилась и по сей день.
Ирина Бижко — учитель истории СурскоМихайловской средней школы (директор музея истории села) собрала очень дорогие для нас свидетельства событий, происходивших в селе после возвращения отца Димитрия из ссылки с 1956 по 1960 гг., которые мы поместили в нашу книгу.
«Старики и старушки молятся лику отца Димитрия на фотографиях, которые практически были в каждом доме. При упоминании о батюшке Димитрии светлеют лица стариков, и их душа раскрывается, а глаза влажнеют от слез», — говорит настоятель храма святых Первоверховных апостолов Петра и Павла протоиерей Сергей Махота.
Нина Бессараб: «В детстве у меня сильно болел желудок. Когда вернулся Батюшка из ссылки, мама понесла меня в церковь. Отец Дмитрий сидел за столом в притворе и что-то писал. Мама указала на меня, мол, врачи бессильны, лекарства не помогают. Он взял меня на руки и сказал маме: «Вера — самая большая сила человека. Она исцеляет». Отец Дмитрий читал надо мною молитвы, подарил маме молитвослов. А через неделю я была уже здорова. Сегодня я рассказываю об этом своим внукам».
Параскева Сахновская вспоминает: «В 1959 году пришла ко мне соседка Матрона и спросила: «Ты пойдешь покрестить моего внука?» Я конечно же согласилась. Ребенок был болен, тело его осыпано какай-то сыпью, родные уже и не надеялись на его выздоровление. Пригласили отца Димитрия домой. Крестя ребенка, отец Дмитрий узнал меня: «А я вас знаю, вы Василия Корнеевича дочь».
Мальчик, которого окрестил отец Дмитрий, поправился. Он приезжал ко мне уже взрослым мужчиной, а я подумала, что Василий мог бы умереть».
Александра Егорова: «Мы сошлись с мужем, когда батюшки не было в селе. Когда он вернулся, попросили его, чтобы освятил хату. После освящения он спросил: «Венчались ли?» Мы сказали, что нет. Батюшка оживился и сказал: «Становитесь рядышком, я вас обвенчаю» — и обвенчал нас».
Из воспоминаний Ивана Татары: «Мы с Ульяной Сережченко в 1955-м, то ли в 1956 году крестили у отца Димитрия ребенка кумы. Он сам готовил купель, давал наставления нам, крестным. После крещения вдруг спросил: «А кто ваши деды? Да, не родители, а именно деды». Я назвал деда Семёна. «Знаю, знаю, на рыбалку вместе ходили. Оказалось, что он знал ещё и другого деда — Ермолая».
Мария Горленко: «Перед Пасхой батюшка обходил каждый дом и молился за каждого. Это было правилом. Мать звала нас, детей, все мы стояли возле батюшки на коленях… Потом он кропил дом».
«Я его вижу и с ним разговариваю», — (бабушке за 90, прикованная к постели, зрение плохое).
Это батюшкино правило в селе помнят практически все, кому за шестьдесят лет.
Часто односельчане говорили между собой: «Положит яблочко отец Димитрий на угольник под иконой у себя дома — будет лежать до следующего Спаса. А уж крашенка — от Пасхи до Пасхи — как закон — говорит Олена Денисенко.
…Совсем недавно ученица 5 Б класса Вера Матынян принесла в школу грустную весть: «Умерла прабабушка Мария Руденко. За считанные минуты до смерти она вдруг стала вспоминать отца Серафима…Так и закончила свой земной путь с его именем на устах…»
Промыслительно, что именно со школы возрождается имя архимандрита Серафима. Замечательно, что память о нем живет для будущих поколений, в свидетельство о том, что жить надо по Христовым заповедям в любви к Богу и людям.
Радует, что наши дети, внуки и правнуки любят и знают батюшку. Они откликаются на просьбы, опрашивают соседей. Несут в школу фотографии, которые просят переснять. Принесли епитрахиль, разыскали большой крест, который передали в храм. Десятиклассницы Таня Кравченко и Катя Денисенко просят повезти их в Ракитное на могилу к батюшке. Девочки собирали материалы, они использованы в любительском фильме о батюшке «Начало» оператором Виктором Передернем.
Виктор Передернин говорит: « У Сурско-Михайловки богатейшая история. Её освятил своим присутствием архимандрит Серафим (Тяпочкин). И я не мог не откликнутся на просьбу школы и не запечатлеть очевидцев подвижнической жизни старца. Монтаж был сделан за считанные дни, как будто невидимая рука вела… Из огромного отснятого материала выбирался наиболее выразительный кадр. Робота над фильмом — повод задуматься о многом. Например, как тяжело больная мама, поднявшись с постели самостоятельно добирается в Сурско-Михайловку, поддерживает меня, я записываю её воспоминания. А когда кассета была передана в Ракитное — мама умирает у меня на руках…
…Я вдруг вспомнил, что видел батюшку. Мама привозила нас с братом крестить к нему. Помню, церковь в хате, народу полно, а в воздухе… плач. Понимаете, висит плач, другого не скажешь… Я не знаю хода службы, но вдруг все люди, как один, упали на колени. Мы с братом от страха подбежали к дверям. Старец вошел в нашу семью».
Надежда Колесник: «Лет десять назад в сельской поликлинике я услышала разговор о том, что Михайловку затопит. Ожидается наводнение. Передали предупреждение — надо собирать вещи. Все были взволнованы (сброс воды Днепродзержинского водохранилища предусмотрен в реку Суру), и лишь старая бабуля спокойно и твёрдо молвила: «Серафим не допустит» — «Саровский что ли?» — спросила дачница. — «Покровитель наш Михайловский — Серафим (Тяпочкин). Вин сюды навидуется. Я знаю про него все до ниточки». Вот было бы пойти к ней да записать. А это всего лишь крохи из истории богатейшей жизни великого человека.
Здесь начало его крестного пути. Здесь в тяжелейших условиях на шоу у народа он своей праведной жизнью воплощал Заповеди Господни. Духовное наследие старца архимандрита Серафима невозможно без опыта Сурско-Михайловки.
Он наш, мы любим его и помним, стараемся сохранить то, что еще можно сохранить для будущих поколений. Его любовь не оставляет Сурско-Михайловку, через десятилетия указывая дорогу к храму.
Односельчане собрали подписи и обратились в обладминистрацию с просьбой помочь в деле реабилитации отца Серафима. Соответствующий пакет документов был подготовлен Людмилой Борисенко (управление внутренней политики при обладминистрации). Низкий поклон ей, а также Орине Сокульской (заместитель председателя Днепропетровской областной администрации). Благодаря их усилиям, прокуратурой Днепропетровской области священник Димитрий Тяпочкин был реабилитирован 15 сентября 2006 года. Надеемся, что его имя войдет в сборник серии «Реабилитированные историей».
Семья Стовбунов на семейном совете решила передать большую Икону Спасителя Сурско-Михайловскому храму святых первоверховных апостолов Петра и Павла, но ей еще предстоит реставрация.
«Такой человек, как отец Дмитрий, по милости Божией может встретиться один раз в жизни» — говорит Параскева Сахновская.
Из воспоминаний Екатерины Танцюры: «Я давно ловлю себя на мысли, что сверяю свою жизнь по нашему любимому батюшке Димитрию».
Наш батюшка — архимандрит Серафим (Тяпочкин) — самое большое духовное сокровище Сурско-Михайловки…
Служение в Свято-Троицком кафедральном соборе в г. Днепропетровске
Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас.
(Ин.13:34)
В 1960 году отец Димитрий короткое время был настоятелем Свято-Троицкого кафедрального собора и епархиальным секретарем. В соборе тогда служили несколько священников. На их фоне отец Димитрий выглядел очень скромно: худой, больной, одет и обут плохо, все латаное-перелатаное. Он жил в домике при соборе. Стол, табуретка, кровать, на стенах несколько бумажных икон, ведро с водой в прихожей — вот и все удобство. Прихожане вспоминали, что они где-то раздобыли ему кое-что из одежды. Батюшка все примерил, поблагодарил, но на нем этой одежды никто не видел. Все лучшее, что у него было, он раздавал нуждающимся. Это был человек, который отдал бы последнее и притом со слезами просил бы принять. Часто, взяв у одного человека, он тут же отдавал другому. И благодарил обоих. Перевод в собор из сельского храма был для духовных чад батюшки радостным событием, но многих это настораживало. Было мнение, что в соборе легче найти повод, чтобы удалить батюшку из епархии. Но его служение здесь было недолгим. Власти видели в нем не сломленного тюрьмой и ссылкой пастыря, а ревностного проповедника Истины, горячо любимого паствой и потому опасного для них.
Из воспоминаний о том времени Любови Андреевны Колядиной (г. Никополь). «По воскресеньям батюшка обычно приходил на раннюю литургию (позднюю служили архиерейским служением). Люди теснились вокруг него, подходя под благословение. Через толпу ожидающих его он с трудом пробирался к выходу. Уже тогда отовсюду слышалось: «Это отец Димитрий, монах, человек высокой жизни». За много лет до пострига его называли монахом, зная о его поистине подвижнической жизни».
Вспоминает игумен Евстратий (Гайшун), насельник Успенской Почаевской лавры: «…К отцу Димитрию на исповедь всегда была огромная очередь. Но священникам не разрешалось оставаться в соборе после службы. Отслужили и разошлись. Поэтому отец Димитрий продолжал исповедовать тайно до поздней ночи на чердаке Свято-Троицкого кафедрального собора».
А.М. Одынецкий пишет: «…Однажды я зашел в собор после вечернего великопостного богослужения и увидел, что левый придел храма заполнен народом. Проходя далее, я увидел исповедующего отца Димитрия. Трудно представить, когда он закончил в этот день исповедовать. Сколько же времени может остаться для сна и отдыха после таких трудов? И люди, конечно, замечали и по достоинству ценили его усердие. За несколько месяцев пребывания в Днепропетровске он снискал уважение не только среди православных горожан, но и далеко за пределами города».
Отец Валерий Бояринцев вспоминает: «В то время Днепропетровский собор оказался без настоятеля, и вот епископ Иоасаф[21] (будущий митрополит Киевский и Галицкий) перевел отца Димитрия из села Михайловки настоятелем в кафедральный собор. Помню эти долгие исповеди до поздней ночи. Проповеди его были сердечные, проникновенные, трепетные. Все это заставляло многих плакать. Люди тянулись к отцу настоятелю, что не устраивало власти».
Инокиня Надежда Денисенко (в схиме Ермогена) рассказывала: «Когда закрыли Тихвинский монастырь в Днепропетровске, я приходила в кафедральный собор и помогала батюшке в необходимом… 7 июня, на Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна отец Димитрий говорил проповедь. Он приводил евангельское повествование о том, как дочь Иродиады, по наущению матери, просила дать ей здесь же на блюде голову Иоанна Крестителя. Отца Димитрия обвинили в том, что он будто сказал: «Как дочь Иродиады просила отрубить голову Иоанну Крестителю и подать ей на блюде, так нужно сечь головы у коммунистов».
Областной уполномоченный Совета по делам религий забрал регистрацию, дающую право на служение, и приказал ему в течение двух дней удалиться из Днепропетровской епархии. Изгнанник некоторое время жил и молился у прихожан.
Однако его выследили и выселили из города. Владыка Стефан[22], который очень сердечно относился к батюшке, по своим московским каналам выяснил, что можно восстановить регистрацию. Регистрацию восстановили, но без права служить в Днепропетровской епархии.
Назначение в Курско-Белгородскую епархию. Монашеский постриг
Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое.
(Пс.56:8)
Многие правящие архиереи в то время боялись брать к себе изгнанных священников, поэтому ничего больше не оставалось, как ехать к Святейшему Патриарху за благословением. С большой скорбью отец Серафим снова покинул родные места, где начинал свое пастырское служение. Целый месяц батюшка, ожидая приема у Патриарха, ночевал на вокзале. Но Господь не оставил Своего верного служителя. Скорбь его обратилась в радость. Наконец, уже получив назначение в Архангельск, в приемной у Патриарха Алексия I он встретился с владыкой Леонидом (Поляковым)[23], и тот пригласил его служить в Курско-Белгородскую епархию. Владыка Леонид безбоязненно принимал к себе оклеветанных, отверженных из-за их происхождения и прошлой жизни священнослужителей и постоянно поддерживал их. Владыка полюбил гонимого праведника и был рад, что Господь послал ему такого пастыря. У них все было общее: и дух, и мысли, и дела. Их служение было сокровенным, требовало обдуманных общих усилий, соблюдения предельной осторожности. Из-за постоянной слежки их многие встречи были тайными. Батюшка отправился в Белгородскую область, в деревню Соколовка Корочанского района, в храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, что примерно в сорока километрах от Белгорода.
Вспоминает схимонахиня Ермогена (Денисенко): «После закрытия монастыря мы, сестры, ездили к отцу Димитрию в Михайловку. Власти устроили на нас гонения. Мы ночью уходили, чтобы не навредить батюшке. Провожая, он обливал нас горькими слезами. Когда епископ Леонид пригласил отца Димитрия в КурскоБелгородскую епархию настоятелем Успенской церкви в селе Соколовка, я просила у батюшки благословения поехать с ним. Он мне ответил: «Деточка, куда я тебя возьму, это такая дальняя деревня, ты больная, мы поедем с инокиней Верой».
Так инокиня Вера осталась с батюшкой, помогала петь, читать, пономарить. Она очень болела, но по молитвам отца Серафима ее туберкулез «затих». Потом, когда они жили в Ракитном, она совершенно забыла, что болела. Так она стала келейницей отца Серафима, его постоянной спутницей. Впоследствии отец Серафим постриг келейницу в монашество с именем Иоасафа. Она оставалась помощницей отца Серафима до самой его кончины.
Отец Валерий Бояринцев вспоминает: «Я посетил батюшку в Соколовке, прожил недели две-три, близко с ним общаясь. В деревне была большая деревянная Успенская церковь. Я, как мог, обновил иконостас. Отец Димитрий радовался, что мы успели к Преображению. Молящихся было мало: немногие в те годы отваживались появляться в церкви. Но насколько же благостным было богослужение отца Димитрия! Начинал он часов в 6, а заканчивал в 2 часа дня. Он никуда не спешил, все делал очень тщательно».
Все долгие годы своего пастырского служения отец Димитрий вынашивал сокровенную мечту о монашестве. Он молился словами преподобного Исаака Сирина: «Исполни, Господи, сердце мое жизни вечной!» В действительности, монахом его называли задолго до пострига, уже в духовной семинарии, замечая его склонность к аскетизму, постоянное чтение Евангелия. Позже, в годы пастырского служения, люди тоже видели в нем монаха. В личном деле отца Серафима епископ Курский и Белгородский Серафим писал: «Протоиерей Димитрий Тяпочкин отличается особой религиозной настроенностью, богослужение совершает строго по уставу. Тих, скромен, ведет строго монашеский образ жизни. Прихожане любят своего пастыря».
Накануне дня священной памяти святого апостола и евангелиста Луки — 18/31 октября, когда исполнялось сорокалетие священнического служения, отец Димитрий подал епископу Леониду прошение, в котором писал: «В 1933 гаду я овдовел — остался с тремя дочерьми. В постигшем меня вдовстве я уразумел Промысл Божий. Иночество стало моей заветной мечтой, как в годы юности — пастырство. Новые жизненные испытания все более укрепляли мое желание принять иноческий постриг. И ныне не только желаю, но и жажду хотя бы в единонадесятый час выйти на делание в иноческом винограднике Церкви Христовой, подражать подвигам тех, кто имеет милость Божию трудиться в винограднике от первого часа (см. Мф.30:1–6). Вместе со святым Псалмопевцем Давидом взываю: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое» (Пс. 56, 8).
Припадая к святительским стопам Вашего Преосвященства, смиреннейше прошу удостоить меня пострижения в монашество с оставлением на занимаемом приходе. Если не будет с моей стороны нарушением послушания, то дерзаю просить при постриге дать мне святое имя преподобного Серафима Саровского, которого с детства почитаю своим небесным покровителем. В назначении меня Его Святейшеством в Курскую епархию, земную родину преподобного Серафима, тоже вижу Промысл Божий».
31 октября 1960 года в Казанском кафедральном соборе г. Курска, который строили родители преподобного Серафима, епископ Курский и Белгородский Леонид (Поляков) совершил постриг протоиерея Димитрия в монашество с именем Серафим, столь хорошо выражавшим пламенную любовь постриженника к Господу и стремление ревностно служить Ему и людям. Восприемником при постриге был иеромонах Геннадий (Давыдов)[24]. На постриг отца Димитрия благословил известный Глинский старец схиархимандрит Андроник (Лукаш)[25]. На следующий год иеромонах Серафим был возведен в сан игумена.
Приняв монашеский постриг, отец Серафим выразил желание остаться на своем приходе, то есть жить в миру. Казалось, батюшке с его подорванным здоровьем, любящему уставную службу, хорошее пение, с его склонностью к аскетизму, было бы лучше служить Господу в монастыре. Он же видел, что Промысл Божий о нем иной — быть монахом в миру, посвятить себя всему миру.
Недолго иеромонах Серафим прослужил в Соколовке. Снова начались гонения (но теперь от местных властей в лице председателя колхоза) за ревностное служение Церкви и любовь к своему пастырю односельчан. Через год он был переведен на новый приход.
Перевод в Свято-Никольский храм
На Святой Руси есть много неугасимых лампад,
в которых, вместо елея, день и ночь горит
любовь к Богу и ближнему ”.
(Из жизнеописания Глинского схимонаха Луки).
В день Покрова Пресвятой Богородицы 1(14) октября 1961 года игумен Серафим служил первую Божественную литургию в храме Святителя Николая в поселке Ракитном. Здесь пройдет вся его последующая жизнь в постоянном пастырском подвиге. Здесь он станет таким, каким его мы знаем — батюшкой Серафимом, старцем из поселка Ракитное.
— Я вам такого батюшку дам, какого у вас никогда не было, — сказал епископ Курский и Белгородский Леонид Екатерине Ивановне Лучиной (в монашестве Серафимы, 1917–1998), хлопотавшей о священнике для своего прихода в Ракитном. «Сижу с членами церковного совета в приемной канцелярии владыки, — вспоминает она. — Среди ожидающих вижу старенького священника. Он смотрел на нас. Говорю себе: «Это наш батюшка». Через некоторое время вызывают: Ракитное. Батюшка встает. Он показался мне как в поле: худенький и бедненький колосочек. Вошли вместе… Потом батюшку посадили в машину и увезли к уполномоченному на прием. Увиделись снова на вокзале. Он сидел возле стены, сложив руки.
…На меня восстал ракитянский церковный совет: «Ты сухого привезла, шкелета». Восстали и на него. В домике, где поселили батюшку, было холодно, нетоплено. Он сидел на полу, наливал какую-то ржавую воду в консервную банку и обмакивал в нее сухарик. Староста Мария била меня в храме за то, что я такого батюшку привезла. Вскоре она умерла. Шла со службы, случился приступ, она упала лицом в лужу и уже не поднялась».
О своем приезде в Ракитное батюшка вспоминал так: «На станцию Готня[26] приехал я с монахиней Иоасафой. Встретила нас Екатерина Ивановна Лучина. Она с матушкой ушла, а я сел в крытую грузовую машину и поехал. Все сидят, я один стою, упираясь головой в потолок. Дороги плохие, меня бросает из стороны в сторону. Никто не уступил мне места, хотя всем было ясно, что перед ними священник. Приехали к церкви, а она на замке, кругом ни души. Пошел спрашивать по дворам, у кого ключ. Ключ у старосты, а она живет в соседнем селе, может, приедет к вечерне. Голодный, замерзший, ждал возле храма старосту. После службы кушать было нечего, спать не на чем. Открыли крестилку, лег на голый пол. Через несколько дней кто-то из прихожан сжалился и принес старую солдатскую кровать.
Церковь имела совершенно заброшенный вид: купол разбит, кровли нет, отвалившиеся куски штукатурки, разбитые окна и двери, прогнившие доски пола. Безмолвный стоял храм. Смотреть на него без слез было невозможно».
Восстановление храма
Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему.
(Мк.9:23)
С приездом отца Серафима началось возрождение Свято-Никольского прихода. Он вступил в новое служение настоятеля тихо и смиренно. Приход был разрушен: и храм, и души. Отец Серафим начал восстановление прихода не со сбора средств, не с денег, как это у нас часто водится в церковной жизни, а с молитвы. Будучи бессребреником, отец Серафим никогда не «искал даяния» (Кол.4:17). Он брал только записки о поминовении, к деньгам же не прикасался.
Он сам устроил печки в алтаре и в храме, добыл уголь. Все равно было очень холодно. Перед богослужением батюшка убирал снег в алтаре. Когда он выходил с Чашей причащать, его рука дрожала от холода.
Пол качался. Однажды Екатерина Ивановна провалилась и обнаружила большой подвал, как второй храм, который потом стал кочегаркой, дровяным складом и одновременно странноприимным местом — кельей на дровах для паломников.
Начальник района разрешил служить только ночью, чтобы люди ходили в колхоз, а не в храм. В воскресенье разрешалось служить до 9-00, а потом церковь — на замок. Отец Серафим как-то говорил внуку: «Хорошо, что службу знал на память, а то свечей нет, только коптилка. В церкви пусто. Ни петь, ни читать, ни кадило раздувать некому. Зато можно всю ночь служить». Я спросил: «А проповедь кому говорили, если пусто было? На что получил ответ: «Но ведь в темноте кто-то мог быть? Для них и говорил».
Трудно представить это: темный храм, ночь, мороз, а священник говорит проповедь и, я уверен, плачет по своему обыкновению.
День и ночь в храме творилась молитва благодарения ко Господу, молитва о помощи и возрождении поруганных святынь, о спасении потерявших Бога человеческих душ. Отец Серафим пришел на приход, как странник, без всякого внешнего величия, желая вместе с прихожанами жить во Христе, вместе страдать, вместе радоваться.
Шли годы, тьма медленно отступала, опять вокруг отца Серафима и прихожанами Свято-Никольского храма образовалась та атмосфера добра и любви, которую душа православного человека безошибочно чувствует, как пчела улавливает запах цветка за многие километры, так и истинные верующие почувствовали за тысячи километров своего пастыря.
С помощью Божией, усердием своих духовных чад и благотворителей, отец Серафим постепенно восстановил Никольский храм. Появились столь необходимые строители, архитекторы, столичные художники, иконописцы. Над росписью храма трудился иеромонах Зинон (Теодор), ныне архимандрит, он же написал иконы нижнего ряда иконостаса, расписал боковые стены храма. В восстановление храма отец Зинон внес ценную лепту. Впервые он появился у отца Серафима осенью 1975 года, в Михайлов день. Батюшка удивился, что молодой человек после армейской службы сразу же пришел в церковь.
Когда отец Серафим узнал, что он иконописец, то попросил его написать литургистов, составителей чинов литургии — Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Двоеслова, апостола Иакова — для алтаря храма. Он написал фигуры в полный рост и вскоре привез холсты. Он же предложил батюшке расписать купол. Так появился огромный, на весь купол, лик Христа, держащего Евангелие, открытое на словах: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас…» (Ин.13:34). А ниже написал четырех евангелистов. В один из моих приездов в Ракитное я застал отца Зинона за росписью стен храма. Две-три недели, которые я пробыл с ним, помогая ему, я не услышал от него ни одного праздного слова. Он был молчалив, сосредоточен, писал быстро и целеустремленно. За свой труд денег не взял. На стене под куполом им написаны первые русские мученики — страстотерпцы Борис и Глеб, а также великомученик Димитрий Солунский, Преподобный Сергий Радонежский, священномученик Корнилий Псково-Печерский, преподобные Иов Почаевский и Серафим Саровский. В притворе слева — преподобные Антоний и Феодосий Киево-Печерские, справа — преподобные Сергий и Никон Радонежские, на колоннах — равноапостольные великий князь Владимир и княгиня Ольга. Под аркой в медальонах — первомученик архидиакон Стефан, великомученицы Варвара, Параскева и Екатерина.
Отец Серафим любил отца Зинона, одаренного, духоносного иконописца, особой любовью за его скромность, талант и огромное трудолюбие. Батюшка всегда находил ему место для ночлега в своем маленьком церковном домике, где жил сам.
Тот, кто помнит Свято-Никольский храм в первые дни служения старца, теперь его не узнает. Он совершенно преобразился, замерцал множеством лампад перед образами (в храме электричества не было), что создает ощущение отрешенности от всего суетного и земного. Рано утром затепливалось многолампадное паникадило. Во мраке храма вдруг появлялся светлячок, потом второй, третий — и вот их уже много, и они все плавно улетают и зависают в подкупольном пространстве. Словно маленькие звездочки, они таинственно мерцая, сливаются в единый свет, восходящий к Богу и умиляющий души, — все настраивает на молитву, на тихую беседу с Богом.
Но самая главная забота отца Серафима была о внутреннем храме всех тех, кто приезжал к нему, — о душах человеческих.
Власти запрещали принимать посетителей, устраивали облавы, проверки паломников, как нарушителей паспортного режима.
«Контроль был сильный со стороны властей, — вспоминает внук батюшки Димитрий (ныне диакон). — Все встречи, беседы проводились по дороге в храм, на исповеди и по дороге из храма. В те годы была очень тонкая конспирация, которая отнимала много нервов и сил, но зато это огораживало от опасных людей и к батюшке допускались только истинно верующие, жаждущие духовного окормления».
Батюшка встречал всех, как отец своих чад, с безмерной любовью и лаской, давая понять, что никакие грехи человека не могут затмить любви Божией.
Еще будучи настоятелем Днепропетровского собора, отец Димитрий приютил сестер закрытого в 1959 году днепропетровского Тихвинского женского монастыря — Никодиму, Агриппину и Ермогену. Он снял им квартиру. Когда отцу Димитрию запретили служить в епархии, он был вынужден уехать. Матушки Никодима (в схиме Михаила; t 2000), Агриппина и Ермогена, решили поехать с отцом Димитрием в Соколовку и взять с собой инокиню Веру Деменскую (впоследствии монахиня Иоасафа, 1926–1989), которая в то время была не устроена. У нее было много родных, но все они были люди мирские, а ей хотелось жить среди близких по духу людей, то есть в каком-нибудь монастыре. Она была больна туберкулезом бедренной кости. Они вчетвером договорились ехать к батюшке, но Никодима, Агриппина и Ермогена поехали, по благословению отца Димитрия, в Киевскую лавру, а Вера на некоторое время уехала к духовной матери в Никополь.
Мать Иоасафа вспоминала, что на первых порах в Ракитном на богослужениях никого не было, иногда приходили две-три старушки, а в основном они с батюшкой были вдвоем в холодном полуразрушенном храме.
Стены алтаря были покрыты инеем, а сверху падал снег. Казалось, нужно бы, не мешкая, браться за ремонт, искать людей, средства, материалы. Но батюшка не прикладывал никаких видимых усилий, чтобы развернуть восстановительные работы. Только — каждодневная молитва. Служба продолжалась с семи утра и до вечера. Когда матушка Иоасафа совсем замерзала, отец Серафим отпускал ее попить чайку, а сам пребывал в молитве. В непогоду отовсюду текло. Через щели разбитого купола вода струилась по стенам храма. Это не мешало редким прихожанам, нескольким старушкам. Тем более это не мешало отцу Серафиму, прошедшему через холод и лишения лагерной жизни. Для него все это уже не имело значения. Через тяготы долгих испытаний он ощущал силу Божия присутствия, заступления и помощи, в еще вчера отверженном храме теперь день и ночь звучала молитва благодарения ко Господу, молитва о помощи в возрождении поруганных святынь, о спасении потерявших Бога человеческих душ. И постепенно пришла помощь. Господь послал благотворителей, помощников, строителей — все необходимое.
«Как-то в храме во время ремонта, — вспоминает иеродиакон Николай (Трубчанинов), ныне схииеромонах Амфилохий с Украины, — работали строители, совершенно далекие от веры. Не очень-то утруждая себя, они в обед подвыпили, хорошо закусили и, уже разомлевшие, готовились к послеобеденному отдыху. С приближением отца Серафима они панибратски проронили: «Ну что, отец?» Наблюдая за этим, я внутренне сжался, подумал: «Как они себе такое позволяют? Ну, сейчас он им покажет!» Батюшка остановился, внимательно посмотрел на всех. Потом стал подходить к каждому, обнимал, обхватывал ладонями голову, долго глядел в глаза и нежно целовал в обе щеки. Никакая грубость, никакое пренебрежение не могли устоять перед батюшкиной любовью! Ошеломленные, притихшие, вмиг протрезвевшие строители тут же взялись за дело».
Староста Екатерина рассказывала, как однажды нагрянули к батюшке местные власти, чтобы отругать его за то, что в церковной ограде была построена маленькая просфорня. Перед своим приходом они вызывали ее к себе, ругали, грозили закрыть храм за самовольство, и вот пришли к «нарушителю» сами, чтобы застращать и наказать его.
Важные, с папками, они входят в церковный дом. Отец Серафим приветливо встречает их у порога и говорит келейнице: «Матушка Иоасафа, какие к нам гости пришли»! Он сразу же взял их в свой покой, в свой мир, и, пригласив сесть за стол, спросил с любовью и лаской об их жизни. Потом появился на столе чай. Беседа продолжалась. Гости забыли, зачем пришли, настолько старец покрыл всех тихостью Христовой, покорил кротостью. Когда уходили от него, батюшка тепло с ними попрощался. Пришли юлками, а ушли овечками, потому что увидели, что они любимы.
Гонители оказывались самыми близкими отцу Серафиму людьми, ибо больше других нуждались в духовной помощи. Они не просили о ней, считали, что Бога нет, но в этом отвержении Творца отец Серафим сердцем слышал крик о помощи и откликнулся на него всем своим существом, всей своей жизнью.
Все люди без исключения имели право на его любовь, у него не было первых и вторых, все были первые, все желанные; каждый человек — образ и подобие Божие, значит, он достоин уважения и любви.
Вскоре образовался приход, жизнь налаживалась. Как водится, появились и недоброжелатели. Такое усердное богослужение, редкостное по тем временам, некоторых раздражало. Сохранилось письмо секретаря епархиального управления, касающееся порядка ежедневного богослужения в храме. После поздравления отца Серафима с праздниками Рождества Христова и Богоявления, а также с Новолетием, следует указание: «Ваш Церковный совет написал уполномоченному жалобу, что Вы ежедневно служите в храме, что служба в будние дни не оправдывает расходов, связанных со службой. Уполномоченный предупреждает Вас, чтобы Вы в будние дни не совершали служб, в будние дни советует молиться дома, в своей комнате, а служить только в воскресные и праздничные дни. Владыка благословил выполнять это предложение уполномоченного во избежание больших неприятностей для Вас.
С искренним уважением и любовью к Вам протоиерей Порфирий. 12.01.1962 г.»
После такого запрета в храме служили только по субботам, воскресеньям и праздникам, а в будни — келейно. Власти боялись каждодневного паломничества в сельский храм людей со всех концов нашей необъятной страны.
Вспоминает Евгений Иванович Федак, из Лисичанска Луганской области: «В один из приездов в Ракитное мы вчетвером поехали за известью на сахарный завод. Яма глубокая, за два раза вперекидку лопатой вынули эту известь. Тяжело было, лопата вязла. Привезли к храму, разгрузили. Сильно устали, руки болят, нельзя разогнуть, а нам говорят, надо еще поехать на погрузочно-разгрузочные работы в другое место. Я матушке Иоасафе ответил, что рук не могу поднять, сильно устал. Повела она меня к батюшке, тот благословил. Откуда сила появилась! Уж не знаю, как он восстановил меня, но усталости как не бывало. Я только сказал: «Для вас, батюшка, я куда угодно поеду и любую работу выполню». Все сделал и был радостным после выполненной работы».
Для всех, кто восстанавливал храм, опорой и поддержкой в трудностях была неиссякаемая батюшкина молитва. Это чувствовали и жители, и администрация района: местные сахарные заводы и предприятия работали здесь хорошо, на полях был большой урожай, дожди выпадали в нужное время, при уборке сахарной свеклы всегда стояла хорошая погода.
Все в церковно-приходской жизни делалось только по благословению старца. Но не обходилось и без искушений. Однажды собралась приличная сумма на ремонт храма. В комнату, где лежали деньги, под каким-то предлогом проникли цыгане. Матушка Иоасафа перед этим на минутку вышла, а когда вернулась, то не обнаружила денег, да и другие вещи пропали. Сказали о случившемся батюшке. На следующее же утро в церковь пришел денежный перевод на сумму, превышающую украденное.
Когда я приехал и узнал об этом, — вспоминал внук Димитрий, то попросил рассказать подробности, но дедушка улыбнулся и сказал: «Успокойся, меня ничуть не обидели, возможно у них была нужда, а меня обокрасть невозможно, у меня ничего нет». И добавил: «Слава Богу!»
Помощником отца Серафима при совершении богослужений в храме стал болящий иерей Григорий Сопин (1936–1990), который после травмы позвоночника не мог передвигаться и попросил у батюшки остаться при нем. Старец с любовью принял его и даже пообещал, что будет отдавать ему свое жалованье. По молитвам батюшки отец Григорий начал ходить при помощи костылей, совершать требы и петь на клиросе. У него оказался хороший голос. Отец Серафим очень любил отца Григория и был благодарен ему за труды, которые тот нес в храме.
Милующее, нежное сердце батюшки сострадало не только человеку, но и всей Божией твари. Он испытывал благоговение ко всему живому, к каждой былинке. «После дождя в храм шли всегда очень медленно, — вспоминает внук Димитрий. — Нужно было обойти всех червячков, жучков, паучков. Дедушка шел впереди и внимательно следил, чтобы никто ни на кого не наступил». Вот несколько случаев, записанных со слов детского писателя Геннадия Снегирева (1930–2004), из Москвы. «Однажды в келию к нему залетела большая муха. Своим жужжанием она раздражала матушку Иоасафу, и та старалась выгнать ее. Батюшка, видя ее намерение прибить муху, которая в открытую дверь почему-то не вылетала, сказал: «Матушка, не убивайте муху, пусть живет».
Как-то старец спросил у работающих на кухне: «А где наш кот?» Ему ответили, что кот уже старый, беззубый, мышей не ловит, к тому же весь плешивый, поэтому его отнесли в овраг. Батюшка помолчал, а затем сказал: «Отыщите кота, вымойте, постелите ему чистую подстилку, и пусть живет на кухне, кормите до самой смерти».
В другой раз — кошка принесла шестерых котят. На кухне им не нашлось места, и их отнесли подальше от храма. Узнав, что котят выбросили, батюшка велел принести их обратно, чтобы кошка выкармливала».
Сам Геннадий Яковлевич Снегирев был исцелен отцом Серафимом от шума в голове и ушах после травмы. Батюшка только перекрестил ему голову, и тот назойливый «сверчок», что не давал покоя, затих.
«Однажды шли мы на вечернее богослужение, — вспоминает внук Димитрий, — вдруг дорогу преградила веревочка, натянутая строителями, которые делали тротуар, и мы ее не сразу заметили. Дедушка остановился, на секунду задумался и повернул обратно. Мы пошли в храм с другой стороны. Я говорю: «Это случайно, видно, строители забыли снять. Дедушка ответил: «Митенька, забудь это слово. Случайностей не бывает».
«Мама рассказывала, — продолжает внук Димитрий, — что когда они в двадцатые годы жили в селе Михайлова и семья их была еще в полном составе, дедушка разводил пчел. У них было 25 колодок (ульев). Он очень любил пчел, и они его тоже. Однажды сосед напился пьяным, нагрубил, а утром приходит соседка вся в слезах и просит у дедушки прощения за мужа-грубияна. Ее успокаивают, после чего она рассказывает: «Рано утром муж пошел в погреб попить квасу. Туда добрался благополучно, а назад выйти не может уже часа три. Сидит в погребе, пчелы его всего искусали и не выпускают, и ее к погребу не подпускают. Лицо у соседа опухло, хмель прошел, и он попросил сходить к отцу Димитрию, попросить у него прощения». Дедушка сразу же пошел с соседкой. Пчелы утихомирились. Опухший и перепуганный сосед просил прощения со слезами уже у всех сбежавшихся на шум соседей и действительно бросил пить. Мама была врач-фтизиатр. Ее пациенты лечились годами и многие выпивали. Она говорила, что на территории больницы надо разводить пчел, это хорошо помогает. На ее памяти это не единственный случай столь быстрого излечения от такого страшного недуга».
Частыми посетителями батюшки, помимо простого люда, были епископы, священники, иноки и инокини, студенты духовных школ. В лице отца Серафима они находили опытного духовного наставника, любвеобильного и простого душой старца. Люди видели в отце Серафиме такого пастыря, которому можно верить безусловно, ибо в нем жил Дух Святой. Они вслушивались в каждое его слово, даже в тон голоса, всматривались во все его движения. В нем все было чисто и свято. Доверие и послушание слову отца Серафима было так велико, что не возникало никаких сомнений или беспокойства. Весь облик батюшки говорил о внутренней тишине и мирности.
«Хотелось слушать любое его слово, — вспоминает иеромонах Сергий (Рыбко), ныне игумен, — ловить каждое его движение, я готов был исполнить все, что он скажет, пойти за ним, куда он позовет».
Люди, увидев отца Серафима, встретив его любящий и внимательный взгляд, проникавший в самую душу, излучавший тихую радость и покой, падали на колени, плакали, а он радовался этим слезам, как знаку начавшегося пробуждения их душ. Батюшка, разумеется, не относил этого поклонения к себе, зная, что Дух Святой действует через него. Он всегда оставался скромным и незаметным человеком. Физическая немощь отца Серафима только сильнее выявляла действие в нем Святого Духа.
Отец Серафим благоговел перед человеком, независимо от его греховности или святости. Он в каждом видел образ Божий и хотел помочь другому увидеть его в себе. Как духовник многих чад, батюшка стремился помочь им становиться совершенными, святыми Церкви Христовой, которую он называл «нашей чадолюбивой Матерью». «Славьте же Христа все, — говорил он в проповеди, — славьте Его в домах ваших, славьте Его в семействах ваших, славьте Его во всей жизни вашей». Своим духовным чадам батюшка писал, хотя и редко, глубоко назидательные письма и посылал поздравления к праздникам Святой Церкви. По этим письмам, проповедям в храме и отдельным словам, обращенным к разным лицам, по его молитвенному плачу во время литургии в какой-то мере можно было судить о высоком устроении его души, о его дерзновенной молитве и горячей любви к Богу и ближним.
По своему глубочайшему смирению отец Серафим старался скрыть свои подвиги и духовные дарования: прозорливость, способность исцелять, которыми он, безусловно, обладал. Дар прозорливости помогал ему предельно сокращать время беседы с посетителями. Старец шел по живому коридору богомольцев в храме и на улице и, подходя к кому-либо, давал ответ на вопрос, который еще не был задан. Ему совершенно чуждо было осуждение. Если кто-либо приходил к нему с тяжбой на ближнего, начинал подробно рассказывать о происшедшем и о своем обидчике, батюшка учтиво останавливал, но так, чтобы не оскорбить говорившего, и призывал помолиться за обидчика. Тут же все смущение рассеивалось, обида утихала. Достигал он этого тем, что, молясь, внутренне оставался спокойным, невосприимчивым ко всему плохому, чуждому его душе, по слову заповеди Христовой: блажены миротворцы, яко тии сынами Божиими нарекутся (Мф.5:9).
М.Д. Гребенкин пишет: «…Однажды приехал владыка Хризостом и во время богослужения в проповеди начал отчитывать народ, приезжающий в Ракитное из других мест, мол, что они туг ищут, какую святыню? Тогда он батюшку еще не знал хорошо. Меня это так задело. Я стоял и думал: «Боже мой! Владыка, как вы так можете говорить о батюшке?» После обеда владыка уехал, и мы сели за стол. Я хотел было высказать свое недовольство происшедшим, но батюшка опередил меня, и сказал: «Какой владыка Хризостом хороший». До трех раз я старался высказаться, и каждый раз батюшка перебивал меня и хвалил архиерея. Потом владыка Хризостом узнал батюшку ближе и очень любил к нему приезжать».
Когда общение с кем-либо теряло духовный смысл или собеседник начинал кого-нибудь осуждать, отец Серафим выключался из разговора. К нему приезжал молодой священник, служивший где-то «в верхах», и когда начинал рассказывать о «мелочах архиерейской жизни», батюшка вставал из-за стола и уходил к себе в келию. Тогда священник приходил к нему в келию и, сидя на корточках у кровати, наклонившись к уху батюшки, продолжал свои рассказы, а тот… засыпал.
Отец Серафим видел тех, о ком ему рассказывали, совершенно иначе. Интриги его совершенно не интересовали, потому что он любил всех людей, несмотря на их немощи и падения.
Возрастание в святости совершается постепенно. В духовной жизни не должно быть рывков. Об этом отец Серафим напоминал тем, кто горячился, стремился к высшим подвигам раньше времени. «Приносили ко мне постников, — вспоминал он, — которых приходилось отпаивать из чайной ложечки». Приезжала к батюшке одна семья из Запорожья, глава которой был грузчиком. Из аскетической ревности он в первую неделю Великого поста вообще ничего не ел и, естественно, заболел. «Как же так, — говорил отец Серафим, — работает грузчиком и ничего не ест». Он любил повторять, что высшая добродетель — не пост, не подвиг, а рассудительность. Демоны препятствуют нам делать возможное, говорили Святые Отцы, а к невозможному принуждают. Отец Серафим просил беречь свое здоровье, не брать на себя того, что непосильно, часто повторял: «Здоровье нужно нам для молитвы».
Гонения продолжаются
Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев.
(1Ин.3:16)
Все годы пастырского служения отец Серафим пребывал в стесненных обстоятельствах, в том смысле, что не мог принять всех, кто нуждался в его духовном окормлении. Эти обстоятельства порождались запретами уполномоченных Совета по делам религий, которых пугало каждодневное паломничество в сельский храм. Подобными запретами объясняются и рекомендации правящего архиерея, к которым отец Серафим вынужден был прислушиваться. Своим духовным чадам батюшка все объяснял своей физической немощью, хотя причина, как мы теперь знаем, была не только в ней. Из бесед старца можно почувствовать, как он переживал сложившуюся ситуацию. Отец Серафим говорил: «Дети мои духовные. Отцовско-пастырским долгом считаю необходимым оповестить вас, что по состоянию своего здоровья и по сложившимся обстоятельствам не могу принимать вас у себя на дому и вести беседы. За мной остается духовное руководство лишь в храме, состоящее в молитвах. Болящие, страждущие и скорбящие! Вы обращаетесь ко мне, прося моих молитв. «Всецелебная моя сила — Христос!» — восклицал в дни своей земной жизни святой великомученик Пантелеймон, и я, недостойный, — тоже.
Сколько раз приходилось исправлять ваши обращения, прибыли сюда лечиться». Я не лечу, а молюсь. И если по молитвам больные получают исцеление, страждущие — ослабу, скорбящие — утешение, то это от Господа. Вести об этих исцелениях распространились далеко. Вы стекаетесь сюда из разных мест, принять же вас я уже не в состоянии. В силу этого за мной остается общецерковная молитва о болящих, страждущих и скорбящих: в храме — у жертвенника и святого престола, частная — у себя в келии. Я повторяю, что никаких отдельных бесед я вести не могу ни в храме, ни на дому. Прошу за все прощения и ваших святых молитв. Да укрепит Пастыреначальник Христос мои телесные и духовные силы и даст возможность стоять у святого престола до последнего моего издыхания…»
Приводим письмо, написанное отцом Серафимом правящему архиерею, епископу Курскому и Белгородскому Николаю (духовному сыну отца Серафима)[27].
«Ваше Преосвященство, Преосвященный дорогой Владыко!
Спаси, Господи! Приношу сердечную благодарность за Ваш отеческий прием, оказанный мне, недостойному. Глубоко тронутый Вашей архипастырской любовию, по возвращении восвояси, я озабоченно стал искать средства к исполнению Вашего наставления. Решение создалось таковое. С церковного амвона в удобное время я несколько раз обратился к болящим, которые приезжают, и к тем, которые привозят больных, чтобы внушить, что нет необходимости в их личном здесь присутствии. Милосердный Господь заочно исцелил слугу капернаумского сотника — по вере его. Прежде всего нужны вера и покаяние больного, так как часто грехи являются причиной болезней. Приступать же к Таинствам Покаяния и Причащения Святых Таин Христовых можете и в своих приходских храмах. Если же желаете и просите и моих молитв, дайте ваши святые имена, и я, недостойный, заочно буду молиться.
В беседе с Вашим Преосвященством я вспомнил протоиерея отца Иоанна из Глухово. Отец Иоанн лечил, давая лекарства. Я же, недостойный, только молюсь. Ранее я вычитывал над больными и страждущими, ныне молитва моя о болящих состоит в совершении молебна и водосвятия.
С амвона хочу сказать, что посещения меня на дому и частые беседы в храме для меня уже непосильны по телесному моему состоянию. Прошу же быть удовлетворенными храмовой молитвой без посещения меня на дому и частных бесед в храме.
Дорогой Владыко! Можно ли так поступать во исполнение Вашего наставления и для общей церковной пользы? Смиреннейше прошу Вашего хотя бы кратенького ответа.
Припадая к святительским стопам Вашего Преосвященства, усерднейше прошу архиерейского благословения и святых молитв Вашего Преосвященства».
Чем труднее становились обстоятельства жизни, тем терпеливее был батюшка, зная, что против скорбей все святые имели одно средство — терпение и молитву. Он терпел с расположением на Волю Божию, поэтому эти скорби не лишали его душевного мира.
Те, которые, по милости Божией, удостаивались исповеди у старца, ощущали, как его любящий взгляд проникал глубоко в их сердце и помогал им чистосердечно, по-детски открыть свою душу.
Каждого приходящего к нему отец Серафим принимал таким, каков он есть, ничего ему не навязывал, не укорял, не обличал, а внимательно выслушивал его.
«Это был не обличитель, который знал все о человеке, — пишет архиепископ Евлогий (Смирнов), — но близкий и родной человек. Не было во мне и страха, удерживающего от исповеди, наше общение скорее походило на доверительную беседу сына с отцом».
Отец Серафим из опыта знал, что человек без помощи свыше не может принести должного покаяния Богу, поэтому сам, часто со слезами, безмолвно умолял Бога о том, чтобы Он послал благодать покаяния согрешившим. В общении с батюшкой человек постепенно начинал открываться, сам снимал свою маску, потому что с ним можно было только быть, а не казаться. Он всем своим существом призывал тебя жить, быть живым и давал искру этой жизни. От него люди уходили преображенными его миром и любовью. Исповедуя, батюшка не делал строгих выговоров, не накладывал епитимии, не назначал особых молитвенных правил или постов, но умел дать почувствовать человеку, что необходимо изменить жизнь, возненавидеть грех и следовать воле Божией, призывающей грешников ко спасению.
Любовь к богослужению
…Если б я мог передать хоть одну десятую долю той радости, которую я переживаю во время Божественной литургии!
(Из письма отца Серафима духовному чаду).
Старцу Серафиму была присуща любовь к богослужению, благоговейная строгость в исполнении церковного устава. «Он всегда внимательно и бережно относился к церковному уставу, — вспоминает архимандрит Зинон. — Старался не только не сокращать богослужение, а делать некоторые прибавления, например, в изобразительные вводил сугубую ектению о здравии и об упокоении». Он говорил, что «все, что приняла и облобызала Церковь, для нас должно быть святым и обязательным».
Но при всем своем благоговейном отношении к традициям он всегда умел, как и оптинские старцы, творчески руководствоваться принятыми установками, когда дело касалось отдельных людей, конкретных ситуаций.
Я помню, как он несколько раз возмущался, когда некоторые священнослужители налагали епитимию в виде многодневного поста — целую неделю человеку не разрешали есть, отлучали от причастия на продолжительное время. Наши каноны это предусматривают. Там и сроки указываются страшные (например, двадцать лет), но применять их нужно с рассуждением.
При отце Серафиме Ракитное стало, можно сказать, маленьким монастырем, где службы совершались строго по уставу. Например, недопустимым было служение утрени вечером. Она всегда совершалась в положенное время — утром. Тем самым не искажался дух и смысл ее таинственных молитв: «Духом внутри меня я устремляюсь к Тебе, Боже, с раннего утра, ибо суды Твои совершаются на земле…», «Боже и Отче Господа нашего Иисуса Христа, поднявший нас с лож наших и собравший нас в час молитвы! Даруй нам благодать при отверзении уст наших…». Молитва становилась жизнью, а не обязанностью.
Во время богослужения отец Серафим никогда не спешил, все делал очень тщательно, потому что всегда был настроен на тихую беседу с Богом. «Очень большое значение дедушка придавал проскомидии, — вспоминал внук Димитрий. — Частички за свою паству вынимал сам. Это занимало около часа. Беззвучно стоял у жертвенника, поминал он всех по именам. Позже, уже когда силы стали покидать его, призывал на помощь других священников, но следил, чтобы священник сам читал поминания, совершая проскомидию». Архимандрит Виктор (Мамонтов) пишет: «Батюшка рассказывал, как в молодости его потрясла и умилила служба в одном храме. Служили Евхаристию старенькие священник и диакон, кроме них, никого в храме не было. Диакон своим дребезжащим голоском уже спел Херувимскую, но батюшка из алтаря почему-то не выходил. Он ждал. Потом приоткрыл диаконскую дверь, чтобы увидеть, что происходит в алтаре. Батюшка стоял у престола и плакал: «Пой еще, пой! — говорит диакону. Диакон снова запел Херувимскую…»
Отец Серафим понимал, что литургической молитвой надо жить, разуметь ее, сердцем выстрадать, только тогда возникнет полнота единения с Богом и с ближними, только тогда все будут участниками Евхаристии. Он служил тихо, спокойно, благодатно, весь уходя в молитву. Батюшка не просто говорил или возглашал возглас, а, возглашая, молился, прославляя Господа и прося Его. Он был воистину посредником между Богом и людьми, ходатаем за них, главным звеном, соединявшим Церковь земную, за которую он предстательствовал, и Церковь Небесную, среди членов которой он находился духом. Слезы умиления лились из его глаз. Он ничего не видел около себя, ничего не замечал. Его умиленный взор был обращен к Святым Тайнам, которые покоились на святом престоле. И казалось, что батюшка видит телесными очами Самого Господа, пришедшего снова заклатися за грехи мира. Он переживал всю историю нашего спасения, чувствовал глубоко и сильно всю любовь к нам Господа, чувствовал Его страдания. И сам внешний облик батюшки Серафима изменялся. Он постепенно просветлялся все более и более, озарялся каким-то дивным озарением, будто лучи солнца падали на его вдохновенное лицо. «Я очень любил наблюдать в алтаре за его службой, — пишет М.Д. Гребенкин, — служил батюшка необыкновенно. Воздевая руки к Господу, он как бы сливался с Ним, и слезы у него лились непрестанно. Было очевидно, что в это время для него ничего и никого не существовало». В одном из писем духовному сыну (А.М. Одынецкому) старец писал: «Ох, если б я мог передать хоть одну десятую долю той радости, которую я переживаю во время служения Божественной литургии». Стоявшие в храме чувствовали, что он горячо молится за них. Дух соборной молитвы всегда присутствовал в богослужениях, совершавшихся батюшкой. Ничто не нарушало общую молитву, наоборот, все способствовало тому, чтобы она состоялась. Пели как могли, иногда ошибались, но все совершалось с вдохновением, внутренним трепетом и вниманием. Это создавало, несмотря на переполненный молящимися храм, глубокую тишину, позволявшую отцу Серафиму, очень слабому физически, никогда не повышать тихого голоса. Когда батюшка произносил молитвы, казалось, что слышишь не слова, а ощущаешь тихое веяние Святого Духа. Это была действительно молитва Духа».
«Со всей теплотой, каким-то неземным дыханием души, со многими слезами творил он о всех горячую молитву к Богу, — вспоминает архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий (Смирнов). — Я услышал такое чтение Евангелия, которое долго еще звучало в моей душе. Читал он всем сердцем, от глубины всего своего существа».
Божественную литургию отец Серафим совершал с особым духовным подъемом, со слезами молясь за прихожан своего храма и за весь мир. Вот что пишет об этом иеросхимонах Сампсон (Сиверч): «Монахи, которые совершают литургию, ночью не ложатся спать, они молятся, они вопят, они готовятся причащаться. У них получается вот такая Литургия[28]. Свет исходил от отца Серафима Белгородского, когда он вышел на проповедь после Чаши (он причащал, потом говорил о великомученике Георгии Победоносце, он буквально омывался слезами). От него исходило сияние, но каждое слово было отчетливо, ясно»[29].
По окончании службы в храме люди, светлые и радостные, не спешили уходить, поздравляли друг друга со Святым причащением, знакомились, беседовали. Царил пасхальный дух. Пели, расходились постепенно. Кто-то попадал на трапезу к батюшке, остальные шли по домам, где их принимали на ночлег. Такие трапезы были отзвуком «вечери любви» первых христиан.
Все это совершалось вопреки запретам властей, не разрешавшим отцу Серафиму принимать людей. Согласно их распоряжениям, после окончания богослужения все должны были выходить за ограду храма.
Отец Серафим неукоснительно совершал все службы годичного круга. В те дни, когда служба совершалась келейно, келия была переполнена желающими разделить молитвенное общение со старцем, на которое допускались и некоторые приезжие. Однако всех желающих маленькая келия не могла вместить. В этом намоленном месте человека обнимала тишина богоприсутствия. Молитва отца Серафима, глубокая и сильная, преображала всех находящихся рядом с ним, они чувствовали себя духовно обновленными.
Когда батюшка молился, верилось, что Господь его слышит, и старец чувствует Его, как живого, обращается к Нему с такой естественной интонацией, какая бывает в непосредственной беседе с близкими. Он так был поглощен беседой с Богом, что уже казался не молящимся человеком, а живой молитвой.
Достигнув вершины внутреннего сокровенного делания, созерцательной молитвы, отец Серафим не оставлял повседневного правила и всегда с большим желанием молился со всеми чадами и в келии, и в храме. Он не мог уйти от них, запереться в своей келии и пребывать там как в пустыне.
Проповедник Истины
…И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы.
(1Кор.2:4)
Неотъемлемой частью богослужения отец Серафим считал проповедь и постоянно проповедовал в храме. Говорил он проникновенно и убедительно. Поучения его были глубоки по смыслу и, вместе с тем, доступны пониманию всех молящихся. Каждому открывалось свое, необходимое именно в эту минуту. В проповедях батюшки не было никакого привычного церковного красноречия. Говорил он весьма просто. Он не искал красивых слов, но проповеди его отличались необыкновенной силой.
Пишет в своих воспоминаниях М.Д. Гребенкин: «Вспоминаю батюшку во время богослужения. Проповедь без слез он не говорил. Он говорил и плакал, а вместе с ним плакал и весь народ в храме».
Отец Серафим вспоминал, как однажды подготовил по всем академическим правилам свою первую проповедь, получил резолюцию «произнести в храме». И произнес… Потом у него никогда таких проповедей не было. Он не мог говорить от книг, от ума, а только в Духе, сердцем. Его проповедь была живая, нужная как дыхание, и потому она касалась сердец слушавших.
Отец Сергий рассказывает: «Больше я нигде такого не видел, о чем-то подобном я читал только в жизнеописаниях отца Иоанна Кронштадтского. Выходит батюшка после Евангелия, опирается на аналойчик и начинает говорить проповедь. Проповедь очень простая, обычно либо на тему евангельского чтения, либо о святом, чья память праздновалась в тот день. Но после нескольких фраз батюшка начинает чуть-чуть всхлипывать, чувствуется, что он говорит от сердца и переживает все те события, о которых говорит. Потом начинает всхлипывать народ в храме.
Я думаю: «Ну, это бабушки, старушки, они пускай плачут,— а я не буду плакать, чтобы в прелесть не впасть». Батюшка всхлипывает сильнее, а затем начинает плакать: скажет предложение и плачет, просто рыдает, заливается слезами. И все в храме плачут и рыдают. Думаю: «Нет, я плакать не буду». И вдруг что-то происходит с тобой, и слезы начинают литься градом так, что при всем желании удержаться — не можешь.
Батюшка со слезами кончает проповедь, уходит в алтарь, продолжается Литургия, хор с плачем поет, и ты стоишь и плачешь, со слезами дальше слушаешь Литургию, со слезами причащаешься, потом постепенно, потихонечку успокаиваешься. Так было всегда, когда батюшка говорил проповедь: всегда народ плакал, и не плакать было просто невозможно… Мне кажется, это оттого, что батюшка был великий молитвенник: он молился за всех своих чад, он вообще постоянно пребывал в молитве. Один из духовных писателей говорит, что постоянный плач — это признак самодвижной молитвы Иисусовой. Батюшка плакал не все время, но достаточно часто: и за трапезой, и в храме, и просто когда шел по улице. И это передавалось окружающим — это какая-то особая благодать. И с другими такое происходило по молитвенному предстательству батюшки…»
Он вел жизнь настолько чистую, что его сердце, по слову Иоанна Златоуста, «было исписано Духом». Он знал Бога всем своим существом, отдав Ему всего себя, говорил с Ним и о Нем из глубины души.
Однажды в проповеди батюшка сказал о Христе: «Его божественный голос проникал в человеческие души, потрясал умы и влек к Нему сердца людей. Они отзывались на этот голос, шли ко Христу, несли к Нему свое горе, несчастье, скорби, страдания и болезни.
Любовь, которая сияла на Пречистом Лике Христа, горела в Его очах — любовь, которая исходила при всяком дыхании Его. Эта Божественная любовь согревала всех приходящих к Нему, проникала в сердце, вносила покой в душу. И забывая обо всем, эти люди обретали мир и покой».
Простыми словами он рассказывал о жизни Спасителя, люди боялись пропустить хотя бы одно слово, потому что не только верили слышанному, но видели воплощение слов Иисуса Христа в жизни батюшки.
Это был живой голос свидетеля любви, голос сострадания ближнему. Духовные чада вспоминали, что, когда старец говорил проповедь, время как бы останавливалось, и им казалось, что они лично присутствуют на казни Иисуса Христа, видят Голгофу, апостолов, Пречистую Матерь Господа.
А.М. Одынецкий из Сум: «Отец Серафим проповедовал за каждым своим богослужением. По содержанию его проповеди, казалось бы, мало чем отличались от тех, которые можно услышать от каждого семинарски образованного священника. Но, как сказал апостол Павел, «слово мое и проповедь моя не в словах человеческой мудрости, а в явлении духа и силы». Таковой и была сила проповеднического слова отца Серафима. Речь его была тихой и ровной, каждое его слово исходило как бы из самого сердца, преисполненного Божиим Духом и любовью к своей пастве, ищущей от него наставления и поучения.
Проповедуя, отец Серафим всегда плакал. Я не помню ни одной проповеди, которую бы он произнес без слез. Это были слезы умиления и сокрушения, слезы человека, глубоко осознающего свое недостоинство перед Святостью Божией. Чувствовалось, что когда отец Серафим говорил о «грехах и беззакониях наших», а об этом он говорил постоянно с целью возбудить у слушающих покаянное настроение, он имел в виду не только грехи других, но и свои грехи. Он не отделял себя от своих собратьев и вверенных ему Богом духовных детей. Он не возвышал себя и не стремился господствовать над ними и высокомерно поучать, а плакал вместе с ними… Проповеди отца Серафима производили большое впечатление не внешней красивостью. Нет, в них не было того, что называют обычно красноречием. В них не было витиеватости, искусственной напыщенности и многословности. Они действовали на сердца слушателей духовностью, глубокой искренностью и простотой, если угодно, жизненностью. Чувствовалось, что каждое слово, произносимое отцом Серафимом, глубоко им прочувствовано, пережито на личном религиозном опыте, что он говорит не «изученными словами внешней человеческой мудрости». Он словно раскрывал свою душу глубоко верующего человека. Многие, слушая проповедь плачущего отца Серафима, тоже плакали. Бывали случаи, когда плакала с ним почти вся церковь, как это было, например, в днепропетровском Троицком соборе перед его уходом из епархии. Святитель Иоанн Златоуст сказал: «Священник только уста открывает, а Дух Святой говорит». К батюшке эти слова вполне приложимы. Пребывание в Духе Святом делало его простую, смиренную, бесхитростную, но глубоко духовную речь поучительной, назидательной и вдохновляющей к покаянию.
Да, отец Серафим говорил не устами, а сердцем, не от себя, а живущим в нем Духом Божиим»[30].
Михаил Корнеевич Баденко из Никополя: «Я знал батюшку с двадцатых годов. Много раз слушал его проповеди. Такой задушевности, поучительности, такой простоты и глубины знаний, такой веры, какую он в нас вселял, я мало у кого из священников встречал».
Наталья Игнатова из Воронежа: «Его проповеди мы очень любили. Говорил он тихо, для всех доступно. При этом в храме наступала глубокая тишина. Люди всегда подходили к нему так близко, что было видно, как слезы катятся из его глаз».
По слову святителя Григория Богослова, отец Серафим «нуждался лишь в немногих словах потому что достаточно было самой жизни его для назидания». Проповедь отца Серафима была не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы (1Кор.2:4). Эту тайну любви Божией, которая учит без слов, познало сердце старца, и через него все приходящие люди приобщались к Ней.
Слезы — это кровь души. Они бывают ей на пользу или во вред. Они не одинаковы, хоть и исходят из одного источника.
Есть слезы обиды. Обидели человека, он плачет. Эти слезы для души не полезны. При обиде мы должны набираться терпения. А его нет.
Есть слезы радости. Радость бывает разная, допустим, мы получили какую-то земную радость, прибыль, — и радуемся. Это тоже для души не полезно.
А какие слезы полезные? Слезы покаяния. Они приносят душе великую пользу, и душа умывается этими слезами.
Приснопоминаемый отец Серафим Тяпочкин как станет проповедь говорить, так у него становилось два носовых платочка выкрученных, столько было слез. Он плакал потому, что мы только приезжали к нему, а исправления не было. Он видел каждого и оплакивал. Так его даже уполномоченный вызывал:
— Что вы там говорите, что у вас все плачут?!
— Я говорю то, что написано в Евангелии. Я своего не добавляю.
— А что ж люди плачут?
— Откуда я знаю? Может, их касается благодать Божия…
Валентина Шушляпина из Белгорода, рассказывает: «Батюшка говорит проповедь и сам плачет, вслед за ним начинают плакать все слушающие его. Однажды приехала к батюшке в Ракитное из Львовской области молодая женщина. Головные боли не давали ей покоя, врачи были бессильны помочь. Стоит в храме, вытирает платком слезы, непрерывно текущие из глаз, и говорит мне: «Ничего понять не могу. Приехала издалека с надеждой исцелиться, успокоиться, а тут и батюшка, и все плачут, вот и я плачу, не могу удержать слез, что происходит, понять не могу. Мне еще хуже стало. Стоять в храме тяжело, еще сильнее болит голова». Я ей отвечаю: «Посидите на скамеечке, отдохните и почаще приезжайте к батюшке, Господь поможет». — «Да, да, мне говорили об этом…» Она стала часто бывать у отца Серафима, исцелилась и уже не удивлялась, почему она и все слушающие проповеди отца Серафима плачут. Ибо через слово отца Серафима душа воспринимала Духа Святого, приходила в смирение и очищалась через слезы покаяния».
Сила пастырского слова отца Серафима была так велика, что ни одно слово, ни один звук не пропадали даром: все, что батюшка говорил в назидание, имело прямое отношение к тому человеку, с кем он беседовал. Отец Серафим читал душу человека, видел все душевные изгибы, раны, скорби. Его слово, согретое отеческим участием и любовью, было целительным бальзамом для больной измученной души. Никто от него не уходил неутешенным, неободренным. У него для всех хватало отеческой любви, внимания и ласки, а главное — он горячо молился за всех.
Любовь Андреевна Колядина рассказывает: «Я была у батюшки на вечерней молитве в келии. Он стоял на коленях, мы читали кто как, запинаясь, с ошибками. Батюшка никого не исправлял, тихо так стоял, склонив голову. Все продолжалось до часа ночи. Часто он молился до утра. Часа в четыре-пять — подъем и на общую молитву, и мы с ним».
«Мне посчастливилось быть у батюшки в келии на утреннем правиле, — вспоминает Ольга Удалова. — Во время молитвы он стоял, и тело его было совершенно неподвижно. Такое впечатление, что старец как бы покинул его. Лицо, обыкновенно бледное, пламенело».
Батюшка как-то сказал, что хотел бы принять высший ангельский образ — схиму, самое лучшее, что мог бы желать для себя, ибо, возлюбив всем существом своим Господа, уже был человеком не от мира сего, но туг же прослезился и добавил, что ради своих духовных чад и страждущего в духовных болезнях народа он не может себе это позволить, потому что схима требует уединения ради непрестанной молитвы.
«Размышляя о духовном подвиге, — писал он епископу Хризостому, — благоговея пред ним и соразмеряя свои и душевные и телесные силы, пред собой поставил вопрос: смогу ли достойно понести свой подвиг? Сознавая свое недостоинство, я пришел к решению: с благодарностью Вашему Преосвященству свято хранить в сердце преподанное Вами святительское благословение на принятие мной схимы во время, когда почувствую потребность и решимость на сей подвиг. Как всегда, так и в сем, полагаюсь на волю Божию».
Любовь и сострадание к ближнему не могли позволить отцу Серафиму оставить людей и уединиться в созерцательной молитве. Не затвор, а отвор благословил ему Господь до конца жизни, чтобы его сердце всегда было доступно любому страждущему, приходящему к нему. Он уподобился преподобному Захарию монаху, который за свое особое попечение о нищих странниках был прозван «отверстым»: «всем у него дверь отверста бяше». Он принял старчество как послушание и крест, зная, сколько страданий оно принесет ему.
Итак, отец Серафим всего себя отдавал ближним, чтобы спасти по крайней мере некоторых (1Кор.9:22), которые услышат голос Церкви и покаются в своих грехах. Он пребывал в подвиге и до конца своих дней не оставлял креста, который возложил на него Господь: принимал людей, разрешал недоуменные вопросы, неопустительно служил в храме или келейно, вычитывая положенные по уставу службы, иноческое правило, читал Священное Писание. Часто, особенно накануне двунадесятых праздников, он пребывал в молитве всю ночь. Один Бог ведает, как он мог в преклонных летах нести такой подвиг и когда он отдыхал.
Вот примерный распорядок дня старца, когда не было службы в храме (из воспоминаний Димитрия Тяпочкина, внука отца Серафима).
4.00–7.00— подъем, келейная молитва.
7.00–9.00 — общая молитва.
9.00–10.00 — завтрак.
10.00–12.00 — отдых.
12.00–13.00, иногда до 15.00 — прием паломников и духовенства.
13.00–16.00 — келейная дневная молитва.
16.00–17.00 — обед.
17.00–19.00 — отдых.
19.00–21.00 — прием паломников и духовных чад.
21.00–22.00 — ужин.
22.00–23.00 — отдых.
23.00–01.00 — вечерние молитвы.
01.00–04.00 — ночной отдых.
В богослужебный день после келейной молитвы отец Серафим вместе со всеми людьми с 6 часов утра до 15.00 часов дня молился в храме, затем до 17.00 часов были обед и отдых, до 20.00 снова молитва в храме, затем — ужин и вечернее правило.
Когда батюшка сильно переутомлялся, то ложился ненадолго на кровать, не снимая сапог. Подремлет пятнадцать-двадцать минут и — на молитву. Часто так и спал, не снимая сапог. Батюшка не исполнял молитву как долг, она была для него внутренней потребностью.
«Он сидит в садике в кресле, — вспоминает внук Димитрий, — цветут яблони, акации, аромат в саду. Смотрю на дедушку, вроде бы спит. На лице никаких признаков жизни, весь белый, опускаю глаза и вижу, что четки в его руках движутся. Я все еще в оцепенении, притронулся к его руке, а он открыл глаза и, как ни в чем не бывало, говорит: «Хорошо как в саду». И заплакал».
«Какое благо выше всего — прилепляться ко Господу и пребывать непрестанно в соединении с Ним», — пишет преподобный Иоанн Лествичник.
Отец Серафим так и жил перед Тем, в Ком была вся его жизнь. Он имел навык и потребность в непрестанной молитве, весь был благодарение и хвала Богу. «Утром дедушка, — вспоминает внук Димитрий, — выходя из кельи, громко пел: «Слава в вышних Богу и на земли мир». Это он так меня будил». Казалось, что молитва покаяния была ему не нужна.
Оставаясь в миру и живя в гуще народа, отец Серафим стяжал дух молитвы. «Это был святой отец, — говорил о нем архимандрит Трифон (Новиков), — о каких написано в древних патериках».
«Когда я впервые увидел отца Серафима, — пишет в своих воспоминаниях архимандрит Виктор (Мамонтов), у меня было впечатление, что он только что вышел из египетской пустыни, где жил с великими духовными мужами, такими, как Антоний Великий, познавая тайны вечной жизни. Казалось, его место только там, в мире библейской тишины, там, где ничто не нарушало его глубокого созерцания Бога. У него был вид безмолвника, посвятившего себя полностью молитве. От него исходил мир и покой.
Он брал тебя в этот покой, когда благословлял, произнося едва слышно и очень медленно, как дуновение тихого ветра: «Б-о-г бла-го-сло-ви-т». Ты выходил в этот момент из времени и погружался в вечность, в покой Господа. Для меня это была встреча с реальностями уже не материального мира, а с душой, ставшей светом».
Священноначалие Русской Православной Церкви высоко оценило пастырские труды отца Серафима. В 1970 году он был удостоен сана архимандрита и правом служения литургии с отверстыми царскими вратами до пения «Отче наш…». В 1974 году получил право ношения второго креста с украшениями. В 1977 году награжден орденом Святого равноапостольного князя Владимира III степени, в 1980 году — орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени, а также Патриаршей грамотой к 60-летию служения в священном сане. Старец с благодарностью принимал эти знаки внимания со стороны священноначалия, хотя не придавал самим наградам большого значения. Звания, должности, награды его никогда не интересовали, хотя он был удостоен всех наград, положенных пресвитеру, но больше всего он дорожил своим призванием. Внук Димитрий вспоминал, как однажды матушка Иоасафа укорила его за то, что он забыл поздравить отца Серафима со званием архимандрита и вторым крестом. Тогда, улучив момент по дороге из храма в келию, он сказал: «Дедушка, поздравляю вас с новым званием и наградами!» Отец Серафим тихо ответил: «Митенька, Господь давно дал мне священный сан. Это и есть та высшая награда, которой я удостоился до конца своей жизни у Господа. Архимандритство, митра и прочие награды меня мало интересуют. Ведь я «поп-тихоновец»[31], как было написано в моем уголовном деле, и это настолько для меня драгоценно, что заменяет все награды». И добавил: «Слава Богу, что я не благочинный». От звания благочинного отец Серафим отказался».
Как-то внук Димитрий спросил у батюшки: «После архимандритства бывает епископство?» Он медленно ответил: «Да, епископство. Но не для тихоновца». Самыми лучшими наградами для отца Серафима были любовь к нему народа и горячая молитва верующих.
Батюшка пребывал в подвиге до конца своих дней
…Путь следования за Христом — путь Креста и самоотвержения и другого пути нет…
(Из проповеди архимандрита Серафима).
В последние годы батюшка стал заметно слабеть. Его силы были на исходе, да и непосильный труд давал о себе знать. Но, как и прежде, он старался сам служить Божественную литургию. По причащении Святых Таин он оживал. Лицо его становилось светлым и благодатным. Для него уже миновали рубежи жизни, определенные человеку по слову Божию: «…дней лет наших… седмьдесят лет, аще же в силах — осмьдесят лет» (Пс.89:10).
Батюшке шел 88-й год. Еще тремя годами раньше старец мог бы отойти в вечность: тогда он серьезно заболел, у него было двустороннее воспаление легких. Но по слезным молитвам его духовных чад Господь продлил ему жизнь.
Вот как рассказывает об этом Елизавета Константиновна Фофанова: «Мы, белгородцы, приехали за три дня до начала престольного праздника. Батюшка был в тяжелом состоянии. Сказали, что он умирает. Мы на собранные пожертвования купили сорок больших просфор, сорок свечей и заказали молебен с акафистом. И все горячо, со слезами молились Спасителю, Царице Небесной, Святителю Николаю и преподобному Серафиму Саровскому о выздоровлении дорогого батюшки. И каковы были наши радость и благодарение Господу, когда батюшка поднялся и служил литургию в день престольного праздника, 19 декабря! Позже отец Серафим сказал: «По вашим слезам и молитвам Господь оставил меня для вас: на год или на два, не знаю». Тогда, во время болезни, он сподобился благодатного посещения почитаемых и любимых им святых — преподобного Серафима Саровского, святителя Николая и великомученицы Варвары».
Годы земной жизни старца завершались, душа его постоянно пребывала в молитве, в ней он черпал силы. Внешне он выглядел спокойным, ровным. Но очень часто глаза его были сосредоточенно печальными. Он благодарил Бога за все полученные от Него милости, оплакивал все свои прегрешения, готовился к переходу в Горний мир. До последних дней батюшка стремился служить у престола Божия и всей душой жалел народ Божий. В одной из своих проповедей он сказал со слезами: «Если я обрету благодать и милость у Бога, то и тогда, по отшествии своем, стоя у престола Господа, я буду молиться за вас, мои дорогие дети».
Уходя в алтарь, преклоняя свои старческие колени, отец Серафим молился, не замечая ничего окружающего, духом уносясь к престолу Того, Кому он посвятил всю свою жизнь. Лицо его в эти минуты сияло небесным светом. Весь его облик, как святого угодника Божия, вызывал невольное умиление и трепет своей надмирной чистотой и тихостью. Он молился всегда столько, сколько позволяли силы. Однажды батюшка так обессилел после службы, что из храма в келию его пришлось везти на тележке.
Незадолго до кончины, зная, что дни его земной жизни сочтены, батюшка пожелал, чтобы его похоронили у алтаря храма, с северной стороны, рядом с его келией. Вскоре в нишах северной стороны храма были написаны иконы преподобного Серафима Саровского и святого великомученика Димитрия Солунского — Ангела Хранителя батюшки во святом крещении, а также святого мученика Иоанна Воина.
В последние недели Великого поста 1982 года отец Серафим тяжело заболел. Состояние его ухудшалось день ото дня, телесные силы покидали его. Он знал, что дни его жизни сочтены. Батюшка пожелал, чтобы его пособоровали. 26 марта архиепископ Курский и Белгородский Хризостом[32] в сослужении духовенства совершил над ним Таинство Елеосвящения.
Вспоминает иеромонах Сергий (Рыбко): «Я приезжал еще один раз, в конце Великого поста, ближе к Страстной седмице. Батюшка уже лежал в забытьи, без сознания. И вот что интересно: при этом он читал наизусть молитвы и целые отрывки из Евангелия. Я сам это слышал. Он лежит и читает зачало Божией Матери, другие зачала, поет Херувимскую. Вот чем жила эта душа — молитвой. Поэтому бодрствовал ли батюшка или был без сознания, он жил в атмосфере молитвы».
Никому не хотелось верить в неизбежность конца, все питали еще надежду на возможность выздоровления старца. Но после временного облегчения ему становилось хуже. Врачи находили его положение очень серьезным. Прикованный к постели, он уже не мог вставать и до последнего дня причащался Святых Таин. Состояние его духа было необычайно высоким. Молитва его не прекращалась. При нем дежурили близкие духовные чала. Сердце работало плохо, пульс прослушивался слабо. Все были в томительной скорби и старались ничем не нарушать покоя больного. Он лежал с закрытыми глазами, но рука его часто поднималась для крестного знамения, уста шептали молитвы. Батюшка всех узнавал, пребывал в ясном рассудке, но говорить ему, видимо, было уже не под силу. Глаза его изредка открывались и смотрели куда-то вдаль. Митрофан Дмитриевич Гребенкин вспоминает: «… Весь этот последний батюшкин Великий пост он лежал в постели, а я просидел у него. Так получилось, что мне приходилось все эти дни спать небольшими урывками, и я очень боялся, что не выдержу. К моему удивлению, мне почти не хотелось спать и чувствовал я себя очень хорошо. Батюшка все повторял: «Неусыпаемый ты мой». Он лежал и все время молился. Эго было видно по выражению его лица и глаз, иногда я слышал, как он тихо говорил: «Ты моя крепость, Ты моя радость, Ты мой Бог…»
Из воспоминаний Татьяны Александровны Цыганковой[33], врача Ракитянской районной больницы, зав. терапевтическим отделением. «Первое впечатление об отце Серафиме было одним из самых ярких, меня поразила необыкновенная сила и красота этого очень немолодого человека. Отец Серафим лежал на спине с приподнятым подбородком. Его греческий профиль на всю жизнь запечатлелся в моей памяти, и седые волосы, и длинные пальцы рук. Отец Серафим находился в глубоко бессознательном состоянии при стабильной имодинамике наряду с другими объективными признаками, я об этом судила еще и потому, что на ногах у него были ожоги от грелки в виде пузырей. Мы сделали необходимые на тот момент инъекции лекарств, отпустили машину «скорой помощи», и я осталась рядом с отцом Серафимом. Не могу сейчас сказать, почему не уехала тогда со «скорой». Может быть, как мне казалось, своим присутствием я вселяла какую-то надежду на благополучный исход.
Всю ночь я наблюдала за больным, за изменениями в его состоянии. Он лежал неподвижно, будто пребывая и здесь с нами, и где-то далеко-далеко. Периодически его губы начинали шевелиться. Я не могла понять, что он шептал. Женщина, все время находящаяся с нами, разобрала слова какой-то молитвы. Я была потрясена этой способностью отца Серафима, находясь в критическом состоянии, не реагируя даже на укол иглы, продолжать молиться.
Это невероятно! К утру черты лица отца Серафима еще больше заострились, оно продолжало олицетворять силу духа. Жизнь как бы нехотя покидала это тело. К вечеру отца Серафима не стало».
Душа его готовилась к той очень важной встрече, которая неминуемо должна состояться у каждого — к встрече с великим таинством смерти.
Господу было угодно взять к Себе светлую душу отца Серафима в полной тишине в 17 часов 30 минут 19 апреля 1982 года, на второй день Светлого Христова Воскресения ( в понедельник Светлой седмицы).
«После литургии мы совершали крестный ход вокруг храма, — вспоминает Клавдия Пожидаева, — все радостно восклицали: «Христос Воскресе!» Дверь в келию батюшки была открыта, он слышал наши голоса, и мы радовались, что вместе с ним встречаем Праздников Праздник. Но все-таки на душе у меня было неспокойно.
Под пение в храме «Христос Воскресе» душа отца Серафима разлучилась с телом. Его земная жизнь завершилась Воскресением, Пасхой, Великое таинство перехода в вечную жизнь совершилось. «Жизни просил он у Тебя» (Пс.20:5), и Ты дал ему ее, жизнь вечную.
Началась вечерня, мы были в храме. Зашла какая-то женщина и тихо сообщила, что батюшка только что умер. И как только она это произнесла, все растерялись, как будто онемели, только послышался тихий плач. Но служба не прекращалась. Минут через двадцать или пятнадцать нам с Леночкой разрешили войти в келию и проститься с батюшкой, так как я срочно уезжала домой. Плохо помню, как и что было. Я увидела лежащего батюшку: лицо его открыли, оно было светлое, я поднесла к нему Леночку. Она обвила своей рукой его голову. Я поцеловала его в лицо, может быть, этого нельзя было делать, но я прощалась с самым родным для меня человеком. Мне не хотелось уезжать домой и не хотелось отходить от него, но я понимала, нужно ехать за ребятами. Если они не побывают на его похоронах, то для них это будет очень тяжело».
Сразу же была отслужена краткая лития по новопреставленному. Затем тело почившего помазали крестообразно елеем, монах Леонид[34] облек его в погребальные одежды и приступили к совершению панихиды. После панихиды было непрерывное чтение Евангелия у гроба почившего. Быстро разнеслась весть о кончине отца Серафима и болью отозвалась в сердцах его почитателей. Всем им хотелось побывать около честных останков блаженно почившего старца и благоговейно приложиться к ним как к святыне. Ко гробу старца стекалось множество почитателей и духовных чад. Было послано более ста телеграмм с указанием даты погребения усопшего. Многие из духовных чад не смогли прибыть в Ракитное вовремя, так как во многих телеграммах кем-то была изменена дата похорон. Власти отменили на Ракитное рейсовые пассажирские автобусы в связи с якобы большой аварией на дороге. На поезда московского направления из Крыма и Кавказа не продавали билетов до Белгорода. Всем отвечали: «Мест нет». В Запорожье на вокзале у билетных касс собралась большая очередь, и некоторые пассажиры в недоумении спрашивали, почему столько желающих. Кто-то ответил: «Говорят, в Белгороде умер какой-то святой». Тот факт, что отовсюду и все, кто имел возможность, спешили ко гробу старца, чтобы поклониться его останкам, показал, как действительно велика была семья его духовных чад и почитателей. Как он при жизни был дорог людям, так остался дорог и по своем успении.
Тем временем при гробе старца ежедневно совершались панихиды и парастасы (заупокойные всенощные бдения), а приезжающие священнослужители служили еще литии, так что моление у гроба почившего почти не прерывалось, являясь как бы продолжением непрестанной молитвы самого отца Серафима. Можно сказать, что все три дня до погребения были временем неутихающей молитвы, которая, умиляя скорбные сердца осиротевших чад старца, вселяла надежду, что его светлый дух останется вечно живым и еще более близким для всех знавших его. Душа его упокоилась от дел своих в селениях, где жилище всех веселящихся о Господе.
21 апреля в среду Светлой седмицы архиепископ Курский и Белгородский Хризостом при большом стечении духовенства и мирян, преданных и любящих чад отца Серафима, совершил Божественную литургию и отпевание по пасхальному чину. Неподдельное чувство скорбящей любви видно было на лицах собравшихся вокруг гроба. Если заупокойная служба сопровождалась рыданиями людей, чувствовавших себя осиротевшими, то в отпевании не было ничего скорбного: оно напоминало собою скорее светлую пасхальную заутреню, и чем дальше шла служба, тем это праздничное настроение у молящихся все росло и увеличивалось. Чувствовалось, что от гроба исходит какая-то благодатная сила и наполняет сердца присутствующих неземной радостью. Для всех ясно было, что во гробе лежит святой, праведник, и дух его незримо витает в храме, объемля своею любовью и лаской всех собравшихся отдать ему последний долг. Владыка Хризостом обратился к народу со словом, в котором говорил о благочестивой жизни и высоком пастырском подвиге почившего. Перед погребением владыке передали в алтарь распоряжение властей, чтобы гроб с телом почившего батюшки не обносить вокруг храма, как это полагается по чину иерейского погребения. На это владыка ответил: «Передайте им, что я сам знаю, как нужно совершать погребение!»
Гроб с телом отца Серафима был благоговейно изнесен священнослужителями из храма, с пением пасхальных ирмосов обнесен вокруг него и поставлен для прощания у могилы, рядом с алтарем. Два дня шел дождь со снегом. Само небо как бы плакало о почившем старце. При погребении порывы ветра достигали такой силы, что буквально валили людей с ног, и стихали только среди сгрудившегося в скорбном молчании народа, словно подталкивая собравшихся к прощальному месту.
Более двух часов шло прощание, из-за большого скопления народа не все желающие смогли подойти ко гробу. Среди провожающих были «блюстители порядка» в штатском. Остерегаясь их, некий фотограф влез на крышу сарая и оттуда незаметно бросал заснятые пленки жене. Осторожность была не напрасной: у всех оставшихся внизу фотопленки были изъяты и засвечены. Да и власти требовали «закончить все побыстрее». Наступили последние минуты прощания. Закрыли крышку гроба, с любовью и благоговением подняли честные останки в Бозе почившего старца и медленно опустили в могилу, выложенную дубовыми досками, а стены обложили кирпичом, «словно подземную келью», сверху прикрыли мраморными плитами, засыпали землей, воздвигнув деревянный крест — знамение победы Господа над адом и смертью. На месте упокоения старца затеплилась неугасимая лампада, возжжено множество свечей.
Боголюбивая душа отца Серафима отошла ко Господу, Которого он возлюбил от дней самой ранней юности, Которому служил безраздельно всю свою долгую жизнь, своими дивными делами прославляя Его: молитвой врачуя неисцелимые болезни, отъемля всякую слезу от лиц страждущих и изнемогающих.
Почил от дел своих праведник, умолкли уста, вещавшие слова любви и утешения, закрылись очи, с лаской и прозрением проникавшие в сердца людей, но его пламенный светлый дух дерзновенно молится Богу, как и обещал старец, за всех приходящих к нему. И невольно вспоминаются слова преподобного Серафима Саровского: «…Когда меня не станет, ходите, матушка, ко мне на гробик; ходите как вам время есть, и чем чаще, тем лучше. Все, что ни есть у вас на душе, все, о чем ни скорбите, что ни случилось бы с вами, все придите да мне на гробик, припав к земле, как живому, и расскажите. И услышу вас, и скорбь ваша пройдет. Как с живым, со мной говорите, и всегда я для вас жив буду».
Отец Серафим жив, любит нac, молится за нас и помогает нам, ибо «любовь, по слову преподобного Силуана, не может забыть».
Для отца Серафима смерти не было и нет: он никогда не разлучался с Богом.
Вот и к отцу Серафиму уже более двадцати восьми лет приходят и приезжают в Ракитное в Никольский храм его духовные чада, проникнутые верой в силу и помощь молитв дорогого батюшки, чтобы в таинстве общения с ним на его могилке напитаться духом любви.
Часть II. Воспоминания духовных чад
Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе ”.
Жизнь отца Серафима являла собой неугасимое горение духа. Любовь к Богу с раннего детства, пылкая и жертвенная, вдохновляла и укрепляла его на трудном жизненном пути. Он мужественно переносил невзгоды, за все благодаря Бога, пребывая в твердой уверенности, что испытания посылаются человеку от Бога и необходимы для его очищения и освящения. Со смирением преодоленные трудности не ожесточили пастыря, напротив, сделали его человеком широкой души, с горячим, любящим сердцем. Отец Серафим был скромным, кротким, смиренным человеком. Добрый и снисходительный к другим, он был необычайно строг к себе, вел аскетическую, подвижническую монашескую жизнь, имел всецелое послушание своим архипастырям и искренне любил их.
Всего себя старец Серафим посвятил служению людям. Любовь к ближним прежде всего выражалась в его самоотверженном пастырском душепопечении. Любвеобильное сердце старца было всегда открыто для всех приходивших к нему. Живая вера в Бога, глубокое смирение, ум, просветленный светом христианских истин, духовная опытность, приобретенная подвижнической жизнью и долговременным общением с людьми всех возрастов и профессий, — все это сообщало живому слову старца силу, убедительность, проникновенность, а часто и прозрение прошедшего, настоящего и будущего из жизни собеседника. Со всех концов страны стекались к нему люди, делясь с ним своими горестями и радостями, испрашивая совета, и все уходили от него с обретенным душевным покоем. Пастырь, умудренный жизненным опытом, просвещенный благодатью Божией, находил путь к каждому сердцу. Ему были совершенно чужды осуждение и равнодушное отношение к людям. Всех, кто хоть однажды посетил отца Серафима, старец считал своими духовными чадами, за которых он всегда молился. Об этом отец Серафим говорил неоднократно.
В жизнеописании архимандрита Серафима невозможно не сказать о его духовных чадах, ставших епископами, иноками, священниками, об их общении, о том, как воспринимали старца и относились к нему люди, трудившиеся на ниве Христовой. Между отцом Серафимом и некоторыми известными своими духовными дарованиями старцами возникли дружелюбные отношения, которые называются еще родством по духу. Это схиархимандрит Прохор (до схимы Полихроний), схиигумен Амфилохий (до схимы Иосиф) из Почаева (ныне прославлен в лике святых УПЦ); благословлял на поездку в Ракитное своих духовных чад и схиархимандрит Севастиан[35], из Караганды, ныне прославленный в лике святых.
Из Троице-Сергиевой лавры приезжал архимандрит Кирилл (Павлов), из Успенской Печерской обители — схиигумен Савва[36] и архимандрит Адриан (Кирсанов), из Китаевой пустыни (Киев) — игумен Пафнутий (схиархимандрит Феофил). Узы любви о Господе связывали отца Серафима с преподобным Кукшей Одесским, ныне прославленным в лике святых, и духовниками женской Преображенской пустыни под Ригой — схиархимандритом Космой[37] и архимандритом Таврионом[38]. В 1968 году митрополит Рижский и Латвийский Леонид после кончины старца Космы пригласил отца Серафима быть духовником насельниц Спасо-Преображенской пустыни. Но по молитвам прихожан Ракитянского храма Господь оставил батюшку на прежнем месте, а духовником в пустыни стал отец Таврион. Ныне духовником пустыни является архимандрит Тихон — духовный сын отца Серафима из Ракитного.
Ниже приводим воспоминания об отце Серафиме его духовных чад и близких по духу людей.
Никодим (Руснак), митрополит Харьковский и Богодуховский[39]: «…Сопереживая и анализируя жизненный путь архимандрита Серафима (Тяпочкина), которого я знал и бывал у него, исповедовался и беседовал с ним, я понял, что передо мною был воин Христов, отдававший и отдающий свою жизнь за Церковь Христову. Впечатление от общения с отцом Серафимом передать человеческим языком трудно, а может быть, и невозможно. Это был пример для всех мае верного слуги Божьего, молитвенника и стойкого исповедника православной веры, полного благодати и истины, берущего на себя немощи своих духовных чад.
В то тяжелое время, я бы сказал, среди наших народов были три неугасимые лампады, которые вопреки безбожническому лукавству ярко горели, светили и зажигали в сердцах людских, соприкасающихся с ними, огонь веры, стойкости и мужества. Одним из таких старцев был схиигумен Кукша (Величко)[40], уже причисленный Церковью к лику святых за свое непрестанное горение, зажигающее людей и подкрепляющее их в вере.
Другим таким светильником я назвал бы приснопамятного, в Бозе почившего митрополита Зиновия[41], к которому практически вся Россия, все епископы сходились, чтобы поисповедоваться в своих тяжелых испытаниях и подкрепиться в стоянии в вере православной.
Третьим таким светильником был архимандрит Серафим (Тяпочкин). И если Божиим изволением и волей Святейшего Патриарха Алексия и Священного Синода Русской Православной Церкви этот подвижник благочестия будет причислен к лику святых, мы искренне возблагодарим Бога, что в торжествующей Церкви Небесной возжжен еще один пламенный светильник от Святой Руси перед Престолом Всевышнего Творца.
Можно только возрадоваться и возвеселиться, что земля наша не перестает гореть лампадами веры как в былые времена, так и в наше время и будет вечно гореть, ибо Русь Святая является Домом Божиим, и в этом Доме Божием Господь зажигает такие неугасимые лампады, как отец Серафим. Дай Бог, чтобы святое его имя из рода в род служило преподобническим горением для всех немощных, дабы народ наш Божий подкреплялся, стоял и не угасал в Святой вере православной. Я верю, что отец Серафим уже молится перед Богом за всех нас, дабы и нам устоять в чистоте, благочестии и неугасимой вере православной на нашей святой земле, вместе с нашим боголюбивым народом Божиим.»
Архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий[42] (Смирнов): «Моя первая встреча с архимандритом Серафимом произошла в 1959 году в СпасоПреображенской пустыни под Ригой. В этом крохотном монастыре храмы и келии еще были не устроены, все это будет позже, после того как владыка Леонид (Поляков) пригласит в 1968 году архимандрита Тавриона (Батозского) — старца, ставшего духовником Преображенской пустыни, который в течение десяти лет, до дня своей кончины, 13 августа 1978 года, руководил духовной жизнью насельниц обители.
А примерно за десять лет до того мне, юному семинаристу, глубоко в душу запало церковное богослужение, проходившее при участии отца Серафима в монастырском храме. Со всей теплотой, каким-то неземным дыханием души, со многими слезами творил он обо всех горячую молитву к Богу.
Любовь и сострадание к людям ощущались и в его проповеди. Именно от него я услышал такое чтение Евангелия, которое долго еще звучало в моей душе. Можно сказать, читал он всем сердцем, от глубины всего своего существа. Я помню это и сегодня. Молился он со слезами, горел во время молитвы, он творил ее, жил ею, ощущая постоянную потребность в общении с Господом. Кто имел радость общения с батюшкой, во всей полноте мог оценить его высокий духовный дар.
Спустя пятнадцать лет Господь снова сподобил меня побывать у этого дивного благодатного старца, на сей раз уже в Ракитном…
Мы с братом прибыли в будний день, а в церкви было довольно многолюдно. Все присутствующие принимали участие в Елеосвящении (соборовании), которое сопровождалось душераздирающими криками страждущих душой и телом паломников, единственной надеждой которых была молитва отца Серафима. Крики болящих приводили нас в ужас. По болезни и телесной немощи (батюшке тогда было уже 80 лет) отец Серафим не присутствовал в храме, мы его застали в келии за чтением молитвенного правила. Он нас принял, как своих давних знакомых. Его светящиеся глаза излучали отеческую любовь. Хотя со времени моей первой встречи с ним в Рижской пустыньке прошло уже много лет, старец ничего не забыл: тот же любящий и внимательный взгляд, проникающий в самую душу, доставлявший тихую радость и покой…
Внешне он почти не изменился, только стал еще более согбенным от той непосильной в человеческом понимании ноши, которую он не тяготился нести за нас. На его аскетическом лице добавилось лишь больше скорбных морщин — своего рода печать бессонных ночей и бдений со слезами, голова старца стала совершенно седой.
Мы попросили благословения исповедаться, что он с любовью и исполнил. Во время исповеди все сомнения и тревоги рассеялись как бы сами собой, для меня это был не обличитель, который знал все о человеке, но близкий и родной человек. Не было во мне и страха, удерживающего от исповеди, наше общение скорее походило на доверительную беседу сына с отцом. После разрешительной молитвы батюшка обнял меня и крепко, довольно сильно прижал мою голову к своей, как бы обмягчая ее буйность, а может, таким образом вложил силу своих охранительных молитв на мою дальнейшую пастырскую и архипастырскую жизнь.
Наша встреча пришлась на первый день Петрова поста. Отец Серафим пригласил нас к обеду. Трапеза проходила в той же комнате, где он совершал свое молитвенное правило. За скромным постным столом беседа продолжилась. Батюшка живо интересовался нашей монастырской жизнью. Он, как никто, умел внимательно слушать, говорил мало, голос его всегда был тихим. Старец вступал в разговор тогда, когда нужно было что-то уточнить или дополнить для нашего понимания, при этом он не перебивал говорящего. О себе самом, по присущей ему скромности, он не рассказывал, но с особой теплотой вспоминал учебу в Московской Духовной академии.
Я обратил внимание, что во время трапезы батюшка все больше потчевал нас — сам же к еде только прикоснулся. Казалось, в его присутствии можно пребывать часами без утомления и усталости от разговора. Но это было невыполнимым желанием: мы понимали, что временем старца нужно дорожить, возможности встретиться с ним ищет множество страждущих. Этот поток увеличивался особенно в дни поста, поскольку отец Серафим нес послушание духовника Курско-Белгородской епархии.
Испросив у старца его молитв и взяв благословение, мы тронулись в обратный путь. Благословлял нас батюшка напрестольным крестом. Запомнилось, что по молитвам старца и с Божией помощью мы без происшествий преодолели большое расстояние на нашем ненадежном стареньком автомобиле.
Встреча с отцом Серафимом на всю жизнь вошла в мое сердце, воспоминание о нем согревает мою душу, и с произнесением его дорогого имени я чувствую прилив духовных сил, поддержку в молитве, в архипастырском служении Богу и святой Матери-Церкви. Царство ему Небесное, вечный покой».
Отзывы архиереев об отце Серафиме (характеристики из личного дела)
Протоиерей Димитрий Тяпочкин — ревностный пастырь, поведения отличного. Глубоко религиозный человек. Хозяйственник. Произвел ремонт храма.
Гурий,
архиепископ Днепропетровский и Запорожский
(середина 1950-х)
Протоиерей Димитрий Тяпочкин примерный пастырь, хороший проповедник, вежлив, обходителен, замечательный хозяин. Несмотря на то, что приход разбросан, маловерующ и беден, он смог убедить прихожан в необходимости ремонта храма, и храм капитально отремонтирован, стал неузнаваем, и посещаемость его во много раз увеличилась. Овцы пастыря своего знают и идут за ним.
Иоасаф,
епископ Днепропетровский и Запорожский
(конец 1950-х)
Протоиерей Димитрий Тяпочкин отличается особой религиозной настроенностью. Богослужения совершает строго по уставу. Тих, скромен, ведет строго монашеский образ жизни. Прихожане любят своего пастыря.
Серафим,
епископ Курский и Белгородский
Архимандрит Серафим Тяпочкин 60 лет достойно и праведно служит церкви Христовой. За святость жизни любят и почитают о. Серафима не только прихожане, но и множество других людей, которые получают от него импульс для своей религиозной жизни.
Хризостом,
архиепископ Курский и Белгородский
Отзывы архиереев о возможной канонизации отца Серафима
Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!
На Ваше письмо о старце Серафиме (Тяпочкине) могу сказать, что мне пришлось побывать у него всего один раз, в силу моей тогда занятости по св. лавре преподобного Сергия, будучи связанным послушаниями.
Слышал о нем только хорошее, знал о том, что к нему тянулся верующий народ со всех сторон. Для того времени он был «светильником» — горяй и светяй.
Застал его на утренней молитве вместе с народом в его небольшом домике в с. Ракитное, затем исповедался. Чувствовал, как все было наполнено особым умилением, поскольку соприкоснулся с кротким, смиренным, любвеобильным старцем, помогающим людям идти к Богу и доброй христианской жизни.
Поистине это был Божий человек и достоин прославления в лике святых преподобных и праведных нашей Русской Православной Церкви.
С братской любовью во Христе Евсевий,
архиепископ (ныне митрополит) Псковский и Великолукский,
12 июля 2002 года, г. Псков
Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!
С сердечной радостью узнал о предпринимаемых Вами трудах по подготовке канонизации старца архимандрита Серафима (Тяпочкина) и сбору материалов о его жизненном пути и подвиге.
Благодарение Богу, мне довелось знать отца Серафима. Я приезжал к нему в Ракитное с 1973 по 1979 год вместе с архимандритом Геннадием (в схиме Григорий), который глубоко почитал отца Серафима как человека святой жизни и относился к нему с большим благоговением.
Прославление отца Серафима в лике преподобных стало бы свидетельством великой милости Божией к нам, совершением правды Его. Верю, что Господь прославит угодника Своего за высоту духовной жизни и ту подлинную любовь, которой он возлюбил Творца и с которой он бережно вел вверенные его попечению души, наставляя их на пути к Царству Небесному.
С пожеланием Вашему Высокопреосвященству помощи Божией в архипастырских трудах, с любовью во Христе.
АЛЕКСИЙ, архиепископ Орехово-Зуевский, викарий
(ныне архиепископ) Московской епархии
Ваше Высокопреосвященство!
В ответ на Ваше письмо сообщаю, что лично у меня нет никаких сомнений в праведности и святости жизни архимандрита Серафима (Тяпочкина), и считаю необходимым и справедливым канонизацию его в лике преподобных.
Хотя лично я его знал только в течение 2 лет (1980–1982 гг.), но за это короткое время, основываясь на личном опыте общения с архимандритом Серафимом и по рассказам других людей, я пришел к выводу, что мы общались с праведником, наделенным многими божественными дарами. Наиболее впечатляющим был дар его любви к людям. Он вел поистине подвижнический образ жизни, полностью посвященный служению Богу и Его Святой Церкви.
Архимандрит Серафим был глубоким молитвенником, он ходил перед Богом и, как верный слуга, всегда был готов исполнить Его святую волю. Дерзаю утверждать, что он не только был в постоянной молитвенной связи с Господом, но и получал от Него вразумления и указания по исполнению Его Святой воли. Думаю, что он был в Боге, и Бог был в нем.
С братской любовью во Христе Иннокентий, архиепископ Корсунский
Архимандрит Кирилл (Павлов), духовник Троице-Сергиевой лавры, рассказывает о встрече с отцом Серафимом:
«В Ракитное мы приехали с архимандритом Геннадием (Давыдовым), который служил в селе Покровка недалеко от Ракитного. Отца Геннадия я знал давно, это был мудрый старец с природным смекалистым умом.
С отцом Серафимом я лично знаком не был, только слышал от его духовных чад и от своих собратьев по вере, какой это любвеобильный, кроткий и смиренный батюшка.
Когда мы подъезжали к селу, меня наполнило чувство радости и внутреннего умиротворения. Машина остановилась возле храма. Не успели мы выйти из нее, как батюшке сообщили о нашем приезде. Он встретил нас с таким воодушевлением, как будто ждал нас. Его глаза светились необыкновенной любовью. Он поприветствовал нас троекратным лобызанием, спросил, как доехали и нуждаемся ли мы в отдыхе. Мы не устали. Несмотря на свой преклонный возраст и слабое здоровье, батюшка выглядел бодрым. Хотя я его видел впервые, было такое чувство, что мы никогда с ним не расставались. Нас пригласили попить чайку в комнату, где обычно проводилась келейная молитва. Беседа наша продолжалась. Мы говорили о делах церковных, вспоминали о прошедших годах, батюшка интересовался жизнью братии в Троице-Сергиевой лавре.
Что я могу сказать о нем? Это был человек не от мира сего. Если вспомнить слова Христа, которые Он сказал о Нафанаиле, который пожелал увидеть Его, что это подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства (Ин.1:47), то этими словами Христа можно сказать и об архимандрите Серафиме. Он не мудрствовал лукаво. Из его уст не исходило никакого пустого слова, не произносилось шуток, и в нем не было лести. Все его слова были наполнены смыслом. Я не заметил и тени неудовольствия или раздражительности в его голосе, он никого не осудил, не выразил какого-либо негодования. Был кроток, скромен и смирен.
Что меня больше всего поразило и запомнилось — это его неподдельная любовь, исходящая из глубины его сердца, одинаковая ко всем. В присутствии батюшки все умиротворялось. Да, этот человек был наполнен Божией любовью. Это впечатление осталось в моем сердце.
Батюшка повел нас в храм, показал иконы, написанные иеромонахом Зиноном. Мы не заметили времени, которое прошло очень быстро. Нам надо было уезжать. Не было у нас усталости, не чувствовалось утомления от поездки. Сфотографировавшись с батюшкой и паломниками на молитвенную память, мы поблагодарили Бога за дарованную нам встречу и общение. Тепло простившись с отцом Серафимом, мы отправились в обратный путь. На душе было легко, но все-таки грусть расставания ощущалась в моем сердце. Долго я еще оставался под впечатлением от встречи с этим удивительным человеком и подлинным христианином. Хотя с тех пор прошло много времени, но образ отца Серафима и его всепроникающая любовь не изгладились в моей памяти, а на всю жизнь вошли в мою душу.
Будем же непрестанно молитвенно памятовать о нем, платя за любовь любовью и питая надежду, что он у Господа не забудет нас в молитвах, как не забывал при жизни. Да упокоит Господь душу его в селениях праведных».
Из воспоминаний игумена Евстратия (Гайшуна) — насельника Свято-Успенского Почаевского мужского монастыря, духовного сына старца Серафима.
«Господь сподобил меня встретиться с архимандритом Серафимом в начале 1960-х годов. В то время я жил в Днепропетровске и работал газосварщиком на лакокрасочном заводе. Иногда ходил в церковь. Мое воцерковление ускорилось благодаря знакомству с удивительным батюшкой, протоиереем Димитрием Тяпочкиным, который служил в Свято-Троицком кафедральном соборе. Много верующих приходило в храм, когда служил отец Димитрий, несмотря на хрущевский атеизм, скрытые гонения и слежку. На исповедь к отцу Димитрию всегда была огромная очередь. В то время священникам не разрешалось после службы оставаться в храме и общаться с паствой. После службы собор закрывали, но батюшка продолжал втайне исповедовать на чердаке Свято-Троицкого собора до поздней ночи. Его ревностное служение не устраивало власти. По требованию уполномоченного по делам религий, владыка Иоасаф освободил отца Димитрия от настоятельства в соборе и должности секретаря епархии. Власти лишили отца Димитрия регистрации и потребовали покинуть Днепропетровскую епархию. Батюшку пригласил служить в Курско-Белгородскую епархию владыка Леонид. Шесть месяцев отец Димитрий был настоятелем Успенской церкви в селе Соколовка, но и там гонения продолжались. Поначалу в церковь ходило очень мало людей. Духовные чада отца Димитрия приезжали к нему из Днепропетровска и помогали восстанавливать разрушенный храм и сделали ремонт. Из окрестных деревень и сел стали приходить и приезжать люди. Властям, в лице местного председателя колхоза, это не понравилось. За его ревностное служение председатель колхоза просил уполномоченного удалить его из Соколовки. В Курском Сергиево-Казанском соборе протоиерей Димитрий епископом Леонидом был пострижен в монашество с именем Серафим. Иеромонах Серафим просил владыку найти ему какой-нибудь разрушенный храм, чтобы только продолжить пастырское служение. Таким оказался храм Святителя и Чудотворца Николая в поселке Ракитное. Я продолжал окормляться у батюшки, ездил к нему из Днепропетровска. По его благословению со временем перебрался в Ракитное, помогал восстанавливать храм, выполнял газосварочные работы, проводил паровое отопление. Отец Серафим жил недалеко от церкви, у Марии Григорьевны, в маленьком ветхом домике.
Постоянные болезни и недуги, как отголоски тюрем и ссылок, сопровождали старца. Как не вспомнить слова преподобного Серафима Саровского:
«Кто переносит болезнь с терпением и благодарением, тому вменяется она вместо подвига». Батюшка исцеляя других, безропотно нес свои немощи и болезни. Подорванное здоровье не давало возможности быть в храме. Он продолжал служить келейно. Да и власти запрещали ежедневное служение в храме. Правящий архиерей вынужден был благословить батюшку служить по выходным и в праздники. После богослужения в храме батюшка Серафим продолжал до поздней ночи молиться дома, с приезжими духовными чадами. Ложились спать тут же, на пол, а у батюшки — местечко рядом с нами, отгороженное занавеской, и больше никаких удобств.
Гонения продолжались. Следили, кто приезжал и общался со старцем. По его благословению мне пришлось переехать в Белоруссию, в город Бобруйск, где я был рукоположен во диакона, а позже во пресвитера. Служил на приходах Гомельской и Брестской епархий. По возможности приезжал в Ракитное, продолжая окормляться у старца. Трудное было время. Много пришлось претерпеть. Господь по молитвам старца укреплял и поддерживал. Батюшка Серафим говорил: «Надейтесь, Божия Матерь не оставит. Вы пойдете вслед за Ней по Ее стопам». Действительно, по его молитвам, храмы, где я служил, именовались в честь Пресвятой Богородицы. И я верю, что по молитвам угодника Божия архимандрита Серафима, Матерь Божия приняла меня под Свой Покров в Свято-Успенской Почаевской лавре.
Господи, Иисусе Христе, молитвами приснопоминаемого отца Серафима, помилуй нас».
Из воспоминаний протоиерея Леонида Константинова, настоятеля Николо-Иоасафовского собора в Белгороде.
«В октябре 1979 года я и отец Иоанн Абрамук, настоятель Крестовоздвиженского храма, поехали в Ракитное к архимандриту Серафиму. Об этой поездке отец Иоанн говорил мне давно, и я немного побаивался. Я понимал, что это были своего рода «смотрины»: дело шло к моему рукоположению в сан диакона. Отец Иоанн поручался за меня, брал на себя ответственность перед правящим архиереем. Поэтому, чтобы еще раз убедиться в моем искреннем желании служить Богу и Церкви, он и повез меня к знаменитому старцу, которого по всей России считали прозорливым…
Во время поездки к отцу Серафиму я вспоминал о моем прошедшем времени в жизни. Беспечное детство, шальная юность, армия (флот), создание семьи и, наконец, — Церковь. В те годы заканчивалась эпоха Брежнева. Открытых гонений на Церковь уже не было. Храмы, как при Хрущеве, никто не закрывал, но и новых строить не разрешали. Совет уполномоченных по делам религий следил за этим зорко. Посещающих церковь считали не совсем нормальными, а о приобретении православной литературы не могло быть и речи. «Журнал Московской Патриархии», выходивший раз в месяц и доступный в основном, только священникам, наполовину был заполнен отчетами о конгрессах и конференциях. Однако стремление к Богу, желание найти путь к Нему через испытания, насмешки и скорби, никогда не оставались безрезультатными. «Грядущего ко Мне не изжену вон», — сказал Господь (Ин.6:37). И я шел, почти наугад, но с каким-то внутренним доверием к Нему, распятому и за меня, и за весь мир. И Он не оставлял меня. Я это чувствовал и видел но всем том, что совершалось тогда во мне и вокруг меня. Стоило случиться в те дни какому-нибудь печальному событию в моей жизни, как туг же Господь посылал утешение и как бы говорил: «Не бойся, ободрись, Я с тобой». Так, едва переступив порог храма, я был подвергнут суровому испытанию: внезапно умерла мама. В это время моя семья была очень далеко от меня. Жена с дочерью уехала на Дальний Восток погостить к родным. И буквально на другой день мама, до этого почти не болевшая, в одночасье была сражена инфарктом. Еще не старая (ей только исполнилось шестьдесят), она оставила этот мир. Я был потрясен ее смертью. Все вокруг внезапно изменилось: я смотрел на жизнь совсем другими глазами. И в это время Господь послал мне глубоко верующего человека, который не дал впасть в отчаяние. «Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает», — сказано в Святом Евангелии (Евр.12:6). И я знал, что принят Им. Я не просто ощущал это, но был в этом уверен.
А затем друзья, связанные со мной многолетними узами дружбы, вдруг стали отдаляться от меня. Причиной послужило мое постоянное посещение храма. Я ничего не мог понять и задавал себе один и тот же вопрос: почему? Ведь столько было заверений и клятв — дружить до гробовой доски. Как же так? Тогда я еще не понимал слов Христа: «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир» (Ин.15:19). «Слава Богу за все!» — говорю я сейчас, вспоминая прошедшее.
Вынужденный уйти с работы, которая мне нравилась, я как-то незаметно сблизился и подружился с отцом Иоанном. Открыв ему свое желание стать священнослужителем, я нашел в его сердце самое горячее сочувствие, и мы вместе стали продвигаться к осуществлению этой мечты. Батюшка снабжал меня нужной литературой, а также советовал чаще посещать храм и непременно принимать участие в богослужении.
С замиранием сердца думал я о предстоящей встрече с отцом Серафимом. Слава о нем шла по всей России. Пройдя круги ада в сталинских лагерях, он не утратил любви, сумел сохранить ее в своем сердце и к друзьям, и к врагам. А Господь, видя это, приумножил ее во сто крат. Со всех концов страны стекались к нему страждущие, жаждущие утешения, совета и молитвы. В келии и возле храма, где служил отец Серафим, каждый день можно было видеть десятки и даже сотни людей. Были здесь архиереи и писатели, преподаватели вузов и военные, но больше всего было простых, известных одному только Богу мирян. Всех с любовью принимал батюшка Серафим. Никто не оставался неутешенным. Ходили слухи, что еще в 1956 году именно он силой своих молитв смог взять икону из рук окаменевшей Зои. Случай этот будоражил сознание и верующих, и атеистов. «Какова будет моя встреча с ним? — думал я, подъезжая к Ракитному. — Примет ли меня отец Серафим или, обличив грехи мои, не допустит даже и до порога». Чем ближе были мы к Никольскому храму, тем неотступнее донимали меня эти мысли. Но на душе было спокойно, автомобиль наш мчался быстро, и вот уже вдали показалось село Ракитное. Я где-то читал, что это бывшее имение князей Юсуповых. Когда-то один из них, Феликс Юсупов, отбывал здесь наказание за убийство Распутина[43]. Много воды утекло с тех пор, и многое изменилось. Маленькое в прошлом сельцо[44] стало ныне крупным районным центром с больницами, школами и заводами. А для тысяч православных людей это было место, где уже двадцать лет служил Богу и людям великий молитвенник — отец Серафим.
Наконец наша машина остановилась у церковной ограды. Мы вышли и направились к небольшому домику, где жил знаменитый старец. День был будничный, и служба в храме не совершалась. По таким дням отец Серафим обычно служил у себя в келии обедницу с приезжим духовенством. Мы зашли в прихожую. Здесь уже было человек десять священников, прибывших из разных мест. Встретила нас монахиня Иоасафа. После взаимных приветствий она, среди прочего, пожаловалась на отца Серафима. Оказывается, батюшка опять всю ночь не сомкнул глаз, молился и клал поклоны. Такие строгие подвиги и ночные бдения внушали тревогу ближайшему окружению старца — боялись за его здоровье. Между тем я стал осматривать помещение. Прихожая была небольшая, но места всем хватало. Несколько клеток с певчими птицами, пучки душистых трав, иконы — вот и все убранство. Прямо передо мной раскрытая дверь вела в основную комнату, гораздо больше прихожей. Но туда никто не входил. Я не сразу заметил справа еще одну небольшую дверцу, ведущую в келию старца. Приезжие священники в ожидании выхода старца говорили о своих приходских проблемах. Один жаловался на алчность старосты, другой радовался удачной покупке лампадного масла, третий сетовал на болезни. Это был близкий, но пока еще не очень известный мне мир. Мое внимание привлекла большая старинная гравюра, изображавшая схождение благодатного огня над Гробом Господним в Иерусалиме[45].
Вдруг все смолкло, и почти рядом с собой я увидел очень ветхого и немного сутулого старичка с пепельной бородой, облаченного в мантию. Я замер. Это был отец Серафим. Он появился не из парадной открытой двери, откуда все его ждали, а из своей келии. Подходя к каждому, он приветствовал гостя троекратным целованием. Меня он обнял, благословил и спросил имя. «Леонид», — ответил я. «Что-то не припомню», — сказал батюшка. В это время отец Иоанн, тоже немного растерявшийся, представил меня. «А, готовите себе помощника», — одобрительно заулыбался старец и попросил всех, кто хочет исповедаться, зайти к нему. Когда подошла моя очередь, я приблизился к батюшке с трепетом. Прямо передо мной стоял небольшой аналой с Евангелием и крестом. Я склонил голову, и отец Серафим накрыл меня своей епитрахилью… Помолившись, батюшка начал со мной разговор. Никогда и ни с кем я так свободно и доверительно не говорил. Открыв отцу Серафиму свое желание стать священнослужителем, я выразил сомнение: «Может быть, эта мысль пришла ко мне случайно». «Нет, деточка, — отвечал старец, — ничего случайного в этом мире не бывает». И, сославшись на слова апостола Павла, батюшка прочитал надо мной разрешительную молитву. Затем (мне это особенно хорошо запомнилось) отец Серафим взял меня за голову и очень крепко прижал к своей. Я даже не ожидал, что у старца такая сила В последующие наши встречи он делал так всегда. «Теперь иди туда и приложись к стопочке», — сказал батюшка, указывая на угол комнаты. Я прошел в глубину келии и увидел след от человеческой стопы. Эго была величайшая святыня — оттиск со следа, оставленного Пресвятой Богородицей. С замиранием сердца, уже плохо соображая, я поцеловал святыню и, приняв благословение, вышел из келии.
Когда исповедь закончилась, отец Серафим пригласил всех в основную комнату, где и началась обедница. Я читал Апостол, батюшка остался доволен чтением и похвалил меня.
Затем в этой же комнате мать Иоасафа накрыла стол, и старец всех пригласил к обеду. Пища была постной, но очень вкусной и даже изысканной. Сам отец Серафим, как я заметил, съел ложку грибного супа и выпил чашку чая. На этом его трапеза закончилась. Зато я ел за троих. Особенно, помню, понравились мне грибы и груши в меду. Любезно поддерживая разговор, батюшка не забывал про мою тарелку. «Леониду, Леониду подкладывайте», — несколько раз заботливо напоминал он матери Иоасафе. Слезы умиления выступают у меня на глазах, когда я вспоминаю эту первую встречу. О духовные богатыри земли Русской! Какими словами выразить вам свое великое восхищение? Дивен Бог во святых Своих (Пс.67:36), и радуется Церковь наша, воспитавшая таких чудных подвижников. Когда мы прощались с отцом Серафимом, он сказал: «Я замолвлю о тебе слово архиепископу».
…Спустя месяц у меня состоялась еще одна встреча с отцом Серафимом, которая прошла еще более благодатно. В ту вторую встречу вышло так, что мы с отцом Иоанном задержались у старца гораздо дольше обычного и прощались с ним уже тогда, когда все разъехались. Он вышел проводить нас, и вот, уже попрощавшись, я снова вернулся и упал перед ним на колени. «Поезжай с миром, — сказал батюшка с теплой улыбкой. — Я буду за тебя молиться».
Вскоре я принял сан и встречался с отцом Серафимом уже будучи диаконом. Так в мою жизнь вошел архимандрит Серафим, дивный угодник Божий и пламенный молитвенник за всех страждущих в этой земной юдоли…
До той поры не иссякнут в недрах Святой Руси такие светильники, пока будет она верна родному православию и заветам Святых Отцов. Ведь это наши корни, через которые питаемся мы живительной евангельской влагой».
Воспоминания протоиерея Владимира Деменского (†1997). «Я часто приезжал в Готню к маме и в Ракитное навестить свою сестру Неониллу (в иночестве Веру, в монашестве Иоасафу).
Отца Серафима я знал около двадцати лет. Были у нас и беседы с ним. Видя его занятость и усталость от бесконечных посетителей, я старался не отвлекать его. Иногда было желание подойти и поговорить, но как только соберусь это сделать, он мне рукой махнет, и я понимаю, что ему не до меня (еще не время). Сядет, бывало, батюшка во дворе в кресло — вот, думаю, сейчас самое время с ним побеседовать, а он мне знак подает — опять нельзя. Собрались мы однажды ехать в Курск в епархиальное управление. Сели в машину, в пути, кажется, только и поговорить, завожу я разговор, а он показывает рукой на губы. И снова ничего не вышло.
В общем-то, признаюсь, никакой особой необходимости в разговоре у меня не было. Просто, как обычно, люди не молчат друг с другом, обязательно что-нибудь говорят. Он же постоянно пребывал в молитве и богомыслии. Мы же любим поговорить в силу своей духовной расслабленности, небодрствования и незанятости постоянной молитвой. Однажды он сказал мне: «Отец Владимир, пора и вам начинать молиться» (я тогда уже около тридцати лет был священником). Я понял, что он меня призывает совершать постоянную молитву, соединяющую нас с Богом.
А вот мою матушку Нину он всегда принимал. Она болела и только его молитвами спасалась. Для нее и других страждущих он не жалел времени, которого у него ни на что не оставалось, а молился он ночью. Я часто спал у него в домике. Ночью проснусь и вижу — у батюшки в келии лампадка горит. Отодвину шторку, смотрю, а он стоит, коленопреклоненный, на молитве.
Он молился за всех, знал нужды каждого и делал все, чтобы облегчить страдания человеческой душе. О себе он не думал, никогда не отдыхал, в привычном понимании этого слова. Когда батюшка сильно переутомится, приляжет на кровать, не снимая сапог, подремлет пятнадцать-двадцать минут — и на молитву. Часто он так и спал, не снимая сапог. Я не видел его ни в какой иной одежде, кроме подрясника (у него не было гражданской одежды). Он не снимал его и во время гонений и репрессий, хотя много перенес насмешек и поруганий в то вседозволенное время.
Однажды в один из своих приездов в Ракитное я забыл дома свой наперсный крест, а он предложил сослужить ему в храме. Я сказал, что торопился и забыл крест дома. Он дал мне свой крест с украшениями. Когда после службы я поблагодарил его и стал возвращать крест батюшке, он сказал: «Отец Владимир, оставьте его себе. Я в своей жизни креста ни с кого не снимал». Иерею отцу Николаю Белецкому из Белгорода отец Серафим подарил свой наперсный крест, и когда тот заметил, что он не протоиерей, батюшка посоветовал: «А вы его пока носите под подрясником». Вскоре отец Николай стал протоиереем.
Однажды после посещения отца Серафима я стал собираться домой, а батюшка и говорит: «Отец Владимир, не торопитесь, побудьте еще, помолитесь». А я пытаюсь объяснить, что, мол, мне пора возвращаться на службу. Он же опять свое: «Не торопитесь, все хорошо будет». Пробыл я у батюшки еще три дня. Вернувшись же домой, нашел предписание о моем переводе на новое место — в город Благодарный. Подивился я тогда прозорливости отца Серафима и его увещеваниям «не торопиться».
Как-то отец Серафим мне говорит: «Отец Владимир, приезжайте к нам насовсем». Я стараюсь ему объяснить, что служу, что у меня там дом. Он говорит мне: «Настанет такое время, пойдете вы на пенсию и приедете к нам навсегда». Вышло, как батюшка сказал. По болезни я раньше срока ушел на пенсию. Матушка Иоасафа — моя сестра — к тому времени умерла, и я переехал в ее дом. Вот и получилось, что живу в Ракитном и служу в храме, где служил батюшка.
Жизнь отца Серафима была поучительна, Господь по его молитвам творил чудеса. Но у нас не было мысли, чтобы записывать все происходящее и собирать факты его прозорливости, исцелений болящих. Я думаю, что тут была какая-то леность с нашей стороны. Уже позже я понял, что нужно было все записывать, ничего не оставлять без внимания, что касалось этого святого человека, живущего среди нас. И слава Богу, что хотя бы сейчас, спустя пятнадцать лет после кончины старца, мы спохватились и собираем по крупицам воспоминания об этом удивительном батюшке, чтобы поведать о нем людям».
Записи диакона Димитрия Тяпочкина об архимандрите Серафиме. Дедушка говорил: «Пока человек жив, он может покаяться. Господь ждет покаяния всякого человека, даже после его смерти всемилостивый Господь внимает молитвам живых за умерших».
«Нельзя на обиды отвечать обидами. Христиане должны не только прощать друг другу обиды, но и молиться перед Богом друг о друге».
Кто-то ругал коммунистов. Дедушка сказал: «Этот образ жизни — попущение Господне за грехи наши, а внешние формы жизни многих людей сегодня обманчивы. К сожалению, много тех, для кого обман стал нормой жизни. А это очень прискорбно». Ни на одной проповеди, которые я слышал, ни в частной беседе никогда не было и намека на критику современных руководителей. Не потому, что боялся, — страха он вообще не знал. Он говорил, что всякая власть — от Бога, и человек, наделенный этой властью имеет большую ответственность перед Богом, независимо от того, как он лично относится к Богу.
Кто-то продал дом, а деньги принес дедушке: дескать, помолитесь. Дедушка взял записку и ушел в келию. Ждали долго. Дедушка вышел, благословил просителя, отдал записку, деньги он вообще в руки не брал, посоветовал что делать, как молиться, и ушел обратно к себе в келию. А тот человек ушел окрыленный, счастливый, устыдившись, что принес деньги, и извиняясь за свою нетактичность. Мне рассказывали, что у него все наладилось.
Помню, как дедушка вычитывал монашеское правило, стоя на коленях. Там были еще люди, они начали что-то между собой выяснять вслух, мешали молиться. Дедушка, ничего не объясняя, поднялся с колен, обернулся, лицо его было как первый снег на солнце, казалось, он ничего не слышит и не видит, и ушел к себе в келию. Проходя мимо меня, он коснулся рукой моей головы. Я, помню, чуть не упал в обморок. Благо диван был рядом. Лег и не раздеваясь тут же заснул.
Однажды ехали в автобусе на железнодорожную станцию. Один из пассажиров, изрядно выпивший, начал громко ругать священнослужителей, видимо, рассчитывая вывести дедушку из молитвенного состояния, но старался он напрасно. Дедушка жестом остановил меня, когда я собирался прекратить это безобразие, и, не замечая обидчика, продолжал молиться. Вдруг тот человек замолчал. Я внимательно следил за ним. Вижу, с ним что-то происходит: побледнел, сказать ничего не может, задыхается, потом свалился на пол автобуса. В салоне стало тихо-тихо. Так и лежал, пока не приехали на станцию».
Воспоминания архимандрита Зинона (Теодора) духовного сына архимандрита Серафима.
«Я познакомился с отцом Серафимом в 1975 году, накануне своего поступления в монастырь. Встреча с ним для меня была очень важным событием, потому что я увидел человека совершенно необычного. Я собирался поступать в монастырь, просил его благословения, он сделал это с радостью. Так завязалось наше знакомство, продолжавшееся вплоть до его кончины. Потом, уже живя в монастыре, я ездил к батюшке в течение семи лет.
Мне всегда вспоминается эпизод из жизни Антония Великого. К авве приходили трое монахов, двое о чем-нибудь спрашивали, а третий все время молчал. Антоний, наконец, решил спросить у монаха, почему он ни о чем не спрашивает. Монах ответил: «А мне достаточно на тебя смотреть». Так было и со мной[46].
Рядом с отцом Серафимом нужно было жить, с ним нужно было общаться, за ним нужно было наблюдать. Это был такой опыт, который очень трудно поддается описанию. Я не задавал почти никаких вопросов отцу Серафиму. Он всегда приглашал меня к службам, которые совершались у него в келии, и к обеденному столу; там были разные люди, задавали разные вопросы. Я слушал его ответы, наблюдал за ним и этого для меня было достаточно. Я не слышал никаких заумных ответов, не видел каких-нибудь чудес. Я видел тихую святость. Я никогда не слышал, ни одного раза, чтобы батюшка кого-нибудь осудил или о ком-нибудь пренебрежительно отозвался, хотя он видел всяких людей и от некоторых много натерпелся. Но он относился ко всем с одинаковой любовью, всех умел объединять, рядом с ним они становились едиными. Это тоже одно из свойств святости.
Апостол Павел говорит, что для чистого все чисто, и если человек видит в других какие-то пороки, это обличает только его собственную нечистоту. И самое важное, что я открыл для себя (это заметил еще старец Силуан Афонский): все святые похожи на Христа. Христа я представляю себе именно таким — кротким, тихим, жалостливым, участливым ко всем.
В разные эпохи Христос открывается какими-то новыми гранями. Человека конца XX века вдохновить, привлечь к себе может только Христос кроткий и любвеобильный, а не праведный и грозный Судья, хотя Он таковым и остается.
Вспоминая отца Серафима, убежден, что лучшая форма проповеди в наше время — личное общение с человеком, который своей жизнью воплотил идеал Евангелия. Для меня это было откровением: отец Серафим нес в себе образ Христа. Я знал очень многих священнослужителей, благочестивых, честных, но отец Серафим — святой. Это — тайна. Объяснить ее, как и всякую тайну, невозможно. Да и сама духовная жизнь есть тайна. Отношения человека с Богом настолько личные, что желание передать их другому словами всегда обречено на неудачу».
Из воспоминаний М.Д. Гребенкина[47], г. Тула: «Когда я увидел о. Серафима во время богослужения, я сразу почувствовал всей душой, что это необыкновенный человек. Так получилось, что сначала батюшка вышел из алтаря, подошел вплотную ко мне и спросил, кто я и откуда приехал. Меня сначала даже дрожь взяла. Затем он вернулся в алтарь. А на следующий день я был приглашен о. Серафимом на трапезу. В силу своей неопытности я отказался от приглашения и уехал домой. Хозяйка квартиры, где я ночевал, узнав об этом, была немало удивлена. С тех пор я стал ездить к батюшке каждый год и проводил у него Великий пост. Как я уже сказал, это был необыкновенный человек. Любой, хоть когда-либо увидевший его глаза, запомнил бы их навсегда. Он каждого встречал с такой любовью, как будто знал этого человека всю жизнь. Как будто этот любой и каждый человек был его благодетелем. Забегая вперед, скажу, что батюшка видел дальше всех нас. Бывали случаи моего ослушания, и в конечном счете я убеждался всегда, что благословения о. Серафима были верными. Однажды, незадолго до его кончины, мы вместе с женой были у него. В Страстную субботу жена сказала мне, что, во избежание неприятностей, должна ехать домой на работу. Я, зайдя к батюшке в келью, испросил у него благословения для отъезда жены. Он посмотрел на меня пристально, благословил и тихо сказал: «Послезавтра незамедлительно возвращайтесь». Он назвал день своей кончины».
Воспоминания Елены Кореневой, прихожанки храма Святителя Николая в Пыжах (Москва).
«До встречи с отцом Серафимом я была светским человеком. После посещения батюшки я явственно ощутила участие Бога в моей жизни, что Он выводит меня на новый путь, доселе мне не известный. Когда я впервые услышала о батюшке Серафиме, была потрясена и твердо решила непременно увидеть этого человека. Но только через три года, будучи на втором курсе института, я осуществила задуманное. Состоялась встреча, разделившая мою жизнь на две части: до отца Серафима и после встречи с ним.
Батюшка был действительно тем человеком, по молитвам которого все болезни отступали. Можно говорить о нем как о человеке удивительном, постоянном источнике любви, способном проникать в душу другого.
Вот батюшка стоит в храме. Он совершает литию. У него такой тихий голос, до шепота, как будто при слабом ветре шелестят листья. Но совершенно поразительно, что в каком бы углу переполненного храма ты ни стоял, слышно каждое слово, произнесенное этим почти неслышным голосом. Батюшка молился на литии и обращался к гораздо большему количеству святых, чем занесены в служебник, в том числе и к редко упоминаемым. Незабываемы пережитые мною ощущения. Ты склоняешься ниц во время длинных батюшкиных служб и как бы забываешь, что стоишь на коленях, что физически уже можно устать, изнемочь. Никогда, ни разу в храме у меня ничего не заболело, не было усталости, наоборот, я набиралась сил. Батюшка призывает на помощь святых, и чувствуешь, будто нет над тобой купола, как будто он распахнут в небо и через это пространство осуществляется связь Горнего мира с этим тихим голосом. Сонм Божественных сил будто бы снисходит к молящимся. Все эти святые, которых старец призывает на литии, его слышат, и ты чувствуешь это сердцем. Они отзываются на его слова. Это ни с чем сравнить нельзя.
Я вспоминаю, как батюшка входил в храм, его вели послушники. Он согбен, он очень стар и немощен на вид… Но его взгляд обжигал, проникал в глубину твоего сердца, и ты замирал в трепете. К его приходу люди стояли в храме как две стены, соединенные как монолит, от входа до алтаря. Батюшка тихо-тихо продвигался в этом живом коридоре, и каждый с невероятным сосредоточением ожидал его приближения, будто всю свою судьбу вверял ему, ждал ее разрешения, полагая, что оно — в его благословении. Батюшка идет и обращается почти к каждому. Он благословляет со словами: «Делайте операцию, все будет хорошо». Эго он говорит человеку, которого видит в первый раз. А следующему: «Нет, нет, не уезжайте, помолитесь, не теряйте надежды, я найду для вас время, и мы побеседуем». Вот он совсем рядом, ты сдерживаешься, чтобы не заплакать, и не понимаешь, что происходит. Батюшка останавливается и благословляет меня. Я никогда не забуду это медленное, очень медленное, внимательное благословение. Такое чувство, будто этим благословением он проницает тебя насквозь, будто знает о тебе все, и ты как будто бы знаешь его. Он произносит одно единственное слово. Самое главное слово, сказанное для меня за всю мою жизнь: «Молись». И когда батюшка отступил, сделал шаг, другой, я почувствовала состояние, описанное в художественной литературе, не понимаемое ранее, но в этот миг ставшее совершенно понятным: «Хочется опуститься на колени и целовать след человека, прошедшего мимо». Невозможно было сдержать рыданий. Батюшка остановился и с неизреченным участием, с несказанной любовью, повторил то же слово: «Молись!»
Когда мне довелось, по милости Божией, приехать к батюшке, я, признаться, надеялась поговорить с ним. Но опыта общения с духовными лицами у меня не было. К тому же я увидела, какое количество людей вокруг жаждут встретиться с батюшкой, у каждого свое, наболевшее. Многие приехали издалека, с невероятным терпением день за днем ждали, когда старец уделит им хотя бы минутку после длительной, по шесть-восемь часов, службы в храме. И такое количество несчастных людей было вокруг, что я не решилась подойти к нему, попросить помолиться за своего мужа.
Считаю, что преподобный Серафим Саровский, который стал затем моим небесным покровителем, по неизреченной милости Божией направил меня в Ракитное к этому дивному старцу, также носящему имя Серафим, что значит пламенный в любви. Очень много в моей жизни будет связано с преподобным Серафимом Саровским, о котором я тогда совершенно ничего не знала. Считаю, именно он направил меня на путь духовного становления, вручил меня такому святому, каким является приснопоминаемый архимандрит Серафим. Отче Серафиме, моли Бога о нас!»
Москва, 1997 г.
Воспоминания протоиерея Валерия Бояринцева и его матушки Наталии.
Отец Валерий Бояринцев, из Алупки, познакомился с отцом Серафимом в 1959 году, будучи студентом художественного училища. Часто и подолгу общаясь со старцем, особенно в начале шестидесятых годов, он имел возможность узнать многие подробности из жизни отца Серафима. Нго воспоминания о батюшке вошли в главы, посвященные жизнеописанию старца. Отец Валерий рассказывает:
«Будучи в ссылке, отец Серафим усердно молился Богу, причем, как он вспоминал, память его полностью воспроизводила дневной круг богослужения. Господь дал ему такую память. То есть не имея Часослова, он мог круглосуточно молиться Богу, как этого требовали его сердце и его священнический сан. В ссылке Господь не раз посылал ему утешения. В частности, недалеко от того места, где он работал (по немощи ему приходилось трудиться огородником, а в дальнейшем — сторожем), находился храм. Он даже иногда заходил в этот храм, стоял у дверей, остриженный. И вот однажды на Пасху настоятель позвал его в алтарь. Для ссыльного священника это, конечно, было настоящим чудом. Облачившись, батюшка сослужил настоятелю на пасхальной заутрени. Потом он не мог говорить о тех своих переживаниях без слез. Навсегда он запомнил имя того священника — протоиерей Митрофан. Как оказалось, отец Митрофан увидел сон, в котором ему было велено пригласить в алтарь человека, стоящего в дверях. Ему было открыто, что это священник. Этим повелением он не мог пренебречь. И в дальнейшем он не раз приглашал батюшку сослужить ему, хотя это грозило ему серьезными неприятностями: он мог потерять место или даже мог быть арестован.
Будучи уже на свободе, отец Серафим подарил образок Святителя Николая одной верующей в связи с рождением ребенка. Она отнеслась к подарку равнодушно. И батюшка сказал ей в назидание: «Точно такой образок я носил всю свою ссылку на груди, он меня спасал от верной гибели». Однажды его послали за Енисей охранять лесосклад, который ежедневно посещали медведи. Заключенные предупредили, что это верная гибель. Таким образом лагерное начальство избавлялось от неугодных ему заключенных. Оттуда никто живым не возвращался. Звери жестоко расправлялись с безоружными сторожами. Батюшка все время молился, ограждал себя крестом, и медведи не смогли к нему приблизиться…[48]
Утро отца Серафима начиналось с утренних молитв, переходило в полунощницу, затем он читал третий, шестой часы, Изобразительные, потом Апостол, Евангелие дня и непременно то обычное Евангелие, которое читают в Изобразительных о Причащении, затем «Верую», и тогда уже был завтрак. Это утреннее правило продолжалось в обычный день с 7 до 11 часов. Затем в свое время — девятый час, вечерня, малое повечерие, каноны дня. Иногда вечернее правило начиналось часов в 8 и кончалось ближе к полуночи. Таким образом, молитвенное правило каждый день продолжалось семь-восемь часов. У меня осталось впечатление, что это очень долго и утомительно. Кто работал, — а у меня чаще всего было послушание трудиться, — тем правило сокращали. Обязательными были только утренние молитвы и полунощница, а затем шли трудиться.
Когда совершалось богослужение в храме, всех будили в 6 часов. После утренних молитв читали полунощницу. Сам батюшка поднимался часа в 3–4. У него — свое правило. Кроме обычного правила он читал «Ко Святому Причащению», уже никого не приглашая. И затем с 7 часов — служба, вычитывались часы. Литургия начиналась около 10, кончалась в час или в 2 часа. После литургии еще были молебны с акафистом.
И все заканчивалось в 3–4 часа дня. Мы могли, съев просфорки, расходиться. А батюшка еще шел крестить и на другие требы. Крестил он обычно полным чином, минут 45, хотя бы и одного ребенка. Часов в 5 вечера он приходил домой. Только и мог сказать: «Матушка, попить». Есть он уже почти не ел, но всех усаживал за стол. За трапезой можно было кое-что для себя выяснить, если что-то не успел на исповеди у другого священника.
Отец Серафим находил возможность сказать каждому то, что как раз именно ему и нужно было услышать. И когда подходили под благословение, он мог сказать что-то индивидуальное.
Казалось, можно было бы изнемочь от таких нагрузок, но сам отец Серафим признавался: «Вот уже сил никаких нет, но только дошел до престола — «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа…» — и потом уже никакого ощущения себя нет, все легко и просто, только до этого места было тяжело.
Отец Серафим служил тихо, но внутренне очень сосредоточенно и проникновенно».
Матушка Наталия Бояринцева вспоминает: «Во время проповеди батюшка все время плакал. Слова его были настолько сердечны, что обязательно размягчали ожесточенную и железную душу. Иногда думаешь: не буду плакать ни за что. Но обязательно что-то из его слов да заденет твое очерствевшее сердце.
На литургии в алтаре всегда находилась стопка носовых платков, которые все были мокрые от слез. Мы их ежедневно стирали.
Богослужения в Ракитном были совершенно необыкновенными. Все молящиеся выстраивались от церковных дверей до центрального аналоя для благословения, рядами стояли вдоль стен. Батюшка шел прямо к центральному аналою. В этот момент было принято петь «Воскресение Христово видевше». Под это песнопение батюшка обычно прикладывался ко всем иконам коленопреклоненно, падал ниц, и весь храм вместе с ним. И реальное ощущение Воскресения Христова присутствовало в душе. Конечно, во время евхаристического канона падали ниц все в церкви, почти никого не было, кто стоял бы неколенопреклоненно. Возникало ощущение присутствия Бога».
Отец Валерий Бояринцев рассказывает, что в алтаре старец пребывал в трепетном страхе, литургию совершал в неизменно благоговейном состоянии. Можно сказать, что богослужение было для него поистине священнодействием. Он готовился к нему часа за два, настраивался, сосредоточивался. Чувствовалось, что с таким страхом и трепетом он готовится к встрече с Самим Господом. Перед воскресным богослужением, наверное, это длилось всю ночь. Спал он тогда совсем немного.
Наталия Бояринцева, вспоминая свои встречи с отцом Серафимом, говорит, что самым покоряющим свойством отца Серафима была необыкновенная любовь ко всем. «Например, приходит какая-то старушка дряхлая, приводит девицу. Видно, что та не в себе, психически больная. Батюшка на нее смотрит, его глаза излучают столько тепла, сочувствия… Он говорит: «Завтра приведите ее на службу». «Да нет, она сегодня уезжает», — противится старушка. Батюшка начинает ее уговаривать. Выясняется, что девица даже не родственница ей, — попросили, она привезла. После уговоров больную оставляют до следующего дня. Отец Серафим ее причащает и снова упрашивает, чтобы ее еще раз привезли. И таких примеров бесчисленное множество.
Замечательно было в его характере то, что он очень сердечно относился ко всяким семейным проблемам. Видно, его собственный семейный опыт, трудная жизнь, похороны своих детей — все это не осталось втуне. Как никто другой, он понимал и глубоко, до боли, чувствовал переживания матерей, которые рассказывали ему о своих непутевых детях. Он что называется «из нутра» понимал, что такое семейные неурядицы. В батюшке это было как-то особенно пронзительно».
«Надо сказать, — говорит отец Валерий, — что отец Серафим не разрешал жизненные вопросы «на ходу». Батюшка выслушивал наши недоумения, потом скромно говорил: «Ну, помолимся!» Бывало, так проходил день, второй, третий — никакого ответа. Наконец терпение наше кончалось: «Батюшка, нам же ехать надо!» — «Ну делайте вот так…» Какая-то фраза, сказанная в последнюю минуту перед отъездом, решала многое, и тогда все в жизни устраивалось само собой.
Однажды спрашиваю, уходить ли мне из института. Батюшка мне ответил: «Не уходи», и по молитвам старца я закончил медицинский институт, несмотря на постоянные препятствия со стороны администрации из-за моих религиозных убеждений».
Наталия Бояринцева продолжает: «К батюшке приезжало очень много душевнобольных. В храме они всех устрашали своими криками, топаньем, свистом, маятниковым хождением. Но с приближением отца Серафима они затихали. Батюшка исповедовал их в конце исповеди. Перед этим он уходил в алтарь и молился. Мы всегда за него переживали: он такой слабенький, немощный, еле живой, ему еще и литургию служить, а тут — бесноватые со своей неукротимостью. По окончании литургии батюшка для боляших устраивал соборование. Мы замечали, что с каждым приездом к отцу Серафиму состояние больных улучшалось. Со временем они выздоравливали и просили его благословения на работу при храме. Он благословлял исцеленных оставаться при храмах по месту жительства».
Воспоминания духовного сына отца Серафима диакона Александра Мумрикова.
«Впервые я приехал в Ракитное по совету Александра Салтыкова (ныне протоиерея). Я тогда устраивался на работу в музей Андрея Рублева, где работал Александр, и он посоветовал мне съездить в Ракитное и взять благословение у батюшки Серафима.
Приехал я в субботу вечером, перед всенощной. Храм еще был пуст, но батюшка уже находился в алтаре. Вскоре появился алтарник. Он сказал, что батюшка благословляет меня во время крестного хода нести крест, и вручил мне большой двухметровый крест. Я очень удивился, поскольку недавно стал верующим и был совсем неопытным в церковной жизни.
Началась всенощная, мы крестным ходом пошли внутри храма, впереди я с крестом, затем певчие и паломники. Сзади всех шел в облачении отец Серафим и усердно молился. Певчие пели стихиры праздника. (В том году праздники Благовещение и Вербное воскресенье пришлись на один день). Шествие двигалось по храму, и было ощущение, будто все мы представляем общину первых христиан. На третьем круге я почувствовал, что меня всего переполняет ощущение живого присутствия Господа. Когда батюшка говорил проповедь, он сказал, что мы сейчас встречали Господа, как жители Иерусалима, когда весь народ приветствовал Его после чуда воскрешения четверодневного Лазаря. В самый день праздника храм постепенно наполнился приезжими, все стояли вдоль стен, иногда в два-три ряда. Я стоял во втором ряду. Все мы благоговейно ждали прихода отца Серафима, чтобы взять у него благословение. Вот он медленно вошел в притвор, склонился перед Распятием, поцеловал стопы Господа и так же медленно пошел вдоль ожидающих его людей.
Проходя к алтарю, старец, с одним поговорил, другого обнял, перекрестил, кого-то поцеловал в голову. Увидев меня, он начертал мне перстом на лбу крест, как во время елеопомазания. Благословив народ, батюшка приложился к храмовой иконе Святителя Николая на иконостасе, к иконе Архангела Михаила и вошел в алтарь. И началась долгая — по монастырскому чину служба, на которой я присутствовал впервые. Около часа дня литургия закончилась.
Молебен батюшка служил коленопреклоненным, во время проповеди он со слезами сказал: «Мы теперь приступаем к дням, когда Иуда (тут он заплакал) предал нашего дорогого Господа». Все, кто был на молебне, не могли сдержать слез. На третий день я вернулся домой и поделился своими впечатлениями о поездке с Александром, который сказал мне, что теперь меня непременно примут к ним на работу.
Хотя я по специальности инженер-физик, меня действительно взяли в музей Андрея Рублева, где я проработал младшим научным сотрудником пять лет, изучая удивительный мир икон. С этого времени постепенно я начал воцерковляться. После гонений нас, верующих, уволили из музея. Александр Салтыков принял сан священства, я позже был рукоположен во диакона.
Мои поездки к отцу Серафиму после длительного перерыва из-за его болезни возобновились, и раз в два месяца в течение последних двух лет его жизни я приезжал в Ракитное. Не один раз во время трапезы у батюшки мне приходилось слушать его ответы и наставления духовным чадам. Все, о чем он говорил, состояло из евангельских изречений, а говорил он на обычные темы, то есть вся его речь была проникнута евангельскими словами.
Приближалось тысячелетие крещения Руси. Мне для юбилейного альбома поручили написать статью «Молельные иконы Преподобного Сергия Радонежского по работам отца Павла Флоренского». На Пасхальной седмице, перед тем, как нести статью в издательство, вижу сон. Сидим мы у отца Серафима в келии за трапезой, все места заняты, только место батюшки свободно. Мы уже знали, что на днях батюшка отошел ко Господу. И вот в том сне вижу, что входит матушка Иоасафа и обращаясь ко мне, говорит: «Вас батюшка зовет к себе». «Как зовет? Ведь он умер», — отвечаю я и показываю на свободное место за столом, она мне — свое: «Он Вас зовет». В это время отодвигается занавесочка, и я вижу отца Серафима, который благословляет меня. От телефонного звонка я проснулся. Звонил архимандрит Иннокентий (Просвирин), ныне покойный, и приглашал меня приехать со статьей в издательство Московской Патриархии и добавляет, что возможно, решится вопрос о моем трудоустройстве.
Я приехал, отец Иннокентий зажег семисвечник и оставляет меня в кабинете следить за горящими свечами, а самому ему нужно спешить на конференцию. Минут через двадцать в кабинет входит владыка Питирим (Нечаев), он тогда возглавлял издательство Московской Патриархии, с ним Патриарх Грузинский Илия. Владыка, показывает в мою сторону, говорит: «Вот здесь у нас Богословский отдел». Я встаю и беру у них благословение.
До обеденного перерыва Богословский отдел издательства посетили пять патриархов, и у каждого мне пришлось брать благословение.
Делал я это совершенно неосознанно. И когда отец Иннокентий собрался познакомить меня с владыкой Питиримом, я сказал, что и владыка и пять патриархов заходили в отдел, и я у всех взял благословение. «Как заходили, не может быть», — удивился он. Когда отец Иннокентий представил меня владыке Питириму, тот одобрил мою кандидатуру: хорошо, хорошо, помогайте в издательских делах». Перед уходом в отпуск отец Иннокентий передал мне все дела, а по возвращении из отпуска в издательстве произошла реорганизация, и архимандрит Иннокентий был назначен руководителем книжной редакции.
Среди его сотрудников подвизались отец Андроник (Трубачев), ныне насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры и отец Феофилакт (Моисеев), ныне настоятель Черниговского скита.
Моя статья об иконе «Достойно есть», написанная к празднованию тысячелетия Святой горы Афон, понравилась владыке Питириму, и он сказал: «Вот и ведите Богословский отдел». В нем я проработал восемь лет. Когда в 1990 году отец Андроник (Трубачев) нес послушание настоятеля Валаамского монастыря, я перешел к нему на Валаам в издательский отдел. Позже я поступил в семинарию и десять лет был преподавателем.
Вот какой силой обладало благословение старца. Молитвами приснопоминаемого архимандрита Серафима, Господи, помилуй нас!»
20 октября 2000 г., Москва.
Воспоминания духовного сына отца Серафима протоиерея Владимира Воробьева — ректора, профессора Православного Свято-Тихоновского богословского института. «Первый раз мы с женой приехали в Ракитное к отцу Серафиму в 1970-х годах. Батюшка был болен. В храме мы встретили нашего друга Валерия Бояринцева. Сопровождая батюшку на службу и проходя мимо нас в храм, Валерий сказал: «Батюшка, это мой товарищ, Володя». Отец Серафим остановился и с удивительной любовью благословил меня и жену. Я почувствовал в нем необыкновенную благодать и святость. Во время нашего общения с батюшкой в его келии, он очень интересно рассказывал о том, как он учился в Московской Духовной академии, вспоминал разные случаи из своей студенческой жизни. Общение с ним было замечательным и назидательным. Когда мы прощались, Наташа Бояринцева сказала: «Батюшка, Владимир помогал мне воцерковляться, давал духовную литературу». «Очень хорошо, он священником будет», — ответил отец Серафим. Я приезжал к старцу и тогда, когда стал священником, как он и предсказывал. Помню, как он по многу часов вынимал частицы из просфор на проскомидии. Поминал всех поименно до начала литургии. А как он удивительно служил! Весь погружался в молитву. Рядом с ним я чувствовал себя обновленным, было очевидно, что перед тобой святой человек.
Службы у батюшки были длительные. Он очень рано приходил в храм. Несмотря на свой преклонный возраст, все требы служил по полному чину, ничего не сокращая. Уходил из храма часа в четыре.
На службах было много народу, в основном приезжих, паломников. Батюшка говорил: «Местные не ходят, думают, что отец Серафим за них будет молиться». Батюшка очень любил народ, и его все почитали и любили. Благодатная помощь старца ощущалась всеми. Мне много раз приходилось слышать о чудесных случаях, которые совершались по его молитвам и благословениям.
Вспоминаю, как батюшка рассказывал, что один молодой человек, его духовный сын, очень хотел быть священником и просил у него благословения на принятие сана. Батюшка сказал, что священником ему быть нельзя. Тот очень огорчился и вновь стал настаивать на благословении, но получил вторичный отказ. Однако он так настойчиво молил старца, что все-таки получил от него благословение на поступление в семинарию. Окончив семинарию, он, пренебрегая запретом своего духовного отца, добился рукоположения во пресвитера и получил приход. В храме, где он стал служить, не горело паникадило. Поскольку до священства он работал электромонтером, то в первые же дни своего служения стал сам устранять неисправность, но упал с высоты и разбился насмерть.
Однажды по дороге в Москву я с супругой заехал в Ракитное повидаться со старцем. Вечером говорим ему: «Позвольте с вами проститься», а он: «Пойдите лучше переночуйте, а утром поедете». Мы настаивали на отъезде. Утром нам нужно было быть на работе. Видя нашу настойчивость, батюшка улыбнулся и сказал: «Как хотите, поезжайте». Келейник старца вывел нас на дорогу. Мы более часа простояли в надежде доехать до Белгорода на попутном транспорте. Мимо нас проезжало много машин, но ни одна не остановилась. Нам пришлось вернуться обратно. Утром мы подошли к батюшке за благословением. «А теперь поезжайте с Богом», — сказал он.
Мы опаздывали на автостанцию, но автобус на Белгород не уехал, словно ожидая нашего прихода. В Белгороде на перроне стоял поезд на Москву. Мы поспешили в кассу, но там была очередь. Однако нас почему-то пропустили, мы взяли билеты и благополучно приехали домой, и на работе все устроилось.
Молитвами приснопоминаемого отца Серафима помилуй нас, Господи».
Воспоминания игумена Сергия (Рыбко), ныне игумена, настоятеля московского храма в честь Сошествия Святого Духа на апостолов.
«Еще юношей я не мог удовлетвориться тем, как живу. Я был знаком со многими священнослужителями, и они меня приобщили к чтению духовной литературы. Я читал много, но в литературе не находил утешения для своей души. По милости Божией, я попал в окружение духовных чад отца Серафима. Они часто рассказывали о нем, ездили к нему, и постепенно мое сердце расположилось к батюшке: я почувствовал, что он человек святой жизни.
Со временем я стал работать в храме — сначала звонарем, затем псаломщиком. И неизбежно встал вопрос о моем духовном руководстве. Мне хотелось, конечно, иметь духовником такого подвижника и молитвенника, каким был отец Серафим. Вернее было бы сказать, что я мечтал об этом, на самом же деле считал себя недостойным общения с ним и не имел дерзновения просить его быть моим духовником.
Когда Господь сподобил меня приехать в Ракитное и познакомиться с отцом Серафимом, он благословил меня и спросил, с каким вопросом я к нему приехал. Я ответил, что нуждаюсь в духовном руководстве, и просил его указать мне духовного наставника, добавив: «Куда бы вы меня ни направили, я с полной верой поеду и буду выполнять все ваши указания». Он помолчал и ответил: «А можно, я сам возьму вас к себе?» От этих слов у меня колени подкосились. Я сказал: «Батюшка, я недостоин, у меня даже мысли не было просить вас об этом. Для меня это радость несказанная. А что нужно делать, чтобы быть вашим духовным чадом?» Он ответил: «Будете приезжать ко мне на исповедь хотя бы раз в пост».
С тех пор каждый месяц я ездил из Москвы в Ракитное, ощущая в этом потребность. По благословению батюшки я останавливался у Тимофея (теперь он архимандрит Тихон, духовник Рижской Спасо-Преображенской пустыни), который тогда работал плотником, а после работы выполнял послушание псаломщика. В его маленькой комнате всегда было тесно от паломников, размешались кто где мог, ночью спали прямо на полу, так что и пройти было нельзя.
Трудно передать словами, что это такое — общение с отцом Серафимом, что значило для меня просто побыть рядом с ним. В душе воцарялись умиротворение и покой, устанавливалась некая тишина, на сердце было легко-легко, и все вопросы как бы сами собой разрешались.
«Помню, он встанет, возьмет меня за руки, положит свои руки на мои локти, и смотрит, и говорит. Кажется: сейчас батюшка упадет, но нет, батюшка не падает, батюшка говорит. И это так подкрепляет, видно, что батюшка — сама любовь, настолько он любит нас.
А когда он шел в храм, к нему все подходили под благословение. Идет старец и с такой любовью, с таким смирением всех благословляет, причем идет еле-еле, вследствие своей старческой немощи, его окружают любящие духовные чада… Это удивительная картина. И ничего искусственного, никакой игры в этом не было, просто его действительно любили — больше жизни любили»…
Мне не доводилось подолгу беседовать с батюшкой, обычно это были три-пять минут. Но та молитвенная атмосфера, в которой мы все пребывали, общение на церковном дворе и в храме благотворно действовали на нас, жаждущих духовной близости с отцом Серафимом. К батюшке приезжало много интересных людей. Некоторые мои недоумения разрешались со священниками, приезжавшими к батюшке со всех концов страны. Мы ждали, когда он нас примет, и, конечно же, разговаривали. Такое общение способствовало моему духовному росту.
Наблюдать за отцом Серафимом всегда было назидательно. Его отношение к Богу, к ближнему, к богослужению, к молитве выявлялось в каких-то репликах, жестах, в самом образе его жизни.
…Как-то было у меня искушение: я стал тяготиться тем, что к батюшке все труднее попасть, что он мною внимания уделяет духовенству, которое шло к нему вне очереди. Я же ждал неделю, две. «Если он не может меня принять, то зачем тогда взял в духовные чада», — рассуждал я в раздражении. Однажды во время исповеди батюшка неожиданно вдруг говорит: «А знаете, Георгий, будьте довольны тем, что я за вас частичку вынимаю». Мне стало стыдно, я готов был сквозь землю провалиться. С тех пор эти помыслы меня больше не посещали. Я не понимал тогда, насколько важна молитва старца. Одним из первых, данных мне батюшкой наставлений, было пожелание всегда, когда читаешь утреннее правило, просить молитв своего духовного отца.
Со временем, когда уже сам стал священником, я понял, что иереи приезжали к батюшке решать в основном церковные вопросы и редко — личные. С годами и жизненным опытом пришло осознание того, что Господь по молитвам старца милует нас и посылает нам все необходимое.
…Я спросил: «Батюшка, есть канонические грехи, которые возбраняют принимать священный сан. А если вдруг я не выдержу: я человек молодой, вдруг впаду в какой-нибудь блуд, что тогда делать?» Он посмотрел на меня и сказал: «Тогда нужно будет этот грех,— он немножко помолчал,— исповедать». То есть батюшка имел на это очень снисходительный взгляд.
Еще помню, как-то во время трапезы, на которой присутствовали священники, батюшка сказал: «Раньше в семинариях задавали такой вопрос: священник должен идти причащать умирающего, ему нужно перейти реку, а мост ветхий, и по нему никто не ходит по той причине, что он находится в аварийном состоянии. Как должен поступить священник?»
Все молчали. Вообще, когда батюшка спрашивал, братия предпочитала молча ждать, что батюшка сам скажет. Батюшка помолчал и говорит: «Ответ правильный будет такой — мост не провалится». И еще раз повторил: «Мост не провалится». Вот такой веры требовал он от пастырей Церкви».
Один священник, духовное чадо батюшки Серафима, вспоминал: «Я приехал к батюшке весь в грехах, думал, что сейчас он на меня как закричит: «Вон отсюда, такой-сякой! К архиерею!» Но он выслушал и сказал: «Ну, ничего-ничего». И не наложил никакой епитимьи, и сам меня просил не накладывать на людей никакой епитимьи. И сколько я у него ни был, он ни разу мне не сказал: «Да ты что?! Что ты сделал?!» Только: «Ничего-ничего, как-нибудь, как-нибудь». И уезжал я от него всегда прямо весь «окрыленный».
Вспоминаю еще один случай. В очередной мой приезд батюшка болел, вызвали врача. Мне нужно было отправляться в обратный путь; я пошел взять благословение на отъезд. Отец Серафим лежал у себя в келии. Прощаясь, я заикнулся было, что у меня есть один нерешенный вопрос. Он с усилием хотел что-то произнести, и в этот момент мне стало очень стыдно. Мне показалось, что если он сейчас скажет слово, то умрет, — такой он был слабый. Тогда я нашелся, сказал, что останусь еще на один день. Он с облегчением одобрил: «Хорошо, останьтесь». Отец Серафим был готов поговорить, что называется, из последних сил, но мне хватило ума не доводить до этого.
Помню, однажды я спросил: «Батюшка, к вам не всегда приедешь и трудно попасть, как мне быть, где исповедоваться?» Он сказал: «Исповедоваться и причащаться можете у кого угодно, как сердце подсказывает. А духовный руководитель должен быть один…»
Из тех многочисленных вопросов, которые я задавал отцу Серафиму, был и такой: можно ли молиться царю Николаю и как? — на что он ответил: «Неканонизированному царю-мученику можно молиться так: «Господи, упокой душу усопшего раба Твоего царя-мученика Николая и святыми его молитвами прости моя прегрешения». Спрашивал, можно ли молиться о упокоении русского богослова митрополита Зарубежной Церкви Антония (Храповицкого). Он ответил: «Можно, Господь разберется, кто был прав». Спросил батюшку, как молиться о властях, ведь коммунисты исповедуют атеизм. Он ответил: «Когда мы молимся о властях, то просим об обращении заблудших. Ведь и в синедрионе были Никодим и Иосиф Аримафейский».
Однажды в моем присутствии кто-то спросил батюшку, как он различает бесноватых и просто больных. Он ответил: «Когда приезжает такой человек, мы идем с ним на богослужение. Если он одержим, то не может обычно, как все, передвигаться по храму: начинает подпрыгивать, порой даже очень высоко. Если он всего лишь больной, то в храме стоит спокойно и молится».
Приехала как-то к отцу Серафиму жена священника, который, судя по всему, был одержим бесом, и обратилась за помощью об исцелении. Батюшка ответил ей, что такое приключилось с ним за его маловерие, пусть от молится, и все пройдет. Но служить в таком состоянии литургию ему пока не надо. Этот священник вскоре избавился от такой напасти.
Помню, как батюшка меня смирял. Пригласили нас на трапезу. Мы заходим. Из всех присутствующих я один был в подряснике (носил его по благословению батюшки, прислуживая в храме псаломщиком). Он показал, где мне сесть. Это самое отдаленное место, я там всегда сидел за трапезой, когда было многолюдно. Зашли остальные. Батюшка говорит мне: «Георгий, пересядьте еще на одно место». Я передвинулся. Мать Иоасафа привела еще нескольких паломников. Батюшка предложил мне пересесть еще дальше. Так, постепенно пересаживаясь, я оказался рядом с отцом Серафимом — на самом почетном месте. Но, сидя рядом с батюшкой, я не переставал ощущать себя на своем дальнем месте. Ни слова не проронил, сидел ни живой ни мертвый. Так батюшка меня смирял. Окажись я сразу рядом с ним, глядишь, мог бы впасть в гордыню и самомнение.
За трапезой батюшка обычно молчал, любил слушать других, узнавая церковные новости. Однажды за столом собрались одни священники. В это время никаких вопросов отцу Серафиму не задавали. Он стал рассказывать, что из святого града Иерусалима ему привезли терновник с шипами, из которого был сплетен венец Спасителю. «Вот этот терновый венец расплели, и оказалось, что он словно колючая проволока», — заметил батюшка многозначительно. Сидящие за трапезой священнослужители продолжали разговаривать друг с другом, не обращая внимания на сказанное. Отец Серафим посмотрел на всех присутствующих и печально опустил голову. Передать его скорбь невозможно. После этого в трапезной воцарилась тревожная тишина. Больше к этому вопросу батюшка не возвращался.
В один из приездов отец Серафим мне сказал: «А ваш путь — путь священства». Я был поражен. Никогда об этом не думал, считал себя грешным и недостойным принять сан. Как-то один из духовных чад батюшки приехал к нему с сыном за благословением на поступление в духовную семинарию. На вопрос, правильно ли они решили, старец ответил: «Священство — это как помазание Аарона[49]. На ком оно есть, рано или поздно, хочет этого человек или не хочет, обязательно проявится. Если есть на то воля Божия, то это непременно произойдет». Я тогда понял, что сказанное не в последнюю очередь относилось и ко мне, что впоследствии и подтвердилось. Я принял сан через восемь лет после кончины отца Серафима.
Когда батюшка благословлял меня на священство, то сказал: «Готовься». Вернулся я от него и стал думать, как же готовиться? Пришлось снова ехать к батюшке, разузнать подробности, но батюшка был болен, и спросить у него не было никакой возможности. На церковном дворе я разговорился с иеромонахом из Рижской епархии. Он мне рассказал об их старце Таврионе, к которому приезжало так много паломников и духовных чад, что принять всех и ответить на их многочисленные вопросы было затруднительно. Но в воскресенье, когда многие обычно отправлялись в обратный путь, во время проповеди отца Тавриона каждый получал ответ на волновавший его вопрос. Я подумал: «Вот какие великие старцы встречаются в жизни!» На следующий день моего приезда на проповеди (было празднование святителю Иоанну Златоусту) батюшка Серафим сказал: «Святитель Иоанн Златоуст написал много чудных книг, и среди них есть книга о священстве…» Невольно я задался вопросом: почему это он говорит именно об этой книге? У Иоанна Златоуста двенадцать томов сочинений. В храме — одни старушки и один приезжий иеромонах. Тут только я понял, что это ответ на мой вопрос, это то, зачем я приехал в Ракитное. Вернувшись домой, я довольно быстро нашел указанные творения.
Из них я узнал, что для того, кто готовится стать священником, главное — считать себя недостойным сана и воспитывать в себе смирение.
Мой путь к священству был долгим и непростым. Отец Серафим направлял меня в Одессу к митрополиту Сергию (Петрову; †1988). Владыка мне ответил, что поскольку Одесса — город с ограниченной пропиской, то остаться там в монастыре невозможно. Я побывал и в Латвии. Владыка Леонид сказал почти то же самое: прописаться в Риге очень сложно. Вернувшись к батюшке, я рассказал о возникших трудностях и препятствиях, мешающих моему служению. Батюшка был в раздумье и, как мне показалось, расстроился. Я попросил его благословения остаться в Ракитном при храме. Но отец Серафим не благословил ухолить из церкви, где я был псаломщиком. На прощание батюшка все-таки пообещал обратиться к правящему архиерею владыке Хризостому и похлопотать обо мне. Но через месяц, когда я приехал в Ракитное, он сказал, что пока нет Божией воли, придется остаться у себя на приходе, и добавил: «Нужно подождать. А затем все у вас будет хорошо и сразу».
По воле Божией через шесть лет после кончины отца Серафима я попал в Оптину пустынь. Был послушником, затем иноком, с именем Сергий. Вскоре на Духовном соборе объявили, что приняли решение рукоположить меня в сан иеродиакона. Я сказал, что недостоин, но как послушание и по благословению готов выполнить это решение. Вскоре я был рукоположен в сан иеромонаха. Наместник Оптиной пустыни архимандрит Евлогий (Смирнов; ныне архиепископ Владимирский и Суздальский) был в свое время в духовном общении с отцом Серафимом.
Помню, как старец благословлял меня на иночество. Когда-то я искал девушку, на которой мог бы жениться. К будущей невесте у меня были довольно высокие требования: она должна быть не столько красива внешне, сколько близка мне по духу. Познакомился я с хорошей верующей девушкой, встретились мы, поговорили, она мне понравилась. Но как-то вдруг она исчезла из моего поля зрения, и при всем нашем желании увидеться, ничего не получалось: то она меня ищет, то я не могу ее отыскать, все безрезультатно. Так было с несколькими девушками. Наконец, я познакомился с еще одной, образованной, очень симпатичной барышней. Снова та же история. Какое-то время мы друг друга искали. Я поехал к ней в Ковров, а мне говорят, что она два часа назад уехала в Смоленск, куда ее распределили после окончания института. Мы с ней договорились во время отпуска отдохнуть на море. Батюшка благословил, но сказал: «Только даже пальцем ее не трогать». Подходит время отпуска, а ее нет. Думаю, поеду к старцу, спрошу, как быть, но к батюшке я не попал. Мне сообщили, что милиция в очередной раз устроила облаву. Тогда были времена, когда строго следили, чтобы после богослужения никого в ограде храма не оставалось. Пришлось обратиться к владыке Сергию (Голубцову). Он благословил меня поехать не на море, а к пустынникам в горы и дал рекомендательное письмо. Прожил я с пустынниками три недели, и девушка выветрилась у меня из головы. Там я увидел вблизи, что такое монашеская жизнь и загорелся желанием, далеким от женитьбы. Очень захотелось даже остаться в горах. Но, по трезвому размышлению, понял, что мне еще рановато подвизаться в пустыне. После этого я приехал к отцу Серафиму, а он, чуть улыбаясь, прямо с порога вопрошает: «Монашество?»
До сих пор Господь промыслительно дает мне возможность встречаться со многими духовными чадами батюшки. Он молится и объединяет нас. От общения с теми, кто близко его знал, духовный облик старца раскрывается все глубже и многограннее. Я проникаюсь его величием, которое при жизни не очень-то ощущал, ибо все было сокрыто от наших взоров покровом его глубочайшего смирения. Батюшка покорил себя совершенному смирению.
«По своему глубочайшему смирению отец Серафим старался скрыть свои подвиги и духовные дарования: прозорливость, способность исцелять, которыми он, безусловно, обладал. Дар прозорливости помогал ему предельно сокращать время беседы с посетителями. Старец шел по живому коридору богомольцев в храме и на улице и, подходя к кому-либо, давал ответ на вопрос, который еще не был задан».
Многие чудеса, которые Господь совершал по его молитвам, мы, наверное, и не узнаем. Такого смиренного и любвеобильного человека я никогда больше не встречал в своей жизни.
Отец Серафим постоянно молился, даже когда был болен и лежал в забытьи. Он по памяти читал целые главы из Евангелия. Как-то я попросил у него благословения молиться по четкам и стал уточнять, сколько совершать молитв. Он ответил: «Молитесь непрестанно». Я переспросил: «Как непрестанно?» — «Постоянно и всегда. Да будет Иисусова молитва вашим венцом».
Я благодарен Богу за встречу с этим великим старцем. В наше время это редкость и величайшая милость Божия. Присутствие батюшки, его заботу я ощущаю во всем и верю, что как при жизни, так и по успении он не оставляет своих духовных чад. Мне рассказывали о явных чудесах, о том, что уже после своей кончины отец Серафим не однажды чудным образом спасал своих чад от явной гибели. Многим он являлся в видениях и во сне, наставлял и благословлял…
Господи, молитвами отца Серафима помилуй мя, грешного».
Из воспоминаний архимандрита Виктора (Мамонтова)[50] (Латвия). «После моего изгнания светскими властями из Почаевской лавры, где я был послушником, отец Серафим спросил меня: «Поживете у нас?» Не сказал: «Поживите у нас», для него это было бы принуждением, а произнес бережное «поживете?», не нарушая моей внутренней свободы. Он давал каждому свободу выбора. Тогда я не был готов к такой свободе. Мною овладели беспокойство и страх, я хотел, чтобы батюшка как можно быстрее принял меня и разрешил мой вопрос. Уходя в монастырь, я сжег, как говорят, за собой все мосты: у меня не было ни работы, ни прописки, ни жилья. И теперь, не имея ничего, я мог стать жертвой любой провокации властей и оказаться даже за решеткой, например, как тунеядец. Отец Серафим помог мне преодолеть волнение, с миром отправил к владыке Леониду с рекомендательным письмом, сказав утешительные слова: «Он будет Вам как отец». Я словно уходил от одного отца к другому. Но после первой встречи с владыкой Леонидом я всем своим существом почувствовал, что не ушел от батюшки, ибо старец и владыка были людьми одного духа. Пребывание с отцом Серафимом перед моим будущим рукоположением в Риге было для меня малой пустыней, позволившей приобщиться к такому духовному опыту, который нужен всем нам.
«Неужели с высоты кто вспомнит обо мне? Во множестве народа меня не заметят; ибо что душа моя в неизмеримом создании?» (Сир.16:16–17). Подобные мысли возникали у некоторых паломников в Ракитном при виде такого стечения народа. Но отец Серафим видел каждого человека, незамеченных у него не было. Он никого не отталкивал, всех принимал, обо всех беспокоился.
Однажды после продолжительной службы отец Серафим вышел на паперть и стал внимательно всматриваться в окружающие его лица. Вдалеке он увидел на каталке безногого старичка, который из-за большого стечения народа не мог приблизиться к батюшке. Отец Серафим направился к нему, нагнувшись, поцеловал его в голову, обнял. «Я думал, — вспоминает внук батюшки Димитрий, — это его старый друг. Спросил дедушку: «Кто это? Родственник?» Дедушка ответил: «Мы все родственники, а этот раб Божий приехал издалека разделить с нами пасхальную радость».
Отец Серафим знал, что встречает в своих ближних Господа: «так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф.25:40). Отец Серафим был всем людям братом, потому что не мог любить лишь некоторых, а любил каждого человека. Он, как когда-то Христос, выходил из храма и смешивался с многоликой толпой — верующих и неверующих, больных и здоровых, бесноватых и озлобленных, жаждущих правды и любви, пришедших к нему из нашей пустыни жизни. Всех их нужно было научить любви и святости. Он не жил отдельно от людей, окружавших его, но разделял их жизнь, был для всех своим. Служа своей пастве, не господствовал над ней, никогда не был над народом Божиим, но всегда был с ним, вернее в нем. Он мог бы сказать: «Я живу в народе Божием. Это мой народ».
Лишь изредка на короткое время батюшка оставлял людей и уезжал на свое подворье, в домик на станции Готня, что в десяти километрах от Ракитного, чтобы побыть наедине с Господом. В остальное время он всегда был окружен людьми — в храме на общем богослужении или в тихой келии.
Отец Серафим дарил людям свою любовь и вместе с ней способность меняться, силу возрастать духовно. Его любовь вела ко Христу. Отец Серафим никого не приводил к себе, а горел желанием уподобить всякого Христу. «Окрылить душу, вырвать ее из мира и отдать Богу, сохранить то, что по образу, если оно цело, поддержать — если под угрозой, восстановить — если повреждено, вселить Христа в сердце при помощи Духа и сделать того, кто принадлежит к высшему чину, богом и достойным высшего блаженства», — вот цель служения пастыря Божия, по слову Григория Богослова.
Предельная простота быта батюшки особенно подчеркивала его самоотверженность, жизнь только для других. В его домике в углу церковной ограды обстановка была очень скромной: «Блажен, кто вместо всех стяжаний приобрел Христа» (святитель Григорий Богослов). Аскетическое убранство домика было призывом к молитве, к вечности. Все здесь говорило человеку: «Ты странник на земле, твой дом не здесь».
Отец Серафим всегда был одет в монашескую одежду — и в храме, и дома, и в дороге. Он не осуждал священников, которые стеснялись Христа и не ходили в подряснике.
Для него же священнические одежды были свидетельством его посвященности Христу и Церкви. Однажды он сказал за столом: «Не хвалясь, скажу, что с тех пор, как я надел монашеские одежды, никто меня никогда не видел без подрясника».
Отец Серафим никогда не пользовался отпуском, не был «старцем на колесах» (как говорил об одном пастыре владыка Хризостом). «От чего отдыхать монаху? — говорил он. — От молитвы или от Бога?» Однако отец Серафим старался выбраться в любимую Троице-Сергиеву лавру, иногда бывал в Рижской пустыньке, где служил отец Таврион, с которым его роднил дух любви к Богу и к людям. Оба они долгие годы провели в тюрьмах и лагерях.
«Великим постом навестите меня», — сказал мне батюшка после исповеди в январе 1982 года. Вскоре пришло известие о его болезни. Отец Серафим все более и более ослабевал. Получив благословение и напутствие митрополита Леонида, я поспешил в Ракитное. Шла третья неделя Великого поста.
С трепетом я вошел в родную мне маленькую келию батюшки, внимая ее неслыханной тишине. Слева на аскетическом ложе лежал, как всегда в подряснике и в сапогах, погруженный в одному ему ведомую глубину, отец Серафим. На его бледном лице я увидел печать физического угасания, но глаза тихо светились, в них была неизменная любовь. Все говорило о скором переходе его в вечность. Он попытался подняться и сесть на постели, но я попросил его не вставать. Беседа наша была тихой и светлой. Батюшка не говорил ни слова о своей болезни, его интересовали мы, наша жизнь. Он радовался моему монашескому постригу, который только что совершил владыка Леонид. Мне хотелось, чтобы меня постриг батюшка, но владыка Леонид пожелал постригать меня сам. «Не смущайтесь, — сказал батюшка, когда я сообщил ему о решении владыки, — вас будет постригать та же рука». Владыка Леонид, как уже говорилось, постриг в монашество отца Серафима, и после пострига их духовное общение стало еще более глубоким. Отец Серафим радовался, что владыка, как и его когда-то, принял меня под свой духовный покров. Начинающийся уход батюшки от нас еще острее почувствовался, когда мы за трапезой увидели его место пустым. Вечером я попросил иподиакона Игоря, моего спутника из Риги, помолиться со мной о здравии батюшки. На другой день мы пришли на трапезу и, к нашей радости, увидели батюшку на своем месте. Поразительным было то, что он выглядел таким же, как прежде, — тихим и кротким, излучающим свет и покой, без малейших следов болезненности на лице. Сердце благодарило Господа за этот дар. Но на следующий день, день нашего отъезда, он вновь слег. Несмотря на свою немощь, он нас принял. Игорь удостоился получасовой беседы. Мне хотелось услышать последнее напутствие, последнее слово, но я не дерзал просить об этом. Батюшка сам сказал: «Храните устав».
Последнее целование. Я не мог выйти из келии, повернувшись к старцу спиной. Смотрел на батюшку и постепенно удалялся… До встречи в вечности».
Из воспоминаний духовной дочери отца Серафима схимонахини Ермогены (Денисенко), насельницы Иоанновского монастыря в Санкт-Петербурге.
Отца Серафима я знала с 1930-х годов. Тогда он был отцом Димитрием. Мне было 14 лет, когда он с детьми — Ниной, Людмилой, Антониной и тетей Марией, родной сестрой своей мамы, поселился у Мавры. Она была родной сестрой моей бабушки Пелагеи. Они жили в поселке Карнауховка Днепропетровской области. Отец Димитрий, когда закрыли храм в Михайловке, продолжал тайно служить по квартирам, а когда работал на угольном складе в Днепропетровске, ночью совершал службы в сторожке. На угольном складе он проработал год, жил в это время у нас на квартире в поселке Таромское, где и был арестован.
После ареста отца Димитрия его дети жили у бабушки Мавры. Дочери боялись ареста, и вскоре разошлись кто куда. Нина, старшая, была врачом. Младших дочерей — Людмилу и Антонину, с которой я в детстве играла, прятали верующие. Бабушка Мавра знала, где они живут, а я нет. Бабушка Мавра была духовной дочерью отца Иоанна Кронштадтского, у нее хранился крест отца Иоанна, которым его наградил государь император Николай Александрович. Этим крестом отец Иоанн благословил свою духовную дочь Мавру. Когда я в 1952 году уходила в монастырь, она передала этот крест мне. Отец Иоанн подарил Мавре книгу «Моя жизнь во Христе», на книге есть дарственная надпись. Эта книга была настольной у моей матери Евфросинии. По просьбе старицы Мавры я писала в ссылку отцу Димитрию письма, он и благословил меня поступить в монастырь.
Хорошо помню, как в 1955 году к нам в Тихвинский монастырь (близ Днепропетровска) из заключения пришел батюшка. Игумения Руфима (до ареста батюшки инокиня Фотиния) первая увидела идущего отца Димитрия (мы все были на клиросе) и сказала: «Батюшка идет». Я не могла его узнать, так он изменился. Он вошел в пономарку, позвали туда и меня, потому что все знали, что я его духовная дочь. Батюшка поклонился мне в ноги. Я была маленького росточка, все матушки пришли в ужас. «Батюшка, что же вы кланяетесь, она ведь послушница». Он ответил: «Она для меня столь дорога». Я писала письма в заключение, сообщала ему все церковные новости.
Настоятельница Тихвинского монастыря игумения Ксения очень уважала отца Димитрия и дорожила им. Как-то она попросила, чтобы я пригласила батюшку, и разрешила мне присутствовать при разговоре, но предупредила: «Сиди тихо и что услышишь — никому не говори». Я слышала, как матушка Ксения сказала батюшке, что она из дома Романовых. Когда батюшка услышал об этом, то пришел в радостный восторг и поклонился ей в ноги (фамилия ее была изменена на Романовскую, маму ее звали Александра). Матушка Ксения говорит: «Отец Димитрий, вы — священнослужитель, а я не могу вам поклониться». А он ей: «Нет, нет, матушка, дорогая». Она 1869 года рождения. Было ей тогда 86 лет. Они еще долго беседовали. Матушка Ксения приглашала его остаться в монастыре, и я по-детски упрашивала: «Батюшка, будьте у нас». А он: «Деточка, ты не знаешь, какое вам будет горе, если я буду в вашем монастыре. Ты будешь плакать из-за меня, лучше я буду на стороне». Владыка Андрей и митрополит Симферопольский и Днепропетровский Гурий боялись назначить на служение священника, возвратившегося из ссылки. Епископ Можайский Стефан (в миру Стефан Никитин), постриженный в монашество в 1952 году в нашем монастыре, хорошо знал и любил отца Димитрия и помог ему восстановить регистрацию, когда батюшку выдворили из Днепропетровской епархии.
Однажды я поехала в Жировицкий монастырь к архимандриту Михею (Хархарову), тогда он был наместником монастыря (ныне — архиепископ Ярославский и Ростовский), затем — в Ракитное, к отцу Серафиму. Когда я исповедовалась у батюшки, он наклонился ко мне и спросил: «Ты решила отойти от меня?» Меня это поразило. Я ответила: «Батюшка, мне очень жалко вас, вы из-за меня страдаете. Окружающим вас не нравятся мои частые приезды, что я ваша духовная дочь». «Ты моя, и ты имеешь такое же право, как и те, кто рядом, около меня. Пока я жив, никуда от меня не отойдешь». Я заплакала и попросила у него прощения. «Чадо мое любимое, — сказал отец Серафим, — знай, ты никогда ничем меня не огорчила, тихая, молчаливая».
За четыре недели до его кончины я приехала к отцу Серафиму. Он болел и попросил меня в ночь перед моим отъездом побыть возле него до утра. Он сказал: «Я хочу особенно поговорить». Мы долго с ним беседовали. Батюшка вспоминал прошедшее время, детство, свое первое служение, Михайловку, старицу Мавру, Такмак, Соколовку, Ракитное. Всех вспомнил… Вторая половина его жизни проходила на моих глазах, и он хотел как бы подвести итог своей жизни и поговорить о прошедшем с близким ему человеком. Он сказал, что в своей жизни никогда не перепрыгнул даже маленького заборчика (такой он был всю жизнь смирный). На своих примерах он учил меня послушанию и смирению. Рассказывал о лагере, ссылке, как не однажды спасал его от верной смерти Святитель Николай, как Господь хранил и укреплял его.
Под утро мы стали готовиться к отъезду. Он особо со мной попрощался, но выйти из келии и проводить не смог, так он ослаб. Батюшка стоял и смотрел в окно, как я уходила. Я остановилась, оглянулась, он перекрестил меня. Отойдя подальше, я опять оглянулась, он благословил меня крестом. И так повторилось три раза. Слез сдержать было невозможно. Я знала, что это наша последняя встреча здесь, на земле.
На второй день Светлого Христова Воскресения, 19 апреля 1982 года, я получила телеграмму, что отец Серафим почил в Бозе. Я вылетела на погребение.
После кончины батюшки я все плакала и думала, как же теперь жить? Он все знал, все понимал. Бывало, омоет мою голову слезами, поплачет вместе со мной, и я утешусь. И вот я вижу сон: подошла к его могилке, плачу все о том же — как жить дальше? И вижу: могилка разверзается и появляется батюшкина рука и благословляет меня. Я в испуге убегаю. И как бы далеко я не убежала, его рука оказывалась всегда рядом со мной. Я говорю: «Батюшка, какая у вас длинная рука», а он: «Моя рука всегда над тобою. После меня будешь исповедоваться, каяться о грехах делом, словом, помышлением… — говорит он, — по молитвослову. Наступает такое время, что придется так исповедоваться». И продолжает: «Я вручаю вам матушку Никодиму (в схиме Михаилу; t2000), если она чем вас обидит или не послушает, вмените это мне. Но ее жалейте всю жизнь».
Матушку схимонахиню Михаилу я считаю святой. Она в жизни ни разу не повысила голос, батюшка Серафим очень ее уважал. Она была хорошим регентом и педагогом с высшим образованием.
Но вернемся в прошлое. После закрытия Тихвинского монастыря мы жили с матушкой Никодимой вдвоем. Митрополит Гурий знал, что она хороший регент, и пригласил нас в Симферополь. Отец Димитрий благословил нас переехать в Феодосию. Там мы прожили тридцать лет, и сейчас мы вместе в Иоанновском монастыре, что на Карповке, в Санкт-Петербурге. Когда матушке Никодиме сделали онкологическую операцию, и отец Серафим узнал об этом, то был очень опечален тем, что она не обратилась к нему: операции можно было бы избежать. Такие заболевания по молитвам отца Серафима Господь врачевал. После операции появились осложнения, и мать Никодима долгие годы была частично парализована, плохо передвигалась и говорила с трудом. Отец Серафим благословил нас после его кончины окормляться у архимандрита Михея (Хархарова). За свое благочестие отец Михей был гоним, как и отец Серафим. Изгнали его и из Жировицкого монастыря, где он был наместником. В 1996 году, будучи уже архиепископом, он постриг монахиню Никодиму в великую схиму с именем Михаила».
Из воспоминаний диакона Димитрия Тялочкина, внука отца Серафима, о своей первой встрече с батюшкой.
«Когда Господь впервые привел меня в поселок Ракитное к отцу Серафиму, мне было пятнадцать лет. В 1967 году, после окончания восьми классов, во время летних каникул приехал человек от дедушки и сказал маме, что дедушка прислал его за мной. И только тогда меня посвятили в тайну о существовании дедушки. Это скрывалось от меня, хотя при рождении мне дали имя в честь дедушки, как память об отце, пропавшем в застенках.
И вот приехал я к дедушке в поселок Ракитное, но не застал, его не было на месте пару дней. Я остался ждать, находясь в полном неведении и даже в некотором напряжении. Спал я на кровати в дедушкиной келии. Проснулся от какого-то беспокойства. На стуле возле кровати сидит в черной одежде и плачет сгорбленный, весь седой, глубокий старец. Старец, подняв глаза, посмотрел на меня очень внимательно и грустно. Морщины на его лице свидетельствовали о годах нелегких испытаний, которые выпали на его долю. Трудно было выдержать его долгий любящий взгляд, проникавший в самую глубину души. Дедушкиных фотографий, раньше не видел, да и вообще никто меня вниманием не баловал, а тут смотрит на меня человек и плачет. Я растерялся и тоже заплакал навзрыд. От волнения я опустился на колени перед дедушкой. Он поднял меня, прижал мою голову к себе, и впервые в жизни я ощутил настоящую любовь.
Когда-то мой отец, участник войны, говорил мне: «Четыре года войны — это вся моя жизнь. А потом я жил воспоминаниями». Вот с такой силой вошло в меня все, что связано с дедушкой и забыть я ничего не смогу.
Дедушка пригласил меня с собой в храм, куда мы, несмотря на раннее время, отправились сразу же. Возле церкви было много людей, у всех радостные лица. Все увиденное было для меня совершенно непонятно. До этого памятного утра я просто не знал, что есть Бог, Церковь, священнослужители, верующие. Это был для меня совершенно новый мир, и открыл его для меня мой незабвенный дедушка. И вот, в одночасье, открылся передо мной совершенно новый мир. Дедушка ввел меня в алтарь и сразу же стал молиться. Потом исповедовал меня и вышел в храм сказать проповедь. Я ожидал в алтаре, с трепетом рассматривая каждую вещь, — иконы, священные сосуды, книги, даже пробовал читать напрестольное Евангелие. Время остановилось. Чувствую, на меня кто-то смотрит. Оборачиваюсь — стоит дедушка и, плача, говорит: «Теперь, мой Митенька, тебе деваться некуда. Это место священника». Я ничего тогда не понял, но слова эти запомнились. Позже дедушка забрал меня к себе насовсем. Сказал: «Будешь жить со мной, на моем попечении». Родственники, да и просто знакомые, отвернулись от меня. Только это не огорчило, а даже, наоборот, — обрадовало. Однажды в Ракитном я долго гулял и поздно пришел домой. Дедушка меня встретил и попросил впредь воздерживаться от поздних прогулок. Сказал: «Будь осторожен, ты мой внук». Больше никогда я поздно не возвращался.
Дедушка стал готовить меня для поступления в семинарию, но мама, узнав об этом, пришла в ужас: дескать, я в юности много пережила, как дочь священника, а теперь еще и сын… В общем, дедушка уступил и благословил меня учиться в институте.
Я много раз уезжал на учебу, либо по дедушкиным поручениям. Перед дорогой он всегда меня исповедовал и читал Евангелие, держа его над моей головой. После чтения он наставлял меня, проверял, помню ли заповеди Господни, беспокоился, тепло ли я оделся, все ли необходимое взял в дорогу, спрашивал, когда вернусь. Порой не хотелось уезжать от такой любви и заботы. Не помню случая, чтобы в дороге мне что-то помешало приехать на место вовремя, к сожалению, даже появилась некая беспечность. Получив благословение дедушки, я всегда был уверен в достижении цели. Я всюду успевал, хотя приходилось добираться даже в локомотиве поезда, в почтовом вагоне. Однажды в самолете пилоты пригласили меня в свою кабину.
Когда-то дедушке сказали, что он излишне строг ко мне, на что он ответил: «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится».
Воспитывая меня, дедушка говорил: «Левая рука не знает, что делает правая, если речь идет о достижении доброй цели. А ты почему-то хочешь это изменить». Другой раз начнешь что-нибудь рассказывать о своих проблемах, а в ответ: «Нужно больше доверять Богу, а то все сам да сам. Тяжело ведь самому. Поверь, Господь все устроит. А ты мешаешь только. Проявляй терпение».
Мама рассказывала, что когда она до войны училась в Днепропетровском мединституте и жила в общежитии, то от всех скрывала свое происхождение. Рассказывала: «Смотрю в окно и вижу, что по двору общежития идет папа в рясе, с портфелем в руках. Он всегда и везде ходил так. В те годы толпа могла просто убить священника и никому ничего за это не было бы, а насмехаться, оскорблять — это было в порядке вещей. Так вот, увидела и обомлела. Что делать, куда бежать? Ведь никто не знал, что я дочь священника! А он уже поднимается по лестнице, слышен стук сапог. Все, думаю, прощай институт. Выбежала на лестницу и спряталась на чердак. Потом бросилась следом за ним по Севастопольскому парку (бывшему кладбищу, где покоится прах моей мамы). Догнала и спрашиваю: «Что случилось?» Отвечает: «Соскучился. Не бойся, никто не заметил». Расцеловал, благословил. «Беги, ведь посинела от холода». Вернулась в комнату, ожидала расспросов, но никто действительно не обратил внимания. Все прошло незаметно для окружающих».
Бедная мама всю жизнь пряталась, конспирировалась. В те годы дочь врага народа была объектом повышенного внимания со стороны сотрудников НКВД. И только выйдя замуж за офицера советской армии, она немножко успокоилась. Мама умерла в 73 года (†1994), скоропостижно, от инсульта. Прошу молитв об упокоении души рабы Божией Нины, много пострадавшей в сиротстве. Ведь о своем отце она ничего не знала пятнадцать лет, и подорванное в этот период здоровье поправить так и не удалось. За свою пятидесятитрехлетнюю врачебную практику она многим спасла жизнь.
Дедушка очень любил маму и был ей очень благодарен, что после смерти его супруги от голода и туберкулеза в 1933 году, несмотря на детский возраст, она приняла на свои плечи груз попечительства над двумя младшими сестрами. Просто жутко было слушать ее рассказы о совершенно голодной и холодной жизни, о том, как у нее на руках умирала мама после долгой тяжелой болезни, как годом раньше от голода умирали два брата, а еще раньше — бабушка. В течение двадцати шести лет мама была личным врачом дедушки. Без консультации с ней он не принял ни одной таблетки. Помню, мама настаивала, чтобы дедушка больше отдыхал и лучше питался. Но после этих рекомендаций его пост неизменно становился еще более строгим, а молитвы продолжительнее. Он говорил маме: «Я отдыхаю в храме, а болезни — это наши грехи». На моей памяти мама была для дедушки самым близким человеком. После ареста дедушки началась война. В двадцать один год по причине военного положения мама досрочно получила квалификацию врача. Потом были фронт, эвакуация и военные госпитали. Мама вспоминала, как однажды во время налета вражеской авиации люди, не имея возможности укрыться, разбежались по полю. Она, услышав вой авиабомбы, бросилась на землю, но тут кто-то громко стал ее звать: «Нина, скорее сюда». Смотрит — старичок, весь седой, в черном, машет ей рукой и кричит: «Скорей, скорей сюда». Она подбежала к нему. Он толкнул ее на землю, а за спиной раздался взрыв, полетели осколки. Через какое-то время она поднялась. Ее оглушило, но не ранило. Смотрит, а на том месте, где она раньше лежала, дымится огромная воронка. А у нее — ни царапины, только звон в ушах. Начала искать того старичка. Думала, что его убило, ведь он остался стоять, но нигде его не нашла. И вдруг вспомнила, что видела его на иконе дома. Это была икона Святителя Николая. И только тогда пришла в себя. Вспомнила, как папа часто молился перед этой иконой, как начались трудные годы: вся жизнь в одно мгновение прошла перед глазами…
…Мой диванчик находился у входа в дедушкину келию, поэтому на протяжении многих лет я был невольным свидетелем всего, что происходило в доме. Однажды, в студенческие годы, я собирался уезжать на учебу. Зашел к дедушке в келию за благословением и наставлениями на дорогу. Дедушка отдыхал. Вдруг вслед за мной зашел архиепископ Соликамский Николай, старый друг дедушки. Они были почти ровесники. Дедушка хотел было подняться навстречу, но владыка попросил его не вставать с постели. Я сел на один стул, владыка — на другой. Так мы втроем беседовали минут пять. Дедушка сказал мне: «Ты пока собирайся, а мы с владыкой еще побеседуем, потом зайдешь». Подождав за дверью минут двадцать, но не слыша никакого разговора, снова зашел. Владыка сидел с закрытыми глазами, казалось, спал. Дедушка тоже вроде спал, но только я зашел, владыка встал и говорит: «Вы пока проводите внука, он торопится (я действительно торопился), а я потом зайду и расскажу еще кое-что интересное». Я тогда очень удивился. Они за полчаса не сказали друг другу и десяти слов. Как можно рассказывать, ничего не произнося вслух? Чудеса!
…Дедушка был во многом талантлив: профессионально пел, рисовал и писал, как сейчас говорят, «в стол». Запомнилось вечернее чаепитие. Это был очень торжественный ритуал. Мария Григорьевна, многолетняя помощница дедушки, накрывала стол всегда с учетом моего аппетита. Дедушка ел мало, чай пил не спеша. Как правило, за столом не велось никаких разговоров. Дедушка любил чай горячий, не крепкий, пил иногда с молоком, сахар — вприкуску. Все это происходило медленно. Такая чарующая тишина и спокойствие. Дедушка всегда пребывал в некой задумчивости, редко задавал вопрос, казалось, что ответа он не ждет.
Самое сильное впечатление у меня осталось от пасхальных богослужений. На Страстной седмице, начиная с Вербного воскресенья, наступают радостные дни и состояние истинного покаяния. Чувствуешь себя вдали от мирской суеты, душа готовится к приобщению Святых Христовых Таин. Начинаются круглосуточные богослужения. Дедушка везде присутствует, иногда кажется, что он передвигается по воздуху, хотя в церковь и обратно мы идем вместе. Правда, домой идем часами, потому что нас останавливает очень много людей, всем дедушка уделяет внимание, дает наставления. Дома молитва возобновляется с новой силой, со слезами покаяния. На коленях — и молитва, и отдых. Короткий ужин — чай — и опять молитва. Иногда мы пробовали подражать дедушке, но тщетно; усталость валила с ног. Утром опять идем в церковь. И так всю неделю. Радостью общения с Господом в молитвах дедушка щедро делился с нами. И вот дни покаяния временно окончены. Наступает великая ночь с субботы на воскресенье. Дедушка в субботу после богослужения не приходит домой, готовит храм наших душ, молится о всех, кто будет участвовать в богослужении. Приезжих очень много. Среди них известные ученые, военные, писатели, врачи, рабочие, колхозники — наш православный русский народ. В воздухе — напряженное ожидание. Говорят шепотом даже на улице. В ограде, возле кухни сложены сумки приезжих. Очень много монашествующих. Дедушка всегда мечтал устроить в Ракитном монастырь. В храм войти невозможно из-за многолюдства. На улице возле храма появляется милиция, никого не беспокоят, просто наблюдают, а может, и молятся — тоже ведь русские люди. В шесть часов вечера начинают читать «Деяния святых апостолов». Читают медленно, желающих читать много. Дедушка молится в алтаре. Ход времени не заметен в этом море благодати. Вокруг счастливые лица. Готовятся к крестному ходу. И вот крестный ход. Все очень чинно и торжественно. Трижды обходим храм. Идем медленно, останавливаемся у входа в притвор, начинается служба. «Христос воскресе!» — читаешь в глазах людей. «Христос воскресе!» — поет природа. «Христос воскресе!» — подхватывает хор. Храм встречает всех молящихся обилием огней. С нами Сам Христос. В руках у людей свечи. Это символ пламенной молитвы, соединяющей воедино Церковь земную и Небесную. Во всем чувствуется чудодейственная благодать Божия. То, что происходит далее, словами передать невозможно, это надо хотя бы раз прочувствовать душой.
Дедушка приходит домой в восемь часов. После долгой молитвы начинаем разговляться, люди за столом меняются много раз. Каждый раз дедушка выходит к столу благословить трапезу, поприветствовать все новых и новых гостей. Даже в этот день к спиртному за столом дедушка относился крайне негативно, и редкие робкие попытки поставить на стол вино строго пресекались. А таких попыток каждый год становилось все больше и больше. Кто-то принесет вино по незнанию, кто-то возомнит себя «большим гостем». Дедушка просто уходил, сославшись на усталость, хотя мы понимали, что дело не только в усталости. Это омрачало праздник, но ненадолго: слишком велика была радость. Иногда, крайне редко, уступая моим настойчивым просьбам, дедушка рассказывал о том периоде своей жизни, в котором все, что происходило, я, даже напрягая воображение, не мог себе представить.
Наша последняя встреча — прощание с дедушкой — была необычной. Впрочем, как и все связанное с ним. Последнее время он очень ослаб физически, но здоровьем он был слаб всегда, хотя никогда и не жаловался. Я приехал утром. Мы вместе ходили в храм, правда, дедушка все делал гораздо медленнее, чем обычно. К вечеру я собрался в обратную дорогу. Зашел в келию. Дедушка меня благословил, сказал слова наставления, а потом сказал, что проводит. Я думал, как всегда, до дверей. На дворе было не по-весеннему холодно. Я стал отговаривать, но дедушка, не слушая меня, начал одеваться. Потом вдруг заплакал. И все благословлял меня крестом много раз. Я тоже что-то почувствовал необычное, заплакал и сказал, что не поеду, пока он не успокоится. Он оделся и сказал: «Пошли, все равно нужно расставаться, когда я тебя еще увижу». Мы вышли во двор. Там всегда было много людей. Они тоже очень удивились. Дедушка провел меня до калитки, вышел за нее, остановился. Я весь в слезах, немножко успокоился и пошел в сторону автобусной остановки. Обернувшись, увидел, что дедушка, плача, продолжает благословлять меня. Я вернулся. Мы обнялись, и опять — слезы. В конце концов я пошел, ничего не видя перед собой. Приехав домой, я сразу же стал готовиться к поездке обратно, но задержался на работе. Когда сообщили о тяжелом состоянии дедушки, я немедленно выехал. Приехал рано утром, а накануне дедушка отошел ко Господу.
…С того памятного дня прошло двадцать два года. Живя под мудрым руководством дорогого дедушки, я многого не понимал, но жить по его святым молитвам было легко и просто, все совершалось как бы само собой. После его кончины мы растерялись, не знали, как быть без него, что с нами будет?
Делая из дубовых досок гроб, мы не сомневались, что наш глазомер не подведет, ведь батюшка у всех нас был перед глазами. Но тело отца Серафима намного превосходило те размеры, которые мы брали за основу. Он был высокий, примерно метр девяносто. Это с годами он сгибался под тяжестью креста, который мы своими тяготами, грехами, неразумием возложили на его плечи, и он один нес его за всех нас. Только вот духом и скорбями он возвышался над всеми нами, и сегодня мы вряд ли можем постичь ту духовную высоту, на которую вознес его Господь.
Я часто думаю о своем дедушке. Знавшие его и бывшие ему близкими будут помнить все, что с ним связано, до мельчайших подробностей и свято чтить его память. Сказать, что отец Серафим был истинным миротворцем, — это еще не все. Он был человеком «не от мира сего», он досконально знал все о живущих рядом с ним людях.
Порой мы не всегда понимали и не могли себе представить ту внутреннюю жизнь, которой жил отец Серафим. Предвидя наше будущее, он, направляя нас по пути, открытому ему во имя нашего спасения, выслушивая наши чаяния, не всегда говорил определенно, что делать, хотя знал, конечно, все. Он, как бы жалея нас, видя всю нашу беспомощность, принимал на себя груз ответственности за наши земные дела.
Мы очень мало знаем о нем, о его прошлом, о том, как зарождался в нем свет праведности. Знаем, что он с молодых лет священствовал, был в лагерях в период репрессий, по воле Божией остался жив, не любил обновленчества, отстаивал чистоту Православия. Это был воспитанный и высокообразованный человек. Вся жизнь его была, несомненно, молитвенным подвигом с постоянными заботами о близких и дальних, о друзьях и недругах и никогда — о себе. У него как бы отсутствовал тот самый ген, который заставляет большинство в первую очередь думать о себе.
Когда он умер, многие осиротели. Среди этих людей были и писатели, известные ученые, колхозники, моряки — и воры, алкоголики. Все они понимали, что им самим со своими трудностями не справиться, они осознавали свою беспомощность в этом непростом мире. Глаза их загорались только в разговорах о нем. Отец Серафим просветил их духовным светом. Они чувствовали, скорее подсознательно, как сильно он их любил и любит. Им всем было присуще чувство долга перед своей пробудившейся душой. Одни больше, другие меньше, но все они твердо знали, что он их любит и оберегает от греха, молясь за них.
Сложно жить сегодня в мире с самим собой, в одиночку не справиться. Нарушилась гармония, человек потерял путь, которым шел многие века. Я уверен, что секрет этой гармонии отец Серафим знал в точности. Гармонию нельзя увидеть, потрогать, ее можно воспринять только душой. Способны на такое лишь одаренные от Бога люди, каким был наш отец Серафим».
Петр Ильич Мельник (1895–1997). Немыслимо себе представить, чтобы в совсем недалекие времена можно было публично говорить о человеке такой судьбы. Тогда пример подобной личности не мог иметь в нашем обществе достойного отклика. Слава Богу, сегодня можно без оглядки писать о таких людях!
Петр Ильич родился в 1895 году в крестьянской семье Черниговской губернии. С ранней юности он познал радость прилежного труда, учебы и сердечной молитвы. После окончания приходской школы и двух классов ремесленного училища, в 10-е годы XX столетия Петр отправляется вместе с отцом на строительство железной дороги у Благовещенска-на-Амуре. Непосредственно от родителя перенимал знание кузнечного и машинного, как принято было тогда говорить, дела.
Юноша обратил на себя внимание не только прилежностью и аккуратностью в работе, но и смекалкой, мастерством, грамотностью и исключительной каллиграфией. Что и позволило ему сделать хорошую по тем временам карьеру. В свои восемнадцать лет он становится десятником, а чуть позже и конторщиком строительного отдела Управления Амурской железной дороги.
В 1916 году Петр Ильич призывается в армию, где верой и правдой служит Царю и Отечеству. Не изменил Православию и воинской присяге он и в годы гражданской войны. В составе инженерной роты Мельник укреплял оборонительную линию, когда на Крым двинулись полки Бела Куна и Землячки. Скромный, честный, храбрый, Петр Ильич снискал себе уважение среди сослуживцев и местных жителей. Приходили они к нему за советом, за подмогой делом и материалами.
«В конце июня, — вспоминал Петр Ильич, — с Мекензиевых гор была снята батарея береговой артиллерии и доставлена в Ишунь. Здесь вдвоем с полковником Олсуфьевым мы в течение двух недель устанавливали два десятидюймовых орудия — устанавливали на фундаменте, заливали бетоном, выдерживали затвердение, делали пробные залпы. А через три дня после залпов началось…».
Защитники последней пяди Российской Империи, захваченные красными, все до единого были уничтожены. Унтер-офицера Мельника местные жители, помня его доброту и отзывчивость спасли, передавая из одной семьи в другую под видом заболевшего тифом родственника, и сами подчас рискуя быть расстрелянными. Так перебирался Петр Ильич из одного дома в другой, из одного селения в другое до самого Джанкоя, уповая на милость Божию и на людское сострадание. И по вере своей получил Петр Ильич от Царицы Небесной дар предчувствовать места и моменты смертельной опасности. Во все годы красного террора, меняя места жительства, подвизался он где рабочим, где мелким служащим.
В середине 20-х судьба вновь привела его в Крым, на сей раз в Симферополь. Здесь он женился на вдове, стал налаживать благочестивую семейную жизнь. В сороковом, уже отец двоих дочурок, был Петр Ильич по обвинению в неблагонадежности отправлен в ГУЛАГ, в политлагерь на 13 лет. И снова чудо: трижды по ложным доносам судили его внутрилагерным судом и трижды оправдывали! По законам военного времени это было невероятно, поскольку расстреливали тогда за малейшую провинность. Вышел по амнистии в 1953 году, после смерти Сталина, вернулся домой, трудился в мастерских городского коммунхоза, посещал, несмотря ни на какие угрозы, церковные службы, чинил прохудившийся дом, зарабатывал пенсию.
В «оттепельные» 60-е годы Петр Ильич Мельник состоял в церковной двадцатке. Самоотверженно спасал церковную казну, защищал от закрытия «по просьбе верующих» кафедральный собор Пресвятой Троицы в Симферополе (ныне женский монастырь), за что, как ни удивительно, получил епитимью от правящего архиерея.
В 70-е годы на Петра Ильича обрушились беды одна другой хуже: туберкулез (сказались годы заключения), слепота и, наконец, злокачественная опухоль. Но снова Господь явил свою милость по несомненной вере раба Своего. По молитвам архимандрита Серафима (Тяпочкина, 1894–1982), жившего в Белгородской области, — к нему ездил Петр Ильич — он был полностью исцелен. В 1992 году это чудо было засвидетельствовано публикацией в газете «Курские епархиальные ведомости».
Последние тридцать лет Мельник, по благословению отца Серафима, своего духовного отца, переплетал и реставрировал церковные книги. Делал он это совершенно безвозмездно как храмам, так и простым людям никогда не отказывал в помощи. Так что посылки с требующими подновления книгами приходили из Киргизии, с Дальнего Востока, Белгорода да еще и не всегда с деньгами на обратную пересылку. И всегда из своей скудной пенсии выкраивал он средства на отправку измененных его дивными руками книг их владельцам.
А 3 декабря 1994 года случилось несчастье: в возрасте 99-ти лет он упал и получил травму — откол головки бедренной кости. Многие, схоронившие своих стариков, родных, близких — знают, что это такое: несчастные умирали от отека легких, измученные пролежнями при вынужденной неподвижности. Но Петр Ильич ушел из жизни в здравом уме и твердой памяти, не дожив всего трех дней до своего 102-летия.
Больше века жил на земле этот удивительный человек. Жил, за все благодаря Бога, не ропща на многие тяготы столь длинной жизни, радуясь и сопереживая всему, что творилось в душах людей, а также в судьбе некогда великой державы, за которую он без страха и сомнения полагал свою жизнь и которая рушилась на его глазах, причиняя душе боль, несомненно большую, чем физическая.
В последнее время земного странствования Петра Ильича возле него находился Александр Андреевич Галицкий, в прошлом боевой летчик, ветеран Великой Отечественной войны, талантливый художник. Именно от него стало многое известно о бытии скромного жителя старого симферопольского дворика, последнего в мире ратника белой гвардии, русского патриота Петра Ильича Мельника.
Слава Богу, здравствует его дочь, ныне пенсионерка — Анна Петровна Мельник. Своей тихой жизнью, бескорыстным желанием помочь каждому нуждающемуся, искренним сочувствием к чужим бедам продолжает она путь, указанный её отцом.
Вот какой удивительной оказалась более века продолжавшаяся жизнь хорошо известного многим симферопольцам интеллигентного, скромного прихожанина храма Трех Святителей! Жизнь человека Божьего Петра Ильича Мельника, подобно некоей тончайшей и длинной нити, прошла через толщу времени и соединила век XIX не только с веком XX, но и с XXI. Потому мы сегодня преклоняем головы перед силой веры и подвижничества, перед силой правды человеческой и правды Божией.
Схимонахиня Анастасия[51] из Рижской СпасоПреображенской пустыни, вспоминает, что при отце Таврионе приезжал в пустыньку отец Серафим, который говорил: «У вас тут будет много чудес». И действительно, в 1991 году начала мироточить икона преподобного Иоанна Лествичника из иконостаса храма в его честь. А до нее источала миро Толгская икона Божией Матери. Во время архиерейской службы замироточила икона преподобного Серафима Саровского. Те, кто поездил по святым местам, утверждают, что нигде такого чуда нет, чтобы по милости Божией, столько икон разом изливали благодать.
Архимандрит Феодор (Андрющенко), насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
«Отец Серафим говорил проповедь о евангельских блаженствах. Я внимательно слушал и заметил, что одну из заповедей он упустил, может забыл. Я подумал: «Ничего страшного, ведь в жизни он давно выполнил их все безукоризненно».
Отец Серафим обладал удивительной памятью. В один из моих приездов к нему я присутствовал при отчитке. Все молитвы, которые положены на молебнах и соборовании, батюшка читал наизусть. Длилось это часа полтора.
Отец Серафим кушал мало: съедал всего несколько ложек. Как-то он сказал: «Вместо двух ложек съел три».
…Поехал батюшка причащать болящую старушку, машина завязла в грязи, накренилась. Он выбрался и пошел пешком — по колено в грязи, и успел причастить ее перед самой кончиной.
…Заболел у матушки Любы зуб. Два дня она терпела, а на третьи сутки подошла к отцу Серафиму и сказала, что болит зуб. А он, не сильно так, стукнул по больному месту, и зуб сразу же перестал болеть».
Свято-Троицкая Сергиева лавра. 1987 год.
Приезда отца Серафима в Рижской пустыньке[52] всегда ждали с нетерпением и радостью. Владыка Пантелеймон[53] вспоминает: «Первая моя встреча с отцом Серафимом произошла у архимандрита Тавриона. Такие встречи были великим утешением для насельниц этой тихой обители и для всех паломников. Отец Серафим обычно сам уведомлял о своем приезде, и все ждали его с нетерпением, готовились, словно к празднику. Этих двух старцев — отца Тавриона и отца Серафима — объединял дух неизреченной любви к Господу и людям. Оба они долгие годы провели в тюрьмах и лагерях. Благословение сразу двух великих старцев сохранило мою жизнь, приоткрыв силу их молитв в непостижимых для меня судьбах Господних.
Как-то в один из моих приездов в пустыньку собрался я в обратный путь и подошел под благословение к старцам. Они мне в один голос говорят: «Павлуша, ты не уезжай, причастись, потом и поедешь». Я с кротостью им отвечаю, что уже причащался. «А ты и завтра причастись», — советуют они мне. Я исполнил все, как мне наказали батюшки. В дороге произошла автомобильная катастрофа. Два человека, находившихся рядом со мной, сразу погибли, один был тяжело травмирован. Я же остался совершенно невредим. Вот что такое послушание и молитва великих духовных старцев! Эти святые отцы были храмом Живого Бога, и дух Божий жил в них. Сила их благодати ограждает меня и по сей день от всех ложных путей.
Я глубоко убежден, что отец Серафим был светочем не только земли Русской, но и всего православного народа. О нем знают не только у нас в России, но и за границей. Я встречал верующих, которые уже после кончины отца Серафима свидетельствовали о той чудной помощи от Господа всем, кто с верой обращается к этому великому молитвеннику».
Вспоминает архиепископ Тобольский и Тюменский, ректор Тобольской Духовной семинарии Димитрий (Капалин). «Я посещал батюшку Серафима дважды. И оба раза вместе с отцом Владимиром Маркиным, ныне уже почившим. Это было в 1979 году. Я тогда окончил институт и работал ведущим конструктором. Жил под Москвой, на станции Удельная. Отец Владимир заболел и решил поехать к батюшке Серафиму. Взял меня шофером. Я только что получил права, опыта не было никакого, а расстояние — полторы тысячи километров в два конца. Я даже испугался.
Но когда мы ехали, такое умиротворение вокруг нас было! И чем ближе мы подъезжали к Ракитному, тем это умиротворение сильнее ощущалось. В такие минуты хочется молчать. Конечно, волнение присутствовало, я слышал о старце много. А здесь Господь сподобил увидеть его.
Мы приехали в Ракитное поздно, устроились на ночлег, а утром пошли в храм. Вышел батюшка Серафим. Смотрит на нас ласково, весь пронизан отцовской любовью, излучает тепло и радость. Первые его слова были: “Намучились ехать, да-да”. Действительно, по дороге спустило колесо, мы его меняли, да и я, будучи в первый раз за рулем, очень волновался.
После службы мы долго беседовали. Я почувствовал его отеческую заботу, проницательность.
Впоследствии мне захотелось еще раз приехать к отцу Серафиму. Спустя годы мы с отцом Владимиром опять побывали у старца. Незабываемо впечатление от тех встреч: умиротворение, исходящее от старца, проникало в душу, и ты как бы погружался в какое-то блаженство, я бы сказал, уюта и заботы. Знакомство с отцом Серафимом оставило глубокий след в моей жизни, обогатило меня духовно. До сих пор помню его ласку, любовь, для каждого человека он находил нужное слово. Все отходили от него радостные и умиротворенные».
Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2000 г.
Из воспоминаний Анатолия (Аксенова), епископа Переславль-Залесского, викария Ярославской епархии, ректора Ярославского Духовного училища: «Я родился в обычной семье. Мать была верующей, но ходила в храм редко, в основном только в дни, когда пели «Христос Воскресе!», то есть на Пасху.
Но так получилось, что в нашей семье произошла трагедия — в нас с мамой нечаянно выстрелил отец. Он не видел, что мы были за перегородкой. Мне дробь ударила в спину, а маме — в глаза, и она потеряла зрение. Выстрел был на праздник Казанской иконы Божией Матери, третьего ноября. В правый глаз вошло восемь дробин, в левый — две. Врачи сказали: видеть не будешь и мама решила молиться Божией Матери. И молилась. Молилась без оглядки, без отвлечений, без надежды, что кто-то еще может помочь. И ровно через год, третьего ноября она уснула. И приснилось ей, что в доме пожар, выносят вещи. Вспомнила об иконе. И вот она проходит, берет Казанскую икону Божией Матери и обращается к Царице Небесной… Смотрит, Матерь Божия оживает и берет ее за руку, сжала — крепко-крепко. Мама просыпается, а глаза-то видят!
И видят до настоящего времени. После этого она в храм каждый день ходила и утром и вечером. Ну а я воспитывался на улице. И уличные привычки доминировали над тем, что хотела передать мне мать. Учился в техникуме, занимался спортом, ездил на соревнования.
К Православию же пришел таким образом. Так получилось, что я помогал восстанавливать храмы в Тверской области. И тогда уже стал задумываться о вере, но не решался на конкретные шаги. Поступил в политехнический институт на кафедру автомобилей и автомобильного хозяйства. И вот поехал в том же году с одной матушкой в Белгород. Под Белгородом, в селе Ракитное, жил отец Серафим (Тяпочкин). Этот удивительный, великий человек произвел на меня неизгладимое впечатление. Я увидел, как он общался с людьми и как он относился к нам. Он изменил всю мою жизнь. И уже через год я стал студентом Московской Духовной школы, традиции которой теперь пытаюсь продолжать в нашем Ярославском Духовном училище».
«Православное книжное обозрение», сентябрь-октябрь 1998.
Иеромонах Иоанн (Грибин) из Москвы, рассказывал, что когда он впервые увидел отца Серафима, то был поражен необычным сиянием, которое излучало лицо старца, так что его глазам было больно на него смотреть.
Афонский старец схимонах Паисий (Эзнепидис, 1924–1994) в книге «Когда чужая боль становится своей» назвал архимандрита Серафима (Тяпочкина) одним из немногих, кого в наше время действительно можно именовать старцем.
Любовь Андреевна Колядина: «Батюшка каждого очень внимательно слушал, чуть преклонив голову. Отвечал очень тихо, кратко, понятно, немногословно. Бледное, в лучиках-морщинках, светлое лицо было очень выразительно и благородно. Взгляд больших внимательных глаз был проницателен и глубок и как бы вбирал в свой молитвенный круг новую человеческую судьбу. В лице, во всех действиях, движениях старца, в разговоре, во всем — выражение внутреннего покоя».
Архимандрит Трифон (Новиков), насельник Троице-Сергиевой лавры: «Я считаю себя самым счастливым человеком и благодарю Господа за Его милость ко мне, недостойному, что сподобил меня, живя на земле, видеть великого старца, знать его не по рассказам и книгам, а лично, при его жизни. На нем была несказанная благодать. Это был святой отец, о таких написано в древних патериках».
Людмила Петровна Рубежная (Харьков): «Такою тепла, участия и любви к нам, грешным, я никогда не встречала».
Архимандрит Зинон: «Рядом с отцом Серафимом нужно было жить, с ним нужно было общаться, за ним нужно было наблюдать. Это был такой опыт, который очень трудно поддается описанию».
Галина Данилова (Воронеж): «Общение с ним приносило душевную радость, горечи забывались, сердце горело любовью, и по отъезде от него это благодатное ощущение сохранялось надолго».
Почаевский старец Иосиф (Головатюк), впоследствии схиигумен Амфилохий (1894–1970), ныне прославлен в лике святых Украинской Православной Церковью Московского Патриархата (2002), говорил приезжавшим к нему людям: «Зачем вы так далеко приезжаете ко мне? У вас есть свои живые мощи — отец Серафим».
Ольга Удалова (Эстония): «О батюшке можно говорить без конца, но никакими словами не выразить радости общения с ним. Оказаться в поле внимания отца Серафима было для всех счастливым и незабываемым событием».
Иеромонах Сергий (Рыбко): «…Это был земной Ангел, небесный человек. Мы часто слышим это церковное песнопение, но рядом с отцом Серафимом оно как бы оживало. Действительно, он был воплощенная любовь, удивительное, чудное смирение: от батюшки исходило что-то такое, что не могло не коснуться сердца».
Можно без преувеличения сказать, что отец Серафим — это само смирение, сама любовь. Какое же великое счастье, что Господь сподобил меня видеть такого старца!
Валентина Чернова (г. Раменское Московской области): «Дни и минуты, проведенные рядом с батюшкой, — самые дорогие и счастливые в моей жизни. Он всех учил беречь свое здоровье, не брать на себя того, что непосильно. Повторял: «Здоровье нужно нам для молитвы». В самые тягостные для нас минуты отчаяния и безысходности отец Серафим поддерживал в нас веру и надежду, говоря, что за смирение, послушание и терпение Господь не оставит, только бы в бедах и искушениях не отдалиться от Бога».
Схиархимандрит Власий (Перегонцев), духовник Свято-Пафнутьева мужского монастыря Калужско-Боровской епархии. «Отец Серафим был пастырем нашего времени, пастырем Любви. Он никогда не остывал в своей вере, не истощался в добродушной отзывчивости к обиженным и униженным. Все что он делал, делал по любви Христовой.
Я верю и постоянно чувствую, что по его молитвам Господь не оставляет меня. Его молитвами я живу и поныне».
Апрель, 2004 г.
Схиигумен Илий (Ноздрин), духовник Оптиной Пустыни. «Я благодарен Господу, что он даровал мне общаться с дивными старцами, одним из которых был архимандрит Серафим (Тяпочкин). Батюшка потряс меня до глубины души своей любовью. «Выше любви ничего нет» — говорит апостол любви Иоанн Богослов. Я видел эту вечную любовь, воплощенную в старце Серафиме».
Наталья Игнатова (Воронеж): «Этот человек имел просто необыкновенную молитвенную силу, и уходили невзгоды, печали, болезни. Он как бы забирал их себе и давал взамен радость, здоровье и счастье. Батюшка чувствовал всех своих духовных чад, провидел состояние каждого, кто бы где ни находился: на богослужении ли, за стенами храма или за тысячи километров. За те годы, что я ездила к нему, старец никого не оттолкнул, всех принимал, обо всех беспокоился. Если кто-то долго не приезжал, спрашивал, не видели ли мы его, не можем ли узнать причину, почему не появляется. Многим супружеским парам он вернул семейное счастье, многих исцелил, безнадежных поднял с одра болезни, а скольких утешил и обогрел — перечислить нельзя. Определяющим в его отношении к людям было не их положение, состоятельность или профессиональные возможности. Он очень чутко и бережно относился к лучику света и добра в каждом, отчего человек раскрывался перед ним в полной мере. Его ответ на доброе, доверительное устремление к нему, старцу, не был сиюминутным и проходящим. Батюшка на долгие годы сохранял трепетное отношение к человеку, помнил светлые минуты откровения с ним, минуты, в которые душа высветлялась. В следующий приезд встречал человека, как давнего знакомого, будто их не разделяли расстояние и время. Отец Серафим никогда никого не огорчил. Это было исповедническое состояние: боязнь даже в самом малом опечалить ближнего, а значит — и Господа».
Одна из духовных дочерей батюшки вспоминает: «Отец Серафим отнесся к нам сразу очень доверительно, с уважением, оставил обедать. Кормили у батюшки обильно, кажется, съесть все это было невозможно, а он еще подкладывал. Но из его рук как-то легко доедалось. Отец Серафим благословил нас читать молитвенное правило. По-церковнославянски мы читать не умели, но, к своему изумлению, я услышала, что подруга моя худо-бедно читает, потом и я начала. Казалось, что не смогу, но понемногу осмелилась, кто-то меня поправлял. День прошел очень быстро, незаметно, наутро надо было уезжать. Ночью батюшка нас поднял, благословил каждую иконкой и сказал, что теперь мы его духовные чада. Мы возликовали, душа ведь жаждала отеческого окормления. К тому времени мы уже кое-что знали о старчестве. Какое же это было счастье — обрести духовного наставника и молитвенника!
Когда мы пришли на остановку, то автобус оказался прямо перед нами. Приехали на станцию Готня — сразу подошел поезд. Одним словом, на обратном пути все получалось как-то само собой. Не только мы — многие замечали, насколько тяжело было добираться до Ракитного, и настолько, по молитвам батюшки, преодолевался обратный путь: все успевалось, совпадало, всегда в кассе оказывались билеты…»
Архимандрит Георгий (Тертышников), член комиссии по канонизации святых РПЦ. «…Несомненно, отец Серафим — старец святой жизни. И по моему убеждению, нет никаких препятствий к его прославлению в лике русских святых”.
Рассказывает Ирина Пасевич, духовное чадо иеросхимонаха Иоанна, из Крюкова Белгородской области: «Вижу во сне иеродиакона Иону (в схиме иеросхимонах Иоанн)[54] — духовное чадо отца Серафима. Он спрашивает меня: «Ты знаешь, где мощи Серафима?» Я отвечаю: «В Сарове, в Дивееве». А он меня поправляет: «В Сарове мощи преподобного Серафима Саровского, а в Ракитном, в Никольском храме, благодатные мощи Серафима Ракитянского».
Игумен Косма (Алехин), насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры. «Однажды я служил в Троицком соборе у раки Преподобного Сергия. Был обычный день, молящихся мало. Слабый свет, проникающий через узкие окна, едва освещал храм. Без дополнительного освещения невозможно было читать акафист, к тому же я плохо вижу и даже в хороших очках и при сильном свете мне читать трудновато. С горем пополам читаю акафист и вдруг замечаю, что стал лучше видеть. Я даже подумал, что включили паникадило, но, посмотрев вокруг, понял, что свет исходит не от ламп. Это к Преподобному Сергию пришел помолиться отец Серафим (Тяпочкин). Я познакомился с батюшкой еще до этой встречи: когда я был келейником у лаврского духовника отца Петра, батюшка приезжал к нему на исповедь. Тогда и произошла моя встреча с этим удивительным старцем.
В связи с этим вспоминается явление неземного света по молитвам преподобного Серафима Саровского: «Господи, удостой его телесными глазами видеть то сошествие Духа Святого, которым Ты удостаиваешь рабов Своих, когда благословляешь им во свете великолепной Славы Твоей узреть свет Твой». И старец Силуан Афонский пишет: «Божественный Свет по природе своей нечто совершенно отличное от света физического. При созерцании его прежде является чувство живого Бога, поглощающее всего человека. Свет Божественный созерцается независимо от обстановки, и во мраке ночи, и при свете дня. Благословение Божие посещает иногда таким образом, что сохраняется восприятие и тела, и окружающего мира. Тогда человек может пребывать с открытыми глазами и одновременно видеть два света — свет физический и Свет Божественный».
Свято-Троицкая Сергиева лавра, июнь, 1999 г.
Вот что рассказала Иустиния Плаксеева (†2000), 86-ти лет, из Белгорода: «Запомнился удивительный случай, происшедший со мной в один из приездов в село Ракитное. Службу батюшка начинал по монастырскому уставу, в 4 часа утра. В храме собралось человек тридцать. Лампадки теплятся, электричества в храме не было, что создавало ощущение отрешенности от всего суетного и земного.
Появился батюшка, шел к алтарю, словно кто его под руки вел, до того все чинно и благоговейно у него получалось. Прихожане выстроились в рядок, старец каждого благословлял: кому руку на голову положит, кого в плечо поцелует, кого руками за голову подержит. Кто-то со слезами кланялся ему в ноги…
Служба у батюшки долгая, а после службы читался еще и акафист Спасителю у Голгофского Креста, что посреди храма. Я стояла очень близко к Кресту и во время чтения батюшкой акафиста посмотрела на Иисуса Распятого. А Спаситель, как живой, на всех глазами ясными, голубыми взирает. Лик светлый, а вокруг головы сияние. Смотрю на молящихся, может, еще кто видит? Нет, все, как обычно, молятся. Опять перевожу взор на Спасителя, а у Него глаза все еще открыты, на губах тихая улыбка. Пока батюшка читал акафист, я как завороженная смотрела на Господа Иисуса Христа, едва сдерживаясь от волнения: очень хотелось, чтобы все порадовались. Как только закончился акафист, глаза у Спасителя приобрели то выражение, что нарисовал художник.
Подхожу я к батюшке за благословением на дорогу и говорю о виденном. Старец глянул на меня с любовью и отвечает: «Да, глаза у Спасителя всегда открыты», — и с таким вниманием на меня посмотрел, словно я случайно проникла в какую тайну…»
Из воспоминаний Анны Васильевны С. и ее матери Елизаветы Константиновны Фофановой (†1998), из Белгорода.
«Приехали мы в Ракитное, стоим в два ряда, ожидаем прохода батюшки в храм, чтобы получить у него благословение. Батюшка выходит из келии. Стоит мужчина, как и все, сложил руки и ждет. Подойдя к нему, батюшка сказал: «Пойдите вымойте руки». Он сбегал к умывальнику, быстро вернулся на паперть и опять просит благословения. Батюшка ему отвечает: «Вам надо вымыть руки». Он опять к умывальнику и уже у самого входа в алтарь просит благословения. Старец в третий раз отправляет его мыть руки. Тогда он взмолился: «Батюшка, я ведь мыл руки, они чистые». — «Я вам не о физической чистоте говорю, вам надо покаяться и исповедаться». Оказалось, что мужчина совершил когда-то тяжкое преступление и не раскаялся.
…Мы поехали к отцу Серафиму на машине. Доезжаем до Герцовки, слева и справа по обе стороны дороги стоят машины: из-за сильного гололеда трогать с места никто не решается. Мы занервничали — надо спешить на службу и не опоздать на трапезу, как быть? Помолились, чтобы старец благословил доехать без происшествий. А затем наш водитель начал медленно пробираться между рядами машин, за нами двинулись и остальные, как будто и не было никакого гололеда.
Встретив нас, батюшка сказал: «На лыжах катились, а я знал, что вы спешили, чтобы не опоздать на молитву, а особенно — на трапезу». По благословению отца Серафима всегда было легко уезжать домой, а когда добирались до Ракитного, всегда что-нибудь да приключалось.
…Отец Серафим при встрече как-то сказал одному священнику: «А вы, батюшка, будете монахом». — «Как, у меня ведь жена и дети?» Через десять лет после кончины отца Серафима священник попал в автомобильную аварию, в которой погибли его матушка и дочь».
Рассказывает архимандрит Иннокентий (Вениаминов, †2002), праправнук святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского: «После беседы с батюшкой (я тогда еще не был в сане) он благословил меня на отъезд. Я волновался, билет был куплен, но как из Ракитного добраться до Белгорода? Автобусов не было, на попутные я не рассчитывал. Только вышел на дорогу — останавливается машина и водитель говорит: «Отец, садитесь, я вас подвезу». Поблагодарил я Бога. По молитвам отца Серафима благополучно доехал и не опоздал на поезд».
Из воспоминаний Галины Кузьминичны Гречихиной, регента хора в храме поселка Ракитное. «Однажды получаю я от отца Серафима благословение поехать в Харьков за материалом на облачение. Поручение для меня необычное: Харькова не знаю, в тканях не разбираюсь. Я робко батюшке призналась, что ничего не смыслю в этом деле. А он ободряет меня так ласково: «Поезжайте, поезжайте, все хорошо устроится, Божия Матерь управит».
По приезде я первым делом посетила Благовещенский собор . Народу было много: шла служба. Я стою и думаю: «Как же мне все, что батюшка наказал, исполнить, где это все найти?» Подходит ко мне женщина, одета очень просто (как странницы одеваются), только тапочки какие-то необычные, на них крестики виднеются, и тихо так говорит: «Что это вы так неспокойны?» Отвечаю ей: «Батюшка Серафим благословил купить материал на церковное облачение, я же в этом деле ничего не понимаю. Призналась я ему, что не справлюсь с его поручением, а он меня успокоил, сказал, что Божия Матерь управит». И тут моя новая знакомая говорит: «Отложите свои заботы, приложитесь к мощам святителя Афанасия, помолитесь, подойдите ко кресту, я знаю, как помочь вам, знаю магазины, где можно купить материал на ризы». Обрадовалась я, что нашлась добрая душа, и спрашиваю: «Извините, как же я вас найду, народа так много?» Она смотрит на меня, глаза кроткие, любовью светятся и тихо отвечает: «Не тревожьтесь, молитесь, служба кончится, я сама к вам подойду». Стою успокоенная, благодарю Господа и Матерь Божию, что, по молитве отца Серафима, все так дивно устроилось. Вот и служба закончилась.
Подошла я ко кресту, а тут и моя незнакомка рядом оказалась. Покупки мы с Божией помощью сделали очень быстро. Купили белую и бордовую парчу на ризы. Идем, и говорит мне моя попутчица: «Как мне трудно! Сколько горя я увидела! Приезжайте ко мне в Почаев, я вас там встречу». А я ей опять про свои недоумения, что, мол, не знаю, не была, как найду. Она на меня так ласково-ласково смотрит и говорит: «Зайдемте на почту, я вам адрес дам. А как приедете, я вас встречу». Зашли на почту, она записала мне адрес, дает его в руки и опять повторяет: «Приезжайте, я вас встречу!» Хотела я ее поблагодарить за старание, за такое внимание ко мне, подняла глаза, а ее уж и нет. Смотрю по сторонам, ища свою попутчицу… но она исчезла. Потом поняла, Кто это была. Стою плачу, по щекам слезы катятся. Люди собрались, утешают, допытываются: может, деньги потеряла? Что мне им ответить? Добралась до Ракитного, рассказала о всем происшедшем батюшке. Он, внимательно выслушав меня, молча удалился в келию. Минут через тридцать выходит радостный, лицо все просветленное. Взял мою голову и так успокоительно говорит: «Галина, Сама Матерь Божия была с тобой».
…Отец Серафим никогда не пользовался отпусками в нашем привычном понимании. Правда, каждый год старался выбираться в Троице-Сергиеву лавру. Только в последние годы эти поездки стали редкими. В одну из них я сопровождала отца Серафима и матушку Иоасафу до Белгорода. Купили билеты на проходящий поезд. Вышли на платформу. Состав подходит. Старец, обращаясь к матушке Иоасафе, говорит, что, дескать, наш поезд. Та отвечает: «Нет, батюшка, не наш». Он опять свое, а мать Иоасафа — не наш и все. Состав отъехал. Подходит следующий, скорый поезд, стоянка две минуты. Подходим к вагону, подаем билеты, проводник сообщает: «Вы опоздали, ваш поезд только что ушел». Матушка расстроена, проводник не пускает. Я чувствую свою вину, ведь билеты покупала я, могла что-то перепутать. А батюшка стоит молча, как будто ничего не произошло. Вдруг с высокой платформы спрыгивает к нам дежурная по вокзалу, подходит, выслушивает наши объяснения, делает отметку на билетах, и, по милости Божией, отец Серафим с матушкой отправляются в лавру к Преподобному Сергию».
Рассказывает Нина Федотовна Лазебная: «Я жила в городе Губкине Белгородской области. Но в Ракитное к дорогому батюшке старалась ездить как можно чаше. Как-то он и говорит мне: «Нина, рассчитывайтесь на работе, переезжайте в Ракитное». Обычно я в свои приезды старалась помогать на кухне и в других бытовых делах. Вот и после такого неожиданного предложения пошла на кухню, а сама думаю: может, что-то не так поняла, надо бы переспросить батюшку. В келию не постучалась, осторожно приоткрываю дверь. Отец Серафим после продолжительной службы прилег отдохнуть. Батюшка служил с 6 часов утра и до 4 часов дня, соблюдая весь монастырский уклад. После небольшого перерыва начиналась длительная вечерня. Поэтому, увидев его лежащим, решила не тревожить. Но мое внимание привлекло то, что в келии он был не один. В святом углу, у аналойчика, стоял старец. На нем холщовый светлый балахончик перепоясан, на ногах лапти, точь-в-точь как на иконе у преподобного Серафима Саровского. Лик его светел, радостен, но при этом похож на нашего отца Серафима. Стою и думаю: как же так, отец Серафим лежит на кровати, отдыхает и в то же время стоит у икон и молится? Я тихо закрыла дверь и вернулась на кухню. Видно, лицо мое выражало такое недоумение, что трудившиеся, оставив свои дела, поспешили ко мне с вопросом: «Нина, что с тобой случилось?»
…Наступил Великий пост. Однажды во время трапезы старец обратился ко всем присутствовавшим: «Ну вот, теперь мы последний раз с вами видимся, Пасочку без меня будете встречать». Батюшка всегда был слаб телом, но тем не менее эти его слова растрогали, многие заплакали. На второй день Пасхи, 19 апреля 1982 года, батюшка почил».
Старшие сестры Пюхтицкого монастыря рассказывали о том, как батюшка был у них проездом в 1965 году, как со слезами читал канон. Блаженная прозорливая монахиня Екатерина[55] на другой день после его отъезда сказала своей келейнице: «Ты знаешь, кто у нас был? Святитель и преподобный».
Любовь Андреевна Колядина рассказывает: «Я врач, и меня пригласили в Ракитное посмотреть батюшку. Он жил недалеко от церкви. Какое же убогое и ветхое было его жилище! Осмотрела я отца Серафима, сделала все необходимое. Чуть позже он спросил: «Может, вас что волнует и вы хотите меня о чем-то спросить? Пожалуйста». Это было произнесено так ласково, с таким вниманием, что я сразу, как бы боясь, что батюшка передумает, а я что-нибудь забуду, быстро выложила, что с большой тревогой жду рождения второго ребенка (первые роды были очень тяжелыми, мы с дочкой чуть выжили), что у мужа нет подходящей работы, мы начали строить дом, а теперь не знаем, то ли уезжать, то ли достраивать наше жилище. Батюшка спросил: «Когда должен родиться ребенок?» — «В начале марта». — «Хорошо, поговорим завтра». После вечерни читали правило, чуть уснули — подъем на утреннее правило, после молитв батюшка позвал меня и сказал: «Никуда не переезжайте, продолжайте строиться. Дерево, которое часто пересаживают, дает плохие плоды. Муж скоро устроится, ребенок родится очень легко». Душевно укрепленная и успокоенная, я вернулась домой. Все так и вышло, как сказал отец Серафим».
Когда отец Серафим умер, его келейница — монахиня Иоасафа жила в доме Валентины Федоровны Тонких, прихожанки храма в Ракитном, а в свободное от службы время уезжала к себе домой в Готню. В последнее время она болела. «Прихожу я с дежурства, — вспоминает Валентина Федоровна, — матушка лежит на кровати. Я спросила, почему она не пошла в храм. Та говорит, что ходила да вернулась. Ей стало плохо, и отец Сергий благословил ее пойти домой, принять лекарство, полежать.
Я приготовила ей необходимое лекарство и по ее благословению пошла в храм на службу.
Во время пения Херувимской у меня вдруг полились слезы, не могу сдержать. И тут было мне видение. В монашеском одеянии стоят отец Серафим и матушка Иоасафа и, медленно отрываясь от земли, возносятся под купол храма. От дуновения ветра их мантии развеваются, и в образовавшееся в куполе отверстие они устремляются ввысь. Длилось это видение полторы-две минуты — так мне показалось.
Я была удивлена всем происшедшим со мной. После службы я все рассказала матушке Иоасафе. Она ничего не ответила, только улыбнулась. Я рассказала о виденном некоторым прихожанам, на что они заметили, не в прелести ли я. Это меня сильно смущало. На исповеди я покаялась отцу Сергию. Он успокоил меня, сказал, что это видение предназначалось для укрепления и ободрения болящей матушки Иоасафы, которая испытывала обиды со стороны некоторых прихожан. На праздник Благовещения матушка заболела и на Страстной седмице 1989 года умерла. Чувствую, что по молитвам отца Серафима Господь призвал матушку в Свои обители, дав мне знать об этом в видении».
Истории, рассказанные Валентиной Николаевной Шушляпиной, художницей из Белгорода, занимающейся иконописью, духовной дочерью отца Серафима.
О силе креста
Наступил Рождественский пост. Все чаще и чаще на исповеди приходилось видеть отца Григория Сопина или отца Иоанна Макаренко, которые служили вместе с батюшкой Серафимом в храме села Ракитное. Но душа рвалась под благословение к отцу Серафиму.
И Господь послал отца Серафима принимать исповедь. Когда подошел мой черед, батюшка долгим и внимательным взглядом посмотрел мне в лицо и почему-то начал говорить о силе креста, о том, что, отходя ко сну, необходимо крестным знамением осенить постель, себя, изголовье. Потом, как бы между прочим, он рассказал о том, как одного монаха бес так связал по ногам и рукам, что у того не было возможности перекреститься. Тогда монах с молитвой «Отче наш» совершал крестное знамение мысленно. Бес отступил от него[56]. И, завершив свой рассказ словами, что крест есть сила непобедимая, батюшка меня благословил и отпустил. Я недоумевала, почему он это рассказал, вместо того, чтобы исповедать меня? Но решила, что батюшке виднее, значит недостойна в этот раз причащаться. Поехала домой в Белгород в надежде на скорое, «достойное» причащение.
По дороге я встретила знакомого, и он мне стал доказывать, что ни вера в Бога, а уж тем более крест, который я ношу, не делают меня лучше. «Вы, верующие, как те комсомольцы и партийцы. Нацепили на себя кресты и позорите их». С этими лукавыми размышлениями я и переступила порог дома. Первым делом решила снять крест, не позорить (как сказал мой знакомый) само право ношения креста и звание христианки. В этом я была полностью согласна со своим знакомым. Прочитав молитвы на сон грядущим, я легла спать, решив, что осенять постель, а тем более подушку — удел фанатиков и людей суеверных. В доме у меня было много икон и около десяти лампад, семисвечник, одна лампада неугасимая: по благословению отца Серафима я поддерживала в ней горение круглосуточно.
Вдруг эта лампада погасла, и на меня навалилось что-то огромное, тяжелое. Я человек не робкого десятка, но то, что легло сверху меня, сковав по рукам и ногам, меня испугало. Ведь это был не сон, а явь. Я начала молиться вслух, мысленно осеняя себя, как учил батюшка, крестным знамением. Молитва шла уверенно, без страха. Вдруг эта туша, что лежала на мне, рухнула на пол и исчезла. Я поднялась, включила свет, затеплила лампаду и легла спать, осенив себя крестным знамением.
Посещение «ночного гостя» не повлияло на мое решение не носить креста, я еще больше утвердилась в мысли, что прежде нужно стать «достойной». Вторая ночь была подобна первой, такой же была и следующая… Рассказать об этом близким, мужу, я не решалась: думала, что сочтут за ненормальную. Мои смелость и уверенность убывали с наступлением вечера. Я знала, что только соберусь лечь, лампада погаснет, и ночной гость явится. Но все это не мешало мне упорствовать: крест я не надевала, постель крестным знамением не осеняла.
Как раз в это время мне довелось провести несколько ночей вдали от дома. Ночевать пришлось на квартире у одной старушки. Ну, думаю, хоть теперь посплю нормально. Только я расположилась, как опять по рукам и ногам связал меня бес своими лапишами. Все за окном загудело, зашумело, собаки завыли, слышу рыкаюший голос: «Я тебя, мразь, все равно уничтожу!..» Вспомнила я опять совет батюшки, читаю «Отче наш» и мысленно осеняю себя крестным знамением. Бес отпустил меня. Утром смотрю, а у меня чуть ниже плеч лапищи черные отпечатаны — огромные следы от пальцев.
Приезжаю домой, муж тоже эти следы увидел, интересуется. Пришлось ему объяснить, он, человек богобоязненный, поверил. Пошла к матери, хотела рассказать обо всем этом и попросить, чтобы она чаше в храм ходила, посмотрела — а следов уже и нет. С наступлением ночи сижу на постели, боясь ложиться, и думаю, что же делать. Вдруг комнату озарил яркий свет. Смотрю, в углу домашнего большого иконостаса, под самым потолком во всю мощь сияет золотым, живым светом крест, размером около тридцати сантиметров. Поняла я милость Божию ко мне, грешной, осенила постель, изголовье, себя. А ранним утром поехала в Ракитное.
Батюшка исповедовал. Увидев меня, подозвал. Я молча протянула ему крест, он молча надел его на меня и после исповеди велел причаститься. Я не стала ему говорить о своих «недостоинствах», приняла Святое Причастие.
Незрячий попутчик
Ехала я как-то в Ракитное. За окнами поезда переливалась яркая позолота осени, нежное уходящее солнышко робко протягивало золотые лучи, словно руки доброго друга. Много дум проносится в голове под монотонный стук колес. Так хочется побыстрее добраться до тихого пристанища, до старца, до его мирного, уютного храма.
Вот и последняя остановка — станция Готня, отсюда на автобусе минут 15–20 до поселка Ракитное.
Попутчики пошли к кассе за билетами, а мое внимание привлек высокий, стройный парень. Он нерешительно спускался с подножки поезда. Глаза ни на ком не останавливались, смотрели вдаль, в руках палочка, как у слепых. Я подбежала к нему: «Вам помочь? Вы в Ракитное, к отцу Серафиму?» Лицо молодого человека радостно осветила улыбка, большие, красивые карие глаза затеплились надеждой. «Да! Я к отцу Серафиму. Всю дорогу молил Бога послать мне Ангела-Хранителя, вот Бог услышал — вас послал».
Мне стало как-то не по себе: меньше всего походила я на Ангела Хранителя. По дороге в Ракитное он поведал мне обо всем приключившемся с ним. Он — художник-краснодеревщик, мастер по резьбе, родом из Харькова. Жил обеспеченно, уединенно, в полное удовольствие, позволял себе часто захаживать в ресторан, словом, жил безбедно, но и не развратно. И тем не менее сытая, обеспеченная жизнь особой радости не доставляла. Душа все искала какого-то смысла. «Тетя моя говорила: «Сходи в церковь, помолись, свечечку поставь», — рассказывал мой новый знакомый. — Ходил в церковь, выстаивал долгие службы, но все это мне мало что давало. И вот однажды снится сон, в котором мне тихий голос прорицает: «Михаил, завтра ты проснешься слепым, запиши адрес, там тебе помогут». Диктуется адрес: «Белгородская область, поселок Ракитное, отец Серафим». Но, проснувшись, я не придаю никакого значения этому странному явлению. Мало ли что померещится!..
Но и на вторую ночь слышу тот же голос и то же предупреждение. На третью ночь не стал я пытать судьбу, записал адрес отца Серафима, аккуратно сложил написанное и положил во внутренний карман пиджака. Наутро проснулся слепым. Но на сердце не было смятения и тревоги. Как-то слишком уверенно и спокойно, тщательно умывшись, пошел я в наш Благовещенский храм. Там через верующих и узнал, как добраться до Ракитного, расспросил об отце Серафиме. Мне сказали, что к нему не всегда сразу можно попасть, некоторые приезжие живут месяцами. Сходил на работу, сказал, что еду на лечение. На пути следования мне удивительно везло. Вот и теперь, не успел сойти с поезда — вы предложили мне свою помощь».
В Ракитном мне пришлось покинуть своих попутчиков и заняться устройством Михаила. Разместились мы с ним при храме в кочегарке. К батюшке он попал сразу же. Старец ласково наклонил голову Михаила, по-отечески погладил и благословил со словами: «Немного потерпи, все будет хорошо, в монастырь поедешь». Я стояла рядом и думала: «Ну при чем тут монастырь?.. Ведь через сны был назван адрес батюшки». Батюшка в этот момент с укоризной посмотрел на меня и тихо добавил: «А ты помогай ему, пока он здесь находиться будет».
Во время богослужений я ставила Михаила в укромное место, чтобы ничто не могло отвлечь его от молитвы. В храм стекалось множество болящих, среди них были и бесноватые. Однажды во время вечернего богослужения Михаил особенно ревностно молился, и вдруг: «В монахи собрался!» — прорычал хриплый зловещий голос одержимого. «Этот Серафим монахов расплодил!» — продолжал другой. И заулюлюкали бесноватые, изрыгая проклятия на батюшку и на Михаила. Я испугалась за него, ведь неискушенному все это может показаться страшным и странным. Но Михаил пребывал в совершенном покое, старательно делал земные поклоны.
После службы я попыталась объяснить Михаилу происшедшее, но он ответил: «Мне в Харькове говорили об этих несчастных, они меня только укрепили в вере, что я правильно сделал, приехав к батюшке».
Прошло три дня. Однажды, сидя на церковном дворе, мы разговорились. Михаил признался, что у него на душе ожидание какой-то неизъяснимой радости. Я спросила: «А с чем это связано, что лично ты хочешь?» На лице у него было крайнее удивление. «После того как я ослеп, вся моя прошлая жизнь кажется мне чем-то уродливым и отвратительным, ведь тогда я и был по-настоящему слеп. Я благодарен Богу, что все так обернулось. Теперь же, как батюшка скажет, так и будет». — «А сколько ты думаешь пробыть здесь?» — «Куда мне теперь торопиться? Как батюшка скажет, куда благословит. Ты вот лучше возьми деньги и купи свечей на три подсвечника». «На сколько?» — переспросила я с удивлением. «На три», — повторил Михаил. «Как же я смогу поставить свечи даже на один подсвечник, ведь другим людям тоже нужно ставить свечи». — «А ты до службы или после службы поставь, но только на три». Решили все сделать за час до богослужения. Я, как всегда, пристроила Михаила в укромном месте, а сама пошла со свечами по храму, ставила их, не задумываясь, в каком порядке. И вдруг слышу печальный голос Михаила: «Зачем ты свечи поставила не так, как я просил?» Я опешила: «А откуда ты знаешь, разве ты видишь?» — «Да, в церкви на службе я вижу, как горят свечи. Но на подсвечниках их совсем мало — одна-две, видно, у людей денег нет, вот я и попросил тебя, чтобы больше свечей горело, хотя бы на трех подсвечниках». Я не стала вносить в его душу смятение: все подсвечники во время богослужения ломились от горящих свечей. «Можно и мне свечи поставить?» — спрашиваю. — «Пожалуйста». Я поставила три свечи: к Распятию, к иконам преподобного Серафима Саровского и Божией Матери. И вдруг он мне сказал: «Горит только одна свеча около Распятия». Тут я и поняла, что горят как должно только те свечи и там, где особенно сердце Богу молится.
Батюшка при мне еще трижды принимал Михаила у себя в келии, мне же сказал, что я могу возвращаться домой, о Михаиле позаботятся. Через месяц Михаил уехал из Ракитного по благословению отца Серафима в монастырь. А по прошествии некоторого времени принял монашество и прозрел.
Царица Небесная путь указала
Тихо, торжественно, как-то совсем по-рождественскому, медленно кружась, падает снег, луна голубым отсветом старательно освещает дорогу к маленькой кладбищенской церквушке. В храме в будни посетителей мало, но место, где я постоянно молюсь—возле иконы Спасителя в терновом венце, — занято. Там коленопреклоненно, орошая лицо горькими слезами, причитая во весь голос, не обращая ни на кого никакого внимания, молится молодой человек, лет двадцати трех: «Господи, прости меня, окаянного, грехов, как репехов, от подошвы ног до темени на голове».
С этим сетующим взыванием, истово крестясь, с каким-то старообрядческим рвением парень вновь и вновь припадает в земных поклонах. Служба для меня перестала существовать. В душе было смятение. Что с этим человеком, как и чем помочь ему, как подойти?.. На дворе зима, пробирает до костей, а на нем — легкий плащ, укороченные брюки, очень легкие туфли… Так я впервые увидела Федю.
Вкратце расскажу некоторые события из жизни раба Божия Феодора. Он был духовным сыном батюшки Серафима и так же, как отец Серафим, избрал себе в попутчики смирение. Еще когда он был ребенком, Божия Матерь указала ему путь жизни.
Федор родился и рос в атеистической семье, довольно обеспеченной. Учился отлично, был послушен и стал примером во всем для детей всего поселка. Наступило время этому кроткому отроку вступить в пионеры. Отец с матерью провожали мальчика в школу, долго увещевая. «Мама все тревожилась, чтобы я пионерский галстук не помял, — вспоминал Федор. — Иду я себе, дети бегут, обгоняют меня. Вдруг ко мне подходит молодая, красивая Женщина — таких у нас в поселке я не встречал. Одета вся в голубое и говорит: «Федя, не вступай в пионеры», — а Сама по головке меня гладит. Я Ей отвечаю: «Но меня заставят». Она мне говорит: «Они о тебе даже не вспомнят». — «А как же галстук?» — «А галстук дай Мне». Я и вернулся домой. Мама с отцом спрашивают, почему так рано, где галстук. Я рассказываю все как было. «Какой еще красивой тете ты галстук отдал?!» — кричит мама. В углу у нас висела большая икона, доставшаяся от бабушки. Подошел я к этой иконе, а там та самая «Тетя» нарисована. «Мама, вот эта Тетя мне не разрешила вступать в пионеры, и я Ей галстук отдал». Родители недоумевают: «Что же ты завтра в школе скажешь?» — «Эта красивая Тетя мне пообещала, что обо мне даже и не вспомнят».
Все так и случилось. К тому, что Федя не пионер, отнеслись как к совершенно естественному явлению, хотя мальчик во всех отношениях был одним из лучших. Всех только смущало, что он такой тихий, сторонящийся своих сверстников. Со временем решили, что он просто больной, чудаковатый.
В детстве и отрочестве Федя молился перед иконой Божией Матери дома, а когда исполнилось семнадцать лет, стал проситься в город (жили они недалеко от Белгорода). Родители заставили его поступить на бухгалтерские курсы. Много пришлось претерпеть ему от окружающих.
В Белгороде Федор часто останавливался у пожилой женщины. Ее маленькая хатка была очень уютной. Здесь царил порядок, все сияло чистотой, единственным украшением и богатством были иконы. Тихо теплились лампады, постоянно кто-то из присутствующих читал акафисты. Для молодых людей это была домашняя церковь с ее наставницей — тетей Иустинией, большой, круглолицей, всегда радостной, гостеприимной. Она радушно встречала каждого приходящего. Так же отнеслась она и к Феде.
Матушка Иустиния была духовной дочерью отца Серафима, она поспешила и Федю познакомить с ним. О своем постояльце Иустиния рассказывала: «Он страдал от врожденного порока сердца. Часто после продолжительных служб, едва переступив порог нашей хатенки, вновь падал на колени и слезно продолжал молиться. Я ему, бывало, скажу: «Федя, да что же ты так убиваешься, ведь сердце у тебя больное». А он мне, дитя милое, отвечает: «Одного желает душа моя: у тебя, матушка, перед святыми иконами на молитве скончаться». Начну я его поднимать, пытаюсь утешить, а он мне: «Не утешай, у меня одно утешение — молитва. Грехов у меня, как репехов». Стыдно мне станет. Если уж у него грехов, как репехов, каково у меня?
И Господь услышал Федино желание. Он умер на первый день Пасхи. Пришел из храма радостный такой, красивый: костюм темно-синий, рубашка розовая, весь сияющий. Говорит мне: «Еле упросил продать погребальное». — «Какое погребальное?» Он мне показывает покрывало, венчик, грамотку, крестик в руки, иконку, свечи. Я ничего понять не могу. Он мне и рассказал, как его смерть была предсказана, что умрет он на первый день Пасхи. «Раз сижу я в скверике, приехал слишком рано. Храм еще закрыт. Вас тоже тревожить не осмелился. Сижу и думаю, как мне дальше жить. Как беспрепятственно в храм ходить, Богу молиться… Вдруг на плечо малая птаха села, чирикает, вспорхнула и улетела. А около меня старичок оказался в белой холщовой рубахе, с палочкой. Откуда он взялся? Сидит, на палку оперся, головой качает: «Ох, Федор, Федор, думаешь, как жить дальше? Тебе ведь уже готовиться к смерти надо, скоро ты уйдешь отсюда». И все мне рассказывает. Потом решил я поехать в Почаевский монастырь. Перед отъездом у батюшки Серафима благословение собрался взять. Так хотелось Светлое Христово Воскресение в Почаеве встретить, а о явлении старца уже и забыл. Приехал к батюшке, а он посмотрел на меня так светло, в глазах радость с грустью, и говорит мне: «Придется тебе, Федя, душой побывать в Почаеве, а телом в Белгороде остаться». Это уж на обратном пути из Ракитного я вспомнил о явлении старца и о его предупреждении, что мне пора готовиться к смерти на первый день Пасхи. И отец Серафим подтвердил, что быть мне телом в Белгороде, а душой в Почаеве. Поэтому я и упросил послушника за ящиком продать мне погребальное. Долго не соглашались, да убедил, сказал, что брат не сегодня-завтра скончается». Говорит мне все это, а сам счастливым румянцем заливается, как девица, щеки розовые, что его рубашка, весь, как пасхальное яйцо, — радостный, сияющий. Разговелись мы с ним, встал он на колени перед иконами. Я ему с недоумением: «Федя, ты ведь правило знаешь, к чему на колени встал?»[57] А у него слезы с горошину по щекам катятся, руки к иконам протянул и говорит: «Господи, как хорошо и умереть бы мне перед святыми ликами». Упал ничком, как в поклоне, и притих. Я подбежала к нему, а он уже мертвый. Вызвала «скорую», врачи осмотрели: сердечный приступ. У Феди в кармане была медицинская справка. Прочли они эту справку и сказали: «С его сердцем можно было умереть в любом месте и в любое мгновение». Ездила за родными, уговорила похоронить по церковному обряду, согласились». И матушка Иустиния во всех подробностях рассказала о похоронах Феди.
Каково же было мое удивление, что я тоже оказалась свидетелем последнего его пребывания на земле.
Пасха тогда была поздней — в конце апреля. Деревья вовсю уже зеленели, многие ходили без пальто. На третий день Пасхи по дороге в храм я встретила похоронную процессию. Дети от десяти до четырнадцати лет сопровождали гроб, крышку несли тоже школьники. Но самое странное и удивительное, что у изголовья покойного по краям гроба сидели два голубя и один по центру в ногах, еще один сидел на крышке гроба, — словно дрессированные, а в небе над всей процессией парила огромная стая голубей, словно бы самые главные провожатые умершего.
Когда я узнала от матушки Иустинии, что хоронили Федю, то поинтересовалась, а причем туг дети и голуби? Она мне объяснила, что часто, ожидая начала службы, Федя беседовал с детьми, которые ходили в школу неподалеку от церкви, приносил им конфеты, многое им рассказывал, а голуби тоже были в церковном дворе. «Но не столько же, сколько их было на похоронах», — возразила я. А Иустиния так серьезно: «Видать, всех городских собрали».
Федю повезли хоронить домой, и голуби сопровождали его до самой могилы. Пока не поставили крест, они все кружили и кружили. А три голубя на кресте водрузились — на верхушке и по обеим сторонам.
Матушка Иустиния поведала мне еще одну преинтереснейшую историю. Приехала Лена, наша общая знакомая, женщина средних лет, большая любительница посещать святые места. Едва войдя в комнату, перекрестившись на иконы, говорит: «Никогда бы не думала, что Федя так поступить может. Говорил, что в Почаев не поедет, а сам там был, да еще от нас (со мной ездили еще несколько человек) все три дня прятался». «А где же он прятался?» — спрашивает матушка Иустиния. «Да все три дня в алтаре в белом одеянии прислуживал, одеяние аж серебром все светилось. Мы ближе к алтарю подошли, чтобы он нас видел. Но после службы, как мы его ни ждали, он к нам не вышел». Я расспросила Елену, и оказалось, что дни, когда они видели Федора, пришлись как раз на время его смерти. И вспомнились мне слова батюшки Серафима: «Душой ты, Федя, будешь в Почаеве, а телом — в Белгороде»…
Чернокнижник
Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют и трепещут.
(Иак.2:19)
Снится мне сон: стою я на богослужении в храме у батюшки Серафима. Служба идет своим чередом, батюшка в алтаре, певчие поют, а посреди храма стоит высокий человек, весь в черном, и накидка у него, как плащ, только без рукавов, стоит гордо, не молясь. Подошла я к нему, и он меня своей накидкой накрыл. Стою я под этой накидкой, словно спряталась ото всех: что поют, что читают, где батюшка — мне все равно. Проснулась и думаю, к чему бы этот сон? Мужу рассказываю, а он мне: «Мало ли что приснится…»
В скором времени посетили мы отца Серафима. Лето выдалось не жаркое. Захожу я в храм и вижу: посреди стоит высокий мужчина, лет тридцати. Все усердно молятся, а он, как истукан, с надменным взором окружающих изучает и с усмешкой в сторону алтаря косится. Мне бы сон вспомнить, а я, вместо того чтобы молиться, его изучаю: зачем пришел, с какой надобностью?
Службы у батюшки долгие, иногда приходится выходить из храма, чтобы немного отдохнуть. Вышла во двор, а незнакомец этот уже на лавке сидит, так заманчиво мне улыбается. Мне бы опять подальше, на другую сторону двора, лавочек много, а я иду на эту улыбку, как мотылек на огонь, и начинаю кружить: «Вы, верно, в первый раз у батюшки, понравилось ли?» Так и познакомилась я с чернокнижником и магом Семеном, двадцати семи лет, из Донецка. Правда, не сразу я распознала этого человека…
А начинал этот ловец человеческих душ подкупаюше просто. Сидит себе скромненько молодой человек, в уединении, книжечку читает с глубоким вниманием, мудрость «духовную» впитывает. Тут волей-неволей в голове промелькнет евангельское: блажени алчущие и жаждущие правды, яко тии насытятся (Мф.5:6). Вот и я «насытиться» надумала. Подхожу со светскими извинениями, прошу разрешения узнать, что он с таким вниманием читает. Он так многозначительно смотрит на меня: «Старца Силуана читали?» Я так рот и открыла: давнишняя моя мечта иметь эту и только эту книгу! — «Да, читала, но книга была чужая, хотелось бы почитать более внимательно». Он благодушно протягивает мне аккуратно переснятый двухтомник в красивом самодельном переплете. — «Дарю, эти книги ваши!» От смущения я так покраснела, что он поспешил меня успокоить: оказывается у него еще экземпляр есть, к тому же он просто счастлив встретить единомышленника. Так я и попала под черную накидку. Забыла я тогда, как в том сне, и о храме, и о батюшке, и вообще обо всем. А новоиспеченный знакомый ласково протягивает мне и другие книги: «Духовная поэзия Державина», «Житие старца Амвросия Оптинского». Обменялись адресами. Стала торопить мужа быстрее домой поехать: не терпелось за книги сесть. Без батюшкиного благословения — некогда было дожидаться — примчалась я на свою погибель домой.
Но каково было мое изумление: чтение мне не давалось. Первую строчку из книги о старце Силуане пробегаю глазами, и начинаются сильные головные боли, ломит и режет глаза. После первой строки страница книги казалась совершенно чистой, то есть белой. Я осенила себя крестным знамением, прочла «Отче наш» — появилась вторая строка. С теми же муками далась мне и эта строчка. Третью осилить уже не смогла. Решив, что я недостойна читать такую мудрую книгу, взялась за чтение жития Амвросия Оптинского, о святой жизни которого я вообще ничего не знала. Но и эта попытка кончилась плачевно. И со стихами Державина повторилось то же самое. Сложила я тогда дарственные книги и решила, что, возможно, все это от переутомления, отдохну, тогда и почитаю. Но ни при каких условиях чтение не шло.
Ничего не оставалось, как отправиться в Ракитное к батюшке. Внимательно, с благоговением перекрестившись, он бережно положил книгу старца Силуана на стол и с необыкновенной любовью к автору стал внимательно читать написанное. Меня попросил подождать ответа на улице. Вышел он довольно быстро, вынес и книги и, благословляя меня в обратный путь, кротко так сказал: «Благословляю тебя сжечь это». — «Как, батюшка, ведь это старец Силуан, святой Амвросий Оптинский!..» Но он не дал мне закончить, сочувственно глядя мне в глаза, спросил: «А книг от него у тебя много?..» — «Да, он мне их много прислал». — «Собери все, что он вам надарил, и ночью, чтобы никто не видел, сожги. Там между строк много чего написано, надо учиться читать между строчками». С тем и ушел.
Не сразу я выполнила батюшкино благословение. Страшно мне было вроде бы духовную литературу предавать огню. Книги были в толстых обложках, штук двадцать. Сижу однажды и думаю: тут никакого бензина не хватит, а у меня бензина со столовую ложку. Думай не думай, а жечь нужно. Ночью в укромном месте во дворе сложила книги, попросила мысленно прощения у Господа и всех святых, особенно у авторов книг, перекрестилась сама, кострище свое перекрестила, спичкой чиркнула, и пламя взметнулось к небу.
Утром, чуть свет, звонок в дверь. Явился Сеня — маг и чародей. «Что вы вчера вечером делали? — каким-то болезненным голосом спрашивает прямо с порога. — Мне так плохо было, я себе места не находил, еле утра дождался, чтобы узнать, в чем дело». «Книги твои жгла», — отвечаю ему спокойно, глядя в лицо. Он как-то весь съежился и говорит: «Прошу тебя, не делай этого больше». С тех пор он у нас не появлялся.
В утешение верующим
Угодники Божии сияли своей святостью в разные времена. Но и отошедшие ко Господу, и продолжающие подвизаться в земной юдоли пребывают в непрерывном молитвенном общении друг с другом, как бы образуя благодатный покров над всеми, кто с верою к ним притекает. О духовном единении праведных пастырей, об их сугубой соборной молитве, о непрерывающейся цепочке светочей Православия, оставляющих в утешение верующим своих учеников, свидетельствует в том числе и повествование о монахине Наталии (Васюниной), воспитаннице святого праведного Иоанна Кронштадтского, ставшей впоследствии духовной дочерью отца Серафима.
Мое знакомство с этой удивительной матушкой состоялось летом 1975 года. До «перестроечного» времени мы с мужем и сыном часто ездили в Харьков помолиться в Благовещенском кафедральном соборе. Дивное пение, великолепное внешнее убранство, мощи святого Афанасия Сидящего и святого Мелетия[58] вносили в нашу повседневность ощущение духовного праздника.
Я как-то спросила отца Серафима: «Не грех ли часто посещать святые места, что находятся далеко от дома? Получается, что я пренебрегаю своей белгородской церковью». Взгляд отца Серафима проникает в самую глубину моего сердца, добрые отцовские руки нежно касаются моей головы, и полный кротости голос успокаивает меня: «Пока есть возможность, надо посещать святые места».
И, получив очередное благословение, я вновь устремлялась в Харьков. Там жили, да и по сей день живут духовные чада отца Серафима. У одной из них — Натальи Ивановны Ткаченко, преподавателя литературы, тихой и кроткой женщины, мы часто останавливались на ночлег. В один из вечеров, за чашкой чая, Наталья Ивановна предложила нам познакомиться с матушкой Наталией и кратко рассказала о ней.
Спустя какое-то время, в очередной наш приезд Наталья Ивановна радостно сообщила, что матушка ждет нас у себя дома. Мы спешно поехали.
Во дворе среди солидных построек, в дальнем углу, под развесистым старым деревом ютился крохотный кособокий сарайчик, впрочем, чисто выбеленный. Он был настолько ветхим, что мало походил на человеческое жилище. Касаясь головой низкого потолка, вошли. Прислужница матушки радушно отворила дверь в комнатку и пригласила пройти. Мы едва поместились в тесной комнатушке. Я оказалась возле святого уголка: несколько иконок, а на почетном месте — портрет отца Иоанна Кронштадтского старинной работы. Перед святыми ликами теплилась лампада, и горела восковая свеча. Прислужница матушки засуетилась, чтобы нас усадить. Я оглядывала жилище: небольшая печь, небольшой столик и кровать. Около столика один стул. Матушка сидит на кровати, перебирая четки, дает какие-то поручения Анастасии, своей послушнице. Все постепенно разместились, только я осталась стоять около столика с иконами, продолжая с изумлением рассматривать убогое жилище. Кособокое, крохотное оконце, земляной пол, наспех сделанная печурка — все говорило о том, что для жилья это место мало приспособлено. Как же тут оставаться зимой? Да притом матушка слепа и слышит плохо. А она словно в ответ на мои недоумения и говорит: «Вот так и живем, дровишек подкинем с угольком, чайку попьем и согреемся».
Пришедшие окружили матушку и о чем-то говорили. Я же смотрела на портрет отца Иоанна, он как бы не вписывался в интерьер убогого жилища, на матушку, которая сподобилась быть воспитанницей такого великого старца…
Со временем наши встречи с матушкой стали настолько частыми, что мы не мыслили своей жизни без ее духовного окормления. Отец Серафим был нашим духовным отцом, а матушка Наталия — духовной матерью.
Приезжая, мы всякий раз передавали ей поклон от отца Серафима. Матушка при этом начинала светиться внутренним светом, ее незрячие, но очень ясные голубые глаза сияли искрящейся радостью, и в который раз мы слышали от нее: «Велик батюшка Серафим, ох как велик! Он идет путем отца нашего Иоанна Кронштадтского. После себя отец Иоанн отца Серафима нам оставил. Как же его бесы боятся!..» И во всех подробностях начинает расспрашивать об отце Серафиме. «Я у него часто мысленно бываю», — не раз говорила нам матушка Наталия. И снова повторяла: «Ох, как бесы ночной молитвы боятся! Ночью спать не могу, вот и молюсь до утра. Ну а бесы тут как туг. Такой шум подымут! Печку разорят, возню затеют, рычат, кошками мяукают, за подол юбки дергают, страх нагоняют. А я их не слушаю и только молитвами святых отцов своих Иоанна Кронштадтского да отца Серафима ограждаюсь».
Матушка Наталия была особенно расположена к моему мужу Александру и в каждый наш приезд ласково встречала его, как долгожданного сына. Бывало, все гладит его по голове, около себя усаживает да приговаривает: «Ах, какая радость, вот и иерусалимский батюшка приехал»[59]. Я поправляю: «Да нет, матушка, это мы — белгородцы, художники, Валентина и Александр».
В один из приездов я и говорю Александру: «Матушка тебя иерусалимским батюшкой величает, ты, видать, святой, а я грешная. Заходи к матушке, а обо мне не говори, что я с тобой приехала». А ему не до того: он встречи дождаться не может, светится, как дитя. Мне казалось, что обмануть матушку было просто: слепая, плохо слышит. Об одном я забыла — о ее духовном зрении. Александр подошел к матушке, пока она его приветствовала, я тихонько пробралась в передний угол, сижу, притаившись, и думаю, узнает или нет, что Саша не один?.. Еще и домыслить не успела, а она ко мне обращается: «Ну, что сидишь, черная голубица?»
Стыдно мне стало за свои дурацкие шутки, упала я к ее коленям, каюсь: «Матушка, простите, не знаю, к чему я это сотворила». А она так ласково поднимает меня с колен: «Встань, встань! Ты не знаешь, а бес знает, ох, как он не любит, когда я Александра иерусалимским батюшкой величаю». И просит она его съездить в Ракитное к отцу Серафиму, разрешить ее духовные вопросы.
Уже в Белгороде Александр с благоговением показал фотографию отца Иоанна Кронштадтского, преподнесенную в свое время матушке Наталии с дарственной надписью, теперь она пожелала вручить ее своему старцу. Тогда эти снимки были большой редкостью, и я попросила его переснять фото и для нас. Вскоре он уехал в Ракитное к отцу Серафиму. Не терпелось ему порадовать батюшку столь редким и ценным подарком. Старец глубоко чтил и любил матушку, с огромным почтением отзывался о ней.
После поездки Александр рассказывал, как по дороге в Ракитное и за богослужением он молился батюшке Иоанну Кронштадтскому, чтобы Господь сподобил беспрепятственно встретиться с отцом Серафимом. По окончании службы батюшка пригласил зайти к нему. Уже в келии он смотрел на Александра испытующе, будто ждал матушкиного подарка.
Саша достал фото, и отец Серафим весь просиял несказанной радостью. С благоговением перекрестился, поцеловал изображение батюшки Иоанна и с радостью в голосе сказал: «Великая благодать нас посетила!» Когда Александр заговорил о матушкиных недоумениях, старец долго и внимательно слушал, а потом заметил: «И что это она у меня спрашивает, она сама все знает».
В Харькове матушку звали Наталией Кронштадтской. Как она попала в дом к батюшке отцу Иоанну, как потом стала не только его воспитанницей, но и послушницей — рассказывала сама матушка.
Жила она с родителями и сестрами в Орловской губернии. Отец был инженером, мама занималась воспитанием детей. Родители — люди религиозные — жили дружно, соблюдали посты, посещали храм. Но отец умер сравнительно молодым, оставив на попечение своей матери и молодой вдовы троих детей. Старшей — десять лет, Наталии — семь и младшей — два годика. Вскорости, заболев чахоткой, умерла и мать. Дети остались с бабушкой.
Когда в очередной раз, стоя на молитве, она слезно испрашивала Божия благословения на сиротскую долю, вдруг, как во сне, услышала голос любимого сына: «Мама, не плачьте, Господь позаботится о вас и о девочках».
Вскоре к их дому подкатила богатая коляска. В комнату вошли двое: послушник и господин в богатом светском костюме. Послушник сказал бабушке, что отец Иоанн послал его неотложно в их дом. Оказывается, батюшке было видение, что по такомуто адресу проживают круглые сироты, и он их должен взять под свою опеку и покровительство. Бабушка со слезами благодарности собрала двух старших девочек и, благословив, отпустила их к отцу Иоанну. Младшую за малолетством оставила у себя.
«Привозит нас послушник к отцу Иоанну Кронштадтскому, — продолжает свой рассказ матушка, — в большой женский монастырь на Карповке, построенный батюшкой (в 1903 году) в честь своего покровителя — святого Иоанна Рыльского. Встретили нас ласково. Батюшка попросил нас переодеть и накормить с дороги. «А завтра, Бог даст, и причастим», — сказал он.
Относился он к нам, как к родным. Мы были свидетелями, как сам государь император Николай II приезжал к нам в монастырь на Причастие. Бывали и именитые купцы, одаривали обитель богатыми подношениями, продуктами. Помню огромные бочки меда, крупные рыбины. Но, при всем изобилии продуктов мы, послушницы, по благословению батюшки насыщались малым количеством пищи. Более всего батюшка раздавал съестное по приютам и в Дом трудолюбия, построенный им для рабочих и нуждающихся».
Матушка прожила у отца Иоанна восемь лет. Послушанием у нее была стирка постельного белья. Перед тем как отцу Иоанну Кронштадтскому отойти в вечность, в монастыре умерло несколько молодых послушниц, в том числе и старшая сестра Наталии. Да и сама она серьезно заболела. «Мне было так тяжко», — вспоминала матушка. Пришел отец Иоанн и сказал: «Не ропщи, Наталия, тебе должно быть больной и лежать на одре болезни до конца своих дней».
Но Наталия так тяжело переносила свою хворь, что просила батюшку помолиться о ней, чтобы Господь взял ее к Себе или исцелил. Матушка верила в чудодейственную силу молитв батюшки Иоанна. «Он меня успокоил, как мог, — продолжала матушка, — попросил подать нам чайку. Он любил пить чаек из самовара и часто угощал всех чаем. Заставил меня скушать немного супика, а сам чай пьет и приговаривает: «Все это у тебя, Наталичка, будет — и супик, и чаек». Так оно и вышло — в пище я никогда не нуждалась. Еще батюшка мне поведал: «Убита будешь, но жива останешься». Во время Отечественной войны, я уже жила в Харькове, меня сбила машина. Люди проходили мимо, считая меня мертвой. Но явился старичок и попросил прохожих: «Помогите ей, она жива». Отправили меня в больницу. Старичок и там меня посещал не однажды. Придет незаметно, накормит меня небесным хлебушком, водички запить даст — я и исцелилась». По свидетельству матушки, к ней приходил Святитель Николай.
Когда матушка была зрячей, кормилась тем, что делала щетки для побелки и продавала их. «Стою я на рынке, — вспоминает матушка, — у всех товар быстро расходится, а у меня — не очень. Подходит ко мне Женщина, как-то не по-нашему одетая, смотрит на мои щеточки и заговаривает со мной. А лицо у нее так и светится. Спрашивает: «Хороши ли щеточки в деле?» Я ей отвечаю: «Сама, матушка, делаю, стараюсь трудиться честно, да вот беда, мало купили в этот раз, а мне и жить нечем». «Бог даст, все продашь», — с улыбкой говорит Она. Я смотрю на Нее и спрашиваю: «Вы разве меня знаете?» Она мне кротко так отвечает: «Ты Меня знаешь, ты часто в храме молишься у Моей иконы». И исчезла. Гляжу я во все глаза, где же та Женщина, что так любезно со мной говорила, но нигде Ее не видно. А щеточки свои я продала в тот день. Уже придя домой и вспомнив подробно все увиденное и услышанное, я поняла, что мне в помощь и утешение явилась Сама Матерь Божия»[60].
Слепой матушка была последние десять лет своей жизни. Матушка Наталия, как и отец Серафим, имела от Господа дар прозорливости. У нее бывали люди не только местные, но и из других городов. Кто приезжал за духовным окормлением, кто за помощью в физических недугах, кто с просьбой о ее святых молитвах. Как-то я спросила матушку, чувствует ли она — хороший или плохой человек к ней пришел. «Плохих людей нет, — поправила она меня, — есть грешные, несчастные, больные люди, но есть и служители беса. Когда они приходят, то мне плохо делается, перед глазами — кромешная тьма, и сердце начинает болеть. А если человек добрый и светлый, то перед моим духовным взором серебристый свет сияет, искорками переливается. Когда появляется больной или нераскаявшийся грешник, то все кажется унылым, серым, а на сердце — грусть и печаль, скорбно становится».
Мне хотелось полюбопытствовать, какого же цвета я сама, да не решилась. А матушка, улыбаясь, сказала: «Не кручинься, ты разноцветная». — «А черный цвет у меня бывает?» — «Была бы ты черная, я бы тебя прогнала».
Однажды мне пришлось наблюдать такую сцену. Постучали в дверь, открываю. Входят две разодетые и накрашенные особы. Одна лет сорока, вторая, верно ее дочь, лет шестнадцати. Бесцеремонно входят, несколько пренебрежительно в качестве подношения протягивают трехлитровую банку капусты, литровую банку варенья и десятирублевую бумажку. Матушка, только что мирно отдыхавшая и говорившая со мной, вдруг как-то вся сжалась, потускнела и замолчала. Как ни пыталась я ей объяснить, что к ней посетители, она упорно, потупясь, молчала. Так и пришлось этим двум особам уйти ни с чем. Едва за ними закрылась дверь, она мне говорит: «А теперь пойди и выброси все, что они принесли, а десять рублей порви, чтобы ненароком кто эту «десяточку» не поднял. Это колдовки приходили, чтобы меня извести». Я молча вынесла подношения и думаю: надо же, и про десять рублей узрела.
Матушка была маленького роста, одевалась очень просто, опрятно, но вещи были такими старенькими, что она казалась нищей. Ее почитатели приносили ей добротную одежду, но старица все раздавала, а сама упорно продолжала носить латаное-перелатаное.
Вспоминается мне и такая история.
Приехала ко мне погостить Наталья, молодая девушка из Львова. После смерти отца Серафима она часто посещала его могилку. На этот раз у нее стала сильно болеть голова. Я ее наставляю, мол, грешить меньше надо, тогда и голова болеть не будет, а то у нас как где защемит, так мы к батюшке едем. Но Наталья совсем расхворалась, и я ей предложила обратиться к матушке. Поведала о ее духовном родстве с отцом Серафимом и заметила, что, может, другого случая увидеться с матушкой не представится, так как она очень слаба. Правда, моя гостья все сомневалась, как ей быть, ведь у нее духовный отец — батюшка Серафим. Но тем не менее, мы поехали в Харьков.
Матушка приняла нас ласково, благословила, а Наталью все по голове поглаживает и, сияя, ей говорит: «Не будет болеть головушка, не будет». Наталья стоит притихшая, довольная, изумленная. А потом подхватила пустые ведра и, с разрешения, матушки побежала по воду.
Сидим, рассказываю матушке о житье-бытье белгородском, вдруг в дверь стучат, да так сильно! Открываю, на пороге — пышная дама, отдышаться не может, вся чемоданами обвешана, рядом попутчики, тоже с сумками, их человек пять. Прошу их вещи оставить во дворе и по двое заходить. Но дама говорит: «А им и не нужно, мы специально сделали крюк, из-за меня, это у меня голова болит который уже год, всех врачей обошли, сколько денег затратили, а улучшения никакого. Нам сказали, что матушка может помочь».
Матушка встретила женщину сдержанно. После всей суеты последних дней и у меня голова нестерпимо болела. Приехавшая дама во всех подробностях описывала свое состояние, а матушка молча, не перебивая, сняла с головы платок и протянула болящей: «Наденьте платочек на голову». Он, прямо скажем, был не первой свежести, кое-где следы от печной сажи. Я вся напряглась от ожидания и эгоизма, мне не хотелось, чтобы эта святыня попала в руки непонятной дамы. Но та, скривившись, брезгливо, двумя пальчиками, взяла платок и положила его на стол. Я быстренько покрылась им, и голова моя моментально прошла, а по всему телу разлилось ласковое тепло. Женщина попросила дать ей платок почище. «Что же мне делать, матушка, — недоумевала она, — ведь я издалека приехала?» Матушка строго сказала: «Выходит, незачем было и ехать».
Когда гости удалились, я подсела к матушке и хотела попросить ее подарить платочек мне. А она уже гладила меня по голове и приговаривала: «Помог платочек? Ты его никогда не снимай. Другие всякие фасоны на голове наводят, а ты в платочке ходи, и голова болеть не будет».
Наталья про свои болезни у матушки спрашивать не стала, вроде и забыла, зачем ехала, да и людей было много. За хлопотами по хозяйству день прошел быстро.
Прощаясь с Натальей, матушка обняла ее, приголубила, поцеловала в голову и пообещала: «А головушка твоя болеть больше не будет, только фасонов не наводи да платочек не снимай». Наталья, по молодости, старалась светскую моду соблюсти, даже пыталась как-то оправдаться перед матушкой. А та ей свое: «Попроще одевайся, Наталочка, попроще».
Матушка любила молиться в харьковском храме в честь Озерянской чудотворной иконы Божией Матери, что на Холодной горе. Она медленно обходила иконы, сосредоточенно и со страхом Божиим припадая к каждой. Однажды молодому священнику не понравилось, что какая-то старушка замешкалась у иконы, и прислужник по настоянию священника попытался ее поторопить. Но матушка, как бы не замечая его, продолжала молиться. Священник проявил настойчивость, и упрямой старушке пришлось удалиться. Она безропотно встала ближе к выходу, и туг послышался звук треснувшего стекла. Священник, производивший каждение, в оцепенении остановился: толстое стекло, покрывавшее большую старинную икону Божией Матери, дало огромную трещину, и от нее исходил чудный аромат. Матушка в смирении и смущении принимала покаяние молодого священника и прислужников. Затем отслужили молебен перед чудотворной иконой Божией Матери.
Этот случай рассказала мне послушница Анастасия, которая сопровождала матушку Наталию везде.
Как-то зимой в очередной свой приезд в Харьков я застала старицу оживленной и радостной. Среди ее духовных чад нашлись люди со связями. Они решили устроить ее в хорошую больницу, чтобы сделать операцию на глазах. А через две недели картина была иной. Матушка открыла мне дверь. В комнате не топлено, по всему видно, что ее несколько дней никто не посещал. Лицо и платочек на голове выпачканы сажей, верно, сама пыталась печку растопить. Сжалось у меня сердце: «Что, матушка, не взялись доктора вам зрение вернуть?» А она мне спокойно так отвечает: «Вот ведь искушение какое! Засобиралась на старости лет перед смертью свет Божий повидать, на мир посмотреть. Да на ночной молитве явился мне дорогой батюшка Иоанн с одной стороны и батюшка Серафим с другой. Батюшка Иоанн и говорит мне: «Негоже тебе, Наталичка (так он называл меня в детстве), о телесном зрении заботиться. Телесное зрение приобретешь, а духовное потеряешь». Благословили меня святые отцы и ушли. Так зачем же мне оно, плотское зрение? Раз батюшка запретил, значит, так доживать стану».
Скончалась матушка Наталия в 1985 году, тихо, как и жила, похоронена в Харькове. За гад до того умерла ее младшая сестра Степанида. Муж Степаниды Василий Орехов взял матушку к себе в дом, где она была окружена теплом и заботой. Вскоре после кончины матушки Наталии умер и Василий.
Мы, как и раньше, часто навещали матушку, но на похоронах быть не пришлось. Вышло так, что в тот день мы оказались далеко от дома. Вечная память нашей дорогой матушке!
Часть III. Ищите прежде Царствия Божия… Исцеления, прижизненные чудеса и свидетельства прозорливости
…Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже.
(Ин.5:14)
К отцу Серафиму, как в лечебницу, стекался болящий люд со всех концов страны. Приезжали и из ближних мест — Курской, Белгородской, Сумской, Днепропетровской областей, из Орла, Тулы, Москвы, Харькова, Симферополя и издалека — с Урала, Сибири, Средней Азии.
Несколько историй о помощи батюшки в избавлении от недугов рассказывает священник Николай Хохлов из поселка Поныри Курской области.
«Этому я сам был свидетель. Как-то после службы в храм на носилках принесли больного мужчину, пристроили его поближе к солее у левого клироса. Попросили вызвать батюшку: он к тому времени уже удалился в келию на малый отдых. Больной лежал неподвижно. Отец Серафим не спеша подошел к расслабленному, молча постоял над ним, потом вошел в алтарь, взял напрестольный крест, елей (масло). Затем возле больного сотворил молитву, помазал его елеем и осенил крестом. И тут мужчина, как бы после сна, поднялся, ему быстро подали стул. Мало что соображая, он переводил изумленные глаза с одного лица на другое. Батюшка, ободряя больного, о чем-то его спрашивал и благословил остаться в Ракитном до полного исцеления. Расслабленный вышел из храма на своих ногах, родственники его только поддерживали. Они сняли квартиру и ежедневно приходили на богослужения. Вскоре больной уже сам добирался до храма, без посторонней помощи.
…И я был болен безнадежно, удушье от астмы не давало ни минуты покоя. Лекарства, которые я принимал, помогали мало. Тогда, собрав последние силы, я решился поехать к отцу Серафиму. Батюшка встретил меня ласкою и все утешал: «Ничего, брат Николай, поживете у нас, помолитесь. Бог даст, все пройдет».
Молитвенник я был никудышный: совсем упал духом, столь велики были мои страдания. Батюшка Серафим называл меня мучеником, но при этом всегда ободрял: «Ты, брат Николай, терпи. Чем больше потерпишь, тем больше закалишься и укрепишься духовно». Так и жил я при храме. Был вместе со мной и болящий Леонид Лебедев (впоследствии игумен Серафим). Его, больного, привезла мама. Батюшка сжалился и оставил его при храме. По силам мы выполняли послушания в кочегарке и прислуживали в алтаре. По молитвам отца Серафима мы получили исцеление. Много нас было болящих, и каждый получил облегчение по молитвам старца.
…Чинно шла Божественная литургия, но церковное пение сопровождалось истошным криком младенца. Крик этот был до того пронзительным и болезненным, что его нельзя было спутать с криком капризного ребенка. Никакими увещеваниями не получалось успокоить малыша. Матушка Иоасафа, прислуживавшая в алтаре, вышла и попыталась уговорить женщину выйти из храма, не мешать богослужению. Но та, виновато оправдываясь, продолжала стойко стоять с плачущим младенцем. После прочтения Евангелия батюшка на время остановил богослужение. Минут пять стояла тишина. Я в то время находился в алтаре и мне было видно, что это не просто молчание: батюшка молился. Его лицо светилось невыразимой благодатью и любовью. Молитвенное молчание длилось совсем недолго, несколько минут, и младенец, успокоенный, замолчал. Он смотрел своими широко открытыми глазками и улыбался. Я же в который раз убедился, какая великая сила в молитве отца Серафима.
Приезжали за помощью к батюшке и пастыри. Я был очевидцем, как один священник во время богослужения не мог находиться в алтаре. Словно невидимая сила гнала его из храма. Жена священника слезно упрашивала отца Серафима помочь ему. Батюшка, как всегда, кротко отвечал: «Молитесь, молитесь, это попущено ему за его маловерие, Господь помилует его». И сам старец о болящем и скорбящем усердно молился. Через некоторое время встретил я того страждущего священника. По молитве отца Серафима невидимая темная сила его отпустила.
Как-то старец занемог. Болезнь отца Серафима для всех нас была воистину самым большим горем. Батюшка был уже в преклонном возрасте, и все пережитое сказывалось на его здоровье. Притихшие и встревоженные, мы часто склоняли колени в молитве о его здравии. Шел пятый день, как заболел наш дорогой пастырь. Как-то просят зайти нас к батюшке в келию. Он был еще довольно слаб. Мы робко вошли к нему, перекрестились на святые образа, и самый смелый из нас — Леонид Лебедев — говорит: «Батюшка, мы, как умеем, молимся о вас». Глаза отца Серафима оживились, он улыбнулся обрадованно и говорит: «Я чувствую, что вы молитесь. Я еще ради вас поживу». Вскоре батюшка пошел на поправку и уже мог совершать богослужение. Провожая его после службы в келию, я не утерпел и высказал свою радость: «Слава Богу, батюшка, что вы с нами». А он в ответ тихо пожал мне руку, и я услышал знакомые слова: «Я еще ради вас поживу».
Из воспоминаний протоиерея Анатолия Шашко, настоятеля храма Тихвинской иконы Божией Матери в городе Фатеж Курской области.
«Моя супруга Анна занемогла так, что врачи, разводя руками, говорили только одно: «Она безнадежна, медицина помочь тут не в силах, жить ей осталось не более двух месяцев». Тогда мы и решились поехать к отцу Серафиму просить его святых молитв. Принял нас батюшка, обласкал, выслушал и говорит: «Вы, матушка, подальше держитесь от лекарств, много вы их употребляете, будем надеяться на милость Божию и на Его целительные силы. Почаще причащайтесь Святых Христовых Даров, и Господь облегчит вашу болезнь». Исполнив совет старца, супруга моя оправилась от недуга, жива и здорова вот уже семнадцать лет, родила мне девятого сына. Борису Анатольевичу в 2010 году исполнилось 27 лет, двадцать из которых он при храме, читает и поет на клиросе, заочно обучается в Курской Духовной семинарии.
Вспоминает матушка Елизавета из Артемовска Донецкой области. «К отцу Серафиму я приехала в 1972 году тяжелобольной. После рождения третьего ребенка у меня были послеродовая пупочная грыжа и кровотечение.
Господь сподобил меня быть у батюшки на беседе, помолиться в храме. Он благословил сделать операцию после Пасхи. Я уехала из Ракитного утешенной и ободренной. Дома я почувствовала в себе силу и облегчение. Пошла к врачу. При обследовании мне сказали, что операция не нужна, что все у меня зажило и зарубцевалось. Так по молитвам старца я исцелилась.
Второй раз я была у батюшки Серафима спустя два года. Возле храма было много людей, и это меня смутило, подумала, что не смогу побеседовать с батюшкой. Но, не успела я войти в ограду, как отец Серафим послал за мной женщину. «Матушка Елизавета, матушка Елизавета», — зовет она меня, а я и не обращаю внимания, поскольку я только приехала, и меня никто не знает. Подумала, что не одна я здесь матушка Елизавета. Слышу: «Матушка Елизавета из Артемовска». Я была ошеломлена.
В келию батюшки я вошла со своими малыми детьми. Батюшка со мной побеседовал, благословил, и мы пошли в храм. Встали на паперти, чтобы сразу можно было выйти на улицу, если заплачут дети. Отец Серафим после литургии вышел на солею и машет рукой, но я решила, что это не мне. Ко мне подошел послушник из алтаря и сказал, что меня зовет батюшка. А я в сомнении: сколько людей, наверное, это не ко мне обращаются. Когда я подошла к старцу, он по поводу моего смущения говорит: «Матушка, а где же люди, здесь пять человек только стоит». Я ничего не могла произнести, но поняла, что речь идет о степени нашей духовности. Батюшка дал мне служебную просфору, я была в этот день причастницей.
Ракитное, 1998 г.
Из воспоминаний духовного сына отца Серафима, игумена Михея (Тимофеева), насельника Троице-Сергиевой лавры.
«Когда я был в Курске у родных, у меня вдруг заболело сердце. Приступ был настолько сильный, что я задыхался. «Острая сердечная недостаточность», — сделал заключение врач и предписал строго соблюдать постельный режим. Лекарства мне не помогали. Сколько я их ни принимал, облегчения не наступало. И все-таки я со своей родительницей (ее звали Пелагеей, в монашестве — Параскевой) решил поехать к отцу Серафиму, просить его святых молитв. У батюшки после богослужения мне стало еще хуже. А нам надо было уже отправляться в обратный путь. Тогда мать Иоасафа помогла мне прилечь на диванчике возле келии батюшки. И лекарство принесли, но чувствовал я себя по-прежнему плохо. Позвали отца Серафима. Он стал читать надо мной молитвы, помазал елеем и сказал: «Сейчас станет лучше. Можно уже выйти на улицу, подышать, пока будете ждать автобус. Руку поднимете, он и остановится, вас подвезут». Мы с мамой так и сделали. Сердце у меня уже не болело, и мы благополучно добрались до дома. По молитвам батюшки и нашей вере Господь укрепил меня.
…На богослужении у отца Серафима присутствовало довольно много людей, одержимых бесом. По молитвам батюшки, из многих бес был изгнан. При чтении Евангелия, пения Херувимской, когда батюшка кадил или просто находился в храме, алтаре, на молитве, они кричали на разные голоса: женщины — по-мужски, басом, многие лаяли по-собачьи, завывали. Сильно кричал и Иван. Особенно когда открывались Царские врата, читалась молитва «Со страхом Божиим и верою приступите» и начинали причащать Святых Христовых Таин. Таким больным без посторонней помощи невозможно подойти к Причастию. Иван несколько раз приезжал в Ракитное и теперь молится и крестится спокойно.
М.Д. Гребенкин в своих воспоминаниях писал: «… Часто во время Херувимской начинали кричать на разные голоса бесноватые. Я помню одну такую. Лежит на полу, а я попытался сдвинуть ее, но у меня так ничего и не вышло. Она будто была привинчена к полу. Батюшка всегда старался таких причастить.»
Одну одержимую женщину четверо человек едва могли подвести к Причастию. Такая огромная сила противодействовала святыне, такая была ненависть к Чаше, что женщина стояла как вкопанная, сопротивлялась, отворачивалась и пятилась назад. Но Господь победил в ней беса. Оказавшись возле отца Серафима, держащего Чашу со Святыми Дарами, женщина тихо причастилась и, преобразившись на глазах, смиренная и покорная, благодарила Бога.
Батюшка всегда с любовью относился к таким болящим. Во многих одержимых, приближавшихся к старцу, бес кричал: «Уйду, уйду, сейчас же уйду!» или: «Ой, попаляюсь огнем!» Многие злобно рычали, но приблизиться к старцу страшились. Одна больная набросила снятую с себя телогрейку на голову идущего из храма батюшки, а он, не обращая внимания, так и шел с ней. Когда сопровождавшие его хотели женщину выпроводить, батюшка сказал: «Оставьте ее, она не виновата». Многим страждущим батюшка помог, многие исцелились».
Вспоминает Вера Орлова, из Белгорода, духовная дочь отца Серафима. “Мы приехали с сыном в Ракитное просить батюшкиных молитв. Я была еще не очень больна, а сын был в полном смысле расслабленным. Он тогда учился в школе. Приду с работы на обед, а он лежит в постели, даже не может встать поесть, не то что выйти во двор.
Попасть к батюшке было очень трудно. Народу много, все болящие, да и службы в храме длительные. Спасибо добрым людям, научили. Со стороны алтаря, на храме была икона Воскресения Христова. Я встала перед ней и начала молиться: «Господи, прости меня! Устрой так, чтобы мне пройти к батюшке». И Господь все устроил. Мать Иоасафа отвлеклась, вышла на веранду, а я и пробралась в коридорчик. Я уже открыла дверь в домик к батюшке, как она меня увидела и вместе с поварихой стала прогонять. Батюшка, уставший после длительной службы, находился в келии, и я стала звать батюшку. Тут он и вышел. «Тише, тише, — сказал он, — пропустите». Я зашла к нему вся в слезах (сын оставался во дворе). «Мы приехали», — говорю я ему… А он мне (никогда этого не забуду, когда вспоминаю, плачу) так тихо-тихо: «Я устал». «Батюшка, — говорю, ~ миленький, знаю, что вы устали, но я в другие дни работаю, приехать очень трудно… Можно, чтобы сын мой вошел?» — «Да, да, позовите». Когда Геннадий появился, я начала говорить о его болезни. Батюшка сделал движение рукой в мою сторону, я замолчала. Батюшка спросил сына: «Сколько вам лет?». Сын ответил, что учится в восьмом классе. «Да вы совсем еще ребенок, и такой большой» — удивился старец. (Сын был высокого роста и выглядел старше своих лет.) Батюшка трижды его обнял, поцеловал… и он был исцелен. Мы вышли от батюшки и летели как на крыльях. Мы стали приезжать в Ракитное по воскресеньям — зимой и летом, и так два года. Сын прислуживал в алтаре. Он рассказывал, как батюшка, благословляя его в дорогу, говорил: «И маму благословляю, передайте ей».
В этих поездках мы, бывало, целый день ничего не ели. Еду брали, а есть не хотелось — так много было сил. Все оставляли паломникам. И по возвращении домой ни я, ни сын не хотели кушать. Так батюшка нас укреплял духовно и физически.
Мой сын Геннадий окончил школу, а затем, по благословению старца, и медучилище на отлично. А дальше были духовная семинария и академия. Святейший Патриарх Алексий II рукоположил его во диакона, а архиепископ Курский Ювеналий — во пресвитера. Сейчас сын служит в Москве.
Мои многочисленные болезни прошли бесследно. При жизни старца я обходилась без больницы».
Белгород, 1998 г.
Рассказывает Валентина Ивановна А., из Белгорода: «Я приехала в Ракитное по совету отца Иоанна (Абрамука; †1996), настоятеля белгородской Крестовоздвиженской церкви. Я была больна, врачи поставили диагноз — истощение нервной системы, а в народе моя болезнь называется порчей. Работать я не могла, и мне дали вторую группу инвалидности.
Со мной происходило что-то невероятное. Не читая Библии, я знала содержание многих ее глав. Встретив впервые человека, я видела его настоящую и прошлую жизнь, обличала его в согрешениях. Отцу Иоанну я открыла, что плохие люди наводят порчу на его голосовые связки, чтобы он не мог проводить богослужения, и указала, кто и на каких предметах занимается колдовством. Вот тогда он и благословил меня на поездку в Ракитное, сказав, что отец Серафим может мне помочь.
Приехали мы с сестрой Верой. Был престольный праздник. Вокруг храма совершали крестный ход. Народа было много. Не знаю, почему я встала на колени, подняла руки к небу и начала молиться: «Это мой народ, убогий и нищий», а сама плачу. С того дня я осталась в Ракитном. Многое пришлось претерпеть. Спала я, где придется: в сарае, в подвале на дровах. Кочегарка всегда была переполнена паломниками, приходилось спать и на улице. Питалась я тем, что Бог посылал. Покормлю голубей, а оставшиеся куски хлеба сама съем. Меня считали ненормальной, и никто не обращал внимания на мои телесные и душевные страдания. За полтора года я изменилась до неузнаваемости: кожа да кости. Однажды батюшка сказал, чтобы меня определили в больницу — изза сильного истощения. Все, что происходило со мной, я хорошо помню, рассудка я никогда не теряла. Всю службу я могла простоять на коленях, не чувствуя усталости. Часами я ходила вокруг храма и громко читала молитвы. В какие-то дни мне было плохо. Меня крутило, я подпрыгивала, падала на землю, вращалась волчком, извивалась змеей. Когда отец Серафим молился за меня в келии, я, словно змея, подползала к двери с желанием убить его. Без посторонней помощи подойти к Причастию не могла. Обычно меня подводили три человека. Зубы перед Чашей настолько плотно сжимались, что их приходилось разжимать каким-нибудь предметом.
Но постепенно, по молитвам батюшки, я стала чувствовать себя лучше, уже самостоятельно подходила к Чаше и причащалась. Однажды, когда батюшка служил молебен о здравии, меня начало всю трясти. Я почувствовала, что с меня что-то сходит. Происходящую во мне перемену заметили и певчие: «Смотрите, — говорили они, — Валентина исцелилась». Лицо мое просветлело и стало осмысленным. Я почувствовала, что уже могу управлять собой, что я овладела своей волей. Благословляя меня после молебна, батюшка взял меня за руку, и я почувствовала необыкновенную легкость и прилив сил.
Однажды после причастия я подошла к Распятию, встала на колени и начала молиться с закрытыми глазами. Вдруг я увидела свет, и меня охватило такое чувство, будто Сам Господь сошел на землю. Я подумала, не сплю ли я? Открыла глаза, перекрестилась. Продолжая молиться, я увидела рядом ноги женщины, а у подножия Голгофы — мною огромных, каких-то неземных роз бордово-красного цвета. «Для кого эти розы?» — подумала я и услышала ответ на свой мысленный вопрос: «Эти розы для отиа Серафима». Затем женщина протянула мне четыре обычные розы. «А эти кому?» — «Тебе». Я открыла глаза, на этом видение кончилось.
После службы я подошла к батюшке и рассказала все, что со мной произошло возле Распятия. Он ничего мне не сказал, улыбнулся, прижал мою голову к себе и поцеловал.
С тех пор прошло семнадцать лет. По молитвам отца Серафима Господь исцелил меня. Вернувшись из Ракитного, я шесть лет проработала аппаратчицей на витаминном комбинате, заработала пенсионный стаж. Сейчас я здорова, на пенсии, помогаю воспитывать внуков. Слава Богу за все».
Александр лежал в психиатрической больнице, лечаший врач посоветовал ему съездить в Ракитное к старцу Серафиму, сказав, что только он сможет ему помочь. Приехал Александр к батюшке, но попасть к нему не удалось, так и уехал ни с чем. Пришел он к своей знакомой Елизавете Константиновне Фофановой и попросил, чтобы она с ним съездила в Ракитное.
«Захожу к отцу Серафиму, — рассказывает Елизавета Константиновна, — а он говорит: «Что, с Сашей приехала? Заходите, заходите». Входит он с женой и матерью. А батюшка им с порога: «Ну что, квартиру дал, хорошо свадьбу сыграл и зятька угостил Василий». (Это он говорил о дяде жены, который и навел порчу на Александра.) Приложились всей семьей к иконе, поцеловали крест, батюшка благословил и сказал: «Все будет хорошо». Они три раза приезжали в Ракитное, молились в храме, молился о них и батюшка. Александр совершенно выздоровел, все они благодарны отцу Серафиму».
Вспоминает Мария Мороз из поселка Пролетарский Ракитянского района Белгородской области. «Когда моя дочь училась в школе, у нее были проблемы с легкими. После обследования ей дали направление в больницу. Мы с ней поехали к отцу Серафиму за благословением. Батюшка в это время находился в Готне, куда иногда уезжал на кратковременный отдых, для уединенной молитвы. В Готне жила мать монахини Иоасафы, у нее мы и остановились.
Батюшка ободрил нас и сказал, что все будет хорошо, что девочка, когда вырастет, еще и преподавать в Ракитном будет. В больнице мы так и не появились. Повторное обследование показало, что со здоровьем у дочери все в порядке.
По окончании школы она поступила в педагогический институт, и, как говорил батюшка, ее направили работать в школу при Ракитянском сахарном заводе преподавателем английского языка».
4 июля 2000 г., пос. Пролетарский
Вера Четверикова, главврач поликлиники в г. Белгороде. «В 1967 году мы с подружками (нас было семь человек) по окончании восьмого класса зашли в церковь. Из алтаря вышел батюшка. С любовью посмотрел на нас, благословил всех и сказал, что все мы поступим учиться и желания наши, Бог даст, исполнятся. И действительно, я поступила учиться, меня окружали добрые, хорошие люди, и все было благополучно. С радостью и трепетом я прочитала книгу о батюшке Серафиме. Теперь она у меня настольная. Когда бывает трудно, я открываю ее и нахожу для себя утешение, знаю, как поступить согласно воле Божией. Кажется, сам батюшка меня благословляет, дает радость и мир душевный».
Белгород, 2003 г.
Рассказывает 75-летняя Евдокия, прихожанка храма в Ракитном: «Один молодой человек страдал падучей (так в народе называют эпилепсию). Упал он в храме и бьется, тело его сильно сотрясается. Его придерживают, чтобы не разбился. Батюшка подошел к нему и начал молиться. Постепенно больной успокоился, встал, и батюшка повел его в алтарь. Три дня он пробыл в храме и молился, уезжал здоровым. Юноша был студентом. Благословив его, батюшка сказал, чтобы он сторонился плохих компаний, не забывал Бога и посещал храм».
Одна из паломниц вспоминала: «Я сильно заболела после свадьбы брата. В церкви мне становилось плохо, я падала и кричала. Работала я тогда на руководящей работе, и молиться меня возили за город, в деревню. К Причастию меня подводили силой, держа за руки. Ездили мы и по святым местам: в Почаев и в Троице-Сергиеву лавру. Там меня отчитывали, но болезнь не отступала. В нашей семье мама была верующей, а отец никогда в храм не ходил.
В Ракитное мы приехали с отцом и не застали старца: он был в Готне. Мы стояли в храме, шла вечерняя служба. Вдруг я упала на пол, стала вращаться волчком. «Ой, приехал отец Серафим!» — кричал кто-то из меня, хотя еще никто не видел батюшку и не знал, что он приехал. Через некоторое время старец появился в храме, подошел и положил руку на мою голову. Я свободно поднялась и смогла достоять вечерню. На следующий день батюшка позвал нас с отцом в келию. Но я идти не хотела, упиралась, чувствовала, что какая-то сила не пускает к старцу, меня еле дотащили. Батюшка сказал, что отец мой должен исповедаться и причаститься, и все тогда пойдет на поправку, а сам он будет молиться за нас. У моего отца эти исповедь и причастие были первые в жизни. На следующий день отец Серафим отчитывал меня в церкви. При чтении молитв меня с трудом удерживали несколько человек: я вырывалась, кричала не своим голосом, что на меня по зависти навела порчу жена брата. Об этом нам говорили, когда мы были в Почаеве и в Загорске. Отец Серафим своими молитвами помог мне. Теперь я снова работаю, хожу в церковь, часто причащаюсь Святых Таин. До сих пор помню слова отца Серафима: «Да люби врагов своих и никого не бойся».
Рассказывает Анна Васильевна С. из Белгорода: «Пять лет я страдала болезнью нервной системы, не поддававшейся лечению. Во мне была порча — это простонародное название болезни, которую под действием беса наводит колдун или колдунья.
В церковь я раньше не ходила и ничем духовным не интересовалась. Заболела я за границей, тогда еще в ГДР. Лечили меня светила медицины в лучших клиниках, и все безрезультатно. Пролежав в больнице семь с половиной месяцев, я, по болезни, вернулась в Союз, как называлась тогда наша страна.
Родные и друзья советовали обратиться к профессорам, академикам, но все напрасно. Состояние не менялось: голова, рука, нога тряслись непрерывно. Без посторонней помощи я не могла сидеть. Объехали мы всех известных нам бабок, обращались к народным целителям, но ничто не помогало. В Харькове одна женщина сказала: «Вам поможет только отец Серафим, ищите отца Серафима». Наши поиски не дали результата, так как мы спрашивали у людей, не имеющих отношения к Церкви».
Туг вступает в разговор мать Анны, Елизавета Константиновна Фофанова (†1998): «У дочери восемнадцать дней подряд продолжался тяжелый приступ. Я со слезами вышла из квартиры. Стою и плачу у подъезда. Какая-то женщина, узнав о моем горе, сказала, что отец Серафим служит в Никольском храме, в Ракитном, Белгородской области.
Приехала я в Ракитное, зашла в оградку церкви и спрашиваю, как увидеть отца Серафима. Мне отвечают: «Вот, видишь, женщина с двумя детьми два месяца не может попасть к нему, а ты сразу захотела». И все-таки посоветовали: «Когда батюшка будет идти в храм на службу и станет всех благословлять, сложи руки одна на одну. Когда он благословит, ты поцелуй его ризу и прижми к себе, не отпускай и скажи: «Благословите болящую Анну». А крест на тебе есть?» Я ответила: «Нет». Кто-то сходил в храм, купил крестик и надел мне на шею, а тут и батюшку ведут. Я выполнила все, как меня научили. А он с любовью говорит: «Знаю, знаю, что она лежит, привезите ее в пятницу». Я отвечаю: «Батюшка, она ведь не поднимается». — «Бог поможет, приезжайте». А после службы я выбежала из храма и быстрее домой. Батюшка вынес для меня, как потом рассказывали, просфору, а мой и след простыл».
«У меня не было никакого понятия ни о вере, ни о богослужении, ни о посте, — продолжает Анна, — никаких религиозных чувств. Я не знала даже, как правильно творить крестное знамение, все было для меня совершенно закрыто и непонятно. Кроме букета болезней, в те дни на меня навалилась жгучая тоска от собственной беспомощности и наступил душевный кризис. Я потеряла всякую надежду на выздоровление и только тогда взмолилась: «Господи! Помоги мне, больше не могу!» И сразу же в сердце воцарились тишина и покой. То ли от бессилия бороться с недугом, то ли Господь дал облегчение моей душе.
…Привезли меня в Ракитное, разместились мы в крестильне, там уже были люди, ожидавшие приема батюшки. Какая-то девушка, лет восемнадцати, плевала на иконы и сквернословила. Зашел какой-то парень, они начали между собой ругаться. Я подумала, что это не церковь, а дурдом какой-то. Пришла женщина и объявила, что отец Серафим плохо себя чувствует и никого принимать не будет. Меня стали учить, как надо креститься, складывать пальцы, делать поклоны. Для чего мне все это, когда я парализована и все тело трясется день и ночь, я не могу с ним справиться? А тут еще и прием отменили. Я прошу маму отвезти меня домой. Вдруг открывается дверь, заходит монахиня Иоасафа, келейница отца Серафима, и говорит: «Кто здесь Анна из Белгорода? Батюшка ждет ее». Подхватили меня человек восемь (весом я была тогда больше ста килограммов) и на руках понесли к батюшке. Опустили меня на пол; так как я сидеть самостоятельно не могла, лежу на полу — зрелище печальное и трагическое. Вдруг из келии вышел батюшка с крестом в руках и говорит: «Ну, Аннушка, подай за нее поминание о здравии, — и продолжает: — Олимпиада, Олимпиада, что ты сделала с таким ребенком!» (Олимпиада — это моя свекровь). Благословив меня крестом, отец Серафим говорит: «Анна, встань!» А как я встану, если вся трясусь, даже сидеть не могу, более пяти лет пролежала?! Подняли меня, посадили к столу в трапезной, и батюшка начал расспрашивать о моей болезни. Тут у меня речь отнялась, я сказать ничего не могу, шепчу маме, а мама ему переводит. Видя наши старания, батюшка говорит: «Не надо переводить, я все слышу, я знаю, что она хочет сказать». Я посмотрела, а у него уши ваткой заложены. Батюшка мне сказал: «Анна, если у тебя будет вера в половину макового зернышка, вера в то, что Господь тебя исцелит, ты будешь здорова».
Мы сняли в Ракитном квартиру, и двенадцать дней меня носили в храм на богослужения. Каждый день я пыталась ходить и прибавляла по одному шажку. Затем мы приехали в Ракитное через месяц, тогда я уже самостоятельно зашла на костылях в келию батюшки. Он увидел меня и прослезился: «Анна, вера твоя спасла тебя».
Вот уже более 26 лет я здорова. Похудела почти наполовину, врачи только удивляются. В истории болезни у меня записано: «Кровоизлияние в мозг с четырехминутным пребыванием в клинической смерти». Когда-то врач сказал маме: «Крепитесь, мамаша, сегодня пятница, завтра суббота — у меня выходной, до утра она не доживет, свидетельство о смерти я выписал, возьмете у медсестры». А по молитвам батюшки я жива и здорова и славлю Бога».
Вспоминая о своей жизни после встречи с отцом Серафимом, Анна рассказывает: «У меня были такие головные боли, что невозможно терпеть. Как-то мама уехала на дачный участок, а я от боли, в отчаянии, решила наложить на себя руки. Лежу я днем и вижу, что пришла ко мне красивая Женщина. Отец Серафим у меня потом спрашивал: «Аннушка, Кого ты видела? Кто к тебе приходил?» Я говорю, что приходила какая-то незнакомая, очень красивая Женщина в голубом воздушном платье, на голове — голубой шарф, большой красный сверкающий рубин, два поменьше — на плечах. Села в кресло, смотрит на меня и говорит: «Анна, подойди ко Мне!» Я подошла. Она кладет мою голову к Себе на колени, расчесывает мои волосы на пробор, делает крестное знамение и говорит: «У тебя чистая головка». Когда я подняла голову, Она была в той же одежде, но только красно-бордового цвета, и сказала: «Я буду о тебе всегда молиться перед Сыном Моим, а у тебя оставлю молодого человека для охраны». Я смотрю: красивый юноша стоит с копьем. Батюшка спрашивает: «Анна, Кто это приходил?» Я отвечаю, что не знаю, я в первый раз Ее видела. А он говорит: «Анна, тебя посетили Матерь Божия и Иоанн Воин». Несомненно, все это было мне послано по молитвам отца Серафима для моего укрепления в вере.
Сидели мы как-то у батюшки за трапезой. Подали рыбу. Батюшка говорит: «Анна, почему ты не ешь?» Я ответила, что в среду и пятницу рыбу не ем. Он спросил: «Кто тебя благословил?» Я ответила, что сама так решила. Он посмотрел и ласково сказал: «Я благословляю тебя есть».
Захожу я как-то к соседям, а они меня угощают грибами. У правого уха слышу голос: «Не ешь, отравишься». А у левого — другой голос: «Ешь, ешь, ничего не будет, ну хоть один грибок попробуй». Мне подносят ложку с одним грибком, какая-то сила выбивает ложку из рук соседки. Они потом с мужем и дочерью поели грибов и отравились. На «скорой» их отвезли в больницу, муж ослеп. Моя мама, Елизавета Константиновна, сразу поехала в Ракитное. Батюшка дал ей освященной водички, которую она отвезла в больницу. Вся семья исцелилась по молитвам старца, зрение главы семейства восстановилось».
Елизавета Константиновна также рассказала следующее: «Батюшка плохо себя чувствовал, я спросила, не отправить ли Анне телеграмму в Германию, чтобы она приехала. На что он ответил: «Не надо давать никаких телеграмм. Хлопотно оформлять документы. Когда я буду умирать, она узнает». Анна рассказала потом: «19 апреля 1982 года, на второй день Пасхи, в 4 часа 15 минут утра я лежу на кровати и вижу: входит в комнату отец Серафим — в монашеском облачении, в мантии, в клобуке. Подходит и садится сбоку. Я отодвигаюсь, чтобы ему удобно было сесть. Спрашиваю: «Почему вы пришли ко мне?» А он отвечает: «Анна, я ухожу ко Господу». — «Как ко Господу? Ведь Пасха!» А он: «Да, Пасха». Батюшка благословил меня, поцеловал в лоб и, не поворачиваясь, начал медленно отходить к двери. Я позвала мужа и говорю: «Дима, отец Серафим умер». В мае мы приехали домой в отпуск, мама сообщила, что батюшка почил 19 апреля в 17 часов 30 минут».
Отец Серафим исцелил рабу Божию Любовь, пенсионерку, я была свидетелем этого исцеления. Ей удалили аппендикс, рана не заживала и постоянно гноилась. Врачи были в недоумении, не могли понять, в чем дело. Мы поехали к отцу Серафиму. Батюшка ей сказал: «К врачам больше не обращайтесь». Обещал молиться, чтобы Господь оказал Свою помощь. После посещения батюшки и по его благословению шов стал заживать. Любовь продолжает работать и не жалуется на здоровье.
…Заболела Оля, была необходима операция по удалению кисты. Во время вторичного обследования у нее обнаружили еще и рак желудка и направили в онкологию. Из-за плохих анализов ее месяц подлечивали, готовили к операции. Я поехала к отцу Серафиму и все рассказала. “Как быть, ведь у нее трое маленьких детей?» Батюшка благословил сделать операцию, сказав: «Все будет хорошо». Сделали операцию на желудке, рак не обнаружили. Потом удалили кисту, все прошло хорошо. Оля жива и здорова, благодарит Бога и батюшку за его молитвы.
…У Алевтины, из Старого Оскола, врачи обнаружили быстро развивающуюся опухоль печени. Мы с ней поехали к отцу Геннадию (впоследствии схиархимандрит Григорий) в Покровку. Отец Геннадий говорит: «Пусть она ложится в больницу не сейчас, а через неделю». Но она, чтобы не возвращаться домой, решилась на госпитализацию. В этот день в палату ее не поместили, врачи целую неделю не обращали на нее внимания, как будто ее и нет. В выходной мы отправились с ней в Ракитное. Отец Серафим говорит: «Делай операцию во вторник, все будет хорошо». Так и вышло: никакой опухоли не обнаружили, после операции выписали ее на пятый день, а через два дня она вышла на работу. По молитвам двух старцев Господь оказал помощь болящей Алевтине.
…У Алексея распалась семья, он, что называется, таял на глазах, врачи не могли ему помочь: все анализы были в пределах нормы. Три раза он ездил к отцу Серафиму. По его молитвам Алексей выздоровел, и счастье вернулось в его дом».
Рассказывает Михаил Корнеевич Баденко, из Никополя, знавший батюшку с юных лет.
«Несколько раз я видел в храме женщину, которая кричала, вырывалась из рук, крепко державших ее. Сама она не могла подойти к Причастию и ко кресту, невидимая сила ее не пускала. Как-то отец Серафим соборовал нас. Было человек пятнадцать, в том числе и эта болящая женщина. Когда он подходил с Евангелием и крестом, страшно было на нее смотреть: она мучилась, кричала, квакала, как лягушка. Подойдя к ней, батюшка сказал: «Выйди из нее, сатана». «Не выйду», — отвечал кто-то ее устами мужским голосом. Батюшка повторил: «Выйди из нее, сатана». — «Не выйду». Тогда батюшка в третий раз произнес: «Заклинаю тебя именем Господним, выйди из нее, сатана». Она вдруг сделала прыжок и, как жаба, попрыгала вперед, заквакала, затем рухнула на пол, как мертвая, и затихла. Ее подняли, держали под руки, а все стоящие в церкви пели: «Тебе, Бога, хвалим…». После этого она спокойно подошла к старцу под благословение. Позже я видел ее на службе, она тихо молилась, даже не верилось, что эта женщина была одержима и страдала душой и телом. И только молитвой и верой в Бога старец исцелил ее.
Как-то собрался я поехать к батюшке, но что-то меня задержало, и, торопясь к поезду, по дороге я упал, с переломом руки попал в больницу. В это время отец Серафим молился. Мне позже рассказали, что вечером, подойдя к столу перед ужином, он сказал: «Михаил сегодня собирался ехать к нам, но враг не допустил его».
…Я заболел и долго не видел батюшку. А туг побыл у него два-три дня и, уезжая, сказал, что, наверное, в последний раз видимся. «Почему?» — спрашивает он. — «Врачи признают у меня рак, да я и сам плохо себя чувствую». Отец Серафим завел меня в свою келию, поставил передо мной Почаевскую икону Божией Матери и сказал: «Молись», — и сам начал молиться. Примерно через час он подошел ко мне со словами: «Михаил, никакого рака у тебя больше не будет. Господь исцелит тебя и дарует тебе долголетие, чтобы ты был примером для других, только старайся не грешить. Встань на колени перед иконой Божией Матери, поблагодари, что Ее молитвами Господь дарует тебе долголетие». Я помолился и говорю: «Батюшка, ну теперь я опоздал на харьковский поезд». — «Нет, нет, иди к автобусу, поезд стоит на станции, и ты уедешь». Я бегом на остановку. Подъезжаю к вокзалу, смотрю: стоит поезд. По каким-то причинам задержали его отправление. Только успел сесть, и поезд тронулся. Теперь я уже в преклонных годах (мне 98 лет), жив и здоров молитвами отца Серафима и Божией милостью ко мне».
Анна Петровна Мельник, из Симферополя, духовная дочь отца Серафима, вспоминает. «Отец Серафим имел духовное общение с моим отцом Петром Ильичом. Они были почти ровесники — папа на год моложе, 1895 года рождения. Они вели переписку, а когда позволяло здоровье, отец ездил к батюшке в Ракитное. По молитвам отца Серафима Господь дважды исцелял папу — от слепоты и от туберкулеза. Мы с моей сестрой Людмилой и другими духовными чадами из Симферополя ездили навешать отца Серафима. Как-то я приехала из Ракитного ободренная, радостная и благодарная за любовь батюшки к нам. Иду по улице и говорю про себя: «Отец Серафим, спаси вас Господь, за вашу заботу о нас». Вдруг я почувствовала аромат от каждения церковного ладана. Так батюшка ответил на мое обращение к нему. Лето, жара, на улице духота, в воздухе гарь от выхлопных газов, запах бензина, а тут — ароматный запах ладана.
Симферополь, 1998 г.
Рассказывает Валентина Чернова: «К отцу Серафиму привели меня мои болезни, которые беспокоили с 1968 года. Часто лежала в неврологическом отделении. По окончании курса лечения и выходе из больницы опять начиналось все сначала.
В 1978 году посчастливилось побывать в Ракитном и рассказать батюшке о постоянно беспокоивших сильных головных болях. Ложилась я четыре раза в течение года в больницу. После разных курсов лечения — никакого улучшения. Отец Серафим выслушал тогда и сказал: «Помолимся». Потом батюшка вышел в другую комнату, вынес иконочку — образ Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» — и большую служебную просфору.
Через год я вновь приехала к нему, уже с больным мужем. У него на ноге была трофическая язва. Год назад он перенес инфаркт, поэтому решиться на операцию боялись, поехали за благословением. Увидев нас, отец Серафим сказал: «Приехали Валентин и Валентина», хотя мужа он видел впервые. Описать невозможно, как чувствуешь себя у него в келии: рядом с ним, во время его молитвы, как будто заново рождаешься, обретаешь благодать Господню и тишину в душе, будто и не было ни болезней, ни тревог в семье. Муж рассказал о себе, о том, какую операцию предлагают ему сделать. Батюшка выслушал и тихо сказал: «Помолимся», — и чуть позже: «Делайте операцию».
Все прошло нормально, но перед выпиской домой у мужа начались приступы: он умирал. Что это было, толком объяснить не могли, предполагали послеоперационное осложнение с явлениями острой левосторонней пневмонии. По молитвам старца Господь явил нам Свою милость и даровал моему мужу жизнь. Врачи ничего не могли объяснить, только сказали: «Под счастливой звездой родился».
Потом болели дети, да так, что состояние их было необъяснимо. И мы вновь приехали к отцу Серафиму всей семьей. Батюшку ведут на службу, мы все стоим в ряд. Подойдя к сыну, благословляя, он взял его за голову и сказал: «Хорошо, что приехали всей семейкой». И жива наша семья только благодаря молитвам отца Серафима. И сейчас, после кончины старца, мы чувствуем его молитвенную помощь и поддержку».
Протоиерей Петр Бахтин[61] из Сергиева Посада рассказал следующее: «Когда я приехал в Ракитное, оказалось, что отец Серафим болен. Все мы, приезжие, а таковых было много — и духовенство, и миряне, огорчились, что не сможем увидеть старца.
Многие не стали ждать — у каждого свои дела, отправились в обратный путь. Я остался в церковной ограде в томительном ожидании, надеясь на чудо. Вечером отец диакон Иоанн Бузов, ныне схииеромонах Иоанн, насельник Курско-Коренной обители, пригласил меня к себе на ночлег. Отдыхать нам не пришлось: всю ночь разговаривали. Я многое узнал об исцелениях по молитвам старца…
Время шло, и мне нужно было возвращаться на приход. Перед моим отъездом отец диакон сказал: «Зайдите в оградку храма, поклонитесь домику, где живет старец, он все знает, и езжайте с миром». Как только я это сделал, из домика вышла монахиня и сказала: «Отец Петр, батюшка вас приглашает зайти к нему».
Я был удивлен, что старец, не видя меня, узнал мое имя. Раньше в Ракитном я никогда не бывал…
Батюшка лежал на кровати. Он поприветствовал меня и благословил читать покаянный канон. Я исповедался. Все вопросы, с которыми я приехал, как-то разрешились сами собой. Когда мы прощались, отец Серафим благословил меня заехать в Синельниково, к моей сестре Анне. Тогда было время летних отпусков и с билетами трудно. Я колебался, так как мог опоздать на службу. Но все же решил выполнить благословение старца. Каково же было мое удивление, когда спустя шесть часов к моей сестре домой зашел начальник станции, сообщил, что пустили дополнительный поезд, и спросил, не нужен ли мне билет. На службу я не опоздал. Все, несомненно, свершилось по молитвам дорогого батюшки».
Галина Ивановна Жилина, из Никополя, рассказывает: «У моей близкой подруги муж несколько раз пытался покончить с собой, но ей удавалось это предотвратить. Приехал к ним его брат с Урала, и с ним та же история. Его удалось вынуть из петли. Но он, пожив три дня, умер. Через какое-то время «веревки» начали преследовать и ее. Она даже хотела руки себе отрубить, чтобы не повеситься. Вся эта история меня буквально потрясла. Стала я молиться и просить Бога, чтобы он помог ей. Однажды приснился мне сон: на большое дерево, к которому я подходила, вдруг села птица и кивает мне. Голова у птицы человеческая, как на иконе у евангелиста Матфея. «Я такой птицы в жизни не видела», — говорю ей и проснулась.
Когда я впервые приехала в Ракитное, была удивлена, потому что лицо отца Серафима видела во сне. Как только я узнала его, заплакала и говорю: «Батюшка, помогите мне». Он сразу назвал мое имя — Галина. При мне, когда я находилась в келии у старца, зашла женщина с ребенком и благодарила его: «Батюшка, по вашим молитвам мальчик начал ходить”.
Митрофан Дмитриевич Гребенкин из Тулы, часто приезжал к батюшке Серафиму на выходные. В понедельник он должен был присутствовать на ответственном совещании. Но батюшка благословил его остаться еще на денек. Тот объяснял, что его присутствие крайне необходимо, а батюшка свое: «Еще денек помолитесь». «Прибыл я на работу с опозданием на три дня. Каково же было мое удивление, что никто не заметил моего отсутствия и ни о чем не спросил, как будто я никуда и не уезжал»[62].
«Я дочь репрессированного священника, замученного в 1927 году, — говорит раба Божия Евдокия. — Во время войны мы со свекром подорвались на мине. Ему повредило ногу, а меня взрывной волной отбросило в сторону, и из-за травмы у меня потом постоянно болела голова. Я обратилась к отцу Серафиму с просьбой помолиться, чтобы Господь облегчил мое состояние. Батюшка молился обо мне и во время литургии, после причащения ставил мне на голову Святую Чашу с Дарами. Постепенно головные боли прошли, Господь меня исцелил».
Приехала в Ракитное женщина с дочерью и попросила передать старцу письмо, где говорилось о больной дочери. Их вскоре пригласили к старцу в келию. Женщина от волнения заговорила совсем о другом: о том, что именно в Ракитном убедилась в существовании Бога, а до этого в церковь не ходила. При расставании отец Серафим подал дочери крестик, а женщину благословил фотографией (она так хотела увезти с собой образ батюшки!). Когда она, радостная, уходя, обернулась, увидела, что батюшка осеняет их крестом и говорит: «Дай Бог, чтобы вы получили все то, за чем приезжали». И действительно, потом они получили все, за чем приезжали. А когда приехали на вокзал, по времени опоздали на поезд, а следующий поезд должен был прийти только через сутки. Но оказалось, что поезд опаздывал на шесть часов и прибыл вскоре после их приезда на вокзал. Так, по молитвам отца Серафима, Господь являл Свою милость новоначальным.
Раба Божия Любовь, со станции Кшель Курской области, рассказала: «Впервые я приехала в Ракитное с отцом Вячеславом Веретенниковым, духовным сыном старца, и отцом Лукой. Отец Серафим был болен. Несмотря на болезнь, священников он принял. Отец Вячеслав передал мне благословение батюшки помолиться в храме.
Проходит день, другой, третий — вся извелась. Дома осталось трое детей, переживаю, как они там, и примет ли меня муж по возвращении домой.
В конце недели меня пригласили в келию. Отец Серафим лежал на кровати. В слезах я упала к нему в ноги. «Вы не волнуйтесь, все у вас дома хорошо, и муж вас примет», — утешил меня батюшка. Вошла матушка Иоасафа и говорит: «Батюшка, вы больны, я вызвала вам скорую». «Сидите, сидите, я вас приму», — успокоил меня отец Серафим. Я еще больше стала волноваться, не могу остановить слез: «Не плачьте — я помолюсь, Матерь Божия умягчит сердце вашего мужа и он с миром примет вас». И добавил: «Скоро он смирится, смирится». Я успокоилась.
Через неделю вернулась домой. Сбылись слова старца-утешителя: муж встретил меня с миром и в растерянности произнес: «А я думал, что ты совсем ушла, оставив мне детей, и никогда не вернешься».
Когда Александра Черкапшна, из Белгорода, в 1978 году заболела, ей было 24 года. Сильные головные боли не прекращались, с каждым днем становилось все хуже и хуже, она быстро худела. Врачи поставили диагноз: вегетососудистая дистония. Доктора в меру своих сил делали все возможное, но улучшения не наступало. «Выписывают меня из больницы, как неизлечимую, — вспоминает Александра, — а мне плохо и страшно: что же будет дальше? «Господи, что мне делать?» — взмолилась я. Вижу сон: чистый лист бумаги и текст. Слышу голос: «Что на этом листе написано, выучи, в этом твое спасение». Я стала всматриваться в буквы и поняла, что это слова молитвы. Проснулась я и рассказала в палате о сне. Женщины стали советовать поискать «бабку». Но ни бабки, у которых я была, ни всякие врачеватели не помогли. Я поделилась с соседкой по квартире Елизаветой Константиновной Фофановой. Она открыла книгу с молитвой Господней «Отче наш» и говорит: «Эту молитву ты видела во сне?» Я подтвердила, и она повезла меня в Ракитное, к отцу Серафиму. Зашли в церковь, стоять мне там было тяжело. Шла служба. Отец Серафим молился в алтаре, Царские Врата были закрыты. Хотя я не видела батюшку, чувствовала какую-то силу, исходящую из алтаря и проникающую в мое сердце. Когда отец Серафим вышел на амвон и посмотрел на меня, будто два луча пронзили мою душу. После службы старец, идя от алтаря, благословлял стоящих в два ряда людей. Возле меня он остановился, посмотрел с огромной любовью, положил руку мне на голову и сказал: «Ты выздоровеешь, все пройдет». Я же была неверующая, в храм раньше не ходила, стеснялась, к Богу не обращалась и подумала про себя, что он обманывает. Как я могу выздороветь, если я умираю? Не поверила, хотя нужно было поверить, тогда бы я выздоровела раньше.
Батюшка пригласил меня зайти в келию, мы побеседовали. Когда я уезжала от него, мне было очень плохо, но с каждым посещением старца мне становилось все лучше и лучше. Однажды я сказала ему, что у мамы сильно болит почка. Батюшка зашел в свою комнату, помолился, вышел и сказал: «Передайте маме, что все у нее хорошо». Когда я приехала домой, мама подтвердила: у нее теперь ничего не болит. Человек этот дышал добротой.
С тех пор прошло более двадцати лет. Я вышла замуж, воспитываю дочь, мы с мужем живем хорошо, и все это благодаря молитвам отца Серафима и помощи Божией нам, грешным».
«После тяжелой работы на заводе у меня сильно болели руки, — рассказывает раба Божия Е., — мне посоветовали поехать в Грузию, где благоприятный климат, что я и сделала. Прожив там пять лет, заболела другой болезнью: у меня нарушилась память, я никого не узнавала. Мне дали инвалидность первой группы. По воле Божией я услыхала об отце Серафиме и приехала в Ракитное. Батюшка не принимал. Последующие девять дней также прошли в ожидании. Когда оставалось до меня два-три человека, прием заканчивался по разным причинам. Я усердно молилась, чтобы попасть к отцу Серафиму. Мне предлагали обратиться к другому батюшке, но ведь я ехала за тысячи километров именно к старцу, с надеждой только на него. Удивительно то, что после каждого дня пребывания в Ракитном и на богослужении мне становилось все легче и легче. Наконец отец Серафим принял меня, спросил: «Вы, наверное, только что приехали?» — «Нет, батюшка, десятый день прихожу к вам». «Это испытание вам, испытание», — сказал он. Попросил меня записать своих родных, живых и усопших. Радости моей не было границ! После разговора почувствовала полное облегчение и поняла, что недуг мой отошел. Он благословил меня вернуться в Грузию, устроиться на работу и доработать до пенсии. Оставаться на прежней квартире не благословил. Я, как и благословил батюшка, доработала до пенсии. От прежних моих болезней не осталось и следа».
Евгений Потанин, художник-иконописец из поселка Никольское Белгородского района, рассказал следующее: «Сестра моей жены из села Новенькое Ивнянского района с юности страдала головной болью: сказалась сильная простуда в детском возрасте. Лекарства облегчения не приносили, врачи обнаружили у нее опухоль мозга. Мы даже думали, что она вот-вот умрет. Ей было плохо постоянно. Повезли мы ее в Ракитное. Выходя из храма после богослужения, батюшка всех благословлял. Подойдя к ней, положил ей руку на голову. С тех пор она пошла на поправку, отец Серафим за нее молился. Уже более двадцати лет она здорова».
Вспоминает Людмила Климова, из Нальчика: «До своего прихода к Богу я увлекалась спиритизмом — вызыванием духов, то есть бесов, и душ умерших. Таких людей в ветхозаветные времена предавали смерти. Правилами Церкви для колдунов и идолослужителей положена двадцатилетняя епитимия. А кто сам не колдовал, но обращался за помощью к колдуну или чародею, должен понести шестилетнюю епитимию.
Занимаясь спиритизмом, я не задумывалась, от Бога или от диавола были все эти явления, главное, что при этом достигался результат: блюдечко на сеансах вращалось, предметы двигались, было интересно, весело, загадочно. Постепенно я стала задумываться о силе, противоположной той, что проявлялась в наших сеансах. Как-то я решилась вызвать дух самого диавола. «Если он явится, — рассуждала я, — значит, есть и Бог, тогда брошу заниматься спиритизмом, буду верить в Бога». Раньше блюдце крутилось медленно, а в этот раз — с такой силой, что я поразилась. Вдруг оно остановилось на слове «дура» и, слетев со стола, разбилось. Такого еще не бывало. Я поверила в Бога, но в то время трудно было найти Библию. Я раздобыла атеистическую (для верующих и неверующих) и, заклеив слова, которые написаны как бы в поругание Бога, читала все остальное. Вера в Бога во мне укрепилась, я начала посещать храм. Но вскоре я заболела: у меня начался полиартрит. Для профессионального музыканта это катастрофа: я не могла играть и выступать на концертах. И чем дальше, тем становилось хуже. Тело мое пронизывала острая боль, врачи не могли помочь, я болела долго и уже потеряла надежду на выздоровление. Я знала, что это расплата за мои, как мне когда-то казалось, «безобидные увлечения».
Но вот мы приехали в Ракитное. К моему удивлению, я безболезненно простояла всю службу на каблуках-шпильках, а во время проповеди отца Серафима, зная, что это для меня единственный случай исцелиться, я встала на колени рядом с батюшкой, наклонившись до земли, головой касаясь его ризы. И так — всю проповедь. Я молилась и плакала, верила: если коснусь его ризы, то получу исцеление. В какойто момент я вдруг почувствовала, что боль ушла, мне стало легко, — я поняла, что выздоровела. С тех пор как я исцелилась, прошло шестнадцать лет».
Рассказывает Татьяна Фоминична Шарая (†2010), пенсионерка, в прошлом известный шахтер Донбасса: «Я работала на шахте в Донбассе. В 1948 году получила травму, отчего у меня были постоянные головные боли. По болезни ушла на пенсию в 1970 году, поехала в Ракитное к отцу Серафиму. Он помолился, взял меня за голову руками, и боль исчезла. Вот уже тридцать лет как я здорова. Поселилась в Ракитном, чтобы быть ближе к батюшке, посещаю храм и молюсь у старца на могилке, разговариваю с ним, как с живым, о всех своих нуждах и бедах, и батюшка на все мои просьбы и молитвы откликается.
…Мой муж Стефан, желая потрудиться для храма, копал колодец на церковном дворе. Носить воду в храм из старого колодца, что у реки, было далековато. Яму выкопали глубокую, до воды тридцать метров. Сделали специальное приспособление, чтобы рабочие могли опускаться с помощью электродвигателя. Однажды из-за отключения электричества отказал подъемник и Стефан полетел вниз; гибель, казалось, была неминуема. Он только успел произнести имя отца Серафима — и каким-то чудом задержался между бетонных колец в горизонтальном положении. Так Господь спас раба Божия Стефана.
…Я долго не получала писем от сына. Рассказала о всех своих тревогах батюшке. Он меня успокоил: «Пришлет, не волнуйся». И вскоре получила письмо, которое было отправлено в тот день, когда я была у старца».
Вот какую историю, происшедшую с ее сыном, рассказала мне преподаватель химии из Ракитного Звягинцева Н.В.
«Мой сын, учащийся 9-го класса, изготовил взрывную смесь. От происшедшего взрыва ему сожгло лицо и глаза. «Скорая помощь» отвезла его в белгородскую больницу. Мы с мамой боялись, что он ослепнет. Одна надежда была на молитвы отца Серафима. Когда мы с мамой пришли к нему просить его помощи, батюшка после молитвы сказал: «Божия Матерь возвращает зрение вашему сыну».
…Сын наш закончил институт, работает агрономом. Зрение у него хорошее. Мы благодарим отца Серафима за его молитвы и Божию Матерь — за дарованное исцеление».
Рассказывает Михаил Белоедов, прихожанин ракитянского храма.
«У дочери некоей Веры из Корочанского района Белгородской области признали рак. Обратились они к отцу Серафиму за благословением и молитвами об исцелении. Врачи сделали операцию, но опухоли не обнаружили, вместо нее остались белые пятнышки, как бы отметины.
…Заболела у меня голова, и я просил батюшку Серафима и всех святых об исцелении. Господь, по молитвам отца Серафима, меня исцелил. На службе у батюшки мне всегда легко и стоять, и молиться.
…Два брата из Сумской области привезли на машине в Ракитное находящегося без сознания третьего брата. Он работал в воскресенье на строительстве своего дома и упал с высоты. Они обратились к отцу Серафиму за помощью.
Батюшка начал читать над ним молитву, и ему стало лучше. Он поднялся и даже хотел сам обратно вести машину. Вот такая сильная молитва была у отца Серафима».
Рассказывает протоиерей Валерий Бояринцев, из Алупки.
«У нас родился сын. Мы назвали его Серафимом, в честь преподобного Серафима Саровского. Когда ему было десять месяцев, он тяжело заболел. У него был ложный круп, трахеит и стеноз 3–4-й степени. Его привезли ко мне на работу, я — в МОНИКИ, в реанимацию, и буквально через час сделали трахеотомию, потому что он задыхался. Он перенес это очень тяжело, а терапия была интенсивная. Мы посылали батюшке телеграммы о состоянии нашего сына, он постоянно молился. Пролежав двадцать пять дней в реанимации, наш сын, по молитвам старца, выздоровел. Когда ему исполнилось три года, мы привезли его к отцу Серафиму. Увидев его, он внимательно посмотрел на него и сказал: «Так это тот Серафимчик, которого мы вымолили у Бога?»
Свидетельствует Ольга Удалова: «Батюшка своими молитвами вылечил моего племянника, двоюродного брата и сестру. По его святым молитвам мой отец был избавлен от сильных болей и мирно скончался. Моя сестра по его молитвам пришла к вере».
Женщина, приехавшая из Новосибирска, рассказывала, что ее муж с войны пришел израненный и дома проболел более десяти лет. Она услышала, что есть в Белгородской области отец Серафим и что он исцеляет, как Христос. Женщина приехала в Ракитное и стала молиться о выздоровлении мужа. Вернувшись домой, она увидела, что муж ее поднялся и ходит самостоятельно по комнате. Через некоторое время он послал ее вторично к отцу Серафиму за молитвенной поддержкой. И снова наступило облегчение. Батюшка просил передать ему, чтобы он не работал в воскресенье и в праздники.
«В 1975 году я заболела, — вспоминает Татьяна Васильевна Сущенко, из Никополя. — На приеме врач, посмотрев анализы, переглянулся с медсестрой, ничего мне не сказав. Направили к другим докторам на обследование. Поставили диагноз — рак. Я только взывала: «Господи, Господи, да будет Твоя воля»[63] — и поехала к отцу Серафиму. По батюшкиным молитвам я выздоровела».
«Тяжело заболела мама, — делится своими переживаниями Лидия Петровна Сковлюс, из Житомира. — Диагноз — рак. Что такое операция в семьдесят лет? Решили повременить. Поехали за благословением к отцу Серафиму. Батюшка благословил операцию не делать. При повторном обследовании диагноз был снят, мама жива до сих пор, хотя старенькая и слабенькая».
Рассказывает пенсионер Александр Андреевич Галицкий[64], из Симферополя: «В одной семье произошло несчастье: хозяйка дома потеряла зрение. Веря в силу молитв отца Серафима, она послала в Ракитное своего мужа Валентина, хотя он в то время не верил в Бога, с просьбой, чтобы батюшка наложил руки на его глаза, и она через это получила бы исцеление. В поездке мужа сопровождала врач Людмила Ивановна Крутикова, духовная дочь отца Серафима.
Когда Валентин передал батюшке просьбу своей жены Ольги, отец Серафим сказал: «Велика ее вера». Преклонив колена и сотворив молитву, отец Серафим прикоснулся к его глазам и произнес: «Да будет рабе Божией Ольге по вере ее». И действительно, в момент его молитвы слепая прозрела у себя дома, в Симферополе.
Вернувшись домой, Валентин увидел свою исцеленную супругу и уверовал в Бога. Впоследствии он стал священником и служил в г. Фрунзе (ныне Бишкек)».
Петр Ильич Мельник[65], 102-летний старец из Симферополя, был исцелен отцом Серафимом от туберкулеза, приключившегося после тринадцатилетней отсидки в политлагерях. Отец Серафим избавил его и от слепоты.
Вот что рассказал сам Петр Ильич: «По состоянию здоровья я в последние годы не мог часто посешать батюшку, но через духовных чад, коих много в Симферополе и Крыму, просил его святых молитв, и два раза у меня восстанавливалось зрение. Мы имели переписку с батюшкой, он знал о моих недугах, молился обо мне, и я всегда после его молитв чувствовал улучшение здоровья. Велика сила молитвы старца и после его отшествия ко Господу. Я верю, он молится о нас, сам ощущаю его молитвенную поддержку, так что Господь дал дожить мне до глубокой старости».
После полученной травмы (перелом бедра) Петр Ильич три года был прикован к постели. Несмотря на постоянную боль, он бодр духом и пребывает в молитве. В 1997 году ему в сновидении явился отец Серафим, утешил его и сказал, что ему нужно еще немного потерпеть, и его земная жизнь завершится, что вскоре и исполнилось.
Рассказывает Татьяна Третьякова. «В нашем роду по молитвам отца Серафима были исцелены от разных болезней многие мои родственники. В 1975 году у моего сына случился перелом плечевого сустава. Рентгеновское обследование дало заключение: киста левой плечевой кости, осложненная патологическим переломом. Он неоднократно консультировался в Институте ортопедии Киева. Профессора говорили о необходимости операции, на что я не дала своего согласия.
По совету верующих людей я с сыном поехала в Ракитное, к отцу Серафиму.
Молитвами архимандрита Серафима сын получил исцеление, и с тех пор мы к врачам по этому поводу больше не обращались.
В 1977 году молитвами батюшки исцелилась моя мама, у которой было тяжелое заболевание легких. Отец Серафим помог и моей тете, у которой в 1978 году была обнаружена киста, получила исцеление и сестра, страдавшая заболеванием головного мозга.
Вспоминает духовный сын отца Серафима Виталий З. Я знал батюшку когда он служил в Сурско-Михайловской церкви св. Петра и Павла. Он всегда был очень ласковым и кротким.
23 февраля 1959 года отец Димитрий хоронил мою бабушку Феодору из соседнего села. В те, хрущевские времена, наш приходской Покровский храм был уже закрыт, поэтому пришлось ехать в с. Сурско-Михайловку. Помню, что была распутица, таял снег, но батюшка никому никогда не отказывал. Запомнились на всю жизнь слова, сказанные им на похоронах: «Прощайтесь, прощайтесь, дорогие мои. Прощайтесь, родные, друзья, знакомые… Но помните, что это ненадолго. Скоро нас ожидает встреча».
Хочется сказать, что днепропетровцы никогда не забывали своего любимого пастыря, всегда считали его своим духовным отцом, даже тогда, когда батюшка уже служил в Белгородской епархии.
…Вспоминается лето 1962 года. Храм Святителя Николая в селе Ракитное тогда был еще разрушен. От дороги к храму через овражек в распутицу было трудно пройти. Однажды мимо храма проезжала машина со щебнем, и староста храма Екатерина Ивановна Лучина попросила шофера привезти щебень для обустройства дорожки. Что и было сделано. Но кто-то из недоброжелателей доложил властям, и вскоре приехала комиссия, быстро выявившая, что документов на выгруженную щебенку нет. Завели дело и передали в суд. И вот в один из дней староста с церковным советом по повестке прибыли в суд.
А в суде в это время странным образом что-то не ладилось. Все бегали в суматохе. Потом поинтересовались, что за люд прибыл и почему мешает им работать. Староста объяснила, что прибыли по такому-то делу. Выслушав людей, судья ответил так: «Правильно сделали, что выгрузили щебень возле церкви. Пусть делают там дорожку, а то пройти невозможно». На этом и закрыли дело. Когда староста рассказала батюшке о том, что произошло, он помолчал, а потом взглянул на образ Святителя Николая и благоговейно перекрестился.
Так, по молитвам отца нашего Серафима совершались чудеса. И по сей день они совершаются у его могилки в селе Ракитное.
Рассказывает Галина Сергеевна Цицарина, из Симферополя: «Одной старице, Надежде Виссарионовне, врачи поставили диагноз — рак груди. Нужна была срочная операция, и она поехала за благословением к отцу Серафиму. Из-за многолюдства она не могла подойти к батюшке, стояла в храме и плакала от отчаяния. Выходя из храма в окружении народа, батюшка остановился и, глядя в ее сторону, произнес: «Надежда, не соглашайтесь на операцию». Она была удивлена тем, что отец Серафим, не зная ее, ответил на ее вопрос. От операции она отказалась и, по молитвам отца Серафима, исцелилась. Надежда Виссарионовна отошла ко Господу спустя тридцать лет, в 1996 году, в возрасте девяноста лет».
Хотелось бы отметить одну замечательную черту в характере отца Серафима, а, именно, его отношение ко всякому несогласному или даже инакомыслящему. Понять такого человека было самым искренним и глубоким его желанием. Он никогда не оскорблял того, что для этого человека было свято, привычно, а если что и требовало исправления, то старец делал это постепенно и без надлома.
Мария Цауне, фельдшер из Риги, и ее мать исповедовали католичество. Мария услышала от православной больной, за которой ухаживала, о ее духовном отце, старце, и о его духовной помощи ей. Благочестивая католичка Мария прежде не знала о существовании старцев, ей очень захотелось встретиться с таким человеком.
«У меня появилось огромное желание, — вспоминает Мария, — поехать к отцу Серафиму. Думала, что если даже к нему не попаду, то хотя бы увижу его.
Получилось так, что я приехала в Ракитное 22 мая 1979 года, на престольный праздник в честь Святителя Николая.
Народу было очень много, даже не все помещались в храме. Подумала: конечно, я не попаду к отцу Серафиму. К тому же сказали, что на всенощной его не будет: болен и находится в Готне. Я утешала себя тем, что хотя бы узнала, в каком храме служит батюшка, и теперь смогу приехать к нему, когда получу отпуск.
На второй день я была в храме и, когда видела какого-нибудь старенького священника, спрашивала, не он ли отец Серафим. Когда же отец Серафим вошел в храм, вернее, когда его провели через боковые двери, я не увидела, но сразу почувствовала его присутствие, и сразу у меня полились слезы, я не могла их остановить. Я пробралась поближе к солее, чтобы увидеть отца Серафима.
Отец Серафим вышел исповедовать только пятерых семинаристов, приехавших из Сергиева Посада. По телесной немощи всех он уже не принимал. У меня все еще лились слезы, я не могла их остановить. Закончив исповедь, отец Серафим почему-то не ушел в алтарь, а стоял у аналоя и молился. Я думала только о том, как бы мне попасть к нему на прием. Передав свечу к иконе Святителя Николая, находящейся в иконостасе, я стала просить Николая Чудотворца о помощи. Вдруг один из семинаристов говорит: «Проходите!» и открывает дверцу ограды солеи. Конечно, я не подозревала, что это касается меня и поэтому стояла на своем месте. Он снова говорит: «Проходите!» Тогда я с удивлением спросила: «Это мне проходить?» Он говорит: «Да, отец Серафим ждет». От волнения и удивления я не могла сдвинуться с места. Повернула голову к Святителю Николаю и попросила у него благословения подойти к отцу Серафиму. Я поняла, что отец Серафим ждал меня и молился обо мне, не отходя от аналоя. Подошла к нему. Он спросил:
— Вы исповедоваться пришли?
Уверенно сказала: «Да», потом пояснила, что я католичка.
— А вы желаете принимать Православие?
Твердо ответила: «Да» — и, как бы останавливая свои слова, добавила: «Вам лучше знать, как мне быть».
— «А вы знакомы с Православием?»
Сказала, что у меня есть знакомые православные, что хожу в православный храм и всегда ставлю свечи святителю Николаю.
— Переходите в Православие, — сказал отец Серафим.
— Мне надо будет креститься?
— Крещение одно, у вас все сделано, что нужно.
— Когда мне принять Православие?
— Чем быстрее, тем лучше.
Отец Серафим благословил меня по приезде в Ригу подойти к владыке Леониду, все ему рассказать и попросить у него благословение. Я тогда не знала, что наш митрополит — тоже духовное чадо отца Серафима.
Батюшка благословил также приехать в Ракитное на Троицу, чтобы совершить переход в Православие. Я это сделала, и отец Серафим стал моим духовным отцом. Он сказал мне, что владыка тоже будет моим духовником. После кончины батюшки так и получилось».
…Мария заболела — рак груди, обратилась к батюшке за помощью и попросила его молитв. Батюшка ответил: «Если земные врачи отказываются помочь, будем просить нашего Небесного Врача». Она спросила: «Батюшка, когда же я вылечусь?» — «Ты это сама узнаешь». Прошло месяца два. Лежала Мария в больнице, задремала. Вдруг чувствует распространяющийся ни с чем не сравнимый аромат, напоминающий запахи цветущего весеннего сада. Это было в воскресенье, и с того дня ее здоровье начало улучшаться. Вскоре опухоль исчезла, операция не понадобилась.
«К отцу Серафиму, я, несмотря на большие расстояния, ездила часто. Для меня самыми радостными были те дни, когда я была в Ракитном и видела этого дивного старца. По его молитвам моя семидесятилетняя мать, Варвара, тоже приняла Православие. Она со мной приезжала в Ракитное».
Очень многие приезжие обращались к отцу Серафиму с просьбой, чтобы он их полечил. Батюшка всем отвечал: «Я только молюсь. Господь — Исцелитель и Врач, а я только молюсь. Если Господь по молитвам исцеляет вас, то благодарите Господа за Его милость к вам». Батюшка никогда за это денег не брал. Он исполнял евангельские слова: даром получили, даром давайте (Мф.10:8).
В ряду чудесных врачеваний по молитвам старца были поразительные случаи: Господь воздвигал от одра болезни тех, кого земные врачи приговаривали к смерти, как безнадежных.
Рассказывает монахиня Серафима (в миру Александра Федорова), из Готни: «Раньше я жила в Макеевке, на Украине. Восемнадцать лет болела менингоэнцефалитом, имела первую группу инвалидности. Врачи отказались меня лечить, посчитав, «что такие не живут». Однажды на лекции (я тогда училась в Харькове на бухгалтера) я впала в летаргический сон и двенадцать дней не могла проснуться. После этого два месяца лежала, не могла ходить…
В 1979 году я лежала в больнице и видела сон: в незнакомом мне храме я исповедуюсь у старца. После исповеди он спрашивает: «Вы здесь определились? Что вы можете делать?» Я ответила, что читаю по-славянски, а по специальности бухгалтер. «Я вам принесу ручку и чернила» — сказал он. Дальше из сна помню свой вопрос: «Я приняла причастие, а запивки нет. Где запивка?». Мне отвечают: «Езжайте в Ракитное».
24 мая 1979 года, на празднование памяти Кирилла и Мефодия, я впервые приехала в Ракитное. Две недели я не могла попасть к отцу Серафиму на беседу. Но приехала-то я не за исцелением, хотя тогда очень болела, а чтобы взять благословение работать в Макеевке бухгалтером при храме Святителя Николая. В Ракитном в то время шел ремонт, а финансовый отчет составить было некому. Вышло так, что меня попросили помочь. Я, по благословению батюшки, за сутки сделала отчет, который не делался три года. Когда я попала на беседу к отцу Серафиму, он сказал: «Записочку вашу я прочитал, ваше место здесь, а если уедете, вам будет хуже, чем было». Так я и осталась в Ракитном.
По молитвам отца Серафима Господь меня, безнадежно больную, исцелил. Вот уже шестнадцать лет как я совершенно здорова, пою и читаю на клиросе. Митрополит Рижский Леонид постриг меня в монашество с именем Серафима».
Иеросхимонах Иоанн (Бузов, †2002): «Если говорить о чудесах в жизни отца Серафима, то я скажу, что вся жизнь его была исполнена чудес. Я могу привести десятки примеров. Святой жизни был старец. Кто верил, тот по вере своей и получал желаемое».
Рассказывает Наталья Игнатова, из Воронежа: «Моя мама сильно заболела, врачи настаивали на операции, она не соглашалась. Нам посоветовали поехать к отцу Серафиму. Но мы все медлили, а маме становилось все хуже и хуже. Снится мне сон. Вижу монахиню и слышу ее строгий голос: «Долго вы еще будете собираться?» И вдруг она улыбнулась и ласково говорит: «Иди, иди к нему, он ждет». Смотрю — идет навстречу мне старец, взгляд чистый, глаза сияют, а сам улыбается мягкой, доброй улыбкой. Утром я рассказала сон маме, и мы поехали в Ракитное. Заходим в храм, вижу — идет старец, тот самый, которого я видела во сне. Я даже заплакала, слезы сами собой текли из моих глаз, не могла с ними справиться. Когда мы попали к батюшке, он спросил у мамы: «Что это ваша девочка так плачет?» — «Вы ей во сне явились, вот она от благодарности Богу и плачет». Делать операцию батюшка не благословил. По его молитвам Господь исцелил маму и привел к вере всю нашу семью. На прощание в тот наш приезд отец Серафим благословил нас иконочкой. Мне было так легко и радостно, что по приезде домой я еще долго пребывала в приподнятом состоянии духа, казалось, не идешь по земле, а паришь над ней.
Мы часто ездили к отцу Серафиму. Идем как-то из храма, мама разговаривает с батюшкой, а он смотрит на меня и говорит: «Наташа, что ты задумала? Знаешь, о чем я говорю?» «Знаю»,— отвечаю, а он: «Не благословляю, — и добавил: — Без благословения ни шагу». И так было всегда. Собираюсь я что-нибудь спросить, а он смотрит на меня и как будто невзначай говорит, что нужно делать, отвечая на мой вопрос, который я еще не задала. Первое время меня это поражало, а потом привыкла — знала, что от него ничего утаить невозможно.
Когда пришло время, батюшка стал поговаривать о моем замужестве. Приехала я к нему однажды и называю имя хорошего, доброго парня. А он помолчал, взор устремил куда-то далеко и ответил: «Нет». Так было и в другой раз. Я уже и выбирать перестала. Однажды батюшка сам спросил о молодом человеке. Я назвала имя и сказала, что я его еще хорошо не знаю и с семьей его не знакома. Он говорит: «Приезжайте, я жду вас вместе». Как же я была поражена их встречей: отец Серафим, видя человека в первый раз, обнял, поцеловал его и тут же благословил нас венчаться, подарив моему жениху икону Спасителя, а мне иконку «Сретение Господне». При этом он сказал: «Наташенька, я хочу, чтобы вы были счастливы». По молитвам батюшки Господь послал мне хорошего, доброго, любящего мужа. У нас два сына. Мы действительно счастливы».
Часть IV. Посмертные явления и чудеса
Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах.
(2Кор.5:I)
Рассказывает Валентина Николаевна Шушляпина, из Белгорода: «Прошло несколько месяцев, как покинул нас старец. На его похоронах я не могла плакать, в то время как почти все вытирали слезы. Трудно было поверить, что вот эта могила, старательно приготовленная прихожанами, и есть последнее пристанище нашего батюшки. Углубление в земле напоминало небольшой уютный склеп. Словом, подземная келия, чисто выбеленная, с дубовым полом. Я старалась меньше смотреть в эту яму, больше смотрела на небо, зная, что душа батюшки, освобожденная от земного бремени, уже там, со всеми святыми. Поэтому все вокруг: эта многотысячная давка, слезы, духовенство, мои друзья, знакомые, милиция в штатском — было как в тумане, как будто не со мной…
Погода была под стать настроению. Ветер с какимто негодованием подталкивал людей, сгрудившихся в одну большую толпу, к прощальному месту — к могиле. Туда я не пошла, простившись со старцем еще в храме. Мой ум не желал мириться с мыслью, что батюшка умер. Он для меня и по сей день самый живой из всех живых. Много раз я видела его во сне. Один сон стоит рассказать.
Лето, такое красочное, благоухающее, солнце светит так нежно и ярко. Колокола ракитянского храма приветствуют малиновым звоном[66], двери настежь распахнуты. Я уже было собралась войти в храм, но, помедлив (служба еще не началась), решила подойти к могиле батюшки. Иду к могилке. Смотрю — из келии выходит отец Серафим в ослепительно белоснежных одеяниях, на голове — блистающая митра, вся усыпанная изумительными драгоценными камнями, в руках — золотой крест, тоже весь в драгоценных камнях. Лицо его строго, величественно и печально. Держа у груди золотой крест, батюшка направляется к храму. Молча проходит мимо своей могилы, словно не замечая ее, в пояс кланяясь преподобному Серафиму Саровскому, что изображен на стене храма. Вот он поравнялся со мной, замедлил шаг. Ризы на батюшке излучают неземное сияние, серебристые лучи исходят от всей его фигуры. Он подошел ко мне. Я сложила руки в ожидании благословения, а батюшка протянул мне крест и сказал: «Иди на богослужение». Я, приложившись к кресту, недоуменно глядя на него и на могилу, едва осмелившись, спрашиваю: «Батюшка, но ведь вы умерли, вас похоронили?» Он смотрит на меня с грустью в глазах и отвечает: «Там мое тело, а я жив, и ты это знаешь, я каждый день служу, как и прежде, только вот вы все оставили меня». Я ему говорю: «Батюшка, но мы поминаем вас». Он долгим, печальным взглядом окинул меня и тихо произнес: «Нет, это я по-прежнему поминаю вас, а вы и меня, и дорогу к храму забыли», — и пошел на богослужение. И тогда до меня дошла жгучая правда его слов…
С робостью переступила я порог храма. Свечи горели тихо, без треска, все они были большими, восковыми, от них шел аромат, в храме слышалось тихое пение, но певчих не было видно. И прихожан тоже — ни единого человека. Батюшка вел службу торжественно. Его стройная аскетическая фигура медленно и величественно останавливалась около каждой иконы, и он производил благоговейное каждение в низком поясном поклоне, приветствуя святого. Я встала на колени ближе к притвору, не смея выбрать другого места. Служба прошла как одно мгновение. Когда я подходила к кресту, батюшка светло и приветливо посмотрел на меня и сказал: «Посещай меня чаше, ведь ты знаешь, что я не умер». А я ему в ответ: «Батюшка, но ведь в храме никого нет?» Он не удивился моему вопросу и кротко ответил: «Я всегда служу Богу, а не людям». На этом мой сон прервался».
Рассказывает Клавдия Васильевна Пожидаева, из города Молчанска Запорожской области: «До того, как мне уверовать в Бога, я работала учительницей в средней школе. Сказать, что была атеисткой, нельзя: в душе всегда теплилась вера, как умела молилась, особенно в минуты отчаяния, а трудностей у меня было немало. Как теперь понимаю, Господь слышал меня и помогал, хотя тогда я так не думала. В те времена ходить в церковь было небезопасно: можно было потерять работу, а у меня пятеро своих детей и двое приемных. Тем не менее старших детей бабушка окрестила, но двое сыновей и маленькая Леночка были некрещеными. Леночка родилась больной, от неправильно сделанного укола ее парализовало, она была слабенькой, совсем не двигалась и в любое время могла умереть. Меня тревожило и тяготило то, что она некрещеная: ведь если она умрет, то за нее нельзя будет молиться в церкви. И вот однажды я подумала: «Будь что будет, пусть меня уволят, но ребенка я окрещу». Поехала в церковь с тремя детьми, всех троих крестил отец Николай. Он сказал: «Я буду молиться за ваших деток, буду просить, чтобы Господь послал Леночке врача». Для меня странно было это слышать: как это Господь пошлет врача?
Прошло какое-то время, ничего примечательного в моей жизни не происходило, только однажды встретила я женщину, сказавшую мне о батюшке в Ракитном, который всем помогает. Но по разным житейским обстоятельствам я поездку откладывала. Спустя какое-то время одна моя знакомая рассказала, что когда она пришла к вере и решила посвятить свою жизнь Богу, то продала все, что имела, и решила раздать эти средства в монастыри. Поехала она к отцу Серафиму за благословением. Написала ему записочку: «Батюшка, благословите поехать по святым местам». Но народу у батюшки было столько, что отдать записку не было никакой возможности. Встала она в сторонке и подумала, что напрасно приехала, никакого благословения ей не получить. И тут после службы сам батюшка направился к ней, все расступились, давая ему дорогу. «Подает он мне большую служебную просфору, — вспоминала моя знакомая, — и говорит: «Благословляю вас ехать по святым местам». Я оторопела, не могла прийти в себя от удивления: как это, никогда не видя и не зная меня, он отыскал меня в многолюдстве и ответил на записочку, которую я, к тому же, где-то уронила». И тут она добавила мне очень внушительно: «Поезжай в Ракитное, не откладывай, он очень большой молитвенник и обязательно поможет твоей девочке».
С дочкой и двумя сыновьями я поехала в Ракитное. Была зима, мокрый снег облепил нашу одежду. Кое-как отряхнувшись, я перекатила коляску через порог церкви. Народу было очень много, полный храм. Сразу же из алтаря вышел монах и, подойдя к нам, сказал: «Батюшка приглашает вас с детками на левый клирос, будет совершать молитву». Нам уступили дорогу, а рядом стоящие все спрашивали, откуда мы приехали и как давно знаем батюшку, что вот так он нас сразу принимает. Я сама очень удивилась, ничего не понимала в происходящем, отвечала, что я приехала впервые.
Когда я подвезла коляску с Леночкой и подвела своих мальчиков поближе, из алтаря вышел старец, весь седой, с крестом и Евангелием в руках, и начал тихо молиться. Потом благословил всех нас крестом и тихо сказал мне: «Поставьте младенца». Я отвечала, что девочка не может стоять. Ничего не говоря, он продолжал молитву и во второй раз так же тихо произнес: «Поставьте младенца», а я ему: «Батюшка, она и сидеть-то не может». Он в третий раз помолился и еще тише повторил: «Поставьте младенца». Я все продолжала объяснять ему, что девочка парализована, она даже привязана к коляске. Батюшка еще раз благословил нас, ничего не сказал и так же тихо ушел в алтарь, как и появился. Рядом стоящие женщины, удивленные моим упрямством и неверием, сказали: «Что же ты наделала, почему не послушала батюшку? Если бы послушала, произошло бы чудо, Господь укрепил бы младенца, она бы пошла». И рассказали мне случай, как одна женщина принесла на руках мальчика семи лет, у которого не действовали ни руки, ни ноги. Батюшка велел оставить ребенка у него, и когда мать через месяц приехала, то мальчик свободно ходил и даже прислуживал в алтаре. Для меня услышанное было из области чудес. Как обычный человек может знать наперед, что Леночка встанет и пойдет?
С того дня мы часто стали приезжать к батюшке. Постепенно я входила в Церковь, вера в силу молитв отца Серафима с каждым разом укреплялась: я видела своими глазами все происходящее и ощущала на своих детях благодатную силу молитв старца. Леночка была последним ребенком из тех, кого он лечил при жизни, батюшка очень любил ее. Хотя мы жили довольно далеко, но по два раза в неделю приезжали в Ракитное. Как бы трудно ни было в дороге, всех этих неудобств мы не замечали, для нас их словно бы не существовало. На моих руках трое маленьких детей, коляска, сумки и еще одежда. Ехали с пересадками, но я не чувствовала усталости и тяжести пути, все получалось как-то само собой: и поезд на месте, несмотря на летний сезон отпусков, и билеты всегда для нас были, мы никогда нигде не простаивали. По молитвам отца Серафима нам было легко. В Ракитном мы спали на дровах, но радость встречи с батюшкой и его благословение снимали любые житейские неурядицы. Мы всей семьей постоянно причащались, у всех нас крепла вера в силу молитв старца и в помощь Божию.
Со временем Леночка уже могла самостоятельно сидеть, брала в ручки предметы, но не ходила. Она любила молиться и молилась много. К тому времени ей было уже девять лет. Мы с ней читали по семь акафистов в день. Она не умела говорить, но слышала отлично. На ее лице светилась постоянная улыбка, и радость моя была огромна. Одно только беспокоило: батюшка был слаб и часто болел.
Мой старшенький Сережа иногда начинал говорить: «Когда батюшки не будет…» Я в ужасе его прерываю: «Господь с тобой!» — а он продолжает: «Когда-то его все равно не будет, я ему тогда стану молиться, как Николаю Угоднику. Напомню ему, что он, батюшка Серафим, гладил меня по головке, и мы часто приезжали к нему». Так крепла вера у моих мальчиков. И вера наша не была посрамлена.
Как-то в Ракитном, уже после кончины старца, заболела рука у моего сына, а я ему говорю: «Потерпи, ведь батюшки нет». — «Да я знаю, что нужно сделать: положу на его могилку больную руку и попрошу, чтобы он мне ее вылечил», — и побежал к могилке. Как он просил, не знаю: я была в храме с дочкой, но он появился радостный и говорит: «Мама, у меня ничего больше не болит».
Однажды мы приехали в Ракитное, и нас оставили ночевать в просфорне. В три часа ночи Леночка сильно расплакалась, я не могла ее успокоить и понять, почему она плачет, хотя все ее привычки я уже изучила и по малейшему движению, по невнятному звуку могла определить, что ей нужно. Одна женщина мне сказала: «Что ты так маешься? Отнеси девочку на могилку к батюшке и попроси его о помощи». Я посадила ребенка в коляску и повезла к могилке. Поставила ее ножками на краешек у изголовья, напротив креста, и Леночка затихла. Я чувствовала, что тело ее укрепляется, и, когда поняла, что уже нет необходимости ее поддерживать, отняла свои руки, она как бы вырвалась из них сама и медленно пошла. Шажки ее были маленькими, она обошла могилку, все это для меня было как во сне. С тех пор она стала ходить. Конечно, еще неуверенно, но она свободно передвигалась по комнате, могла даже перейти улицу. Ходила и радовалась. Она как-то особенно всегда улыбалась, вся сияла, когда мы молились и говорили о батюшке.
В день похорон отца Серафима матушка Валентина (жена священника из Сергиева Посада) поведала мне о происшедшем 19 апреля 1982 года в Троице-Сергиевой лавре событии. В момент кончины отца Серафима неожиданно открылась крышка у раки с мошами Преподобного Сергия. Все присутствующие были в изумлении и решили, что произошло нечто необычное в мире. Пришла в лавру вскорости и телеграмма о кончине отца Серафима. Мы с ней сопоставили время событий, — все сошлось до минуты…
Как-то я встретила женщину, у которой сильно болели ноги. Я ее спросила: «Вы по-настоящему верите в Бога или только в храм ходите?» — «Верю». Тогда я ей посоветовала: «Поезжайте в Ракитное, если хотите выздороветь», — и оставила адрес. Примерно через месяц я встретила ее в магазине, и она рассказала, что побывала в Ракитном, и ноги у нее больше не болят».
Андрей Печерский, главный редактор газеты «Русь Державная» вспоминает: «Читая рабочий экземпляр готовившейся к выходу книги об архимандрите Серафиме, я был поражен теми исцелениями и чудесами, которые Господь творил по молитвам старца. Не могу сказать, как зарождалась во мне вера в силу его молитв, но читая эти воспоминания, я верил в благодатность старца. На чтение урывками ушло четыре дня. Выбрал для газетной публикации эпизод о “Зоином стоянии” в Самаре. Это меня больше всего потрясло. Подготовил материал, сдал в набор и пошел к врачу на повторное обследование своих старых болячек. Надо сказать, в то время, когда я читал книгу, совсем забыл о них. Каково было мое удивление, когда после обследования врач сказал: «Ничего понять не могу. У вас была открытая язва, а теперь на снимке только свежий рубец».
Декабрь 1997 г., Москва
Мой знакомый рассказал, что после прочтения книги об отце Серафиме, в которой он увидел мою фотографию, он уверовал в Бога. Книга коснулась его души. Он молитвенно обратился к батюшке Серафиму, прося его оказать помощь. И произошло чудо. Он был досрочно освобожден из мест лишения свободы на 5 лет раньше срока.
2007 г.
Игумен Арсений (Веретенников), насельник Троице-Сергиевой лавры, рассказал необычную историю, происшедшую в Курске в день кончины батюшки. «Это произошло в доме брата, протоиерея Вячеслава Веретенникова, духовного сына отца Серафима. Когда он со всей семьей был на улице, в доме раздался сильный хлопок, напоминающий взрыв. Все подумали, что взорвался газ. Вбежали в дом посмотреть, что же произошло. На кухне все было на месте — ни запаха гари, ни разрушений. Когда же вошли в комнату, то поразились беспорядку: многие иконы были разбросаны, одна оказалась в противоположном углу от иконостаса, центральная икона переместилась вниз, но лампадка на подвеске продолжала гореть. Не могли понять, что же произошло. Какое-то, видно, знамение Божие. Иконы вообще-то не пострадали, и даже стекла уцелели. Вскоре принесли телеграмму с сообщением, что преставился отец Серафим.
Мне с братом приходилось бывать у батюшки в Ракитном. Я исповедовался у него, он строго отнесся к моим грехам, но епитимию не наложил, простил. Меня поразили его доброта, мягкость и добросердечность. Приняв его благословение, мы благополучно добрались домой. Я еще долго был под впечатлением от встречи со святым старцем».
Видение Галины Гречихиной.
«В среду 8 марта 1995 года, на первой седмице Великого поста, во время литургии Преждеосвященных Даров, при открытых ЦарскиВратах мы пели «Ныне Силы Небесныя». Настоятель, иерей Николай, благоговейно подошел к жертвеннику, где обычно совершается проскомидия. Так же благоговейно, сосредоточившись на молитве, он взял дискос с Агнцем, Святую Чашу, вышел северными дверями и прошел через Царские врата в алтарь, тихо произнося: «Верою и любовию приступим, да причастницы жизни вечныя будем». В этот момент через боковые открытые двери алтаря я увидела, что у аналоя перед престолом с поднятыми вверх руками стоит священник в мантии. Расстояние между клиросом и престолом не более пяти метров, и мне хорошо видно все, что происходит в алтаре. Пристальнее присмотрелась и… о чудо! В священнике, к своей неописуемой радости, я узнала дорогие черты нашего отца Серафима. Хотелось плакать от переполнившего меня трепетного чувства. Еще раз устремляю свой взор в алтарь, но батюшки уже не видно. Тогда мне открылось, что воистину душа нашего старца и поныне с нами, он молится за нас, грешных».
Галина Гречихина также рассказала следующее: «Сорокалитровый бидон с молоком придавил мне большой палец на ноге. Он вскоре почернел, распух и болел, ходить было невозможно. Я взяла фотографию отца Серафима и обратилась к нему: «Батюшка, что мне делать, как я буду стоять и петь на клиросе?» Приехав на могилку к батюшке, взяла земельки и приложила к больному месту. Все у меня зажило, и даже ноготь остался цел».
Вспоминает внук Дмитрий:
«Прошло десять лет со дня смерти дедушки. Я приехал на Пасху в Ракитное. После вечерни я отдыхал в пристройке храма, вдруг слышу громко и четко возглас дедушки: «Христос воскресе!» — и в ответ голоса: «Воистину воскресе!» И зазвучали пасхальные песнопения. Я притаился и начал вслушиваться в растерянности. Хор пел очень радостно и торжественно. Я вышел во двор. Пение слышалось так же отчетливо. Проверил замок на дверях храма. Пошел к могилке дедушки. Песнопение продолжалось… Когда лег спать, в ушах все звучали и звучали песнопения Пасхальной седмицы.
Я уверен, и не раз это ощущал, что дедушка не исчез никуда, он постоянно рядом, смерть его я не воспринял. Я с ним, как и раньше, советуюсь, получаю наставления, иногда совершаю необъяснимые поступки, а в результате это оказывается единственно правильным».
Елена Стрельцова, г. Москва
Книгу о старце Серафиме я читала и плакала. Батюшка стал для меня нравственным правилом и молитвенной поддержкой. Моей маме врачи поставили диагноз рак. Все свое упование я возложила на Бога. В молитвах я обращалась к Матери Божией, просила помощи святителя Николая, Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Александра Свирского, молитвенной помощи батюшки Серафима (Тяпочкина) и отца Иоанна (Крестьянкина). Вскоре мама поправилась, болезнь отступила. Я каждый день в своих молитвах поминаю приснопамятного батюшку Серафима и верую в его скорое прославление в лике святых. Все медицинские свидетельства, если есть необходимость, могу предоставить.
С любовью о Господе р.Б. Елена 8 августа 2007 г.
Рассказывает Татьяна Фоминична Шарая (†5 апреля 2010 г.) из Ракитного:
«Многие из разных городов приезжают на могилку к батюшке, прося у него помощи, и получают просимое. Когда мне плохо, я тоже иду к нему, — сделаю поклонники, помолюсь, поплачу, и сразу становится легче на душе. На могилке батюшки всегда горит неугасимая лампада, и масло из нее целительное: помажешь три раза крестом больное место, и боль проходит, здоровье улучшается. Мы дома всегда держим масло из лампадки, горящей у креста на могиле, и по вере исцеляемся. Есть у нас и земелька с могилы, прикладываем ее к больным местам, и наступает облегчение…
В Ракитном долго не было дождя, все засохло, жук съел картошку. Я поехала в Красный Лиман к игумену Павлу (Пасечнику), духовному сыну отца Серафима, рассказала о бедствии. А через две недели, когда вернулась домой, на огороде все было зелено. Позже мы узнали, что отец Павел побывал на могиле отца Серафима. Только он подошел к могилке батюшки и сотворил молитву, полил дождь. Урожай был спасен».
Из письма иерея Василия Кононыхина, настоятеля храма Святителя Николая в селе Жевтневое Запорожской области, духовного сына архимандрита Серафима. «Много чудес сотворил Господь по святым молитвам угодника Божия батюшки Серафима. Моя бабушка, монахиня Христина (в миру Мария Акимовна Кононыхина, 11994) и мы с мамой в начале 1970-х годов переехали с Украины в Ракитное, чтобы быть ближе к старцу. До рукоположения я служил в авиации. Ушел на военную пенсию и жил в Ракитном. Посещал храм, читал и пел на клиросе. Однажды протоиерей Владимир Деменский (†1997) рассказал мне, что из сельской школы приезжали на могилку отца Серафима директор и две учительницы. Они слышали о молитвенной помощи почившего старца и приехали ему поклониться. Это было в 1993 году, ранней весной, еще лежал снег. Учительницы говорили, что от могилки батюшки исходило благоухание, которого они никогда и нигде ранее не ощущали… Услышал я этот рассказ, и стало мне стыдно за мое маловерие. В феврале 1992 года я был на могилке батюшки Серафима, ощутил необычайную духовную радость и почувствовал неземное благоухание, исходящее от могилки. Но усомнился, не поверил даже себе, подумал — показалось.
В ноябре 1996 года Господь вновь сподобил меня побывать на могилке старца и помолиться в храме Святителя Николая. Уезжая, я взял земли с могилки и масла от неугасимой лампадки (ее огонек долгие годы днем и ночью, зимой и летом, поддерживает алтарник и сторож, раб Божий Владимир Тонких, духовный сын старца). По прошествии трех месяцев Господь, по молитвам отца Серафима, явил чудо.
На Страстной седмице Великого поста Вера, из города Мелитополя, решила приготовить холодец. Когда мясной бульон вскипел, она двухведерный котел этого варева понесла на второй этаж. На крутой лестнице оступилась и упала, а бульон вылился на нее. В тяжелейшем состоянии с многочисленными страшными ожогами рук, ног, шеи, живота ее доставили в больницу. Ни усилия врачей, ни лекарства, не давали облегчения. В конце концов врачи предложили родственникам отвезти женщину в областную больницу или забрать домой и лечить самим. Веру взяли домой.
Прихожанка Свято-Никольского храма в селе Жевтневое, дальняя родственница Веры, Анна Федоненко, получила от дочери сообщение о случившемся. Мы отслужили молебен и с рабой Божией Анной поехали в Мелитополь навестить больную, взяв с собой святой воды и того самого масла от неугасимой лампадки отца Серафима.
Больная лежала под пологом, сделанным из простыни. В комнате стоял жуткий запах, ожоговые раны начали гноиться. Состояние страдалицы было очень тяжелое. Мы, как могли, утешали ее, говорили, что нельзя терять надежды на выздоровление, что нужно молиться Господу Иисусу Христу, Пресвятой Богородице, Святителю и Чудотворцу Николаю и просить помощи у батюшки Серафима Ракитянского. Оставили святую воду, чтобы омывать раны, и масло — смазывать ожоги.
Через десять дней нам позвонили из Мелитополя и сообщили, что Вера полностью исцелилась и, самостоятельно сев за руль автомобиля, поехала на работу.
…У Лены, пребывающей в детской исправительно-трудовой колонии, ноги были покрыты язвами, которые долгое время не заживали. Ей передали немного масла от батюшкиной лампадки. Через несколько дней получил от нее письмо. Она благодарила за масло и сообщала, что язвы на ногах зажили и не болят.
…У Наталии Рамазановой из Днепродзержинска долгое время не заживали раны на руках. Я переслал ей в письме лист бумаги, пропитанный маслом от батюшкиной лампадки. Вскоре она написала, что раны на руках затянулись и больше ее не беспокоят.
…Мне нужно было срочно ехать в Москву. Помолившись на могилке батюшки, взяв мысленно его благословение, отправился в Белгород. У касс — огромные очереди, проходящие поезда переполнены. Время шло к полуночи, и было такое впечатление, что уехать не удастся. Тогда я повернулся в ту сторону, где храм Святителя Николая, что в Ракитном, стал молиться Господу, Матери Божией, Святителю Николаю и просить помощи у батюшки Серафима: «Батюшка Серафим, вы все видите, помогите мне уехать». Подходит очередной пассажирский поезд. Открывается дверь одного из вагонов, соскакивает с высокой подножки человек, на ходу одеваясь, быстрым шагом подходит ко мне и спрашивает: «Чего стоишь?» Отвечаю, что нужно срочно ехать в Москву, а билетов нет. Он протягивает мне билет и говорит: «Бери мой и езжай, он до Тулы, а там доплатишь проводнику и доедешь до Москвы». — «А вы что, ехать передумали?» — «Сам не знаю, взял постельное белье, разделся и отдыхаю. А тут поезд остановился, смотрю в окно — станция Белгород. Вдруг вспомнил, что друг мой, с которым вместе в армии служили, живет в Белгороде, я и адрес его знаю. Сам не понимаю, почему вдруг решил заехать к нему. Хотя придется до утра на вокзале сидеть, пока первый троллейбус пойдет».
Удивился я всему услышанному, поблагодарил его, оплатил стоимость билета и благополучно добрался до Москвы. Вот такую милость оказал мне Господь по молитвам Божией Матери, Святителя Николая и батюшки Серафима Ракитянского».
Белгород, 1998 г.
Рассказывает Валентина Романовна Коновалова, из Красной Яруги, служащая храма.
«В 1995 году у меня появилась опухоль в горле, что мешало мне читать на клиросе. Лекарства не помогали, в молитвах я постоянно просила отца Серафима помочь мне. Врачи предлагали сделать операцию, но я не спешила… Поговорила с настоятелем отцом Николаем Германским и попросила, чтобы в церкви помолились обо мне. Отслужили молебен преподобному Серафиму Саровскому и Божией Матери.
Как-то, во время сна, я услышала голос, который велел взять у нашего пономаря Владимира Тонких, следящего за неугасимой лампадой на могиле отца Серафима, масла из этой лампады и принимать его внутрь. Я так и сделала.
Когда я попробовала масло в первый раз, оно показалось мне горьким, во второй раз — приятным и ароматным. Я чувствовала, что постепенно опухоль в горле уменьшается, и мне становится легче. Через месяц опухоль совсем исчезла.
Так по молитвам отца Серафима Господь меня исцелил».
Татьяна Лагно, село Павловка Кировоградской области.
Книгу об отце Серафиме дала мне почитать моя духовная сестра. Я читала и плакала. Батюшка Серафим вошел в мою душу и сердце. Как горько сознавать, что я в то время, когда батюшка жил, была далека от Бога. Шла широким путем, но Господь через скорбь призвал меня к вере. Умерла моя мама. У меня часто болела голова, мне приходилось принимать таблетки от головной боли, которые иногда не помогали. В молитве я обратилась к батюшке Серафиму о помощи. Помазала больное место маслицем от неугасимой ломпадки с его могилы, и буквально через десять минут боль прошла. Для меня это было чудо. Так батюшка, по милости Божией, исцелил меня грешную и укрепил мою веру в Бога.
9 октября 2006 года.
Старушка Евдокия.
«У меня часто болит голова. Приду на могилку, помолюсь батюшке, попрошу помоши, приложусь к его кресту — и боль проходит. Так и лечусь у отца Серафима», — признается.
Нина Федотовна Лазебная, духовная дочь отца Серафима, как-то показала своей знакомой, у которой болели руки, переписку старца. От папки с бумагами исходил благоухающий аромат. Пока она держала эту папку, у нее руки перестали болеть.
Марина из Москвы
Будучи больной, перед сном я читала книгу об отце Серафиме, но продолжать чтение не могла, сильно болело горло. Поднялась температура до 40 градусов, всю ночь меня ломало, знобило, я просыпалась от каждого глотательного движения. В полубреду я взывала о помощи: «Господи, помоги мне! Батюшка Серафим, помоги мне!» Я уснула, в какой-то момент во сне слышу голос: «Читай «Отче наш». Читаю и ощущаю как кто-то обкладывает мою грудь тонкими металлическими пластинками, завернутыми в марлю. Я крепко уснула. Утром просыпаюсь, температура нормальная, горло не болит, только слабость. Через день я вышла на работу (в госпитале я работаю медсестрой). Рассказываю врачам, они ничего понять не могут: «у тебя все горло пылает, зачем ты пришла?» В этом состоянии больные говорить не могут. Я ответила, что могу даже петь. Спокойно отработала весь день, нормально говорила. Диагноз моей болезни установлен не был, Господь по молитвам батюшки меня исцелил.
1 октября 2005 года
Из рассказа Галины: «У одной женщины сын разбился на мотоцикле. Врачи сказали, что он не сможет ходить. Молитвенно попросили помощи у отца Серафима, и парень через месяц встал на ноги. Когда мать увидела, что сын ходит, то упала на колени и со слезами благодарила Бога и отца Серафима».
Из рассказа Анны, из Ракитного: «У Михаила парализовало жену. Он обратился за помощью в церковь, помолился на могилке отца Серафима, и Господь по молитвам батюшки исцелил ее».
Рассказывает Вера Орлова, из Белгорода, духовная дочь отца Серафима. «Нас с сыном пригласили в Сергиев Посад на праздник Преподобного Сергия. Из-за всяких затруднений я не знала, как поступить. Поехала к батюшке на могилку просить, чтобы он помог нам. Еду, а сама думаю, как к нему обратиться, в каких молитвенных словах. Приехала в будни, храм закрыт. Пошла на могилку, калитка в оградку была открыта, около могилки стояли два человека. Подошла и я, встала на колени, склонилась и расплакалась: «Батюшка, как мне быть, спросить не у кого, вот я и приехала к тебе. Собираемся поехать к Преподобному Сергию, а затем в Печоры, мы в первый раз собрались с сыном поехать по монастырям (это было до празднования 1000-летия Крещения Руси, до 1988 года, — непростое время). Больничный у меня не закрыт, отпуск по графику только осенью. Помоги еще, чтобы до поездки сын получил паспорт, да и с билетами летом очень трудно».
Так я поговорила, поплакала. Сейчас всего не помню, что спрашивала, но получила ответы. Слышала их каким-то внутренним слухом, они сопровождались успокоением и умиротворением в душе. Приходила мысль, как нужно поступать. Так я переходила от одного вопроса к другому, восстанавливался некий покой, — такое было духовное общение. Я не скрывала своей радости и восклицала: «Батюшка, родной, ты меня слышишь и умудряешь, а я сама ведь не находила ответа». «Слышу, слышу», — отозвалось в сердце. Я даже не поверила себе, еще раз повторила, и пришел тот же ответ: «Слышу, слышу».
Это был мой первый приезд на могилку к старцу. Когда я приезжала позже, такого общения больше не получалось. То ли я была не сосредоточена, то ли мешали люди, то ли я не могла в полной мере раскрыть свое сердце и поплакать, как в тот первый раз. Все, о чем я думала и просила исполнилось, по молитвам батюшки, когда я вернулась домой. На следующий день мне закрыли больничный, начальник подписал заявление на отпуск, можно сказать, без препятствий. Мы отнесли документы в паспортный стол и зашли к начальнику, чтобы ускорить дело, потому что на этот день взяли билеты в Москву. Он сказал, что паспорт получим сегодня, но только без прописки. Но нас и это устраивало.
Так, по молитвам батюшки, Господь все наши трудности разрешил за один день. Вечером мы с сыном уехали.
Белгород, март 2001 г.
Валенпша Грибанова, г. Одинцово Московской области.
Я прочитала книгу «Белгородский старец Серафим (Тяпочкин)». Батюшка глубоко вошел в мое сердце. В 1998 году моему внуку Антону сделали операцию на почки. Врачи должны были удалить у него больную почку, она была вся гнойная, но не решались этого сделать. Мы часто причащали Антошу. Книгу о старце Серафиме я привезла дочери и внуку. Антоше было тогда полтора годика, он брал в руки книгу и говорил : «Батюшка, батюшка». Показывап пальцем на крестик и целовал его. В 1998 году в своем храме я стояла на панихиде со знакомой актрисой Ириной. Она уезжала в Белгород на гастроли. Я вспомнила об отце Серафиме из Ракитного, рассказала ей о батюшке и попросила ее съездить к нему на могилку. Она привезла мне земельки, маслице от неугасимой лампадки и святую воду. Долгое время мы мазали маслом и святой водой Антону больное место и молились старцу Серафиму о его исцелении. Вторя операция не понадобилась, по молитвам отца Серафима, Господь исцелил моего внука.
10 марта 2005 г.
Рассказывает Валентина Ивановна Чубур, из Москвы. «Последние два года я страдала от глаукомы. Дважды в день я вынуждена была закапывать в глаза лекарство, без которого уже не могла обходиться. Внезапно у меня возникла аллергия на это лекарство — глаза чесались, слезились, опухали веки. Впоследствии оказалось, что мой организм не переносит медикаменты, в которых есть новокаин. Попытка использовать другие препараты закончилась тем, что я потеряла сознание, у меня замедлилось дыхание, — словом, я чуть не умерла. Врачи сказали, что нужно срочно делать операцию. Однако оперировать меня тоже никто не хотел: ведь вначале нужно было сделать пробы на переносимость лекарств, а я могла умереть от одной капли.
Вскоре мне стало совсем плохо: я испытывала головокружение, тошноту, глаза постоянно слезились. Стало страшно выходить из дома — иду как пьяная, шатаюсь. В эти тяжелые для меня дни я зашла в церковную лавку и купила книгу «Белгородский старец архимандрит Серафим (Тяпочкин)». Я давно хотела ее купить, но все никак не получалось. Читать было тяжело, но я молила Господа, чтобы сподобил. По ходу чтения меня осенила мысль, что нужно ехать в село Ракитное на могилку батюшки Серафима, и только по его молитвам Господь меня исцелит. Своими словами я обращалась к батюшке, прикладывала к глазам и целовала его фотографии, и к концу чтения стало мне немного легче.
Получив благословение у отца Василия из нашего Спасо-Преображенского собора, я поехала в село Ракитное Белгородской области. Приехала, обняла могилку, помолилась, стала читать каноны, готовясь к причастию. И вдруг замечаю, что у меня исчезли резь в глазах, головокружение, тошнота. Я заплакала, но это были уже другие слезы, слезы радости.
Я переночевала в храме, а наутро причастилась. Чувствовалась особая торжественность, душу охватил трепет, даже уходить из храма не хотелось. Я взяла от лампады батюшки Серафима маслица и, приехав домой, стала ежедневно закапывать его на ночь в оба глаза и своими словами просить батюшку помолиться обо мне. После первого закапывания, утром, у меня из глаз пошел гной, а потом жидкость. Так продолжалось в течение четырех месяцев, и болезнь прошла сама собой.
Так Господь исцелил меня, грешную, по молитвам архимандрита Серафима. Теперь я постоянно подаю за него поминовение, заказываю панихиды, сама молюсь и обращаюсь к нему, как к святому угоднику. Все это я написала в надежде на скорейшее прославление и канонизацию батюшки Серафима.
Батюшка Серафиме, моли Бога о нас!»
Раба Божия Татьяна.
Несколько лет я была терзаема унынием и озлоблением. Проявлялось это в неукротимой злобе на мужа. Уныние переходило в невообразимую тоску. Тогда хотелось одного, чтобы Господь прекратил эти мучения, лишив меня жизни. В семье все шло к разводу. Кромешный ад. Физически это сопровождалось слабостью, низким давлением, сниженным иммунитетом. Проблемы все начались, когда мы побывали на «лечении» у бабки, которая за деньги обещала помочь, давала «оздоровительную воду». Я ее пила и умывалась. Вода была мутная и с осадком. Прости, Господи, хотелось любой ценой иметь телесное здоровье. Я ездила на отчитки, исповедовалась, причащалась. Было облегчение, но особого улучшения не было. Весной 2006 года моя знакомая дала почитать книгу «Золотой святыни свет». В ней рассказывалось о преподобномученице Елизавете Федоровне. В одной из глав приводился рассказ об отце Серафиме (Тяпочкине). Как только я дочитала до этого места, со мной стало твориться нечто невообразимое. Голова стала мотаться из стороны в сторону (как признак эпилепсии). Я была в сознании, но не помню, сколько это продолжалось. После этого мне было плохо. Но самое главное, страсти эти, о которых я упоминала, оставили меня. Не могу сказать, что я совершенно здорова телом, но мне, по милости Божией, легче на душе. Благодарю Господа, Его Пречистую Матерь и батюшку Серафима, по молитвам которого исцелил меня Господь.
Апрель, 2006 г.
Раба Божия Н., г. Москва
Мы с мужем на машине поехали на дачу, я — за рулем. Во время работы в саду мне что-то попало в глаз. Два дня глаз слезился и болел. Поехать в город к врачу я не могла, мой муж инвалид, а из-за больного глаза я не могла вести машину. Книгу об отце Серафиме всегда со мной. Я просила отца Серафима помочь мне: «Батюшка, к тебе прикасались и исцелялись многие, помоги мне», и положила книгу с его фотографией на обложке на больной глаз и уснула. Проснулась — глаз больше меня не беспокоит, и боль прошла. Мы благополучно вернулись домой. Батюшка меня исцелил.
Июнь, 2007 г.
Раба Божия Валентина Цыбина, г. Железногорск Курской области.
Я до глубины души была потрясена книгой о старце Серафиме. Книга перевернула всю мою жизнь, с ней я не расстаюсь ни днем ни ночью. Батюшка Серафим всегда со мной Я считаю его святым. Господь не сподобил меня встретиться с ним при его земной жизни и я благодарна Господу за этот подарок. Читаю эту книгу каждый день, и слезы постоянно текут из глаз. Передайте мою признательность всем тем, кто участвовал в ее создании. Я полюбила батюшку всей своей душой и сердцем. Когда меня посещают скорби и переживания, я молюсь дорогому батюшке, и мне становится легче и на сердце тихая радость. Я в прошлом медицинский работник, 17 лет проработала в реанимации и насмотрелась много чудес. Семь лет назад я тяжело заболела, врачи не могли поставить диагноз, лежала прикованная к постели, я таяла, как догорающая свеча. Я инвалид второй группы, у меня двое детей, старшая дочь окончила институт и работает в Москве, младший сын идет служить в армию. Я остаюсь одна со своей болезнью, у меня одна надежда на помощь Божию и молитвы отца Серафима. Господь по молитвам батюшки укрепляет меня.
20 мая 2008 г.
Часть V. Проповеди и переписка отца Серафима
В навечерие Рождества Христова
Христос рождается — славите, Христос с небес — срящите!
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
В предпразднственный день Рождества Господа Иисуса Христа особенно близко нам это приглашение нашей чадолюбивой Матери — Святой Церкви. Сегодня мы стоим в преддверии величайшего праздника. «Христос раждается» — какая это радостная весть. Может ли чтото быть больше и выше этой радости?! Ожиданием этой радости люди томились веками. Ожидание Пришествия в мир Христа, как обетованного Богом Спасителя мира, красной нитью проходит через весь Ветхий Завет. Еще в Раю после грехопадения наших прародителей Господь изрек это обетование.
Сотворив мир и видя, что все сотворенное добра зело, Господь, по неизреченной любви Своей, хотел сделать человека участником мирского блаженства. Человек был поселен в Раю. От него требовалось только послушание воле Божией. Но и этого самого малого человек не выполнил. Он преступил, нарушил данную ему Богом заповедь. Праведным судом Божиим человек был изгнан из Рая, и с того времени начался скорбный путь для всего человечества. Но Всемогущий Создатель не отвратился вконец от Своего создания. Изгоняя из Рая согрешивших прародителей, Он изрек Свой праведный приговор. Адаму Он сказал: «В поте лица твоего снеси хлеб твой пока не возвратишься в землю, из которой взят был еси, яко (потому что) земля ты и в землю отыдеши». Праматери нашей Еве сказал: «В болезнях будешь родить детей». Диаволу, который, приняв вид змия, соблазнил Адама и Еву и ввел их в грех, сказал: «Вражду положу между тобою и между Женою, и между семенем твоим и семенем Тоя; Той в тою будет блюсти — сокрушать главу, а ты будешь жалить Его в пяту» (Быт.3:15). Вот первое обещание Божие о Пришествии в мир Спасителя, Который должен был сокрушить диавола и возвратить людям утерянное блаженство Рая. Жена, о Которой упоминает Господь в Своем приговоре диаволу, есть Пречистая Дева Мария; Семя же Ее — Родившийся от Нее Господь Иисус Христос.
На протяжении веков всей ветхозаветной истории люди не забывали этого обетования Божия. Взоры всех лучших людей были устремлены к Востоку. Все смотрели, не идет ли оттуда Тот, Кто был обетован Богом. Какой неизреченной радостью исполнился мир, когда звезда на Востоке указала на исполнение ветхозаветного обетования Божия, на Пришествие Того, Кого с таким благоговением ожидал этот мир.
Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, стоим в преддверии этой радости — величайшего праздника Рождества во плоти Господа Иисуса Христа. «Христос раждается — славите». Славьте же Христа все, славьте Его здесь, в храме Божием, славьте Его в домах ваших, славьте Его в семействах ваших, славьте Его во всей жизни вашей. «Христос с небес — срящите». Встречайте Его все, выйдем к Нему навстречу. Принесите к Нему все наши скорби, болезни, забудьте о всех печалях и невзгодах своих, слейтесь воедино, во един хор с небожителями и одними устами, и одним сердцем прославим наступающий праздник Его Рождества. Аминь.
Слово на Рождество Христово
Слава в вышних Богу, и на земли мир; в человецех благоволение!
(Лк.2:14)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума» — так радостно, так торжественно поет сегодня Святая Церковь, возвещая всему миру радостную весть о Рождестве Господа. Ветхозаветный мир изнывал под бременем грехов, неправд и беззаконий. Мрак заблуждений покрывал грешную землю. Люди томились во тьме неведения.
Была темная, глухая ночь. Не слышно было шума земли, не слышно было голосов людских. Умолкла суета земная. Уснул греховный мир. Спал Иерусалим, спала вся Иерусалимская земля. Весь мир был в объятиях сна. И вот среди этой глубокой ночи разверзаются небеса, разгоняется мрак, озаряется тьма. Ночи как не было. На небе появилась лучезарная таинственная звезда. От звезды на землю спустился весь в белом Ангел. Его увидели убогие вифлеемские пастухи. Они услышали его и в страхе упали на землю. Они не могут отдать себе отчета в происходящем вокруг них. «Не бойтесь, — слышится голос Ангела. — Не бойтесь…» (Лк.2:10–12). Не успел еше Ангел окончить сии слова, как внезапно в эти святые минуты в убогом вифлеемском вертепе совершилось таинство странное. Здесь были святые странники — праведный старец Иосиф и обрученная ему Пречистая Дева Мария. Они пришли сюда из далекой Галилеи, исполняя волю римского кесаря Августа, который издал указ о всенародной переписи. И для них не оказалось места в Вифлееме. И они безропотно отошли от людских жилищ и нашли себе покой от дорожных трудов за городом, в убогом вертепе, куда пастухи в ненастную погоду загоняли свои стада. Здесь были они одни в невидимом присутствии Самого Бога. Здесь исполнилось время родить Святой Деве. И в полночь Она родила Сына Своего Первенца и повит Его, и положи Его в яслех (Лк.2:7). Она родила Его безболезненно, без всякой посторонней помощи. Она Сама спеленала Его, никому не попустила прикоснуться нечистыми руками к Рожденному от Нея. Своими ничем не оскверненными руками Она осязала Его, Своими чистейшими устами лобызала Его, Своими девственными сосцами питала Его. Положив Его в ясли, Она поклонилась до земли Рожденному от Нея — Она первая принесла поклонение Ему. Вол и осел — эти бессловесные животные, которые служили в пути праведному Иосифу и Пречистой Деве Марии, теперь были привязаны к яслям и своим дыханием согревали Божественного Младенца и таким образом служили своему Владыке и Творцу. Иосиф же в глубоком безмолвии преклонил свои старческие колена и поклонился до земли и Родившемуся, и Родившей Его. Теперь Он познал, Кто Та Святая Дева, обручником Которой он был, познал Ее нетленный цвет девства, познал, что Она есть Та, о Которой задолго до сего изрек пророк Исаия: «Се, Дева во чреве пришлет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис.7:14), что значит: с нами Бог. Познав сие, поклонился со страхом и радостью, благодаря Воплощенного Бога, сподобившего его быть самовидцем и служителем сей тайны.
Так совершилась величайшая тайна Воплощения — рождение во плоти Единородного возлюбленного Сына Божия.
Рассеялся мрак греха. Воссиял свет миру. Солнце Правды озарило землю. Скорбь сменилась радостью. Этой духовной радостью полны и наши сердца в этот радостный и торжественный праздник Рождества Христова. С вифлеемскими пастырями поклонимся Ему, с волхвами принесем в дар свои любящие сердца и с Ангелами воспоем хвалебный, благодарственный гимн: «Слава в вышних Богу, и на земли мир; в человецех благоволение!». Аминь.
В Неделю о расслабленном
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Божественный Учитель — Господь Иисус Христос — пришел на землю как воплощенная любовь. Эта любовь сияла в Его очах, отражалась на Его Божественном лике, она исходила при всяком Его дыхании. И как бесконечно счастливы были те люди, которые были современниками земной жизни Христа, которые окружали Его и непосредственно из Его пречистых уст слышали слово Его, которое было согрето бесконечной любовью. Они несли к Нему свои скорби, болезни, печали. Они становились перед Ним на колени, обнимали Его пречистые ноги, целовали края одежды. Путь, по которому проходил Христос, дом, в котором Он останавливался, всегда наполнялись тысячами жаждавших слышать Его слово. Его окружали каявшиеся грешники, у ног Его плакали грешницы, Его радушно принимали мытари, к Нему обращались за помощью даже язычники. К Нему шли все труждающиися и обремененнии… (Мф.11:28).
Так было во все дни земной жизни Христа. Так было и тогда, когда Христос вошел в Капернаум, — о чем повествует нам сегодняшнее литургийное евангельское повествование.
Однажды пришел Иисус в Капернаум. Не один раз здесь бывал Христос. Не один раз жители города испытывали на себе действие любви Божией, получая всякого рода исцеления. Весть о пришествии Господа быстро разнеслась по всему городу, и толпы народа устремились к Нему. Дом, в котором остановился Христос, наполнился людьми. По замечанию святого евангелиста, не было свободного места даже у дверей. Несмотря на многолюдство, в доме царила полная тишина. Здесь не было слышно ни шепота, ни разговора. Внимание всех сосредоточилось на слушании слова Божия. Среди этой тишины был слышен нежный голос Христа. Люди внимали Ему, боясь пропустить хотя бы одно слово. Но вдруг тишина нарушилась: на кровле дома послышался какой-то шум. Разобрали кровлю и через нее спустили больного прямо к пречистым ногам Спасителя. Полуживой, полумертвый, он лежал на носилках, не в силах произвести какое-либо движение, он ослаблен всем своим телом, он не в состоянии открыть уста и просить у Христа помощи, но глаза его, устремленные на Христа, красноречивее всяких слов просят помочь ему. Сердцеведец Господь видел веру больного и тех, которые опустили его сюда. И, видя веру их, Он говорит больному: «Чадо! Прощаются тебе грехи твои…» (Мк.2:5).
Таково, дорогие братья и сестры, содержание сегодняшнего евангельского чтения. Что поучительного и назидательного мы почерпнем для себя?
Прежде всего, подобно современникам земной жизни Христа, пробудим в себе жажду слышания слова Божия. Как часто бывает в нашей жизни, что среди ежедневных трудов и забот нам некогда прийти в храм Божий, где проповедуется слово Христа, нам некогда и дома взять в руки Его спасительное слово. Осуетились мы с вами, погрязли в тине грехов и беззаконий, утопаем в повседневной суете. И слышится нам предостерегающий голос Спасителя: «Марфо, Марфо, печешися и молвиши о мнозем; едино же есть на потребу. Мария же благую часть избра» (Лк.10:41). Не будем же лишать себя этой благой части. Будем и мы стараться слышать слово Божие и исполнять его. В нем мы найдем ответы на волнующие нас вопросы своей жизни. Постигнет ли нас какая-нибудь скорбь и болезнь — слово Божие нас утешит и научит, что все от Бога, что кого любит Бог, того и наказывает, что причина всякой скорби и болезни в нас самих — в грехах наших.
Прежде чем исцелить расслабленного, Христос сказал: «Чадо! Прощаются тебе грехи твои, — а с отпущением грехов и исцелил его, сказав: — Встань, возьми постель твою и ходи» (Мф.9:6). Будем же и мы чаше приступать к Святому Таинству Покаяния, в котором через духовника Сам Господь прощает нам грехи. Используем же для сего спасительное время поста. «Се, ныне время благоприятное, се, ныне день спасения». Мы с вами тоже расслабленные — расслабленные и телом, и душой. И если так, то, подобно капернаумскому расслабленному, возведем свои умоляющие взоры ко Христу, да получим от Него отпущение грехов своих, преложение скорбей наших на радость, да совершим течение поста и сподобимся поклониться Страстям Его и Святому Воскресению. Аминь.
Кресту Твоему поклоняемся, Владыко
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Вместе со всей Церковью Христовой мы сегодня поклоняемся Кресту Владычнему и Святое Воскресение Его славим. Чадолюбивая Мать наша — Церковь, заботясь о нашем спасении, предлагает сегодня нашему чествованию и поклонению Святой Крест. Чтобы ободрить в дни Великого поста, чтобы вдохнуть стремление к дальнейшим подвигам, чтобы укрепить наши телесные и душевные силы, она зовет нас к Кресту Господню. Пред нами Святой Крест, на нем — измученный, окровавленный Божественный Страдалец. Когда мы взираем на преблаженное древо Креста, нам вспоминается то далекое время, когда озверевшая толпа привела Его к Пилату. Народ кричал, требовал осуждения на смерть
Того, Кто ради него оставил недра Отчии и сошел на землю в образе раба. Кто жил на земле, как нищий, как бесприютный странник, не имеющий где главы подклонити. Народ требовал у Пилата осуждения на смерть Того, Кто принес на землю закон и правосудие, Кто никому никакого зла не сделал, Кто всех любил и всех прощал. «За что судить Его?» — вопрошал Пилат. Но зверские крики: «Распни, распни Его», — заглушали голос Пилата, и, уступая требованию толпы, Пилат осудил на смерть Неповинного — Христа.
«…Я неся Крест Свой, — замечает святое Евангелие, — изыде на Лобное место, еже глаголется по-еврейски Голгофа» (Мф.27:33). Здесь, на Голгофе, среди крестных страданий и мучений сомкнул Христос Свои очи, закрыл уста, возвещающие всему миру любовь и всепрощение.
От убогих вифлеемских яслей до позорной страшной Голгофы Христос нес на Своих пречистых раменах Крест. И этот Крест он завещал всем Своим последователям: «Аще кто хощет по Мне идти…» (Мф.16:24).
Путь следования за Христом — путь Креста и самоотвержения, и другого пути нет. Не радость, не веселие завешал Божественный Учитель Своим ученикам, а в лиде их и нам, но скорби и печали, из которых состоит жизнь. В мире скорбни будете (Ин.16:33). Будете ненавидимы всеми. Если бы вы были от мира, мир бы любил вас, но так как вы не от мира, то мир ненавидит вас. Поминайте Слово Мое…
Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы (Мф.11:28). Так звал к Себе во время Своей земной жизни Божественный Учитель, Господь наш Иисус Христос. Он звал к Себе труждающихся и обремененных, Он звал к Себе несчастных и обездоленных, Он звал к Себе всех тружеников и страдальцев земли. Его Божественный голос проникал в человеческие души, потрясал умы и влек к Нему сердца людей. Они отзывались на этот голос, шли ко Христу, несли к Нему свое горе, несчастье, скорби, страдания и болезни. Любовь, которая сияла на пречистом лике Христа, горела в Его очах, — любовь, которая исходила при всяком дыхании Его. Эта Божественная любовь согревала всех приходящих к Нему, проникала в сердце, вносила покой в душу. И, забывая обо всем, эти люди обретали мир и покой. Приидите ко Мне! Приидите ко Мне еси труждающиися и обремененный… Возьмите иго Мое на себе и научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим (Мф.11:28–29). Так зовет и нас с вами, дорогие братья и сестры, Христос, обещая дать покой душам нашим.
Покой души — какое это счастье для человека. Что может быть в жизни нашей дороже этого покоя?! Можно иметь полное жизненное довольство, можно иметь в пользовании все удобства жизни, все блага мира сего, можно считать себя счастливым в семейной и общественной жизни, но если на душе не будет покоя, то, увы, счастье наше будет далеко не совершенным. Можно ли назвать истинным счастьем то, что временно и скоропреходяще? Сегодня мы в славе и почете, а завтра можем быть в презрении и поношении. Сегодня кричим «осанна», а завтра — «распни», сегодня мы в силе и здравии, завтра — в немощах и болезнях, сегодня мы живем, а завтра пелена смерти может затянуть наши глаза, и гроб станет нашим последним достоянием здесь, на земле. Так призрачно, так суетно то, что в мирском понимании принято называть счастьем. Не к такому счастью зовет нас Христос. Приидите ко Мне еси труждающиися и обремененный и обрящете покой душам вашим. Христос зовет нас, обешая дать покой нашим душам. Отзовемся на это приглашение Христа. Пойдем ко Христу. Пойдем, пока еще не поздно, пойдем, пока еще не ушло время нашего обращения ко Христу, пока еще слышится Его любвеобильнейший голос, обещающий покой душам нашим.
Кто из нас не нуждается в этом покое души? Он, Милосердный, зовет нас к Себе немногими радостями и обильными скорбями, посылаемыми нам. Нам приходится переносить всякие жизненные испытания, и в них мы должны слышать голос Божий, призывающий нас. В жизни нашей бывает так: муж лишается жены — самого верного, самого надежного друга в жизни. Несчастный страдающий брат! Эго зовет тебя Христос. Иди к Нему. Он утешит тебя, Он даст тебе покой души. Жена теряет мужа — жизненную опору свою, кормильца детей своих. Несчастная вдова! Эго зовет тебя Христос. Иди к Нему. У Него обрящешь покой душе своей. Смерть уносит в могилу дорогих и близких нам людей. В жизни нашей часто скорбь тяжелым камнем ложится на сердце, слезы льются из очей наших, руки опускаются. Мы теряемся, готовы впасть в уныние. Но среди этой глубокой, беспросветной скорби, как светлый луч надежды, озаряет нас Христос и слышится голос Его: «Приидите ко Мне… и Аз упокою вы».
Лучшим примером такого обращения ко Христу, следования за Ним да послужат для нас святые первоверховные апостолы Петр и Павел. «Идите за Мной» (Ин.1:43), — воззвал некогда Пастыреначальник Христос, когда проходил по берегам Галилейского моря, к Симону (Петру) и брату его Андрею. И оставив все: и сети, и обычное свое занятие, и, больше того, дом и семейство — они пошли за Христом. И поистине обрели покой своим душам.
«Савле, Савле, что Мя гониши?» (Деян.9:4) воззвал Христос некогда к гонителю Своему Савлу (впоследствии же великому апостолу Павлу). «Господи! Что повелишь мне делать?» (Деян.9:6) — был вопрос со стороны Савла. И, придя ко Христу, этот жестокий гонитель Христа стал великим апостолом Павлом. И его высокая душа во Христе обрела покой. Ища этого покоя для души, и мы, уже измученные, исстрадавшиеся и усталые на жизненном пути, пойдем ко Христу. Он согреет нас Своей любовью, Он утешит нас, Он простит все вины наши пред Ним, Он забудет все оскорбления, какие так часто мы наносим Ему, Он вернет нам Свое благоволение, и в лоне бесконечной любви мы обрящем покой душам нашим. Аминь.
В праздник первоверховных апостолов Петра и Павла
Ищите прежде Царствия Божия и правды Его.
(Мф.6:33).
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Ищите прежде Царствия Божия и правды Его — такую заповедь дает нам Божественный Учитель, Господь Иисус Христос, как вы слышали в только что прочитанном евангельском чтении. Искание Царства Божия и правды Его должно быть основной целью нашего земного бытия, то есть всей нашей земной жизни. Милосердный Господь сотворил окружающий нас мир, Он сотворил и нас с вами, Он сделал нас участниками мирского блаженства. Он воззвал нас из небытия в бытие, Он дал нам жизнь, которой дорожит каждый из нас. Но для чего мы с вами живем? Для того ли только, чтобы заботиться, что нам есть и что пить, во что одеться? Нет, не для того. Не заботьтесь об этом. Господь говорит нам в сегодняшнем евангельском чтении: «Душа не больше ли пищи и тело одежды? Не заботьтесь и не говорите: что нам есть, или пить, или во что одеться? Потому что всего этого ищут язычники и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам». Этими словами Господь не запрещает нам трудиться, ибо Он любит и благословляет наши труды, ибо заповедал: в поте лица твоего снеси хлеб твой. Но наши труды, наши заботы о телесных потребностях не должны превышать забот и трудов о спасении наших душ, о искании Царства Божия и правды Его. Если в поте лица мы должны трудиться ради куска насущного хлеба, то не менее нужно приложить трудов для достижения Царства Божия и правды Его.
Многими скорбями нам подобает внити в Царствие Божие. Но как мы должны их переносить? А вот как. В сегодняшнем апостольском чтении апостол Павел говорит: «Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения — опытность, от опытности — надежда, а надежда не постыжает…» (Рим.5:3–5).
Не страшиться мы должны скорбей, не бояться их, не смущаться ими, но, по слову апостола, хвалиться ими — радоваться. И это не просто слова апостола, которые он сказал от лица прочих апостолов. Нет. Такими святые апостолы были на словах, такими же были и в жизни. Лучшим доказательством сего да послужит для нас жизнь ныне прославляемых Святой Церковью первоверховных апостолов Петра и Павла. Воспроизведем же в своей памяти их земную жизнь и почерпнем для себя урок назидания.
Апостол Петр до призвания к апостольскому служению был простым галилейским рыбаком. Он мирно трудился со своим братом Андреем над ловлей рыб. У берегов Галилейского озера они и услышали Божественный голос, призывающий их: «Идите за Мной» (Ин.1:43). И тотчас, все оставив, они пошли за Христом. Если мы проследим евангельскую историю, то увидим, что апостол Петр был свидетелем самых важных евангельских событий.
Бушует море. Вздымаются волны. Ветер из стороны в сторону бросает лодку, в которой плывут ученики и апостолы Христовы. Кажется, их гибель среди волнующегося моря неминуема. Но вот, быть может уже в последнюю минуту, они видят Своего Божественного Учителя, идущего к ним по волнам моря. Страх объял их. Глазам их не верится, что это Он, их Учитель и Господь, идет к ним, чтобы спасти от потопления. И от страха вскричали они. Но Иисус… сказал: «Ободритесь; это Я…» «Господи! Если это Ты, повели мне придти к Тебе по воде», — восклицает апостол Петр. «Иди», — слышит он ответ из пречистых уст Спасителя. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи, спаси меня! Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?» (Мф.14:27–31).
Апостол Петр вместе с другими избранными учениками, Иоанном и Иаковом, присутствовал при воскрешении Господом дочери Иаира (Мк.5:22, Лк.8:41). Он вместе с теми же апостолами был с Господом на Фаворе в минуты Его преславного Преображения…
В продолжение всего Своего земного служения Божественный Учитель подготовлял учеников к встрече Своих грядущих крестных страданий. Незадолго до Своего Преображения Он вопрошал апостолов, как повествует нам сегодняшнее второе евангельское чтение: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Симон Петр первый ответил: «Ты — Христос, Сын Бога Живаго». Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на Небесах; и Я говорю тебе: ты — Петр (камень), и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф.16:13,16–18).
Но вот приблизилось и самое время крестных страданий Спасителя. Он совершает последнюю Тайную вечерю с учениками Своими…
Господь подходит к Симону Петру, чтобы омыть ему ноги. Симон Петр недоумевает, как может Господь омыть его ноги. «Господи! Тебе ли умывать мои ноги?» Иисус кротко отвечает: «Что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Нет. Петр не может примириться с тем, чтобы Господь омыл его ноги: «Неумоешь ног моих вовек». Снова слышится тихий голос Учителя: «Если не умою тебя, не имеешь части со Мною». Любовь и послушание побеждают Петрово недоумение, и Он громко восклицает: «Господи! Не только ноги мои, но и руки и голову» (Ин.13:6–9).
В прощальной Своей беседе Христос говорил: «Вот, наступает час и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и Меня оставите одного; но Я не один, потому что Отец со Мною. Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада» (Ин.16:32, Мф.26:31). В порыве любви и преданности Петр восклицает: «Хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. Господи! с Тобою я готов и в темницу, и на смерть идти. Я душу мою положу за Тебя» (Мф.26:35, Лк.22:33, Ин.13:37).
Так искренно, так чистосердечно, так трогательно уверял апостол Петр в своей всегдашней верности Ему. Но, увы! Мы знаем, что случилось с ним, когда Христос, преданный в руки людей, как грешник, свяанный и поруганный, находился во дворе архиерейском. Тот самый Петр, уверявший Христа в готовности положить за Него душу свою, идти за Ним и в темницу, и на смерть, тот Петр, который в Гефсиманском саду поднял меч, чтобы защищать Христа, здесь, в архиерейском дворе, когда Христос нуждался в любви Петра, трижды позорно отрекся от Него. С третьим отречением Петра запел петух. Тогда, по замечанию святого евангелиста, Господь, обернувшись, взглянул на Петра. Сколько любви и всепрощения увидел Петр в этом взгляде Своего Учителя! Этот взгляд проник в самые сокровенные тайники души отвергшегося ученика… Никого не замечая, не чувствуя под собой земли, Петр вышел с архиерейского двора и горько заплакал. Сугубым, искренним было раскаяние Петра, и Господь принял его. «Симоне Ионин, любиши ли Мя?» — таким троекратным вопрошением и ответным: «Ей, Господи! Ты вся веси (все знаешь), Ты знаешь, что я люблю Тебя» (Ин.21:15–17) — Петр был восстановлен в апостольском достоинстве и после призвания: «Иди за Мной» — пошел и никогда, никогда больше не оставлял Своего Учителя и Господа. И эту преданность Ему, свою любовь и верность апостол Петр засвидетельствовал своей мученической кончиной, будучи распятым на кресте, и даже — по собственному желанию — вниз головой, так как считал себя недостойным быть распятым так, как был распят его Божественный Учитель.
Те же преданность, любовь и верность Христу засвидетельствовал апостольскими трудами, всей своей жизнью и мученической кончиной и святой апостол Павел.
Апостол Павел, или — до своего обращения ко Христу — Савл, был жестоким и лютым гонителем христиан. Строгий ревнитель отеческих преданий, фарисей по вероучению, ученик известного учителя Гамалиила и, в то же время, человек высоких душевных качеств, он в порыве душевного ослепления жестоко преследовал христиан. Ему ненавистно было имя Христа; он гнал Его, он ненавидел Его последователей. Нередко он врывался в их дома и тащил их на суд и мучения… Но на пути его в Дамаск случилось с ним то, чего ни он сам и никто из знавших его не могли ожидать (Деян.9:1–20). Здесь, в Дамаске, по соизволению Божию он был крещен святым апостолом Ананией. Прозрев телесно и духовно, он из жестокого гонителя Христа сделался Его кротким учеником… Теперь он взял в руки святое Евангелие и понес его в мир, не страшась сильных мира сего, мужественно преодолевая все преграды на пути сем, пренебрегая своим земным благополучием и самой жизнью.
В апостольской проповеди апостол Павел потрудился более всех апостолов, как он сам свидетельствует: «Благодатию Божией есмь, еже есмь, и благодать Его, яже во мне, не тща бысть, но паче всех потрудихся» (1Кор.15:10).
Словом своей проповеди апостол Павел обращал ко Христу целые народы, устрояя Церкви Божии, насаждая веру. Апостолу Павлу принадлежат четырнадцать апостольских посланий, которые читаются за Божественной литургией.
Нелегка была эта проповедь для апостола Павла. Она сопровождалась многими скорбями. По его собственному признанию, он переносил беды в реках, беды от разбойник, беды от сродник, беды от язык, беды во градех, беды в пустыни, беды в мори, беды во лжебратии. «Я гораздо более (других апостолов) был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской» (2Кор.11:26,23–25). Таким скорбным, узким, тернистым путем великий апостол Павел искал на земле Царства Божия. И еще будучи во плоти, поистине нашел его: «Знаю человека во Христе…» (2Кор.12:2–5).
Великий Павел, при всей высоте своего апостольского достоинства, не скрывал свои немощи, говоря: «И чтоб я не превозносился…»
В мрачном подземелье римской темницы апостол Павел провел последние дни своей земной жизни… На холодном полу тюрьмы лежал великий труженик Евангелия. За всю свою многотрудную жизнь он не сберег никакого для себя достояния. Плащ и кожаные книги, которые по его просьбе доставил в темницу его ученик, святой апостол Тимофей, — вот все его достояние. И теперь, проводя долгое время в тюрьме, он плащом прикрывал свое уже больное тело, изможденное и исхудалое, а душу свою питал словесами этой «кожаной книги». «Все меня оставили!— с болью сердца писал святой апостол Павел ученику своему Тимофею из римской темницы. — Один Лука со мною» (2Тим.4:16,10). Только святой Лука, составитель Деяний апостольских и одного из Евангелий, делил с апостолом языков, Павлом, его предсмертные дни и часы. Апостол Лука был и живописцем, и врачом. И, как врач, может быть, он утолял телесные болезни своего умирающего в темнице друга и учителя. А, как друг, облегчал его душевные скорби, которые, несомненно, тяготили душу великого Павла, ожидающего вынесения ему приговора. Этот приговор святой узник встретил мужественно, со свойственным ему спокойствием.
Еще до уз своих этот неутомимый проповедник евангельской истины мужественно свидетельствовал: «Я не только хочу быть связанным за Христа, но и хочу умереть за Него» (1Кор.9:15). Теперь желание его исполнилось. Как римский гражданин, святой апостол Павел был осужден на усечение мечом. Приведенный на место казни, он мужественно взглянул в глаза своей смерти. В последний раз он склонил свои больные колени, поднял прощальные взоры к Небу, излил предсмертную молитву к Богу за себя и за мир и преклонил под меч свою святую главу. Один удар палача — и погасла жизнь великого человека, великого учителя, великого проповедника — великого Павла! Окончилась его многотрудная, многоскорбная жизнь, и он спокойно перешел в вечность — в Царство Божие, которого искал здесь, на земле, прежде всего.
Такова была жизнь ныне прославляемых Святой Церковью святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Церковь Христова называет их первоверховными за их преимущественные труды в деле распространения веры Христовой. Прошли века с тех пор, как они жили здесь, на земле, но память о них жива. Из глубины этих веков они смотрят на нас и зовут нас следовать за ними, подражать их вере, любви и преданности Господу. «О сильнии! — воззовем к нашим небесным покровителям, святым апостолам Петру и Павлу. — Понесите наши немощи. Мы слабы, мы немощны, мы не способны к тем трудам, какие понесли вы, живя на земле, ради Христа и Его Святой Церкви. Но услышите воздыхания чад ваших, помогите нам в искании Царства Божия, да преодолеем все трудности сего искания и, достигнув желанной цели, вместе с вами будем участниками брака Агнца Божия, Ему же честь и поклонение во веки веков. Аминь».
Переписка
Отец Серафим пользовался любовью у пастырей и архипастырей. Тогда было время негласных наблюдений за всеми, кто бывал у старца, но, несмотря на это, многие архипастыри приезжали в Ракитное. Внук Дмитрий вспоминает: «Приехал я в Ракитное, а у дедушки, в его маленькой приемной, в келии, ожидают десять владык. Такое соборное посещение преосвященных архипастырей я видел впервые».
Пастыри и архипастыри любили батюшку, относились к нему с благоговением, многие нуждались в его духовных беседах. Однажды к батюшке подошел приезжий мужчина. Взяв благословение, он сказал: «Отец Серафим, благословите владыку к вам на прием». Батюшка со смирением произнес: «Передайте владыке, в любое для него удобное время пусть приходит». Я не помню имени владыки, но прибыл он издалека.
В разное время отца Серафима посещали митрополиты: Серафим (Никитин), Леонид (Поляков), Никодим (Руснак), Леонтий (Бондарь), Хризостом (Мартишкин), Антоний (Вакарик), архиепископы: Николай (Бычковский), Мелитон (Соловьев), его духовные чада, будущие митрополиты: Мефодий (Немцов), Евсевий (Саввин), Антоний (Фиалко), будущие архиепископы: Евлогий (Смирнов), Пантелеймон (Долганов), Александр (Кудряшов), Вадим (Лазебный), Сергий (Генсицкий), Димитрий (Капапин), Димитрий (Дроздов), Иннокентий (Васильев), Алексий (Фролов) и будущие епископы Алипий (Погребняк), Глеб (Савин,t2000) и Анатолий (Аксенов). Несмотря на всю свою занятость, архипастыри находили время, чтобы приехать и разделить радость общения с батюшкой и засвидетельствовать ему свои уважение, почитание и любовь.
Духовный сын отца Серафима, схиархимандрит Власий (Перегонцев) рассказывал, что в разное время тридцать восемь архипастырей предлагали отцу Серафиму переехать к ним и быть духовником их епархий. Старец смиренно отказывался и оставался вместе с Богом данной ему паствой до конца.
Бывали и насельники Троице-Сергиевой лавры: архимандриты Кирилл, Феодор, Трифон, Алипий, Илия, игумены Михей, Виссарион, Платон, Арсений, Мануил.
Трогательной была переписка отца Серафима с митрополитом Рижским и Латвийским Леонидом, архиепископом Ярославским и Ростовским Михеем (Хархаровым) и архиепископом Пермским и Соликамским Николаем. Они глубоко почитали и любили старца. В 1980 году, когда батюшка заболел, его духовный сын архиепископ Николай, будучи в преклонном возрасте (87 лет), сам больной, приехал за год до своей кончины в Ракитное и жил у отца Серафима две недели. «Теперь я за вами буду ухаживать», — говорил он. Ко дню Ангела батюшки Святейший Патриарх Пимен присылал ему поздравления. Будучи митрополитом Крутицким и Коломенским, он исповедовался у него.
На восемь лет пережил своего духовного отца владыка Леонид, их связывала двадцатидвухлетняя братская дружба и молитвенное общение. Владыка Леонид не был на погребении своего духовного отца, но он плакал и глубоко скорбел о столь дорогой утрате и личной для него потере.
Ниже приводим текст нескольких телеграмм, писем, почтовых открыток, поздравлений от пастырей и архипастырей — духовных чад отца Серафима, текст двух телеграмм и отрывки из копий д вух писем батюшки (отправленных в конце 70-х годов), сохранившихся в архиве отца Серафима.
«Отцу настоятелю Николаевской церкви, что в селе Ракитное Белгородской области, игумену Серафиму (Тяпочкину)
На представленной Вами записи Вашей проповеди в Неделю блудного сына, его Преосвященство епископ Серафим наложил резолюцию: «Прекрасная проповедь. Спаси Вас Господь! Может быть, лучше тексты Священного Писания употреблять на русском языке, чтобы они были больше понятны верующим?»
Секретарь епископа Курского и Белгородского, прот. А. Сабынин. 6 апреля 1965 г.
«Христос Воскресе!
Сердечно поздравляю со светлым праздником Святой Пасхи и желаю от воскресшего Христа Его великих милостей.
С любовью, архиепископ Курский и Белгородский Серафим[67]. 1971 г.»
«Телеграмма ваша получена, надеюсь посетить ваш приход весной. Приветствую престольным праздником. Вам, церковному совету, прихожанам преподаю архипастырское благословение».
Серафим, архиепископ Курский и Белгородский».
«Христос Воскресе!
Ваше письмо, глубокочтимый отец Серафим, получено. Беспокоимся о Вашем здоровье. Берегите себя.
Приветствую всех Ваших близких. Да хранит Вас Господь от всякого зла!
С неизменной любовью, архиепископ Леонид[68]».
7. V1971 г.
«Большое Вам спасибо, глубокоуважаемый и дорогой отец Серафим, за память и поздравление матери Таисии. Она болеет, с большим нетерпением ожидаем Вашего приезда в Ригу. Приветствую мать Иоасафу и Ваших близких.
С глубоким уважением и искренней любовью к Вам;
архиепископ Леонид. 4. VII. 1971 г.»
«Досточтимый и зело возлюбленный о Господе отец Серафим!
Христос Воскресе!
Сердечно поздравляю Вас с светлым Христовым Воскресением, неиссякаемым источником вечной жизни и духовной радости. Воистину Христос Воскресе.
С неизменной любовью,
Леониду архиепископ Рижский и Латвийский.
Пасха Христова; 1972 г.»
«Сердечно поздравляю Патриаршей наградой служения при открытых вратах. Отца Григория наперсным крестом, который благословляю ему носить.
Христос Воскресе!
С любовью, епископ Николай. 1972 г.»
«Дорогой мой и милый духовный отец, всечестнейший отец архимандрит! Христос Воскресе!
От души приветствую Вас с великим Днем Светлого Христова Воскресения. Молитвенно желаю от щедрот Воскресшего Жизнодавца Господа многолетнего здоровья и душевного мира, духовной радости, бодрости духа.
В этот светлый торжественный праздник Христова Воскресения приношу Вам свое пасхальное целование и радостно восклицаю: «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!»
Примите мою нежнейшую любовь и архипастырское благословение.
Епископ Николай[69]. Пасха Христова, 1972 г.»
P.S. Поздравляю Ваших домочадцев и шлю им свое благословение.
«Глубокочтимый, незабвенный и дорогой батюшка!
Примите мое сердечное пасхальное приветствие: Христос Воскресе! — и молитвенные пожелания отменного здоровья и нескончаемой радости о Христе Воскресшем. Прошу передать мое поздравление матушке и маме.
С неизменной сыновней преданностью, с любовью Ваш иеромонах Вадим[70]».
«Ваше Высокопреподобие,
Христос Воскресе!
Приветствую Вас с великим праздником Святой Христовой Пасхи.
Славное и победное Христово Воскресение да озарит путь нашей веры и надежды во всеобщее Воскресение. Радость же вечная в Царстве Христовом да будет уделом для всех нас!
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Да пребудет благословение Воскресшего Христа на вашей святыне.
Николай, архиепископ Пермский и Соликамский.
Пасха Христова, 1979 г., г. Пермь».
«Глубокочтимый и зело возлюбленный о Господе отец Серафим!
Рад был получить весточку от Вас: беспокоит состояние Вашего здоровья.
Приступили к ремонту верхнего храма, служим внизу. Прошу, берегите себя. Ограничьте прием духовных чад. Да хранит Вас милость Божия. Призываю на Вас Божие благословение.
С неизменной любовью, с глубоким уважением к Вам, митрополит Леонид».
«Возлюбленный о Господе отец Серафим, Христос Воскресе!
Примите, Ваше Высокопреподобие, мое пасхальное поздравление как свидетельство братской любви о Христе Воскресшем, принесшем миру торжество Воскресения и надежду благ вечных.
В свете его Преславного Воскресения да будет наше служение Святой Церкви и друг другу преисполнено миром и благодатной радостью, дабы дать миру святое свидетельство любви и правды верных последователей Христа Жизнодавца. Воистину Христос Воскресе!
С братской во Христе любовью и прошу ваших святых молитв.
Никодим, митрополит Харьковский и Богодуховский[71]».
Пасха Христова, 1979 г., г. Харьков».
«Ваше Высокопреподобие, всечестной батюшка отец архимандрит Серафим!
Братия Вас приветствует, и я выражаю Вам мое искреннее соучастие в Вашем болезненном испытании. Все мы и лично я молимся о Вашем здоровье. Очень сожалеем, что Вы пока не имеете возможности навестить нас, надеемся на дальнейшее, дай Бог!
Смиренно прошу Ваших святых молитв.
С любовью во Христе отец Таврион (Батовский)».
«Дорогой отец Серафим!
Взаимно поздравляю с праздником Рождества Христова и Новолетием, шлю добрые пожелания и благословение. Матушка Феодора благодарит за иконочку и память. Самые благие Вам пожелания.
Митрополит Сергий (Петров)[72]».
«Его Высокопреподобию, досточтимому отцу архимандриту Серафиму.
Христос Воскресе! Ваше Высокопреподобие отец архимандрит Серафим!
В день всерадостного и светлого Воскресения Христова примите сердечное лобызание и пасхальное поздравление с утверждающим Вечную Жизнь праздником Воскресения Христова.
Молитвенно желаю Вашему Высокопреподобию богатых и щедрых милостей Божиих в Ваших трудах на благо Святой Церкви. Прошу святых молитв.
С неизменной о Христе любовью, архимандрит Евсевий (Саввин)[73].
Троице-Сергиева лавра. 1979 г.»
«Дорогого незабвенного духовного отца приветствую наступающим постом. Усердно прошу прощения, святых молитв. Преклоняя колена, сыновне лобызаю.
Преданный любящий сын духовный, архиепископ Николай (Пермский и Соликамский)».
«Ваше Высокопреподобие, дорогой отец архимандрит Серафим!
Христос Воскресе!
Ныне вся исполняется света, небо же и земля, и преисподняя, да празднует убо вся тварь востание Христа.
Торжествует, ликует и радуется Церковь Православная, духовно празднуя светозарный день воскресшего из мертвых Христа Жизнодавца, принесшего нам залог нашего бессмертия и открывшего путь к Вечной Жизни в союзе праведности, любви и мира.
В сей нареченный и святый день сердечно поздравляю Вас с великим праздником Воскресения Христова! Пусть восставший из мертвых Начальник жизни Христос, неизреченно милостивый и щедрый, наполнит Ваше сердце лучезарной пасхальной радостью и укрепит Ваши духовные и телесные силы на дальнейшее служение Господу во благо Русской Православной Церкви. Примите мое братское пасхальное целование.
Неизменно пребывая с братской о Воскресшем Христе любовию и глубоким уважением, прошу Ваших святых молитв.
Варнава, архиепископ Чебоксарский и Чувашский[74]»
Пасха Христова,
1980 год, г. Чебоксары».
«Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Серафим! Простите меня, что не поблагодарил Вас за поздравление меня с Пасхой Господней. Спасибо Вам за Ваши святые молитвы, взаимно и я молюсь. Осенью, надеюсь, увидимся. Привет матери Иоасафе и другим. Целую.
Любящий архиепископ Мелитон[75].
- VI. 1980 г.»
«Дорогой отец Серафим!
Благодарю Вас за память. Взаимно прошу прощения, святых молитв и желаю вам подвигом добрым подвизаться в дни Великого поста и в радости духовной, телесной встретить Христово Воскресение.
С неизменной сыновней о Господе любовью, архиепископ Хризостом[76]»
«Дорогому и любимому отцу нашему Серафиму, настоятелю Свято-Николаевской церкви в селе Ракитное.
Скучаю по вашей духовной ласке, в которой всегда ощущаю любовь Божию к нам, недостойным виноградарям на ниве церковной. Вспоминаю и не забываю в своих скромных молитвах Ваше святое имя и радуюсь за Ваши успехи в деле спасения душ. Кому ни расскажу о Вашей святыне, то все хотят повидать и получить Ваше благословение. На этих днях обратилась ко мне раба Божия, великая труженица, которая во всем помогает ради Церкви Христовой, и я, видя ее желание поехать к Вам, дал свое благословение, дабы она смогла прикоснуться к Вашей святой деснице и тем самым принести и мне радостную весть. Я нуждаюсь в Вашем молитвенном и духовном подкреплении. Имя рабы Божией — Параскева.
Есть у нас также молитвенник и подвижник, который тоже хотел бы Вас повидать, дорогой отец Серафим, но он тоже очень слабенький — отец схиархимандрит Никифор. Мне лично выпало счастье постричь его в схиму. Он уже поминает в молитвах Ваше святое имя и хотел бы повидаться с Вами. Отцу Никифору 86 лет.
Благодарю Господа, нашего Пастыреначальника, за Его святую милость ко мне, грешному, что даровал мне счастье знать и видеть Ваше Высокопреподобие и иметь с Вами общение в любви Христовой.
Желаю Вам, мой дорогой отец Серафим, великих щедрот и милостей от Господа нашего Иисуса Христа и Его благодатной помощи в Ваших спасительных трудах ради спасения наших душ в Царствии Божием.
Призри с небесе, Боже, и виждь, и посети виноград сей, и утверди и егоже насади десница Твоя!
Да укрепит Вас Господь, дорогой отец архимандрит.
С величайшей и горячей любовью к Вам и Вашим духовным чадам.
Приветствую и благословляю матушку Иоасафу.
Искренне Ваш, архиепископ Антоний[77]».
«Милый, дорогой, глубоковозлюбленный наш отец! Все мы сердечно поздравляем Вас с Вербным Воскресеньем и от всей души желаем, родненький наш папочка, чтобы и Вас так бы встречали везде и всюду, устилая Вашу светлую дорогу вербами и цветами, и на этом свете и в Вечной Жизни.
Милый папочка, Вы и так знаете, что Вы единственная наша опора, спасение, исцеление, укрепление и утешение! Ваша теплота согревает наши грешные души! Простите, простите ради Христа за все! Лобызаем Ваши натруженные святые ножечки. Сердечные поздравления матери Иоасафе.
Ваши духовные дети».
Телеграммы отца Серафима
Владыке Леониду (Полякову).
«Дорогой незабвенный Владыко. Сердечно благодарю за внимание. Простите. Состояние здоровья таково: праздники прошли благополучно, в понедельник свалился. После высокого давления — пониженное. Сейчас дома. Креплюсь ко Дню Ангела, к архиерейскому служению. Прошу святительских Ваших молитв. После праздника обстоятельно напишу.
Все просим благословения с глубокой сыновней преданностью. Искренне преданный, благодарный архимандрит Серафим».
Владыке Хризостому (Мартышкину).
«Ваше Высокопреосвященство, дорогой незабвенный Владыко!
Сердечно благодарю за утешение, радость. После праздничной усталости снова утешусь всей полнотой радости высшего наслаждения молитвенного общения с Вами. Глубоко преданный, искренне почитающий архимандрит Серафим».
Письма архимандрита Серафима
Архиепископу Курскому и Белгородскому Хризостому.
«Ваши беседы я слагаю в сердце своем. Наедине, вникая в них, извлекаю для себя уроки назидания. Последняя такая беседа была кратенькая, при участии отца архимандрита Геннадия. Был поднят вопрос о принятии мной схимы. Размышляя о сем высшем духовном подвиге, благоговея пред ним и соразмеряя свои и душевные, и телесные силы, пред собой поставил вопрос: смогу ли достойно понести сей подвиг? Сознавая свое недостоинство, я пришел к решению: с благодарностью Вашему Преосвященству свято хранить в сердце преподанное Вами святительское благословение на принятие мной схимы до времени, когда почувствую потребность и решимость на сей подвиг. Как всегда, так и в сем полагаюсь на волю Божию».
Из письма архимандрита Серафима владыке Леониду (Полякову).
«Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященный дорогой, родной, зело любимый и незабвенный Владыко!
Неизреченная радость наполнила мое сердце, когда, прочитав Вашу открытку, я узнал о Вашем намерении посетить мое недостоинство.
Дорогой Владыко! «Откуда это мне?!» Неужели это возможно?! Неужели удостоен я буду сего?!
Преклоняюсь пред Вашим смирением и снисхождением к моему недостоинству и прошу удостоить меня сей чести Вашего посещения.
Вы спрашиваете, как добраться из Харькова в Готню? Вопрос этот легко разрешим. В Харькове Вас встретит матушка Иоасафа, будет подана автомашина, которой Вы и прибудете на наше подворье в Готне.
Прошу, родной Владыко, сообщите заблаговременно, когда в Харькове Вас встретить и где на аэродроме».
Часть VI. Проповеди и публикации, посвященные отцу Серафиму
Слово ко дню Ангела отца Серафима, произнесенное Александром Макрицким[78] 2/15 января 1979 года в Ракитном.
«Дорогой наш батюшка, отец Серафим! Смиренно сознавая свое недостоинство, разрешите мне от имени Ваших духовных чад и всех прибывших на торжественное богослужение по случаю прославления Вашего небесного покровителя преподобного Серафима Саровского выразить Вам признательность за Ваше высокое пастырское служение. Мы благодарим Господа за то, что по великой Своей милости, Он сподобил нас быть под Вашим духовным окормлением.
На церковной тверди есть много светильников, и все они светят разным светом. Есть пастыри-вожди, жизнь которых в борьбе. Есть пастыри-строители, какими были Петр и Алексий, святители Московские, собиратели Русской земли и Церкви. Но есть пастыри иного рода, кипучая деятельность не дана им в удел. Их задача как будто только в том, чтобы отразить в себе одно свойство Христово, один луч Его Божественного света — тот луч о котором сказал пророк Исаия, говоря о Христе: «Он льна курящего не угасит, трости надломленной не сокрушит, и никто не услышит Его голоса на стогнах града». Вы, отец Серафим, относитесь к пастырям последнего рода, вам дано в удел подражать именно кротости Христовой, дано воплотить в себе кроткого Иисуса. Вы служите Богу и Церкви Его всем разумением, всею душою своею благовествуя и утверждая на земле любовь, единство и мир. Вы не только сохранили данный Вам талант, но и приумножили его и пусть посеянное Вами семя, которое Вы сеяли обильно все 60 лет, принесет плод в тридцать, шестьдесят и во сто крат по словам святого евангелиста.
В Вашей жизни этот год особый. С ним связаны такие незабываемые даты, как 85-летие со дня Вашего рождения и 60-летие поистине вдохновенного пастырского служения в священном сане, 20 лет из которых отданы подвигу монашеского служения. Эго не просто даты. Это жизнь, наполненная высшего смысла, — жизнь бескорыстного служения ближним и Богу. В руках Господа власть над землею, и человека потребного Он вовремя воздвигнет на ней (Сирах.10:4).
Вы несли свое служение со страхом, с верой и молитвой, благоговейно восприняв этот дар милости Божией, — быть пастырем душ человеческих. Над Вами исполнилось слово великого святителя Христова Григория Богослова: «Надо прежде самому очиститься, потом уже очищать; умудриться, потом умудрять; стать светом, потом просвещать; приблизиться к Богу, потом приводить к Нему других. Ведь пастырская душепопечительность и есть наука из наук, искусство из искусств».
История Вашей жизни — это история Ваших духовных чад. Вы всего себя отдали другим, не желая взамен себе ничего. В минуты общения с Вами забывается всякая суета, далеко уходят невзгоды и печали, исчезают из сердца тревоги и уныние. Легко становится на душе, и мы невольно произносим слова апостола: «Господи! Хорошо нам здесь быть!» (Мф.17:4).
Мы все, нуждающиеся и обремененные, спешим к Вам. Вы излучаете свет Христов, который просвещает нас. Мы просим прощения у Вас, отец Серафим, что отрываем Вас так часто от молитвы, от отдыха, в котором Вы так сейчас нуждаетесь. Каждому из нас думается, что только у него самое важное, самое насущное, и все мы идем с этим к Вам. Порой мы бываем неблагодарны и расточаем то драгоценное, что приобретаем от молитвенного общения с Вами.
Промыслом Божиим Вам привелось служить в Курско-Белгородской епархии, на родине преподобного Серафима Саровского. Многие епархии желали бы иметь у себя такого пастыря и молитвенника, каким заслуженно считаетесь Вы. Мы с уверенностью можем сказать, что авторитет Ваш и молитвенное смирение известны за пределами наших мест. По кротости и смирению Вы, отец Серафим, не любите личной славы и всегда уклоняетесь от всего, что может Вас возвысить и возвеличить перед другими. Почему же мы говорим о Вас? Потому что Вы, живущий среди нас, в полноте отражаете свет любви Христовой, и среди житейской суеты, которая как бы погашает наши добрые намерения, мы видим ровно горящий светильник.
Зажженную свечу не прячут под сосуд, а ставят на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Да светит свет ваш пред людьми, и они, видя свет ваш, прославили Отца Небесного — увещевает нас святой евангелист, а апостол Павел прямо призывает всех детей Божьих, говорит: «Подражайте мне, как я Христу». Все мы нуждаемся в хорошем подражании и мы сердечно и искренне благодарим Бога за этот свет в Вас, который освещает, и мы можем видеть его и быть в его присутствии, вознося славу Богу.
1903 год — год прославления преподобного Серафима Саровского. День этот и час надолго запомнился в Вашем сердце. Вы полюбили всем своим детским существом этого кроткого и смиренного великого подвижника и молитвенника земли Русской. Вам с детства дано было нежное, глубоко чувствующее сердце по отношению к людям и состраданию горя ближнего. Для Вас, как в прошлом, так в настоящем и будущем нет ничего выше, как быть верным Богу и полезным ближнему. Ваше сердце в любви соединилось с духом этого великого молитвенника, и мы верим, что Ваш Ангел Хранитель всегда близок к вам, и мы ощущаем его молитвенную поддержку.
За долгие годы своего пастырского служения Вы в своем сердце вынашивали сокровенную мечту посвятить себя еще высшему подвигу служения Богу.
Шли годы, Вы по духовной лествице постепенно восходили к духовным вершинам. Эго восхождение продолжалось четыре десятилетия. Господу было угодно, спустя сорок лет, вручить Вам жребий высшего ангельского монашеского служения. Как известно, древние иноки, как огня бежали всего, чтобы не нарушился их мир душевный, всего, что помешает их духовной жизни, исказит их нравственный облик.
Действительно, очень трудно сохранить духовную чистоту и монашеское смирение, подвизаясь на приходе. Но Вы прошли все искушения, которые испытывает всякий подвижник. Здесь еще больше усилилась Ваша молитва, Ваше сердце еще больше загорелось пламенной любовью к Богу и людям. Какая вера видится в том, чтобы углубиться в самую, казалось бы, неприступную тайну боговедения и разобраться в ней так ясно, как в чем-то ощутимом внешнем. Ваша простая, задушевная вера помогает Вам понимать всякие явления в духовной жизни Ваших духовных чад и всех, прибегающим к Вам.
Божия благодать обильно обитает в Вас и распространяется на все окружающее, орошаемая обильно дождем Ваших слез, и все вокруг Вас становится тихо и благодатно.
Вам органически чуждо всякое осуждение, холодное отношение к людям. Наши скорби — Ваши скорби, наша радость — Ваша радость. В Вас гармонично сочетаются качества доброго пастыря, заботливого друга и любящего отца. Вас по праву можно назвать миротворцем. Вы постоянно всех призываете к миру и любви. За все это Вы снискали, отец Серафим, большую любовь у архипастырей, пастырей и прихожан не только своего храма, но и всех, кто хоть раз видел Вас.
Как художнику трудно полностью отразить природную красоту оригинала, так словами невозможно передать то обаяние, то личное воздействие, какое на всех оказываете Вы.
Общение с Вами доставляет особую радость, приводит сердце ко Христу и молитвенному состоянию. Хочется еще раз встать смиренно на колени и вознести свои недостойные молитвы к Богу, чувствуя Вашу молитвенную помощь и Ваше духовное присутствие.
Мы знаем лишь малую частицу из книги Вашей жизни. Многое сокрыто от наших духовных взоров. Но завеса, которая скрывает от нас Ваши труды и благодеяния, иногда по милости Божией приоткрывалась, и мы могли лицезреть Ваши труды и подвиги. Это еше больше нас укрепляло в вере, и Вы своей любовью возвышали нас. Вы даете всем нам высокий пример христианской жизни.
Из тысяч сердец возносятся благодарственные молитвы Богу за Ваши благодеяния и сердечное участие в судьбе каждого из прибегающих к Вам. Ваше служение, Ваш молитвенный труд, который совершается постоянно и непрерывно, надолго останется в благодарной памяти многих Ваших духовных чад, которых уже не счесть.
Мы верим в Ваше молитвенное предсгательсгво за всех нас перед Богом. Сердечное Вам благодарение за то доброе, вечное, за тот свет, который освещает нам путь к Богу.
Да ниспошлет Вам Отец наш Небесный в изобилии все Свои блага. Многая и благая Вам лета!»
Проповедь на полугодие со дня кончины архимандрита Серафима, произнесенная иеромонахом Вадимом (Лазебным)[79] в 1982 году.
«Дорогие отцы, братья и сестры, духовные чада дорогого нашего батюшки, которых Господь привел сегодня в этот святой храм, где на протяжении десятилетий отец Серафим был настоятелем. Привел в этот храм, чтобы отдать ему долг нашего сыновнего почтения, преданности и любви. Поминайте наставников ваших, тии бо бдят о душах ваших.
Нас собрало печальное событие: сегодня исполнилось полгода, как лучезарные, светлые, любящие глаза нашего отца перестали взирать на нас, его чад, влачащих здесь иго юдоли плача. Сегодня исполнилось полгода, как мы, дорогие отцы, братья и сестры, осиротели, поскольку ушел от нас самый дорогой, самый близкий, самый родной из родных человек, ибо духовное родство, родство душ, является наивысшим по своей значимости.
Сегодня, при совершении Божественной литургии, на нас нахлынули воспоминания о том, как совсем недавно отец Серафим совершал здесь Божественную Евхаристию, как возносил Бескровную Жертву, и каждый из нас, служащих и молящихся ныне, пребывал и пребывает в твердой уверенности, что этот святой старец находится между нами, что он исповедует Христа посреди нас, что вместе с нами он возносит молитвы о наших недостоинствах и согрешениях, и вместе с нами он преклоняет колена у престола Божия.
Жизнь отца Серафима была исполнена особого дара любви к окружающим людям. Мы знали его каждый в свою меру — кто-то больше, кто-то меньше. Но у всех, в том числе и у тех, кто пришел в единонадесятый час, остались самые светлые, самые теплые, самые сердечные воспоминания о том, как правил здесь слово святой истины этот дивный пастырь. Эти воспоминания глубоко запали в наше сознание и в наши сердца, отпечатались и в нашей душе. Воистину жизнь этого старца представляла собой единое, всецелое горение духа, духа христианина и священника, какое можно только вообразить в человеке, живущем здесь, на земле.
Отец Серафим с самого детства, буквально с пяти лет, возлюбил храм, с самых ранних лет самоотверженно отдал себя на служение Церкви. Он стал воспитанником духовного училища, а затем — семинарии. Юноша преуспевал в учении, исполняясь Духа Свята, проявляя свою любовь к Богу. Такая настроенность юноши не осталась без внимания ректора семинарии. Он еще тогда провидел в нем светоча земли нашей…
Двадцати шести лет от роду отец Серафим стал священником. Святая Церковь была раздираема различными расколами, движениями, которые претили ее единству. Но молодой пастырь совершал свое служение самоотверженно, испытывая тяготы, лишения, оскорбления.
Различные послушания возлагало на отца Серафима священноначалие нашей Церкви. Был он и благочинным, был и настоятелем собора. Но сердце его всегда стремилось к молитвенному уединению. В прошении на имя правящего архиерея он писал: «Прошу освободить меня от должности настоятеля, занимаемой мною, ибо это не по мне, ибо это претит моему духовному совершенствованию». До конца дней своих он оставался скромным пастырем, никогда не выявляющим тех или иных своих дарований, то есть не похваляющимся и не выставляющим их на вид.
Когда он был совсем маленьким, еще не умел читать, отец принес ему книжечку, в которой повествовалось о житии преподобного Серафима Саровского. Уже тоща, рассматривая цветные иллюстрации на ее страницах, мальчик почувствовал особое расположение к старцу Серафиму. Господь сподобил его послужить Святой Церкви и в иноческом звании. Трудна была его жизнь, но он не отчаялся, вел настоящую жизнь христианина, христианина в самом высоком значении этого слова. Те из нас, кто присутствовал хотя бы однажды на его богослужении, когда он совершал Божественную Евхаристию, не мог не отметить его удивительный дар мсшитвы: когда он предстоял у престола, то переставал быть здесь, на земле, дух его был горе. Тогда и сам он становился каким-то легким и воздушным, от лица его исходил свет, из глаз лились слезы — слезы умиления священника, приносящего Бескровную Жертву. Сомневающиеся или не совсем укрепленные в вере поражались, с каким чувством он совершал богослужения. И мне приходилось слышать, когда они говорили: тому, чему не верит человек, так молиться невозможно. И действительно, эти люди уходили с божественным семенем Христовой истины, зароненным в их душу.
Многие из вас слышали проповедь отца Серафима: удивительные глаголы исходили из его уст! Говорил он просто, доступно, глубоко церковным языком. Его проповеди были пронизаны особым духом, той любовью Христовой, которую испытывает Спаситель к нам, Его чадам. И теперь, когда приходится разбирать его черновики, нередко обращаешь внимание на ту глубину, ту стилистическую верность и тот дух, которые присущи этим проповедям. Они могут быть образцом всем пастырям, — образцом несения истины Христовой верующим людям.
Но больше всего отца Серафима отличала самоотверженная любовь, любовь всеотдающая и всеобъемлющая, которую он испытывал к Богу и к людям, как к творениям Божиим. Как любил он людей! Любил всецело, любил во всяком их состоянии. Приходили к нему и добрые, и не очень добрые, но все были утешены, все уходили от него ободренными. Как трудно ему было принять на себя все наши заботы и наши грехи, ибо он вникал во все искренно, до глубины души сочувствовал скорбящим людям. Такого участия, такого утешения я в жизни своей никогда не встречал.
В последние годы своей жизни отец Серафим глубоко скорбел, что не всех мог принять, потому что силы его были на исходе. И в то же время скорбь его прилагалась на радость при виде того, как люди собирались на богослужение, уходили из храма утешенными, ибо для них хватало и того, чтобы слышать его глагол, видеть сияющий лик этого праведника, живущего на грешной земле.
Но вот оборвалась земная жизнь старца, смолкло слово — заскорбели мы, его сироты. Нам явно недостает его присутствия — недостает и всегда будет недоставать. Мы скорбим глубоко и искренно, и наши человеческие чувства вполне понятны. Но в то же время сердце наполняется радостью оттого, что этот дивный пастырь не оставляет нас и сейчас. Он невидимо присутствует, он молится с нами, он является перед престолом Божиим предстателем о нас. И ныне Божественная Евхаристия, служителем которой он был до последних дней своей жизни, совершается в этом храме в его невидимом присутствии. И ныне его божественная любовь простирается ко всем нам.
Вечная ему память. Пусть вечная память об этом дивном преподобном старце живет в сердце каждого человека, слышащего о нем. Пусть эта память прежде всего у нас да святится, пусть каждый из нас, прежде всего, эту память, эту глубокую любовь, сыновнее почтение к нему, нашему дорогому батюшке, отцу, выразит в усвоении тех истин, тех поучений, которые обращал к нам отец Серафим. Взирая на его кончину, научимся и мы чистой жизни, жизни в Иисусе Христе — Спасителе нашем. И ныне мы твердо пребываем в уверенности, что наш дивный, чудный старец восхищен Богом в селения праведных. И ныне, в полугодовщину со дня кончины отца Серафима, вознесем молитвы о его упокоении, помня, что, молясь о нем, мы молимся и о себе. Аминь».
Слово, произнесенное в годовщину преставления отца Серафима архиепископом Курским и Белгородским Хризостомом в 1983 году
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Прошел год со дня кончины всеми нами любимого и глубокоуважаемого архимандрита Серафима. За это время каждый, кто был с ним знаком, я думаю, имея возможность во всей полноте оценить те замечательные качества, какими обладал отец Серафим. То, что сегодня в этом святом храме собралось так много почитателей старца, чтобы вознести свои молитвы о его упокоении, говорит о том, что люди питали к нему любовь и уважение как при жизни, так и после его кончины. Архимандрит Серафим был очень скромным чело* веком, непритязательным и добрым — истинным пастырем. Он не обладал тем внешним блеском — артистизмом, красотой голоса, какой обычно привлекает большинство людей за богослужением. Ничего этого архимандрит Серафим не имел. А в последние годы он был особенно слаб и немощен физически. Его голос был еле слышен, он говорил вроде бы простые проповеди, ничего общего не имевшие с ораторским искусством. Но в них была глубокая вера и истинное благочестие. Именно благодаря этим качествам — глубокой вере и благочестию, кротости и смирению, отзывчивости, доброте, сострадательности, — архимандрит Серафим снискал глубокую любовь и почитание всех, кто его знал.
Старец много внимания уделял келейной молитве. Он глубоко, искренне молился в уединении, вдали от посторонних глаз, каждый день совершал круг суточного богослужения. И делал он это не по обязанности, а ощущая внутреннюю потребность души. Совершая келейную молитву, он молился не только о самом себе, о своих близких, родных по плоти, но и о своей пастве, о всех православных христианах. Он молился о всем мире, о страждущих, скорбящих, недугующих и, особенно, — о заблудших. Молитвой архимандрит Серафим приобрел себе глубокую духовность. Личным благочестием он покорил свое тело духу, и это чувствовалось при общении с ним. Но отец Серафим никогда не выказывал своего благочестия, никогда не привлекал постороннего внимания к своему молитвенному настрою. Наоборот, было заметно, как он старается все это скрыть от постороннего взгляда. И тем не менее, все, кто с ним общался, чувствовали эту глубокую внутреннюю духовность, чувствовали, что старец воистину исполнен благодати Божией, в силу не только своего сана пресвитера, но и в силу личного благочестия.
Архимандрит Серафим любил церковные богослужения. Он всегда истою, благоговейно совершал их, особенно духовно он переживал Божественную литургию. Можно сказать, он пламенел во время общей молитвы и своим примером заражал присутствующих в храме. И особенно это было всем дорого потому, что мы сами, к глубокому нашему сожалению, не умеем молиться ни келейно, ни за общественным богослужением. Господь Сам совершает Божественную литургию. Мы, соприсутствуя, соучаствуя в этой жертве, должны трепетать, благоговеть и проникаться благодарной любовью к своему Творцу, Спасителю и Господу. Мы об этом забываем.
Несмотря на то, что батюшка служил у престала Господня более шестидесяти лет, с талами он не утратил способности истово молиться, скорее, наоборот. И этим своим качеством он приобрел и другие добродетели, став верным рабом Христовым, служителем алтаря Господня. Мы и стремились к нему потому, что порой ощущали свою пустоту, свою духовную несостоятельность. Приобщиться к благодати без особенного трупа — невозможно. Но Господь дает нам ощутить ее через старцев, поэтому многие устремлялись к отцу Серафиму, чтобы почувствовать эту милость Божию. И батюшка, несомненно, знал нашу немощь, нашу ненужность. Насколько мне известно, он никого никогда не укорял, не обличал, а кротко поучал своим жизненным примером. Именно это его качество привлекало многих и многих людей.
Возлюбленные отцы, братья и сестры! Мы почитаем отца Серафима, ценим его благодатный дар, но одного нашего почитания без собственной кропотливой работы для нашего духовного возрастания недостаточно. Каждый из нас, вспоминая об отце Серафиме, должен задуматься и о себе: что меня ожидает в будущем? Когда я отойду от этой жизни, с чем приду к своему Господу — Спасителю и праведному Судии? Какой я дам ответ за то, что я делал и делаю? И мы, возлюбленные братья и сестры, не должны быть равнодушными в своей духовной жизни. Каждый из нас много согрешает. И нет человека, который бы не согрешал. Безгрешен Господь наш Иисус Христос, а мы все нуждаемся в Его милосердии, поэтому нашей Матерью-Церковью мы призываемся к покаянию и исправлению. Будем же радеть о своей душе, будем думать о загробной жизни, о встрече с нашим Господом и с нашим любимым архимандритом Серафимом. А он, несомненно, пребывает в обители Отца нашего Небесного и имеет общение с нами, а мы — с ним через наши общие молитвы.
Празднование 100-летия со дня рождения старца Серафима
В 1996 году, 31 июля в Белгороде и 1 августа в Ракитном, состоялись торжества, посвященные 100-летию со дня рождения архимандрита Серафима.
В торжествах принял участие епископ Белгородский и Старооскольский Иоанн и епископ Дмитровский Иннокентий, священнослужители из Белгорода, Москвы, Воронежа, Курска, Костромы, представители Крымской епархии — около сорока священников и архиереев, а также многочисленные паломники со всех концов страны.
В память о жизни и пастырском служении отца Серафима был продемонстрирован документальный фильм (премьера) «Имени Твоему, Господи», снятый режиссером В. Ю. Венедиктовым. Вступительное слово к фильму произнес епископ Белгородский и Старооскольский Иоанн.
О праздновании 100-летия со дня рождения отца Серафима белгородская молодежная газета «Альтаир» писала следующее:
«Ранним утром 1 августа этого года мы едем автобусом в село Ракитное. Разговорившись с соседом, узнаем, что он — будущий семинарист, родом из Воронежа, восстанавливал в Липецке храм, а учиться решил в Белгороде, так как «место хорошее», и тоже едет к батюшке Серафиму. Две старушки на переднем сиденье читают Евангелие, у двух девушек в светлых косынках в руках молитвослов. Наш веселый шофер очень удивился, когда почти все его пассажиры дружно попросили остановить автобус у церкви.
Храм Святителя Николая бело-голубой, красивый и большой, встретил нас колокольным звоном. Через несколько часов, когда служба в храме подойдет к концу, мы очень остро ощутим, что батюшка Серафим сейчас здесь, с нами, и смотрит на нас своим ласковым взглядом. И сегодня все они — старушки, средних лет женщины, изредка мелькающие в цветастом море косынок коротко остриженные мужские головы, — как прежде, пришли к своему доброму пастырю, на сей раз помянуть его, припасть к небольшой его могилке и горько заплакать, поговорить об этом удивительном человеке да поблагодарить Господа, что свел их с ним на жизненном пути. Как и раньше, пришли сюда паломники со всех концов земли Русской.
Под неторопливый, как стук сердца, колокольный звон подходили люди к храму, к маленькому домику, где жил старец Серафим, где он принимал посетителей, молился. Домик из трех крошечных комнаток, где уже все не так, как было при жизни батюшки, только сохранился иконостас, и стоит у стены все тот же старенький диван.
Никогда прежде не доводилось нам видеть вместе во время богослужения столько иереев во главе с епископом Белгородским и Старооскольским Иоанном и епископом Дмитровским Иннокентием. Огромный храм был переполнен молящимися. После службы при огромном стечении народа возле могилки старца была отслужена панихида. Позже, за общей трапезой, мы выслушали немало рассказов о дивном старце, его любви, чудесах и исцелениях. Один из священников, его духовных детей, поведал нам удивительную историю: «Видите эту грушу, что растет возле келии батюшки? Года за три до его смерти были сильные морозы, и деревце засохло и не распустилось весной. Его хотели срубил», но батюшка запретил это делать и на второй, и на третий год тоже. А весной 1982 года, сразу после смерти батюшки, деревце вдруг дало новые побеги, зазеленело и пышно расцвело.
Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; если умрет, то принесет мною плода (Ин.12:24)»[80].
Слово на праздновании столетия со дня рождения архимандрита Серафима, произнесенное Иннокентием, епископом Дмитровским[81]
«Как в судьбе очень многих людей, так и в моей личной жизни отец Серафим сыграл огромную, можно сказать ключевую, роль. Я видел настоящего христианина, в котором воплотился образ Божий, который стал образцом для подражания и, прежде всего, образцом любви, ибо его необыкновенная любовь распространялась на всех людей, которые приходили к нему со всей России со своими горестями и нуждами, испрашивая его святых молитв, ища утешения в своих печалях. Его любовь распространялась одинаково на всех, у него не было лицеприятия. Чем грешнее человек казался себе, тем большую он ощущал любовь, исходящую от боголюбивого батюшки. Никто не отошел от него неутешенным. Он всех встречал с необыкновенной теплотой и радушием, с открытым сердцем. Я был тому свидетель. Его огромный жизненный и пастырский опыт позволял найти путь к каждому сердцу, его дух мудрости и любви приводил ко спасению многие десятки, сотни людей, приходивших к нему за духовным советом и утешением. Но главное, я думаю, что он за всех творил постоянную молитву. Без всякого сомнения, его молитвенная поддержка ощущается и до сего дня, хотя он покинул нашу землю четырнадцать лет назад. Отец Серафим жив, он с Богом, он поистине угодил в своей земной жизни Богу и имеет дерзновение сейчас молиться о всех нас, его духовных чадах, и тех, кто с верою прибегает к нему за помощью и духовным утешением.
Я глубоко убежден, что приближается то время, когда этот удивительный старец будет прославлен Богом и канонизирован Русской Православной Церковью в сонме святых, в земле Российской просиявших. На его могилке происходят исцеления различных недугов многих душ и телес. Мне об этом довольно часто рассказывали и свидетельствовали. Ракитное как при жизни, так и после кончины старца остается местом паломничества многочисленных почитателей отца Серафима.
Для меня лично Белгород и Ракитное стали особым местом, определившим мою судьбу. Воспоминания о том времени и встречах с удивительным батюшкой, которые я имел много лет назад, воскрешают в моей душе чувства, до сегодняшнего дня согревающие мое сердце. Для меня эти воспоминания всегда волнующие и глубоко личные, ибо по его благословению и святым молитвам Господь избрал меня на пастырское и архипастырское служение, и все эти годы я ощущаю его молитвенную помощь и поддержку.
Отец Серафим оставил глубокий след в моей жизни. Его преданное, пламенное пастырское служение Святой Православной Церкви и любовь к людям для меня и многих пастырей и архипастырей стали примером в служении Богу и ближним.
Я благодарен Богу, что Он даровал мне, по милости Своей, встретить на жизненном пути приснопоминаемого старца, который сыграл главенствующую роль в моей земной жизни. Это я чувствовал тогда, чувствую и сейчас в своем архипастырском служении.
Я благодарен всем, кто разделил наше молитвенное общение за Божественной литургией, всем, кто здесь присутствует: любовь почившего пастыря объемлет и соединяет нас сейчас. Наша общая молитва была необходима и полезна не только пастырям и архипастырям, прибывшим сюда из многих епархий России, чтобы почтить память угодника Божия архимандрита Серафима, но и месту сему, людям, здесь живущим, и всему святому Белогорью, где нес долгие годы свое пастырское служение поистине удивительный молитвенник, великий подвижник нашего времени. Я благодарен местной, городской, областной администрации, всем тем, кто духовно разделил наше молитвенное общение и попал в ореол святости дорогого, столь нами почитаемого старца.
Я хотел бы пожелать всем здесь присутствующим вспоминать отца Серафима, как он жил и молился, как хотел, чтобы мы помнили, что наша земная жизнь скоротечна. Будем брать пример, как жить и нести свое служение в данное нам Богом благодатное время, с отца Серафима, который нес свое пастырское служение в трудные годы. Будем стараться, несмотря на наши слабые силы и немощи, подражать его жизни и тем подвигам, которые совершал дорогой наш старец».
Письмо в комиссию по канонизации
В 1996 году по благословению архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна епархиальная комиссия по духовному наследию начала работу по подготовке к возможной канонизации приснопамятного старца архимандрита Серафима Тяпочкина.
Отсидев 15 лет в сталинских лагерях, он последние годы с 1961 по 1982 нес свое служение в Свято-Никольском храме пос. Ракитное. С самого своего детства, возрастая в духе, отец Серафим явил образ подлинного христианина. В лагерях, пройдя через «земной ад», вместе с десятками тысяч верующих людей, он еще более окреп духовно и последние годы своей пастырской жизни явил образ поистине свшой преподобнической жизни.
За несколько лет комиссия проделала немалую работу. В 1996 году, к 100-летию со дня рождения отца Серафима, был создан документальный фильм о его жизни, который получил весьма добрый отклик в среде верующих, да и не только верующих людей по всей России. В этом же юбилейном году, в день прп. Серафима Саровского, более пятидесяти священнослужителей из разных мест России и Украины сослужили владыке Иоанну и владыке Иннокентию, духовному сыну отца Серафима, в Свято-Никольском храме пос. Ракитное. То была настоящая Пасха. Дух радости и любви переполнял всех молящихся. Для многих было очевидно, что этот день был поистине благословенным.
Затем началась кропотливая работа по сбору документов и свидетельств о молитвенной помощи отца Серафима и его подлинно святой жизни. Среди этих свидетельств особо дороги мнения архиереев РПЦ, лично знавших отца Серафима и испытавших на себе силу его благодатной молитвы. Эго один из старейших архиереев, митрополит Никодим, являющийся председателем комиссии по канонизации УПЦ, архиепископ Псковский и Великолукский Евсевий, архиепископ Корсунский Иннокентий, епископ Орехово-Зуевский Алексий.
Самые разные люди, разного положения, как миряне, так и духовенство, высказали свое мнение. Но одно удивительным образом объединило все эти мнения. Это единодушное свидетельство об удивительной неземной любви отца Серафима к каждому из них и ко всем, кто хоть один раз увидел его и испытал ее на себе. На протяжении всех этих лет работы комиссии и нашего служения в Свято-Никольском храме, мы являемся свидетелями того, как нескончаемым потоком тянутся люди к могилке старца. Не было такого дня, чтобы к ней не пришли или не приехали паломники со всех концов необъятной России, да и не только России. Сотни записок с просьбами, которые оставляют они на могилке, поражают своей простотой и доверием к отцу Серафиму и его молитвам. И поток просящих батюшкиных молитв и нуждающихся в его помощи, не уменьшается, а все увеличивается.
Постоянные письма и звонки верующих людей, как мирян, так и священнослужителей с вопросами о том, когда же будет прославление отца Серафима? — стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы уже давно видим, и это уже стало очевидным не только для нас, что народ Божий почитает отца Серафима как святого.
Однако, ввиду отсутствия уголовного дела отца Серафима, в котором должны быть протоколы допросов, положительное решение вопроса о канонизации откладывается.
Нами были разосланы официальные просьбы во все возможные места, где могло бы быть уголовное дело отца Серафима. Отовсюду пришел отрицательный ответ — дела нигде нет. Но ведь это тоже официальные документы, подтверждающие реальное отсутствие дела. Можно предполагать различные варианты развития событий, ведь суд совершался по пути эвакуации Днепропетровской тюрьмы в городе Павлограде. Эго было время наступления немцев, и с архивами могло произойти все, что угодно.
Но если даже гипотетически предположить, что вопервых, дело может все-таки «выплыть», и, во-вторых, там будет обнаружено что-то, неприемлемое для положительного решения вопроса, все же вполне справедливо можно говорить о причислении отца Серафима в таком случае не к лику исповедников, а к лику преподобных, коим и был отец Серафим, ибо 21 год его жизни в последний ракитянский период явили сотням и тысячам людей силу его старческого духа, глубокой молитвы и, что наиболее ценно, беспредельной и всепрощающей любви. Люди видели в нем святого и донесли в своих искренних воспоминаниях эту его святость до наших современников, никогда не видевших и не знавших отца Серафима. Но и эти «не видавшие, но уверовавшие» и узнавшие отца Серафима, пребывающего духом в Небесных чертогах, а телом покоящегося у стены Свято-Никольского храма, обращаются к нему, как к живому. Обо всем этом отчасти написано в вышедшей в прошлом году книге «Праведник наших дней», которая, по своей сути, является сборником документов, свидетельств и воспоминаний очень разных людей, которые были единодушны в том, что старец был истинным носителем той самой любви, которая «многие грехи покрывает». В одной из первых рабочих встреч комиссией было высказано пожелание собрать случаи чудесной помощи по молитвам отца Серафима, заверенных священнослужителями, как, впрочем, это и практиковалось раньше. Мы выполнили это пожелание комиссии и отобрали не все обилие случаев, но максимально проверенные. Но главным чудом нам видится любовь отца Серафима, которую, слава Богу, нет надобности подкреплять какими-либо врачебными документами и которая, по слову апостола, является венцом святой жизни. Ибо «если кто имеет дар пророчества и знает все тайны и имеет всякое познание и всю веру, так что может горы переставлять, а любви не имеет, то он ничто» (1 Коринф. 13,20). Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин подтверждает своим опытом то же самое: чистоту любви, и это справедливо: «чудеса должны прекратиться и уничтожиться, а любовь будет пребывать во веки». Но уж туг свидетельств более чем достаточно.
В этой связи, на наш взгляд, замечательным является документ, в большой степени восполняющий отсутствующие протоколы допросов. Это письмо, написанное отцом Серафимом председателю президиума Верховного Совета СССР Ворошилову К.Е. Оно было написано в 1953 году. Это письмо, на наш взгляд, открывает, по крайней мере, три поразительных факта.
Первое: иезуитскую, если не сказать, сатанинскую тактику и стратегию суда (власти).
Второе: абсолютную невиновность отца Серафима.
Третье: облик праведника.
Именно в том и признался отец Серафим, что не прекращал молитву, а о его мнимом участии в некой фашистской организации в суде было вообще упомянуто вскользь. Защитник даже сказал в конце своего слова: «За что человека судить? За то, что он Богу молился?» Эго пишет сам о. Серафим, главный обвиняемый. И туг же он пишет: «И вот приходится предполагать, что негласно (выделено отцом Серафимом) мне приписали обвинение о якобы какой-то совершенно мне неведомой связи с Днепропетровским архиепископом Георгием, который был арестован в 1937-м году».
А вот еще слова из письма, которые поражают своей искренностью и глубиной: «Тяжелый и незаслуженный приговор! Вопрос: за что? меня тяготит и мучит с момента произнесения его и по настоящее время». И, вообще, это письмо проливает столь много света и правды на дело, да и не только на дело, но и на сам облик отца Серафима, исповедника и преподобного, что есть лишь одна причина, которая позволила бы нам прекратить нашу работу — это не поверить тому, что написал в письме сам отец Серафим. Становится страшно от того, что мы можем оттолкнуть от себя святого, а вместе с ним Того, кто был его «Помощником и Покровителем» на протяжении всей его жизни.
И, конечно же, на наш взгляд, было бы несправедливым не учесть еще один фактор. В то время, когда Отечество наше испытывает большие сложности, на земле Святого Белогорья складывается весьма благоприятная ситуация: власть духовная и власть светская общими усилиями достигают весьма зримых результатов в возрождении духовности, и далеко не последнее место занимает здесь деятельность губернатора, который, являясь человеком православным, чутко реагирует на нужды верующих, да и не только верующих людей. Построено и отреставрировано, при его непосредственном участии, огромное количество храмов; в учебных заведениях, как в средних, так и в высших, на регулярной основе духовенство активно доносит до молодого поколения основы православной культуры; открываются православные семейные детские дома. Нельзя умолчать о внимательном отношении губернатора к вопросу о канонизации отца Серафима. Не является секретом, что Евгений Степанович, заезжая в Ракитное, практически всегда заходит в храм и посещает могилку отца Серафима, и из его уст всегда звучит один и тот же вопрос: «Когда?». У нас нет сомнения в том, что все это происходит не без Промысла Божия.
Исходя из вышесказанного, мы полагаем, что было бы вполне справедливым и непогрешимым для всех нас, при наличии тех сведений об отце Серафиме, которые мы имеем на сегодняшний день, причислить его к лику преподобных.
Прошу Ваших святых молитв. Председатель епархиальной комиссии по духовному наследию протоиерей Николай Германский[82].
Публикации, посвященные отцу Серафиму
Наш Серафим[83]
Мы приехали в Ракитное к началу литургии. Народу в храме много, но, как потом сказал батюшка, в основном паломники. Едут и едут на могилку отца Серафима. Помолиться. Побыть. Спросить совета. Прикоснуться. Хорошо, Господи, что все у Тебя живы.
…Нынешний настоятель Свято-Никольского храма отец Николай Германский говорит, что в книге есть неточности… Например, во время «Зоиного стояния» не отец Серафим взял из ее рук икону Николая Чудотворца, так что той иконы в храме нет. Для меня это ничего не меняет. С тех пор, как я узнала об отце Серафиме, молить Бога о нас прошу Пресвятую Богородицу, Николая Чудотворца, всех святых и отца Серафима — как родного.
Однажды по дороге в Рыльский монастырь мы останавливались в Ракитном. Тогда я впервые была на могилке батюшки Серафима. Потрясение тишиной — вот что скудным словом могу передать. Да вы знаете и сами. В нынешний приезд улыбнулась про себя, заметив, что уже в третий раз иду к могилке. Заботливой рукой положен коврик для коленопреклонения. Горит лампадка, зачехленная стеклом. Под портретом свечи. Во всем видится любовная забота и к отцу Серафиму, и к нам, к нему прибегающим.
По окончании службы отец Николай рассказывал о возможной канонизации (будут у нас два преподобных Серафима!), а потом проводил в келью, где жил отец Серафим. Батюшка рассказывал о нем и о том, как сам оказался здесь (вот уже 12 лет его служению), а мы дивились и радовались Промыслу Божиему.
По соседству с кельей отца Серафима сейчас живут художники-иконописцы. Расписывают храм. Видим Престол Богородицы, царскую семью страстотерпцев, отца Серафима посреди новомучеников Российских. Батюшка показал две новые иконы Богородицы — Казанскую и Иверскую, которые отныне будут в храме. Благослови, Господи, труды отца Николая в этом святом месте.
Сколько нас, не видевших отца Серафима воочию, разминувшихся во времени, но полюбивших и почитающих его уже по окончании им земного пути! Как же он молится о живущих, если, обретши веру, мы обретаем и его. Вот и известная исполнительница духовных песен Евгения Смольянинова поведала, что не один год у нее была подаренная кем-то фотография отца Серафима, а она ничего не знала о нем. Приехав на День православной молодежи в Ракитное, увидела и узнала батюшку. Детская мысль: а кто-то жил в Ракитном во время служения батюшки, жил рядом и — мимо. Как жаль. Помилуй, Господи.
Мы уходили из Ракитного, объятые не только солнцем, но и любовью.
Паломница Елена.
Люди уходили от батюшки со слезами радости[84]
О том, что игумен Серафим (Лебедев), клирик Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Белгорода, был знаком с архимандритом Серафимом (Тяпочкиным), я узнал, читая книгу об известном всей России ракитянском старце. Точнее, увидел его на фотографии, на которой архимандрит Серафим был запечатлен в окружении своих духовных чад. Но среди собранных в этой книге воспоминаний о батюшке-наставнике не было рассказа игумена Серафима (Лебедева). И этому я даже… обрадовался, потому что предоставлялась прекрасная возможность услышать живые свидетельства о замечательном пастыре и человеке.
— Отец Серафим, часто ли Вам доводилось бывать в Ракитном у архимандрита Серафима?
— Я знал отца Серафима 12 лет. Первые пять лет был у него послушником, затем, после рукоположения в священники старался приезжать к нему с прихода как можно чаще.
— Что из тех лет вспоминается прежде всего?
— К отцу Серафиму, как к духовному светильнику, стекалось множество людей — священников и мирян. И батюшка с каждым старался поговорить, дать совет, наставить, утешить в горе… Без сомнения, благодать Божия почивала на отце Серафиме, и после беседы с батюшкой у людей на глазах были слезы радости. Многие говорили, что очень счастливы, что побывали здесь. Некоторые откровенничали: «Сколько любви в этом человеке! Он принял мою боль к сердцу, по-отечески прижал мою голову к своей груди…»
С каждым годом к нему приезжало все больше и больше священников. Архиепископ Курский и Белгородский владыка Хризостом официально не назначал духовника епархии: он не считал это полезным, так как, по его мнению, священники будут на исповеди неискренними. Владыка предоставлял им право самим выбирать себе духовника. И у отца Серафима очень часто собиралось 10-12 священников, которых он исповедовал, давал наставления. Конечно, это были не только местные священники, к нему приезжало духовенство отовсюду — даже с Дальнего Востока, из Ташкента.
В Ракитном в те годы был «духовный оазис». Сравнение с оазисом возникало уже при первом взгляде на Никольский храм. Церковь со всех сторон была окружена деревьями, так что с дороги ее не было видно. А внутри ограды, особенно весной, было столько зелени и цветов, что сразу забывался «внешний мир».
В храме можно было встретить много высокообразованных людей. К отцу Серафиму приезжали многие архиереи. Часто бывал архимандрит Кирилл (Павлов)… Были здесь и известные светские люди. Например, бывший корреспондент журнала «Огонек», а сейчас священник Владимир Вигилянский, писатель Геннадий Снегирев…
Когда отец Серафим был уже немощен и слаб и не мог принять всех приходящих к нему и просящих о помощи, он говорил: «Вы напишите свои имена, я буду молиться о вас, и Господь, по вашей вере, поможет вам».
И даже когда батюшка уже не мог сам вставать, люди продолжали просить о встрече с ним. И в особых случаях он принимал. Принимал до последнего своего дня.
— Вы много раз совершали богослужения вместе с отцом Серафимом, какой след это оставило в Вашей душе?
— Служил отец Серафим очень благоговейно. Об этом уже и сказано, и написано мною. А если говорить о своих чувствах и переживаниях — меня преображали его молитвенный настрой, его молитвенное состояние души. Он много часов в день проводил за молитвой — и в храме, и в своей келье.
Когда батюшка молился в храме, к аналою, у которого он стоял, никто не подходил, все старались встать подальше, чтобы ничем не нарушить его молитвенного уединения.
В храме был исключительный порядок. Благоговейное отношение к святыням у отца Серафима проявлялось во всем, даже, скажем так, в «бытовых» деталях. Например, чтобы не закоптить икон, ладан в кадило помещали очень маленькими кусочками и его постоянно приходилось подкладывать.
Батюшка был сосредоточен на молитве, и многие организационные и бытовые вопросы ему помогала решать его послушница и келейница — монахиня Иоасафа.
— Вам приходилось быть очевидцем исцелений больных по молитвам отца Серафима?
— Мне очень неприятно, когда люди начинают проявлять нездоровый интерес к этой теме и впадать в крайности — или полностью отрицают возможность исцеления по молитве, или делают из этого сенсацию, «шумиху».
Случаи исцеления — это ведь из области очень сокровенного. И никто не может подсчитать — сколько их было. Но они, безусловно, происходили по молитвам отца Серафима. Я не скажу, что это случалось часто и массово, но вот два случая хорошо сохранились в памяти.
Из Симферополя приехал мужчина. Он был уже в довольно преклонных летах и, видимо, перенеся какойто тяжелый недуг, потерял зрение. Пробыл в Ракитном три дня — молился, беседовал с батюшкой, а когда вернулся домой — прозрел! И сразу же поехал обратно к Ракитное, к отцу Серафиму, упал к нему в ноги и благодарил: «Вашими молитвами я исцелился!..» После этого он работал переплетчиком: переплетал церковные книги. Он умер, когда ему было уже 90 лет.
Очень много в Ракитное приезжало одержимых бесом. Я впервые в своей жизни их там увидел. Некоторые признавались, что после посещения отца Серафима им становится легче. Я знаю одну семью из Воронежской области, в которой все были бесноватыми. В обычной жизни это мало как проявлялось, а вот когда приходили в храм… Но после исповеди у отца Серафима, после Святого Причастия все они, как я слышал, получили исцеление. Дети создали свои семьи.
— Заканчивая нашу беседу, мне хочется спросить Вас о личном: на принятие монашеского пострига Вас благословил отец Серафим?
— Отец Серафим говорил мне: «Я не сторонник целибата и считаю, что целибатный священник впоследствии все же должен стать монахом. Тебя я благословляю на рукоположение целибатом, но придет время, и я буду просить, чтобы ты стал монахом». А уже незадолго до моего рукоположения, он еще раз беседовал со мной. Его наставление было таким: «Хочешь — женись, но я бы хотел, чтобы ты стал монахом». Как батюшка сказал, так я и сделал. В 1982 году, в последние свои дни, он просил владыку Хризостома, чтобы он меня рукоположил. А через полгода после кончины о. Серафима, осенью, в день памяти св. апостола Фомы, я принял монашество. Постриг совершил, по благословению владыки Хризостома, иеромонах Вадим (он сейчас епископ). Я благодарен Господу, что при постриге получил имя — Серафим. Как мы знаем, отец Серафим своим небесным покровителем считал прп. Серафима Саровского и просил правящего епископа дать ему при постриге это имя. И его иноческий путь — по обилию любви к людям, по стремлению помочь им — был очень похож на служение преподобного Серафима. Их разделяло только земное время. В вечности они — вместе.
Я бы хотел, чтобы о батюшке написали хорошую книгу — без всяких вымыслов и «чудес». А что касается канонизации — на это воля Божия…
Любовь всегда остается[85]
Взяла в руки православный журнал, выходящий на Украине, — там пишут о белгородском старце Серафиме (Тяпочкине). Открыла книгу, выпушенную в Москве, — и тут его вспоминают! Везде любят, почитают приснопамятного ракитянского батюшку. Верующий народ и при жизни считал его святым. Поэтому никого не удивило известие, что идет подготовительная работа к канонизации архимандрита Серафима.
У скромной могилки отца Серафима, расположенной слева от алтаря Свято-Никольского храма, постелен пестрый молельный коврик. Когда ни придешь в этот тихий уголок церковного двора, обязательно кто-то молится. Пять-шесть живущих при храме иногородних паломников — обычное дело, не считая приезжающих из Белгорода и области.
— Только по батюшкиным молитвам и живу, ноги еле ходят. Помолюсь: «Отец Серафим, помоги!» — глядишь, и дойду до храма, службу отстою, — рассказывала нам пожилая прихожанка. И поделилась «секретом»: — А земля на могиле батюшки благоухает!
Настоятель храма отец Николай, член комиссии по изучению духовного наследия отца Серафима, признался: к подобным свидетельствам относится скептически. Мы народ эмоциональный; кто не ищет чудес и знамений? Но, признаться, мне самой то и дело чудился у могилки отца Серафима нежный запах ладана, хотя служба в храме давно закончилась.
Год назад протоиерей Николай Германский подал прошение на имя владыки Иоанна — о канонизации архимандрита Серафима: «Но мы не о чудесах, а о его предстоянии перед Богом говорим! Для меня вообще самое важное свидетельство — слова отца Серафима о том, какую радость он испытывал во время Божественной литургии! Понимаете, что это значит? Царство Божие ему приоткрыто было… Отец Серафим был сама любовь, вот мое понимание. Апостол Павел писал в одном из посланий, помните, — если «могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто…».
Могла ли такая любовь умереть? Конечно же, нет. Об этом свидетельствуют те исцеления и незримые утешения, что совершаются на его могилке… Как трогательно порой пытаются дотянуться до этой отеческой любви больные, страдающие люди. Кто не может приехать в Ракитное, за того молятся родные, а те, кому совсем неоткуда ждать помощи, пишут письма.
Недавно отцу Николаю прислала письмо тридцатилетняя парализованная женщина, Татьяна: «Батюшка, простите за беспокойство. Помолитесь за меня у могилки отца Серафима. И еще об одной женщине, у нее большое несчастье».
— Коротенькое письмо, безыскусное, а какое упование на Бога! Еще и о других просит…
Духовными чадами отца Серафима сегодня хотели бы называться многие. На самом деле людей, окрепших в вере под его крылом, осталось мало. Те, кто был сверстником отца Серафима, уже ушли в мир иной. Есть духовные чада батюшки среди московского, белгородского духовенства, на Украине. Несколько раз в год приезжает в Ракитное его внук, диакон Димитрий.
В поисках документальных свидетельств о жизни отца Серафима, комиссии по духовному наследию нередко приходится выходить на самый высокий уровень. Через депутата Госдумы Н.И. Рыжкова обратилась в правительство Казахстана. В 40-50-е годы батюшка отбывал срок в Карагандинском лагере — только за то, что был верным служителем Христовым. Пятнадцать лет провел он в тюрьмах и ссылках. Даже в лагере тайно исповедовал, отпевал, крестил, утешал заключенных. Они смастерили ему епитрахиль и поручи из полотенец, вышили кресты. Все испытания — заключение, голод, побои, унижения — отец Серафим принимал смиренно и впоследствии говорил: «Рад, что Господь сподобил меня пострадать вместе с моим народом».
К сожалению, ни в Казахстане, ни в Днепропетровске, где его в 1941 году арестовали, не обнаружилось лагерного дела осужденного Тяпочкина. Может быть, архивы уничтожены, а может, с них до сих пор не снят гриф секретности…
Из личных вещей отца Серафима (их и при жизни-то было у подвижника немного) почти ничего не сохранилось — после смерти разобрали почитатели и духовные чада старца. Наперсный крест хранится у отца Николая, а скуфью (монашескую шапочку) он когда-то подарил монаху из Коренной пустыни, мучившемуся головными болями.
В низеньком голубом домике рядом с храмом, где двадцать лет жил отец Серафим, сейчас разместились художники-иконописцы, обновляющие росписи храма, приезжие паломники. «Я не собираюсь открывать музей», — говорит настоятель.
Пустует только комнатка отца Серафима. Вот кровать, на которой он скончался. Перед окном аналой для чтения Евангелия и Псалтири. На стене его портрет — взгляд старца словно проникает в душу. Отец Николай смотрит на него и рассказывает:
— Вы, наверное, замечали, на портрете отца Серафима всегда разное выражение: то он сердится, то утешает… Эта фотография была у меня еще много лет назад, когда я служил в селе Борки Курской области. Почитал его как великого старца. Однажды подхожу и вижу — батюшка сегодня такой веселый. «Батюшка, что вы так радуетесь?» (а я часто разговаривал с ним, сейчас меньше — много суеты). А он прямо смеется в ответ! На следующий день вызывает меня владыка Ювеналий, наш архиерей, и говорит: «Отец Николай, в Ракитном место на приходе освободилось — не хотите перейти?». Вот оно что, думаю, отчего улыбался батюшка!.. Конечно, признался отец Николай, он и не мечтал о таком назначении — приходы, подобные Ракитянскому, в России по пальцам можно пересчитать. Но и трудно как служить там, где жива память о настоятеле-подвижнике: все, что делает преемник, прихожане всегда будут «сверять по отцу Серафиму».
Духовное присутствие отца Серафима незримо ощущается здесь. У могилки, лицом к холодному граниту, чувствуешь себя как под епитрахилью, на исповеди. А на литургии он представлялся мне стоящим у Царских врат.
В преддверии канонизации храм ремонтируют. Работает сборная, со всей России, артель иконописцев, возглавляемая выпускником Строгановки. В мое посещение храма, за лесами еще не было видно лика святого покровителя храма — Николая Мирликийского, только радостно просвечивался теплый, абрикосовый — «святительский», как объяснил настоятель, цвет. А внизу на белых стенах графические эскизы: Царственные страстотерпцы, новомученики российские — преподобная Елизавета, патриарх Тихон, митрополит Киевский и Галичский Владимир… И в этом же ряду наш батюшка, святой преподобный Серафим Ракитянский. Это первая его икона, если не считать фрески, выполненной той же артелью в Преображенском соборе Белгорода. Канонизация предполагалась в этом году, но не все готово…
Новую раку для мощей решили не заказывать. Владыка Иоанн благословил взять хранящуюся в Грайвороне раку святителя Иоасафа Белгородского. В этом видится определенный символ. Они теперь рядом в вечности — святитель Иоасаф и отец Серафим, пусть будут близки и на земле.
Уезжая из Ракитного, я налила в большую бутылку воды из колодца, вырытого при отце Серафиме и освященного им. Хотелось взять и щепотку земли с могилы старца, но отец Николай сказал, что это можно только по благословению. А немного позже заметил, между прочим:
— Говорят: «Хорошо бы иметь кусочек одежды Святителя Николая». А лучше бы — иметь «кусочек» его веры! «Хорошо бы иметь горсть земли с могилки отца Серафима». А лучше бы — иметь хоть частицу его Любви к ближнему…
Наталья Козлова.
Духовному отцу
Он отдавал всего себя с любовью
И кровь, и плоть, и душу не жалел.
Не для себя он жил — чужою болью
И от утра до ночи обо всех скорбел.
В болезни был — а о других молился,
И утешал, надежду подавал,
Благотворил и не смотрел на лица,
«Родной наш батюшка», — народ его так звал.
О, Русь! Как возлюбил тебя Всевышний!
Послав тебе таких сынов достойных.
Их житие и есть любовь к Христу и ближним.
Какая высота! Приблизиться к тебе…
Но нет, я недостойна.
Раиса Крюкова, г. Москва
Серафим Ракитянский —
Дивный чудотворец,
Прозорливый тихенький,
Утешитель в горе.
Обо всех молитвенник,
Душ и тел целитель,
Исповедник истинный,
Бесов прогонитель…
Всем помощник страждущим,
Света проповедник,
Духоносный, плачущий,
В бедствиях — советник.
Наш ходатай праведный
У Престола Бога,
Чад наставник правильный —
Ласковый… нестрогий.
Неустанно молится,
Против искушения:
В мире жить — не ссориться
И грехов прощения.
Всех любивший жертвенно,
Покорял смиреньем,
И молил с усердием
Скорбей избавленья.
— Серафим Ракитянский! —
Плачу на могиле…
— Испроси молитвенно
Спасти Россию![86]
Серафимовские торжества в Ракитном
1 августа 2007 гада в п. Ракитное состоялись мероприятия, посвященные 175-летию со дня основания Свято-Никольского храма и 25-летию со дня кончины отца Серафима.
Архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн в сослужении с духовенством совершил Божественную литургию, по окончании которой была совершена заупокойная лития у могилы отца Серафима. Затем на территории храма состоялось торжественное открытие памятника архимандриту Серафиму. Автор памятника — украинский скульптор Виталий Рожик. На торжественном открытии памятнка выступили: губернатор Белгородской области Е.С. Савченко, архиепископ Иоанн и глава местного самоуправления муниципального ракитянского района «Ракитянский район» Н.М. Никаноров.
Слово в день памяти преподобного Серафима Саровского чудотворца, 175-летия со дня основания Свято-Никольского храма поселка Ракитное, 25-летия кончины архимандрита Серафима (Тяпочкина) архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сегодня Православная Церковь празднует день памяти преподобного и богоносного отца нашего Серафима, Саровского чудотворца. И сегодня, по традиции, мы собрались здесь, в Ракитном, для того, чтобы почтить память духоносного отца, приснопамятного архимандрита Серафима. Уже 25 лет прошло с того времени, когда Господь призвал его в чертоги Небесные. И за эти годы каждый из нас убедился в том, что это был человек святой жизни. Потому что его молитвенным предстательством развязывались многие путы, восполнялись наши оскудевающие силы. И каждый, кто получал личное участие приснопамятного архимандрита Серафима, ощущал, прежде всего, необыкновенную любовь, которая была во время его земной жизни и действует по прошествии лет. Ведь во Христе все живы. И эта действенная, преобразующая нас любовь является миру как обильное молитвенное заступничество пред Господом и Спасителем нашим.
Мы знаем, каждый, кто присутствует здесь, или по каким-либо причинам не смог прийти сюда из тех, кто лично знал отца Серафима, чувствует необходимость его канонизации и обращения к нему как к святому. И уже очень многое сделано для этого: собраны свидетельства архиереев нашей Церкви, свидетельства тех людей, которые получили по молитвам приснопамятного отца Серафима исцеления. Собраны свидетельства о его исповедническом пути, когда только за то, что он служил и ни на день не прекращал службы Божией, он был арестован. В уголовном деле было такое обвинение: «за организацию тайной Церкви». А эта Церковь — Христова! Это — Церковь, которую Господь основал и завещал нам хранить ее, несмотря ни на какие препятствия и гонения. Исповеднический подвиг приснопамятного отца Серафима ярко явился в кровавом XX веке. И мы сегодня можем свидетельствовать, исходя из архивных документов, о его подвиге, когда он не был сломлен ни тюрьмами, ни ссылками, ни каторжными работами. Он был всегда с Господом и сумел не ожесточиться, а, наоборот, пройдя через горнило испытаний, явить миру любовь. Все, кто с ним встречался, помнят его взгляд, наполненный необыкновенной глубиной сострадания, сопереживания, сочувствия каждому приходящему. Преподобный Серафим Саровский встречал каждого приходящего к нему словами: «Радость моя! Христос воскресе!» И этими словами, обращенными к душе человеческой, он возбуждал радость о Боге. Так же и приснопамятный архимандрит Серафим, встречая взглядом каждого приходящего, возрождал в нем любовь, надежду, и человек, даже еще не говоря ему о своих бедах, вдруг освобождался от тяготящего груза проблем духовных и физических. И все это было на глазах у многих, которые сегодня свидетельствуют о святой жизни приснопамятного архимандрита Серафима. Мы всячески стараемся, чтобы канонизация приснопамятного архимандрита Серафима совершилась как можно быстрее. Но не так прост этот путь. Вспомним, что для того, чтобы канонизировать преподобного Серафима Саровского, понадобилось 70 лет, святителя Иоасафа Белгородского — 157 лет! Будем же и мы иметь твердую надежду. И я верю, что уже близок тот день, когда мы воспоем величание приснопамятному архимандриту Серафиму. Будем же молиться, чтобы этот день быстрее приблизился! Будем же свидетельствовать о его любви, будем же находить новые свидетельства его святости! И все это будет нашим общим, святым делом. Потому что мы не только помним об отце Серафиме, но любим его! И наша любовь действенна и постоянна! Аминь!
Посвящается отцу Серафиму
Есть всему времена и причины…
Здесь собрал нас Господь отмечать
Четверть века от Вашей кончины,
Сводам храма — сто семьдесят пять…
Все невзгоды, болезни, кручины
К очищению душу ведут…
Четверть века с блаженной кончины!..
К Вам же люди как шли, так идут…
Луч кристальный с духовной вершины
Светит всем временам и мирам…
В общем, не было Вашей кончины!
Вот и утро. Пора в Божий храм!
Протоиерей Игорь Кобелев 2007 г.
Послесловие
Моя первая встреча с отцом Серафимом произошла на Троицу, двадцать пять лет назад. В этот праздник храм украшают травами и цветами, и кажется, что ты находишься не в церковных стенах, а на лугу. Народу было очень много. День выдался теплый и солнечный. От тесноты некоторые вышли на воздух и стояли вокруг храма, через открытые двери и окна слышалось пение хора. Кто-то сидел на скамейках вдоль ограды, а кто-то — просто на траве. Почти у каждого была сумочка или узелок — видно, что приехали издалека. После службы они оставались на церковном дворе, перекусывали, тут же и отдыхали, ожидая вечернего богослужения.
Когда закончилась служба, я увидел батюшку, выходящего из церкви в окружении народа. Со мной произошло что-то необъяснимое, вдруг потекли слезы. Я ничего не мог понять, хотел подойти поближе к старцу, но это было невозможно. Я шел позади всех и не мог сдержать слез. Не помню, как я оказался у входа в келию перед стоящим батюшкой, который держал меня за руку. Со слезами я сказал: «Батюшка, я знаю, что с Вами Бог и что Вы мне скажете, это будет как от Бога», — и опустился перед ним на колени, продолжая плакать. Батюшка поднял меня, и я услышал его негромкий голос: «Я буду вашим духовным отцом и буду наблюдать за вашим духовным ростом, приезжайте ко мне в любое время».
Батюшка направился в келию, я пошел за ним. Войдя в маленькую прихожую, я увидел мать Иоасафу. Только здесь я перестал плакать. Вскоре батюшка вышел из своей келии и благословил меня иконой. Я попросил его фотографию, и он дал мне ее. Я храню этот снимок как самый дорогой подарок.
Позже батюшка благословил меня взять на молитвенную память понравившиеся мне иконы преподобного Серафима Саровского и Спасителя в терновом венце. На обратной стороне иконы Спасителя изображен святой благоверный князь Александр Невский, мой небесный покровитель.
После кончины батюшки по его благословению мне передали его подрясник.
Так в мое сердце и в мою жизнь вошел отец Серафим, который все определил в моей дальнейшей судьбе. Я тогда ничего больше для себя не желал, как только видеть его и быть с ним рядом. До сих пор помню эти необыкновенные минуты общения с батюшкой, которые сохранились в моем сердце, в моей душе, в моей памяти.
Батюшка не оставил записей и поучений, кроме двух тонких ученических тетрадей с записью девяти проповедей, которые сохранил отец Владимир Деменский (1924–1997). Но мы можем сказать, что вся жизнь отца Серафима была проповедью не в словах человеческой мудрости, а в силе Божией, в Духе Святом. «Кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего» — пишет апостол Павел (Рим.8:29). И еще: «Когда Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатию Своею, благословил открыть во мне Сына Своего… я не стал тогда советоваться с плотью и кровью» (Гал.1:15–16). Надо полагать, что избрание для свидетельства любви чрезвычайно редкое, потому что оно сопряжено с неизбежным отданием всего себя в жертву. Святые страдают, беря на себя испытания и грехи мира, его немощи и болезни, становясь тем самым соучастниками несения Креста Господня. Блаженный старец Силуан Афонский говорил: «Молиться — кровь проливать».
В лице отца Серафима Промыслом Божиим мы имели пример безмерной любви и смирения, пример высокого служения Богу. Апостол Павел сказал: «Но для того я и помилован, чтоб Иисус Христос во мне первом показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к Жизни Вечной» (1Тим.1:16). И отец Серафим воспринял глаголы Вечной Жизни (Ин.6:68).
Во время проповеди, наученный Духом Святым любви Христовой, он плакал. Об этом свидетельствуют те, кто молился вместе с ним за богослужением. Слово его по форме было очень простым, проповедь произносилась на тему Евангелия, прочитанного в тот день. Но говорилась она с такой силой и внутренней верой, как будто о только что свершившемся. Его сопереживания благой вести передавались и слушающим. И поэтому все сказанное воспринималось с огромным вниманием при абсолютной тишине. Слово, произнесенное батюшкой, проникало в самое сердце, и Господь незримо через него отвечал на все наши вопросы. Одна из духовных чад батюшки вспоминает: «Во время проповеди отец Серафим объяснял как-то, почему мы болеем. Среди прочего он сказал: «Дети болеют за грехи родителей, взрослые — по своим грехам». «Почему я часто болею?» — задумалась я. Батюшка посмотрел в мою сторону и продолжил: «Болезни бывают и по нашему нерадению». Меня как будто осенило: я действительно болею по своему нерадению».
Я на себе испытал благодатную силу проповеди старца. Когда он обращался ко всем и к каждому непосредственно, слово его начинало обличать: чувствовалось, что батюшка видит твои грехи, плачет о них. И тогда в сердце приходит сокрушение, душа омывается и исцеленным и радостным выходишь из храма. В такие минуты хочется быть одному и как можно дольше сохранить в душе умиротворение.
У духовных чад отца Серафима сохранилось небольшое количество магнитофонных записей с проповедями батюшки, которые доносят до нас его голос и веру в произносимые им слова Евангелия. Как сказал архимандрит Кирилл, при общении с отцом Серафимом его больше всего поразила в старце неподдельная любовь ко всем людям, и эту любовь мы чувствуем в его проповедях. Душа отца Серафима страдала оттого, что люди живут, не ведая Бога и Его любви. Хотя любовь Христова есть блаженство, ни с чем не сравнимое, вместе с тем любовь есть страдание. Любить любовью Христа — это значит пить Его Чашу, ту Чашу, которую Сам Христос по Своей человеческой природе просил Отца Своего пронести мимо.
Апостол любви Иоанн Богослов говорит о Христе: «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев» (1Ин.3:16). И отец Серафим до конца своей жизни постоянно молился за всех, не имея времени для отдыха, для уединенной молитвы. Как Христос, он часто молился ночью, ибо другого времени у него не было: он принимал больных и нуждающихся в духовном окормлении, ежедневно совершал богослужение, которое длилось по восемь часов в храме, затем продолжалось и в келии.
У отца Серафима было удивительно нежное сердце, его отличали чрезвычайная чуткость и отзывчивость на всякую человеческую скорбь и страдание. Елизавета Константиновна, из Белгорода, рассказала о таком случае. «Поток людей к батюшке не прекращался бы ни днем ни ночью, если бы мать Иоасафа по мере сил не ограждала его. Иногда она даже запирала отца Серафима на замок в келии. Как-то, будучи в вынужденном затворе, он увидел на улице женщину с ребенком, которая очень хотела повидать его. Видно, старец не мог им отказать и попросил меня впустить их через окно. А вслед за ними так же «нелегально» принял еще четверых».
Отец Серафим с любовью и легкостью общался со всеми людьми, независимо от их положения и образа жизни. В нем не было и тени пренебрежения к людям согрешающим и отверженным, израненным грехами. Как любящий отец, он скорбел и молился о них. И сам всегда просил всех молиться о себе. Старец никого не обличал, только со слезами просил, сколько есть сил воздерживаться от греха. Он был человеком истинно смиренным и перед Богом, и перед людьми. В нем были величайшее благородство и кротость.
При общении с отцом Серафимом в самых разнообразных условиях человек, обладающий даже очень тонким восприятием, не мог заметить в нем каких-либо грубых движений сердца: отталкивания, невнимательности, пренебрежения, неуважения. Даже находясь в состоянии крайнего утомления, батюшка никогда не раздражался. Каждый, кто обращался к нему, чувствовал, что получил максимально возможную меру внимания к своим нуждам. Он никогда громко не смеялся, иногда только легкая улыбка проскальзывала по его лицу и туг же уходила в глубину сердца. Мне и другим духовным чадам отца Серафима многие задают один и тот же вопрос: видели ли мы когда-нибудь, чтобы батюшка был вне себя, был раздраженным, возмущался ли или обидел кого? Нет и нет! Никогда не видели. С детства душа его возлюбила Бога, и он, созерцая Господа в каждом человеке, не мог оскорбил» кого-либо. В нем не было гнева, но при удивительной мягкости, редкой уступчивости и смирении, у него была великая твердость сопротивляться всему, что может оскорбить Господа. Достигал он этого тем, что, молясь внутренне, оставался внимательно спокойным, невосприимчивым ко всему плохому: старец всегда пребывал в присутствии Бога.
Батюшка никого никогда не осуждал, и если ктолибо приходил к нему с жалобой на другого, он учтиво останавливал, но так, чтобы не оскорбить говорившего и призывал помолиться за обидчика. Тогда все недоумения рассеивались, обида уходила и наступало умиротворение. Своим духовным детям, вспоминает внук Димитрий, батюшка сказал после того, как они пришли к нему искать виноватого: «Мне скорбно, что я плохо укрепляю вас в вере. Простите меня. Я буду больше уделять вам внимания, чтобы вы жили в любви и согласии». После этих слов все стали плакать и просить друг у друга прощения. Он был примером исполнения заповеди Христовой: Блажени миротворцы; яко тии сынове Божии нарекутся».
Смирение и послушание архипастырям проявлялись у отца Серафима безо всякого человекоугодия. Это был подлинно христианин, образ и подобие Божие.
Общение с отцом Серафимом носило особый, исключительный характер. Моя душа раскрывалась навстречу ему. Возникало спокойное, умиротворенное состояние и, вместе с тем, очень сильное желание почувствовать благоухание духа любви Христовой, в которой пребывал батюшка. Редкое, исключительное наслаждение дает общение с таким человеком. «Даже попасть в поле его зрения было неописуемым счастьем», — пишет одна из духовных чад старца.
Отец Серафим просто, без малейшею тщеславия говорил о вещах духовных. Если у слушателя была к нему вера, то через беседу со старцем он воспринимал, в доступной ему мере, то благодатное состояние, в котором находился сам батюшка. Кротость, смирение, дар подлинной молитвы чудесным образом преображали сердца тех, кто был рядом с ним.
На исповеди у батюшки сердце само начинало каяться. Душа старца плакала, глубоко сопереживая кающемуся. Поэтому исповедоваться старцу было необыкновенно легко. Хотя душа трепетала, каждый знал, что не услышит упрека или порицания. Отец Серафим брал все наши грехи на себя, просил нам прощения, каялся за нас. После исповеди на сердце становилось легко, и душа, израненная в падениях, ощущала милость Божию и прощение.
Уезжать из Ракитного и расставаться с батюшкой мне всякий раз было тяжело. Душа не могла выносить дол гой разлуки с ним и плакала, как плачет ребенок, потерявший и ищущий свою мать.
Я бесконечно благодарен Богу за то, что Он сподобил меня встретить на земле праведника и дал мне, недостойному, радость и возможность находиться рядом с ним. Любовь отца Серафима согревала мою грешную душу, его молитвы всегда поддерживали меня, да и сейчас помогают мне в жизни. Я благодарю Господа за то, что Он дал мне возможность общаться с духовными чадами старца и принять участие в работе над этой книгой воспоминаний о жизни и пастырском служении дорогого для всех нас отца Серафима.
Иеродиакон Софроний (Макрицкий), г. Белгород.
К вопросу об участии отца Серафима в событиях «Зоиного стояния» в Куйбышеве
Знаменитое «Зоино стояние», потрясшее в середине 50-х годов всю Самару, а за ней и всю страну. С тех пор прошло 45 лет. С выходом в 1998 г. в Свято-Троицкой Сергиевой лавре книги «Белгородский старец архимандрит Серафим (Тяпочкин)», где отец Серафим (тогда отец Димитрий) упоминается как один из возможных участников тех далеких событий.
До сих пор не утихают споры, действительно ли причастен отец Серафим к этому чуду?
«…Батюшка молчал о своей причастности к этому, некоторые говорили, что он не хочет признаваться по смирению, а некоторые — что ему запрещают власти. Называли имя еще одного священника, который взял эту икону, и потом получил за это три года.
…У меня есть такое свидетельство. В Оптиной пустыни в свое время подвизался шумен Герман, который в юности был келейником мтропепита Мануила (Лемешевского), тогда архиепископа Куйбышевского (Самарского) и, как раз когда происходили эти события, был чтецом в Куйбышевском соборе. Он мне рассказывал, что действительно было чудо, и милиция оцепила дом. Потом в собор позвонил уполномоченный по делам религии и сказал настоятелю: «Объявите в ближайшее воскресенье, что ничего нет, что все это сказки и враки». Настоятель ответил: «Разрешите, я сам пойду, посмотрю эту самую Зою и тогда уже объявлю». Через час уполномоченный перезвонил и сказал: «Ладно, не надо ничего объявлять».
Отец Герман считал, что батюшка Серафим всетаки был к этому причастен, но ничего определенного тоже не говорил, поэтому вопрос остается открытым. Думаю, Господь откроет имя того, кто это сделал, нет ничего тайного, что не стало бы явным (Мк.4:22)»[87].
Как автор-составитель жития архимандрита Серафима (Тяпочкина), я не имею права умолчать о тех фактах, которые стали мне известны, в том числе и о возможном участии отца Серафима в куйбышевских событиях.
Чудо Куйбышевского «стояния Зои»
В 1956 году случилось то, что потрясло весь православный мир, — знаменитое «Зоино стояние»[88]. Напомним вкратце об этом чуде, происшедшем в Самаре (тогда Куйбышеве).
Работница трубного завода (ныне завод им. Масленникова), некая Зоя, решила с друзьями встретить Новый год. Ее верующая мать была против веселья в Рождественский пост, но Зоя не послушалась. Все собрались, а Зоин жених Николай где-то задержался. Играла музыка, молодежь танцевала, только у Зои не было пары. Обиженная на жениха, она сняла с божницы икону Святителя Николая и сказала: «Если нет моего Николая, потанцую со святым Николой». На увещевания подруги не делать этого, она дерзко ответила: «Если Бог есть, пусть Он меня накажет!» С этими словами она пошла по кругу. На третьем круге комнату вдруг наполнил сильный шум, поднялся вихрь, молнией сверкнул ослепительный свет, и все в страхе выбежали. Только Зоя не выбежала: она застыла с прижатой к груди иконой Святителя, окаменевшая, холодная, как мрамор.
…Ее не могли сдвинуть с места: ноги девушки как бы приросли к полу. При отсутствии внешних признаков жизни, Зоя была жива: сердце ее билось. С этого времени она не могла ни пить, ни есть. Врачи прилагали всевозможные усилия и старания, но не могли привести ее в чувство.
Весть о чуде быстро разнеслась по городу, многие приходили посмотреть Зоино стояние. Но спустя какое-то время городские власти опомнились: подходы к дому перекрыли, и дом стал охранять наряд дежурных милиционеров, а приезжим и любопытным отвечали, что никакого чуда здесь нет и не было.
Дежурившие на Зоином посту по ночам слышали, как Зоя кричала: «Мама! Молись! В грехах погибаем! Молись!» Медицинское обследование подтвердило, что сердцебиение у девушки не прекратилось, несмотря на окаменелость тканей (не могли даже укол сделать — иглы ломались). Приглашенные священники после совершения молитв не смогли взять икону из застывших рук Зои. В самый праздник Рождества Христова, полный веры и благоговения, пришел иеромонах Серафим, с пламенным усердным молением освятил воду перед иконою Святителя и со страхом Божиим и верой легко взял святой образ из рук Зои, сказав при этом: «Теперь надо ждать знамения в Великий Христов день» (т.е. на Пасху).
Посетил Зою и усердный молитвенник, имеющий великую силу, митрополит Московский Николай (Ярушевич). Он подтвердил слова благочестивого иеромонаха Серафима и, совершив моление, сказал: «Нового знамения надо ждать в Великий день».
…Перед праздником Благовещения некий благообразный старец просил охрану пропустить его. Ему отказали. Появлялся он и на следующий день, но и другая смена его не пропустила. В третий раз, в самый праздник Благовещения, охрана его не задержала. Дежурные слышали, как старичок говорил Зое: «Ну что, устала стоять?» Прошло какое-то время, старец все не выходил. Когда заглянули в комнату, его там не обнаружили (все свидетели происшедшего убеждены, что являлся сам Святитель Николай).
Зоя простояла 4 месяца (128 дней), до самой Пасхи, которая в том году была 23 апреля (6 мая по новому стилю). В ночь на Светлое Христово Воскресение Зоя громко взывала: “Молитесь! Страшно, земля горит! Весь мир в грехах гибнет! Молитесь!!!” С этого времени она стала оживать, в мускулах появилась мягкость, жизненность. Ее уложили в постель, но она продолжала взывать и просить всех молиться о мире, гибнущем во грехах, о земле, горящей в беззакониях.
— Как ты жила? — спрашивали те. — Кто тебя кормил?
— Голуби, голуби меня кормили, — отвечала Зоя.
Молитвами Святителя Николая Господь помиловал ее, принял ее покаяние и простил ее грехи…
Происшествие вызвало такой переполох в области, что его обсуждали даже на партийной конференции, созванной в январе 1956 года. Стенограмма конференции зафиксировала накал страстей в стане атеистов в связи с «Зоиным стоянием». На вопросы делегатов отвечал один из руководящих работников: «В Куйбышеве широко распространились слухи о происшедшем якобы чуде на Чкаловской улице. Записок по этому поводу пришло штук двадцать. Да, произошло такое чудо — позорное для нас, коммунистов, руководителей парторганов. Какая-то старушка шла и сказала: «Вот в этом доме танцевала молодежь, одна охальница стала танцевать с иконой и окаменела». После этого стали говорить, что она окаменела, одеревенела, и пошло. Начал собираться народ, потому что неумело поступили руководители милицейских органов. Видно, и еще кто-то приложил к этому руку. Тут же поставили милицейский пост, а где милиция, туда и глаза. Мало того. Поскольку народ все прибывал, выставили конную милицию. Раз так — все туда. Некоторые додумались до того, что вносили предложение послать туда попов для ликвидации этого позорного явления… Бюро обкома рекомендовало виновников строго наказать, а товарищу Страхову (редактору газеты «Волжская коммуна») дать разъясняющий материал в газете».
Все случившееся настолько поразило жителей Куйбышева и его окрестностей, что множество людей обратилось к вере. Спешили в церковь с покаянием, некрещеные крестились, не носившие креста стали его носить (даже не хватало крестов для желающих).
Когда спустя годы архимандриту Серафиму задавали вопросы о его встрече с Зоей, он всегда угонялся от ответа. Вспоминает протоиерей Анатолий Литвинко, клирик Самарской епархии. «Я спросил отца Серафима: «Батюшка, это вы взяли икону из рук Зои?» Он смиренно опустил голову. И по его молчанию я понял — он». Да и власти могли вновь начать на него гонения из-за большого притока паломников, желавших приложиться к чудотворной иконе Святителя Николая, которая была в храме, где служил отец Серафим. Со временем власти потребовали убрать икону, скрыть от народа, и она была перенесена в алтарь.
Недавно этим случаем вновь заинтересовалась массовая печать. Приводим выдержки из публикации «Комсомольской правды»:
«Многим верующим в Самаре известна пенсионерка Анна Ивановна Федотова.
«В те дни возле дома Зои я была дважды, — рассказывает Анна Ивановна, — приезжала издалека. Но дом был окружен милицией. И тогда я решила расспросить обо всем какого-нибудь милиционера из охраны. Вскоре один из них — совсем молоденький — вышел из калитки. Я пошла за ним, остановила его: «Скажите, правда, что Зоя стоит?» Он ответил: «Ты спрашиваешь в точности, как моя жена. Но я ничего не скажу, а лучше смотри сама…» Он снял с головы фуражку и показал совершенно седые волосы: «Видишь?! Это вернее слов… Ведь мы давали подписку, нам запрещено рассказывать об этом… Но если бы ты только знала, как страшно мне было смотреть на эту застывшую девушку!»
Совсем недавно отыскался человек, поведавший о самарском чуде нечто новое. Им оказался уважаемый в Самаре настоятель Софийской церкви священник Виталий Калашников:
«Анна Павловна Калашникова — тетка моей матери — в 1956 году работала в Куйбышеве врачом «Скорой помощи». В тот день утром она приехала к нам домой и сообщила: «Вы тут спите, а город уже давно на ногах!» И рассказала об окаменевшей девушке. А еще она призналась (хотя и давала подписку), что сейчас была в том доме по вызову. Видела застывшую Зою. Видела икону Святителя Николая у нее в руках. Пыталась сделать несчастной укол, но иглы гнулись, ломались, и потому сделать укол не удалось.
Все были потрясены ее рассказом…
Анна Павловна Калашникова проработала на «Скорой» врачом потом еще много лет. Умерла в 1996 году. Я успел пособоровать ее незадолго до смерти. Сейчас еще живы многие из тех, кому она в тот самый первый зимний день рассказала о случившемся»[89].
Валентина Николаевна Шушляпина (г. Белгород) вспоминает: «Я приехала к отцу Серафиму. Остановилась переночевать в доме Марии Романовны, где собралось много приезжих. Спать было тесно, в комнате душно. Два молодых человека поднялись и вышли во двор на свежий воздух, вслед за ними — и я. Разговорились, оказалось, что они из Куйбышева и учатся в духовной семинарии. Я стала расспрашивать их о «Зоином стоянии». Когда это произошло, они были ребятишками; вышло, что именно это чудо и привело их к вере в Бога. Теперь вот приезжают к отцу Серафиму, став его духовными чадами. Они утверждали, что именно отец Серафим взял икону из рук Зои.
…После службы староста храма матушка Екатерина Лучина (в постриге монахиня Серафима) спрашивает: «А ты приложилась к чудотворной иконе Святителя Николая?» Я ей отвечаю: «Да». Она не отстает: «К какой?» Я ей показываю на большую икону Святителя Николая у стены. Она говорит: «Нужно к той, что на аналое. Ее наш батюшка взял у Зои. Только никому не рассказывай, а то нам запретили об этом говорить, и батюшку могут вновь арестовать».
И, видимо, не случайно, по благословению отца Серафима, в ракитянском храме[90] у иконы Святителя Николая и у распятия Спасителя (на Голгофе) вот уже сорок лет горят неугасимые лампады. Елизавета Константиновна Фофанова, духовная дочь старца, однажды спросила отца Серафима: «Батюшка, это вы взяли икону у Зои?» Он ей ответил: «Зачем вам это знать? Не спрашивайте меня больше об этом».
Протоиерей Владимир Волгин, настоятель московского храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках говорил: «Всех всегда волновал вопрос о связи отца Серафима с чудом «Зоиного стояния». И как-то я после нашей беседы спросил: «Батюшка, какое отношение вы имеете к этому замечательному чуду, связанному с иконой Святителя Николая? Батюшка не стал отказываться, но сказал мне достаточно твердо, насколько вообще он мог быть твердым в своем пастырском слове: «Не будем об этом сейчас…» И мне уже больше не хотелось его расспрашивать, искушать этого великого старца, зная, что многие мои собратья, да и духовные чада старца неоднократно, по разным причинам, с ним об этом говорили. Но поскольку отец Серафим не дал отрицательного ответа, для себя лично я сделал вывод, что он был непосредственным участником в разрешении чуда “Зоиного стояния”».
Архимандрит Геннадий (Давыдов, в схиме Григорий), будучи за трапезой у батюшки, в присутствии духовенства спросил: «Отец Серафим, это вы взяли икону у Зои?» На что старец ответил: «Отец Геннадий, что вы меня искушаете…»
Близкая духовная дочь спросила отца Серафима: «Батюшка, это вы были в Куйбышеве и взяли икону из рук Зои, сотворив чудо?» Старец ответил: «Деточка моя, чудеса творит Бог, а мы, недостойные, по молитвам нашим получаем».
Другой духовной дочери, Марии, на ее вопрос о «Зоином стоянии» незадолго до своей кончины батюшка ответил: «И меня Господь сподобил быть там».
Из воспоминаний Александры Ивановны Антоновой (монахиня Алексия, 1941–2008)[91]. «На пятой неделе Великого поста 1982 года протоиерей Анатолий Шашков из города Фатеж Курской области, иконописец иеромонах Зинон (ныне архимандрит) и я приехали в Ракитное. Отец Серафим был болен, он уже никого не принимал. По просьбе отца Анатолия меня пропустили к нему. Батюшка лежал на кровати, он был болен, но принял приветливо и предложил сесть на стул рядом с его постелью.
Я рассказала ему о своих затруднениях и просила его святых молитв. Речь шла об обмене частного дома на государственную квартиру, на что требовалось разрешение Совета министров. Поездка из Подмосковья в Москву на работу ежедневно отнимала три часа времени, и так в течение двадцати лет. Он сказал: «А почему вы не приехали раньше, на первой седмице Великого поста? Можно было бы этот вопрос решить… Ну хорошо, будем молиться». В тот момент я подумала, что если обмена не произойдет, то брошу работу в издательстве Московской Патриархии. Тогда батюшка, несмотря на свою физическую слабость, поднялся с кровати, подошел, взял мою руку, постучал ею мне по лбу и произнес: «Выбросьте из головы эту мысль. Ни в коем случае не оставляйте издательский отдел, вы там нужны, считайте это вам моим благословением». Я в ответ: «Батюшка, я больна, переутомляюсь, с сердцем бывает плохо, в дороге могу и умереть». А он продолжает: «Вы никуда не уйдете, а если суждено вам умереть, то Господь вас помилует за послушание». Вдруг его слова дошли до моего сознания. Я была потрясена его прозорливостью и той решительностью, с которой он убеждал не оставлять работу в издательстве.
Дальше все произошло само собой, как бы без моего участия. Я дерзнула спросить: «Батюшка, а где икона Святителя Николая, которую вы взяли у Зои?» Он строго на меня посмотрел. Наступило молчание. Почему я вспомнила именно об иконе? В Куйбышеве жили мои родственники, на той самой улице, что и Зоя. Когда все это произошло, мне было четырнадцать лет. Чтобы народ не собирался возле дома, по вечерам отключали освещение. Крики Зои приводили всех в ужас. Молодой милиционер, стоявший на посту, от всего этого поседел. Мои родственники, будучи очевидцами происходящего, стали верующими и начали посещать храм. Чудо “Зоиного стояния” и все случившееся с ней глубоко запечатлелось в моем сознании.
Я много слышала об отце Серафиме, но в первый раз оказалась у него в 1982 году… После его строгого взгляда меня пронзила мысль: «Ой, горе мне, горе». Вдруг батюшка сказал: «Икона лежала в храме на аналое, а сейчас она находится в алтаре. Были такие времена, что ее велели убрать»[92].
Через две недели батюшка скончался.
Спустя год я приехала к нему на могилку, помолиться и говорю диакону Иоанну (Бузов; f2002r. иеросхимонах Иоанн): «Вот, батюшка, чуда-то не произошло, квартиру я не обменяла». Он мне в ответ: «Если отец Серафим сказал, что будет молиться, не сомневайтесь, он молится. Вы поменяетесь, но не выше второго этажа». Так и получилось. Сначала документы подготовили на квартиру на шестом этаже, но хозяева передумали, а через месяц нам предложили второй этаж. У мамы были больные ноги, и ей тяжело было бы подниматься по лестнице. Работу в Москве я не оставляла, молитвами отца Серафима мое здоровье укрепилось, и я продолжала работать до ухода на пенсию».
Вот что рассказала Клавдия Георгиевна Петруненкова (схимонахиня Клавдия †2004 г.) из Санкт-Петербурга — духовная дочь митрополита Николая (Ярушевича)[93].
«Когда произошло «Зоино стояние», я спросила владыку, был ли он в Куйбышеве и видел ли он Зою. Владыка ответил: «Я был там, молился, но икону у Зои не взял, не время еще было».
Незадолго до кончины отца Серафима я была в Ракитном. В храме на горнем месте, справа от престола я видела икону Святителя Николая в окладе. Во время беседы с отцом Серафимом в его келии я спросила: «Батюшка, у вас в алтаре та икона Святителя Николая, которая была у Зои?» «Да», — ответил он… О Зое больше мы не говорили». Однажды составитель этого сборника спросил у Клавдии Георгиевны, почему именно ей батюшка сказал про икону. «Он мне доверял. По просьбе митрополита Антония Сурожского, в одну из наших встреч с отцом Серафимом я задала ему вопросы, которые интересовали владыку».
О куйбышевских событиях рассказывает Андрей Андреевич Савин, бывший в то время секретарем Самарского епархиального управления: «При епископе Иерониме[94] это было. Утром я увидел группу людей, стоящую возле того дома. А уже к вечеру толпа доходила до тысячи человек. Были выставлены патрули. Но людей сначала не трогали, видимо, сказывалось первое замешательство. Это уже позднее начали всех разгонять. Предлог обычный: «Нарушаете покой жителей, движение автотранспорта»… Но толпа все равно росла как на дрожжах. Многие приезжали даже из окрестных сел.
Те дни были очень напряженными. Народ, естественно, ждал от нас разъяснений, но ни один священник и близко к тому дому не подходил. Боялись. Тогда мы все ходили по «тонкой жердочке». Священники были на «регистрации»: их утверждал и смещал уполномоченный по делам религий исполкома. В любой момент каждый мог остаться без работы и средств к существованию. А тут такой прекрасный повод свести с нами счеты!
Вскоре среди верующих прошел шепоток, что Зоя прощена и в День Святой Пасхи воскреснет. Люди ждали, надеялись. А по городу уже вовсю расхаживали отряды комсомольцев. Бойко «разоблачали», уверяли, что были в доме и ничего не видели. Это все только подлило масла в огонь, так что и те, кто действительно не верил в чудо, под конец усомнились: наверное, все же народная молва права, хоть и не во всем, и в доме на Чкаловской улице все-таки произошло нечто удивительное — не сомневаюсь!»[95]
Архиепископ Самарский и Сызранский Евсевий[96] как бы подытоживает различные суждения о случившемся.
«Свидетелями этого чуда были многие люди. Я узнал об этом в 1957 году во время учебы в семинарии. Сомнений не было никаких — это величайшее чудо! В то время, когда вера подвергалась гонению и поруганию от безбожных властителей, этот случай чудесного проявления силы Божией стал сенсацией. И не только для жителей Самары.
Чудо о Зое стало уроком многим. Ведь относиться к святыне нужно с благоговением. Это урок и безбожникам: ты можешь не верить, но святыню не тронь, иначе последует наказание! Если бы неверующая Зоя не прикасалась к святой иконе, ничего ведь не произошло бы.
Подобных чудес совершалось немало: когда нечестивцы касались святыни, они поражались. Аффоний в Иерусалиме при погребении Богородицы хотел опрокинуть Ее гроб, и на виду у всех Ангел Господень отсек ему руки… Известны случаи, когда человек сбрасывал на землю колокол и вместе с колоколом сам летел вниз…
Да, в те времена у людей была большая потребность в чуде. Но чудеса являются, когда они нужны для народа, когда Господь определит»[97].
Эту историю, происшедшую в Москве в семье Анатолия и Таисии в 2000 году, рассказал автору Александр Якушин из Москвы. …23 марта, в четверг, на второй седмице Великого поста Лариса, дочь Анатолия, отмечала свой день рождения. Все сидели за праздничным столом, играла музыка, Лариса взяла за руку дочь и начала с ней танцевть. Во время танца Лариса вдруг вскрикнула и от боли в ноге упала на пол. Ее гости были потрясены происшедшим. Когда Лариса пришла в себя, рассказала: “Когда я начала танцевать, передо мной неожиданно появился старец в черной одежде и строго посмотрел на меня. В это же мгновение я почувствовала сильную боль в ноге и упала”. О происшедшем Анатолий рассказал своему другу Александру. Для вразумления Ларисы Аллександр дал ей книгу о белгородском старце архимандрите Серафиме (Тяпочкине). Когда Лариса увидела на обложке книги фотографию отца Серафима, она узнала того старца, который явился ей. После прочтения книги об отце Серафиме, Лариса сказала: “Что бы я еше когдалибо танцевала — никогда!” Лариса верила, что после ее покаяния, по молитвам батюшки Серафима, Господь исцелит ее… И по истечении трех месяцев ее болевшая и почерневшая нога — исцелилась.
Записано 27 мая 2004 года.
Несмотря на прошедшие сорок восемь лет многое из того, что связано с «Зоиным стоянием», остается пока прикровенным. Мы надеемся, что со временем белые пятна исчезнут, и нам откроются новые обстоятельства и свидетельства, проливающие свет на эту историю.
В 1998 году монахиня Елисавета (Баранова; 1912–2000) из города Сумы дала автору прочесть тетрадь с описанием «Зоиного стояния». Там сказано, что архимандрит Серафим (Тяпочкин) из села Ракитного взял икону из рук Зои (в те годы, когда происходили эти события, она с мужем находилась в Куйбышеве в ссылке). В народной повести о «Зоином стоянии» говорится следующее: «… Взял образ святой из рук Зои, сказал при этом: «Теперь надо ждать знамения в Великий Христов день» [98].
И в другом месте: «Посетил Зою и усердный молитвенник, имеющий великую силу, митрополит Московский Николай. Он подтвердил слова иеромонаха Серафима и, совершив моление, сказал: «Нового знамения надо ждать в Великий день»[99]. Можно предположить, что тот, кто записывал рассказ о «Зоином стоянии», был украинского происхождения. Отец Димитрий проживал и служил на Украине, а когда был направлен в шестидесятые годы в Курско-Белгородскую епархию, по свидетельству монахини Иоасафы, келейницы старца, к нему из Днепропетровска и других городов страны приезжало очень много духовных чад. Тогда или позже могла быть записана повесть о «Зоином стоянии», о том, что икона была взята иеромонахом Серафимом (тогда отцом Димитрием), принявшим постриг в 1960 году. Так имя Димитрий соединилось с именем Серафим, данным батюшке при постриге.
Существует и другое мнение: икону взял иеромонах Серафим (Полоз), клирик Петропавловского храма города Куйбышева. Дважды (в 1997 и в 1999 годах) автор посетил архиепископа Ярославского и Ростовского Михея. Вот что сообщил мне владыка:
«Как-то случайно встретился я на аэродроме с иеромонахом Серафимом. Мы были тогда молодыми, почти ровесники. Нам было лет по тридцать пять (1956 г. — Автор). Мы разговорились. Он мне рассказал о «Зоином стоянии» и что ему много пришлось претерпеть от властей в связи с этими событиями, происшедшими в 1956 году в Куйбышеве». На мою просьбу подробнее описать разговор, владыка заметил: «Это было давно, более сорока лет назад, подробности я не помню и больше ничего об этом сказать не могу»[100]. Владыка был уставший и плохо себя чувствовал. Я не стал переутомлять его дальнейшими расспросами.
Иеромонах Серафим (Полоз) рассказал иеромонаху Михею о «Зоином стоянии», но он не утверждал, что взял икону.
В некоторых газетных публикациях о «Зоином стоянии» сообщалось, что икона из рук Зои была взята иеромонахом Серафимом из Глинской пустыни. Надо сказать, что в Глинской пустыни подвизались два Серафима: иеромонах Серафим (Амелин, 1874-1958) и схиархимандрит Серафим (Романцов, 1885-1976) — ныне прославлены в лике святых, духовник игумена Михея (будущего архиепископа Ярославского). Владыка Михей твердо сказал автору этих строк, что не схиархимандрит Серафим (Романцов) брал икону из рук Зои.
В Самарском издательстве в 2000 году вышла книга «Стояние Зои». Чудо Святителя Николая в Самаре». В ней на с. 40 читаем: «Запросы в самарские архивы не внесли большей ясности. Из архива ГУВД Самарской области сообщили, что у них сведений о событиях 1956 года, связанных со «стоянием Зои», и о личности иеромонаха Серафима (Полоза) не имеется. Правда, в течение последних десятилетий в архиве неоднократно проводились изъятия — «дела» уничтожались по истечении срока хранения. Возможно, когда-то уничтожили и интересующие нас документы[101].
…Когда в газете «Русь Державная» был опубликован материал из книги о чуде «Зоиного стояния», позже возникли споры. Некоторые духовные чада отца Серафима опровергали причастность батюшки к этим событиям. В то время, когда они звонили в редакцию и высказывали несогласие, автор этих строк находился в Белгороде и ничего об этом не знал. В белгородском храме я встретил монахиню Варвару[102], которая рассказала, что во сне ей явился батюшка Серафим и сказал: «Не употребляйте усилий в доказательствах «Зоиного стояния». Когда я приехал в издательство, книга об отце Серафиме была почти готова к выходу, ее осталось только переплести.
Хочу заметить, что если бы историю о «Зоином стоянии» несогласные с ней духовные чада старца прочли раньше (например, в газете, вышедшей за полгода до издания книги тиражом 25 тыс. экз.), то этот материал не вошел бы в данный сборник, его бы просто не опубликовали из-за различия во мнениях.
Разногласия вокруг самарского чуда отчасти объясняются тем, что духовная жизнь праведников, старцев во многом прикровенна, неподвластна внешним законам и суждениям, и только Господь ведает всю полноту истины…
Часть вторая. Подвижники благочестия и родные по духу
Схиархимандрит Андроник (Лукаш)
Епископ Стефан (Никитин)
Митрополит Леонид (Поляков)
Схиигумен Феофил (Россоха)
Схиигумен Савва (Остапенко)
Архимандрит Адриан (Кирсанов)
Архимандрит Кирилл (Павлов)
Схиархимандрит Власий (Перегонцев)
Архимандрит Нектарий (Марченко)
Схиархимандрит Илий (Ноздрин)
Протоиерей Владимир Волгин
Схииеромонах Амфилохий (Трубчанинов)
Протоиерей Анатолий Шашко
Александр Андреевич Галицкий
Петр Ильич Мельник
Памяти Глинского старца — схиархимандрита Андроника (Лукаш, 1888–1974)[103]
Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедовал вам.
(Ин.15:14)
Старец Глинской пустыни — схиархимандрит Андроник (Лукаш, 1888–1974). Ныне прославлен в лике святых. Духовно окормлял отца Димитрия Тяпочкина (архимандрита Серафима) с 1960 г.
Схиархимандрит Андроник (в миру Алексей Андреевич Лукаш) родился 12 февраля 1888 года в селе Луппа Роменского уезда Полтавской губернии, в семье крестьян Андрея и Акилины.
Его отец служил сельским почтальоном и был жестокого нрава, вспыльчивым и раздражительным. Мать, напротив, была смиренной, глубоко верующей, набожной женщиной, верной христианкой и заботливой женой. В семье росло пятеро детей: Филипп, Иоанн, Варвара, Алексей и Василий.
Акилина провидела в Алексее его светлое пред Богом будущее. Окрестив его в честь святого Алексия, человека Божия, она неустанно заботилась о воспитании сына. Семя упало на добрую почву и уже в детстве дало всходы: мальчик потихоньку вставал ночью, становился на колени, скрестив ручки на груди, и с удивительным для его лет усердием молился о маме, отце, братьях и сестре. Он отличался кротостью и непоколебимым спокойствием, которые сохранил до преклонных лет.
Начальное образование Алексей получил в сельской церковно-приходской школе. Знания давались ему с трудом, и после окончания школы отец устроил его работать кучером. Мальчик был настолько серьезным, что отец часто давал ему самые ответственные поручения. Следуя закону Божию, он повиновался родителям во всем. Но еще в отроческие годы Алексея стала тяготить суета этого мира. В своих мыслях он часто погружался в тот мир, где непрестанно славится имя Божие, думал о монастырях и иноческой жизни. С годами в нем окрепло желание стать монахом.
Однажды в воскресенье, возвращаясь из храма после литургии, Алеша встретил странника, который, провидя монашескую настроенность юноши, рассказал ему о многих русских обителях, их уставах и обычаях. Он подчеркнул, что в Глинской пустыни соблюдается строгий устав — Афонский, служба там продолжительная, существует старческое окормление, официально закрепленное уставом. В следующее воскресенье странник дал ему адрес Глинской обители и рекомендательное письмо к своему знакомому монаху. Мать, узнав о решении сына уйти в монастырь, едва сдерживая слезы, сняла свой маленький нательный крестик и благословила им Алексея, втайне от отца.
В 1906 году Алексей впервые переступил порог Глинской обители. Братия произвела на него огромное впечатление. Старец впоследствии вспоминал: «Овеяло меня великой радостью, дух мой встревожился, и умом я с воздыханиями обратился к Царице Небесной, прося принять меня в стадо равноангельных иноков, которое Она стяжала к непрестанному славословию Сына Своего. Дал Матери Божией таинственное обещание служить Ей, все переносить, терпеть неисходно до конца своих дней, после чего ощутил радость на сердце и надежду на Ее милосердие». Братия провела Алексея к отцу Иоанну, к которому у него было письмо. Отец Иоанн в то время нес послушание келейника настоятеля, к нему-то и повел он юношу. Алексей, поклонившись до земли, просил настоятеля принять его в число братии, изъявляя согласие на безропотное перенесение всех трудностей и лишений, только бы быть при доме Господнем. Настоятель благословил зачислить его в число братии.
Новому послушнику дали послушание в гостиной, где он пробыл три месяца. После этого ему благословили носить подрясник и руководствоваться наставлениями старца иеромонаха Аристоклия (в схиме — схиигумен Антоний, скончался в Глинской пустыни в 1946 году). Затем Алексею назначили послушание в прачечной. Там он проявил себя неустанным тружеником, молчаливым и смиренным послушником. Через девять месяцев его перевели на монастырскую братскую кухню, где он нес послушание два года. Затем его облекли в рясофор и дали послушание на игуменской кухне, где готовили для гостей.
Через три года Алексея перевели в Спасо-Илиодоров скит, что в трех верстах от обители. Жизнь там была особенно строгой, женщины не допускались на территорию скита. И в таком тихом уединении, на послушании келаря, Алексей приобщался к подвижнической жизни. За стеной его келии жил монах, который почти все ночи проводил в молитве. Алексей слышал, как он делал земные поклоны, и это еше больше возбуждало в нем дух ревности по Богу. В скиту Алексей прожил три года. Первым его старцем был отец Аристоклий (Ветер), но в 1913 году отец Аристоклий перешел в Омский Покровский монастырь, и Алексия поручили строгому аскету отцу Иулиану (Гагарину). В 1915 году Алексей был призван в армию. Сначала он служил в Перми, но вскоре был переведен в Польшу, был рядовым солдатом, дисциплинированным, тихим, кротким и трудолюбивым. После учебных занятий он выполнял обязанности доверенного денщика при командире.
Демобилизовавшись, послушник Алексей сразу вернулся в родную обитель и принял послушание на пасеке. А через некоторое время началась Первая мировая война. В 1915 году вместе с другими молодыми иноками Глинской пустыни Алексей был мобилизован. При первой же боевой операции его вместе с остатками взвода взяли в плен, затем отправили в лагерь, из которого перевезли в Австрию, где Алексей пробыл три с половиной года.
Привыкший трудиться, он работал настолько старательно, что это обратило на него внимание конвоиров, которые иногда давали ему лишнюю порцию хлеба. Осенью 1918 года он получил освобождение.
В Глинской обители, куда послушник Алексей вернулся после плена, настоятель архимандрит Нектарий определил ему послушание весовщика при монастырской мельнице, что была недалеко от Путивля, на реке Сейме. В тот период он мог щедро одарять бедных и нищих, измученных войной людей, приходивших к нему за помощью.
Годы, проведенные в обители, оставили в иноке Андронике неизгладимый след и способствовали его духовному совершенствованию. Здесь было положено начало высокодуховной подвижнической жизни. Вместе с солнцем он вставал на послушание, которое совершал с великой ревностью, старательно. А ночь проводил в постоянных молитвах со множеством коленопреклонений. В пище и питии был воздержан, из имущества держал только самое необходимое: церковную и рабочую одежду, жесткую постель, на которую он ложился на очень короткое время, не раздеваясь. Впоследствии, где бы он ни был, всегда твердо исполнял свои монашеские обеты. Вся его жизнь была направлена к одной цели — спасению своей души и души ближнего.
В 1920 году он был рукоположен в рясофорные монахи в Глинской Рождество-Богородицкой пустыни и принял имя Андроник. Он по-прежнему выполнял послушание на мельнице.
В 1922 году, когда упразднили обитель, монах Андроник переехал в Путивль, где к тому времени поселилась его мать. Епископ Павлин, викарий Курской епархии, взял монаха Андроника к себе в келейники, и он переехал в Курск. Там он был посвящен в сан иеродиакона, хотя, по своему смирению, отказывался от этой чести. Через некоторое время иеродиакон Андроник вместе с епископом Павлином переехал в город Пермь.
…В 1923 году в Курске он был арестован, осужден и приговорен к 5 годам ссылки на Колыму.
Старец Андроник рассказывал: «Однажды в храме подошла ко мне какая-то женщина и со слезами говорила, что все церкви закрыты, колокола перестали звонить, а я сказал: «Бог даст, и зазвонят», — за эти слова сослали меня на Колыму». В ссылке отец Андроник служил санитаром в тюремной больнице. Он ухаживал за больными с искренним состраданием и любовью, сам мыл их. Все его любили, а сосланные узбеки даже звали «мамой».
После освобождения раньше срока по амнистии он вернулся к епископу Павлину, у которого он был келейником. В 1926 году был рукоположен в сан иеромонаха в московском храме Вознесения в Сокольниках епископом Павлином (Крошечкиным), а через год в 1927 году, в связи с серьезным заболеванием, — пострижен в схиму с сохранением прежнего имени в честь преподобного Андроника Московского.
Однажды в лагерь привезли едва живого архиепископа Назария, который вскоре скончался. Отец Андроник в то время был санитаром и чем только мог, помогал другим. Повязав на шею полотенце, на котором углем начертал крест, что и заменило епитрахиль, он совершил отпевание почившего, предал его тело земле, похоронив архипастыря в отдельном гробу. За это в 1936 году Патриаршим Местоблюстителем Блаженнейшим Митрополитом Сергием отец Андроник был награжден наперсным крестом.
После освобождения его взял в работники начальник лагеря. В 1944 году начальник получил назначение в Новосибирск. Вместе с его семьей туда переехал и отец Андроник. В этой семье отец Андроник был как родной, хозяева его любили. Он готовил им обед, ухаживал за огородом и животными, растил и воспитывал детей. Замечательным фактом смирения отца Андроника является то, что он жил в сарае со скотиной. Там он отгородил себе маленькое место для краткого отдыха, несмотря на уговоры хозяев жить в доме, где ему выделили отдельную комнату. Один Бог был свидетелем тех подвигов, которые старец совершал в своем сарайчике. Когда он узнал, что Глинская пустынь вновь открыта, то приложил все усилия, чтобы вернуться в родную обитель. Это произошло в 1948 году.
В пустыни иеросхимонах Андроник стал благочинным и духовником братии. Но к нему на исповедь шли не только монахи. И это не случайно: любовь старца к ближним, его искреннее сочувствие им привлекали к нему многих людей. Очевидец рассказывал о таком случае: приехала в Глинскую обитель откуда-то издалека женщина и просила ее исповедовать. Что она говорила отцу Андронику — это тайна исповеди, но только после всего услышанного он стал плакать, приговаривая: «Как же ты могла так оскорбить Господа?» Его сокрушение о ее душе, ее грехах поразило женщину. Отойдя от аналоя, она сказала: «Приеду домой, перезимую, Бог даст, а весной телку продам, чтобы приехать сюда еще раз».
В 1939 году его вновь осудили, сослали на Колыму. В 1948 году, мужественно претерпев все скорби и невзгоды, выпавшие на его долю, возвратился в открывшуюся к тому времени Глинскую пустынь, где вскоре был назначен благочинным и ризничим обители.
Будучи благочинным, отец Андроник собирал братию и паломников на общее послушание. Причем, делалось это незаметно, ненавязчиво. Например, если надо было поработать в огороде, то отец Андроник первым брал лопату или грабли и начинал трудиться! В лес ли, на заготовку ли дров для обители, посадку ли огорода, уборку или какое другое послушание — везде отец Андроник был первым и своим примером воодушевлял всех.
Достигнув в полной мере любви, старец имел такой душевный мир, что не нуждался ни в чем. Непрестанно воздыхая о Царствии Божием, он проявлял необыкновенное сострадание ко всем, заботился, в первую очередь, о других. Вот один из примеров. Как-то ему прислали посылку с грушами. Один в келии он почти не бывал, и, конечно же, каждый присутствующий получил по груше. Свою отец Андроник отложил. Кто-то еще вошел, угощать уже было нечем, и отец Андроник протянул свою грушу. Пришедший воспротивился: «Вы-то сами, небось, и не попробовали…» Батюшка разрезал грушу: «Вот, попробую, и ты пробуй». Половина исчезла. Еще кто-то постучал, разделили оставшуюся часть. Еще один гость пришел, — и уже ничего не осталось отцу Андронику.
Архимандрит Иоанн (Маслов) писал: «Душа отца Андроника, очищенная многими скорбями, была переполнена благодатных даров Святого Духа. Эта духовность и привлекала людей к старцу… Смирение и кротость безраздельно царили в его душе, даже ходил старец, смиренно согнувшись… Вначале братия обращалась к нему лишь по делам послушаний, но, чувствуя его горячую, искреннюю, снисходительную ко всем человеческим немощам любовь и духовную опытность, стала поверять ему всю свою душу. После беседы со старцем, его молитв тихое и благодатное утешение наполняло их сердца. В короткое время он снискал такое доверие, что стал братским духовником».
Следует отметить, что не только братия, но и сам настоятель обители, схиархимандрит Серафим (Амелин, ныне прославлен в лике святых), исповедовались у него.
По молитвам старца, много удивительного происходило в святой обители. Как-то долго стояла жара, и отец Андроник стал всех собирать на молебен в пале. Богомольцы поставили в поле список чтимой иконы Рождества Пресвятой Богородицы, зажгли свечи. Отец Павлин читал ектении, отец Андроник просил у Господа дождя. Просил теми же словами, что в Требнике: «Даждь дождь земле жаждущей, Спасе!» — с уверенностью обращаясь к Богу, Который рядом, тут же присутствует, Который не может не услышать и не исполнить просьбы. На небе не было ни единого облачка, от земли пышет теплом, как от неостывшей золы, увядшая зелень обвисает тряпкой… Помолившись пошли в храм, и едва переступили порог, как начался дождь.
Послушник Сергий заболел крупозным воспалением легких. Болезнь обострилась настолько, что врачебное вмешательство не помогало, состояние его все ухудшалось, и ожидали уже кончины. Старец Андроник совершил над больным соборование, причастил послушника и стал за него молиться. На третий день послушник Сергий встал совершенно здоровым. Впоследствии спасенный принял монашеский постриг с именем Ипполит (Халин, будущий архимандрит, 1928–2002), после закрытия обители жил на старом Афоне в Пантелеймоновом монастыре. Подобных историй было много. Запомнился такой случай. Из какой-то деревни принесли образ Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Икона была порезана ножом. Отец Андроник, увидев ее, пал на колени: «Прости, Владычица, тех, кто дерзнул так сделать!» Ни жалоб, ни возмущения на хулителей святыни, ни угроз Судом Божиим, но — молитва за сотворивших беззаконие.
Однажды батюшка сам сильно заболел: у него было кровоизлияние в мозг. Болезнь была тяжелой, и уже теряли надежду на выздоровление. Его пособоровали и причастили Святых Таин Христовых. В таком безнадежном состоянии он три дня ничего не вкушал. В это же время инок Адриан, который нес послушание на скотном дворе, внезапно заболел и через три дня скончался. Об этом отцу Андронику сказал келейник, и батюшка ответил: «Господь послал Ангела Своею по мою душу, а на пути указал другую, чтобы я еще пожил для людей». После этих слов батюшка попросил водички, ему стало гораздо легче, он покушал, вскоре окреп и выздоровел.
Отец Андроник отличался необыкновенной кротостью и смирением. Архиереев он почитал, как Самого Христа, и, когда правящие епископы посещали Глинскую обитель, сам им прислуживал: подносил еду, топил печки, протирал полы.
В 1955 году Сумской епископ Евстратий возвел отца Андроника в сан игумена, на что подвижник возражал, говоря, что схима превышает все награды и что она есть предел всех наград.
Старец старался не отлучаться из пустыни и всегда говорил, что монах, вышедший из монастыря даже на короткое время, уже не вернется таким, каким ушел. Но однажды настоятель благословил его поехать в епархию с некоторым делом. Отец Андроник ценил послушание и часто был в этом примером, поэтому он смиренно исполнил поручение. Как-то епископ Евстратий после беседы со старцем попросил, чтобы отец Андроник благословил его и перекрестил, как благословляет всех остальных… Батюшка, выполняя долг истинного послушника, благословил архиерея. Затем Владыка попросил батюшку, чтобы тот, когда будет ложиться спать, благословлял и его сторону.
Однако старец мог и воспротивиться епископу, если того требовали обстоятельства. Когда правящий архиерей запретил кормить из монастырской кухни паломников, отец Андроник, будучи членом старческого совета обители, выступил против такого распоряжения, пояснив, что не братия кормит богомольцев, а богомольцы кормят монахов, ибо они все шлют и везут сюда. Братия поддержала старца, и общая трапеза продолжалась.
Отец Андроник любил принимать участие во всех послушаниях. В праздники после служб и трапезы он не отдыхал, а прочитывал несколько глав Евангелия, акафисты, затем спешил на кухню и чистил картошку для обшей трапезы, назначая одного из братии на чтение Житий святых, чтобы не было празднословия, и братия назидалась словом Божиим. Своих духовных детей из братии он принимал в любое время и был весьма внимателен к каждому. С вечера батюшка прочитывал пять глав Евангелия, одну четку с тридцатью поклонами, клал отдельные поклоны Спасителю, Матери Божией, Ангелу Хранителю, святому Архистратигу Божию Михаилу, святому Пророку и Крестителю Господню Иоанну, святому апостолу Иоанну Богослову, преподобному Андронику, святым апостолам Петру и Павлу, Андрею Первозванному, Луке, Марку, Матфею, святым пророкам Илие и Моисею, святым праведным Иоакиму и Анне, Захарии и Елисавете, Симеону Богоприимцу и пророчице Анне, святителям Христовым — Василию, Григорию, Иоанну Златоусту, Николаю, Алексию, Феодосию, Иоасафу, Гермогену, Петру, Арсению, Стефану, великомученикам Пантелеймону, Георгию, Иоанну Воину, Димитрию Солунскому, Нестору, Гурию, Самону и Авиву, великомученицам Варваре, Екатерине, Акилине, Татиане, Вере, Любови, Надежде, Софии, Параскеве, святым равноапостольным Нине, Марии Магдалине, Фекле, преподобной Марии Египетской, мученице Фомаиде, преподобным Серафиму Саровскому, Сергию Радонежскому, Иоанну, Тихону Калужскому, Афанасию Великому, Пахомию Великому, Варлааму, Иоасафу, Авениру, Мартиниану, Иоанну Многострадальному, Алексию, человеку Божию, Симеону Верхотурскому, Иову Почаевскому, благоверным князьям Александру Невскому и Владимиру, царю Константину и царице Елене.
После этого батюшка полагал поклоны за настоятеля, своих духовных чад, близких, за умерших братий, за родных. Затем ложился спать на короткое время. Вставал он в два часа ночи или раньше и уже не ложился, говорил: «Томлю томящего мя». Он совершал свое пятисотое правило не спеша, делая поклоны с благоговением и вниманием. После пятисотного правила по четкам, он читал еще четки святым угодникам, а потом переходил на чтение Евангелия, Псалтири с помянником и акафиста. Еще батюшка очень любил читать «Службу во вся дни», она с ним была и в ссыпке, и в лагерях.
По обязанности благочинного отец Андроник в ночное время ходил проверять сторожей. Аесли кто из послушников просыпал или заболевал или кого не оказывалось на полунощном богослужении, батюшка сам ходил по келиям, узнавал, почему отсутствует брат. Батюшка не отказывал в напутственном благословении и молитве всем без исключения паломникам. Назначал время вне службы в храме, они собирались, и он сам совершал молебен о путешествующих, соборовал и причащал паломников и братию.
Когда Глинскую пустынь снова закрыли в 1961 году, отец Андроник поехал в Ставропольскую епархию к своему бывшему келейнику. А позже, когда отец Павлин уехал учиться, батюшка переселился в Тбилиси, на попечение митрополита Тетрицкаройского Зиновия, тогда уже иерарха Грузинской Православной Церкви. Схиигумен Андроник помогал в храме Александра Невского: служил, исповедовал, помогал на проскомидии, читал записки, даже оставался за сторожа. Позже владыка Зиновий нашел ему домик в городе, в котором он и дожил до перехода в вечность. Батюшка всегда пребывал с памятью о смерти и держал себя в страхе Божием воспоминанием вечных мук. За свою богоугодную жизнь он был удостоен от Господа дара прозорливости. Одна посетительница Глинской пустыни вспоминала, как хотела пожаловаться отцу Андронику на трудности жизни без духовного руководителя. Старец в то время спешил, кого-то провожал и, проходя мимо нее, как бы между прочим сказал: «Руководителей сейчас нет. Книги, книги читай!»
В 1963 году схиигумен Андроник, по благословению Святейшего Патриарха Алексия, митрополитом Зиновием был возведен в сан архимандрита. Но после дня поставления в течение одиннадцати лет он до самой смерти по своему смирению, больше ни разу не надевал митру.
С любовью батюшка посещал храм святого Александра Невского, в котором служил владыка Зиновий, приобшалея Святых Христовых Таин в субботу, воскресенье и в праздничные дни. По окончании литургии и треб батюшка не садился отдыхать, но уединялся и читал Святое Евангелие. После обеда, до наступления вечернего богослужения, отец Андроник находился в часовне, что в церковном дворе. Дверь его была открыта для посетителей. Там он исповедовал, утешал, давал полезные советы, наставления. Батюшка не смущался никакими вражиими кознями, поучал он примерами из Божественного Писания и Житий святых отцов. Очень оберегал всех от гордости и осуждения. В своей беседе с одним из духовных сыновей он рассказал, что знал монаха, который был очень тих, смирен и кроток, но когда осудил кого-то, благодать отошла от него.
Староста храма святого Александра Невского рассказал один случай, который дает представление о том, как молился отец Андроник. Перед совершением литургии он обычно с вечера оставался в храме и уже до утра не смыкал глаз, все это время молился. В одну из таких ночей в конце 60-х годов староста остался дежурить за сторожа. Ночью он увидел, что храм наполнен молящимися. У него мелькнула мысль, что он проспал и без него открыли двери. Посмотрел на часы, было 2 часа, поискал ключи, — они лежали на месте. В великом страхе он еще раз посмотрел внутрь храма. Отец Андроник молился и творил поклоны перед праздничной иконой, а вокруг было множество народа, все также совершали молитву. Староста, объятый страхом, застыл в оцепенении. Как только старец кончил молиться, храм опустел. Наутро, в большом волнении, он поведал о случившемся, не в состоянии объяснить все, что он видел. Но зная о богоугодной жизни старца и силе его молитв, можно заключить, что Церковь Небесная сослужила великому подвижнику во время его молитвенных подвигов на земле.
Нескольким своим ученикам-инокам отец Андроник говорил, что каждый час следует бодрствовать и пребывать в молитве, ибо Господь сказал: «Бдите и молитесь» (Мф.36:41), — и: «Непрестанно молитесь» (1Фес.5:17). Когда молишься, следует помышлять о смертном часе, боясь огня вечного. Пусть не страшит нас мысль о трудностях и тяжести жизни, ибо путем многих скорбей мы можем войти в Царство Небесное. Не место освящает человека, а человек — место; где монах — там и монастырь, живите по-монашески, и будет вам монастырь. Разумно проводите жизнь, живите чисто, кайтесь, молитесь, чтобы не постигли нас внезапная смерть и страшный гнев Божий. Многие легли спать и не встали, так и мы ложимся и не знаем, встанем ли утром. Не уклоняйтесь от исполнения молитвенного правила.
Приходили к старцу иноки из других монастырей, в том числе и из Лавры Преподобного Сергия, с различных концов России приезжали пустынники. Батюшка с радостью принимал всех, неослабно и без лености поучал их, чтобы добрыми делами, послушанием, кротостью и смирением исполняли заповеди Господни. Многие студенты Московских Духовных Семинарии и Академии посещали старца. Им он говорил: «Учитесь закону Божию, имейте сердце и душу чистыми. Одежда души — истинная вера, молитва, слезы, воздыхание и покаяние — чтоб всегда была с вами, и Господь вас не оставит».
Отец Андроник говорил: «Живи ниже травы и тише воды — и спасешься!» Для него все люди были святые, за всех он переживал и молился. Один священноинок вспоминал, что отец Андроник, когда исповедовал, то разрешал не только кающегося, но и отпускал грехи монахов и пустынников и перечислял всех людей скорбящих. Он говорил, что они скорбят и плачут и на молитве просят его молиться о них. Когда он молился за сына одного врача (тот наложил на себя руки), то явился бес и ударил батюшку, боль долго не стихала. Бесноватые кричали, что сожгут его.
Поучая приходящих, батюшка не уклонялся от исполнения своего молитвенного правила, кроме того, он читал святоотеческие книги и Жития святых, часто в беседах приводил примеры из жизни святых угодников и мучеников. Старец сам выписывал из святоотеческих творений и Священного Писания назидательные места, размножал эти записи и раздавал своим духовным чадам. Отца Андроника побуждала говорить забота о людях, желание кого-то предупредить, предостеречь от неверного шага, заставить задуматься. Иногда он помогал себе жестом, например, как рассказывали молодые послушники, мог постучать по лбу пальцем, «вбивая» нужную мысль. И все это делалось с большой заботой, участием, доброжелательностью. Что-то могло прозвучать резко, но не грубо; ласково, но не ласкательно, даже нежно, но без приторности. Во всем было чувство меры и понимание того состояния, в каком пребывает человек. Он свободно пользовался сравнениями, пословицами, поговорками. Все это особенно живо в памяти слышавших его назидания. Приведем некоторые душеспасительные советы старца.
Искренней любовью к чадам были наполнены и письма старца к своим духовным детям, он помнил о всех и молился о каждом, где бы они ни были. Приведем лишь несколько строк из писем старца Андроника, переполненные горячей любовью, заботой, задушевностью. Вот как он обращался к отцу Иоанну (Маслову): «Дорогой мой, родненький духовный сыночек», «Дорогое и родное мое чадо о Господе» и пишет: «Я часто спрашиваю своих окружающих о Вас, ибо мне хочется яйцом к лицу поговорить с Вами и насладиться нашей родственной встречей», «Вы мой родной по духу…»
В 1973 году старец тяжело заболел, у него отнялась левая часть тела. По свидетельству духовных чад, он переносил болезнь безропотно, постоянно пребывая в молитве и ежедневно причащаясь Святых Христовых Таин. Уже незадолго перед смертью, находясь в забытьи, он неожиданно внятно произнес: «Милость Божия все покроет» — и стал кого-то благословлять… После этого отец Андроник пришел в сознание и тихо сказал: «Я буду умирать», — сомкнул глаза и ни с кем не разговаривал, хотя и пребывал в полном сознании. 21 марта 1974 года он тихо отошел ко Господу.
Старец был похоронен на Грмагельском городском кладбище в городе Тбилиси. Тело схиархимандрита Андроника предал погребению митрополит Зиновий. Ныне прославлен в лике святых.
Из наставлений старца Глинской пустыни — схиархимандрита Андроника (Лукаш).
У келейника отца Андроника сохранилась тетрадь, в которой старец делал выписки из прочитанного. В тетради есть большие выписки из Евангелия и Апостола. Здесь же и его передача общего святоотеческого опыта.
- «Знай себя и будет с тебя».
- «Сон моея лености ходатайствует душе моей муку».
- «День и ночь молиться надо».
- «Книги читаем, а сами не исполняем. Горе нам, если внезапная смерть настигнет».
- «В церкви не говори».
- «В молитве надо просить: «Господи, даждь ми слезы и память смертную», иначе ад нас ожидает».
- «Возлюби труд, и скоро пошлется тебе спокойствие от Бога».
- «Приятнее Богу смирение грешника, чем гордость праведника».
- «Понуждай себя в рукоделии, и будет обитать в тебе страх Божий».
- «Не тщеславься и не смейся».
- «Что в юности посеешь, то в старости пожнешь».
- «Не подражай фарисею, который все держал напоказ».
- «Да не возглаголют уста твои дел человеческих».
- «Спи мало, в меру, и будут наблюдать за тобою ангелы».
- «Если хочешь обрести покой в этом и будущем веке, то при всяком случае говори: «Кто я?» И не осуждай никого». Авва Пимен.
- «Боюсь трех вещей: когда умру, как умру и где обрящусь».
- «Пред небом и землей мы должны отдать Богу ответ во всей жизни, а ты смеешься…»
- «Люби более молчать, нежели говорить, ибо молчание собирает сокровище, а говорливость расточает». Авва Исаия.
- «Старчество наше состоит в том, чтобы человек обуздал язык свой». Авва Тимофей.
- «Монах, не удерживающий языка своего во время гнева, никогда не удержит своих страстей».
- «Всяким хранением блюди каждый свое сердце». Авва Геронтий.
- «Монах должен носить такую одежду, которую никто не взял бы, если бы выбросить ее из кельи». Авва Памва.
- «Если желаешь Царства Небесного, презирай богатство и ищи воздаяния Божия». Авва Исидор.
- «Жить тебе по Богу невозможно, когда ты сластолюбив и сребролюбив». Авва Исидор.
- «Простота и немечтание о себе очищают от злых помыслов». Авва Исаия.
- «Если кто обращается с братом с хитростью, не минует печали сердечной».
- «Если желаешь спасения, делай все то, что приводит к нему».
- «Не живи в том месте, где видишь, что тебе завидуют, иначе не будешь уметь успеха». Авва Пимен.
- «Не монах тот, кто жалуется на свой жребий. Не монах тот, кто воздает злом за зло. Не монах тот, кто гневается». Авва Пимен.
- «Сила Божия не может обитать в человеке, преданном страстям». Авва Пимен.
- «Поистине мудр тот, кто не словом поучает, но назидает делом».
- «Старец сказал, что если дерево не будет колебать ветер, то оно не будет расти и не даст корней. Так и монах, если не будет терпеть искушений, не станет мужественным».
- «Много значит молиться без развлечения, а еще более — петь без развлечения».
- «Малодушие и порицание кого-либо в мысли не позволяет человеку видеть свет Божественный».
- «Старец сказал, что начало спасения — познание самого себя».
- «Любовь славы человеческой рождает ложь». Авва Исаия.
- «Подражай мытарю, чтобы не подвергнуться осуждению с фарисеем».
- «Старца спросили: «Почему так восстают против нас демоны?» Он ответил: «Потому что мы отвергли наше оружие: бесчестие, смирение, нестяжательность и терпение».
- «Старца спросили: «Что такое смирение?» Он сказал: «Когда согрешит против тебя брат твой, и ты простишь ему прежде, нежели он перед тобою раскается».
- «Старцы говорили: «Когда мы не имеем брани, тогда должны смиряться, ибо Бог, зная нашу немощь, охраняет нас. А если будем хвалиться этим, то отнимется у нас охранение и мы погибнем».
- «…Если тебе действительно явится ангел, не принимай, говоря: «Я, живущий в грехах, не достоин видеть ангела».
- «В чем преуспевание духовное? — В смирении. Насколько кто смирился, настолько преуспел».
- «Чистота сердца доказывается нерассеянною молитвою».
- «Мир души от повиновения сил ее уму».
- «Душевный пост состоит в отвержении попечений».
- «Если будем внимательны к своим грехам, то не будем смотреть на грехи ближнего». Авва Моисей.
- «Три главных делания необходимы: бояться Бога, молиться и делать добро ближнему». Авва Пимен.
- «Человек, познавший сладость кельи, избегает ближнего, хотя любит и почитает его». Авва Феодор.
- «Кротость является в терпении».
- «Все, что выше сил — от бесов». Авва Пимен.
- «Не оставь воли Божией для исполнения воли человеческой».
- «Страх Божий хранит человека от греха».
- «Многие говорят о совершенстве, но мало кто достигает его на самом деле». Авва Пимен.
- «Господь до тех пор хранит душу твою, пока ты хранишь язык свой».
- «Если будешь соблюдать молчание, то найдешь покой везде, где бы ты ни жил». Авва Пимен.
- «Все грехи — мерзость перед Богом, но мерзостнее всех гордость сердца».
- «Страсти рождаются от нерадения».
- «От многих попечений и рассеянности рождаются страсти».
- «Где бы ты ни был, не высказывай себя остроумным и учительным, но будь смиренномудр, и Бог дарует тебе умиление». Авва Пимен.
- «Не любопытствуй и не расспрашивай о суетных делах мира».
- «Люби мшиться часто, чтобы просветилось сердце твое».
- «Любящий неправду, ненавидит свою душу».
- «Необходимо заботиться о стяжании духовного делания («умной молитвы»)».
- «Если не будем осторожно вести себя внешне, то не сможем сохранить и внутреннее».
- «Не позволяй себе ни слышать, ни говорить о чем-нибудь неполезном для души».
- «Этот век дан для покаяния. Если истратишь его попусту, живя худо, то очень пожалеешь потом, не найдя его вторично».
- «Если ты не смиришься, то Я смирю тебя», — сказал Господь.
- «Молитва, совершаемая с небрежением и леностью — празднословие».
- «Предпочитаю правило легкое, но постоянное, правилу трудному вначале, потом вскоре оставленному».
- «Венец монаха — смиренномудрие. Злословие есть смерть души». Лева Ор.
- «Берегись лености, она потребит весь плод трудов твоих».
- «Телесные труды охраняют человека от врагов его: грехов и демонов».
- «Во всем себя принуждать — путь Божий».
- «Какое дело монаха? — Рассуждение!»
- «Нет ничего хуже осуждения».
- «Послушание бывает за послушание. Кто Бога слушает, того Бог послушает».
- «Люби смирение, и оно покроет тебя от грехов».
- «Не считай себя мудрым, иначе гордостью вознесется душа твоя, и ты впадешь в руки врагов твоих».
Епископ Стефан (Никитин) (1895–1963)
Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною.
(Мф.16:24)
В архиве отца Серафима сохранилось письмо, присланное монахиней Евгенией о кончине Преосвященного Стефана (Никитина), который принял горячее участие в судьбе отца Димитрия Тяпочкина, по изгнании его из Днепропетровской епархии.
Последние часы жизни и погребение
…Чувствовал себя Владыка последнее время очень бодро духом, хотя телесно изнемогал. Зная, что здоровье его совершенно тает, он ничуть себя не нежил, наоборот, старался бодрствовать: служил, проповедовал и все время своим близким говорил о своем смертном часе и его желании умереть в храме. Так умер его духовник архиепископ Мелхиседек.
В воскресенье — жен-мироносиц (28 апреля), Владыка собрался к богослужению в храм; накануне он служил всенощную. Встал он очень рано, а может и не спал. Так как у них была от отца Михея мать Алексия и человек из епархии. Исполнив правило, он ожидал машину. Тянул четки. Сам очень изменился, когда его спросили плохо ли ему, он ответил: «Последние часы с вами». Начали уговаривать его остаться дома, но Владыка был тверд на своем. «В последний раз помяну всех своих чад, помолюсь и о себе». В это время было полгода после смерти епископа Афанасия (Сахарова), которого Владыка особо чтил за святую жизнь. Мать Августа начал плакать и просить: «Владыка, ведь вы умрете в храме!» Владыка Стефан весь просиял: «Это моя заветная мечта, о, если бы ваши слова к Богу!»
Приехала машина. Владыка с трудом вышел из дому и уехал в собор. Чинно служил литургию. Священнослужители заметили, что особо усердно и со слезами Владыка молился и поминал свой синодик. Поминая каждого, он останавливался, как бы мысленно прощаясь. Приобщился Святых Таин. Окончив литургию, переоблачился, вышел в рясе и в клобуке сказать поучение о любви ко Господу. В поучении призывал верующих подражать любви и верности жен-мироносиц, следовать за Христом по заповедям. Быть христианами не на словах, а на деле. «Жены-мироносицы не убоялись ни страха, не усомнились в своем бессилии, что камня гробного не сдвинут, а с верой и любовью спешили ко Христу с миром. Говорю вам и молю — не бойтесь страха временного, пусть не смущает ничто ваше сердце, спешите с добрыми делами следовать за Христом!..» После этих слов вздохнул глубоко и начал склоняться. Все это заметили. Его поддержали иподиаконы, но он уже отходил ко Господу и был безмолвен. Прошло минут десять. Пауза, тишина. Затем поднялся в соборе вопль и плач. Протодиаконы вложили в руки Владыки трикирий и дикирий, благословили его руками народ в храме и унесли Владыку в алтарь. Там его вновь облачили с пением: «Да возрадуется душа моя о Господе…» Посадили его на горнее место. В соборе началось чтение Евангелия. В воскресенье вечером служили службу и обращались к Владыке за благословением. В понедельник утром прибыл архиепископ Леонид, назначенный Калужским, с телеграммой от Святейшего Патриарха Алексия I. Тогда Владыку положили в гроб посредине храма… На отпевание съехались его духовные чада со всех сторон: Ташкента, Ашхабада, Грузии, Ленинграда, Минска, Украины, Москвы и из других мест. Господь меня удостоил, и я увидела великих людей в разном звании: высшие чины духовенства, украшенные добродетелями, настоящие монахи, благоговейные диаконы, высокообразованная интеллигенция и простые сердцем святые души мирян. Все с любовью и слезами на глазах провожали своего архипастыря. Духовенства было множество. Всем досталось читать. Кафизмы читали Владыка Леонид, отец Михей и отец Герман, игумены и духовные дети Владыки. По отпевании в соборе, Владыку многие сопровождали из Калуги до Москвы, в деревню Акулово.
В храме служил духовник Владыки — отец Сергий, 89-летний старец, которого все москвичи почитают за святую жизнь. После молитвы в храме, все простились с Владыкой и тело обнесли вокруг храма с пением пасхального канона и погребли рядом с алтарем. Духовник возгласил вечную память, все присутствующие подхватили и начали петь. Затем потихоньку начали расходиться к поездам. Был первый час ночи…
Прошу ваших святых молитв.
Ваша сестра, недостойная м. Евгения. 5/V-1963 г.
Митрополит Леонид (Поляков) (1913-1990)
Возьмите иго Мое на себя, и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; Ибо иго Мое благо и бремя Мое легко есть.
Вечером, 8 сентября 1990 года, в поселке Дубулты, в церковном доме при храме Святого равноапостольного великого князя Владимира отошел ко Господу митрополит Рижский и Латвийский Леонид. Здесь владыка Леонид провел последние месяцы своей земной жизни, слушая Божественную службу, совершающуюся за стеной, и принимая людей, чьи души тянулись к живому огоньку его веры.
Владыка Леонид был немногословен, не любил внимания к себе, не любил, чтобы о нем много говорили. Потому и писать о нем не просто. Да и как писать о том, чья жизнь сокрыта со Христом в Боге (см. 2Кор.3:3). В церковном обществе, окружавшем его, он был одинок. Это было одиночество Христа, любящего полноценной непритворной любовью и не находящего себе ответной искренней любви среди христиан, носящих имя, как будто они живы (Откр.3:3). Иногда владыку выдавали слезы, когда он читал Святое Евангелие или говорил проповеди, особенно во время рукоположения новых пастырей для Церкви, (в это время нисходит на них обильная благодать милосердного нашего Утешителя, Духа Святого), — казалось, владыка хотел омыть все предыдущие и последующие грехи малоподготовленных ставленников, чтобы ожило их сердце, согретое сострадательной любовью Господа, греющего и питающего свою Церковь, подобно человеку, заботящемуся о своем теле (Еф.5:29), чтобы еще один делатель вышел на обильную жатву, собирая потерянные души. «Нас ждет Страшный суд, — говорил владыка народу, — потому что наша жизнь страшная: мы смердим грехом. Верующие бегают из храма в храм в поисках истинного пастыря, а священникам нечего им дать: они потеряли благоговение перед Престолом — перед жертвенником Любви Божией. Терния подавили пшеницу в их сердце, и они сами топчут робкие всходы веры в душах своих прихожан».
У одного ставленника он спросил перед рукоположением: «Чем отличается священник от актера?» И сам ответил: «Священник живет, а актер играет». В проповеди владыка пояснил: «Священнослужитель должен непрестанно работать над собой, возделывать почву своего сердца, чтобы семя благодатных даров, полученных из церковной сокровищницы (Лк.24:29, Деян.1:8,2:1–6), дало добрые плоды, от которых он мог бы питаться сам, живя полноценной духовной жизнью, и питал бы своих пасомых. Если у священника нет этого труда, нет трезвения и молитвы, то он духовно засыхает и не имеет жизни в себе».
Владыка нес свой архипастырский подвиг в страшное для Церкви время, когда атеизм и воинствующий материализм глубоко въелись в ее соборную жизнь, разрушая общинные начала святого единения во Христе. Для многих, очень многих людей, Церковь стала местом удовлетворения национально-политических или стяжательских инстинктов, если не хуже… Закваска лицемерия (Лк.12:1) всквасила почти все тесто, вследствие чего воля чиновников атеистического государства вторглась в каноническую жизнь Церкви чуть ли не законодательным путем[104], и большинство пастырей, стоящих на ключевых постах, сами превратились в чиновников, господствуя над наследием Божиим (1Пет.5:2–3). Оставленный ими народ, призванный быть Божиим, помрачился от невежества, суеверия и обрядоверия, от ложных толкований Священного Писания и вздорных слухов, рассеялся, как овцы без пастыря (Мф.9:36). В эти-то лихие годы владыка Леонид сумел сохранить для нас живое предание Церкви в тайнике своего сердца. Не случайно отпевание его было совершено в день Усекновения главы св. Иоанна Предтечи одновременно с отпеванием другого свидетеля Христа — убиенного протоиерея Александра Меня: как две тысячи лет назад, так и сейчас убитый Пророк своею смертью свидетельствует о Славе Божией еще более явственно, чем при жизни, обличая нашу жестоковыйность, нашу закоснелость в пороках, призывая всех опомниться, протрезвиться от дурмана неочищенных страстей и ревностно показать свое высокое достоинство в Боге.
Иеромонах Серафим. Ноябрь 1990 г., Рига.
Слово в неделю Торжества православия. «Да будут все едино!» (Ин.17:21)
Так молится Христос Отцу Своему о всем человечестве, молится в конце Своего земного подвига, который весь заключался в создании этого единства, этого тесного единения в любви всех людей.
Люди, созданные Любовью Божественной и предназначенные для любви земной, отошли от Бога. И чем дальше они отходили от Бога, тем дальше они становились друг от друга. Вместо любви, добра и правды — вражда, злоба и неправда наполняют сердца людей; вместо мира и радости — слезы и кровь омывают землю.
И вот пришел Сын Божий, чтобы в растленную породу людей, себялюбивую, обособляющуюся, враждующую, внести совершенно новую, совсем иную жизнь, жизнь без слез и горя, жизнь, где во всей красе сияла бы любовь, полная, всеобъемлющая, всепрощающая, самоотверженная, так чтобы все люди, все человечество стало «едино» между собой.
«Едино»… Но ведь это значит, что надо совершенно переродиться человечеству, надо стать совсем, совсем иным, чем оно было и есть! Надо совершенно переродиться — Христос так и говорит, что для этого «надо родиться свыше от Духа» (Ин.3:3–5).
Где же и как возможно это «духовное рождение»? Где та вторая утроба матери, в которой человек мог бы так родиться духовно? Это, братие, Церковь Христова, Церковь, Им выстраданная, Его крестною смертию созданная, Им возглавляемая, Церковь, куда Он зовет всех верующих, куда Он призывает всех людей, все человечество.
«Когда победитель греха и смерти, Спаситель всех удалил от людей свое видимое присутствие, Он завешал им не скорби и слезы, а оставил им утешительное обетование, что пребудет с ними «до скончания века». И обещание исполнилось. На главы учеников, собравшихся в единодушии молитвы, снизошел Дух Божий и возвратил им присутствие Господа, не осязаемое чувствами, невидимое, но духовное, внутреннее» (Хомяков). И с того дня Дух Святой живет в верующих во Христа и каждому из них дает благодатные силы духовно переродиться и стать совершенно «новым творением».
Но такая истинная, настоящая жизнь, жизнь без злобы и лукавства, жизнь в любви и единении друг с другом, невозможна иначе, как только в тесном единении с Христом, как ветки дерева живут только до тех пор, пока они на дереве, тесно срослись с ним и питаются одними и теми же соками, так и эта новая жизнь, данная Христом. Он сказал: «Я лоза, а вы ветви». Таинственное приобщение Тела и Крови Христовых в таинстве Причастия единит нас с Христом и соединяет друг с другом в единое Тело Христово, молитва, Слово Божие, богослужение, таинства несут нам Духом Святым те жизненные соки, которыми питаются души верующих и получают силы для жизни по Христу.
И посмотрите на первоначальную христианскую общину: она жила в таком единении, в такой любви друг с другом, как если бы у всех верующих «было одно сердце и одна душа» (Деян.4:32). Это была истинная, настоящая жизнь по Христу, жизнь, так ярко отличавшаяся от жизни прочего мира, что, как говорит св. Лука: «Из посторонних никто не мог пристать к ним» (Деян.5:13).
Вот эта-то жизнь, полная единения, любви, питаемая Духом Божиим, и есть та Церковь Христова, то Царствие Божие, ради создания которого и приходил Христос.
И можно ли пребывать и возрастать в вере, любви, не принадлежа к Церкви Христовой, не получая благодатного воздействия Духа Божия?! Как во всяком организме члены его могут расти и развиваться только в неразрывной связи с организмом, так и туг: только в Церкви возможна та новая жизнь, ради которой приходил на грешную землю Сын Божий, только в Церкви, в тесном взаимном общении, оживотворяемом Духом Божиим, можно жить и развиваться духовно и спасаться, а вне Церкви и без Церкви невозможна истинно христианская жизнь, как невозможно единение в разъединении.
Но эта указанная Христом высота жизни для многих оказалась и оказывается слишком высокою: ведь обновление жизни совершается не без труда, а люди так полюбили грех и не хотят с ним расстаться. И вот то самолюбие и самомнение, та гордость ума и самоволие, тот фанатизм и суеверия отводят то тех, то других от этого общего единения всех в единой церковной жизни.
Так невозможна христианская жизнь — жизнь, полная единения и любви, вне Церкви Христовой, как общения любви, так невозможны и раздельные друг от друга, от взаимного друг с другом общения, одинаково спасающие Церкви: только едина может быть истинная Церковь, как едино Тело Христово, как един Дух Божий, животворящий Церковь, как едина глава — Христос: нет Церкви там, где нет духа любви, проникающего всех, всех обнимающего, всех объединяющего со Христом и во Христе.
Истинная Церковь там, где единение и любовь, где нет самолюбивого отъединения и обособленности, где это единение охватывает всю минувшую жизнь Церкви и стоит на твердо хранимом предании святых апостолов и Святых Отцов, где это единение простирается до Церкви торжествующей на небесах и видит в отошедших праведных своих молитвенников; истинная Церковь там, где это единение выливается в единство жизни по Христу.
Это-то единство жизни, единство всех в духе любви и должно быть предметом наших усердных забот, целью всех наших стремлений как членов Церкви Христовой, ибо об этом единении молился Христос: «Да будут все едино!»
Вот почему и святая Церковь, как мать наша, рождающая нас в духовную жизнь и руководящая нас в этой духовной жизни, в жизни любви и единения, вот почему она сегодня, вдень выявления своего Православия, особенно молится о всех заблудших чадах Божиих, отошедших от нее, обособленно идущих, вне общего единения и обшей любви.
Как Господь «всем хощет спастися и в разум истины прийти», так и Церковь всех хочет обнять, всех хочет слить в общем единении, в общей взаимной любви, в одной всецело проникнутой любовью жизни.
И верит она, крепко верит, что «настанет пора и вернется на землю любовь», и в этой вере она еще усерднее молит Своего Пастыреначальника, чтобы растаял лед сердец людских, чтобы пали созданные враждою всякие вероисповедные перегородки, разделяющие чад Божиих, чтобы свет Истины Христовой осиял всех ищущих ее, чтобы явил Себя Господь и неимущим Его, чтобы всех соединил и всех сплотил воедино в царстве любви, «да еси едиными усты и единым сердцем» будем воспевать Единого, в Троице славимого Бога во веки. Аминь».
Владыка Леонид. Храм Ленинградской Духовной академии, 1954 г.
Схиархимандрит Феофил (Россоха)[105] (1928–1996)
Схиархимандрит Феофил (в миру Петр Саввич Россоха) родился 10 августа 1928 года в деревне Калита Киевской области, Броварского района, в православной семье. Примечательно, что его отец был псаломщиком и старостой церкви, а мать в конце жизни стала монахиней. Благочестивые родители с детских лет привили своему сыну любовь к Богу и святому храму. Петр пел и читал на клиросе, позже был псаломщиком в Никольском храме.
В 1947 году Петр поступил в Киевскую Духовную семинарию, по окончании ее в 1951 году был направлен в Московскую Духовную академию, которую закончил в 1955 году и получил звание кандидата богословия.
7 июня 1954 года Петр был пострижен в монашество наместником Троице-Сергиевой лавры архимандритом Пименом (впоследствии — святейший Патриарх Московский и всея Руси) с наречением имени Пафнутий, а 18 июля 1954 года — рукоположен во иеродиакона. 7 марта 1955 года митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич) в московском храме Святителя Николая, что в Хамовниках, рукоположил иеродиакона Пафнутия во иеромонаха.
По окончании Московской Духовной академии иеромонах Пафнутий некоторое время нес послушание в Троице-Сергиевой лавре, а затем был переведен в КиевоПечерскую лавру, позже иеромонаху Пафнутию приходилось совершать богослужения в различных епархиях Русской Православной Церкви. С I960 по 1962 год он — настоятель одного из храмов в Костромской епархии, после чего был переведен в Саратовскую епархию, где служил в течение пяти лет. Около года он подвизался в Свято-Успенском Жировицком монастыре, затем с 1968 по 1970 год — в Свято-Успенском монастыре г. Одессы, после чего был переведен в Полтавскую епархию.
В 1975 году архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Варфоломей (Гондаровский) назначил игумена Пафнутия настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Мары (Ташкентская епархия), а в 1983 году настоятелем храма Покрова Божией Матери с. Покровка Таласской области, Манасского района. С 1983 года он совершает богослужения в Успенском кафедральном соборе г. Ташкента.
После открытия Киево-Печерской лавры в 1988 году игумен Пафнутий вновь был переведен в Киевскую епархию, в апреле 1993 года был возведен в сан архимандрита, а в августе 1993 года назначен наместником киевской Китаевской Свято-Троицкой пустыни, возвращенной Русской Православной Церкви в 1992 году.
В апреле 1994 года наместник Киево-Печерской лавры архимандрит Павел (Лыбидь) совершил постриг архимандрита Пафнутия в схиму с наречением имени Феофил — в честь местночтимого святого Феофила.
Благодаря стараниям схиархимандрита Феофила возродилась Киевско-Китаевская Свято-Троицкая пустынь. Проповеди схиархимандрита всегда были просты и искренни, люди любили великого пастыря, многие обращались к нему за советом, просили его молитв. Верующие со всей страны приезжали в монастырь к старцу.
22 марта 1996 года схиархимандрит Феофил скончался. В день погребения, 24 марта, отпевание возглавил блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир. При погребении схиархимандрита Феофила присутствовало множество верующих. Схиархимандрита Феофила похоронили на территории Китаевского монастыря близ Свято-Троицкого храма.
Из воспоминаний духовного сына старца Феофила Сергея Г. (Днепропетровск): «…Случилось нам ехать опять — проторенной дорожкой в Киев, а ездили почти каждый месяц, а то и чаще. Напросилась с нами одна женщина, у которой «увели» мужа, красивая такая. Не буду рассказывать подробности, но ехала она к старцу, тогда еще архимандриту Пафнутию. И так уж Бог устроил, что привела она нас к батюшке, сначала сама поговорила с ним в его келии, а потом и мы — уже вдвоем пошли к нему с вопросом — как жить… Батюшка встретил нас очень ласково, усадил на стульчики и наставил — как жить, что держаться нам следует Русской Православной Церкви, как поститься, что йогой заниматься не следует, что снам верить не надо и, тем более, рассказывать их другим, что не скромно (это в мой адрес). В общем — рассказал все и отпустил с Богом. С этого и началось — потом я услышал его проповедь, когда Церковь вспоминала о жизненном подвиге св. Марии Египетской, и понял окончательно, что Церковь — это мой дом. Кстати, та женщина, что привела нас к батюшке — сразу успокоилась и быстренько вышла замуж второй раз.
Однажды в моей семье случилось несчастье. Начались скандалы у родителей, мама была, что называется, на грани. Вообще, когда несчастье — все почему-то сразу ищут поддержки со стороны, а не в Боге и не пытаются найти причину внутри себя. Так поступил и я. В очередной раз отчитывался в министерстве, и с экспертом, как водится, хорошо проверили мой отчет — две бутылки коньяка на двоих, мало что скажет о результатах нашей с ним работы. А наутро — к батюшке… Захожу — смотрит он на меня с великим состраданием, мягко и по-отечески любяще улыбаясь… Он так ласково говорит: «Давайте я вам руку на голову положу». Я согласился и очень даже протрезвел, причем настолько, что достаточно связно мог сложить пару фраз со своей проблемой. Он пообещал помолиться за нашу семью, причем спросил имена отца, матери и мое. Сестра — не крещеная, он ее имя и не спросил, хотя я ему не говорил, что она не крещеная. Одарил меня мандаринками, и я засобирался. Когда уже уходил — он так мне полусерьезно, полушутя говорит — давайте я вам еще руку на голову положу. Я согласился, он положил, я поблагодарил и пошел. Таким трезвым в жизни я никогда не был!!! Ни до, ни после! Я летел по тротуару, я слышал всех птиц, я видел все веточки, я видел сияющее солнце! Я видел голубое небо! Не знаю, где были мои крылья, но я летел!
…Почти в каждый мой приезд в Киев я бывал в Китаевой пустыни, туда всегда стремилась моя душа, туда всегда несли меня мои ноги. Однажды еще у одной женщины «увели» мужа… Попросилась она, чтобы я повез ее к батюшке. Ну, повез. Приехали, а батюшка болен, сказали, что лежит в больнице. Не солоно хлебавши поехали мы назад — домой. Едем в поезде, я на верхней полке, начал уже засыпать (или уже заснул, не знаю) и вдруг увидел батюшку — в его схиме, а он уже был схиархимандрит Феофил. Не знаю, но чувство было какое-то тревожное, и я стал молиться во сне — Иисусовой молитвой. Через некоторое время узнал, что в этот день — 22 марта он преставился о Господе. А к женщине этой муж вскоре вернулся.
Слышал, что духовные отцы, по преставлении своем, восходя ко Господу, показываются своим духовным чадам. Но какое же я — его духовное чадо? Но отцом он мне стал, это верно, он меня зачал духовно, его слово, его любовь ко всем и вся. А сколько еше таких, как я, мятущихся в круговороте страстей, не помнящих родства, тонущих в водовороте жизни он наставил на путь спасения — на единственно возможный путь — в православие.
Так помалу, по чуть-чуть, я стал тянуться в церковь. Ходил в храм иногда, читал «Добротолюбие», которое мне подарили аж в трех томах (первые три), «Лествицу», «Невидимую брань», «Закон Божий», в общем — занимался самообразованием. Потом родилась у меня дочурка. Маленький такой комочек — не спит, плачет, бессонные ночи, как у всех родителей, кто через это не проходил. И нашла на меня напасть — даже тогда, когда мне удавалось на несколько часов отвалиться на диван, я не мог спать. Только закрою глаза, только начну «проваливаться» — приходят ко мне страшные тетки… со злобными и ненавидящими глазами, холодно смотрящими на меня… Уже, будучи на грани, предложила мне теща немного «откинуться» на диван и сказала, что у меня два часа на все про все. …Откинулся и начал засыпать и увидел… батюшку. Это был он, от него веяло чистотой и свежестью, спокойствием и любовью. Он мне помазал елеем лоб так, как это делал на вычитках. Только чувство было такое — не то что пощекотал, а поласкал как бы. С тех пор я больше их не видел. А если и приходили они ко мне в ночи — то смотрели издалека и со все той же злобой, но сделать больше ничего не могли…
Но вот беда — года два с половиной назад стал я как-то не совсем хорошо чувствовать себя на службе, не знаю, в чем это заключалось, — какая-то напряженность, даже физическая. И туг в очередной раз ко мне пришел на помощь мой батюшка, как всегда — во сне. На этот раз он меня исповедовал. Знаете, как это происходит? Вот так и было в этот раз. Только вот чувство покаянное — его-то вам, дорогие мои, и не расскажу, потому как слов таких не знаю. Разве что вот это — от всего сердца, с надрывом, со сладким раскаянием. А о каких грехах каялся — не знаю, сие осталось для меня большой тайной, но, видать, страшные грехи водятся за моей душонкой. С тех пор вот и получаю удовольствие в храме, то, которое и должно быть и которое и должно только взрастать.
Упокой, Господи, душу раба Твоего, схиархимандрита Феофила, и спаси меня его святыми молитвами!»
Высказывания, поучения старца Феофила
Мы должны воспитывать в себе дух кротости, смирения, незлобия, долготерпения и умеренности во всех поступках. А чтобы иметь в себе такое расположение духа, надо помнить общую слабость человеческую, общую склонность ко грехам, в особенности — свои великие немощи и грехи, а также бесконечное к нам самим милосердие Божие, которое прощало и прощает нам грехи многие и тяжкие за покаяние и умоление наше.
Господь сказал: «Милости хочу, а не жертвы». Он, многомилостивый, хочет и от нас милости, милосердия, незлобия и терпения относительно ближних наших. Он же готов всегда помогать нам во всяком добром деле. Если у тебя злое сердце, проси в покаянии, чтобы Он смягчил твое сердце, сделал кротким и долготерпеливым, и будет оно таково.
Наши страсти — это наши великие болезни. Когда наша природа желает, боится или иным каким-нибудь образом приходит в возбуждение, она тогда страдает, терпит, волнуется и выходит из того спокойствия, в котором и заключается ее здоровье.
Но из всех страстей самая большая — это йенависть, особенно когда она сопровождается смертоносными признаками мщения.
О, что это за недуг! Эго возгоревшаяся желчь, которая изнутри возбуждает дух, стесненный тысячами волнений, а извне обнаруживается на лице, искаженном от печали. Это великая тяжесть уныния, которая падает на сердце, волнует и подавляет его. Эго внутренняя возбужденность души, вызывающая самые страшные движения, это мрачный туман в уме, подымающий волнения пагубных помыслов. Яд в крови, отравляющий всякое удовольствие, поджигающий и распаляющий жестокость. Эго злодейская страсть.
Сея вокруг себя семена любви и милосердия, мы как бы обязываем Господа милостью Его к себе. То, что мы подаем нищему, голодному, нуждающемуся, то, что мы делаем страдающему, плачущему, утешая его, — привлекаем благословение Божие к нам. Сказано в слове Божием: Благотворящий бедному дает взаймы Господу (Притч.19:17). А Господь воздает всегда щедрым Своим отеческим воздаянием.
Блажен, кто помышляет о бедном! В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь… Господь укрепит его на одре болезни.
Вот каковы плоды этой добродетели, этой священной заповеди нашего христианского закона о любви и милосердии, преподанной всем нам к неуклонному исполнению в жизни земной нашим Господом Спасителем.
Наш Господь Бог, в Которого мы веруем, назван в слове Божием Отцом сирот и убогих. И чем мы больше можем заслужить благоволение своего Небесного Отца, как не своим милосердием к нищему, убогому, плачущему, скорбящему, ко всем требующим и жаждущим от нас нашего сострадания, утешения, нашей помощи?
А тот, кто оскорбляет нищего, убогого, просящего о нашем сострадании, кто закрывает свое сердце к горю брата своего, тот оскорбляет Самого Господа Бога в лице меньшего брата своего…
Чтобы жить по-христиански, держитесь Православной Церкви. Живите христианской жизнью. Раз в месяц причащаться надо, дома употреблять крещенскую воду и часть святой просфоры по утрам…
В Евангелии говорится: «Вера твоя спасла тебя», то есть первые христиане обладали великой верой. Господь напоминал им, чтобы они имели живую веру и высокое христианское благочестие. Вот они и старались жить по-настоящему. Господь их благословлял на труды, на подвиги. Они крепко исповедовали Христа, веровали Ему и часто отдавали свою жизнь — как святой целитель Пантелеймон, Георгий Победоносец (первый министр Диоклетиана), великомученица Варвара, великомученица Параскева, великомученица Екатерина и другие. Вот светочи первых христианских людей! Им подражайте, их читайте, следуйте им.
В храмах чаще бывайте, веруйте, посещайте главные святыни Киевской Руси, особенно лавру Киево-Печерскую. Угодникам Божиим целуйте ручки, подражайте им в жизни их. Вот и будете вы настоящими, тоже хорошими христианами. Дай вам Бог преуспевать во всем и идти от силы в силу и достигать высшего духовного совершенства.
Схиигумен Савва (Остапенко)[106] (1898–1980)
Любовью ль сердце разгорится
О, не гаси ее огня.
Старец Савва не любил рассказывать о себе, биографические данные весьма скудные. Известно, что он родился 12/25 ноября 1898 года на Кубани, в многодетной семье, при крещении был наречен Николаем. Его родители Михаил и Екатерина прививали своим детям с детства «боголюбивые навыки, которыми владели сами».
В восьмилетием возрасте случилось несчастье: Николай провалился в прорубь. Чудом спасенный мальчик тяжело заболел, надежд на выздоровление было очень мало. Изнуренному болезнью ребенку было чудесным образом открыто его будущее.
Вот что поведал об этом одному духовному лицу старец Савва: «Ночью я долго не мог уснуть и вдруг вижу на потолке себя уже взрослым в сане священноинока, и сердце мое как-то неизреченно взволновалось. После этого быстро поправился».
Николай успешно окончил церковно-приходскую школу, во время войны в 1914 году был досрочно мобилизован в армию и направлен на Турецкий фронт. После войны Николай учился в военно-инженерном училище, а потом продолжил обучение в Московском инженерно-строительном институте. После окончания института работал по специальности.
Старец рассказывал, что все эти годы мечтал посвятить себя служению Господу. Однажды, после горячей молитвы перед сном, в тонком сне будущий подвижник сподобился увидеть святую великомученицу Параскеву. Святая дева указала Николаю путь к монашеству.
В тридцати пятилетнем возрасте Николаю посчастливилось попасть к афонскому старцу Илариону. Старец предсказал скорое открытие монастырей, утешил: «Будешь жить в лавре».
С 1941 года Николай Михайлович работал в Наркомздраве, в отделе строительства по санитарии и профилактике древесины (работники Наркомздрава имели временную бронь). Все свое свободное время он проводил в молитве, за чтением Священного Писания, посещал храм.
Вскоре предсказание старца Ипариона начало сбываться: в Москве, в Новодевичьем монастыре открылась Духовная семинария (позже семинария была переведена в г. Загорск, ныне Сергиев-Посад). Николай Михайлович, получивший рекомендацию от протоиерея Иоанна, успешно сдал вступительный экзамен и был зачислен в семинарию. Летом он принимал участие в восстановительных работах, проводившихся в лавре.
25 октября / 7 ноября 1948 года в Троице-Сергиевой лавре наместником лавры архимандритом Иоанном было совершено пострижение Николая в монахи. При постриге он был наречен Саввой, в память преподобного Саввы Сторожевского.
В первые годы иноку Савве пришлось по послушанию быть экономом; позже наместник лавры, по благословению святейшего патриарха, назначил его духовником богомольцев. Со временем старец, схиигумен Алексий, благословил иеромонаха Савву помогать ему в духовничестве и передал ему свой духовный опыт, а перед самой кончиной возложил на иеромонаха Савву подвиг старчества.
Число желающих исповедоваться быстро увеличивалось, многие верующие получали по молитвам старца Саввы исцеление.
Вот одно из свидетельств благодатной молитвы старца. Тяжелобольную Анну положили в больницу (врачи определили рак легких). Дочь Анны приехала в лавру испросить молитв старца о тяжко болящей матери. Старец Савва отслужил молебен у мощей преподобного Сергия и утешил: «Не волнуйся, все будет хорошо! Вот, вези ей эту просфору, чтобы всю съела».
На следующий день врачи были в недоумении, больная повеселела, у нее появился аппетит, назначили повторное обследование. Рак не был обнаружен. Анну выписали из больницы. Когда Анна окрепла, сама лично отправилась в лавру благодарить Господа, исцелившего ее по молитвам старца. При встрече старец спросил: «Где же твой рак, уполз?»
Старец Савва старался в каждом сердце разжечь искру божественного дара, не только духовно, но и материально помогать нуждающимся людям, отдавая всего себя служению ближнему. Народ безмерно любил своего пастыря, и именно эта любовь и подвижническая жизнь старца явились причиной многочисленных доносов и клеветы, буквально обрушившихся на него. Старец старался не осуждать своих обидчиков, молился за ненавидящих его, учил и своих духовных детей благодушно переносить скорби.
Летом 1954 года отец Савва был переведен насельником в Псково-Печерский монастырь. С тяжелым сердцем уезжал старец из лавры, трудно ему было оставлять святую обитель, духовных чад. На прощание он сказал: «Вы будете молиться за меня, а я за вас! Сердце сердцу весть подает. Не надо отчаиваться, ведь воля-то Божия! Матерь Божия во всем нам поможет, только молиться надо, а не унывать».
Красота природы новой обители смягчила скорбь. Крайне бедная, малопосещаемая в те годы обитель обрела старца. В монастырь за духовной помощью и исцелением стали стекаться людские потоки. Многочисленные пожертвования духовных детей старца помогли улучшить благосостояние монастыря.
Случаи исцеления по молитвам старца Саввы
Как-то приехали в монастырь московские духовные чада старца и рассказали о тяжелой болезни духовной дочери старца, Параскевы. Старец обратился ко всем молящимся с просьбой:
«Помолимся сейчас искренне о болящей Параскеве. Врачи признали у нее рак, а мы не дадим ему развиваться в ней, помолимся, и ей будет легче… Ей еще рано умирать…»
Старец отслужил молебен о болящей и благословил отвезти больной святой воды с молебна и просфору. Когда больная приняла святыню, сразу же почувствовала себя лучше. Болезнь отступила, вскоре ее выписали из больницы.
Однажды к старцу приехал московский священник Георгий, его пятилетняя дочь Мария не умела ходить и не разговаривала. Старец Савва помолился о болящей и благословил их ехать домой. На вокзале Мария впервые пошла и заговорила.
Из воспоминаний духовной дочери старца Галины: «Меня мучила стенокардия в тяжелой форме, приступы продолжались сутками, много раз я была на волоске от смерти… Приехала к отцу, передала исповедь, где написала, что мне очень плохо. После литургии отец Савва вышел из алтаря, остановился около меня, посмотрел прямо в глаза, погладил меня по лицу и сказал: «Сердце твое больше болеть не будет».
И я почувствовала в сердце какие-то толчки. После этого болеть я перестала.
…Огорчалась я из-за детей, что они мне не помогают. Приезжаю к батюшке и спрашиваю:
— Как быть?
— Когда устанешь, то перекрестись и скажи: «Делаю ради Христа», и Христос тебе поможет.
Так и стала поступать. Исчезли мои обиды, и усталости не стало. Как почувствую, что раздражаюсь, смотрю на фотографию батюшки и прошу:
— Отец Савва, помогите, я раздражаюсь.
Приезжаю к нему, он говорит:
— Вот ты все пишешь мне: «Раздражаюсь, помогите» (а я не писала). — В руке у него иконочка Божией Матери «Неопалимая Купина», он дает ее мне и говорит:
— Она помогает не только от пожара дома, но и от пожара души. Молись Ей.
Начала я молиться Божией Матери перед этой иконой. Мне стало легко, я перестала раздражаться.
На исповеди отец Савва сказал, что не надо бояться душевнобольных. И, окинув всех взором, добавил:
— Здесь все до единого больные, только в разной форме: у кого один, у кого два, а у кого и две тысячи бесов. И если мы раздражаемся, то мы больные…
Заметила я, что схимницы и монахини не употребляют пишу до двенадцати часов и после шести вечера… В душе решила: приеду домой и тоже буду так делать. Намерение свое решила держать в тайне.
После литургии старец говорит всем: «Вот посмотрите на Галину. Она решила: как приедет домой, то не будет есть до двенадцати и после шести часов вечера. А муж ее за это из дома выгонит… Никакого режима в часах».
Я только порадовалась: ничего от батюшки не скроешь!
Многим в монастыре не нравилась деятельность старца. Некоторые считали, что из-за старца нарушается монашеская жизнь, участились доносы. Последовали и предупреждения от местных властей, старцу стали запрещать принимать верующих.
В 1958 году старец Савва был назначен настоятелем храма Казанской иконы Божией Матери в городе Великие Луки.
Старец безропотно принял новое послушание, ему предстояло восстановить полуразрушенный кладбищенский храм. Все необходимое для ремонта по молитвам старца появлялось чудесным образом. Многие духовные чада старца приезжали в Великие Луки, каждый помогал чем мог.
За два месяца храм был приведен в порядок.
Слухи о прозорливом старце распространялись молниеносно, маленький храм не мог вместить всех богомольцев.
Выполнив послушание в Великих Луках, старец вернулся в родную обитель. А через год ему уже предстояло по послушанию отправиться в село Палица Псковской области.
Тяжелые испытания подорвали здоровье старца, в 1960 году тяжелобольной старец Савва вернулся в монастырь.
Старец неоднократно говорил своим духовным чадам: «Никогда не торопитесь в молитве … Каждое святое слово — это великая творческая сила. Каждое слово приближает нас к Богу… Некоторые просят молиться за отца, за дочь, за брата, сестру, а сами нисколько не стараются молиться… Знаете, как священнослужителям тяжело бывает? Ведь он часть грехов человека берет на себя… Берегите свой сердечный сосуд, чтобы сохранить его чистым, оградите его оградой — непрестанной молитвой… За твердую веру, за непрестанную молитву душа принимает Святого Духа и делается сосудом Божественной благодати… Очень хорошо делают те, кто сочетает Иисусову молитву с дыханием…
Сочетать молитву с дыханием нужно так: до обеда: вдох — «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий…», выдох — «помилуй меня грешного». После обеда: вдох — «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий…», выдох — «молитвами Богородицы помилуй меня грешного». В любое время, в любом месте, при любых занятиях в сердце своем всегда надо взывать к Нему, хотя бы кратко: Господи, помилуй! Господи, помоги!»
Заботливый пастырь советовал духовным детям ежедневно исполнять Богородичное правило — 150 молитв «Богородице Дево, радуйся». Призывал чаше читать Евангелие, особое внимание советовал уделять Нагорной Проповеди Спасителя (см. Мф.5:1–12), 15 главе Евангелия от Иоанна о любви и посланию апостола Павла к римлянам (гл. 13).
При разрешении «недоуменных» вопросов благословлял тянуть жребий. Он говорил: «Можно и даже похвально пользоваться жребием в недоуменных случаях. Перед этим надо сделать три поклона с Иисусовой молитвой и прочитать «Царю Небесный», трижды «Отче наш», трижды «Богородице Дево, радуйся» и «Верую». Только надо иметь живую веру и уповать на Бога».
Из воспоминания духовной дочери старца Саввы:
— Когда мы приходили к нему со своими бедами, он, печально глядя на нас, говорил:
— Ну что так печалишься, потерпи. Это все временное. Вся наша жизнь впереди…
Он одобрял тех, кто в трупных случаях (после молит) тянул жребий: «Жребий полезен тем, что отсекает твою волю».
Старец говорил: «Болезни Бог посылает и за совершенные грехи, и для того, чтобы предотвратить их в будущем, и для очищения души. Плоть — враг наш, необузданный конь, а болезнь — удила, его сдерживающие. Святые отцы говорят, что перед смертью каждому очень полезно года два полежать в постели, пострадать, высохнуть, чтобы душа очистилась, смогла войти в обитель рая».
Старец советовал за умершего человека, чтобы его душа легче переносила мытарства, 40 дней утром и вечером делать по 12 поклонов с молитвой об упокоении.
Телесные силы старца ослабевали; зная, по откровению свыше, о дне смерти, старец писал духовные завещания для духовных чад, для братии.
В воскресенье 14/27 июля 1980 года монастырский колокол Псково-Печерской Свято-Успенской обители возвестил о кончине схиигумена Саввы.
Старец часто любил повторять высказывание преподобного Серафима Саровского: «Стяжи мирный дух, и подле тебя спасутся тысячи». Благодатный пастырь схишумен Савва, по совету преподобного Серафима, всю жизнь «стяжал мирный дух», тысячи людей, спасавшихся около него при его жизни, и сейчас чувствуют неустанную заботу старца. Многочисленные свидетельства молитвенного заступничества старца перед Господом за верующих не оставляют сомнений в том, что в скором времени старец Савва будет прославлен.
Друзья мои духовные и чада верные!
Как пастыря, меня о Господе любя,
Вы книги все — последние и первые
И все труды мои храните для себя.
Случится так, что телом я уйду от вас —
Тогда пусть будет вам одно из правил:
Сходитесь иногда хоть мысленно на час,
Читайте те труды, что я для вас оставил.
Потом, обдумав все, скажите: «Это Он,
Как прежде, и теперь заботится о нас!»
И, благодатию Христа, стряхнув могильный сон,
Войду невидимо я к вам в заветный час.
И, как при жизни моей вас благословляя,
Усердно буду к Господу взывать,
Чтоб, на дела святой любви всех вдохновляя,
Вас осеняла свыше Божья благодать.
(Схиигумен Савва)
Высказывания, поучения старца Саввы
Наша любовь к Богу измеряется нашей готовностью принять посылаемое нам страдание и видеть в этом милость Божию. Поддержкой нам может быть то, что страдания эти есть мера любви Божией к нам…
По собственному опыту знаю, как страшно допустить забвение смерти.
Господи, спаси меня! Не остави меня в час смерти!
Услыши меня и ныне из глубины души взывающего.
Подвиг монашеский заключается и в том, чтобы близких родственников, которые умерли без покаяния и мучаются там за сделанные грехи, выручать, спасать их души. Тот монах, который правильно ведет свой образ жизни, имеет дерзновение спасти несколько поколений умерших и живых…
Когда познаешь сколь благ, сколь милосерд Господь, тогда становится ясным, почему отчаяние считается смертным грехом, то есть очень тяжким грехом. Как бы ни были многочисленны грехи человека и как бы ни были тяжки преступления его, но безграничное милосердие Божие покрывает их все, если человек кается, сокрушается и искренно хочет исправиться. Грехи, как бы они ни были тяжелы и многочисленны, но они имеют границу, имеют предел, а милосердие Божие не имеет границ и предела, оно беспредельно, безгранично. И когда человек думает, что Бог не простит ему грехи, и отчаивается в своем спасении, он, тем самым, помышляет как бы хулу на Бога, умаляет Его достоинства, отталкивает от себя милосердие Божие, отталкивает от себя спасение, таким образом, сам себя губит. Слава Господу Богу, за то, что Он дал нам покаяние!
В скорбных обстоятельствах хорошо молиться за усопших, а также призывать на помощь святых угодников Божиих. Но более совершенный путь — это обращаться к Божией Матери. Читайте Ей канон молебный «Многими одержим напастьми». И вы сразу почувствуете благую перемену. Чтобы избавиться от одержимости, надо читать 150 раз «Богородице Дево» и молиться Божией Матери «Избавительнице». На Новом Афоне была чудотворная икона «Избавительница». Сколько чудес там было от нее!
Не питайте, возлюбленные, ни к кому зла. Когда чувствуете, что гнев овладел вами, то скажите про себя: «Господи, помилуй!» А потом 5 раз: вздохните «Господи» и выдохните «помилуй», и гнев пройдет, наступит мир и тишина. Это и есть подвиг!
Второй подвиг — это неосуждение, особенно духовных лиц. Старайтесь, возлюбленные, приучаться к подвигам любви и милосердия, прощения обид и неосуждения.
Бесчестие и укоризны — суть лекарства для гордой души, поэтому, когда смиряют тебя извне, смири внутренне себя, то есть приготовь, воспитай свою душу.
Гордость — это основной узел, который связывает все грехи, пороки и страсти, а смирение — меч острый, который их рассекает. Нам гордиться нечем. Тело и все способности дал нам Господь, и все это не наше, а Господне. Наше у нас — лишь пороки и страсти, но гордиться ими неразумно. Гордым свойственно раздражаться, ругаться, спорить, обижаться.
Святой Иоанн Златоуст говорит: «У того, кто допускает это, — недостаток ума». Надо работать нал собой и вырабатывать такой характер, чтобы никогда ни с кем не спорить, не злиться, не раздражаться.
Святой Иоанн Лествичник говорит «Когда человек плачет о своих грехах, то не осуждает других». Поэтому, как мы только перестаем осуждать себя, мы тотчас начинаем осуждать других…
Каждый грех, даже малый, влияет на судьбу мира, — так говорит старец Силуан. Грех — самое великое в мире зло, — говорит святой Иоанн Златоуст. Наши нераскаянные грехи — это новые язвы, которые мы нанесли Христу Спасителю, это страшные раны и в нашей душе, и грехи от них остаются на всю жизнь… Лишь в таинстве покаяния можно очистить и исцелить душу. Покаяние — это великий дар Бога человеку, оно простирает руку, вытаскивает нас из бездны греха, пороков, страстей и вводит во врата рая, оно возвращает нам постоянную после крещения благодать.
Надо не только носить крестик, но и целовать его. Утром, как только открыли глаза, надо сейчас же поцеловать крестик с молитвой Иисусовой или с молитвой: «Господи, крестом Твоим освяти и огради меня! Силою креста Твоего изглади мои грехи и укрепи меня!» А Господь и намерение целует. Он освящает нас, и вражеская сила удаляется от нас, мрак и смрад уходят, и тогда мы пребываем во свете… Если мы поцелуем крестик утром да еще помолимся, получим благословение надень, то день пройдет гладко, спокойно, и все будет хорошо».
Стихи старца Саввы
Любовью ль сердце разгорится
О, не гаси ее огня!
Любовь есть Бог! Им жизнь живится,
Как светом солнца яркость дня. Люби
безмерно, беззаветно, всей полнотой
душевных сил, хотя б любовию
ответной тебе никто не отплатил.
* * *
Любовь — не только наслажденье…
Любовь — тепло, забота, свет!
Любовь — страданье и терпенье,
Великий подвиг отреченья…
Любовь — Божественный завет!
Молитва
Духовным оком созерцая Тебя,
о Боже, пред собой, я в умиленье
пребываю к Тебе с смиренною
мольбой. Велик Ты, Боже наш,
в творенье! И на земле, и в небесах
Велик и дивен в промышленье,
Могуч и славен в чудесах! И мы,
смиренное созданье, мы носим
образ Твой в себе, питаем
в сердце упованье за гробом
перейти к Тебе.
Дабы навек соединиться, с Тобою —
неразлучно быть, но, чтоб
достойно нам явиться, даждь нам
всегда Тебе служить! Даждь
сердцем чистым незазорно Святую
веру сохранить, душою теплой
не притворно Тебя и ближних всех любить!
К 90-летию со дня рождения архимандрита Адриана (Кирсанова)[107]
История Русской Церкви знала разные времена — и расцвета, и скорби.
Но и среди гонений, скорбей, духовного оскудения Господь являл Своих верных служителей, носителей высот человеческого духа. Одним из таких старцев является наш современник — архимандрит ПсковоПечорского Успенского монастыря Адриан (Кирсанов).
Сколько неоцененного добра заключает в себе старческое окормление! Как облегчает оно борьбу с врагом, как подкрепляет в минуты уныния, малодушия, как поддерживает и направляет в случае падения или сомнения, как верным покровом от вражеских бурь служит оно всем, кто не сомневаясь, прибегает к его мощному содействию!
Послушание, по словам Иоанна Лествичника, есть совершенное отречение от своей души, действиями телесными показуемое (Слово4:3). С доверием и готовностью, любовью и радостью, отдавая свою волю и всякий суд над собой духовному отцу, послушник, тем самым совлекается тяжелого груза земной заботы и познает то, чему невозможно определить цены — чистоту ума и сердца. Без послушания старцу невозможно достигнуть этого, и потому без послушания нет монашества.
Таким именно духовным отцом — старцем для братии монастыря — является архимандрит Адриан. В 2009 году старцу исполнилось восемьдесят семь лет. Он стал живым преданием Церкви, святого Православия и смиренного иноческого жития.
По милости Божией, благое окормление отца Адриана продолжается то в личных встречах, то в проповедях с амвона, а, чаще всего в наставлениях на исповеди. Эти душеспасительные наставления, обращенные к больной душе, утешат стон и плач, горе людское, это ответы на слезную исповедь, робкую веру и последнюю надежду исстрадавшейся души.
Но главное дело отца Адриана — это молитва. В его глубокой памяти теснятся имена и образы дорогих ему людей, страждущих и болезнуюших душою и телом, чающих Христова утешения. Отец Адриан настойчиво призывает к молитве всех, и сам непрестанно молится о всякой душе, как о себе.
Через старца, по его молитвам, направляет Господь жизнь Псково-Печорских иноков. Это живой пример для подражания. О нем можно сказать: «Подражайтемне, как я Христу…» (1Кор.4:16).
Как и много столетий назад, все так же смиренно теплится в Псково-Печорской обители Неугасимая лампада перед чудотворным образом Успения Божией Матери, все так же притекают в святую обитель паломники со всех краев, все так же возносятся молитвы иноков.
Батюшка рассказывает: «Когда я учился в школе, нам говорили, что люди произошли от обезьяны[108]. Я не мог в это поверить и дал себе обет, что если я не найду Бога, то буду всем говорить, что люди произошли от обезьяны. Поехал я в Курск и заболел. В больнице одна женщина дала мне Евангелие, а я ей говорю: «Что вы мне Евангелие подаете, когда нам говорят, что Бога нет, и люди произошли от обезьяны?» «Нет, — говорит она — Бог есть». Ну, раз Бог есть, я попросил ее рассказать об этом. И она позвала меня в церковь. Утром мы пошли в церковь, батюшка меня исповедовал, все мои грехи провидел точно. Обратил я внимание на большую икону, где Христос с учениками. Она была светлая, вся в сиянии. Я испугался, но продолжал на нее смотреть: Христос идет с чашей, а за столом сидят апостолы. Я испугался и подумал — пришел конец света».
После этого сходит с неба ангел и посохом ударяет в землю, а оттуда — огонь. «Вот куда эти обезьяны пойдут» — сказал он. С тех пор я уверовал в Бога.
До войны я работал слесарем на электростанции. Когда началась Великая Отечественная война, нашу бригаду направили в город Таганрог на военный аэродром. Мы готовили к отправке в тыл боевые самолеты, а цеха заминировали и подготовили к взрыву. Полковник, который отвечал за взрыв, сказал: «Воевать вам нечего, армия из Таганрога ушла. Кто боязливый, пусть лезет в подвал и сидит там». Утром город заняли немцы. Увидев, что мы рабочие, расстреливать нас не стали и сказали: «Отправляйтесь домой к своим «маткам». А до дома нам полторы тысячи километров шагать пешком. Вот мы и шли. Я пришел домой, в нашей деревне стояли немцы. Мама, увидев меня, удивилась, как я спасся, и почему немцы нас не расстреляли. Днем мама меня прятала в печке, заставляла чугунами. Вечером я ходил искать партизан по лесам. Весной пришли наши, комиссар говорит мне: «Что же ты делаешь? Ты на печке сидишь, а солдаты сражаются за Родину». Я ему: «Больной я, не могу воевать». Они позвали фельдшера, меня подлечили и призвали в армию. Позже я попал под Москвой в город Коломну, где охранял гаубичные пушки. Из-за болезни сердца меня из армии комиссовали, направили в Москву на автомобильный завод имени Лихачева, где я проработал до 1953 года. Так что с немцами мне воевать не пришлось.
Когда я работал на заводе, всегда ходил в церковь и молился. Ездил в Новый Иерусалим. По благословению и попечительству патриарха Никона там, под Москвой, был устроен Воскресенский монастырь. В 1657 году в присутствии царя Алексея Михайловича патриарх Никон освящал первую деревянную церковь в честь Воскресения Господня. Царь осмотрел с горы окрестности и, пленившись их красотой, сказал святителю: «Сам Господь из начала определил место сие для обители». Я купался там в источнике и летом и зимой. Была у меня привычка — купаться зимой под сочельник. Лед у берега был крепкий, а на середине вода не замерзала. Мы были с паломницей Анной. Я ей говорю: «Отойди подальше, я возьму воды и пойдем». Я пошел по льду к воде. Лед все тоньше-тоньше, и я провалился под воду до самого дна с бутылками. Стал плыть туда, где лед уже не обламывался. Выплыл, смотрю — а бутылки уже стоят на льду, наполненные водой. Одну бутылку я отдал Анне, а одну оставил себе с благодарственной молитвой Господу за спасение моей жизни. После этого случая Анна приняла монашество с именем Анисия.
После смерти Сталина в 1953 году меня взяли послушником в Троице-Сергиеву лавру в Загорске. Послушанием моим было отчитывать бесноватых. Их жалко было, кто им поможет? Начал отчитывать не понимая, что для болящих это попущение Божие. Были и некрещеные, многие женщины делали аборты, убивали детей во чреве. Я, конечно, их отчитывал. Привели ко мне одну бесноватую, когда я стал ее кропить святой водой и мазать маслом, она увидела огонь, испугалась и говорит: «Я такого никогда не видела». Я ей ответил: «Теперь ты убедилась, что есть злые духи, которые мучают людей».
Однажды вызвали меня к уполномоченному по делам религии. Он говорит: «Что ты делаешь? Это сумасшедшие, а ты их отчитываешь.— Я сказал: какие они сумасшедшие? Я по требнику отчитываю.— Он говорит: Не хочу верить этим вашим требникам, этих людей ученые не могут вылечить, а ты вылечил. — А я ему: «После отчитки многие из них работают воспитателями в детских садах, врачами в больницах, есть и учителя». Он не поверил, позвонил Патриарху Пимену, и меня в 1974 году перевели в Псково-Печорский монастырь, и наместник архимандрит Гавриил благословил меня заниматься отчиткой».
Старчество издавна являлось крепостью монастырской. Можно в монашестве и затворе прожить долгую жизнь, но не стать старцем. Старчество есть Божий дар. Старец непременно должен обладать даром рассуждения и прозорливости, которые дают ясную картину и помогают отличать добро от зла. Старцы ведают не только о том, что мы делаем, но и что думаем: «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение» (1Кор.1:14). Известны в церковной истории Валаамские, Саровские, Оптинские старцы, к которым за советом, благословением и утешением стекались народные реки страждущих: «…Вопроси отца твоего и он возвестит тебе, старцев твоих, и они скажут тебе» (Втор.32:7)
Информационная служба Псковской епархии, по благословению владыки Евсевия, обратилась с вопросами к архимандриту Адриану (Кирсанову), надеясь что ответы его станут утешением для многих верующих людей, которые не могут, по тем или иным причинам, посетить старца. Обращаться к старцам — традиция древняя: «Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так: пойдем к прозорливцу». Но в наше время мы более живем по своей личной воле, скорее, по своему своеволию, а это редко бывает полезно нашей душе, а значит, нашей жизни.
Будут ли гонения на Православную Церковь?
Теперь наступают такие дни, что имя христианское слышится повсюду, храмов открывается даже больше, чем можно найти молящихся. Но не будем спешить радоваться. Ведь часто это только видимость, ибо внутри уже нет духа христианского, духа любви, Духа Божия, творящего и дающего жизнь, но царит там дух века сего — дух подозрительности, злобы, раздора. Духи-обольстители и учения бесовские уже явно проникли в церковную среду. Священнослужители, народ церковный, попуская себе ходить в жизни в похотях сердец своих, одновременно молясь Богу и работая греху, получают за это должное воздаяние. Бог их не слышит, а диавол, не связанный силой Божией, творит через обольщенных свои непотребные дела.
Дух Божий еще в первые века христианства остерегал всех живущих, что «…в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам-обольстителям и учениям бесовским…» (1Тим.41). Ныне отступление от Бога и веры распространяется по земле. Человек, отвергая добро и избирая зло, становится соучастником темной силы в борьбе против дела Божия — созидания жизни на земле. Мы видим это зло совершающимся. Вот какая страшная опасность грозит миру! Как же жить нам на этой обезумевшей от зла земле? Слушайте внимательно. Святитель Божий Игнатий отвечает нам: «Те, которые поистине будут работать Богу, благоразумно скроют себя от людей и не будут совершать посреди их знамений и чудес. Они пойдут путем делания, растворенного смирением, и в Царствии Небесном окажутся большими отцов, прославившихся знамениями». Дорогие мои, это чрезвычайно важное указание нам! Берегитесь шума, берегитесь показного делания, берегитесь всего того, что лишает вас смирения. Там, где нет смирения, там нет и быть не может истинного угождения Богу. Ныне время, когда иссякли благодатные руководители подлинно духовной жизни. Теперь безопаснее руководствоваться Святым Писанием, писаниями подвижников благочестия. Господь и здесь пришел на помощь «малому стаду», ищущему Его. Книги истинных духоносных отцов вновь увидели свет, снова пришли к верующим. Читайте святителя Феофана Затворника,внимайте прочитанному, и козни вражии не посмеют коснуться вас, следующих его советам.
А вот последнее слово нам, живущим в столь трудные времена: «Отступление попущено Богом: не покусись остановить его немощною рукою твоею… Устранись, охранись от него сам; и этого для тебя довольно. Познай дух времени, изучи его, чтобы по возможности избежать его влияния». Дорогие мои! «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы: поднебесных» (Еф.6:11–12). И Господь будет с нами, будет нашим Помощником.
Прихожане ищут чудес, хотят, чтобы в их жизни что-то изменилось.
Архиепископ-хирург Лука (Войно-Ясенецкий, 1877–1961) успешно сделал операцию одному атеисту. Тот говорит: «А ты Бога видел?», а архиепископ Лука ответил: «Я тебе все мозги перевернул, а ума в них не нашел, но он же есть. Мысли свои мы не видим, а они есть. Так и Бог».
Человек получает радость и перемену в своей жизни, в своей душе и теле после Причастия. Это и есть чудо, этого и достаточно. А если хотим видеть только внешние чудеса, то, кроме греха, ничего не увидим.
Поверь в Бога-Творца твоего, открой перед Ним твое сердце, быть может исстрадавшееся, изболевшее за годы богоотступничества и ты почувствуешь, как обильно потечет в него поток благодати Божией. Почувствуешь как радует, утешает и подкрепляет Господь верующее в Него сердце. Богу нужна не мертвая вера, а та, которая живет во всем внутреннем существе человека. Когда все наши мысли направлены к Господу, когда сердце наше жаждет жить с Богом, не разлучаясь с Ним, когда воля наша хочет исполнять заповеди Божии, идти за Господом до конца дней своих. Такая живая вера вдохновляет, является движущей силой на всем нашем жизненном пути, спасает нас, составляет счастье нашей жизни.
А тем прихожанам, которые соблюдают посты, посещают храм, как часто посоветуете им причащаться?
Нужно стараться причащаться раз в две недели. Если причащаться редко, то сложно устоять против окружающих нас соблазнов. Когда почаще причащаешься, помогает отвращаться от греха и приближает к Богу.
Можно причащаться и каждое воскресенье, об этом говорил и схиигумен Кукша (Величко, 1874-1964).
Многие приходят к Вам за советом?
Недавно из Америки приезжали, из Финляндии, Польши, Германии и Австрии…
Что, по вашему мнению, самое главное для современного пастыря?
О, если бы у нас, призванных к апостольскому служению пастырей, постоянно горел огонь ревности о спасении заблудших братий наших, а у всех верующих — огонь доброжелательной христианской жизни! Всем нам работать надо, не покладая рук. Наше дело — содержать истину в чистоте и черпать полную мерою всякому приходящему к истине.
«Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу в время? Блажен тот раб, которого господин его найдет поступающим так: истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его». (Мф.24:45–47).
Главное дело приходского пастыря — воспитывать свой приход в истинах Православия и добродетельной христианской жизни, а, делая это, — пастырь строит Царствие Божие на земле.
А правда ли, что сейчас христиане ослабли и не могут противостоять греху?
Это да. Время, в которое привел нам жить Господь, наисложнейшее — смущение, смятение и неразбериха колеблют непоколебимое, но это еще не конец, впереди еще более сложные времена. А Церковь, по обетованию Спасителя, будет жить и совершать свое служение, великое и спасительное, до последнего дня жизни мира. Не надо забывать — бессильно зло, мы вечны, с нами Бог!
Что посоветуете, батюшка, нашим прихожанам?
Всем скажу: исповедоваться, каяться, причащаться, слушаться своих духовных отцов и смиряться, как и мне приходилось у наместника отца Гавриила[109]. Он мне говорил: «Я тебя отправлю на приход!» Я ему отвечаю: «Ты мой врач, ты меня лечишь, куда я от врача пойду? Я никогда еще такого врача не встречал, хочу только у тебя быть». Он с раздражением скажет: «Иди к своим больным, не нужен ты мне!» А кто-то ушел отсюда в другие монастыри или на приходы. Нужно смирение и покаяние и от Церкви не отходить, она нам поставлена Богом, чтобы лечили свои недуги и язвы. Как для больного телом больница, так для больного душой — Церковь. Церковь — святая д ля душевного спасения, чтобы душа была вместе с Богом. Скоро будет новое небо и новая земля. Нам надо исповедоваться, каяться, причащаться и со смирением нести свой крест.
Один раз приехал в монастырь владыка Сурожский Антоний(Блюм) из Англии. Я ему говорю: «Владыка Антоний, мне хочется уехать в Америку или в Англию, мне здесь покоя люди не дают». А он говорит: «Тебя и там найдут и там покоя не будет».
Тогда я обратился к духовнику отцу Серафиму (Тяпочкину): «Батюшка, меня зовут в Америку. И я уеду в Америку, чтобы там жить и чтобы никто меня не знал». Он в ответ: «Ты уже висишь на кресте и с креста сам не сходи, а только когда тебя снимут». Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. (Мк.8:34).
На прощание отец Адриан благословил нас: «Помоги вам Господь в ваших делах и трудах. Я благодарю вас за ваш приезд к нам в монастырь».
К 90-летию со дня рождения и 60-летию монашества архимандрита Кирилла (Павлова)
Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его.
(Лк.11:28)
Поздравление юбиляру
Многолетнему насельнику и духовнику СвятоТроицкой Сергиевой лавры архимандриту Кириллу (Павлову) исполняется 90 лет.
Его Высокопреподобию архимандриту Кириллу (Павлову)
Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Кирилл!
В день Вашего 90-летия сердечно поздравляю Вас с этой знаменательной датой, с пожеланиями бодрости духа, крепкого здоровья и неоскудевающей помощи Божией.
На протяжении многих лет своей жизни Вы с честью несли высокое и ответственное служение духовника одного из самых известных и значительных монастырей Русской Православной Церкви— Троице-Сергиевой лавры. Вы с кротостью, смирением и подлинно христианской ревностью исполняли возложенное на Вас послушание, делом являя следование словам апостола, призывающего наорадоваться с радующимися и плакать с плачущими» (Рим.12:15).
Щедро делясь своим богатым пастырским опытом с воспитанниками Московских духовных школ, Вы заботились о том, чтобы Церковь Христова получала достойных делателей в винограднике Божием.
К Вам за мудрым советом и сердечным утешением прибегали не только насельники лавры, но и многочисленные паломники, спешившие к дверям Вашей кельи с упованием, что их надежда не будет постыжена и они смогут приобщиться к безграничной любви Христовой, переполняющей Ваше сердце и согревающей душу каждого приходящего (см. Рим.5:5).
В этот знаменательный день возношу молитвы ко Господу Вседержителю, дабы Он предстательством Преподобного Сергия, игумена Радонежского, егоже память мы празднуем ныне, в обители которого Вы совершали свое монашеское делание, даровал Вам мирное житие, укрепил Вас своею благодатью и сохранил на многая лета.
С любовью во Христе Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси
В июне многие православные люди поздравляли с юбилеем нашего духовника, который пользуется всероссийским почитанием — архимандрита Кирилла (Павлова). Духовник Троице-Сергиевой лавры, он воспитал многих епископов, священнослужителей и мирян, окормлял и окормляет многих людей, отвечает на каждое письмо, которое к нему приходит (а писем этих буквально у него стоят мешки полные).
Отец Кирилл очень внимателен к людям, и для нас, нашего поколения — это действительно удивительное явление нашей жизни: что мы живем в одно время с таким удивительным человеком.
Светлый образ, тихий нрав, евангельская кротость и в то же время — большое внимание к людям, участие в судьбе каждого, кто к нему обращается. Терпение большое к немощам человеческим, без укорения, без строгости излишней. Но в то же время, когда дело касается защиты истины, он принципиален и говорит правду, говорит в глаза, не боясь и не стесняясь.
В лавре Преподобного Сергия много духовников, каждый из них окормляет сотни, а может, тысячи людей, и мне кажется, что (не только по моим наблюдениям, но и по отзывам людей, имеющих духовный опыт) все-таки отец Кирилл — украшение Троице-Сергиевой лавры. Отец Кирилл вызывал и вызывает уважение духовно опытных людей, которые подтверждают, что он — опытный духовник, правильный духовник. И для нас это очень важно, потому что должны быть ориентиры в жизни, должны быть те люди, за которыми можно безбоязненно следовать по пути спасения.
Мы желаем Батюшке доброго здоровья, помощи Божией в его трудах на благо Церкви Христовой, на благо духовных чад, желаем ему духовной радости, хотя к духовнику люди приходят чаще всего со скорбями и проблемами своими, с тяжестями духовными. Но в этом и счастье наше, что духовник может облегчить бремя грехов, которое связывает, и может действительно помочь наладить духовную жизнь.
Я помню, как мы семинаристами приходили к нему. Всегда в его келье было много народу или, лучше сказать, около кельи, в коридорчике. Всегда было очень много мирян в посылочной, там, где он принимал народ. Он никогда не считался и не считается со своим здоровьем, со своим временем. Многих знает, хорошая память у него, помнит всех. Помнит проблемы людей, и много удивительных случаев связано у его духовных чад с его духовным руководством. И правда, люди получают помощь по его молитвам, становятся на правильный путь жизни.
Отец Кирилл является духовным отцом для многих принимавших постриг в Троице-Сергиевой лавре. Как духовник лавры, он воспринимал многих при монашеском постриге. Очень многие из тех прежних монахов, которые стали ныне епископами, приезжают исповедоваться к нему. Приезжает и Святейший Патриарх. И батюшка, по приглашению Святейшего Патриарха, часто живет в Переделкино, где загородная резиденция Святейшего Патриарха, — они часто встречаются, беседуют.
Хорошо, конечно, когда духовник — это не просто тот человек, который принимает наши грехи и силой Божией разрешает нас от этого бремени греховного. Очень важно, когда духовник является еще и старцем, то есть человеком, который может дать ответ на запросы души. Особенно важно для семинаристов, когда они принимают решение: принимать монашество, постриг монашеский или создавать семью. Как человеку узнать, по какому пути пойти? Ведь важно получить благословение своего духовного отца, старца. И у тех, кто шел к отцу Кириллу и получал его благословение, как правило, дальнейшая жизнь складывалась удачно. Потому что очень важно услышать правильный ответ: какова же воля Божия обо мне — создавать семью или быть монахом? Бывает так, что человек без совета, без рассуждения совершил какой-то важный шаг в жизни — и потом он всю жизнь мучается и мучает других людей, как бы проходит не свое послушание. Здесь опыт духовника, его молитва очень важны для человека.
Очень много есть людей, которые почувствовали пользу от общения с отцом Кириллом. И они, конечно, всегда стараются с ним поддерживать отношения.
Очень важно, чтобы за человека кто-то молился. Самому из трясины грехов невозможно выкарабкаться. Поэтому, когда есть сильный молитвенник, он помогает человеку выйти на правильный путь через частую исповедь, через частое причащение и через молитву. Если он поминает своих духовных чад, поминает человека, который к нему обратился, он имеет дерзновение пред Богом за свою чистоту жизни, за высоту духовной жизни, то он, конечно, очень много помогает людям, которые его попросили об этом.
Поэтому есть такая практика у православных людей — мы у всех просим молитв: «Помолитесь обо мне, я нуждаюсь в ваших молитвах!» И если человек близок к Богу, то его молитва может очень сильно помочь. И люди, почувствовавшие эту силу молитвы — они, конечно, понимают и к нему часто обращаются. Многие пишут письма издалека, не все ведь могут попасть к батюшке. И он старается всем помогать и, конечно же, молится за всех людей, которые его об этом попросили.
Многие едут за благословением перед венчанием. Я знаю, что были такие случаи, что не исполняли батюшкино благословение, его совет. И тогда, конечно, люди делали ошибки. Отец Кирилл много читает, много прочитал, прекрасно разбирается в нашей литературе православной, и, когда спрашиваешь его: «Что, батюшка, можно прочитать?» — он всегда даст очень хороший совет. Также он всегда дает очень хорошее правило, которое должен каждый человек читать в меру своего духовного возраста. Сам он часто читает правило до обеда в своей келье. После обеда приходят очень многие монашествующие и читают то же правило. И даже если придет один человек и попросит поисповедовать, то отец Кирилл откладывает все дела, чем бы он важным ни был занят, и начинает исповедовать этого человека. И это бывает настолько приятно, что человеку кажется, что ты — самый близкий к батюшке, что ближе никого нет, раз он все дела отложил и занимается с тобой. Без повышения голоса, всегда очень спокойно, смиренно.
У отца Кирилла в келье множество икон, с любовью убран уголок святой, каждой святыньке находится свое место, всегда в келье ароматно пахнет ладаном. Всегда горит лампада перед образом. Скромна келья монаха, скромна одежда. Но для нас, конечно, важен духовный облик батюшки. Он в мирской жизни и на фронте побывал. На Сталинградском фронте он участвовал в боях. Воин-патриот в мирской жизни, он так же успешно борется и с врагами духовными, подбадривает, подкрепляет своей молитвой, своим словом многих в этой невидимой брани. Потому что если человек не имеет опыта духовного, он, как бы еще, не обстрелянный воин. И очень важно, что такой старец, как отец Кирилл, помогает нам в этой невидимой брани с врагами спасения. Мы молимся, чтобы Господь подкрепил нашего старца-духовника, даровал ему доброго здоровья и многая и благая лета.
Если человек идет по правильному, евангельскому пути, тогда за ним можно следовать безбоязненно, но он о себе никогда не скажет, что он чего-то достиг. Великое счастье, если человек находит истинного духовного руководителя, руководителя в духовной жизни.
Тихон (Емельянов), архиепископ Новосибирский и Бердский.
Батюшка вспоминает. Я шёл с Евангелием и не боялся
Имя духовника Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандрита Кирилла знает сегодня, наверное, большинство верующих в нашей стране.
Ни на один день не иссякает людской поток у дверей его келии. Сюда едут со всей страны, а порой и из-за рубежа. Среди духовных чад отца Кирилла — Святейший Патриарх, архиереи Русской Православной Церкви, приходские священники, монашествующие и миряне, простые верующие люди и творческая интеллигенция.
Отец Кирилл (Павлов Иван Дмитриевич) — из крестьян Рязанщины, родился в Касимове в 1919 году. Окончил Политехнический техникум. Был призван в армию на Дальний Восток.
Началась Великая Отечественная война. Он воевал, был ранен, лежал в госпитале. Попал в самое пекло, в Сталинград.
Эта страшная Великая Отечественная война, конечно, явилась следствием попущения Божия за наше отступление от Бога, за наше моральное, нравственное нарушение закона Божия и за то, что попытались в России вообще покончить с религией, с верой, с Церковью. Перед самой войной не случайно почти все храмы были закрыты. Их к этому времени оставалось на Руси совсем небольшое количество. У противников Церкви была именно такая цель — вообще все прикончить. По высказыванию Хрущева, они покончат с религией в России к 1960 году и покажут по телевидению последнего попа. Таков был вражеский замысел — чтобы всюду царил полный атеизм.
Господь провидел эти вражеские планы, и, чтобы не дать им осуществиться, попустил войну. Не случайно. И мы видим, что война действительно обратила людей к вере, и правители совсем по-иному отнеслись к Церкви. В особенности, когда вышел декрет Сталина об открытии храмов в России.
Это, несомненно, подвигло милость Божию к нашей стране, к нашей Церкви, к нашим людям. По-человечески, конечно, можно сказать, что победил высокий воинский дух наших солдат. И надо отдать должное руководству страны, которое воздвигло такого гениального полководца, как Жуков.
В прежние времена Господь воздвигал для России Суворова, Кутузова. В наше время Георгий Жуков — это была милость Божия. Мы обязаны ему спасением.
Сразу же поднялась, окрепла и усовершенствовалась у нас военная техника. По-человечески мы все это относим к тому, что люди объединились и успешно работали на передовой и в тылу. Это правильно. Но силу, энергию и ум дал им Господь.
Когда я читал воспоминания маршала Жукова, мне бросился в глаза момент, где он пишет о том, как он поражался в начале войны гениальности стратегических планов немецких генералов. Потом он удивлялся тем ошибкам и просчетам, которые впоследствии они же совершали. Это со своей стороны говорит Жуков. Я со своей стороны скажу: это все совершала премудрость Божия! Господь, кого хочет наказать, всегда лишает разума, ума… И тот же человек, который вначале проявлял мудрость, когда благодать Божия отступила, совершает ошибки.
Когда Господь уже решил дать помощь нашему народу, нашей армии, Он омрачил умы фашистам, а нашим военачальникам дал мудрость, воинскую смекалку, мужество и успех. Господь давал силы, энергию, разум нашим конструкторам и инженерам для того, чтобы одержать победу. Как говорится, без Бога — ни до порога!
Беда в том, что мы не видим Промысла Божия и не воздаем Господу славу за то, что Он проявлял такое промышление, такую заботу. Это печально…
Собственно говоря, ведь Россия из ничтожества поднялась, выросла до великой державы только благодатию Божией, только силою Божией, чудесами… И никто об этом не хочет сказать…
Сколько милости получала наша страна во все времена, когда нападали на Россию. И только небесная помощь спасала от конечной погибели. А мы такие толстокожие, что не разумеем этой милости Божией, не хотим возблагодарить Господа. «Без Мене не можете творити ничесоже» (Ин.15:5). Мы все это относим к самим себе. Говорим «я», проявляем гордость, а это как раз и пагубно. И за это Господь отдает нас врагам, чтобы смирить нас, чтобы не забывали Бога…
В первые месяцы войны наша страна входила в нее в тяжелом состоянии: поражение следовало за поражением. И дошел враг до Москвы, до Сталинграда.
Когда Церковь, верующие люди молились со слезами, просили в молитвах Господа о победе русского оружия, молитва дошла до Господа. И Он вскоре переменил гнев на милость.
Москва была спасена чудом… Будь немцы посмелее, взяли бы ее голыми руками. Москва на волоске висела. Действительно, Господь страхом удерживал немцев…
И когда стали открывать храмы, такой был подъем в народе. Народ шел в храмы. И я сам был очевидцем этого…
После Сталинградской битвы, когда мы прибыли в тамбовские леса на отдых, в один воскресный день я пошел в Тамбов. Там только что открыли единственный храм. Собор весь был голый, одни стены… Народу — битком. Я был в военной форме, в шинели. Священник, отец Иоанн, который стал впоследствии епископом Иннокентием Калининским, такую проникновенную проповедь произнес, что все, сколько было в храме народа, навзрыд плакали. Это был сплошной вопль… Стоишь, и тебя захватывает невольно, настолько трогательные слова произносил священник.
Конечно, такой вопль, молитва простой верующей души до Бога дошла! Я в это верю на все сто процентов! И Господь помогал…
Простым людям кажется невидимой помощь Божия. Люди Бога не видят, не знают. Но связь невидимого мира с миром вещественным — непосредственная. Господь и нужных людей воздвигает, даем им опыт и мужество. Дает успехи в тылу и на фронте…
Я помню, как в начале войны наши танки, самолеты горели, как фанерные. Только появится «мессершмит», даст очередь, и наши самолеты валятся. Больно и печально было на это смотреть.
А позднее, во время Сталинградской битвы, я был прямо восхищен: катюши, артиллерия, самолеты наши господствовали, и было радостно за страну, за нашу мощь. Чувствовался подъем в войсках. Все были воодушевлены. Эго Господь помогал нам! И потом, слава Богу, прошли мы всю Украину, освобождали Румынию и Венгрию, Австрию…
После освобождения Сталинграда нашу часть оставили нести караульную службу в городе. Здесь не было ни одного целого дома. Был апрель, уже пригревало солнце. Однажды среди развалин дома я поднял из мусора книгу. Стал читать ее и почувствовал что-то такое родное, милое для души. Это было Евангелие. Я нашел для себя такое сокровище, такое утешение!..
Собрал я все листочки вместе — книга разбитая была, и оставалось то Евангелие со мною все время. До этого такое смущение было: почему война, почему воюем? Много непонятного было, потому что сплошной атеизм был в стране, ложь, правды не узнаешь. А когда стал читать Евангелие, у меня просто глаза прозрели на все окружающее, на все события. Такой мне бальзам на душу оно давало.
Я шел с Евангелием и не боялся. Никогда. Такое было воодушевление! Просто Господь был со мною рядом, и я ничего не боялся. Дошел до Австрии. Господь помогал и утешал. А после войны привел меня в семинарию. Возникло желание учиться чему-то духовному…
В 1946 году из Венгрии меня демобилизовали. Приехал в Москву, в Елоховском соборе спрашиваю: нет ли у нас какого-нибудь духовного заведения. «Есть, — говорят, — духовную семинарию открыли в Новодевичьем монастыре». Поехал туда прямо в военном обмундировании. Помню, проректор, отец Сергий Савинский, радушно встретил меня и дал программу испытаний.
И я с большим воодушевлением начал готовиться. Ведь я же к церковной жизни не был приобщен. Вырос в крестьянской семье, родители были верующие. Но с 12 лет я жил в неверующей среде, у брата, и растерял свою духовность.
Господь дал мне такую энергию, такое желание! Многое надо было на память выучить. Молитвы, чтение по-церковнославянски. Я, невзирая ни на что, работал, учил все с таким желанием. Горел.
На экзамене дали мне наизусть читать пятидесятый псалом… Только половину прочитал — хватит, спасибо. Прочитал по-церковнославянски. Тоже хорошо. Затем сочинение было на евангельскую тему…
…Согласно библейскому сказанию, семь ханаанских народов были истреблены только за то, что они допустили поклонение бесам. Грехи человеческие — это по немощи. Но когда люди стали обращаться к темной бесовской силе, тогда Господь этого не потерпел. А у нас открыли им дорогу. Раньше колдунов сжигали на костре. И совсем еще недавно в нашем Уголовном кодексе за черную магию подвергали наказанию. А сейчас экстрасенсы кодируют людей. Это страшное дело. Мы стоим на грани жизни!
И если не образумимся, не раскаемся, не осудим себя, не обратимся к Богу, наказание неминуемо постигнет. Пока же Господь все это терпит за счет верующих. Церковь еще существует. Она молится и умоляет Господа: не попускай, молю Тебя! А всю нечисть Господь уничтожит!
Человек сам виноват в том, что отошел от Бога, от истины, ко лжи приобщился. А ложь никогда не дает человеку удовлетворения. Ложь есть ложь. Поэтому люди и задыхаются — оттого что во лжи пребывают. А если к истине обратятся, то почувствуют жизнь, радость!
Вернуть Богу сердца людей
Встречи с людьми глубокой и истинной духовности — крайне редки в нашей жизни. Поэтому стараешься запечатлеть в сердце каждое слово, произнесенное человеком, которому безгранично доверяет твоя душа…
Так происходит после каждой беседы с архимандритом Кириллом (Павловым). Его простые, полные глубочайшего смысла слова, отпечатываются в самом сердце и помогают переносить тяготы нашей непростой, запутанной и противоречивой жизни…
Беседа, о которой я попытаюсь рассказать, произошла недавно. Так случилось, что ее участниками были несколько человек: два заслуженных генерала, священник и ваш покорный слуга…
Наш приезд был неожиданным, и поэтому, когда отец Кирилл предложил нам побеседовать во время прогулки в парке подмосковного санатория, где он поправляется после длительной болезни, мы сразу же согласились, боясь внести нежелательные помехи в его распорядок дня…
Уже через несколько минут мы были на аллее парка. В зимнем подряснике, с большим деревянным посохом батюшка походил не то на древнего странника, не то на старца из русской сказки… А самое удивительное началось уже потом, во время прогулки. Оказалось, что мы все, сравнительно молодые люди, едва поспевали за быстрым уверенным шагом отца Кирилла. Так прошли мы, наверное, не меньше километра, стараясь не отставать от горячо любимого нами батюшки.
В разговоре затрагивались самые разные темы: от положения на Святой земле до переписи населения, и, что удивительно, мы, люди конкретных профессий и занятий, мыслили тоже, в общем, довольно конкретно. Отец Кирилл с ласковой улыбкой старался давать, казалось, общие ответы. Только глубина этих ответов во много раз превосходила сами вопросы…
«Сегодня нужно бодрствовать духом, чтобы не прельстил кто-либо, не ввел в заблуждение. Враг — он коварен. Без лжи он не может достигнуть своей цели…» Отец Виктор посетовал на глубокий духовный кризис в сегодняшней деревне: «Многим людям телевизор заменил все! На чем же строить разговор с неверующим человеком, для которого язык Евангелия закрыт и непонятен?»
Отец Кирилл, пройдя несколько шагов молча, ответил:
— Внимание такого человека надо обратить на сохранение своей нравственности. Я думаю, что это каждому понятно, для каждого серьезно, чтобы сохраняли люди чистоту внутреннюю, любовь, уважение; смиренномудрие по отношению друг к другу, кротость, терпение. Эти добродетели имеют ценность в глазах каждого человека. Даже если он и далек от Церкви, но все равно совесть у каждого есть.
Совесть — это тоже Закон Божий. И она укажет человеку, что плохо, что хорошо, где зло, где добро. И человек будет всегда стремиться к Добру. Бог — есть любовь. Это близко сердцу человека. Революцию совершили и добились успеха люди, которые взяли христианские лозунги!
Что надо делать сегодня человеку? Надо очистить себя изнутри. С этого начни каждый. Главная задача — посеять Бога у каждого в душе. Будет Бог в душе, и Он будет так премудро все устраивать, хранить и помогать.
У нас пусто в душе. Бога вытравили из наших сердец. Вернем в сердца людей Бога — вернем достойную и праведную жизнь…»
На этой высокой ноте отец Кирилл расстался с нами и пошел вверх по тропинке уверенным, бодрым, солдатским шагом. Постукивание его посоха я слышу до сих пор. Как призыв к бодрствованию, пробуждению от духовной спячки и стремлению к высшему идеалу — Богу в наших сердцах. Эта, казалось бы, незамысловатая мысль дает каждому из нас, верующему и неверующему человеку, четкие ориентиры для дальнейшей жизни.
Храни Вас Господь, дорогой наш батюшка!
Андрей Печерский, гл. редактор газеты «Русь Державная»
Любвеобильный архимандрит
Рука Господня подарила
Нашей обители святой
Смиренного отца Кирилла —
С душою кроткой и простой.
Всегда отзывчивый и чуткий,
Готов с любовью всем помочь,
Он зря не тратит ни минутки,
В трудах духовных день и ночь.
К нему душа всегда влечется.
Отрадно видеть его лик.
О каждом брате он печется
Как монастырский духовник.
С любовью братия приходит,
Когда случается нужда.
Для всех он мудрости находит,
Утешит каждого всегда.
Его все люди уважают,
Спешат воздать ему поклон,
Старушки часто окружают.
Когда идет по лавре он.
Он славу мира избегает —
Себя готовит в мир иной,
Всегда убогим помогает,
Идя дорогой неземной.
Подобно солнышку нас греет
Своею лаской, добротой,
Себя нисколько не жалеет…
Дай Бог венец ему златой!
Игумен Виссарион (Остапенко), Свято-Троице-Сергиева лавра, 1980 г.
О памяти смертной. Слово на акафисте Преподобному Сергию
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Дорогие во Христе братия и сестры! Святые отцы в своих наставлениях монашествующим, одновременно же и всем христианам, одним из главных духовных деланий поставляют постоянное памятование о смерти. Помни последняя твоя, и вовек не согрешишь. Размышление, беседа, памятование о смерти для некоторых, может быть, составит неприятное занятие, а иные, из числа сомневающихся в бытии вечной загробной жизни, может, быть, и усмехнутся, но, тем не менее, вопрос о смерти для человеческого рода является главным и животрепещущим вопросом. Живое памятование о смерти удерживает нас от привязанности к земному и помогает не лишиться Царства Небесного. Оно постоянно направляет наши мысли к вечности, а мысль о вечности всегда производила великое действие: она воодушевляла мучеников и делала для них нестрашными самые лютые страдания, она затворяла в пустыне подвижников и доводила их до совершения нечеловеческих подвигов, она отрезвляла самых тяжких грешников и обращала их на путь покаяния.
Все временное, как бы оно ни было важно, по сравнению с вечностью — ничто. Все, что привлекает нас в этой земной жизни: слава, честь, богатство, здоровье, мудрость — все это в час смерти разрушится, отпадет и с нами не пойдет в вечность. А поэтому благоразумие требует, чтобы мы простирали свой взор вдаль и предусматривали будущие случаи, особенно, — трудные и опасные для нас, и с пользою для себя или, в крайнем случае, с безопасностью встречали их. Так, земледелец прежде посева думает о жатве, чтобы собрать обильный урожай. Отправляясь в какое-нибудь далекое странствие, мы заранее обдумываем, что взять с собою, где остановиться, чем заняться, чтобы путешествие наше было благополучным. Не тем ли важнее переселение наше из этого мира в мир другой, нам еще неизвестный, путь к которому прегражден всевозможными воздушными мытарствами?
Поэтому нам необходимо много заботиться и размышлять, каким образом приготовить себя к будущей вечной жизни, чтобы не оказаться без ничего в суровую и бесплодную зиму смерти. Опыт нашей жизни учит нас, что к смерти мы должны готовиться всегда, потому что не знаем дня и часа, когда умрем. Смерть похищает не только старых людей, но она уносит и детей, юношей, девиц, людей зрелого возраста, не спрашивая нашего соизволения. Господь потому и утаил от нас час смерти, чтобы мы постоянно бдели над собою, внимательны были к своим поступкам, словам и помышлениям и не откладывали на последние дни своего самоисправления и доброделания.
На самом деле, станет ли человек заниматься безотлагательно исправлением самого себя, напрягать свои силы к побеждению зла, если будет знать, что конец его жизни еще далеко, что он не умрет скоро? И, кроме того, если бы мы знали час своей смерти, то и стали бы перед смертью приготовлять себя к отшествию добрыми делами, молитвенным предстоянием, покаянием… Но разве такое приготовление не явилось бы в этом случае плодом принуждения, какого-то рабского страха, а не свободного произволения? Господь любит только доброхотных делателей и дателей и не желает, чтобы наша свобода чем-то стеснялась и наше доброе дело лишилось бы полной награды. А следовательно, мы должны всегда быть готовы к переходу в иной мир и помышлять о благополучном своем переселении.
В том, насколько важно памятование о смерти, удостоверяет нас Священное Писание, которое, повествуя о сотворении Богом первого человека, рассказывает, что Господь поместив Адама и Еву в райском саду, повелел им вкушать все плоды, кроме плодов древа познания добра и зла. Чтобы их райская жизнь была безопасна, для ее охранения Господь поставил им грозного стража — помысл смерти: если в какой день съедите от него, смертию умрете (Быт.2:17). И, действительно, райская жизнь была безопасна, доколе стоял подле нее помысл смерти. Но как скоро исконный враг людей хитростью успел похитить у них этот помысл — смертию умрете, — так тотчас и убил грехом райскую жизнь их. Что было с Адамом, то, естественно, повторяется и с потомками его. Тем более что мы, наследственно склонные ко греху, менее способны противиться, нежели он, потому что он имел духовную и телесную природу в состоянии совершенном и мог тверже стоять против искушений.
Если мы будем держать в памяти мысль о смерти, то избежим ее, а если перестанем размышлять о своей смерти, забудем о ней, устремляясь только к чувственным удовольствиям, приобретениям и славе земной, то подвергнем себя действительной, то есть вечной духовной смерти. Мы слишком преданы плотской жизни и суетам ее, она, как прах, окутывает нас, и, находясь среди этого облака, а иногда и вихря пыли, мы не в состоянии смотреть вдаль, видим только себя и вокруг себя, водимся настоящим, не презирая в будущее.
Святитель Тихон Задонский, говоря о благотворности для нас памяти о смерти, пишет, что смерть не попускает нам хвалиться своим благородством и унижать других, потому что, памятуя смерть, мы помним, что земля мы и в землю отыдем (см. Быт.3:19). Памятуя о смерти, мы избежим лихоимства, грабления, обьядения и пьянства, потому что знаем, что по смерти все мирское останется миру, а мы как вошли в мир наги, так нагими и отыдем (Иов.1:21), и тело наше сделается снедью червей. Нам тогда никакого богатства не понадобится, оно с нами не пойдет, и нам тогда потребуется только три аршина земли, гроб и срачица.
Памятуя о смерти, мы, естественно, будем размышлять и о Страшном Суде Божием, который по смерти следует, на котором за слово, дело и помышление худое будем исТязаны. И, памятуя смерть, будем и к Страшному Суду приготовляться, и Судию Праведного всякими мерами умилостивлять. Будем всегда в своем уме представлять, что от Страшного Суда две дороги поведут людей: по одной бедные грешники с плачем, воплями и бесполезным рыданием пойдут в муку нескончаемую, по другой ~ блаженные праведники с радостью неизреченною пойдут в жизнь вечную.
Памятуя всегда эти четыре предмета — смерть, суд, ад и Царство Небесное, мы не попустим себе прельщаться греховными удовольствиями и наслаждениями. Многие святые отцы для живого напоминания себе смертного часа имели у себя в келии гроб и на столе череп человека, которые всегда поддерживали в них память о неизбежном исходе, суде, аде и Царстве Божием и тем постоянно поддерживали их в терпеливом несении креста их скорбной жизни на пути в Небесные обители.
Будем же помнить последняя своя, чтобы вовеки не согрешить и не лишиться Царства Божия. Пусть смерть наших родных и близких напоминает нам о нашей смерти; пусть кладбища, которые мы посещаем, побуждают нас к размышлению о том, что наступит некогда время, когда и мы будем покоиться среди мертвых; пусть болезни, постигающие нас, станут для нас вестниками, зовущими к загробной жизни. Больше же всего будем молить Господа, да избавит Он нас от окаменения и нечувствия сердечного и пробудит в нас живую память о смерти, освободит от пристрастия к земной суетной жизни и соделает наследниками вечного блаженства в дому Отца Небесного. Аминь.
К 75-летию со дня рождения схиархимандрита Власия (Перегонцева), духовника Свято-Пафнутьева Боровского монастыря
Смотрите, какую любовь дал нам отец.
(1Ин.3:1)
Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод…
(Ин.15:16)
Иди сюда, мое чадо, я отведу тебя к Богу.
(Прп. Симеон Новый Богослов. Гимн 18:137)
В Никольском храме села Ракитное, после чтения Евангелия, в тишине, подобной безмолвию пустыни, старенький священник говорил проповедь. Вид его был неземной, он излучал любовь и свет, глубокий внутренний покой. Он говорил о любви Христа, ставшей его любовью, его жизнью. Так было во дни земной жизни и верного ученика его архимандрита Серафима (Тяпочкина), духовного отца схиархимандрита Власия.
«Божественный Учитель — Господь Иисус Христос — пришел на землю как воплощенная любовь.
Эта любовь сияла в Его очах, отражалась на Его божественном лике, она исходила при всяком Его дыхании.
И как бесконечно были счастливы те люди, которые были современниками земной жизни Христа, которые окружали Его и непосредственно из Его пречистых уст слышали слово Его, которое было согрето бесконечной любовью. Они несли к Нему свои скорби, болезни, печали. Они становились перед Ним на колени, обнимали Его пречистые ноги, целовали края одежды. Путь, по которому проходил Христос, дом, в котором Он останавливался, всегда наполнялись тысячами жаждущих слышать Его слово. Его окружали каявшиеся грешники, у ног Его плакали грешницы, Его радушно принимали мытари, к Нему обращались за помощью даже язычники. К Нему шли «все труждающиеся и обремененные» (Мф.11:28).
Так было во дни земной жизни Христа».
Вспоминая о своем духовном отце, архимандрите Серафиме, отец Власий говорит: «Отец Серафим был пастырем нашего времени, пастырем Любви. Он никогда не остывал от своей веры, не истощался в добродушной отзывчивости к обиженным и униженным. Всё, что он делал, делал по любви Христовой. Эта любовь притягивала к нему, как магнит железо, людей самых разнообразных положений. Они открывали ему свое горе, свои нужды, свои не только духовные, но и семейные затруднения. У них от него не было тайн. Он своей верой укреплял малодушных, вдохновлял ослабевших. Люди уходили от него обновленные. Чтобы так утешить и ободрить человека, необходимо ему в полной мере сострадать, совершенно удалить духовную преграду, которую ставит между нами самолюбие, чувственность и другие страсти, заставляющие нас смотреть на своего ближнего с недоверием, с сухостью, а иногда даже с раздражением и озлоблением. Батюшка Серафим смотрел на каждого приходящего к нему, кто бы он ни был, как на самого милого, доброго брата или сестру. Он весь претворялся в него, жил его жизнью, действительно страдал и мучился его страданием. Он не только не гнушался его страшных духовных ран, но готов был жизнь отдать за их исцеление. Я очень благодарен Богу, что Он сподобил меня, недостойного, от руки этого великого старца принять постриг в схиму тридцать лет назад».
Эти слова можно отнести и к самому отцу Власию.
Отеи Власий никогда не закрывает дверей своей кельи, войти к нему можно в любое время и всегда встретить любовь и заботу. Он очень заботится о больных, хотя сам болеет неизлечимой болезнью. Духовную и телесную боль несёт в своём сердце. «Но это всё не соизмеримо с тем крестом, который нёс Христос» — говорит он. Несмотря на своё хлопотное послушание братского духовника и физическую немощь, отец Власий находит силы бывать в храме каждый день, любит тихо подпевать, вторя церковному хору на клиросе.
Тот, кто впервые поднимается в гору, должен следовать по известному маршруту; ему нужен проводник, который уже поднимался здесь и хорошо знает дорогу. Послужить таким проводником — вот назначение старца-духовника — того, кого греки называют «геронте», а русские — «старецем».
Фигура старца, игравшая столь значительную роль при возникновении монашества, сохранила и до наших дней всё своё великое значение в Православии. «Есть нечто более значительное, чем все существующие книги и идеи, — писал в XIX в. славянофил Иван Киреевский, — это православный старец, перед которым вы можете открывать свои помыслы и от которого можете услышать не более-менее полезное частное мнение, но суждение святых отцов. Слава Богу, такие старцы ещё есть в России». А русский священник Александр Ельчанинов пишет: «Область их деятельности неограниченна… Несомненно, они святые, и народ признаёт их таковыми. Думаю, что в наше трагическое время именно благодаря им сохранится и окрепнет вера в нашей стране».
Частыми посетителями батюшки, помимо простого люда, бывают священники, иноки, инокини, студенты духовных школ. В лице отца Власия они находят опытного духовного наставника, любвеобильного и простого душой старца.
Люди, видя отца Власия, встретив его любящий и внимательный взгляд, проникающий в самую душу, излучающую тихую радость и покой, каются, плачут, а он радуется этим слезам, как знаку пробуждения наших душ. Батюшка, разумеется, не относит этого пробуждения к себе, зная, что Дух Божий действует в сердцах кающихся людей. Он всегда оставался скромным и незаметным человеком, а физическая немощь отца Власия только сильнее выявляла покаянное настроение его сердца.
Родился отец Власий на Смоленщине в 1934 году. О его детстве и юности нам мало что известно. С детства воспитывался и рос в религиозной среде. Основу духовного воспитания заложила его бабушка, схимонахиня Михаила. «То, что заложено было в детстве, оно как бы шло на протяжении всей моей жизни», — вспоминает отец Власий.
Работал, учился, но образование врача до конца получить не удалось. В ректорате Медицинского института узнали, что он ходит в храм. Началась травля, вследствие чего из института пришлось уйти. Как только ушел из института, тайно уехал в Закарпатье, в монастырь Фрола и Лавра к старцу Илариону (Рыбарю). По истечении пяти лет жизни в монастыре постригся в монахи с иноческим именем Петр. При Хрущёве монастырь закрыли, поэтому пришлось вернуться домой, в Смоленск. Здесь, в Смоленске, он устроился в храм, где был чтецом и регентом. Владыка Гедеон (Докукин) взял отца Власия к себе в келейники.
По прошествии нескольких лет отец Власий перевелся в Тобольскую епархию к владыке Максиму. Служил у мощей Иоанна Тобольского.
Ныне схиархимандрит Власий, семидесяти пятилетний старец, — духовник монастыря. Тридцать лет назад отец Власий принял схиму по благословению и от рук старца архимандрита Серафима (Тяпочкина). Он тайно постриг отца Власия в схиму в честь святого Власия Кесарийского. Вспоминая первые дни принятия схимы, отец Власий говорит: «Когда я принял схиму, это как-то укрепило. Появилась броня духовная. …Монашеское делание — это постоянное горение на подсвечнике».
Подлинный старец, прежде всего, благодаря высокой духовности, бережно относится к каждому конкретному человеку. В силу опытности и благодатного дара он раскрывает образ Божий в человеке теми средствами, которые созвучны его духовному устроению и возрасту. Слава Богу, такие старцы были, есть и будут в Русской Церкви.
Мы хотим привести лишь несколько свидетельств об отце Власии, чтобы понятнее было, о каком сокровище идет речь.
…Матушка Ю., жена знакомого священника, собиралась лечь на операцию и попросила свою знакомую, которая ехала к батюшке, взять у него благословение ей на операцию. Батюшка сказал, что операцию надо делать в другом месте и указал где. Врачи не сразу согласились, но когда, по настойчивой просьбе матушки, разрезали там, где указал старец, то «вырезали пять аппендицитов. Я жизнью ему обязана!»
…Молодой человек, идя рядом с батюшкой от его кельи в храм, собрался с духом, чтобы обратиться к старцу. Но батюшка ласково опередил его:
— Что, сыночек болеет?
— Да, — удивился мужчина.
— Онкология?
— Да, — мужчина от изумления остановился. И уже с надеждой побежал за батюшкой.
— А что делать, подскажите.
— Ты с женой-то обвенчался?
— Нас благословили, но мы все никак…
— А что ж тогда спрашиваешь?
И с каким бы вопросом ни обращались к батюшке, серьезным или пустяковым, его ответ, каждое его слово — это всегда чудо. Не все это даже понимают.
…Лет десять назад моя знакомая ездила к батюшке по поводу своего нового замужества. Когда она вошла в келью, батюшка спросил:
— А где же твой Филипп?
— Какой Филипп?
— У Пугачевой — Киркоров, а твой где?
Она потом удивлялась: почему батюшка назвал ее нового мужа А. Филиппом, не поняв, что он одним словом «Филипп» рассказал ей всю ее жизнь: разведенная, вновь выходит замуж, муж моложе её, она недавно стала бабушкой, но по-прежнему молодая и красивая.
…Два года назад мы ехали к батюшке с одной знакомой. Дорогой она рассказывала, что когда у её сына бывают периоды запоя, и деньги в беспорядке валяются по квартире, она возьмёт одну-две бумажки — он и не заметит — и отнесёт их в храм: все равно пропьёт. Когда мы приехали в монастырь, батюшка выходил из кельи и благословил всех, кто был в коридоре, кроме этой женщины. Она удивилась: «Батюшка, вы меня не благословили!» Батюшка, закрывая на ключ свою келью, сказал: «Я сначала дверь запру, а потом тебя благословлю. Тебя с открытой дверью благословлять нельзя», — намекая на её рассказ в машине.
…Одной моей знакомой батюшка не велел после Пасхи выходить на прежнюю работу «Ищи новую, в Москве, хватит веником махать!»
Но женщина рассудила по-своему: деньги и здесь, и там одни и те же, а в Москву ездить не хотелось… Осенью она неожиданно так тяжело заболела (диагноз между раком и туберкулезом), что только батюшкиными молитвами осталась живой и здоровой. Причём, когда она в самый разгар болезни вышла на новую работу, как благословил батюшка, вместо того, чтобы лечь в стационар, болезнь не только не усилилась, но стала потихоньку отступать. К следующей Пасхе от нее не осталось и следа. Вот что такое слово старца: благая, благоугодная и совершенная воля Божия о нас.
Раба Божия Н. Я слышала от многих людей, что по молитвам отца Власия Господь помогает страждущим и исцеляет болящих. Мы прихали с болящим сыном просить его святых молитв.
Раба Божия Наталья. Вот и сейчас я в очередной раз пришла к батюшке Власию со своими нуждами.
Раба Божия Александра. «Мне батюшка помогает, дай Бог ему здоровья, спаси его Господь, долгих лет ему жизни».
Раб Божий Михаил. Батюшка наш особенный, мы его очень давно знаем. По его молитвам происходит очень много благообразных дел, прекрасных чудес. Поэтому душа всегда стремится к батюшке. Мы были вначале помолвлены, потом венчаны по благословению батюшки. В общем, все духовные вопросы, связанные с нашей жизнью, с нашими удачами, неудачами, успехами, радостями, горем мы все время обращаемся к батюшке Власию.
Сотни людей ежедневно приезжают в монастырь к схиархимандриту Власию. Они приносят свои печали и радости, делятся болью душевною и ранами телесными, они ищут утешения и находят его.
Отец Власий с грустью говорит: «Иногда посмотришь в их глаза, а они какие-то пустые и боль, вот эту боль внутреннюю видишь у них, потому что безысходность. Они приходят сюда, — а почему здесь столько детей, а почему много больных? Я им всегда говорю — вы приходите, а я не чудотворец, что вы сюда ко мне идете? Вы идите в храм, идите ко Христу, припадите к подножию Креста и расскажите Господу свои боли, свои страдания, свои стремления, чтобы Господь знал и видел вашу душу. Через Таинство покаяния приходите, исправляйте свою жизнь, и вы найдете тот путь, по которому идти, Господь вам укажет этот путь и дорогу. Пошлет вам здоровье, работу и все необходимое. И семью, и детей вам даст».
Из проповеди отца Серафима: «Приидите ко Мне еси труждающиися и обремененный, и Аз упокою вы (Мф.11:28). Так звал к Себе во время Своей земной жизни Божественный Учитель, Господь наш Иисус Христос. Он звал к Себе труждаюшихся и обремененных, Он звал к Себе несчастных и обездоленных, Он звал к Себе всех тружеников и страдальцев земли. Его Божественный голос проникал в человеческие души, потрясал умы и влек к Нему сердца людей. Они отзывались на этот голос, шли ко Христу, несли к Нему свое горе, несчастье, скорби, страдания и болезни. Любовь, которая сияла на пречистом лике Христа, горела в Его очах, — любовь, которая исходила при всяком дыхании Его. Эта Божественная любовь согревала всех приходящих к Нему, проникала в сердце, вносила покой в душу. И, забывая обо всем, эти люди обретали мир и покой. Приидите ко Мне! Приидите ко Мне еси труждающиися и обремененный… Возьмите иго Мое на себе и научитеся от Мене, яко кроток есмъ и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим (Мф.11:28–29). Так зовет и нас с вами, дорогие братья и сестры, Христос, обещая дать покой душам нашим.
Покой души — какое это счастье для человека! Что может быть в жизни нашей дороже этого покоя?! Можно иметь полное жизненное довольство, можно иметь в пользовании все удобства жизни, все блага мира сего, можно считать себя счастливым в семейной и общественной жизни, но если на душе не будет покоя, то, увы, счастье наше будет далеко несовершенным. Можно ли назвать истинным счастьем то, что временно и скоропреходяще? Сегодня мы в славе и почете, а завтра можем быть в презрении и поношении. Сегодня кричим «осанна», а завтра — «распни», сегодня мы в силе и здравии, завтра — в немощах и болезнях, сегодня мы живем, а завтра пелена смерти может затянуть наши глаза, и гроб станет нашим последним достоянием здесь, на земле. Так призрачно, так суетно то, что в мирском понимании принято называть счастьем. Не к такому счастью зовет нас Христос. Приидите ко Мне еси труждающиися и обремененный и обрящете покой душам вашим. Христос зовет нас, обещая дать покой нашим душам. Отзовемся на это приглашение Христа. Пойдем ко Христу. Пойдем, пока еще не поздно, пойдем, пока еще не ушло время нашего обращения ко Христу, пока еще слышится Его любвеобильнейший голос, обещающий покой душам нашим.
Кто из нас не нуждается в этом покое души? Он, Милосердный, зовет нас к Себе немногими радостями и обильными скорбями, посылаемыми нам. Нам приходится переносить всякие жизненные испытания, и в них мы должны слышать голос Божий, призывающий нас. В жизни нашей бывает так: муж лишается жены — самого верного, самого надежного друга в жизни. Несчастный страдающий брат! Эго зовет тебя Христос. Иди к Нему. Он утешит тебя, Он даст тебе покой души. Жена теряет мужа — жизненную опору свою, кормильца детей своих. Несчастная вдова! Это зовет тебя Христос. Иди к Нему. У Него обряшешь покой душе своей. Смерть уносит в могилу дорогих и близких нам людей. В жизни нашей часто скорбь тяжелым камнем ложится на сердце, слезы льются из очей наших, руки опускаются. Мы теряемся, готовы впасть в уныние. Но среди этой глубокой, беспросветной скорби, как светлый луч надежды, озаряет нас Христос и слышится голос Его: “Приидите ко Мне… и Аз упокою вы”».
Есть благословение Матери Божией над Россией, это — ее удел, Русь никогда не погибнет. И я думаю, наше поколение и молодежь наша всегда будет стремиться жить в православии, единении, в чистоте веры, укреплении семьи и, самое главное, нести крест по жизни, как Господь благословляет. Иного пути нет, только путь крестоношения. Через скорби, через испытания, в чистоте веры придешь к той заветной вершине, о которой говорит Господь. Чистота вашей веры на кресте, на Голгофе».
Святая Русь! Не кланялась ты ханам
Гнала всех прочь, с мечом кто приходил.
Хоть нет конца твоим кровавым ранам,
Но не погибла ты, Господь тебя хранил.
Святая Русь, Мать Божья возлюбила
Тебя за благочестие твое.
Иконами святыми наградила.
С тобой благословение твое!
Исцелитель душ
К 70-летию со дня рождения
Пять лет назад, когда накануне напросившись на беседу, ехал по вполне сносной (по российским меркам) дороге в Свято-Пафнутьев монастырь в городе Боровске на границе Московской и Калужской областей, предположить не мог, что столько людей нуждаются в духовном окормлении старцем Власием, схиархимандритом и духовником монастыря (архимандрит — сан 2-й степени священства — перед епископом. Схиархимандрит — принявший схиму, дает обет соблюдать особо строгие аскетические правила поведения). О его благочестии и прозорливости был много наслышан, а свидеться с ним мечталось давно. Страждущих общения со старцем в еше не принявшем приличного вида коридоре на втором этаже обшарпанного здания, где находится келья отца Власия, примерно, было, не менее сотни человек, а входная дверь в коридор все открывалась и открывалась, впуская новых паломников. Мужчины и женщины, пожилые и юные. При всем желании принять их всех в один день старец никак не мог, тем более что, как я заметил, на прием одного человека могло уйти и десять минут, и полчаса, и час: схиархимандрит никого не торопил. Отчаявшись не только сегодня, но и в ближайшие дни попасть в заветную келью, я решился запиской напомнить старцу о вчерашней договоренности. Он тут же меня принял, хотя мой поступок вызвал вполне законный ропот: оказалось, что многие уже два-три дня ожидают своей очереди, ночуя в отнюдь не благоустроенной, как и весь монастырь, монастырской гостинице или, где придется.
Боровский Рождества Богородицы Пафнутьев монастырь назван так по имени основавшего его около 1440 года преподобного Пафнутия Боровского, известного своим подвижничеством и скончавшегося в 1477 году. Его мощи и поныне покоятся в главном монастырском храме Рождества Пресвятой Богородицы, чудесным образом сохранившись в годы разгрома обители после революции. Монастырь только-только возрождается, и немало времени потребуется на его полное восстановление.
Столь же гонимы, как монастыри и храмы, были в советские времена появлявшиеся, тем не менее, старцы. Их подвергали обструкции в прессе, а нередко ссылали в места не столь отдаленные. Но люди находили их и шли к ним за напутствием и благословением.
Институт старцев имеет в православии тысячелетние корни. Старцем не обязательно становится престарелый человек. Им становится тот, чьи помыслы чисты и кто, отвергнув мирскую суету, всего себя отдает служению Богу и бесконечной любви к ближнему. И Бог отмечает таких людей способностью провидеть события, судьбы, излечивать душевные и физические немощи. Старцем был святой Сергий Радонежский (XIV век), благословивший Дмитрия Донского на Куликовскую битву и предсказавший ему победу в ней.
Старцем был Амвросий Оптинский (конец XIX века) для задушевных бесед приезжать к которому в Оптину пустынь близ города Козельска Калужской области, почитали за честь Достоевский и Толстой.
В келье отца Власия, если и разместятся три паломника, то лишь стоя. Для одиночных посетителей предназначен табурет, отделенный от старца табуретом пониже, служащим ему письменным столом. На нем, по моей просьбе, схиархимандрит написал «Пожелание русскому крестьянству»: «Пусть милость Господня пребывает на людях русских и на земле-матушке нашей, которая возродится любовью людскою и, политая обильно потом трудов, возрастит изобильные плоды, дивные своей могучестью и крепостью, для здоровья и процветания русской нации и нашего родного крестьянства.
Отец Власий».
Когда я сел на табурет, напротив старца, и стал, глядя ему в глаза, задавать вопросы, то почувствовал некую ауру, исходящую то ли от него, то ли от множества икон за его спиной. Передо мной были только его глаза, а все, что кроме, как бы затянулось дымкой. Свидетельствую это объективно, поскольку к истово верующим не отношусь…
— Меня всегда интересует, как люди приходят к своей судьбе. Спросил я и старца, что послужило посылом к посвящению всего себя служению Богу.
— Я — смоленский, из самой что ни есть Центральной России. А посылом было то, что меня с детства воспитывали в религиозной среде. Моя бабушка была схимонахиней, которая заботилась о моем воспитании. И еще, может быть, то, что не хватало мне отеческой ласки. Когда мать второй раз вышла замуж, я почувствовал себя как бы изгоем в новой семье. Поэтому я больше привязался к бабушке. То, что заложено было в детстве, оно как бы шло на протяжении всей моей жизни.
— К Вам ежедневно приходят сотни людей со своими болями и бедами. Вы их пропускаете через свое сердце. Как оно выносит девятый вал людских горестей?
— Я по образованию врач, хотя образование не завершил. И сам эти раны перенес на себе: я больной — и раковый больной. А духовная боль — она все время в сердце. Оно ранено и кровоточит. Но, соизмеряя тот крест, который нес Христос, и тот, который несем мы… Наш крест — это пылинка.
— У Вас руки рабочего человека.
— Монахи — не лодыри, поэтому и руки рабочие. С отцом Власием можно беседовать бесконечно.
Говорит он негромко, и лаской веет от его слов. Готов был раскрыть ему душу (чего, откровенно говоря, делать не люблю), но я постоянно ощущал за спиной дыхание тех десятков людей в обшарпанном коридоре, кого из разных кондов России привела в Пафнутьев-Боровский монастырь такая жажда соучастия, по сравнению с которой моя, — пылинка.
Я хотел на прощание поцеловать руку старца, но он не позволил…
Леонид Бударин.
Христос Воскресе! Воистину Воскресе! С возвращением Вас, дорогой батюшка Власий!
В конце декабря 2000 года мы приехали с семьей на торжественное обретение мощей святых дивеевских угодниц — Александры Мельгуновой, Елены Мантуровой и инокини Марфы. Несмотря на сильные морозы, народу было очень много.
Нечаянная радость праздника смягчила строгость Рождественского поста, но не развеяла до конца тревогу, которая поселилась в душе три года назад, когда мы остались без нашего дорогого советчика и молитвенника батюшки Власия. Где он, что с ним — мы с осени 1997 года ничего не знали, как и многие другие его чада.
Приложившись к чудотворным мощам батюшки Серафима и с просьбой о весточке, помолившись ему, я пошла заказывать сорокоуст.
Монахиня, принимавшая у меня записочку, неожиданно сказала: «О здравии схиархимандрита Власия? Но ведь он же умер!»
— Как умер??? — опешила я
— Недавно уже сороковой день по нему служили.
— Не может этого быть! Чада ничего об этом не слышали.
— Да вы спросите сами у наших батюшек, они вам поточнее скажут. Вон батюшка идет!»
Матушка Галина из «Радонежа», сопровождавшая нашу паломническую группу, подсказала мне имя проходившего мимо священника — отец Владимир Мантуров.
Я кинулась к нему:
— Отец Владимир, сестры вон говорят, что схиархимандрит Власий умер…
— Да, умер.
— А когда это было?
— В начале ноября где-то.
— Может, это другой о. Власий? Чада ничего об этом не слышали. Он из Пафнутиево-Боровского монастыря?
— Да, из Пафнутиево-Боровского.
— А где он умер? — продолжала расспрашивать я.
— Вроде в Москве.
— А где же он тогда похоронен?
— Этого я не знаю.
До конца я ему все-таки не поверила. Не мог батюшка умереть!
Незадолго до того, как о. Власий исчез из монастыря, уехав на операцию, он строго предупредил нас:
— Не надо ездить к нескольким старцам. Выберете одного и к нему ездите (тогда еще живы были и о. Иероним, и о. Ипполит, и о. Николай Залита, и о. Макарий Болотов). Мы выбрали батюшку Власия и все эти годы, пока его не было, ждали его и молились. Не мог он нас оставить! А с другой стороны — вот, я просила весточки у угодничка Серафима и получила ее.
Приехав домой, сразу же позвонили в монастырь: «У нас такой информации нет», — был ответ: «Мы молимся о здравии схиархимандрита Власия».
Батюшкины чада написали письмо владыке Клименту, митрополиту Калужскому и Боровскому и отвезли в Данилов монастырь. В письме пересказали о том, что услышали в Дивеево от о. Владимира Мантурова, и просили владыку ответить, как нам молиться о батюшке Власии — о здравии или об упокоении. Ведь он же Ваш монах, в Вашем монастыре числится.
Ответа не получили. Но в скором времени, обзванивая батюшкиных чад, мы узнали, что солнечногорский священник о. Вадим начал служить молебны у московских святынь о здравии схиархимандрита Власия. Со всех сторон потянулись к нему осиротевшие батюшкины чада. Мы молились у чудотворной иконы нашей Небесной Заступницы «Утоли моя печали» на Новокузнецкой, перед «Споручницей грешных» у Николы в Хамовниках, у «Взыскания погибших» на Неждановой, у Креста-мощевика рядом с Высоко-Петровским монастырем, у знаменитой Иерусалимской в Измайлово, у Тихвинской на Алексеевской горке, у «Троеручицы» на Таганке, у мученика Трифона на Рижской. Из Обнинска приезжала 90-летняя матушка с тремя дочерьми, знавшая батюшку еще по Рябушкам. Приезжала Анна Кирилловна, 83-х лет, сменившая благоустроенную московскую квартиру на женский барак при Пафнутиево-Боровском монастыре. Самому младшему постоянному участнику этих молебнов младенцу Евгению шел третий год.
Кто-то из чад съездил к матушке Феодосии под Рязань. «Служите, служите молебны, — сказала она, — соборная молитва батюшке очень помогает. Явится он к вам после двенадцатого молебна».
Мы стали вспоминать, сколько же мы уже отслужили. Оставалось еще два. После долгожданного молебна батюшка прислал первую свою весточку — в монастырь, бывшему келейнику Иннокентию. Мы воспряли: жив!
25 февраля 2002 года владыка Климент на праздновании дня интронизации патриарха Алексия подтвердил батюшкиным чадам-священникам: «Жив ваш батюшка, жив!»
5 января 2003 года нам позвонила Анна Кирилловна и сказала, что батюшка приехал в ПафнутиевоБоровский монастырь. Было около 5 часов вечера. В 19.00 мы были уже у батюшкиной кельи. В коридоре собралось человек тридцать, народ прибывал. Батюшка в келье принимал монастырских.
Анна из Обнинска, одна из первых попавшая к отцу Власию, спросила: «Батюшка, говорят, вы на Афоне были?»
— Какой Афон! Резали да облучали…
Ноги — сплошная рана: радиационные ожоги от передозировки. И парализован был…
Он вышел к нам из кельи — бодрый, подтянутый, с ласковой улыбкой. Всех благословил, кого-то погладил по голове, кого-то обнял и расцеловал.. Мы тихо плакали, глядя на него. Это было такое чудо — что он вернулся! Чудо воскресения. Не меньше.
Он и вернулся, чтобы свидетельствовать нам о воскресении.
Нелегкими были и его первые годы по возвращении: в монастыре голод, холод, нестроения. Но он и это принял со смирением и понес с любовью. Как и ту не известно как попавшую к нему в руки на пасхальном крестном ходе тяжеленную икону, — икону Воскресения — которую он, не подав вида, с изнеможением донес до конца. И еле отдышавшись на соборном крыльце, на долгожданный возглас: «Христос воскресе!» громко ответил вместе со всеми: «Воистину воскресе!»
Московский вестник №01(10), март 2010
Отец Власий вспоминает
Моя бабушка была монахиней, я был постоянно с ней и меня с детских лет звали попенком: попенок, поп, монах… Я на это не обращал внимания. Мне хотелось бегать, играть как все дети. Бабушка мне говорила: «Иди-ка сейчас ко мне, посидим». Меня никуда от себя не отпускала. Потом я понял, что только ее молитвами, ее непрестанной заботой я встал на путь духовного делания, а горение к этому было у меня с детства. Вот она бывает расскажет какие у нас были службы. Церковь наша в Хохлове была разрушена и даже деревня Рай называлась. Рассказывала какой батюшка был там, как он служил благолепно, какой голос был у диакона, какой хор был. Она все это рассказывала, а я сижу и слушаю. Бывало такое: хочу я куда-нибудь пойти, а она мне житие почитает, чтобы занять. Или бывало, рассказывала. «Вот, Витька курил, — не суди его, но за это будет он на том свете сковордку лизать. Я потом ему говорил: «Витька, ты на том свете будешь лизать сковороду». Он меня не слушался и поступал по-своему. Все то, чему бабушка меня с детства наставляла, откладывалось в моей душе.
Есть такое выражение: «Со своим уставом в чужой монастырь не ходят». Устав один, но есть традиции и обычаи, которые приобретены многими веками подвижниками, теми отцами, которые тут трудились.
На Афоне есть костницы. Костницы — это кладбища, там, где погребены отцы, которые подвигами своими укрепляли основания этих монастырей. По цвету костей определяют их приближение к Богу. Светлые кости — угодил, а желтые кости — значит имеют благодать, некоторые черепа даже изливают миро, такую маслянистую благоухающую жидкость. Там десятки тысяч были монахов. Конечно, если некрополь создавать такой, то и Афона всего не хватит. Поэтому такой обычай, что их оборачивают в мантию, пеленают и погребают в земле, молятся за них и через три года откапывают, кости обмывают вином и водой, складывают в общую урну погребательную, а на полочках ставят черепа. На каждом черепе написано имя, какое нес послушание, сколько времени пребывал в монастыре и дата кончины его.
У нас тоже при монастыре есть кладбище. Вот это кладбище, некрополь монастырский, он снесен. А здесь очень много погребено, и не только монахов. Во времена польской интервенции, когда был Лжедмитрий, здесь, в монастыре закрылись жители Боровска, спасаясь от врагов. Крепкая была оборона, но, говорят, что было здесь предательство, открыли ворота. Ворвался неприятель и порубил всех, кто здесь находился, не щадя ни стариков, ни детей. Дружина князя Михаила погибла. Все погребены здесь. В монастыре молятся за каждым богослужением о епископе Алексии с братией и о князе Михаиле с дружиной и о всех людях, которые здесь погребены.
«Монастра», что такое «монастра»? «Монос» — один, «астра» — звезда, то есть «одинокая звезда». Человек, который, может быть, не нашел в жизни своей ниши, был не понят обществом, вот он уходил, уединялся и наедине с Богом, с единомышленниками, создавал такие общины. Фиваидская пустыня — Антоний, Макарий, Паисий, Онуфрий, в Иорданской пустыне Герасим, Георгий Хозевит, Савва, они создавали лавры, оплот для укрепления православия. В народе говорят — женившийся печется о том, как угодить жене, а не женатый — как угодить Господу. Мирское попечение заставляет более заботиться о земном хлебе. А монахи, как птицы небесные, не сеют, не жнут, а Отец Небесный их питает. Монахи молились и мир их не оставлял.
В России основоположники монашества Антоний и Феодосий Печерские, которые создали Киево-Печерскую лавру, где нетленные мощи угодников Божиих, которые положили молитвенные подвиги в основание образования России и принесли этот свет с горы Афонской. Паисий Величковский, создатель лавры Кичка, это Болгария и Румыния. Подвижники, вышедшие из этой лавры, ведшие созерцательную жизнь. А у нас прп. Сергий, который собрал разрозненные княжества Святой Руси под эгидой Димитрия Донского, под покровительством Св. Троицы. Монахи, Ослябя и Пересвет кровью своей запечатлели объединение русской нации. А потом уже от лавры Сергиевой полетели, как орлята из гнезда монахи, основывая новые монастыри по всей Русской земле.
Монастыри были оплотом, где можно было укрыться. Туда приходили люди, запутавшиеся в путях земной жизни. Там они жили одним уставом, согласно канонам, и своими молитвами подвигали людей к благочестию.
Когда я учился в мединституте, дружил с девушкой, надеялся, что она станет моей женой.
В послевоенное время негде было жить, в общежитии ради койки нужно было очень тяжко работать, экономить на всем. Вырос я в христианской семье. Моя бабушка, схимонахиня Михаила, всегда говорила: «Без Бога ни до порога. Если тяжело тебе, внучек, то иди всегда в храм, иди к Богу, и Господь тебя не оставит никогда». В Смоленский собор, огромный, величественный собор, который как орел парит над городом. В то время люди тайком ходили в храм, боясь потерять престижную работу или должность. Будучи студентом, я тайком ходил в церковь и меня никто не замечал, потому что молодежь тогда в храм не пускали, а я ходил тайком и прислуживал в алтаре. Моя невеста следила за мной и узнала, что я хожу в храм. Я не обсуждал с ней свои религиозные убеждения, тогда это было не принято. Она и доложила в ректорат. Она думала этим привязать меня к себе, а там началась форменная травля, я был вынужден уйти, пришел к отцу Илариону (Рыбарю), хоть я его не знал до этого, он приехал в город Козлов к своей сестре, монахине Анне. Я пришел к их калитке и попросил воды попить. Они приняли меня, обласкали. И первый вопрос, которой задал мне батюшка: «Ты поедешь со мной в Закарпатье?» А я, обиженный за предательство, что пришлось оставить учебу, согласился. И он привез меня в монастырь Флора и Лавра в Закарпатье, в село Дубовое. Там был наместником архимандрит Ювеналий. Монастырь находился в приграничной зоне, поэтому проверяли всех. Меня ввели в реестр под другим именем и фамилией, а меня искали, я был во всесоюзном розыске. По прошествии пяти лет меня постригли в иночество с именем Петр. Я ухаживал за батюшкой Иларионом. Он пробыл в ссылке 11 лет. Он рассказывал, что когда по праздничным дням они отказывались работать, то их просто в реку загоняли и держали там под прицелом. Вот они стояли и молились, и согревал их Дух Святой, потому, что стоять так в ледяной воде невозможно. Он заработал ревматизм, было страшное изменение суставов, в последнее время ноги были гангренозные. У меня были навыки медицинские, я ему где-то помогал, облегчал его болезнь, был у него келейником. Наблюдал, как он людей принимал, видел его доброту ко всем, все это собирал по крупицам в свою сокровищницу душевную. А потом, когда монастырь при Хрущеве закрыли, нас разогнали. Я вынужден был обратно вернуться домой. Надо было выправлять документы, надо было идти к властям на поклон. А уполномоченный по делам религий мне предложил:
— Хотите, мы вас восстановим обратно в институт, но только вы не ходите в церковь.
Я говорю:
— Нет, теперь у меня халат не белый, а черный
А он:
— Как это так: вы решили поменять белый халат советского врача на черный халат попа?
Поп было для них оскорбительным словом.
— На черном не видно никаких пятен, лишь бы душа была светлая.
Выправил документы. Тогда был управляющий Смоленской епархией владыка Гедеон (Докукин)[110]. Пришел к нему в собор, и он принял меня. Сначала был алтарником, потом меня определили в Спасо-Конную церковь, там был регентом-псаломщиком, потом диаконом. Когда владыку перевели в Сибирь, был его келейником. В Сибири был с ним в Новосибирской епархии. А когда в 1974 году владыку Мефодия Омского и Тарского убили, Омская епархия была под руководством владыки Гедеона. Владыка меня определил в Омскую епархию в Тобольск. Когда назначили на Омскую епархию владыку Максима, я был принят в клир Омской епархии. В Тобольске служил у мощей свт. Иоанна Тобольского. Службы были ежедневные, народу было очень много, потому что на всю Сибирь были только мощи свт. Иоанна, а следующие были в Троице-Сергиевой лавре, прп. Сергия, Киево-Печерская лавра была как музей. Прикладываться к мощам запрещалось, но люди отставали от экскурсии и прикладывались. Потом ездили в Почаевскую Успенскую лавру, там были мощи Иова Почаевского. Конечно, вся Сибирь ехала, пол там был металлический и под ним были калориферные печи, поэтому пол всегда был теплый. Если народу приезжало много, то прямо на полу расстилали матрацы и спали, как на перинах, было тепло, уютно, а самое главное, что были в храме у мощей святителя. Службы были и ночные, потому что я служил один, а потом дали мне второго священника, отца Бориса Храмцова, который был впоследствии в Гефсиманском скиту около Загорска, а потом в Варнице. Схиму я принял, когда у меня были разногласия с владыкой Максимом. Какое-то время находился в запрете. Тогда был Святейший Патриарх Пимен. Конечно, архиерейским авторитетом были Святейшему поданы такие документы, на которые он, естественно наложил вето, и меня запретили. Пришла телеграмма, на сборы мне было дано 24 часа. Я уехал в Тюмень, без вещей, один подрясник был на мне, скуфейка, накидочка, плащ и больше ничего. Вот тогда я познакомился с архимандритом Серафимом (Тяпочкиным). Приехал я к нему со своими скорбями. А он: «Я все это перетерпел, надо перетерпеть, должно быть послушание, твоя правда откроется». А я: «Батюшка, дорогой, Вы меня как-нибудь утешьте, может быть, мне придется служить. И он снизошел к моей просьбе и постриг меня в схиму». Отец Серафим сказал, чтобы не было нареканий, чтобы было тихо и спокойно. Ты как был Власий,
Власий и остаешься. Но в схиме ты Власий Кесарийский, а в мантии Власий Севастийский.
Такое же он мне рассказал про схиигумена Савву, который был в Псково-Печорском монастыре.
Я принял схиму, меня это укрепило. А теперь что? Я теперь Ослябя, я теперь Пересвет, теперь можно идти на битву с Челубеем и с кем угодно, броня духовная есть.
Монашеское делание — это горение на свещнике, это горение «на свещник ставят свечу и она горит, та, которая под спудом — она не горит, а коптит». Светильники эти были, они и сейчас есть, но они потаенные. Придет такое время, когда нужно будет, чтобы они ярко вспыхнули. Когда на ночном небе мы видим летящий метеорит, он ярко светится и сгорает. Так и это нужно будет, чтобы люди увидели этот яркий свет.
Монашеское делание — это горение. Есть такое духовное стихотворение:
Я люблю Тебя Боже,
люблю всей душой,
Но в груди моей мало огня.
И мой дух изнемог от неравной борьбы,
Одолела усталость меня.
Нет, нет, сил нет.
Боже мой, я молюсь.[111]
Когда я служил в Тобольске, и здесь, на Рябушках… Боровский… Крест даешь, народу много и мы пели псалмы. Меня многие не понимали и говорили: он как протестант. Я не обращал на это никакого внимания. Самое главное, что люди воодушевляются, текут как ручеек, а хор поет, и я им подпеваю: «Ты моя Матерь, Царица Небесная, Ты мой Покров, Ты надежда моя. Если на сердце мне горестно, болезнено, с надеждой тебя призываю всегда. Ты моя Матерь, Царица Небесная; ты мой Покров, ты надежда моя». И вот поют, идут, поют, «свой матерний лик от меня не отврати». И вроде бы иконы становятся живые.
Такой дух становится, как бы объединяющий дух, и все — как одна семья.
Ночка тиха; как безмолвные зрители
звездочки смотрят с небес.
Тихо вокруг, от обители тянется Саровский лес.
Келия там одинокая, в ней Серафим обитал.
Знала пустыня широкая, подвиг как он совершал.
Там, при дорожке под соснами камень тяжелый лежал.
Старец ночами бессонными там на коленях стоял.
Лето и зиму холодную он, не смыкая очей,
Выстоял волей свободною 1000 дней и ночей.
Весь безучастный ко внешнему в сердце молитву слагал:
«Боже, будь милостив грешному», —
Старец так часто взывал.
Чудное это моление прятал от всех темный лес.
И за труды и смирение Бог старцу дал дар чудес.
Схиархимандрит Власий (Перегонцев).
О крестьянстве российском
«Земля еси и в землю отыдеши». Человек взят из земли. И крестьянин — это человек, который несет крест на земле. О котором сказал Господь Адаму: «Ты будешь возделывать землю, и земля возродит тебе волчцы и тернии». А волчцы и тернии — это суть те катаклизмы, которые происходят у нас сейчас в мире и с людьми. Человек был крепок тогда, когда он корнями врастал в землю. Он умел хозяйствовать, умел все делать.
Но было время, когда оторвали его от этих корней. Как некогда Геракл оторвал Антея от матери-земли. Он оторвал его и задушил в воздухе. Так вот и 70 лет душили человека, крестьянина, оторвав от земли, не давая ему хозяйствовать. Он, можно сказать, грелся у чужого очага, у чужого камина. А когда он будет иметь землю в своем ведении, в своем пользовании… Лаврентий Черниговский сказал, что последнее время люди будут жить на земле, от земли и землею. И это главное.
У Ивана Шмелева есть книга «Лето Господне». В ней рассказывается, как люди кланялись матери-земле и просили у нее прощения за все те преступления, которые вольно или невольно человек совершил по отношению к земле. А мы их совершаем. Нарушаем экологическое равновесие. Перекапываем останки предков, которые были погребены в этой земле, и относимся к ним с небрежением. А земля этого не прощает. Она — мать-земля. И это отразится на грядущих поколениях.
Но я, к примеру, вижу, что человек будет крепок землею. Он будет стоять на ней до конца…
Сейчас, когда человек, веруя, может свободно пойти в храм, может вознести молитву, он, у Господа и Царицы Небесной взявши благословение, придет на эту свою мать-землю, которую возьмет себе в вечное пользование.
И будет человек на этой земле растить своих детей и будет знать, что дети будут обеспечены. Не тем производством, которое портит землю, а тем, что он будет производить на этой земле и тем кормить окружающих и себя.
Газета «Крестьянская Россия» № 6, с. 9–15, февраль 2004 г.
Посвящается схиархимандриту Власию
Никого не осуждаю
И за всё благодарю,
Беды кротко принимаю,
Шлю поклон монастырю
Где в затворе старец мудрый
Принимает люд мирской,
Он приходит ранним утром.
Утешает день-деньской:
Всех гонимых и унылых,
Беззащитных и больных,
Пробуждает к жизни силы,
Изгоняет бесов злых
По молитвам к Богу истым,
Божьей Матери, Святым.
…Старец Власий —
Взгляд лучистый,
Скорби тают, будто дым.
Валерия Козу б, г. Москва 2003
К 70-летию со дня рождения архимандрита Нектария (Марченко)
Духовник и сестры Марфо-Мариинского сестричества милосердия, редакция журнала «Добродетель» поздравляют отца Нектария с 70-летием и желают батюшке здоровья, духовных сил и помощи Божией в пастырском служении на благо Православной Церкви.
Отец Нектарий — известный духовник. Среди его духовных чад немало именитых людей, в том числе, и священников. Его хорошо знают на Белгородчине, где он начинал своё служение. Где бы ни служил батюшка Нектарий, везде старался или построить, или восстановить храм. В конце 80-х годов принял монашество в Курской Коренной пустыни, где занимался строительством скита в честь преподобного Серафима Саровского. Более десяти лет был настоятелем Радонежского подворья Троице-Сергиевой лавры. Благодаря ему это место стало известно многим.
В 2003 году он был призван на Нижегородскую землю, в деревню Оранки Богородского района, чтобы восстанавливать из руин ещё одну святыню — монастырь. В начале прошлого века Оранский мужской монастырь считался весьма значительным, главной его святыней была Оранская икона Божией Матери.
И снова принялся он за дело. С подорванным здоровьем, но с сердцем, горящим молитвой. Ежедневная служба в храме, огромное хозяйство, обширное строительство — всё это было на плечах отца Нектария. Всех тогда удивила необыкновенная выносливость батюшки, который, трудясь наравне с послушниками, подавал пример терпения и любви.
И сейчас работы в обители хоть отбавляй. Но сделано уже немало. Пусть на территории монастыря еще возвышаются груды кирпичей, досок и рабочих инструментов, но уже облагорожен святой целебный источник, в главном соборе совершаются богослужения, с особым благоговением почитается Оранская икона Божией Матери. (Кстати, радостное событие: чудотворный образ, хранившийся до сих пор в государственном музее, возвращается в обитель!). Кроме того, построено огромное здание, где помещаются кельи насельников, игуменский корпус и баня.
— Это всё не я, а Матерь Божия, — говорит отец Нектарий. — Она здесь — Хозяйка.
— Он обращается к Божией Матери как к реальному человеку, который слышит его, — рассказывают монастырские трудники, — для мирских людей это что-то из области фантастики. Сегодня для многих икона— это только дань традиции. А тут они видят, что человек истово молится, и невольно переосмысливают своё отношение к вере.
Отец Нектарий — пастырь строгий. Он резко обличает в грехах, чтобы пресечь то зло, которое могло бы и далее благополучно развиваться.
— Никогда нет на его устах мёда: мол, все хорошо, спите спокойно, рассказывают духовные дети. А наша совесть действительно спит, и зачастую её можно «пробудить» только словесным бичом. Иначе мы так и будем продолжать себя оправдывать: «все так живут, ну и я как-нибудь»…
Пастырь строгий
Атмосфера в монастыре особая. Она вся пронизана горячей молитвой священства, монашествующих, трудников и паломников, приехавших сюда из разных уголков нашей земли. Каждого привела к святыне или личная беда, или тяжелая болезнь, или горячее желание помочь монастырю.
Так видимо судьбе было угодно, что я встретился с отцом Нектарием через десять лет после памятной для меня и моего сына поездки в Радонеж, где служил в то время этот удивительный человек.
Как сейчас помню тот летний солнечный день, когда мы вошли в храм. Нас было несколько человек, в основном, прихожане нашего Троицкого храма и двое священников — отец Геннадий и отец Василий. Сегодня обоих уже нет, к сожалению, с нами. Царство им небесное.
Уже не помню, с чего начался наш разговор. Запомнился мне только мой рыдающий навзрыд малолетний сын и строгий батюшка, отчитывающий его, как мне казалось, совершенно несправедливо…
Когда немного смущенные таким приемом мы вышли во двор, отец Геннадий на мой немой вопрос, многозначительно помолчав, произнес: «А ведь он не с Колей разговаривал, а пытался до наших окамелых сердец таким образом достучаться…». От той встречи осталось у меня несколько фотографий.
В молодости я не раз слышал от знакомых людей об отце Нектарии, но увидеться с ним больше мне не удалось…
Перед Рождеством в Дивеево совершенно случайно из разговора с моим знакомым из Нижнего Новгорода, Борисом, я узнал, что отец Нектарий, оказывается, с 2003 года возрождает Оранский мужской монастырь. Прошлой осенью обители была возвращена из музея великая святыня — чудотворный образ Владимирской Оранской Божией Матери…
И вот недавно мне удалось провести в этом монастыре несколько незабываемых дней. Атмосфера в Оранском монастыре особая. Она вся пронизана горячей молитвой священства, монашествующих, трудников и паломников, приехавших сюда из разных уголков нашей земли. Каждого привела к чудотворной святыне Божией Матери Оранской или личная беда, или тяжелая болезнь, или горячее желание помочь возрождающемуся монастырю.
Отец Нектарий — строгий, требовательный батюшка. Такой нужен сегодня всем нам, расслабленным, пребывающим в дремотной лени многочисленных страстей и пороков.
Есть такое русское слово — подвижник. В полной мере его можно отнести к батюшке Нектарию. Именно на таких людях и держится все на Руси: неравнодушных, прямых и бескомпромиссных, всегда готовых прийти на помощь страждущему, обремененному многими грехами нашему народу.
Можно по-разному судить — случайно или не случайно довелось мне оказаться в Оранском монастыре. Только один факт до слез порадовал меня. Праздник Оранской иконы Божией Матери приходится на 7 сентября. Именно в этот день появилась на свет православная народная газета «Русь Державная».
Андрей Печерский, главный редактор газеты «Русь Державная»
Матушка Алексия участвовала в радиопередаче из цикла «Подвижники земли Российской» вместе с иеромонахом Нектарием (Марченко) в январе 2006 г.
Цикл этих радиопередач проводил Кирилл Сергеевич Столяров (сын актера Сергея Столярова). Благодаря приглашению на эту радиопередачу матушка познакомилась с отцом Нектарием, настоятелем храма Преображения Господня в с. Радонеж.
Игумения Алексия. На разных этапах становления обители Господь посылал людей, которые помогали монастырю или духовно, или материально. Знакомство с отцом Нектарием было промыслительно. С этим временем связано духовное укрепление монастыря. Появилась возможность разрешить огромное количество, казалось бы, мелких, но очень важных вопросов: когда лучше назначить чтение келейного правила, как построить взаимоотношения с монастырским священником и его супругой, читать ли записки перед Царскими вратами, как питаться постами и т.п. По благословению архимандрита Иосифа предыдущие три поста сестры постились строго по уставу, поэтому меня очень волновал вопрос, выдержат ли сестры великопостный устав без послаблений? Когда я спросила о. Нектария, как нам быть, он даже возмутился: «Вам? По уставу? Да вам впору рыбу есть, а не по уставу поститься!» Действительно, современный человек очень немощен физически, к тому же сестрам нужно было выполнять немало хозяйственных послушаний, петь на клиросе. С этого времени во все посты сестры питаются так, как это было заведено в моей первой обители, а ее традиции берут начало в Рижском Свято-Троицком монастыре.
Это только один пример разумного решения вопроса, а сколько еще было подобных случаев! По мере духовного укрепления монастыря стало появляться ощущение, что есть твердая почва под ногами. И этой благодатной почвой, конечно, была молитва. Я не скажу, что до знакомства с отцом Нектарием мы не молились, но именно в это время стала вырабатываться молитвенная дисциплина. Батюшка открыл перед нами удивительный закон о «духовном равновесии»: если мало помолиться и хорошо выспаться — появится раздражение, если хорошо помолиться и недоспать — опять появится раздражение, поэтому так необходимо равновесие между молитвой и отдыхом. Может быть, с этого времени стал постепенно складываться мой принцип управления монастырем: равная забота о духовных и насущных потребностях сестер.
Первое время батюшка помогал нам не только духовно, но и материально. Помню, он спросил, какая у нас выручка в воскресенье, я ответила. Тогда батюшка сказал: «Да вы нищие!» Я даже изумилась от такого определения и про себя подумала: «Мы не нищие, мы просто бедные».
Протоиерей Сергий Клюйко, духовник Марфо-Мариинского сестричества милосердия. Архимандрит Нектарий — очень высокой духовной жизни человек, восстановивший много храмов. Сейчас он участвует в восстановлении одного из древнейших монастырей в Нижегородской области. К. нему ездят сотни людей, он помогает больным, наркоманам, алкоголикам, бывшим заключённым. У него много духовных чад. Мы, его ученики, не можем равняться с ним по силе. Я, например, если устал, могу бросить всё и пойти поспать. А у этого человека всё расписано: устал, не устал — он должен вычитать молитвенное правило, сделать, что положено, а потом, если останется время, — думать об отдыхе. Я не живу так, но я хотя бы общался и общаюсь с подвижниками, у меня есть пример, как надо жить. Я сам не могу делать, как положено, но у меня есть возможность покаяния В миру же многие своё расслабленное существование считают нормальной жизнью. Поэтому до них с трудом доходят слова проповедей, поэтому нет ощутимых результатов от молитв. Поэтому редко происходит исцеление духа, души и тела человека, как бывало в старинные времена, когда батюшка мог одним словом человека преобразить — пять минут побеседовал, и тот вышел уже нацеленным на духовность…
Оранский Богородицкий мужской монастырь
В царствование Михаила Федоровича, при патриархе Филарете жил некий благочестивый человек, дворянин Петр Андреевич Глядков, который состоял на государственной военной службе. Дослужившись до чина военного головы (иначе капитана), он удалился в свою вотчину: село Бочеево, в Березопольском стане Нижегородского наместничества. Был он человеком глубоко верующим, и, когда серьезно заболел, то решил прибегнуть к ходатайству Пресвятой Богородицы. Между других духовных доблестей Петр Андреевич имел особенное душевное расположение к иконе Богоматери Владимирской, находившейся в московском Успенском соборе, которая, по преданию, была написана самим святым апостолом Евангелистом Лукой. К ней-то на поклонение в столицу и отправился болящий Петр Глядков. Молитвы его были услышаны, болезнь отступила, и силы вновь возвратились к нему.
Исцелившись, боголюбивый дворянин решил заказать список с Владимирской иконы, давшей ему чудесное избавление от тягостной болезни. И тогда Петр Глядков «с верою молит в царствующем граде Москве великия соборныя церкви честного славного Ее Успения протопопа Кондрата, да подаст помощь вере его и изыщет он ему изографа на прописание того Богородичного образа, подобно первописанному тому образу умерен во всем».
Для исполнения данной просьбы протопоп Кондрат пригласил искусного московского живописца Григория Черного и вместе с ним изготовил образ Владимирской Богоматери. Данная копия хотя и имела большое сходство с подлинником, но несколько отличалась написанием самого лика, и, в дополнение, внизу иконы были изображены Московские святители, как пожелал того сам заказчик. Святители располагались в следующем порядке (слева направо): митрополиты Московские Петр, Алексий, Иона; князь Михаил Всеволодович Черниговский и боярин Феодор; царевич Димитрий, блаженные Московские Василий и Максим, а также Иоанн, Христа ради юродивый. Четверо из изображенных святых были тезоимениты заказчику Петру Глядкову и его сыновьям: Алексею, Михаилу и Ивану. Произошло это около 1629 года.
По возвращении домой в свою нижегородскую вотчину, в село Бочеево, исцеленный Петр Глядков в течение пяти лет с трепетом и любовью молился на образ Богоматери, который сразу же прославился среди местных жителей своею благодатью. Благоговейные молитвы, им воссылаемые, постепенно возвышали его дух и делали его достойным небесных видений.
В ночь на субботу пятой недели Великого поста в 1634 году услышал он во сне голос: «Иди семо!». Он пошел за этим голосом и вдруг увидел себя на какой-то горе, и здесь вновь услышал новый глас, повелевающий ему на этом месте построить храм в честь иконы Владимирской Богородицы, а прежде создания храма водрузить на горе крест. Трижды за ночь видел этот чудесный сон благочестивый дворянин. Проснувшись, Петр не решался дать оценку увиденному, но был в большом волнении, и с особым усердием стал молиться Богородице, чтобы та помогла ему исполнить повеление.
Через три недели, после Святой Пасхи, Петр Глядков вышел из дома и пошел, куда глаза глядят, но на самом деле вела его сила небесная, пока не вышел он к полю, называемому «Орано-поле» (от старославянского «орати» — пахать). Далее он пошел непроходимым лесом, и предстала вдруг перед ним гора, именуемая «Славенова гора». Взглянув на нее, понял он: это и есть та самая гора, что во сне ему привиделась. Место это было дремучее, и потому еще более Глядков удивился, когда увидел на горе сверхъестественный свет. Взойдя на гору, Петр Андреевич ощутил разливающееся вокруг него благоухание. Понял благочестивый христианин — это то самое место, что видел он во сне, и что сама Матерь Божия благоволит обитать здесь особенным своим присутствием.
Вслед за этими событиями отправился Глядков немедля вновь в Москву за благословением на строительство здесь храма, в честь Владимирской Богоматери. Явившись к Патриарху Иоасафу, он подробно рассказал ему обо всем произошедшем и попросил храмозданную грамоту. Святейший Патриарх возрадовался, что Господь не перестает еще являть чудесные знамения, и дал свое архипастырское благословение на это богоугодное дело.
Вернувшись вновь на нижегородскую землю, первым делом Петр Андреевич взял мраморный крест, который многие годы бережно хранился в роду Глядковых, и установил его на «Славеновой горе», обозначив тем самым место для строительства храма.
Между тем, старания Петра Глядкова увенчались успехом. Через три месяца в будущем монастыре был построен первый деревянный храм и вскоре освящен. Произошло это 21 сентября (по ст. стилю) 1635 года в день памяти апостола Кодрата. Сюда же, в новую церковь, была принесена чудотворная икона. Появились в обители и первые насельники. Древние акты сообщают о том, что было их восемь человек, а старшим из них значился постриженный из вдовцов иеромонах Феодорит. Сам же основатель нового монастыря — Петр Глядков оставался жить у себя в имении, но по прежнему всячески способствовал устройству Оранской пустыни. С этого времени от чудотворной иконы Богоматери Владимирской стали изливаться многочисленные чудеса, привлекавшие в обитель множество верующих для поклонения и возношения перед ней своих молитв.
Охраняемая чудесным образом от врагов, Оранская обитель становилась все более известной благодаря чудесам, происходящим от Владимирской иконы Божией Матери. Уже в 1635 году, спустя полгода после создания монастыря, опять на пятой неделе Великого поста, во время вечерней службы икона стала мироточить. Как свидетельствует летопись, в первый год от чудодейственной иконы получили исцеление более 130 человек, от самых разных и часто застарелых и неизлечимых недугов. С одинаковой легкостью выздоравливали слепой, двадцать или тридцать лет не видевший света белого, и больной горячкой, две-три недели страдавший в постели.
Слух об Оранской обители и чудесах, творимых у иконы Божией Матери, быстро распространялся по окрестным селениям, и на поклонение святыне приходило немало народу. Дошла и до Москвы весть о чудодейственной иконе Оранской пустыни. Когда Патриарх Иоасаф прослышал об этом, то немедленно послал грамоту архимандриту Нижегородского Печерского монастыря Рафаилу и протоиерею Архангельского собора Иосифу с повелением составить и сообщить ему самое обстоятельное описание всех чудес, являемых от иконы Оранской обители. Расследование было проведено самое тщательное. Расспросы велись в течение четырех месяцев. Затем подробный отчет отослали Святейшему Патриарху и доложили государю о происходящем. В общей сложности тогда было зафиксировано более 500 чудес от Оранской святыни.
Множество богомольцев приходило поклониться чудотворной иконе, и в знак благодарности за благодать и исцеления делались ими немалые приношения. Наследники основателя, род дворян Глядковых, также считали своей обязанностью продолжать святое дело, начатое их предком. Представители этой фамилии постоянно поддерживали монастырь щедрыми дарами и вкладами в виде богослужебных книг и утвари. Среди благодетелей монастырская летопись и синодики сохранили еще ряд известных имен: грузинской царевны Дарьи Арчиловны Имеретинской, князей Одоевских, Черкасских, Щербатовых, Бабичевых, Горчаковых, бояр Бутурлиных, именитых купцов Строгановых и многих других.
В начале XX столетия Оранский монастырь находился в цветущем состоянии. В нем размещались шесть каменных братских корпусов, здание гостиницы для приема богомольцев, многочисленные хозяйственные постройки: каменная водокачка, (функционировал свой водопровод), баня, лавки, погреба, пасека, амбары и конюшни. При монастыре существовала больница с аптекой, фруктовый сад и огород, собственный кирпичный завод, различные мастерские, хуторские подсобные хозяйства. В 1905 году в монастырском лесу, недалеко от монастыря, был основан скит для монахов, испытывающих потребность в уединенной молитве. В двухэтажном каменном здании скита размещалась домовая церковь в честь Успения Божией Матери. На территории скита находился небольшой музей церковных древностей, созданный настоятелем монастыря архимандритом Аркадием (Антуфьевым).
После революции, из более 200 насельников, в монастыре осталась только четвертая часть. Большая часть имущества была национализирована, и в обители, наряду с насельниками, стали размещаться различные, вновь созданные советской властью организации и учреждения. По официальным данным в последний год существования монастыря (1928 г.) здесь, под руководством игумена Димитрия (Архангельского) проживало 11 иеромонахов, 3 иеродиакона и 5 иноков.
Но, невзирая на все эти обстоятельства, попрежнему продолжались крестохождения с Оранской иконой. Даже когда монастырь был окончательно ликвидирован, верующие люди продолжали приходить на святой источник у стен обители, в праздник Владимирской Оранской Божией Матери и славить ее чудотворную святыню. Согласно архивным документам, подобные молебны в Оранках продолжались вплоть до 1954 года.
После закрытия монастыря на его территории в разные годы размешались различные учреждения и организации. Здесь были дом для престарелых, сетевязальная фабрика и Оранский «Народный Университет», профтехшкола (преподавали столярное и швейное мастерство); колония для детей раскулаченных крестьян, а в дальнейшем мужская трудовая исправительная колония.
В период с 1939 по 1941 год монастырь стал убежищем для интернированных иностранных послов и их семей, работников самих посольств. Во время Великой Отечественной войны в 1941 году здесь был организован лагерь для военнопленных немцев. Первая партия пленных немцев прибыла сюда в декабре 1941 года, а последние из них покинули лагерь в марте 1950 года.
Затем была создана воспитательно-трудовая колония для несовершеннолетних подростков. В период с 1971 по 1985 год находился мужской лечебно-трудовой профилакторий, а затем женская исправительно-трудовая колония. Лишь в 1993 году колония эта была ликвидирована, и Оранский монастырь был вновь возвращен Русской Православной Церкви. Первым настоятелем вновь возрождаемого монастыря стал игумен Александр (Лукин), управлявший обителью в период с 1993 по 1999 год. В дальнейшем обителью управляли: игумен Тихон (Затёкин) — 1999 год; иеромонах Макарий (Смольников) — 2000 год, игумен Пахомий (Папазов) — 2001 — 2003 годы.
С 2003 г. настоятелем монастыря является архимандрит Нектарий (Марченко).
Из воспоминаний игумена Нектария (Марченко), настоятеля храма в честь Преображения Господня в Радонежском подворье Троице-Сергиевой лавры.
«Впервые я приехал в Ракитное к отцу Серафиму, чтобы посоветоваться, жениться мне или нет. Батюшка внимательно посмотрел на меня, улыбнулся, наклонил Из голову и молчал. Немного помедлив, я продолжал расспрашивать: «Может, мне повременить?» Тогда батюшка оживился и говорит: «Да, да, деточка», и очень радостно обнял, поцеловал и прижал к себе.
Уже потом я понял, что отец Серафим старался не навязывать своей воли и давал человеку самому сделать выбор. Он руководил нашей духовной жизнью, призывая Божие благословение на принятое нами же решение, если, конечно, оно согласуется с волей Божией.
А как удивительно он умел отказать, не смущая человека! Я обращался к нему за разрешением разных вопросов, просил его благословения. Он вначале улыбнется, подбодрит (сам весь светится, греет душу) и с радушием скажет: «Это не будет вам полезно», и ты смиряешься, на душе становится спокойно и нет ничего огорчительного — словом, остаешься утешенным.
А благословения его были прямо-таки чудодейственны. Однажды, уезжая от батюшки домой в Донецк (август, время отпусков, да летом с билетами всегда было трудно), я достал билет только в общий вагон, а там яблоку негде упасть: не то что сидеть — стоять не было возможности. Я сильно устал. И тут увидел на одной из полок чемодан. Почти безнадежно поинтересовался, чей он. Чемодан убрали, и, невероятно, место оказалось в моем распоряжении. Как при такой толчее никто не занял полку, будто она была оставлена специально для меня? Про себя поблагодарил отца Серафима за его молитвы.
…Передал я батюшке записку, в которой просил благословения стать священником, спрашивал, можно ли мне поехать по святым местам. «Поезжайте, — сказал он, — и в Риге побывайте у владыки Леонида, а потом расскажете мне».
Поездка была удачной. Воодушевленный, вернулся я в Ракитное и с нетерпением ждал разговора с батюшкой. Но он медлил с приглашением. Уже три недели прошло, я в это время читал и пел на клиросе. Старец при встрече благословлял меня, пожимал руку, но уходил и даже не вспоминал, что обещал поговорить со мной после поездки. Я нервничал, чувствовал, что это неспроста, что за этим стоит нечто значимое для меня. Однажды я не выдержал и спросил: «Батюшка, что же, не получится из меня священник?» Тут он улыбнулся и сразу же ответил: «Если бы все так беспокоились, как вы, то многих священников мы бы недосчитались». Видя мое душевное состояние, он укрепил меня в принятом мною решении быть священником, тем самым сняв тяжесть с моей души.
При моей второй встрече с батюшкой я спросил его, может ли он быть моим духовным отцом. Он прижал меня к себе, поцеловал, взял за руку и говорит: «Да, деточка». Я тогда не очень-то понимал, что такое духовник. Мне казалось, что я ведь с образованием, мог бы какие-то проблемы решать самостоятельно, без чьей-либо помощи. Только позже, когда сам стал священником и столкнулся с трудностями в разрешении духовных вопросов, я понял, что наш ум, наши знания без духовного руководства мало что значат.
Когда Господь сподобил меня в первый раз исповедаться у отца Серафима, он тогда уже редко исповедовал в храме: не под силу ему было справиться с бесконечным потоком страждущих, шедших к прозорливому старцу и днем, и ночью. Он старался принять всех, не принимал только в день своего Ангела и по престольным праздникам. Правда, духовенству никогда не отказывал. После исповеди батюшка пригласил меня на трапезу. Пока накрывали на стол, я заговорил со старцем: «Простите меня, батюшка, я непозволительно оправдывался на исповеди». А он, чтобы меня не смущать, низко наклонился, осенив себя крестным знамением, и мне стало стыдно. Я был поражен его тактом, смирением и любовью. Удивительно, как глубоко он мог проникать в душу человека, снимая всякую тяготу с души.
После кончины отца Серафима было довольно тяжело привыкнуть к прямоте и требовательности. Отец Серафим был более мягким в общении… Как-то отец Григорий меня отругал, назвал ослом, я засмущался: ну, думаю, что ж я такого сделал? Батюшка, испытав мое состояние, говорит: «Ну ладно, ты тот осел, на котором ехал Спаситель». Меня поражало, как он находил способы утешить, и насколько умел чувствовать внутреннее состояние человека.
Как-то я приезжаю к батюшке, завели разговор об отце Серафиме (Тяпочкине). Отец Григорий с шестнадцати лет жил в монастыре и был пострижен в монахи, с юности получил монашеское образование и строго придерживался канона в церковном богослужении. А батюшка Серафим сначала был семейным, имел детей, и по любви своей к Богу стал все более и более увеличивать свое молитвенное стояние, затягивая службы, вычитывая много канонов. Отец Григорий сказал мне: «Я, как духовник, хотел было сделать замечание: то-то у него там неправильно… Только разогнался к нему, а мне голос говорит: «Не трогай его, пусть служит своей службой». Отец Серафим был такой ревнитель благочестия, что у него в церкви даже электричества не было. И до сих пор эта традиция сохраняется, и служат при свечах и лампадах…
Из воспоминаний духовного сына схиархимандрита Григория (Давыдова) архимандрита Нектария.
«Отец Григорий был удивительно своеобразным, прямолинейным, острым, немногословным. Архимандрит Кирилл (Павлов), прославленный лаврский духовник, говорил про него: «Острый ум и богатые природные данные».
Однажды у меня сильно заболело сердце. Пошел я к врачу, а врач, женщина, стала мне особое внимание уделять. Приезжаю к батюшке, вероятно, какие-то помыслы остались в голове, потому что он меня сразу обличил: «Дурак, пора уже о смерти думать, а ты все о бабах». Бывает, когда ты в благостном настроении, он тебя бьет за каждое слово: «Ты куда несешься, ты что, службы не знаешь?». А когда у тебя какая-нибудь беда, он обходителен. Удивительно умел утешить и исправлять, и требовать. Одно время попал я в немилость к властям. Меня пытались посадить. Старец утешал, давал советы, и все обошлось. Но за каждую мелочь ругал: «Если ты меня не будешь слушать, я тебя выгоню». Требовал он полного послушания.
Был еще такой факт несомненной прозорливости отца Григория. Я служил на одном приходе, настолько бедном, что не было даже ни одного нормального подсвечника, приспосабливали деревянные подставки с просверленными отверстиями для свечей. Узнаю, что в Харькове, на одном заводе, могут сделать хорошие латунные подсвечники, поскольку в те времена купить их было очень сложно. Приезжаю к старцу за благословением. Он благословляет и при этом добавляет: «Хоть на неделю, а купи». Сделал покупку, а через неделю меня перевели на другой приход. Дали мне направление в Духовную академию, и столько болячек навалилось, что я стал развалиной. Спрашиваю у отца Григория: «А как же быть с учебой?» Он в ответ: «Благочестивая жизнь выше любой академии». Когда он так сказал, то отлегло от сердца.
Великим постом начались у меня приступы, так что пришлось лечь в больницу. Но заранее были приготовлены для богослужения «Агнцы» — Тело и Кровь Христовы на литургию Преждеосвященных Даров. Думал, думал, как поступить, все-таки ушел из больницы, еле доехал, пять километров до храма добирался пешком шесть часов. Отслужил среду, пятницу, субботу и воскресенье. Вечером уснул, снится мне приснопоминаемый отец Серафим. Я под благословение, он благословляет. Утром еду к отцу Григорию, а он отправился в Ракитное, где похоронен отец Серафим. Я следом. По болезни даже день кончины старца перепутал. На панихиде так меня проняло слезой, что потом наступило облегчение. С того дня мне становилось все легче и легче, отменили все операции. И я по молитвам двух старцев стал поправляться. Через два года отец Григорий опять благословил меня лечь в больницу, и снова мне дважды отменяли операции. Батюшка передал: «Повремени с операцией». Так что ножа я избежал, и все обошлось. Приезжаю в Покровку. Батюшку не застал, сказали, что он уехал в Харьков. Я следом за ним, встретились. Поговорили. Время уходить, а он останавливает: «Давай помолимся». Помолились. Уезжаю на поезде. Примерно час уже были в пути, как состав вдруг резко остановился среди поля. Выхожу, смотрю, а на нашем пути стоит встречный поезд. Едва не произошло столкновение. Думаю, что именно молитвой старцы спасли от катастрофы».
Архимандрит Нектарий. Из проповедей
О милосердии, приближающем нас к Богу
Милостыня заключается не только в том, чтобы оказать какую-то материальную помощь. Милостыня — емкое понятие. Снисхождение, оправдание, прощение, услужливость… все это милостыня, не перечислить всех ее видов.
Без девства можно видеть Царство Небесное. А без милостыни нет никакой к тому возможности. Не только молитва, но и пост от милостыни заимствуют свою твердость.
Подавать деньги могут многие. Но чтобы самому услужить нуждающемуся и делать это с готовностью, любовью и — главное — с братскою расположенностью, это у нас сейчас только на языке. Да и то редко. Зато обижаться, осуждать — это мы умеем.
Кто делает добро в угоду людям или по другой какой-то страсти, непотребен такой Богу. Надобно во всяком добром деле, слове, помышлении иметь целью угождение Богу.
Человек, угождающий плоти, Богу угодить не может. А мы только и знаем, что плотоугодие. Мы только и делаем, что увиливаем от работы. Как жонглеры — показываем, а дело не делаем. Но именно только усердие трудов дает человеку освобождение от несмысленности, от гнева страстей и дает просвещение.
О милостыне — сокровище небесном и богатстве — земном
Милосердного, человеколюбивого Бог принимает, любит. И если это будет праведник, сплетает ему светлейшие венцы, а если грешник, прощает ему грехи в награду за сострадание к подобному себе рабу.
Богатство земное скрадывается, бывает отнимаемо сильнейшими, а добродетель душевная есть стяжание безопасное и некрадомое, и такое, что и по смерти спасает стяжателей своих. Мы всеми силами стараемся приобрести землю. Из-за нескольких десятин земли и домов не только не жалеем денег, но даже проливаем кровь. Для обретения же неба не хотим пожертвовать избытками, между тем как могли бы купить его за малую цену и, купивши, обладать им вечно. Потому что мы не подвергнемся крайнему наказанию, если придём туда наги и нищи, и не за свою только бедность милостыни будем терпеть несносные мучения, но и за то особенно, что и других вовлекаем в подобное состояние.
В самом деле, если язычники увидят, что и мы, христиане, сподобившись великих Таинств, привязаны к земному, то и сами будут прилепляться к нему. Через это мы собираем сильнейший огонь на главу нашу. Нам надлежало бы учить их презирать всё, а мы вместо того больше всех возбуждаем их пристрастие к богатству. Как же мы можем спастись, когда должны будем подвергнуться истязанию за погибель других?
Все дела человеческие разрушаются, а плод милосердия остается всегда неувядающим, не подлежащим никакой перемене обстоятельств.
Когда ты видишь человека, который творит милостыню, делает много добрых дел, подвергается затем искушениям и опасностям, не смущайся этим: он потому и подвергается искушениям, что слишком сильный удар наносит дьяволу.
О мироносицах
…Чем же должна, в первую очередь, украшаться женщина? Кротким и молчаливым духом. Вот зачастую показывают — в семье нет любви. А нет любви по той причине, что нет уступчивости. Вот, говорят, муж ничего не хочет делать. Оно-то и правда, раньше мужик был как мужик — труженик: знал и поле, и дом. И все хозяйство. Нынешний же — бездельник, знает только телевизор и газету. Но и в таком случае все равно вы должны уступать. Вы должны уметь жалеть, вы должны уметь снисходить, вы должны уметь умалчивать. И вот когда вы это будете делать, вы будете в таком мирном устроении, у вас будет довольство души, довольство духа. Это Господь нам этот дух творит, но при условии, что мы будем его развивать.
Какая у христиан удивительная старинная форма обращения к женщине: «матушка», «сестра» — все похотения изглаживаются. А у нас сейчас — содом! Это враг пленит нас этой страстью, потому что мы без молитвы. Мы же неухоженные, мы не ухаживаем за своим умом, а только удовлетворяем свои страсти… И столько в помыслах безобразия! Мы же не хотим от них избавляться. Потому нас и борют страсти. Потом каемся. Иногда человек рассуждает так: согрешу, поживу, удовлетворюсь, а потом покаюсь. Да что ж это за покаяние! Это ж непременный гнев Божий. Не принимается покаяние. Когда грех планируется — это самое страшное.
О любви Христовой
Сердце любящее — оно чувствительное, оно сострадательное, оно всегда осмысленное. А почему мы теперь несмысленные? Потому что жестокие. Мы звери! Мы по-зверски живем. Плотоугодно, корыстолюбиво, невоздержанно. А нет воздержания — никакой не будет победы.
Мы разучились соображать, понимать, разучились думать. Потому что разучились любить. Любовь человека назидает, а знания только надмевают. «Я с образованием! Я с тремя дипломами!» Да что эти дипломы наши стоят? А вот когда Бог научит знаниям — вот это знания! Вот это ум! Но это приходит при постоянстве духовной брани. Сколько у нас нужды в этом духовном просвещении! А то говорят: что там твой Бог. Пришел в церковь, перекрестился да и ушел. Или, как раньше, считали: церковь — это удел бабок неграмотных, которые ничего не знают, их задурили — и все. Теперь же, слава Богу, начали пробуждаться. Но не сами, а Господь ставит в такие рамки, что без выхода. И даже не в рамки, а в тиски — зажимает, зажимает и так закручивает тебя, что уже никак не выскочишь. И тогда уже: «Господи, сохрани… Господи, вразуми…» А Господь хочет постоянства в нашем с Ним общении. Как любящие родители пекутся о своих чадах: «Деточка, ты ж позвони, как устроился, как ты живешь, как питаешься… Че ты не звонишь?» А чего мы Богу не звоним? Мы Его должны благодарить, мы Его должны хвалить, мы его должны молить и просить защиты и самим себе, и своим близким, и всем людям: «Господи, помоги тому, тому, тому…» Вот это будет проявление и развитие любви Христовой.
Деточка-деточка, жизнь — это борьба
…И сильные выживают. Но сильные не
мышцами, а духом. А дух надо развивать.
Постоянством! Постоянным борением с собой.
Скорби и болезни к Богу приближают.
Минуя скорби и болезни, в Царство Божье
не попадём. Я уже не знаю, что у меня не
болит. Но если б я думал: какой же я
больной, то и лежал бы. И всё. А я встаю и
хожу. Лень надо искоренять…»
Архимандрит Нектарий
К 80-летию со дня рождения схиархимандрита Илия (Ноздрина)[113]
«Как корабль, имеющий искусного кормчего, благополучно входит в пристань, так и душа, имеющая доброго руководителя, удобно восходит на небо».
Прп. Иоанн Лествичник
Кто побывал в Оптиной пустыни, тот навсегда полюбил эту святую обитель. Здесь духом спасительным веет от намоленных алтарей, от куполов церковных, повторяющих голубизну небесных высей, от скитского леса, вставшего стеной у подножия духовной твердыни. Твердыня эта воздвигнута тщанием великих подвижников Божиих, согрета их молитвенными трудами. Старцами держалась Оптина, их мудростью и прозорливостью. И тянулись сюда богомольцы приобщиться молитвенного покоя, благолепия, чтоб научиться жить достойно… Оптина возвращается, она снова излучает святость во все российские пределы. Возносится молитва верующих к ходатаям перед престолом Божиим — преподобным оптинским старцам! Из ныне живущих подвижников Божиих радует своим молитвенным трудом духовник Оптиной пустыни старец схиархимандрит Илий (Ноздрин), снискавший общенародное признание. Благие деяния молитвенника России духовника Оптиной пустыни схиигумена Илия общеизвестны. Он пришел в Оптину пустынь в 1989 году — в те годы разоренную богоборцами обитель. До этого старец Илий десять лет провел на Афоне.
Нес послушание в исторически знаменитом скиту Свято-Пантелеимоновского монастыря, на Старом Русике, с 1976 года в течение более чем десяти лет. Старый Русик, с которого начинался наш монастырь и где созерцал Бога преподобный Силуан, уже в этом веке представлял собой более чем уединенное, скрытое в горных ущельях жилище единственного монаха. Забитый досками прекрасный храм с большой иконой великомученика Пантелеймона над заржавевшим навесным замком при входе, да несколько наглухо заколоченных гостиничных и монашеских корпусов, напоминавших о его былом величии. Впрочем, многое остается невидимым, недоступным непосвящённому взгляду.
Он до сих пор грустит об Афоне, до сих пор старца Илия ждет его святогорская келья, — откровенно ответила на наш вопрос оптинская монахиня Христина, духовная дочь схиигумена Илия, — но в смирении батюшка несет свое послушание здесь, на калужской земле. Старчество — это такой крест… Преподобный Нектарий Оптинский, когда после Октябрьского переворота Оптину разогнали, имел желание уединиться, уйти в затвор. Но ему с Небес явились оптинские старцы и сказал и: «Если ты оставишь свой народ, то вместе с нами не будешь». Это как будто сказано об отце Илии. Замены ему нет. Он нужен России как ветер «духа хлада тонка» со Святой горы, это дух Божий, который и есть любовь. Люди объединяются в духе любви под небесным покровом каким-то определением свыше. Афонских старцев соединило Знамение милости Божией Матери, недаром они особенно почитают эту Ее икону. Их сочетала и любовь к преподобному Силуану Афонскому, они молитвенно обращались к нему на протяжении долгих и трудных лет жизни на Святой горе.
Монахиня Христина прочитала письмо схиигумена Илия архимандриту Софронию (Сахарову), автору всемирно известной книги «Старец Силуан. Жизнь и поучения». Вот несколько отрывков из этого письма:
«С 1989 года я нахожусь в Оптиной пустыни, писал отец Илий. После 60 лет мерзости запустения много требуется трудов для ее возрождения. Обитель, если и не приобрела первоначальный вид, то на монастырь похожа…
Я родился в 1932 году и думаю, что начал молиться с трех лет. Мои родители и деды из верующей среды, но от них л, если и получил духовное воспитание, то только косвенно. Было время, когда мирской ветер увлек меня с прямой дороги веры и спасения. Провидение Божие послало мне человека, который поддержал в периоды опасные.
Ныне в Оптиной пустыни исполнилось мне 60 лет, а духовно, думаю, только начал ходить. Вы, дорогой старец, взошли на высоту, с которой смотрите в бескрайнюю безвременность. Господь много дал Вам знать и испытать. Признаюсь, что с 1967 года, когда мне попала в руки книга «Старец Силуан», я как-то сразу поднялся на ступень духовную и, так сказать, прозрел. С того времени эта книга служит мне верной подругой.
На Старом Афоне мне приходилось принимать паломников и всяких людей, прибывших в Свято-Пантелеимоновский монастырь. Показывать им храмы, выносить мощи святых. Могу констатировать, что еще до прославления старца Силуана многие почитали его как святого. Я весьма благодарен тому обстоятельству, что именно Вы, дорогой отец Софроний, очень много сделали не только ради чести старца Силуана, но, главным образом, совершили дело укрепления веры и спасения многих. От всех, кто читал Вашу книгу, я всегда слышал только положительный отзыв. И, сказать откровенно, не просто положительный, а и с подчеркнутой любовью к книге…
Дорогой старец Софроний! У меня большой к Вам вопрос. Мне все вручают и вручают новых постриженников… В данный момент Вы знаете, какая ответственность на мне лежит ради них. Вот как бы мне, зная свое место подчиненного, оказывать им помощь в духовном плане? Прошу, дорогой отче, Ваших святых молитв обо мне, грешном.
Ваш послушник, смиренный схиигумен Илий.
Пасха Господня, 1992 год, монастырь Оптина пустынь».
Учение Силуана Афонского для отца Илия в то время стало откровением.
По учению преподобного Силуана Афонского «брат наш есть наша жизнь. За любовь к брату приходит любовь Божия. Через любовь Христову брат становится частью меня и больше — мною самим. Великая заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» — не этическая и не эстетическая норма. В слове «как» скрывается вовсе не мера любви, а онтологическая общность судьбы. Страданий, слез и радости о Христе воскресшем и отершем слезы с глаз Своих верных рабов и друзей. Плача, мучения, смерти и тления больше не будет под обетованным новым небом, на новой земле…»
«От многих страданий мира плачет монах, — проповедовал Силуан Афонский. — Так плакал Адам о потерянном рае… О любовь Господня! Кто познал Тебя, тот неустанно ищет Тебя, день и ночь кричит: «Скучаю я по Тебе, Господи, и слезно ищу Тебя. Как мне Тебя не искать? Ты дал мне познать Тебя Духом Святым…» Велика была скорбь Адама по изгнанию из рая, но, когда он увидел сына своего Авеля, убитого братом Каином, то еще большей стала скорбь его, и он мучился душою и рыдал, и думал: «От меня произойдут и размножатся народы, и все будут страдать и жить во вражде и убивать друг друга». И эта скорбь была так велика, как море, и понять ее может только тот, чья душа познала Господа и то, как много Он нас любит», заключает мысль старец Силуан. И добавляет уже от лица Адама: «Вы не можете разуметь моей скорби, ни того, как рыдал я о Боге и рае. Слезы мои текли по лицу и мочили мне грудь и землю; и пустыня слушала стоны мои. Меня терзали злые мысли; меня опаляли солнце и ветер; меня мочил дождь; меня мучили болезни и все скорби земли, но я все терпел и крепко уповал на Бога.
И вы несите труды покаяния: возлюбите скорби, иссушите свои тела, смирите себя и любите врагов, чтобы вселился в вас Дух Святой, и тогда познаете и обретете Небесное Царство… Ныне от любви Божией я забыл землю и все, что на ней, я забыл даже потерянный мною рай, ибо вижу славу святых, которые от света лица Божия и сами сияют, подобно Ему».
«Молиться за людей — это кровь проливать», — передавал свой личный молитвенный опыт преподобный Силуан Афонский. Чем больше любовь, тем сильнее страдает душа. Но это страдание приобщает к вечности со Христом. «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (1Кор.13:8). Вообще-то, любовь — редкий дар, современные христиане спасаются чаще скорбями и покаянием.
Молва о благодатном старце разнеслась по всем областям и весям. Бессребренник… А говорит порой так, что человеку, от веры далекому, странным покажется. Странным? …За мудрым научением и помощью молитвенной к нему потянулись люди.
Теперь к духовнику Оптиной пустыни едут со всей России. А сколько духовных чад ныне окормляется им!
Оптина пустынь, как духовный магнит притягивает к себе души людей со всего света, кого здесь только ни встретишь… французов, англичан, немцев, американцев, греков, арабов, африканцев. Приезжают сюда и католики, протестанты, иудеи, мусульмане, буддисты и атеисты. Большинство же — православные паломники, приезжающие сюда подлечить свою душу, укрепиться в вере, набраться духовных сил. Старчество — особый духовный союз, который состоит в искреннем послушании своему духовному отцу. Это не ущемление воли и свободы человека, а стеснение произвола падшего человеческого разума. Истинная христианская свобода заключается не в своеволии, а в самоограничении. Старцы Оптинские имели особый дар сострадания и жертвенной любви. Они радовались с радующимися и плакали с плачущими. При этом для них ничего не значили ни большие состояния, ни высокие чины и звания, притекающих к ним. Людские беды и горести они принимали к сердцу как свои, часто страдая и болея физически, но возвышаясь и пламенея духом.
Людям, усталым и измученным жизненными невзгодами, и людям вполне благополучным, одинаково необходимы такие пророки и утешители. Эти воины Христовы всегда при исполнении Божия Заповеди: «Утешайте, утешайте народ Мой» (Ис.40:1).
Народная награда старцу
Награду «За вклад в духовное возрождение Отечества» народному избраннику схиигумену Илию от лица православной общественности вручил председатель Народного Наградного Комитета В.С. Балакирев в присутствии членов Наградного Комитета и духовных чад старца. Оптинский духовник старец Илий с почтением, коленопреклоненно принял награду под молитвенное песнопение многочисленного окружения присутствующих. На братской трапезе в честь тезоименин лауреата, обсудив планы, старец благословил подвижническую деятельность Народного Наградного Комитета — доброхота Народной дипломатии.
Народная награда широко почитается и благословлена Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.
Первым награжденным лауреатом Народной награды стал Святейший Патриарх Алексий II. Награда получила особую оценку Его Святейшества — он назвал ее «Высокой Народной Наградой».
Кроме Предстоятеля Русской Православной Церкви, к Народной награде представлены: Святейший Павел, Патриарх Сербский; Святейший Максим, Патриарх Болгарский; Высокопреосвященнейший Лавр, Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви.
Молитва на куполе Морского собора оптинского старца Илия в Кронштадте
Стоя у величественного Морского собора, оптинский старец внимательно слушал рассказ о пророчестве святого Иоанна Кронштадтского о своей кончине в связи с этим собором. «Когда была совершена закладка Морского собора, на ней отец Иоанн предсказал свою кончину, сказав: «Когда стены нового храма подведут под кровлю, то меня уже не станет». Осенью 1908 года постройка собора подходила к концу, стены были подведены под кровлю. Дорогой батюшка в этом подведении «стен под кровлю» усмотрел для себя знамение кончины его земной жизни. И вот, подобно тому, как св. пророк Моисей перед смертью восходил на гору Нево, так и великий молитвенник земли русской пред своей кончиной, невзирая на крайнюю немощь, с помощью людей поднимался до самого купола. Бывшие с отцом Иоанном самовидцы свидетельствовали, что великий восторг засиял в очах дорого пастыря. Подобно тому, как богоизбранному ветхозаветному пророку Моисею была дорога гора Синай, на которой он беседовал с Богом, так и для величайшего из пастырей Руси православной был дорог храм Божий, как место его незримых бесед и духовных общений с Богом. На куполе Морского собора отец Иоанн вознес свою последнюю молитву о всей России. Сознавая исключительную важность этой молитвы, отец Иоанн посчитал необходимым тогда же послать телеграмму Государю Императору Николаю Александровичу о том, что он поднимался на высоту купола собора и молитвенно «от души пожелал Вашему Величеству благоденственного и долгоденственного царствования вместе с их величествами Государынями Императрицами и Наследником Цесаревичем». Это была молитва отца Иоанна о Русском Царе и, в его Лице, о всей земле Русской.
Старец Илий внимательно выслушал эту историю и, будто о чем-то задумавшись, спросил: «А нельзя ли зайти внутрь собора?» Двери в храм оказались закрыты. Когда же мы обходили вокруг собора, увидели у заднего выхода рабочих, вышедших из собора на перерыв. Спросили, нельзя посмотреть собор. Один из них — его звали Александр Васильевич, — спросив разрешения начальства, охотно провел нас, по-хозяйски показывая концертный зал, устроенный в храме, попутно излагая свою жизнь: « Я родился в Кронштадте, еще с детства помню собор. На нем в войну наши зенитки стояли. Немцы Кронштадт бомбили, а собор не разрушили. Только один снаряд попал, навылет прошел через собор. Только две дырки оставил». Старец помолился в соборе. Уже провожая нас, Александр Васильевич, как бы в шутку, сказал: «Да я бы вас мог и на самый верх провести. Да там грязь, вы только перепачкаетесь». Мы молча кивнули: учитывая немощь старца — это было, казалось, совершенно нереально. Однако старец, будто обрадовавшись чему-то, посмотрел на рабочего и негромко сказал: «Пошли-пошли…» Никто не посмел возразить. Первые пролеты лестницы, ведущие на балкон зала, преодолели легко. Дальше пошли узкие рабочие лестницы. Старец легко поднимался по ним, будто взлетал ввысь, лишь на короткое время останавливаясь, чтобы перевести дух. Потом подъем пошел по узкой лестнице внутри стены в совершенной темноте. Вышли мы из нее на самом куполе на уровне окон. Перед нами открылась дивная панорама Финского залива. На востоке, как на ладони, хорошо был виден Васильевский остров Петербурга, вокруг Кронштадта — разбросанные островки фортов. Мы были на высоте почти семидесяти метров. Над нами висел в воздухе, казалось ни на чем, свод огромного купола. Старец Илий возгласил и запел тропарь святителю Николаю, потом Иоанну Кронштадтскому, затем многократно возглашал запевы, которые мы клиросом повторяли. Песнопения гулко отражались в огромном куполе, казалось, что какой-то верхний хор вторит нам где-то в вышине.
В конце старец прочел большую молитву Спасителю о всех и вся. Этот необычайный молебен продолжался минут двадцать. Все тропари, кондаки и большую молитву старец читал наизусть. И вот здесь, под куполом, вдруг стало понятно, что неслучайно старец Илий поднялся на этот собор, неслучайна эта молитва, что необходима крепкая молитва именно здесь и граду Кронштадту и всей России. Морской собор был создан по повелению Царя-мученика Николая по образу и подобию Софийского собора в Константинополе. Этот собор можно назвать — Софией Кронштадтской, Русской Софией. Он стал воплощением в камне исконной русской идеи о Третьем Риме. Кронштадт — есть Новый Русский Царьград со своей Софией. И само его название Кронштадт — «коронный город», «город царской короны», можно так и переводить — Царьград. Кто-то произнес: «Батюшка, вы как отец Иоанн взошли на этот собор!» «Отец Иоанн поднимался сюда перед кончиной…» — ответил старец. Наверно, никто не поднимался после отца Иоанна сюда для молитвы. До революции не было такой необходимости, а после революции не было уже такой возможности. О чем была молитва старца?
Когда мы были уже на земле, глядя ввысь, не верили себе, что мы только что были на уровне окон купола. На прощание старец сказал Александру Васильевичу: «У тебя имя-отчество как у Суворова. Будь как Суворов. Он знаешь, какой верующий был! Ты молитву творишь утром?» «Как же! Она у меня всегда при себе. Я как на работу прихожу, говорю своим молодым в бригаде: «А нука читай, а то у меня глаза плохие». Они у меня ее каждое утро все читают». Александр Васильевич поднял свитер и из кармана на груди достал свернутую молитву: «Вот она. Уж очень я ее люблю». Он развернул бумажку: «Молитва последних оптинских старцев…», — прочитал он. Старец Илий благословил его и сказал: «Читай, читай ее».
Иеродиакон Илиодор, насельник Оптиной пустыни: «До того, как я впервые приехал в их обитель, у меня в моем воображении по портретам, жизнеописаниям сложился собирательный образ старца. И, когда я впервые его увидел, сразу вполне определенно и твердо возникла мысль: это старец. Так оно и оказалось».
Раб Божий Алексей: «Улыбающийся, с веселыми глазами, он излучал свет. А какой радостью, сиянием вспыхивали глаза прихожан, получая благословение, — чистый, неземной восторг.
Мои неоднократные писательские подходы к нему до сих пор остаются бесполезными. Интервью не дает, о себе не читает.
Однажды я все-таки, без его согласия, сфотографировал, окликнув батюшку. Мне до сих пор стыдно за этот произвол».
Паломник: «Я приезжаю в Оптину пустынь для того, чтобы приложиться к мошам старцев, побыть на службах, исповедоваться, причаститься и увидеть просветленные лица. Их так мало в миру».
Схиигумен Илий: «Телевидение может быть полезным»
В преддверии фестиваля православных СМИ мы продолжаем разговор о современном состоянии и задачах российских СМИ.
— Батюшка, часто можно услышать, что никакое телевидение не нужно православным, и даже православное телевидение не стоит создавать, поскольку это все от лукавого. Как Вы относитесь к этой позиции? Вы поддерживаете ее?
— Нет. Так категорически к телевидению относиться нельзя. Господь дает все нам во благо. Представьте себе, если бы сейчас не было машин, самолетов, и все было бы по-старому. Я даже подумал: а мог бы сейчас человек пользоваться транспортом, который был 100-200 лет тому назад? Ведь сейчас столько людей и больших городов. Нет, это было бы невозможно. Поэтому Господь, конечно, заранее устраивает, дает нам много всего, чтобы мы пользовались этим, но не делали из этого кумира. Не злоупотребляли ни в чем. Я думаю, телевидение может служить на пользу, показывать хорошие вещи, которые могут стать полезными. А потом, надо сказать, что Господь все видит. Он создал человеку око, — разве не видит все человечество, что творит человек? Он создал человеку ухо, — разве не слышит человек? А через телевидение мы видим вещи на громадном расстоянии. И что же, Господь будет телевидением человека обличать, что вот вы пользуетесь этими «игрушками»? Поэтому ясно, что телевидение в хорошем плане, если оно несет пользу, то не противоречит нашему духовному Закону Божию. И Господь не будет судить за то, что человек смотрел телевизор. А вот как смотрел и что смотрел? Если он вместо того, чтобы пойти в храм, остался смотреть по телевидению какое-то кино, ясно, что это неправильно. А если человек пришел после работы, сел отдохнуть и включил телевизор, и видит не те вещи, которые коробят душу, настраивают на ненормальные мысли и чувства, а настраивают на хорошее, например, церковную передачу, — ясно, что здесь греха не будет, если он смотрит телевизор.
— Что, на Ваш взгляд, нужно показывать по телевизору?
— В первую очередь, хорошо бы послушать проповедь хорошую или службу в церкви. Хорошо бы показывать и полезный труд, когда люди нормально трудятся над чем-нибудь. Или объяснить, показать, как нужно поступать в трудной ситуации. Ведь часто возникают сложные вопросы в работе — допустим, в сельской жизни. И опытный садовод может рассказать, как надо ухаживать за деревьями, другими садовыми культурами. Как правильно посадить картошку, как убрать. Или, как создать домашний уют, чтобы домашний интерьер был не кричащим, чтобы не возникали в доме споры, чтобы все было нормально, без лишних вещей и в необходимом порядке. Я думаю, это будет полезно.
— По каким критериям Вы посоветовали бы определять, хорошая передача или нет? Нужно ее смотреть или не стоит?
— Во всем у нас должен быть один критерий — это наше Священное Писание. Вот закон. Наше православное учение зиждется на Священном Писании. И все, не только оценка передачи, но и любое явление, действие должно отвечать нормам православной жизни.
Допустим, современная одежда призывает к увлечению модой, которая видоизменяется в силу изменения экономической ситуации. Но такая одежда не согласуется с нравственным состоянием человека. Ведь одежда способна воспитывать человека, вызывать в нем те или иные чувства. Она показывает, насколько человек благоговейно поступает. Сейчас мы часто видим произвольное отношение к этому. Если те, кто создает модную одежду, исходили бы из состояния человека, из того, насколько это ему удобно и порядочно, они бы тогда не выдумывали такое. Вот старинная длинная одежда, она воспитывает человека в более нравственном состоянии, в чистоте души. А ведь от души человека все и идет, это центр человека.
— Батюшка, а не может ли быть критерием оценки той же телепередачи состояние радости? А если есть уныние, разочарование, то это неудачная передача.
— Святое, Божье всегда дает человеку мир и радость. А то, что не несет человеку настоящей духовности, то не дает покоя и душе. Бог — источник добра, и если человек далеко от Бога, то он не может приносить пользу другим. Так я понимаю.
— Многие думают, что если телевидение — во благо, то оно обязательно должно исправлять страсти и пороки. Но может ли телевидение исправить души человеческие? Может быть, это больше дело Церкви, а телевидение может только как-то помогать ей?
— Телевидение может способствовать вере при правильной постановке дела. Оно может охватить проповедью большой регион, оказать воздействие сразу на множество людей. Апостолу Павлу, чтобы проповедовать, приходилось обходить пешком целые страны, и как много ему при этом приходилось терпеть кораблекрушений и других бед, когда на него нападали, избивали… Так и другие проповедники, они тоже терпели всякие невзгоды. Когда человек проповедует через телевидение, его слышит гораздо большая аудитория. Но если телевидение зарекомендовало себя порочными передачами, то большинство людей откажутся от него. А если оно зарекомендует себя с хорошей стороны, если оно будет отвечать на христианские вопросы, то, я думаю, люди, которые ищут ответы на эти вопросы, будут больше откликаться на него. Например, протоиерей Димитрий Смирнов, который и по радио выступает, и по телевидению, — многие его слушают, и, естественно, на пользу. Но, конечно, христианская духовная жизнь — она прежде всего в храме. Сколько атеистическая пропаганда порочила Церковь, сколько было клеветы, чтобы заставить людей отойти от веры. И чтобы победить это зло, конечно, нужно воспользоваться телевидением.
— Мне кажется, что задача телевидения — помочь людям прийти в Церковь, а Церковь сама все сделает.
— Еще в четвертом веке Ириней Лионский сказал, что в Церкви есть все для спасения, но нужно, чтобы человек пришел в Церковь. И сегодня главное — помочь людям прийти в Церковь. Ясно, что наша вера универсальна, она охватывает все области жизни. Христианская литература касается всех вопросов. И если человек ею не пользуется в жизни, он часто не может найти для себя ответа. И тогда появляются трудности, разочарования, и, конечно, надо подсказать ему, помочь ему прочитать хорошую книгу, это даже лучше, чем сделать какой-нибудь материальный подарок. В суете мы часто не пользуемся этой возможностью — прочитать духовную книгу, а если кто-то подскажет нам с помощью телевидения, то это хорошо.
— Посоветуйте для нас, для всех тех, кто делает телевидение, — как правильно приступать к делу, с чего начинать?
— У всех должна быть полноценная христианская жизнь. Вы сами должны быть православными христианами, отсюда и продукция будет положительной. Наше настроение должно отвечать нашему православному образу жизни. Выходя на улицу, собираясь в магазин за покупками, следует обратиться к Богу, — всегда что-то непредвиденное может случиться. Тем более, создавая хорошие телепрограммы для пользы множества людей, необходимо иметь молитвенное настроение.
Схиигумен Илий (Ноздрин) Беседовал Андрей Кирисенко
Проповедь «Об опасности малых грехов»
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Вспомним, братья и сестры, Евангельское повествование, которое мы слышали сегодня за Божественной Литургией. Господь со своими учениками шел в город, название которого было Наин. И когда Он приближался к городским воротам, в это время из ворот города выходила похоронная процессия: везли хоронить молодого юношу, единственного сына вдовы, которая шла за гробом и горько плакала. Господь сжалился над нею и воскресил ее сына.
Смерть человека — это всегда скорбь и, в первую очередь, для близких его родственников. Люди плачут, когда видят смерть тела, но есть более горькая смерть, о которой плачут на небе Святые Ангелы — это смерть духовная.
Человек, высшее творение Бога, состоит из двух субстанций. Смерть физическая — это когда душа покидает тело, а смерть духовная состоит в полной утрате способности души общаться с Источником жизни — Богом. И если смерть тела совершается за короткий промежуток времени: часы, минуты, а иногда и мгновенно, то смерть духа человеческого может растянуться на долгие годы и десятилетия.
Безусловно, такие тяжкие грехи, как убийство, богохульство, колдовство, атеизм, ересь, жестокость, содомия и другие смертные грехи, сразу поражают дух человеческий, оживить который может только полное и решительное покаяние. Но чаще всего люди сознательно и добровольно подвергают себя духовной смерти через мелкие грехи. — так называемые «вредные привычки» и пристрастия. — не желая с ними бороться и расставаться. Против великого греха легче начать борьбу, легче возненавидеть его приближение.
Известен случай с праведным Антонием Муромским. К нему пришли две женщины: одна сокрушалась о своем великом грехе, другая самодовольно свидетельствовала о своей непричастности ни к каким большим грехам. Встретив женщин на дороге, старец велел первой пойти и принести ему большой камень, а другой — набрать много мелких камешков. Через несколько минут женщины возвратились. Тогда старец сказал им: «Теперь отнесите и положите эти камни точно в те места, откуда вы их взяли».
Женщина с большим камнем легко нашла то место, откуда она взяла камень. Другая же тщетно кружилась, ища гнезда своих маленьких камешков, и возвратилась к старцу со всеми камнями. Прозорливый Антоний объяснил им, что эти камни символизировали. У второй женщины они выражали в символической форме многочисленные грехи, к которым она привыкла, считая их ни за что, и никогда в них не каялась. Она не помнила своих мелких грехов и вспышек страстей, а они свидетельствовали о безотрадном состоянии ее души, неспособной даже к покаянию. А первая женщина, помнившая свой грех, болела этим грехом и сняла его со своей души.
Множество малых, «вредных» привычек — тина для души, если человек утверждает их в себе или осознал как «неизбежное» зло, против которого «не стоит» и «нельзя» бороться. Вот тут-то и попадает душа в западню врага рода человеческого. «Я не святой, я в миру живу, я должен жить, как все люди», — успокаивает свою неугомонную совесть верующий человек.
Что можно на это сказать? Конечно, ты не святой, ты живешь в миру и должен жить, как все люди. И поэтому — рождайся, как все люди, умирай, как они. смотри, слушай, говори, как они. Но зачем тебе преступать закон Бога — «как они»? Надо задуматься над этим каждому из нас, братья и сестры.
Такой грех, как курение, до того вошел в привычку человеческого общества, что оно предоставляет ему всяческие удобства. Где только ни найдешь сигарет! Везде можно найти пепельницу, повсюду существуют специальные комнаты, вагоны, купе «для курящих». Даже не будет преувеличением сказать, что весь мир представляет собою один огромный вагон для курящих, несущийся в межзвездных сферах. Преступнику перед казнью позволяют выкурить папиросу.
Курят почти все, спокойно грешат: старые и малые, больные и здоровые, ученые и все иные. Словно воздух слишком пресный в земной атмосфере и надо создать его себе дымным и дышать, дышать этим ядом, дурманя его наркотическим действием свою голову и весь организм. Дошло уже до того, что некурящий человек — явление почти такое же редкое, как и «никогда не лгущий» или «ни над кем не превозносящийся».
Как трудно сдвинуться душе с ложной, но привычной мысли. Психология атеистического «мира сего», так крепко въелась в психический мир современного человека, что в отношении греха и преступления против Божиих законов почти все люди действуют одинаково «по штампу». Самое же печальное, что зло внушило людям «требованиями природы» называть требования греха.
Требования природы — дышать, в меру питаться, согреваться, уделять часть суток сну, но никак не отравлять наркотиками свой организм. Бессмысленно привязываться к миражу, к дыму, к алкоголю.
Тема о «мелком» грехе — совсем не мелка, как это представляется иногда. Чуткость к смертоносному для души запаху, пребывающему в так называемых «вредных привычках», является показателем здоровья нашей души. Если атомы действительно заключают в себе целые «солнечные» системы, то это прекрасный аналог, иллюстрирующий внутреннюю сродность всякого греха: малого и большого.
И как же можно делить грехи на серьезные и «невинные»? Ведь огонь все равно огонь — как в доменной печи, так и у горящей спички. И тот, и другой мучителен для человека, который его касается. Нужно понять эту несомненную истину, что всякая страсть, всякая злоба, всякая похоть — есть огонь. Конечно, курение — небольшая похоть, не смертный грех, как и спичка — небольшой огонь. Но и эта похоть духопротивна, и невозможно себе даже представить кого-либо из ближайших Господних учеников курящими.
В духовном смысле — курение, увлечение вином, пивом, и все мелкое беззаконие — есть распущенность. Не только тела, но и души. Эти пагубные пристрастия дают мнимое успокоение «своих нервов», как говорят иногда, не вполне сознавая, что нервы — плотское зеркало души. «Успокаивание» это ведёт ко всё большему удалению от истинного покоя и утешения Духа Святаго. Такое «успокоение» есть мираж. И его надо возобновлять постоянно. Затем это наркотическое успокоение станет источником мучительной пленённости души…
Надо понять, что, например, «срывающий» свою злобу, тоже «успокаивается». Но это лишь до нового припадка гневливости. Успокаивать себя удовлетворением страсти нельзя. Успокоить себя можно, лишь понеся крест борьбы против всякой страсти, даже самой мелкой, — крест ее неприятия в свое сердце. Это путь истинного, твердого и, самое главное, — вечного счастья.
Поднявшийся над туманом видит солнце и вечноголубое небо. Поднявшийся над страстями входит в сферу мира Христова, неописуемого блаженства, начинающегося уже здесь, на земле и доступного каждому человеку. Миражное счастье ~ папироса или рюмка водки. Такое же, как на кого-нибудь рассердиться, перед кем-нибудь погордиться, покрасить для людей свои щеки или губы, кого-либо обхитрить. Не нужно искать такого счастья. Его прямое, логическое продолжение: морфий, кокаин, удар по лицу человека или выстрел в него, хищение ценностей…
Блажен тот, кто такое «счастье», оттолкнет от себя с праведным и святым гневом. Это царствующее в мире демоническое счастье есть блудница, разрушающая союз души человеческой со Христом — Богом истины и чистой блаженной радости. Всякое утешение вне Духа Святаго Утешителя есть тот безумный соблазн, на котором строят свои прелыцения устроители земного человеческого рая. Утешитель — один только Творческий Дух Истины Христовой. Молиться духом, куря сигару, невозможно. Невозможно проповедовать, затягиваясь и вдыхая табачный дым. Перед входом в храм Божий на время откладывается курение… Ведь храм Божий — это мы. Кто хочет каждую минуту быть храмом Божиим — откинет сигарету, как и всякую ложную мысль, всякое злобное чувство.
Чуткость к малейшему душевному движению в себе — это барометр религиозности человека и его любви к Богу. Можно себе представить такой пример из жизни: табак как растение не имеет в себе никакого зла. Абрикос
— Божье растение. Алкоголь может быть полезен организму человека в свое время и в умеренных дозах, ничуть не мешая духовности, так же как чай или кофе. Дерево, материя, из которых делается мебель, — все Божье.
Но теперь возьмем эти слагаемые в следующем сочетании: в мягком кресле, перед телевизором, развалился человек и курит, ежеминутно прихлебывая из рюмки абрикосовый ликер.
Может ли этот человек в таком состоянии вести беседу о Живом Боге, творить Ему молитву? Физически — да, духовно — нет. Почему? Да потому, что человек этот сейчас пребывает в духовной расслабленности, его душа утонула в кресле и в рюмке абрикотина, одурманена гаванской сигарой и погрязла в телевизоре.
В эту минуту у него почти нет души. Он, как блудный сын из Евангельской притчи, скитается в далеких краях. Так человек может потерять свою душу. Душа умирает и живет только органической, плотской жизнью — без малейших признаков духовности и связи с Богом. И, как мертвое тело юноши, о котором повествуется в сегодняшнем Евангелии, несли в гробу, так и плотский человек носит в своем, пока еще живом теле «своего мертвеца» — умершую душу.
Святой Максим Исповедник в своем аскетическом труде говорит: «Все живущие по сопричастности только естественной плотской жизни — суть мертвецы». Святой Григорий Нисский использует для выражения этого же состояния специальный термин — «некрос биос», что в переводе с греческого языка означает «мертвая жизнь».
«Мертвая жизнь» — есть автономное, безблагодатное земное существование человека. Мокрая липкая тяжесть пульсирующей плоти задает особый ритм существования: поспал, поел, поработал, опять поел. Насладился (если смог), разозлился, оттеснил, выпил, покурил, получил удар поскулил, опять попытался насладиться. Поел, поговорил, позвонил по телефону, посмотрел телевизор, поспал и опять после завтрака на работу — и ни одной мысли о Боге. «Некрос биос» — «мертвая жизнь». Так живущий человек не что иное, как временно двигающийся манекен. Жить по сопричастности только к материальной жизни, без благодати, для человека все равно, что не жить вовсе.
Но поражающая внезапность осознания этого отложена до момента перехода в мир иной, когда душа дает отчет за свои земные дела, открываются ей все ее неправды. И с небесной беспристрастностью рука грозного Ангела подписывает отрицательный итог: «земная миссия позорно провалена», «в прожитой жизни душа духовно спала беспробудным сном».
И воскресить умершую душу, пока она еще находится в теле, может только Христос. Но человеку надо прежде всего приступить ко Христу: надо перестать оправдывать свою похоть, даже самую малейшую, надо осудить ее перед Богом и признать свою вину. Надо взмолиться об избавлении, о спасении.
Господь по праву называется Спасителем. Он реально спасает нас от всех слабостей и страстей. Он избавляет. Он исцеляет вполне зримо, ощутительно. Исцеляя, прощает и воскрешает.
И воскресает человек духовно, как телесно воскрес сын вдовы из города Наин — юноша, о котором мы слышали в сегодняшнем Евангельском чтении. Потому что для Христа — Всемогущего Бога — одинаково легко спасти человека как от телесной, так и от духовной смерти. Аминь.
К 62-летию со дня рождения протоиерея Владимира Волгина, настоятеля храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, г. Москва
Моя первая встреча с архимандритом Серафимом произошла двадцать два года назад, в 1980 году, за два года до его праведной кончины, после моего рукоположения. Я был удивлен не только тем, как он выглядел (тогда ему было 85 лет). Он поразил меня кротостию, смирением и своим молчанием. Это было молчание, наполненное благодатью Святого Духа.
Несмотря на атеистическое время и гонения на православных христиан, к великому пастырю приезжало множество самых разных людей. Среди них было много интеллигенции, были болящие со своими скорбями и телесными недугами. Они верили, что только этот старец и может молитвенно им помочь, указать, как им дальше жить. По молитвам праведника Господь посылал все необходимое для каждого из них. Они уезжали от старца утешенными.
Вспоминая отца Серафима, не могу не сказать, как я шел к Богу. Мое обращение к вере было непростым. Я родился в Москве, в интеллигентной многодетной семье. Родители — атеисты в первом поколении — и нас, детей, воспитывали в том же духе. Папа был партийный, но в отношении к Богу был мягче беспартийной мамы. С одиннадцати месяцев и до восьми лет у меня болели суставы ног. Коленки если и сгибались, то по два-три месяца я не мог их разогнуть: мне удавалось это сделать только через нестерпимую боль огромным волевым усилием. Врачи не могли установить причину заболевания. Вспоминая все это, я благодарю Господа за мое призвание к вере через такую вот мучительную болезнь. Я ведь не мог бегать со своими сверстниками, не мог играть ни в какие подвижные игры. Летом мама выносила меня во двор, сажала на стул и до вечера я наблюдал, как мальчишки носятся ватагой, придумывая всякие забавы. В силу этой телесной недвижимости во мне развивалась некая умозрительность. Как мне помнится, лет в шесть меня начала волновать тайна смерти, я искал ответ на непонятный для моего детского возраста вопрос: что такое смерть, что следует за ней. Мы жили недалеко от Самотечной площади, там, где сейчас подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В 3-м Лаврском переулке стоял наш двухэтажный деревянный дом с густонаселенными квартирами. В нашей пятикомнатной коммуналке проживало 32 человека. Люди разного возраста, много пожилых, и похороны были довольно часто. На своих скрюченных ногах я подходил к гробу, всматривался в лицо усопшего, чтобы понять, что там, по ту сторону жизни! Я не думал о выражении лица покойного, я силился уловить ту самую грань, которая разделяет жизнь и смерть. Мне хотелось заглянуть дальше, в глубь этой тайны. Мой детский разум не мог смириться, что со смертью наступает полное небытие.
В четырнадцать лет я вступил в комсомол. Был активистом. В нашем клубе юных коммунаров мы стремились к бескорыстному деланию добра, служению людям. Но от этого я не получал удовлетворения. После окончания школы я вышел из комсомола не по религиозным мотивам, а потому, что чувствовал некую неудовлетворенность: душа моя искала чегото другого. Я стремился к любви, к ее воплощению, и это постоянно толкало меня к поиску. Была любовь к родителям: у нас очень добрая семья. Сейчас я понимаю, что Господь призывал меня и готовил к пастырскому служению. В семнадцать лет мне приснился удивительный сон, я его очень хорошо запомнил. Я один в лесу катаюсь на лыжах, оказываюсь на поляне, посредине поляны стоит церковь с покосившимся, как мне показалось, куполом. Когда я посмотрел на входную дверь, то заметил, как от храма отошли три седобородых старца. Непреодолимая сила повергла меня пред ними на колени. Все они меня благословили. До этого я никогда ни перед кем на колени не вставал, со священнослужителями знаком не был. Старцы пошли дальше, я же попытался их догнать, но они стали невидимы. Когда позже я рассказал об этом видении моему будущему крестному отцу (крестился я в двадцать лет), он усмотрел в этом указание на мое будущее пастырское служение Богу — Пресвятой Троице.
На мое духовное развитие огромное благотворное влияние оказал насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Матфей (Мормыль †2009), архимандрит, регент знаменитого лаврского хора.
Отец Матфей принадлежит к числу известнейших регентов в Православной Церкви. Имя его известно не только в России, но и за ее пределами, в странах, где приходилось выступать лаврским хорам. Архимандрит Матфей, самозабвенно любящий хоровое пение, — прекрасный педагог, является профессором Московской Духовной Академии, горячо любимый всеми учащимися МДА, поющими у него в хоре.
Творческий дар о. Матфея поражает размахом и многообразием деятельности: инок Троице-Сергиевой Лавры, один из наиболее активных руководителей православных хоров, участвующий в развитии хорового регентского искусства, даровитый педагог, профессор Московской Духовной Академии, снискавший преданную любовь среди семинаристов.
Тем, кто обращался к отцу Матфею за советом, он всегда помогал, мудро наставляя, благочестиво, с чувством юмора, подсказывая. Иногда шутливый тон, гораздо уместнее строгого наставления — в этом и заключается дар педагогического воспитания: чтобы обличить кого-либо в грехах или нерадивом отношении к клиросному послушанию, иногда применяется в качестве лекарства и чувство юмора.
«Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите». (1Фес.5:16–18) — написано в Новом Завете. Святой Антоний Великий говорил об шутливом тоне в жизни монаха: «Тетива лука не может быть всегда натянута, — постоянного напряжения древо не выдержит. Иногда тетиву должно и приспустить». Таким образом, даже иноческая душа, находящаяся всегда в напряжении внутренних сил, по словам святого, должна порой получать ослабу. Безгрешный тонкий юмор, благодушная шутка были уместны в жизни даже самых строгих подвижников.
Часто мудрая шутка, которая отличается от прямого нравоучения, заставляет человека задуматься, приложить к себе самому содержание шутливого высказывания, посмотреть на себя со стороны и сделать соответствующий нравственный вывод.
Я был неоднократным свидетелем благодушных, радостно-шутливых замечаний отца Матфея своему хору:
— «Вы поете, как католики в рай входят».
— «Предупреждаю, здесь на клиросе повышенная радиация».
— «Вы, батюшка, отец Матфей, наш светильник», — «Не светильник я, а коптильник».
С заботливостью, неисчерпаемой добротой взращивает отец Матфей всякую душу, в какую ему удалось заронить семена и искорку Божией любви.
Восемнадцатилетним юношей я приезжал к нему со своими многочисленными вопросами. Мы много беседовали, он всегда внимательно меня выслушивал, что-то советовал. В чем-то внутренне я с ним не соглашался, думая, что монах не может разбираться в мирских житейских делах. Но насколько же он был мудр и терпелив! Я верю, что именно по его молитвам в конечном итоге я пришел к Богу.
Тогда я стремился постичь Господа умом, верил, что мир развивается до бесконечности, а бесконечность — это и есть Бог. До девятнадцати лет меня захватывали различные творческие порывы. Я искал себя. Окончил школу с физико-математическим уклоном, писал стихи, учился на курсах телевизионных режиссеров. Работал на телевидении. После этого работал экскурсоводом в Шереметьевском художественном музее в Останкино. Меня интересовало все! Но никакие достижения науки и искусства не могут быть сопоставимы со спасением одного единственного человека. Вот человек думает о самоубийстве. Но если ты сможешь физически и морально помочь ему, то ничто в мире с этим сравниться не может…
Когда мне исполнилось восемнадцать лет, я заявил, что буду священником. Несмотря на то, что родители очень меня любили, мне было сказано, что если я пойду учиться в семинарию, они от меня отрекутся. К этому времени я прочел все Евангелие и понял, что для спасения своей бессмертной души надо всю оставшуюся жизнь готовиться к жизни вечной. Через подвиг любви не только к Богу, но и к ближнему, как к самому себе. Это было то, о чем я думал раньше. Проявление любви к человеку погибающему и есть самый высочайший плод, который может принести человек, живущий на земле. Я переживал и чувствовал это своим околорелигиозным сознанием. Я принял твердое решение немедленно креститься. Моим крестным отцом был очень образованный духовный человек, до революции закончивший университет. Крестили меня в Переделкино на Патриаршем подворье, во взрослой купели. Священник ни о чем не спрашивал, не исповедовал, просто крестил. В то атеистическое время батюшкам не разрешалось общаться с молодежью. Я не понимал, что надо мной совершается великое Таинство. Но помню только то, что при трехкратном погружении в купель я испытал такую великую радость, какую не испытывал никогда — ни до крещения, ни после него, и которую, к сожалению, очень быстро растерял, как мне кажется, потому, что у меня не было духовного руководителя, который своими советами помог бы мне сохранить эту благодать Божию. Крестный отец пригласил меня в первый раз в Псково-Печорский монастырь. Там я познакомился с иеромонахом Иоанном (Крестьянкиным, ныне архимандритом) и игуменом Саввой, духовником братии (будущим схимником; †1978). Они никогда не отказывали мне в своих беседах, я получал от них отцовскую любовь и попечительство.
Эти монастырские встречи определили мою дальнейшую жизнь.
Старцы — эти носители благодати Божией — явление необыкновенное, впечатление от общения с ними на всю жизнь сохранилось в моем сердце. Не я открыл их, а Господь по великой Своей любви открыл их для моего будущего.
Игумену Савве я принес свою первую в жизни исповедь. Я ничего не скрывал, понимал, что пред Богом нельзя ничего скрыть, ибо Он знает весь наш путь в прошлом, настоящем и будущем. Был страх Божий, трепет: ничего не видишь, не чувствуешь, стоишь, как перед судьей, от которого зависит твоя дальнейшая жизнь, помилование или смерть, поскольку грех свой сознаешь. Игумен Савва мне сказал: «Господь готовит вам широкое поприще». Но до священства еще было девять лет. Отец Иоанн (Крестьянкин) подтвердил это призвание.
Отец Серафим (Тяпочкин) говорил: «Если есть на ком Божие помазание на священство, то никуда от этого не уйдешь». Мне было двадцать два года, разве можно было тогда с уверенностью сказать, что в дальнейшем я не сверну в сторону, не уклонюсь от исполнения заповедей Божиих. Мог ведь и разочароваться в христианстве. Сам я человек грешный, и на пути встречаются люди разные, в том числе такие, которые могут отвести в сторону от избранного направления. Но старцы молились, и Господь меня хранил. Я ушел с телевидения, затем из музея, стал алтарником в храме Иоанна Воина.
Через три месяца уполномоченный по делам религий потребовал от настоятеля моего увольнения. Переходя из храма в храм, я продолжал свое алтарническое служение. В тридцать лет меня рукоположил во пресвитера архиепископ Курский и Белгородский Хризостом (Мартишкин, ныне митрополит Виленский и Литовский). Владыка направил меня на приход в храм Трех Святителей в поселок Стригуны Борисовского района Белгородской области, в пятидесяти километрах от Ракитного, где служил отец Серафим.
Близость наших приходов давала мне возможность общаться с батюшкой. Я был поражен его любовью. Когда исповедуешься, бывает стыдно за свои грехи, особенно пастырю, который должен быть образцом праведности, примером исполнения заповедей Божиих. Но исповедоваться отцу Серафиму всегда было легко. В том, как он слушал исповедь, не было ни упрека, ни осуждения, а только всепрощающая любовь. Батюшка, несмотря ни на какие греховные падения, продолжал любить человека, как образ и подобие Божие, и глубоко сострадал кающемуся. Я особо все это чувствовал, исповедуясь у старца. Для меня, молодого священника, это были первые уроки пастырской любви к ближнему.
Если отец Серафим не выходил на службу по болезни, то обязательно молился в келье. Как-то я приехал в Ракитное, а на дверях у батюшки висит замок. Постучал, заглянул в окошечко и увидел старца, сидящего с горящей свечой в руке. Он вычитывал не только монашеское правило, но, по всей видимости, и вечернее богослужение. Он был непрестанным совершителем годичного круга богослужений. Даже тогда, когда он на сутки уезжал в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, то брал билет в купе и там продолжал молиться.
В праздник преподобного Серафима Саровского я был у батюшки на именинах. В спешке не захватил для него подарок. Поздравляя его, я со смущением сказал: «Простите, батюшка, я не привез вам подарок», на что он мне кротко ответил: «Сыне, даждь мне сердце твое» (Притч.23:26.) Будучи сам воплощением любви, он ожидал и от нас проявления любви. Не навязывая своей воли, вел нас ко спасению, направляя наши пути к Богу.
Как-то мне поручили передать батюшке письмо. Я дважды забывал его взять с собой. И когда при встрече сказал ему об этом, старец стал сокрушаться: «Ну как же так? Вы уже во второй раз забыли привезти письмо. Я так его жду!» В его голосе не было раздражения или негодования. Все сказано было с какой-то мольбой. В этих словах проявилось его болезнуюшее пастырское сердце, жаждущее помочь вопрошавшему. Мне было стыдно и больно, что батюшка глубоко скорбел. Для меня это было уроком на всю жизнь.
Ко мне, молодому тогда священнику, пришла в храм бабушка с девятилетней внучкой. Во время исповеди я спросил девочку, верит ли она в Бога. «Нет», — ответила она. Я по своей неразумной ревности сказал: «Пусть родители тебя наставят в вере, а потом приходи, я тебя поисповедую и причащу». После этого в моем сердце появилось смущение и беспокойство. При встрече с отцом Серафимом я спросил его, правильно ли я поступил. Он ответил: «Батюшка, вам надобно было девочку катехизировать и прямо во время службы поисповедовать и причастить». Это было для меня еще одним уроком. Я с глубокой осторожностью стал относиться к людям, которые впервые переступают порог храма, делая робкие шаги на пути спасения.
Мой знакомый психиатр, доктор медицинских наук, специалист по шизофрении, оппонировал известному психиатру А.В. Снежневскому по проблемам диагностики этого заболевания. В те времена инакомысляших привлекали к суду за их политические убеждения. Бывало, что ставили диагноз — шизофрения и содержали в учреждениях закрытого типа. Будучи верующим, православным, он спрашивал меня, какое влияние на эту болезнь оказывают злые духи. Я не взял на себя смелость ответить на вопрос и предложил ему поехать к отцу Серафиму. В храме у батюшки было очень много больных, одержимых злыми духами, и, по молитвам старца, Господь посылал страждущим облегчение. В беседе с батюшкой врач задал ему свой вопрос, и отец Серафим сказал: «Мне достаточно коснуться руки человека, чтобы почувствовать, бесноватый он или нет. Сейчас мало бесноватых, все больше психические больные».
В последние годы, перед кончиной, батюшка часто болел. Он страдал не столько физически (эту боль он переносил спокойно), сколько переживал, что по своей немощи не может принимать жаждущих его окормления людей. Своим чутким сердцем он глубоко воспринимал страдание каждого человека.
Отец Иоанн (Крестьянкин) благословил меня совершить одно дело, касающееся лично меня. Не то чтобы я сомневался, но как-то сказал об этом отцу Серафиму. Батюшка ответил: «Это сейчас не произойдет, а исполнится к концу вашей жизни». Так до сих пор это и не совершилось. Отец Серафим видел мое будущее, как и прошедшее. Сколько я после его слов не употреблял усилий для исполнения задуманного, все было безуспешно. И я твердо верю, что все произойдет по слову старца — в конце моей жизни.
Я благодарен Господу за его милость ко мне, недостойному, за то, что Он даровал мне встречу с великим молитвенником земли нашей. Милостью Божией и молитвами старцев мой старший брат Анатолий стал священнослужителем. Сестры: Людмила и Марина приняли святое крещение и стали глубоко православными, ревностными христианками. Молитвами архимандрита Серафима помилуй нас, Господи!»
Бог даровал мне счастье общаться со старцами
Уходят в мир иной Божии люди, те, кто жизнью своей засвидетельствовали, что они истинно Божии и таких людей остается все меньше и пустеет мир.
Своими воспоминаниями об отце Иоанне (Крестьянкине) и старцах делится настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках протоиерей Владимир Волгин.
Моя встреча со старцем Иоанном (Крестьянкиным) состоялась тридцать семь лет назад, в 1969 году. Незадолго до нашей личной встречи с ним, когда мне было двадцать лет, я не знал, что такое старчество, и со старцами знаком не был.
Родился я в интеллигентной, но атеистической семье. Родители-атеисты в первом поколении — и нас, детей, воспитывали в том же духе. Книг духовных мы не читали, их в нашей стране было очень мало. Они у нас не издавались, и то малое количество, что приходило из-за рубежа, к нам не попадало. Даже душеполезной светской литературы издавалось очень мало, и та была издаваема небольшими тиражами.
Я пришел к вере, когда мне было двадцать лет. Крестили меня в Переделкино, на Патриаршем подворье, во взрослой купели. Священник ни о чем не спрашивал, не исповедовал, просто крестил. В то атеистическое время священникам не разрешалось общаться с молодежью. Я не понимал, что надо мной совершается великое Таинство. Но помню только то, что при трехкратном погружении в купель я испытал такую огромную радость, какую не испытывал никогда — ни до крещения, ни после него, и радость эту, к сожалению, очень быстро растерял, как мне кажется потому, что у меня не было духовного руководителя, который своими советами помог бы мне сохранить эту благодать Божию.
Но тогда я вообще ничего не понимал. Ничего не знал ии о пути Христовом, ни о священниках. Душа моя чувствовала людей, которые могли бы мне указать этот путь, но за ревностное служение и общение с молодежью светские власти могли лишить священника регистрации и запретить в священнослужении.
И было очень немного священников, достаточно известных, которые безбоязненно собирали вокруг себя многих молодых людей, интеллигенцию Москвы и других городов.
Примерно через полгода мой крестный отец Глеб Сергеевич Лапшин, выходец из дворянского сословия, который еще в 1917 году закончил филологический факультет Московского университета, человек высочайшей культуры и всестороннего образования, пригласил меня поехать в Санкт-Петербург (тогда этот город назывался Ленинград), в Пушкинский заповедник, где Александр Сергеевич проводил время в ссылке, где покоится и поныне его прах в Святогорском монастыре, потом посетить Псково-Печорский Успенский мужской монастырь, где живут старцы.
Хочешь видеть земной рай?
В край Печорский поезжай.
Есть обитель там святая
Многих в жизни утешает,
— писал о Печорском монастыре монах-паломник.
Там я познакомился с иеромонахом Иоанном (Крестьянкиным), схиигуменом Саввой. Они никогда не отказывали мне в беседах, от них я получал отцовскую любовь и попечительство. Старцы эти — носители благодати Божией — явление необыкновенное, впечатление от общения с ними на всю жизнь сохранилось в моем сердце. Не я открыл их, а Господь по великой Своей любви открыл их для моего будущего. Старчество, когда-то рожденное в России, оставило яркий глубокий след в религиозном сознании нашего народа. Живо оно и в наши дни. Именно на Русской земле возросли Оптинские старцы, старцы Глинской и Саровской пустыней, Задонского монастыря и многих других обителей и городов необъятной России и снискавшие славу во всем православном мире. Старчество имеет древнюю природу и уходит корнями в раннюю историю христианства. Можно сказать, начало его идет с апостольских времен и отцов-пустынников Египта и Палестины, восточного монашества… В своем Первом послании евангелист Иоанн Богослов обращается со словами: «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала; пишу вам юноши, потому что вы победили лукавого… В третьем послании он обращается к возлюбленному Гаю словами: старец (говоря о себе) возлюбленному Гаю…»
От преподобных Киево-Печерских Антония и Феодосия, преподобных Сергия, Серафима Саровского, Оптиной пустыни, основанной в XVI веке, и возрожденной в конце XVIII столетия. Именно в Оптиной пустыни получает известность русское старчество — новое духовное явление, берущее начало во многих местах России.
Старец — это духовное состояние человека. Старцы это те, которые водимы Духом Святым, которые действительно познали Сущего от начала. Старцы, это те, кто носит в себе Господа Любви и поступающие по Его любви ко всем людям. Этим талантом Господь обильно наделил отца Иоанна (Крестьянкина). Батюшка искренне отверзал свое любящее сердце каждому человеку, нуждающемуся в его пастырской помощи и советах.
Старческое служение отец Иоанн сравнивал с отцовством, считая, что призвание духовника — помочь человеку нравственно возродиться, раскрыть в себе образ Божий и указать ему путь к подобию Божию. Батюшка обладал прозорливостью и даром рассуждения, столь редким в наше время.
Что отличает старцев от простых мирян, это то, что они всегда, несмотря на социальное положение человека, во главу угла ставили любовь к человеку, как творению Божию. Апостол Павел писал: «Если я говорю языками человеческими и Ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая, или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви — то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, — нет мне в том никакой пользы (1Кор.13:1–3).
Мы должны понимать, что мы призваны создать мир и охватить его любовью, все дальше, оставляя свободу тем, которые не хотят быть наследниками Царствия Божия. Все охватить любовью мы не сможем, но тех немногих, кого мы любим: наших близких, дальних, наших друзей, соседей мы должны любить Его любовью.
Истинные старцы были носителями истинной Христовой любви. Они всегда старались скрывать свои духовные дарования, никогда их не выставляли напоказ. Когда мы спросили у отца Иоанна (Крестьянкина): Батюшка, Вы старец? Он ответил: «Я не старец, а старик». Благодать, которая наполняла старцев, не могла скрываться только в них, она расплескивалась, потому что переполняла их чашу души любовью на всех тех, которые соприкасались с ними в связи со своими нуждами и переживаниями.
…Когда мы приехали в Псково-Печерский монастырь, я не помню тогда своих впечатлений об отце Иоанне. Мне потом говорили: ты же видел отца Иоанна? Я отвечал: да, видел. Но даже вспомнить его лица я не мог.
Помню игумена Савву (Остапенко, 1898–1980), он в будущем стал схимником. Великий был старец. Он первый мне из всех священников, с которыми я до него встречался, предложил подробно написать генеральную исповедь за все прожитые мною годы, начиная с семи лет до настоящего времени, а мне в ту пору было двадцать.
Большое значение придавал письменной исповеди и старец схиархимандрит Игнатий (Лебедев, 1884–1938), в 2000 году прославленный в лике святых. Незадолго до ареста (1935) власти запретили ему служить и принимать у себя для исповеди своих духовных чад, что фактически означало домашний арест. Он исполнял послушание, чтобы не нарушить мир душевный. Но, как исключение, до конца своих дней общался с монахиней Игнатией (Пузик, 1903–2004). «Она погибнет без откровения, ей необходимо много и подробно писать» (о своих грехах), — говорил батюшка.
В Таинстве Крещения святая вода смывает только первородный грех наших прародителей. Я же перед крещением не исповедовался, потому что меня этому никто не научил. Священники меня не исповедовали. Если человек не исповедовал грехи, то они, может быть, не в такой степени, как язвы, но как болячки сохраняются в нашей душе, и только в искреннем, чистосердечном покаянии в Таинстве Крещения святая вода вымывает наши болячки. Не нужно скрывать из-за ложного стыда свои грехи и помыслы, не доверять своему мнению в своих суждениях о помыслах и своих грехах. Считать худым или добрым только то, что старец признает таким. Если мы по гордости или стыдливости скрываем на исповеди от духовника, то это ясный признак дьявольского внушения. Первая заповедь Нового Завета — покаяние (Мк.1:15). Без покаяния благодатная жизнь недостижима, только покаянием грешная душа входит в новую жизнь. Покаянием душа обретает благодатную веру: в труде очищения сердца оживают внутренние чувства, которыми душа и воспринимает внутреннюю духовную жизнь, воспринимает Евангелие. Грех каменит сердце, умерщвляет те органы чувств, которые способны воспринимать духовную благодатную жизнь. Схиигумен Савва говорил: «самое страшное — это когда не имеем нужды в покаянии, возомнив о себе, что правильно и что спасительно без покаяния. Как бы мы не жили правильно и свято, мы не можем совсем не грешить, пока живем в теле, поэтому нас никогда не должно покидать покаянное чувство».
Я без утайки написал отцу Савве искреннюю исповедь. Я писал все о себе, словно стоял перед судом Господним. Я испытывал безграничное доверие к этому батюшке, у меня не было удерживающего страха. Мое сердце чувствовало не грозного обличителя, а любящего отца.
Отец Савва сказал: «Вот я прочитал твою исповедь, и хочу дать тебе первое послушание (епитимью). Вот это удивительное послушание, которое я советую исполнять всем приходящим ко Христу. Это ключ к стяжанию любви. Я тебе даю послушание, которое тебе покажется очень незначительным. На самом деле это — делание всей жизни. Никогда не осуждай людей». Я мало-помалу (как ребенок делает первые шаги, падает, поднимается, иногда плачет, ушибшись, делает шажок и опять падает), конечно не в полную меру и силу старался и стараюсь не осуждать людей. И я понял, что это есть заповедь, которая была дана старцем мне, а он был (тоже) великий старец, к нему стекалось огромное количество людей. Когда в следующие разы я приезжал в Псково-Печорский монастырь и подавал ему свою исповедь в конверте, он, не читая, отвечал мне на все мои вопросы с такими подробностями, что было видно, что он знает все тайны моей души, и сразу же читал надо мной разрешительную молитву. И вот эту заповедь: не осуждай людей, я стараюсь хранить. Эта безусловная заповедь, ведущая человека-христианина по пути любви к людям, а, значит, и ко Христу.
В следующую мою поездку в Псково-Печорский монастырь, я познакомился с иеромонахом Иоанном (Крестьянкиным). Меня поразила в нем непостижимая бездна любви. Он меня сразу же согрел своей любовью. Я был окутан небесной теплотой, исходящей от него. Чувствовали его любовь и все те, кто видел его даже на расстоянии.
Любовь человеческая, она отличается от небесной любви, так или иначе она связана с какими-то требованиями. Насилием над душой, подчинением себе. Любовь Божественная всегда оставляет за человеком невероятную свободу выбора. А с другой стороны, ты купаешься в этой любви.
Старцы — это люди, стяжавшие святость, совершенство духовное, любовь, а вместе с этой любовью рассудительность, прозорливость, дар исцеления и другие дары Духа Святого. Я думаю, что для всех старцев, которых я встречал в своей жизни, не было никаких тайн, даже тогда, когда они в первый раз встречались с человеком. Они прозревали сердце человека до его глубины. Они видели и (как на рентгене видит врач пораженные и здоровые места больного) все плохое, что человек сделал и все прекрасное, к чему он стремится. Они всегда опирались на это прекрасное и возбуждали человеческую душу, как врач-реаниматор возвращает к жизни остановившееся сердце тяжелобольного, к тому, чтобы человек стремился все прекрасное в нем воплотить в жизнь. Святой Ефрем Сирин в одном из своих произведений говорит, что когда Бог творит человека, он вкладывает в сердцевину его существа все Царство Божие, и задача жизни заключается в том, чтобы копать, копать, пока не дойдешь до той глубины, где находится этот клад. Я стал ездить в Псково-Печорский монастырь с каждым годом все чаще и чаще. Всегда старец Иоанн согревал своею любовью, своими ненавязчивыми советами. Когда мне было двадцать два года, во время беседы со мной он улыбнулся и сказал (тогда я не знал и не думал, что те слова, которые он произносил, были связаны с его предвидением моей будущей жизни): «Вот Владимир, если ты женишься, то будешь хорошим приходским батюшкой, а если не женишься, то будешь монахом, в дальнейшем архипастырем». После этого я еще восемь лет мучился над вопросом: жениться мне или нет. Женился я, когда мне было тридцать семь лет.
Обычно отец Иоанн не торопился давать благословение на вступление в брак. Поспешность здесь не приемлема и вредна, и только когда желающие заключить семейный союз достаточно хорошо узнают друг друга (а это не менее трех лет), давал свое благословение. Мы с моей будущей супругой до вступления в брак встречались пять лет. У нас были каждодневные конфликты, это ссорой не назовешь, но вдруг чувствуешь в сердце глубокое огорчение. И не понимаешь, откуда оно пришло? Я никогда не слышал, чтобы она когда-нибудь повышала голос. Но тем не менее, эти конфликты имели место. Они травмировали мою и ее душу. Мы раза два разлучались с ней на достаточно продолжительное время, думая, что мы уже никогда не будем вместе.
Мы несколько раз ездили к отцу Иоанну с вопросом о нашем браке. Но он всегда отодвигал его, говоря, что любовь должна светить, как солнце, а моему старшему брату Анатолию (ныне священнослужителю) говорил о нас: «Приезжают ко мне два философа и рассуждают о любви. А философствовать в отношении любви нельзя. Нужно любовью светиться.» Вот почему у нас возникали на ровном месте трудноразрешимые проблемы во взаимопонимании. Я рассматриваю их, как борьбу за власть, за первенство между молодым человеком и девушкой. Сейчас, к сожалению, время, когда женщина стремится в семье занять главенствующее положение, что приводит к неустройству и заканчивается плачевно для молодой семьи. Когда мы в очередной раз разошлись, мне встретилась одна девушка, которая, как мне казалось, соответствует моему идеалу. У нас появилась друг к другу симпатия, возникло взаимопонимание. Но вдруг каким-то невероятным образом мы снова встретились с моей будущей супругой. Она дала согласие после многих моих предложений стать моей женой. Это не были отказы, просто когда я делал ей предложения, она просила меня повременить до другого времени, а тут она вдруг поняла, что я именно тот, кто ей дорог и близок. Мы знали, что есть духовники, которые благословят нас. Но я решил поехать к отцу Иоанну, предполагая, что батюшка, как и в прошлые поездки не благословит нас на вступление в брак. При этом я подумал, а вдруг он вопреки моему желанию, все-таки благословит жениться, хотя вероятность этого составляла один процент, думал я. Что же я тогда буду делать? Это будет для меня драмой. Но я решился поехать к отцу Иоанну с тем, чтобы обязательно, во что бы то ни стало, исполнить его благословение.
— Правильно, что вы приехали ко мне, как к старцу, — впервые сказал батюшка, и начал иносказательно рассказывать о всех наших переживаниях и разногласиях. — Одни будущие супруги желали создать счастливую семью, но у них ничего не получалось. Юноша искал идеальную невесту. Их духовник сказал ему: поступай, как благословит тебя мать. Но его мать отказывала ему в благословении и только одну благословила. Я понял, что старец говорил обо мне. Это была моя будущая матушка Нина. Батюшка нас благословил. Женился я, когда мне было 37 лет. Через два месяца рукоположился во диаконы, потом во священники. Что тогда противоречило идеологии советской власти, преследующей таких, как я, и всеми путями старающейся запретить принимать священство. Совершилось на глазах явное чудо, подтвердившее слова старца Иоанна. Если бы я не женился, то по особому промыслу Божию, Господь привел бы меня к первому пророчеству архимандрита Иоанна (Крестьянкина), о котором я никогда не мечтал и не думал даже помышлять. Общаясь с батюшкой, я по крупицам постигал его мудрость и старался следовать его советам в своем пастырском служении.
Мы с матушкой на протяжении многих лет по несколько раз в год приезжали к нему, задавали множество вопросов. Батюшка всегда отвечал на них, и мы всегда уезжали от него радостные и окрыленные. Но вот наступило время, когда старец потихонечку начал меня воспитывать. Как проходило это воспитание: однажды, стоя в алтаре я думал: сейчас я подойду к нему и он , как прежде, обнимет, обласкает и примет своею любовью. Но вдруг отец Иоанн целует меня в одну щеку и говорит: «Здравствуй», — целует в другую, — «и прощай», при этом разворачивает меня в другую сторону достаточно сильными руками. Я чувствую его крепость, а ему уже было за семьдесят лет, и еще подталкивает меня в спину. Мне было очень обидно. А он уже уходил в другую сторону алтаря к совершенно незнакомому священнику, который, может быть, в первый раз приехал в Псково- Печорский монастырь. Я ревниво смотрел в их сторону и эгоистически думал: «как же так? Я его духовный сын, а он оставил меня и обнимает своей Божественной любовью другого». И так продолжалось в течение нескольких лет. Таким образом старец воспитывал у меня смирение, терпение и понимание. В то же время он никогда нам с матушкой не отказывал в общении и отвечал на все наши вопросы. Это продолжалось до тех пор, пока я не почувствовал, что я, по милости Божией, наполнен всем тем, что старец давал всем нам. Как только я это понял и осознал, он перестал отталкивать меня от себя.
Отец Иоанн был скромным батюшкой, он никогда не называл себя старцем. Не только я, но и многие мои собратья, окормлявшиеся у него, видели в нем рассудительность и мудрость от Бога и непоколебимую веру в Промысл Божий о каждом из нас, ведущий нас ко спасению.
Батюшка говорил: «Забудь себя и свое я, поставь в средоточие жизни своей того человека, которому нужна твоя помощь, материальная ли, духовная ли. Поставь в средоточие жизни того, кому нужен ближний, и стань им ты. Иди и ты поступай, как учит Господь. Иди и ты твори добро всякому нуждающемуся в нем, невзирая ни на происхождение человека, ни на что. Иди и твори добро, и ты исполнишь заповедь любви. Делай добро от сердца, делай его во имя Бога всем братьям твоим в Боге, делай добро и врагам, делай добро ненавидящим и обидящим тебя. Это очень трудно, но ты исполнишь заповедь любви. И любовь к ближним сделает тебя близким к Богу, и ты исполнишь закон Христов и спасешься. Пусть каждый человек, которого посылает тебе сегодня, сейчас Господь на жизненном пути, станет самым важным, самым дорогим и самым близким для тебя. Согрей его душу теплом своей любви — и это есть жатва, приносящая плод в вечность…
Вопрос о сострадании, милосердии и любви во все времена был актуален, а сейчас вырастает в первостепеннейший, главнейший вопрос жизни. Ибо только милосердием и любовью можно стяжать Святой Дух Божий, которым только и можно противостоять духам злобы, овладевшими людьми и миром.
По милости Божией и молитвам отца Иоанна я встречался со многими старцами. Отец Иоанн благословил меня на священство.
Всего не опишешь, что для меня в начале пастырского пути значил отец Иоанн, его руководство в моем священническом служении, помимо того, что я находился за сотни километров от него. Он благословляет меня, я бы сказал, перепоручил меня батюшке Серафиму (Тяпочкину, 1894–1982) — пастырю любви и смирения. Это произошло, когда я принял свой первый приход — Трехсвятительский храм в поселке Стригуны Борисовского района Белгородской области. Знаменитый старец архимандрит Серафим служил в Никольском храме в селе Ракитное в пятидесяти километрах от моего прихода. Близость наших приходов давала мне возможность общаться с этим удивительным батюшкой, полным глубокой любви и смирения.
Для меня, тогда молодого священника, это было милостью Божией, ко мне, и большим духовным опытом в моем пастырском служении. Отец Серафим никогда не говорил лишних слов. В этой тишине общения с ним можно было распознать благодатные дары Святого Духа. Приведу один пример из святоотеческих преданий. Некий человек пожелал напитаться у одного старца, блистающего своей святостью, чистотой и назиданиями. Пришел он к нему и прожил у него три дня. Все это время старец молчал. Что же ты молчишь? — спросил он. На что тот ответил: «Если ты не понял моего молчания, как ты поймешь мои слова?» Я думаю, что молчание и немногословие старца Серафима заключало гораздо большую благодать, чем слова любого человека, благочестиво многоговорящего.
Одно удивительное событие связано с именем старца Серафима (Тяпочкина).
В 1956 году случилось то, что потрясло весь православный мир — знаменитое чудо «Зоино стояние» в городе Куйбышеве (ныне Самара). Более сорока пяти лет назад отец Серафим (тогда отец Димитрий) упоминается как участник тех событий. Напомним кратко о тех далеких событиях пятидесятилетней давности.
Зоя в Рождественский пост решила с друзьями встретить Новый год. Играла музыка, молодежь танцевала, ее жених Николай задерживался. Обиженная Зоя сняла с божницы икону Святителя Николая и сказала: «Если нет моего Николая, потанцую со святым Николаем». На увещевание подруги не делать этого, она дерзко ответила: «Если Бог есть, пусть Он меня накажет!» С этими словами она, приплясывая, пошла по кругу. На третьем круге комнату вдруг наполнил сильный шум, поднялся вихрь, молнией сверкнул ослепительный свет, и все в страхе выбежали. Только Зоя застыла с прижатой к груди иконой, окаменевшая и холодная, как мрамор.
Ее не могли сдвинуть с места, ноги девушки как бы приросли к полу. При отсутствии внешних признаков жизни, Зоя была жива: сердце ее билось. С этого времени она не могла ни пить, ни есть. Врачи предпринимали всевозможные усилия, но не могли привести ее в чувства.
Зоя прожила 4 месяца (128 дней), до самой Пасхи, которая в том году была 23 апреля (6 мая по новому стилю).
Всех всегда волновал вопрос о связи отца Серафима с чудом «Зоиного стояния». И как-то я после нашей беседы спросил: «Батюшка, какое отношение Вы имеете к этому замечательному чуду, связанному с иконой Святителя Николая?» Батюшка не стал отказываться, но сказал достаточно твердо, насколько вообще он мог быть твердым в своем пастырском слове: «Не будем об этом сейчас»… И мне уже больше не хотелось его расспрашивать, искушать этого великого старца, зная, что многие мои собратья да и духовные чада старца неоднократно по разным причинам с ним об этом говорили. Но поскольку отец Серафим не дал отрицательного ответа, для себя лично я сделал вывод, что он был непосредственным участником в разрешении чуда «Зоиного стояния».
По милости Божией мне пришлось встречаться со старцем-исповедником архимандритом Таврионом (Батозским, 1898–1978), проведшим в тюрьмах и лагерях более пятнадцати лет. После кончины старца схиархимандрита Космы (Смирнова, 1885–1968) — духовника Спасо-Преображенской пустыни, отец Таврион в течение 10 лет был духовником насельниц Спасо-Преображенской пустыни в Елгаве в 40 км от Риги. Это был старец любви, обладал даром прозорливости. Проповедь он всегда говорил с закрытыми глазами и начинал ее со слов: чада, вы не представляете себе и не можете понять, обнять, осязать, какую любовь явил нам Господь. Он прозревал внутренние движения сердца человека, как свое собственное. Говорил он о Христе, о любви, об учениках — носителях Его любви. Говоря проповедь, он назидательно касался души почти каждого человека, стоящего в храме, открывая его тайные или явные грехи. Но так, чтобы человек не впал в уныние, а исправился. Каждый присутствующий понимал, что вот это слово он говорит именно о нем и для него, а не о ком-то другом. Призывал с решительностью отвергнуть от себя грех и пойти по пути Христовой любви. Вот таким образом проявлялась его прозорливость.
В чем отличие старца от священника? Прежде всего в обладании личным моральным и духовным авторитетом, личной харизмой: духовными дарами достигший духовной высоты, в опыт личного приобщения Божественной реальности. Он должен непременно обладать даром рассуждения, различия духов, так как ему все время приходится иметь дело со злом, стремящимся преобразиться в ангела света, но главное качество старца — любовь. Он не всегда может пророчествовать или обладать даром целительства. Он не обязательно должен мудрствовать. Но иногда достаточно просто взглянуть в глаза человеку Божию, достаточно просто тихо сидеть с ним рядом, как в душе наступит мир, и отступают тревоги. Блаженное молчание старца или совместная с ним молитва сделают больше, чем наставительные и поучительные слова. Наблюдение за тем, как он живет, может перевернуть нашу душу и исправить жизненный путь.
Однажды отец Иоанн сказал: «Ты уже взрослый и можешь решать все то, что связано с твоей жизнью». Я по тщеславию своему обрадовался, что появилась какая-то возможность свободы, самостоятельности. И тут появляются крылья, и ты расправляешь их или собираешься лететь. Полетели мы с матушкой на Кипр отдыхать, и так четыре года подряд. Кипр — православное государство. Мы чтили все праздники, ходили в церковь на богослужения в воскресные дни. В среду и пятницу соблюдали посты. В свободное время мы отдыхали. Прекрасная природа, теплое море, чистый воздух, постоянно светило солнце, небо все время без облаков. В последний раз я вернулся из отпуска, едва-едва переступая ногами. Наша сестра, духовная дочь Иоанна (Крестьянкина), поехала в Печоры к батюшке и просила его помолиться о мне, болящем. Тогда батюшка уже не принимал и всем отвечал на вопросы через келейницу. Она не знала, что я отдыхал на Кипре. Она передала ей слова старца: «Передайте отцу Владимиру, что если он еще раз полетит на Кипр, то вернется без головы»(пока у меня отнимались только ноги). Я понял, что это вразумление и запрет. После этого меня начали приглашать в гости друзья, близкие, которых я не видел десять и более лет: в Швейцарию, Англию, Францию. Я спросил отца Иоанна: «Может поехать навестить их?». Батюшка сказал мне: «А разве я не ответил на ваш вопрос, связанный с Кипром?» С тех пор мы с матушкой называем себя невыездными за границу, о чем мы и не жалеем.
В апреле 2001 года архимандриту Иоанну (Крестьянкину) исполнился 91 год. Как бы подводя итог своей жизни, делясь своим опытом, он писал: «Я свидетельствую и себе и другим, что Господь знает наше сокровенное и, по вере нашей и стремлению к истине, правит нашу жизнь, часто врачуя и исправляя то, что по неведению и непониманию может препятствовать исполнению воли Божией в нашей жизни. Я сдавал семинарские экзамены вообще без учебы, будучи уже в священном сане, а перед рукоположением был экзаменуем представительной комиссией при Московском епархиальном управлении.
Живое рвение к служению ходатайствовало обо мне перед Богом и людьми как о духовнике, и в то последнее время это было очень ответственно, серьезно и, скажу, опасно. Я отдался служению и в академии учился экстерном. И за полгода до ее окончания, когда уже была написана дипломная работа, Господь переводит меня на другое послушание — в заключение, к новой пастве и новому руководству. Помышлял ли я о таком проявлении воли Божией? Конечно, нет. Почему я это говорю. Предайтесь и вы истинной воле Божией, душой, не планируя сами ничего». Все совершается по молитве к Господу. Вот и продолжайте жить, реально ощущая присутствие Божие в своей жизни. Молитесь! Испытания-экзамены будут непременно, но в них увидим себя, чтобы иметь живое чувство к Богу и живое покаяние.
Жизни учит сама жизнь, а духовность обретаем как дар Божий на наш малый, но личный труд, а главное — искреннее желание постигать истину и жить в Боге. Почти всегда человек мыслями простирается в будущее, забывая, что реально он обладает только настоящей минутой, следующая уже не в его власти. И упуская в праздность время на грех, мы убиваем его, утрачиваем ценность человеческой жизни.
Промысл Божий бдит над миром. Бдит Он над судьбой каждого отдельного человека, бдит Он — непостижимо над бытием Своей Церкви, Своего тела и Своей невесты. Веры надо больше, больше, ее надо иметь нам, пастырям. Забывать свою самонадеянность, ум, ученость и дать место благодати Божией. Служение и сан есть добровольное мученичество.
Время, в которое привел нас жить Господь, наисмутнейшее, — смущение, смятение и неразбериха колеблют непоколебимое, но это еще не конец. Впереди еще более сложные времена.
А Церковь по обетованию Спасителя будет жить и совершать свое служение великое и спасительное до последнего дня жизни мира… Отступление попущено Богом: не покусись остановить его, немощною, рукою твоею… Устранись, охранись от него сам, и этого для тебя довольно. Познай дух времени, изучи его, чтобы по возможности избежать его влияния. Мы получили от Христа Спасителя нашего не учение только, но саму жизнь — жизнь не по стихиям мира сего, где господствует гордость и себялюбие, но жизнь по Христу с образом Его самоотречения и любви. И не забывайте, чада Божии, бессильно зло, мы вечны — с нами Бог.
И как здесь не удивиться и не задуматься над тем, почему такая милость Божия ко всем нам, современникам отца Иоанна? По воле Божией нам был послан человек, в котором жил Дух Божий, который был «светом миру», по слову Евангелия. Можно сказать словами апостола Павла, что «в нем любовь была непритворна». С детства он отвращался от зла, прилеплялся к добру, в усердии не ослабевал, духом пламенел, Господу служил, и со своей стороны был в мире со всеми и не желал никакими полученными от Бога дарами хвалиться и тщеславиться, и с благодарностью, терпеливо нес свой крест. Он часто говорил: «Храните Господа в жизни своей, и Он сохранит вас». Это не была самонадеянность — это была незыблемая вера. Он утверждал и повторял сомневающимся: «Бог — источник жизни, и в жизни надо иметь Бога основным стержнем». Унывающим и скорбящим отец Иоанн приводил слова апостола Павла: «всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите: ибо такова о вас Воля Божия во Христе Иисусе»(1Фес.5:16). Он по опыту знал, что слезы, труд, болезнь сердца неизбежны. Отвечая на многочисленные письма вопрошающим к нему, он писал: «Подвиг трудов окончен, осталось понести еще только подвиг болезни. Я думаю, что это самый ценный, многообещающий труд духовный, ведь ничто так не смиряет человека, как болезнь. Вот все от Бога, а значит, все во спасение».
Старцы — это небожители среди нас. Они видели Господа, познали Его волю о каждом человеке, обращающемся к ним. И не навязывали ее, а только иносказательно, притчами, открывали Промысл Божий о них.
Старцы — постоянные молитвенники за каждого человека, который встретился им или еще не встретился. Они молитвенники за весь мир.
Старцы проливают свою кровь за всех людей, жаждущих и страждущих спасения.
Старцы — это те, которые перестали грешить в человеческом понимании этого слова, познавшие Сущего от начала.
Конечно, только один Бог ведет и только Он один и может оценить духовный подвиг и уровень каждого из святых. Ибо святые не могут, да и не желали никогда сами оценить себя, так как они научились видеть только свои грехи, а не свою праведность. И никогда они не искали и не желали человеческих похвал и, тем более, земной славы.
Сами святые избегали человеческой славы, их прославляет теперь Сам Господь.
Господь сподобил меня общаться со старцем, архимандритом Ипполитом (Халиным, 1928–2002), духовником и настоятелем Рыльского Свято-Николаевского мужского монастыря.
…Люди ехали со всей России к смиренному любвеобильному батюшке и к святыням обители: чудотворной иконе Святителя Николая и святым источникам.
Отец Ипполит имел детскую веру и милующее сердце. Он возлюбил ближнего больше, чем самого себя. Он забыл о себе, чтобы помнить о других. Его по праву можно назвать пастырем любви и милосердия. Его любовь распространялась на всех: одиноких, брошенных, обездоленных, нелюбимых.
Отец Ипполит имел от Бога дар молитвы.
…В начале 90-х годов я служил в храме в честь иконы «Знамение» Божией Матери в селе Бегоща, в 25-и километрах от города Рыльска. В 1991 году Свято-Николаевский монастырь передали Русской Православной Церкви. Отец Ипполит 11 лет был бессменным его настоятелем, много трудов положившим на его восстановление. Рыльск — провинциальный уездный городок, численностью примерно 11 тысяч жителей. И с точки зрения человеческой, восстановить монастырь силами этого района или города было невозможно.
К тому времени повсюду возрождались церкви и монастыри. Епархия направляла все свои средства на восстановление храмов и центральных монастырей (Курский Знаменский, Курская-Коренная Рождества Богородицы пустынь). Люди состоятельные уже имели те церкви, которым они помогали и считали для себя затруднительным кому-то ещё помогать. Надежды на восстановление монастыря было мало.
Тем не менее молитвенный подвиг и непоколебимая вера отца Ипполита в помощь Божию и Его угодника Святителя Николая, привлекала очень многих людей к этому монастырю. Потому что это был человек зрящий, могущий вести людей, обращающихся к нему, по пути к спасению. К нему постоянно приезжала масса людей, от Хабаровска и Камчатки до С.-Петербурга и даже из дальнего зарубежья (автобусы с приезжающими не могли вместиться на территории монастыря, а люди в стенах храма) на соборование, отчитку, после чего он беседовал со всеми желающими и давал им такие многоценные советы, что большинство из этих людей, приехавших, может, в первый раз, переполнялись к отцу Ипполиту огромным доверием и искренней любовью. Они навсегда становились прихожанами этого монастыря и часто приезжая в монастырь, уже почти как в родной дом, они своим трудом и материальными средствами помогали его восстановлению.
…Монастырь вел самую настоящую христианскую работу: поил и кормил жаждущих и голодных, отогревал души унылых и отчаявшихся. А чтобы заниматься этим, нужна настоящая любовь Христова.
Отец Ипполит был настоящим утешителем. Он был немногословен и очень скромен, считал себя всегда ниже других. Он смирялся перед всеми — перед самым последним трудником и перед деревенской бабушкой…
Из всех путей выбирал самый смиренный. О себе он говорил: « Вот кто-то проповедует, а я вообще ничего не могу сказать. Я не умею ничего». Но он проповедовал примером собственной жизни. Это самая живая и самая действенная проповедь. На просьбы вопрошавших к нему он отвечал: «Помолимся» или « Молитесь Святителю Николаю и все управится». Многим такие слова казались отговоркой. Они рассуждали между собой: «Какой же это старец?», но он уже молился о них, и Господь слышал его и посылал им просимое. Об этом свидетельствуют многие люди.
Он даже обличал мягко, чтобы человек не впал в уныние. Однажды во время беседы с отцом Ипполитом я сказал ему, что, наверное, не сделал того-то и того-то по причине своей гордости. Я наивно думал, что отец Ипполит будет меня переубеждать, что я совсем не гордый человек, что во мне много смирения; я так надеялся, что он так скажет мне. А он ответил мягко, с любовью, говоря о гордыне, присутствующей во мне: «Есть ,говорит, немного». И вот это «есть немного» из уст великого старца и подвижника, каковым был, на мой взгляд, отец Ипполит, с одной стороны, прозвучало мягко, но, с другой стороны, обличило всю сущность моей души, сплошь наполненной гордыней и духом превозношения.
Отца Ипполита называли — «сама святая простота».
Батюшка был прост не только в плане человеческом, но он обладал и духовной простотой. Здесь я имею в виду, что человек всю свою жизнь посвящает Богу. В этом его простота и отличается от простоты других людей; в этой-то простоте и заключалась та соль, которой мы, христиане, должны стремиться стать.
Антоний Великий говорил: «Святые соединены с Богом своею простотою», и сам Господь призывал нас: «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф.10:16).
Есть много примеров, подтверждающих прозорливость отца Ипполита. Он этим даром безусловно обладал и, по возможности, старался скрыть его.
Когда мы с моей матушкой покидали Курскую епархию и приехали к отцу Ипполиту попрощаться, я сказал ему, что перехожу в Москву, на что он ответил: «Вы уезжаете поближе к Ельцину, будете ближе к Ельцину». Удивительным образом, так вот прозорливо… Ведь я оказался в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, который находится напротив Кремля на Софийской набережной. Получается, что отец Ипполит образно указал на место расположения храма и, можно сказать, на будущие отношения, связанные с людьми, поставленными на высокие ступени власти в структуре государства Российского…
Уходят в Горний мир Божии люди, но не погаснет свет, дарованный нам великими светильниками, память о старцах будет жить в сердцах православных людей многие века, каждый из них оставил свой след в истории.
Отшедшие ко Господу старцы живы. Они сами говорили об этом своим духовным чадам перед уходом в мир иной и подтверждают, что живы и слышат нас, молитвенно предстоят пред Господом за всех, кто с верой просит их помощи и заступничества.
Какие, Господи, святые у Тебя!
Какой же раньше нищей я была.
Не знала о сокровищах Твоих.
Как много, Боже, у Тебя святых!
Стихи Раисы Крюковой Москва 2007 г.
К 95-летию со дня рождения схииеромонаха Амфилохия (Трубчанинова)[114] 1917–2011, духовника Белоцерковской и Богуславской епархии УПЦ Московского Патриархата
…Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня если и умрет, оживет…
(Ин.11:25)
Не умру, но жив буду
Эта история произошла с иеродиаконом Николаем (Трубчаниновым, в схиме Амфилохием) — духовным сыном архимандрита Серафима — в 1987 году через пять лет после кончины старца.
В 1991 году отец Николай приезжал в Оптину пустынь. Пожилой, лет за семьдесят, человек, высокой духовной жизни, молитвенный, смиренный, он рассказал братии историю, происшедшую с ним четыре года назад, историю, которая является свидетельством вечной жизни и вечной смерти. Все это, как мы дерзаем предположить, имело место при молитвенной поддержке преставившегося старца, при непрекращающемся духовном общении отца Серафима со своим духовным чадом, пребывающим в земной юдоли. Духовник Оптиной пустыни схиигумен Илий благословил записать рассказ отца Николая для общей пользы. Вот его рассказ:
…«Когда вечером я читал молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного», ко мне в дом вошли двое. Услышав их шаги, я стал читать громче: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного». После этих слов кто-то из них произнес: «Сейчас помилует». И тут они ворвались ко мне в комнату, осветили фонариком мое лицо и сильно ударили по голове чем-то металлическим. Полилась кровь. Другой удар пришелся в лицо, так что захрустели все косточки. Схватив за волосы, разбойники стянули меня с кровати, начали бить головой об пол, потом ногами, и так избили, что, казалось, не было живого места. Но Господь не отнимал у меня сознания, и Иисусова молитва продолжалась: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного». Они чем-то замотали мне лицо, поясами туго скрутили руки и ноги, но я продолжал молиться, несмотря на сильную боль. Если бы не помощь Божия, то хватило бы и одного удара, чтобы покончить со мной. Но Господь дал им поиздеваться — это Он попустил за мои грехи.
Когда злоумышленники увидели, что я лежу недвижимый, как бы умерший, решили для пущей уверенности перерезать мне горло: я знал их в лицо, и им не хотелось оставлять в живых свидетеля своего преступления. Как только нож коснулся горла, совершенно неожиданно сверкнула молния. Свет был такой яркий, что я с закрытыми глазами увидел вспышку. При этом лезвие как бы наткнулось на непреодолимую преграду, аж все заскрежетало: нож шел, как по металлу. А у меня в этот момент промелькнула мысль: «не умру, но жив буду и повем дела Господни!» Горло перерезать не удалось, потому что сила Божия не допустила этого.
Потом меня два раза ударили ножом в грудь, но в сердце не попали. Хлынула кровь, они продолжали меня бить… И если бы не было помощи Божией, то как бы все это я выдержал?!
Я лежал с разбитой головой, тогда они ударили меня чем-то тяжелым, при этом моя голова как бы вдавилась в пол. В тот момент душа моя вышла из тела и сразу попала во тьму. Эта тьма была совершенно непроницаемая, на земле такой не бывает. Мне казалось, что я лечу не часы или дни, а годы. Ужасный трепет объял меня: не знал, где остановлюсь. Наконец тьма миновала, и мне открылся свет, но какой-то приглушенный, с нашим дневным светом его не сравнить: все было едва различимо.
Когда душа моя перемещалась по тьме, то слышался свист, с такой быстротой она летела. Когда тьма исчезла, то душа стала парить над бездной, как орел, поддерживаемая неведомой силой. А бездна была настолько страшная, душа так трепетала, что выразить это словами невозможно. Как бы ожидался конец, но он все не наступал. И мне показалось, что в пространстве бездны может поместиться вся Вселенная и все равно не заполнит его. Это страшно… Как это назвать? Ужасная бездна для грешников… мне казалось, что прошли годы, и возврата оттуда никогда не будет. Никаких мыслей не возникало, кроме одной: где остановится моя душа?
Вдруг показалась искорка, как от огня, маленькаямаленькая. Она летела как бы мне навстречу. И только она коснулась моей души, как сразу же возобновилась Иисусова молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного». Три раза я повторил ее слово в слово, а в остальное время, которое мне пришлось там быть, я только кричал: «Сыне Божий, помилуй мя, грешного». Кричал, как ребенок, взывающий к родителям о помощи: «Сыне Божий, помилуй мя!»
Вскоре при этих словах я стал как бы подниматься, впрочем, было не ясно, где верх, где низ, но душа почувствовала, что я устремляюсь вверх. И когда со словами молитвы «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий…» я достиг своего тела, то как бы по капелькам жизнь стала вливаться в меня, бездыханного, холодного, как льдина, лежашего на пороге у открытой двери. Понемногу я оживал, снова начал ощущать невыносимую боль в теле. Тогда я услышал, что мои истязатели еще «работали». Тихо, без слов, как подобает при мертвеце, рылись в моих чемоданах, с которыми я вернулся из Киевской епархии. Они думали, что коль я служил в храме, значит, приехал с деньгами.
Сделав свое дело, они ушли.
Я хотел освободиться от уз, но не мог. И все-таки невидимая сила развязала мне ноги, а также высвободились и руки. Я хотел снять повязку с головы, но она была окровавлена, плотно прилегала, а пальцы от боли не слушались. Но с Божией помощью я качнул головой и повязка сама спала. Произошло нечто такое, о чем мы читаем в Евангелии об апостоле Петре: «И вот Ангел Господень предстал, и свет осиял темницу… И цепи упали с рук его» (Деян.12:7).
Подняться я не мог, только перекатывался, и с Божией помощью мне удалось закрыть дверь, чтобы не было так холодно. На полу я нашел коробок спичек, руки не могли его держать, но удалось все-таки посветить на часы: было двадцать минут четвертого утра. А ворвались они ко мне без четверти девять вечера. К десяти они управились со мной. Значит я пролежал бездыханным пять часов. Поскольку они думали, что я уже скончался, то оставались до утра. Перерыли весь дом, сорвали ризы с икон: искали что-либо ценное. Но ничего такого не нашли, забрали деньги, какие имелись, вплоть до мелочи.
Утром ко мне пришла Анна Кузьминична, которая помогала мне по дому. Она только что вернулась из Запорожья, куда ездила за пенсией. Ей денег не дали, сказали прийти на другой день. Но утром она говорит сестре:
— Я иду на электричку, с отцом Николаем что-то случилось.
— Да ты пенсию получи и поезжай.
— Нет, мне надо сейчас.
Только вошла в коридор, ее охватил такой страх, какого она никогда в жизни не испытывала. Когда переступила порог, открыла дверь в хату и как закричит!.. Хотела выбежать, поднять соседей, вызвать милицию, «скорую помощь». Но мы решили ничего этого не делать. Я не хотел шума, все равно, думал, скоро скончаюсь — такие были боли. Все тело распухло, рот не раскрывался совершенно, челюсть была выбита. Раны на груди, горло порезано, зубы повыбиты, рот не открывается. Святую воду мне чайной ложечкой осторожно вливали в рот. Но с Божией помощью месяца через два я стал уже подниматься, тихонько передвигался по двору. И тут приехал милиционер. Представился, стал обо всем расспрашивать, иконы посмотрел. Я ему все подробно рассказал. Когда дошел до ножа, приставленного к горлу, и молнии, которая высветила в моем сознании: «Не умру, но жив буду и повем дела Господни», — он сказал: «А ну, повторите!» Я два раза повторил, а в третий раз он сам повторил: «не умру, но жив буду и повем дела Господни. «Повем» — что значит?» Я сказал: «Поведую. И поведаю дела Господни». У начальника милиции все было записано с моих слов. «А почему, — говорит, — вы не заявили о случившемся?» Я ему объяснил, что бесполезно было заявлять, и в свою очередь поинтересовался, откуда он узнал о происшедшем. «Мне по телефону сказали, я и приехал». Пришлось ему объяснить: «Если бы сейчас люди были такие, как когда-то апостолы, которым не нужны были никакие доказательства, они и так знали, что в человеке правда, а что ложь, я бы сказал вам, кто на меня напал». «А вы что, знаете их?» — спросил милиционер. «Конечно, один живет тут недалеко, другой подальше. Если бы я вам сказал, а он бы предоставил оправдательные документы, что его в тот момент здесь не было, вы поверили бы мне или бумаге?» — «Конечно, документам». — «Тогда, что толку жаловаться?» Когда милиционер закончил расспросы, сказал: «Найдем и все вам вернем». На что я ответил: «Хоть бы вы и сегодня принесли эти деньги, я бы из них ни копейки не взял». — «Почему?» — «Потому, что это все окровавлено. Я и себе не могу их оставить на пропитание, и отдать никому не желаю, потому что это кровавые деньги. Если вы чего и найдете, пусть это останется тем, кто это брал, а мне ничего не нужно».
Потом он позвал мою помощницу, которая рассказала, как она меня нашла, подтвердив, что узнать меня было невозможно, настолько изуродовано было лицо. Но Господь Всемогущий меня исцелил. Сейчас даже и следов от этих ран не осталось.
Когда во время моих страданий священник приезжал меня причашать, то с ним оказалась и врач. Она тогда все расспрашивала и уточняла: «Вы говорите, что сознание не терялось?» — «Да, — подтвердил я, — если человек потеряет сознание, то он ничего не может вспомнить, я же говорю о том, что пережил. Меня оживил Господь».
Крестик
Человек, яко трава дни его, яко цвет сельный, тако оцветет.
…До армии моим увлечением было играть на баяне. Моя мама была верующая. Она проливала слезы над тем, когда я под великие церковные праздники играл на баяне в сельском клубе и на свадьбах. Для ее утешения, уходя из дома, я надевал крестик, а дух тайной злобы ненавидит тех, кто с крестом. Когда иду играть, совесть меня мучает, и перед игрой я тайно снимал крестик, становилось как будто легче.
В 1941 году началась Великая Отечественная война, и меня призвали в армию.
Я собрался, а мама спрашивает:
— А крестик твой где?
— Зачем он мне? Он мне не нужен.
— Как не нужен? — заплакала она.
Я не послушал маму и ушел без креста на сборный пункт около сельсовета. Стали подходить подводы, нас было много. Приходит мама вместе с моей крестной. Объявили отправку — крестная меня обняла, целует и плачет:
— Ты ж мой сыночек, ты ж идешь на фронт, может, раненый будешь или больной… Что я тебе дам? Я же твоя крестная. Вот, возьми крестик.
Тут я не отказался. Крестик аккуратненько был завернут в бумажечку, я положил его в кошелек.
Повезли нас за границу, в Персию. Я окончил там школу младших командиров. Про крестик я и забыл, он мне был не нужен, но на все есть воля Божия: ты от Меня отказался, но Я от тебя не отказываюсь, ты же крещеный, ты Мой, и Я тебя не оставлю.
В армии я тоже объявился баянистом. Начались репетиции, со службы отпускали раньше. И вдруг я заболел. Болезнь посетила не только меня, но и многих других. Дня через два меня из палаты на носилках перенесли в изолятор и дали кислородную подушку. И вот, приходит ко мне сослуживец-земляк из нашего района.
— Хорошо, — говорю, — что ты пришел, я уже кончаюсь в этой жизни.
Отдаю ему адреса родных, фотографии. А про крестик забыл. И вдруг из кошелька выпадает бумажный сверточек. Я ни ему и никому не сказал, спрятал его. Мы попрощались с земляком со слезами. Жить оставалось мне два-три часа. По другим больным это было известно. Когда развернул бумажку и увидел свой крестик, я как закричу:
— Господи, я Тебя оставил, а Ты со мной!
Начал плакать, целовать крестик. Надел на шею и опять целую. И будто слышу голос крестной: «Ты ж больной, обращайся к Нему с верой».
Я прошу:
— Господи, исцели меня! — Больные смотрят на меня и говорят:
— Уже и этот доходит, конец ему.
А тот, который справа от меня, увидел крестик и объясняет им:
— Друг принес ему какую-то железячку, он целует ее и что-то бормочет.
Я со слезами опять кричу:
— Я Тебя оставил, я от Тебя отказался, прости и исцели! — Ребята насмехаются:
— Кончается…
Как взял в рот крестик, целуя его, так и уснул с ним (забыл про кислородную подушку).
Утром просыпаюсь, смотрю, тех, кто лежал со мной, уже нет, их вынесли… Приходит врач. Нас двое. Сосед тоже жив. Может, для свидетельства Господь оставил его.
У меня болезнь прошла, чувствую себя здоровым. И захотелось воды. Дали попить. Подошли еще врачи и удивляются: как же так?..
А сосед и говорит:
— У него вечером был друг и какую-то железячку ему дал. Так он с ней и уснул.
Я поворачиваюсь:
— Не железячка, а крестик. Врачи просят:
— А ну, покажи, какой крестик? Посмотрели — и тоже: это не железячка.
Из изолятора меня перевели в общую палату. Вскоре я пошел на поправку. Мне отваривали несоленый рис. Я пил полстаканчика отвара три раза в день и ел манную кашу. В Персии мы располагались недалеко от горы Арарат, которая находится на турецкой земле. Как объясняли нам на политзанятиях, еще в двадцать втором году мы заключили с Персией договор. В случае какой угрозы для Кавказа, мы можем в Персии на границе держать свои войска.
Когда я выздоровел, вернулся в свой полк. К нам прислали молодого лейтенанта. И вот как-то в перерыв слышу:
— Командира первого отделения ко мне!
Я подхожу, по-военному докладываюсь. Он как-то нелюдимо на меня посмотрел — и сразу:
— Ты что, с крестом?!
— Да, — отвечаю я.
— А ну, покажи!
Я вынул его из-под гимнастерки, а он неожиданно схватил и сорвал его. У самого пена изо рта, такой страшный сделался.
Я, конечно, ослабленный был — что я, с ним драться буду? Я только сказал:
— Если крест снять, то зачем мне воевать? Мне нечего защищать.
Тогда был строгий приказ: за невыполнение приказа командира наказание вплоть до расстрела на месте. Но снятие креста не является приказом военного значения. Я говорю, что этот приказ не выполню. Он достал пистолет и хотел выстрелить, но туг ребята за меня заступились. Выхватили у него пистолет и сказали:
— Мы сейчас пойдем к начальнику особого отдела и доложим, что ты хотел застрелить нашего товарища!
Так он упал перед ними на колени:
— Не доносите, не доносите…
— А за что ты хотел его пристрелить?
— Я не могу на него смотреть, — отвечает.
Оказалось, что он некрещеный. Отдал мне крестик
и приказывает:
— Иди к начальству и докладывай, что я не допускаю тебя до занятий, так как ты не выполнил моего приказа.
Я надел крестик и пошел. Беру свою винтовку, она за мной числится. А он кричит:
— Ты не имеешь права брать оружие!
Прихожу в военный городок и пошел по инстанциям, и всем говорю: любой приказ военного значения выполню, а этот не буду. В ответ слышу:
— Да что с ним нянькаться, за угол завести и шлепнуть.
Под вечер попадаю к начальнику особого отдела. Говорил он со мной ласково:
— Ну, что вы не поделили?
— Как что? Он сорвал с меня крестик и не допустил до занятий.
— Надо было его снять, а потом обжаловать.
— Если б я снял, тогда самому на себя жаловаться?
— Оружие на него поднимали?
— Я взял винтовку как личное оружие, а когда он сказал, что я не имею права, я и бросил.
— Почему бросил?
— А мне нечего защищать, раз крест снят. Вы слышали, как наш Патриарх призывал всех на защиту нашего Отечества? С молитвами и крестом. Это же наше оружие.
— Ну, хорошо. Вы знаете, что мы находимся за границей? И такой конфликт… Мы даже не знаем, а за нами следят. Вот что, решим так: что командир полка скажет, так и будет.
Прихожу в последнюю инстанцию. Весь командный состав в сборе. Ожидают меня.
— Какой был приказ? — спрашивает полковник.
— Крестик снять.
— А ты что, крестик носишь?
— Да.
— А ну, покажи.
Показываю. Крестик такой блестящий.
— Он что, золотой?
— Нет.
Полковник поворачивается к командирам:
— Первый раз вижу крестик.
Меня сразу толкнуло: и этот некрещеный.
— Ты знаешь, куда ты призван?! Ты призван в ряды Советской армии. Кто здесь с крестом? Никого. Какое мы можем оказать тебе доверие, когда ты с крестом?
— Я лежал в изоляторе. Сами знаете, сколько поумирало. А я получил от крестика исцеление.
— Как так ты его получил?!
— Я до кислородной подушки не касался, а во рту у меня был крестик. Это защита нашей жизни и наше оружие. И если снять крест, то за что мне воевать?
— Как ты смеешь так говорить? Что ты здесь мелешь?! — закричал командир полка. — Приказываю крест снять!
— Приказа этого я не выполняю.
Он повторяет, уже с угрозой.
— Любой давайте приказ военного действия — выполню! А этот — нет.
Тут откуда-то появились солдаты. Сорвали с меня погоны.
— Арестовать! Десять суток строгого! — объявил командир полка. — Будешь в сутки получать двести граммов хлеба и кружку воды. Узнаешь, как тебе крест поможет.
И меня повели. Один солдат впереди, двое сзади.
Завели меня в камеру, закрыли. Там песок мокрый, темнота, ни одного окошка. Ляжешь на песок, а он холодный. Здесь разные мысли пошли… «Видишь, как повел ты себя нехорошо. Надо было выполнить приказ». И думаю, что если бы мне сейчас предложили снять крестик, я бы его снял.
Проходит суток пять. Я не вижу света, не знаю, ночь или день. В окошечко в двери подадут ломтик хлеба и воды кружку. Перед этим спрашивают: «Ты там еще жив?»
На шестые сутки, открывают дверь, выводят, свет как ударит в глаза, я слезами залился. Шатаюсь от голода.
— Ну так что? — спрашивает командир полка. — Снимешь крест?
И откуда у меня силы взялись?
— Нет, — говорю.
Сам удивился. Такие были прежде мысли и вдруг — такая твердость.
Через десять суток меня вынесли из камеры. В это время была отправка на фронт. Комиссия за комиссией. Я никак не попадаю. Слышим по радио: наши войска форсировали Днепр. Вспомнил слова полковника: «Жаль, что ваша местность оккупирована. Мы б такое матери письмо написали, чтобы она порадовалась, как она тебя воспитала».
В наше время воин Евгений Родионов, находясь в плену у иноверцев, не снял свой нательный крестик и был зверски убит.
Молитва Честному Кресту
Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящий Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняй бесы силою на тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю, и даровавшего нам тебе. Крест Свой Честный, на прогнание всякого супостата. О, Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.
Или кратко:
Огради мя, Господи, силою Честного и Животворящаго Твоего Креста, и сохрани мя от всякого зла.
20 мая 1944 года всем делают уколы. Раньше было так: посмотрят на меня и скажут: «Тебе не надо». Иду я в комиссию и говорю, что с сорок первого года не назначали ни одного укола. «Это было тогда, сейчас другое», — отвечает врач. Мне сделали укол, а утром у меня ноги отнялись. А я просился на фронт, вместе со своими ребятами. Врач отвечает:
— Мы что, в гости едем? Везти тебя на мясо, готового? Я напишу тебе направление на стационарное лечение. Поедешь на месяц домой.
Мне дали отсрочку на полгода, а после и совсем комиссовали. Так прошла моя служба. И все происходящее со мной было по милосердию Божию. Не напрасно Господь говорит: «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас» (Мф.10:19–20). Так произошло и со мной. Господь посылает нам Свои милости для вразумления, чтоб мы не сомневались в том, что Он нас не оставил.
Вернулся я домой и стал опять играть на баяне. Когда праздник — приходят и просят меня играть. И я иду, хотя я уже ходил в церковь. И у меня мысль: «Боже, что мне делать? Я и сюда и туда. Должен решаться на что-то одно».
И вот вижу сон… Семь человек осталось нас от всей части. Снова на фронт. Нас сажают не в вагоны, а на паровоз — «кукушку». Я держусь за ручку, паровоз так мотает — вот-вот упадет. Буду, думаю, держаться до конца, хоть с паровозом упаду. Привозят нас, показывают: «Вот домик, вы там получите все новое». Заходим. В нем такая чистота, что я такой нигде и не видел. В углу кто-то сидит на стуле. Смотрю, а у него волос меняется, становится все более седым. Я и говорю:
— Какой же ты воин? Тебе только сказали идти на фронт, а ты уже седеешь. А там что ты будешь делать?
И вдруг его голова засияла необычным светом. Я падаю на колени и к нему:
— Прости меня ради Христа! Господь на тебе такое чудо показывает, а я тебя осуждаю.
Только хотел его обнять, как сразу и проснулся. Вскоре снова уснул и вижу другой сон… Смотрю на святой уголочек, где у нас иконы. И вот идет на меня от иконы Матерь Божия, вся в сиянии! Нет такого света в мире, чтобы все просветилось им. И нет ни одного предмета, чтобы им не просветился. Свет ярче солнечных лучей, а на глаза не влияет. Даже влечет. Я как закричу:
— Честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим![115]
И мысль — больше я в клуб не пойду и на баяне играть не буду. Только в церковь буду ходить. Своим криком я разбудил маму и жену старшего брата. Они ко мне: «Что с тобой?» Мама у печки, ищет спички, а я думаю: «Зачем спички, что, они, света не видят?»
А сам заливаюсь слезами и твержу только одно:
— Честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим!
Я плачу, смотрю на икону и думаю: это же живой образ. И такая на душе благодать. Меня спрашивают: что ты плачешь? А я не могу сказать. Прихожу в церковь, стал в уголочек за стеночкой, чтоб меня меньше было видно. Выходит батюшка после окончания службы и начинает проповедь…
— Какие, — говорит, — мы счастливые. Вот взять земную нашу жизнь. Богатые люди имеют и нянечек, и всегда в достатке. Как они своих детей лелеют! А бедные — не могут своим детям таких условий создать. Но мы счастливы тем, что у нас есть небесные покровители. Вот чем мы счастливы. А то — все преходящее. На бедных Господь смотрит, бедным Господь посылает свою помощь. А мы спим. А Матерь Божия — недремлющая. Весь мир хранит Своими молитвами. О каждом бдит. Чтобы каждый православный христианин получил то, что уготовал ему Господь. Но это, если мы живем по-христиански. А если нет, то мы ничего не получим. И Матерь Божия ходатайствует. А кто Она? — батюшка повернулся к иконостасу, перекрестился. — Честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим!
Я как заплачу. Он повторил те же слова, что и я во сне. Все оглянулись на меня. Стоял, стоял, и не видно его было, а то — так рыдает. Батюшка взглянул в мою сторону и говорит:
— Вот чем мы счастливы, — и снова показывает на икону Божией Матери.
— Вот Кто за нас умоляет Своего Сына. Спасены мы будем через Нее. Не было бы у нас такой Ходатаицы — и не имели бы мы такого счастья. Счастливы мы тем, что за нас Матерь Божия молится.
Молитва Пресвятой Богородице в несть иконы ее, именуемой «Взыскание погибших»
Заступнице усердная, Благоутробная Господа Мати! К Тебе прибегаю аз окаянный и паче всех человек грешнейший: вонми гласу моления моего, и вопль мой и стенание услыши. Яко беззакония моя превзыдоша главу мою, и аз, якоже корабль в пучине, погружаюся в мори грехов моих. Но Ты, Всеблагая и Милосердая Владычице, не презри мене отчаяннаго и во гресех погибающаго: помилуй мя кающагося во злых делех моих, и обрати на путь правый заблуждшую окаянную душу мою. На Тебе, Владычице моя Богородице, возлагаю все упование мое. Ты, Мати Божия, сохрани и соблюди мя под кровом Твоим, ныне и присно и во веки веков.
Потом я все рассказал батюшке. Он мне:
— Бросай свои игрища, держись одного пути.
…Приходили ко мне, просили поиграть. Если не иду — берут под руки и уводят. Я, говорю, в клуб не зайду, поиграю возле. А сам думаю: какая разница? Что в клубе, что около, танцы-то и песни одни… И бросил баян совсем. В церкви стал прислуживать…
Гонения продолжаются
Господи, мир даждь нам Твой! Сколько мы просили во время войны, и старые, и малые! И мы получили его. Но долго этот мир у нас был? Восстали снова против Церкви Христовой.
У нас было шестьдесят соток церковной земли в селе Борисовка Днепропетровской области. Приехал уполномоченный и обрезал до десяти.
Разрешили нам, согласно закону, построить деревянную ограду вокруг церкви. Правление колхоза заседало, достали лес. Нас там работало человек четырнадцать. Бесплатно. Осталось только арку поставить. Когда заканчивалось возведение ограды, подъехал председатель колхоза и с ним четыре человека и начали ограду ломать. Строитель наш Фролов, из соседнего поселка, — к ним, и так смиренно спрашивает:
— Ребята, что вы делаете?
— Ломаем.
— А кто дал вам право?
Они указывают на председателя колхоза.
— У нас же документ есть.
Председатель говорит со злобой:
— А я давал вам документ?!
— У нас же есть свыше, из области. Мы же вам оплачивали распиловку леса.
Он еще сильнее разозлился:
— Сегодня же подгоню бульдозер и все сторну.
Вместе с вашей церковью! А мне и нужно было сказать:
— Смотри, чтоб тебя Господь не загорнул, если ты обещаешь такое сделать.
И так случилось, что на второй день его увезли в больницу, парализованного.
…Но бесчинства продолжались. Ночью к церкви подошли четыре человека и сняли двери. Сторож убежал, а строителя Фролова вытащили из сторожки и стали бить. Он закричал: «Помогите!» Но кто услышит ночью? Он справился бы с ними, но, как христианин, драться с ними не стал. А они били его, как хотели.
Закончив свое дело, погромщики вызвали милицию и составили акт на Фролова и на церковного старосту, что они, дескать, организовали провокацию: сломали ограду, избили человека, а на советскую власть наговаривают. И их арестовали.
Утром я с жалобой на их самоуправство поехал в город Днепропетровск. Областной уполномоченный по делам религии принял ласково, прочитал жалобу и говорит:
— Надо подавать на них в суд. Приеду, сфотографируем, чтоб было доказательно.
Приезжаю я домой. Ждем его день, другой. На четвертый — объявился. И едет он не к нам, а в контору. Церковного старосту и Фролова из-под стражи освободили и привезли с собой.
Позвали меня.
Уполномоченный спрашивает старосту:
— А у кого документ, который я давал на строительство? В делах церковных или у вас?
— У меня.
— Вы можете его показать?
— А зачем он вам?
— Ну, я хочу посмотреть, какого числа я выдавал.
— Так у вас же копия есть.
— Вы что, уполномоченному не доверяете?
При этих словах староста отдал документ.
— Теперь вы свободны, — отвечает уполномоченный.
— Верните документ.
— Он тебе больше не понадобится.
И обвинил старосту в том, что он как будто перегородил дорогу, трудящимся нельзя проехать на работу, занял колхозную землю и учинил разбой.
Мы пишем вторую жалобу, и я еду в Киев к республиканскому уполномоченному. Прочитал он и говорит:
— Так это ж банда?
— Как банда? Коммунисты…
— Такого права и коммунистам никто не давал. Судить будем! Примите жалобу, — говорит он секретарю. — И дайте ему справку.
Когда уполномоченный провожал меня, сказал: «Вам все восстановят». Пока я ездил в Киев, местные власти дали команду всю ограду переломать и выбросить, они всю ограду переломали и выбросили. На второй день еду в Днепропетровск к областному уполномоченному. Захожу. Он подает мне бумагу.
— Подпиши, а потом будем разговаривать.
— Я приехал к вам не для того, чтобы ваши бумаги подписывать. В Киеве мне сказали, что вы не рассмотрели нашу жалобу.
— Так это ты им наврал?! Из-за тебя телефон трещит целыми днями!
— Телефон трещит, он добивается правды. Вас Господь поставил, чтобы вы не допускали беззакония.
— Меня не Бог поставил, а партия!
— Давайте мне нашу жалобу, я пойду к прокурору области.
— Уходи отсюда! — и кулаком об стол.
— Пока не отдадите документ, не уйду.
— Сейчас милицию вызову!
— Вызывайте, вот мы и будем знать, за что мы воевали. Староста с фронта с осколками в груди вернулся. Сын у него — армейский капитан. А у Фролова три сына сражались за Родину в рядах Красной армии. А сам он в шахте работал, выполнял по нескольку норм.
— Это враги народа! — кричит он.
А у меня был с собой флакон с красной тушью. Я его вынимаю, откручиваю. Он сидит в кресле, здоровый такой мужчина, с густой шевелюрой.
И со словами: «За вашу правду да благословит Господь», — вылил ему на голову тушь крестообразно. И она потекла. То он был от гнева красный, а тут побледнел, стал белый, как стена. Поднялся дрожа с кресла и говорит:
— Николай, разве нам не можно было без этого решить?
— А вот теперь решайте, вызывайте милицию.
— Мне ж стыдно выйти…
Схватился за голову и — руки стали в «крови». Кто ж подумает, что это тушь! И до меня дотронулся, и мне красная тушь попала на руку и на плечо.
Бормочет что-то и стучит в стенку. Другой уполномоченный открыл дверь и побежал к дежурным милиционерам. Вскакивают двое, как глянули, один от порога кричит испуганно:
— Чем он его? Финкой или ножом?
И оба назад.
А мы стоим. Я перекрестился: «Вот, будем знать, за что мы воевали».
Дежурные звонят в милицию:
— В сто девятом кабинете совершилось преступление! Человек истекает кровью.
Весь облисполком сбежался от центрального входа до кабинета. Ожидают, чем все закончится. Из милиции отвечают:
— Нет машины, не на чем приехать. Задержите преступника.
Приезжает «скорая». Заходит капитан милиции:
— Что у него? Финка или нож?!
Уполномоченный поднимает пустой флакон:
— Да вот, вылил мне на голову красную тушь.
Капитан говорит:
— Немедленно его в психиатрическую больницу!
Я упал, как будто кто-то меня ударил. Врач — медсестрам:
— Дайте ему валерьянки… Нет, нашатырного спирта.
Дали нашатырного и усадили на стул.
— На что жалуетесь? — спрашивает врач.
— Мне жалко то, что люди защищали Родину, а он называет их врагами народа. Я не мог выдержать и облил его красной тушью.
Врач взглянул на уполномоченного и говорит:
— Пойдешь в баню, отмоешься и будь здоров.
— Почему красной? — спрашивает меня.
— Чтоб напомнить ему о крови. Сколько ее в войну пролилось. А он тут как герой сидит, в кресле, ему уже и Церковь не нужна.
Медсестры взяли меня под руки и повели к «скорой». Работники облисполкома стоят, переговариваются:
— Хулигана ведут. Уполномоченный истекает кровью.
Привозят меня в психиатрическую больницу. Главврач глянула на плечо:
— Это что, кровь?
Я рассказал, как все было.
— Ну хорошо, будем вас лечить.
— Лечить меня нечего. Других лечите. А меня судить надо. Там всем ясно будет.
Она так жалостно смотрит на меня:
— Какие есть у вас документы?
Я кладу на стол справочку от республиканского уполномоченного, письмо из Московской Патриархии. Главврач читает нашу жалобу, а слезы так и скатываются.
— Не волнуйтесь, Николай Федорович, правда победит.
— Спаси вас Господь за ваши слова.
— Все будет хорошо, все будет хорошо, будем вас лечить, — и направляет меня в буйное отделение.
Месяц лежал в больнице на обследовании. Взяли пункцию из позвоночника. Ноги и руки стали как тряпки. Неделю лежал вниз лицом.
— Зачем все это? Я здоров!
— Мы делаем то, что нам приказано. Если бы вы пришли к нам по своей воле, то мы бы вас слушали, — говорит лечащий врач.
— Николай Иванович, вы же к помешанным меня поместили, сделали из меня сумасшедшего.
— Не волнуйтесь, через две недельки все восстановится. Только вам нельзя будет резких движений делать.
Дня через три заходит он опечаленный.
— Ну что ж, Николай Федорович, никакой болезни у вас нет. Жалко мне. Вас будут судить.
— Я ж вам сразу говорил. Меня надо судить.
Привозят меня в милицейской машине в Никополь, в больницу. От Днепропетровска сто двадцать километров. Заводят меня в палату, где буйные. Они как закричат: «Батюшка! Это мы болеем, что Богу не молимся».
Ночью в больницу приходили следователи, допрашивали:
— Мы у тебя все дома перевернули! Все письма твои взяли! — стучит пистолетом по столу. — Говори, какую связь имел ты с врагами народа?! Булганину (министр обороны. — Авт.), Маленкову (премьер-министр — авт.) писал (антипартийная группа — Маленков, Булганин, Каганович и примкнувший к ним Шипилов. — Авт.)?
— Я их знал как руководителей страны. А если Хрущев таким же окажется, при чем здесь я? Я и Хрущеву писал.
Сажают меня в камеру к уголовникам. После следователей за меня взялся прокурор. Но разговаривал мягче. Получен был ответ от Хрущева.
— В чем ты нуждаешься? Можем помочь.
Я перекрестился:
— Сейчас Рождественский пост. Дайте указание, чтоб мне давали постную пищу.
Он тут же вызывает начальника охраны:
— Запишите, до какого времени он не будет принимать общую пищу.
— До Рождества Христова, — говорю.
И мне стали носить: лук, картофельное пюре с постным маслом, огурчики, чай. Сокамерники мне завидовали: «Что это, тебя отдельно кормят, а нам всякую бурду дают».
После всего этого — суд. Областной уполномоченный и секретарь райисполкома просили:
— Осудите его так, чтобы он больше не вернулся.
— Вы что-нибудь к ним имеете? — спрашивает меня судья.
— Имею. Вот мы перед судом и должны говорить только правду. Скажите суду те слова, которые вы говорили, выдавая нам документ.
— Я жалею, что выдал его, — недовольно отвечает уполномоченный.
— Нет, вы скажите суду то, что вы тогда говорили. И чью вы потом исполнили волю.
Он — за прежнее. Тогда я перекрестился и ответил:
— Я недостоин вам говорить, но Сам Господь скажет, чью вы исполнили волю. Откройте Евангелие от Иоанна Богослова восьмую главу и читайте: стих сорок третий и дальше. А сам я не знал, что там написано. Что пришло мне в голову, то и сказал.
— Что ты нас учишь?! — возмутился судья. — Мы сами знаем!
— Вы знаете, так он не знает.
Судья тоже не знал. А там написано… «Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего.
Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как Я истину говорю, то не верите Мне. Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога».
Приговор суда был такой: две с половиной тысячи рублей уплатить уполномоченному за порчу костюма и рубашки, полторы — за мебель, и пять лет тюремного заключения.
Привезли в тюрьму, начали обыскивать, чтобы ничего острого не было. А на мне крестик и два образка на веревочке, Матерь Божия и Святитель Николай. Охранник — раз! — и обрезал. Я возмутился. Они:
— Металл, металл!
Я ответил:
— Крестик — металл?! И Матерь Божия и Святитель Николай — металл?!
И отказался от пищи. Приносят сорок порций, в окошко подают, одна остается. «Кто не получил?» А кто ж будет отвечать? Проходит день, другой… На пятый день заходит дежурный в камеру и вызывает по списку. Доходит очередь до меня.
— Я не буду есть.
— Так вот кто отказался! Почему?
— Раз у меня крестик отобрали, Матерь Божию и моего небесного покровителя Святителя Николая, то для чего мне жить?
Меня сразу к врачу. Они установили: истощение организма. Я уже шатался. И сердце стало плохо работать. Спрашивают:
— И как вы дальше думаете быть?
— Пока не отдадут крестик и образки, хоть умру, а есть не буду.
Через час приходит начальник тюрьмы и подает отобранное:
— На, носи и принимай пищу.
Все так удивились: ярый коммунист, такой злой начальник, — и сам принес. И сказал охране: кто придет к нему на свидание — разрешайте и принимайте все передачи.
Мне приходили посылки из Киева и других мест.
Положено две в месяц, а мне пришли сразу две, а через недельку еще четыре. Вызывает начальник тюрьмы:
— Почему ты не сообщишь тем, кто посылает посылки, сколько тебе их положено?!
— А я разве знаю, откуда и кто посылает? У меня мама есть, так она и одной посылки собрать не может. И хата наша, что вот-вот завалится.
Еду мне посылали по благословению моего духовного отца Серафима (Тяпочкина). Проходило время. Я написал два письма — Святейшему Патриарху и Хрущеву. В письмах слово «коммунисты» переправил на фамилии.
Через несколько месяцев вызывают: «Ты правильно написал». Хрущев, мы слышим, в Америке в ООН ботинком стучал по трибуне. Из Москвы приехала в лагерь комиссия. Нас там тысяча девятьсот человек. И многих освободили: «Мы не смотрим на ваши преступления, а надеемся на ваше исправление».
И меня выпустили. Не вздумай, говорят, еще хлопотать. Я перекрестился: «Слава Богу, что Господь послал такую комиссию».
Председатель как закричит:
— Чтоб мы не слышали о Боге! А то сгниешь здесь! Благодари комиссию!
А у меня само собой получается:
— Слава Богу…
— Опять?!
— Ну и комиссии спасибо, — ответил я.
(За годы правления Хрущева (с 1953 по 1964 год) было закрыто более 10 000 церквей, и он обещал последнего попа показать по телевизору).
Воскрешение матери
Когда я увидел, что мама скончалась, то подумал о брате: «Как ему сообщить?» Пришла соседка, она помогала управляться, я ей говорю, что надо за братом послать. «Все сделаем», — сказала она.
Приехал брат. Мама уже лежала в гробу. А я все плачу.
Потом на меня что-то нашло, я не стал владеть собой, начал кричать:
— Святитель Николай! Воскреси маму! Ты ж воскрешал мертвых, воскреси, чтобы я получил благословение: как мне дальше жить?
И к ней.
Брат оттесняет:
— Что ты сейчас просишь? У мертвой. Раньше надо было просить!
А у меня одно:
— Святитель Николай, воскреси!..
Сколько я кричал, сколько он меня отгонял… Но я свое. Я был не в себе. Надо мною уже было невидимое руководство Святителя Николая. Сам человек ничто, а если он обращается к святому, Святителю Николаю… Я-то не призывал, я только кричал:
— Святитель Николай! Воскреси мою маму, чтобы я получил благословение: как мне дальше жить?
Бегу в комнату, беру маленькую иконочку Святителя Николая, кладу маме на грудь. Брат отталкивает:
— Что ты делаешь?!
Но тут я взял святую почаевскую водичку, чайную ложечку, открываю ей рот… Все застывшее. Брат бьет по рукам:
— Отстань, говорю!
А для меня только одно. Мне надо воскресить мать. Влил водичку, она так и стоит.
Брат говорит:
— Зачем тревожишь ее?!
А я:
— Святитель Николай, воскреси маму!..
Через какое-то время слышу: водичка буль-буль-буль…
Брат еще сильнее возмутился.
А когда водичка прошла, я еще раз налил.
Брат готов меня побить.
На третий раз приема водички мама вздрогнула всем телом.
Брат побледнел то ли от злости, то ли еще от чего. А я ему:
— Тебе хорошо, ты получил благословение, а я как дальше жить буду?
И беру мамину руку и делаю крест ее рукой. Будто она крестится.
Когда сделан был крест, у нее открылись глаза. Смотрит в одну точку.
Брат гневается уже как-то испуганно:
— Что ты сделал?! Что ты сделал?!
Я снова:
— Святитель Николай, воскреси!..
И тут ее глаза начинают открываться и светлеть… Я бегу за просфорой, кладу в ее руку. Беру иконочку:
— Мама, благослови!
Она ничего не отвечает… Только смотрит, но никаких слов не говорит.
Потом вдруг глубоко вздохнула, и правая рука поднялась сделать крест. Как перекрестилась, тихонько прошептала:
— Детки, как мне жалко с вами расставаться… (Она еще не привела нас, грешных, к Богу).
Когда мамина сестра и другие родственники приехали на ее похороны, мама с нами разговаривала уже полностью.
А на мою просьбу, как мне дальше жить, отвечала одно:
— Господь управит, как жить.
Я ей напомнил, что мне, может быть, жениться, чтоб помощь была?
После я пошел к прозорливице Аннушке, парализованной. Она говорит:
— Господь не благословляет тебе жениться.
Соседи, которые готовили мать к погребению, узнав о ее воскресении — ужасались и притихали. А самая ближняя соседка за все три года, которые еще прожила мама, не могла из-за страха к ней подойти:
— Я тебя боюсь, ты же мертвая была — говорила она.
Чудо воскрешения моей матери — не мое действие, а Святителя Николая, чтоб мы верили в его силу и что через иконочку, новую или старую, подается благодать от Господа. Если мы призываем какого святого или Спасителя, или Матерь Божию на помощь, мы не должны сомневаться: получим ли просимое?
После того, как брат видел чудо воскрешения матери Святителем Николаем, стал прилежно ходить в церковь и причащаться.
Божия Матерь сохранила мне жизнь
По благословению батюшки я поехал в поселок Марганец договориться о приобретении угля для церкви. Возвращался обратно на велосипеде. Вдруг несется страшный вихрь. Темень, ничего не видно. А я по аллейке еду. И он меня захватил и поднял. По нашему рассуждению вихрь мог меня закрутить, и я бы упал. А меня понесло. Я как сидел на велосипеде, нога на тормозе, и в вихре так сижу. Для человеческого ума это непостижимо. И вот проносит он через пахоту метров на триста. А за пахотой старые заброшенные шахты с обвалами. Такие груды, пешком не пройдешь. И бросил меня этот вихрь надо рвом. А там щель такая, что дна не видно.
Ну, конец, думаю. А велосипед стоит как вкопанный. Земелька под ним понемногу обваливается и обваливается. Голова моя в эту щель опускается. А шахта глубиной метров семьдесят. У меня только одна мысль; смерть пришла…
Кто ж будет знать, что я тут? Я ж пообещался приехать. Одна Матерь Божия ведает, одна Она может мне помочь. Как только мелькнуло это в голове, земля вдруг заколыхалась. Так, когда гром гремит, и земля дрожит. А переднее колесо все ниже и ниже опускается. Земля осыпается все больше и больше. Но велосипед стоит.
И вдруг слышу быстрый топот лошадей.
Этот мужчина, который при лошадях был, потом говорил, что они так летели, что уму непостижимо. А были они от той шахты, где я, километра за четыре. И сравнявшись с нею, остановились как вкопанные. Головы повернули в мою сторону, храпят и копытами землю гребут.
Возчик подбежал ко мне, схватился за руль, а велосипед — раз! — и тронулся вниз, в щель. Он как закричит: «Мы оба погибнем!» Я говорю: «Вы бросайте велосипед, хватайте меня за плащ». Он меня и вытащил. А велосипед дальше не пошел. Как уперся в стену, так и остался. Но я-то себя со стороны не вижу, а мужчину вижу. Он до того испугался, что его лицо стало желтое, как у покойника. Придя в себя, спрашивает:
— Как ты сюда попал?
— Я ехал вон по той аллейке, — показываю.
— А здесь как оказался?
— Вихрь налетел.
— Какой вихрь?
— Такой вихрь.
— Никогда б не поверил. Этого ж не может быть. Поставь велосипед, и он вмиг упадет. А тут человек на нем сидит, а он стоит. Я пятнадцать лет езжу на этих лошадях. Они ничего не боятся. Ни машин, никого. Вон, видишь, они там стоят. Кто-нибудь захотел бы на них поехать, они не пойдут. Такие послушные мне. А тут загрузился я продуктами, отвез в магазин и еду обратно на склад. Вдруг они как встрепенулись и понесли, выскочили за город. Я как ни тяну, лошади не слушаются.
А у меня сразу такая мысль появилась: видишь, какая Матерь Божия, нашла помощника, спасла меня от неминуемой смерти. Я только колено сильно ушиб. Пойду, думаю, к бабушке Евдокии. Она много лет лежала парализованная на деревянной кушеточке, покрытой самотканой дорожкой. Она имела такой дар: помолившись, положит свою ручку на больное место, проведет ею раза три, и боль утихнет.
Она самого Иоанна Кронштадтского знала. А было так…
«Когда вышла замуж, стала просить мужа: «Хочу поехать к батюшке Иоанну Кронштадтскому…» — «А что ж ты не ехала, когда замужем не была?» — «У меня тогда и мыслей таких не было» — «Кто ж будет работать? Ну ладно, спросим родителей».
Родители отпустили. И вот, приехала я в Кронштадт, а там не то что в церковь, а в ограду, где он служит, не пробьешься.
Взошла я кое-как на паперть, а дальше никак не протиснусь. А батюшка с крестом стоит и служит. Приподнялась я на цыпочках и глянула на него. А он тут и говорит: «Раба Божия Евдокия, а ну-ка подойди ко мне». Я думаю, что он кого-то другого зовет. Нет. «Пропустите», — говорит людям и показывает на меня. Я в слезы — милость какая. Благословил меня, а после службы взял к себе. Я рассказала про семью, как живем. А жили мы до революции богато, по-деревенски. Он и говорит: «Вы дюже не убивайтесь богатство наживать. Отберут все». И мне: «А ты без благословения не уезжай». Проходит неделька, подхожу: «Батюшка, благословите». А он: «Господь не благословляет. Как же я тебя благословлю?» А у меня сердце болит, домой надо возвращаться. Проходит еще неделя, он снова: «Господь не благословляет». Я взяла и уехала. Лома сижу, переживаю, день и ночь плачу. А муж говорит: «Что ж ты ездила, думал, какую радость привезешь, а ты все время плачешь» — «Он же не благословил меня уезжать» — «Ну, тогда назад поехали».
Встретились с батюшкой, он и говорит: «Вот что твои слезы сделали, муж-то твой никогда бы у меня не был». И опять наказал: «Будут забирать, — не спорьте. Это все Божий Промысл. Слишком к земному прилепились. А о душе кто будет думать?»
Муж после встречи с батюшкою переменился. То и в праздники работали, а тут — нет. И в церковь стал ходить. Дружнее зажили.
…И вот, иду я к этой Евдокии. Только открыл дверь, она как закричит, голос такой детский:
— Чадо мое! Где ж ты был?
— Ездил в Марганец.
Сидят с нею муж ее и две женщины.
— Не, не… Ты до меня не собирался. И говорит им:
— Его хотела смерть посетить, а Матерь Божия послала ему человека.
Когда я все рассказал, что со мной произошло, они расплакались. Муж ее больше всех:
— Как же ты с нами разговариваешь, когда с тобой такое чудо произошло…
Спрашиваю Евдокию:
— А как же вы знаете?
Она отвечает:
— А мне эти стены видеть не мешают.
От него Ангел не отходил…»
Расскажу об одной такой встрече. С простым чертежником, при строительстве моста через Днепр — с рабом Божиим Николаем. Он приходил к нам в церковь в Бор и совке. Наш настоятель отец Николай глянул на него и спрашивает меня:
— Откуда этот юноша? Он великий человек.
Пошли мы как-то с Николаем к старице Евдокии, которая встречалась еще с Иоанном Кронштадтским. Пообщались с ней. Когда он вышел, она мне говорит:
— Сколько ко мне приходило людей… Но таких еще не было. От него Ангел не отходит.
Николай был очень скромным, втайне совершал молитвы и делал все так, чтобы никто ничего не знал и не видел.
Однажды он пригласил меня поехать с ним в Киев. А у меня не было никаких документов, кроме красноармейской справки.
— Ты ни о чем не беспокойся. Билеты я оплачу. Только твое согласие.
Как же не согласен? Поехать в такую святыню, в Киевскую лавру! Я там еще не бывал. «Но отпустит ли настоятель?» — подумал я.
— Он благословит, — сказал Николай.
Без документов ехать было опасно. Иду к бабушке Евдокии. Она мне говорит:
— Матерь Божия благословляет. Только сходи еще к Аннушке, она выше меня.
А идти к ней надо только ночью, чтобы соседи не видели. Власти взяли с Аннушки подписку, что она не будет никого принимать.
До нее около восемнадцати километров. Но раз сказано — надо делать. Шел один, ночью. Часа в три утра добрался. Постучался, слышу голос мамы Аннушки: «О, Боже, что ж это такое…» И голос Аннушки: «Мама, открывайте, это Николай».
Я зашел, они обе плачут. Вечером приезжала из района милиция, в доме и сарае все перерыли и пересмотрели. А что искали, молчат.
Рассказываю свою опаску:
— Как ехать? Паспорта же нет?
Она говорит:
— Вот наш паспорт, — и показывает на Крест. — Господь благословляет твою поездку. Только сходи к Евдокии, она и старше, и выше меня.
Приехали с Николаем в Киев, подошли к пещерам Киево-Печерской лавры. Там стоит милиционер и проверяет документы. А я два чемодана несу. И говорю Николаю:
— Как быть?
— Иди, не бойся.
И в тот момент, когда к нам подходил милиционер, его отвлекла какая-то женщина, и мы прошли.
Целую неделю мы были в лавре, и никто у нас документы не проверял.
До сих пор помню проповедь митрополита Иоанна:
— …Я с шести лет туг. Здесь закончил семинарию, академию… И что мне дало это учение? Гордость. Я горжусь, что я такой ученый. А кто мне дал веру? Святые отцы киево-печерские. Вот кто дал мне веру. Многие собираются сюда. У них и средства есть, и жажда поклониться мощам. Это ж не так, что человек надумал и приехал. А кого Матерь Божия благословляет. У других денег нет, но они приезжают.
Я заплакал, будто он про меня.
После нашей в Киев поездки Николай приехал к нам на престольный праздник. Я пригласил его после службы к себе домой, показал фотографии.
— Сколько людей, и только один с чистым сердцем, — показал он на моего друга.
Он был командиром полка катюш. При взятии Кривого Рога получил девять ранений. Посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. А он оказался жив. Золотую Звезду Героя ему не дали, только орден Александра Невского. Наград у него было много.
— Где он сейчас? — спрашивает Николай.
— В Москве. В Правительстве.
— Ему там не место. Господь выведет его оттуда.
Так оно и оказалось. Он потом работал в торговле.
Он был добрый и жалостливый, помогал продуктами голодным детям, больным. А тут ревизия. Его осудили, лишили всех наград и дали восемь лет тюремного заключения.
Он присылал мне из тюрьмы письма. В них писал, что ни на кого не обижается. Хорошо, что так случилось и что его исключили из партии.
К 70-летию со дня рождения отца Анатолия Шашко[116]
Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал.
(Откр.2:3)
Существовали на Руси «родовые» священнические династии, и в таких случаях потомки фамилий к своим духовным подвигам прибавляли устоявшиеся мировоззрения и народное признание предков, тем самым, удваивая (или даже утраивая) ответственность перед обществом и прихожанами. Потомственное священство — носители особых, сложившихся веками духовных ценностей; люди, удостоившиеся абсолютного общественного уважения, любви и всенародного признания, благодаря собственным заслугам в сочетании с родовыми традициями.
В этом году исполнилось 37 лет со дня пребывания на посту настоятеля Тихвинского храма г. Фатежа священника отца Анатолия Шашко. Нет в Фатежском районе человека, который бы не знал его. Как благочинный Фатежского округа, он побывал во всех районных приходах: служил литургию и совершал молебны, открывал храмы и освящал престолы, напутствовал новобрачных и провожал в последний путь усопших. Каждый день, с утра до ночи, а порой и ночью, к отцу Анатолию приходят люди за советом, за помощью. Двери его дома открыты всегда и всем. Обладая тонким знанием психологии личности и искрометным чувством юмора, отец Анатолий несколькими словами способен решить вопрос любой степени сложности, дать ценный совет и найти выход из неразрешимой ситуации.
Отец Анатолий родился 18 января 1940 года в Тиме ком районе Курской области в семье священника. Династия священнослужителей Шашко идет от Василия Никодимовича — деда отца Анатолия. Выходец из крестьян, он окончил Петровскую церковноприходскую школу и по достижении 21 года был назначен псаломщиком Христорождественского храма с. Петровское-Шагарово Дмитриевского уезда (09.07.1907), а затем рукоположен во священники Тимского уезда. С супругой Евдокией Федоровной они вырастили детей: Параскеву (1908 г.), Надежду (1910), Николая (1911), Владимира (1915) и Федора (1917). Сын Николай «унаследовал» отцовский приход в с. Успенское, нес подвиг священнослужения в годы советских репрессий, за что и был сослан в лагеря северного края. В Тиме у отца Николая оставалась семья — матушка с девятью малышами. Притеснения служителей церкви: аресты, ссылка, лишение прав, невозможность кормить и лечить детей не сломили отца Николая, а его вера передалась и детям.
По окончании Успенской школы юный Анатолий Шашко поступает в 1958 году в духовную семинарию в подмосковном Загорске. Не надо объяснять скольких трудов стоило в годы «второй волны» атеистического разгула «воинствующих безбожников» стать учащимся духовного заведения. Успешно окончив курс семинарии, Анатолий Николаевич в 1962 году подает документы в высшее духовное заведение — Московскую Духовную академию, в том же Загорске готовит и защищает кандидатскую диссертацию по богословию по теме: «Павликанская ересь». Перед ним стоят два пути: принять монашество и епископское служение, или стать приходским священником по примеру отца и деда. Он выбирает последнее. Рязанский владыка благословляет Анатолия Николаевича на брак. Со своей будущей женой он познакомился на свадьбе у общего знакомого — студента академии Льва Махно (впоследствии знаменитого церковного историка и духовного писателя, служившего в русской Америке и находящегося с духовной миссией в Париже). 10 июля 1966 года отец Анатолий был рукоположен в диаконы, а в день первоверховных апостолов Петра и Павла — во священники. Посвящал его ректор академии — Филарет (Вахромеев), сегодняшний патриарший Экзарх всея Белоруссии. Архиепископ Таллинский Алексий (Ридигер) — нынешний Патриарх Московский, в ту пору управляющий делами Московской Патриархии, спросил отца Анатолия, где бы он желал служить и, получив ответ, что рад бы вернуться в родной Курский край, созвонился с Курским владыкой Серафимом (Никитиным) с просьбой принять новопосвященного батюшку.
В период учебы в Загорске отец Анатолий посетил Глинскую пустынь, где имел общение со знаменитыми старцами — Андроником (Лукаш) и Зиновием (Мажугой) — учениками Фатежского святого схиархимандрита Серафима (Амелина, 1874 — 1958). Духовная связь со святыми старцами продолжалась до их кончины: 26 марта 1974 года отец Анатолий участвовал в погребении схиархимандрита Андроника в г. Тбилиси; 8 марта 1985 года умер митрополит Зиновий. Духовная связь отца Анатолия со многими подвижниками православия продолжается до сих пор — среди них и бывшие однокурсники — митрополит Одесский Агафангел (Саввин), архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий (Смирнов), архиепископ Мелхиседек (Лебедев) и другие.
В 1966 году отец Анатолий был назначен вторым священником к отцу Василию Белевич во Введенский храм г. Курска, но служить в приходе было не суждено. Митрополит Серафим переводит отца Анатолия настоятелем Тихвинского храма г. Фатежа вместо отца Алексия Кононова. Здесь, в Фатеже, проявился священнический дар и мудрость молодого настоятеля. Курский архиепископ Николай (Бычковский) награждает отца Анатолия чином протоиерея, архиепископ Хризостом (Мартишкин) назначает его благочинным Фатежского округа. За подвиги на духовной ниве отец Анатолий Шашко имеет церковные награды: набедренник, палицу, скуфью, крест с украшениями, митру. К тысячелетию Крещения Руси в 1988 году Патриарх Пимен награждает его орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени. Распоряжением губернатора Курской области от 14 мая 2003 года «За вклад в духовное возрождение» протоиерей Анатолий Николаевич Шатко награжден памятным знаком.
Главным помощником, без которого невозможно было бы говорить о наградах и заслугах отца Анатолия, является его семья. Вдвоем с Анной Климентьевной (†2007) они воспитали девятерых детей и помогают растить семерых внуков. Духовная мудрость отца Анатолия сказывается на отношениях в семье, с близкими: он хороший семьянин, отец и воспитатель. Семья, в свою очередь, является его крепким «тылом», поддержкой в нелегком деле служения людям.
Когда-то будущий курский пастырь — Анатолий — брал разрешение у местного военкома на поступление в духовную семинарию. Умудренный фронтовик спросил: «А ты кем хочешь быть — попом или батюшкой?» И услышав, что «батюшкой» подписал его заявление. Отец Анатолий с первых дней своего служения стал батюшкой — и не только для своего прихода. Он одинаково духовно поддерживает каждого человека, приходящего к нему, всех считая членами своей большой духовной семьи. И все мы, кто хоть раз имел общение с фатежским настоятелем, считаем его своим батюшкой, а себя — его духовными чадами. Каждый день, превозмогая усталость и недомогания, отец Анатолий идет служить Богу и людям. Нет профессии священник, но есть должность и долг служения, а отец Анатолий — человек долга.
А. Бирюков, с. Кромское.
Отец Анатолий вспоминает
При первой встрече с отцом Серафимом более всего запомнился его всепроникающий, любящий взгляд. Эти глаза с необычайной нежностью смотрели в самую глубь души. Не рассказать словами о той неизреченной любви, которую чувствуешь, когда находишься около старца, когда общаешься с ним. Ты как бы рождаешься заново, на сердце одна только любовь, и радость, и легкость необычайная, словно крылья вырастают. Ни от чего другого не получал я такого ощущения радости.
После батюшкиной кончины, без его видимого присутствия, чувствуешь себя сиротой. Но придешь к нему на могилку с ношей своих скорбей, опустишься на колени и говоришь с ним, как с живым. Вот тогда понимаешь, что он, конечно, рядом, расскажешь ему все, как на исповеди, и становится легче.
Память невольно возвращает в те дни, когда батюшка совершал богослужения. Слышу его тихий голос, слежу за его кроткой походкой. Он весь — смирение, весь — любовь, весь — жертва Богу и людям. Вечный покой подаждь, Господи, любящему Тебя архимандриту Серафиму».
К 90-летию со дня рождения Александра Андреевича Гадицкого. «Направленный к свету»
Каждый человек, защищавший нашу Родину, достоин того, чтобы перед ним преклонили голову. Но Александр Андреевич Гадицкий — особая личность. Православный воин, летчик-разведчик, художник и убежденный монархист, он, несмотря на полную слепоту (с 1995 года), и сейчас активно участвует во многих благих делах. Регулярно посещает богослужения, старается быть в курсе церковных и светских событий. Еще задолго до канонизации Царственных страстотерпцев Александр Андреевич писал Святейшему Патриарху, встречался с владыками, убеждая в необходимости прославления последнего Российского Императора. Он писал (точнее, уже диктовал — из-за ночных вылетов во время Великой Отечественной войны он несколько лет назад ослеп) письма в Аргентину, Францию, США родственникам Романовых, а в итоге насобирал деньги из своей скромной пенсии и за свой счет заказал памятный знак, посвященный семье Царя-страстотерпца. Этим знаком награждены многие люди в России, за границей. В Крыму среди награжденных этим замечательным знаком — протоиерей Георгий Павленко, председатель фонда «Искусство во имя Христа» Георгий Когонашвили, иеродиакон Софроний (Макрицкий). Александр Андреевич сам разработал знак, так как он превосходный художник. Его небольшие живописные произведения хранятся в музее им. Г.Э. Бострема и в частных коллекциях. Он участвовал во многих выставках работ крымских художников. Александр Андреевич Гадицкий родом из русской семьи со строгим православным укладом, окончил высшее летное училище; после войны ходил в море на рыболовецких судах, занимался заготовкой пушнины. Он почетный член фонда «Искусство во имя Христа».
Александр Андреевич — необыкновенно отзывчивый и добрый человек. Его не оставляет равнодушным никакая беда. «Чужих, — как он говорит, — не бывает». Когда его старший друг, последний на земле белый воин Петр Ильич Мельник в свои сто лет сломал шейку бедра и был прикован к постели, Гадицкий каждый день ездил через весь Симферополь (а ему в это время было уже за 70), чтобы делать массаж Петру Ильичу. Он неоднократно отдавал все имеющиеся у него деньги нуждающимся людям, даже после того, как его обманывали. Он прошел войну от первого дня до последнего, перенес голод, лишения, но остался чутким и добрым. Он обладает тонким чувством юмора, много читает (сейчас ему читает верный друг и жена Анна Константиновна), осведомлен во многих областях. Он предельно честен, совершенно бескорыстен и прямодушен. Без всякого лицеприятия он высказывает правду, иногда совсем горькую, в лицо. Александр Андреевич — и это очень важно — умеет не только сострадать, но и сорадоваться, а это могут далеко не многие.
Газета «Русич» 26.01 — 8.02.2010
От имени редакции и всех наших читателей мы желаем Александру Андреевичу многая и благая лета, чтобы еще многие годы люди, видя добрую Вашу жизнь, славили Господа, дающего Свою неоскудевающую благодать всем Своим верным сынам! Здоровье, крепость, Милость Божия и Покров Его Пречистой Матери пусть всегда будут с Вами!
Лариса Самбурская
Сказ о старце
Московская городская организация Союза писателей России 2010
Благословение
Высокопреосвященнейшего митрополита
Хмельницкого и Староконстантиновского Антония
От автора
Сказ о старце основан на личных документах о. Димитрия Тяпочкина — письмах его духовным чадам из ссылки, его прошении епископу Курско-Белгородскому Леониду о монашеском постриге с именем Серафим в честь преподобного Серафима Саровского от 10-23 августа I960 года, личных воспоминаниях его внука Дмитрия Михайловича Тяпочкина, который в настоящее время служит диаконом в кафедральном соборе Преображения Господня в Кировоградской епархии Русской Православной Церкви, воспоминаниях жителей села Сурско-Михайловка Днепропетровской области, откуда начал путь своего священнослужения о. Димитрий — будущий архимандрит Серафим, изложенных в книгах:
«Праведник наших дней» протоиерея Николая Германского настоятеля Свято-Никольского храма в посёлке Ракитное, где проходила подвижническая жизнь старца Серафима (Тяпочкина); «Белгородский старец архимандрит Серафим (Тяпочкин)» иеродиакона о. Софрония (Макрицкого); «Проповедь в темноте» — статья в журнале о православной жизни «Нескучный сад» от 09.05.2005 года.
Сердечное восприятие прочитанного автором в итоге приобрело форму поэтического сказа.
Светлой памяти архимандрита Серафима (Тяпочкина) посвящаю
Сказ о старце Серафиме
Часть первая
Испытания
Начало
Белый снег, отлив лиловый,
Вот ворона на ветле,
Чуть поодаль лес еловый,
Да петух кричит в селе.
Затопили в избах печи,
По-над крышами дымки,
Пламенеют в Церкви свечи
И в кадилах угольки.
Благовест на всю oкругy
Льётся — небеса светлы,
И ворона вдруг с испугу,
Каркнув, спрыгаула с ветлы.
Все к обедне поспешают,
Хоть и тропки замело.
Вот уже псалмы читают,
В церкви людно и тепло.
Лишь на паперти старушка
Просит денежек на хлеб,
И звенят монеты в кружке
Подаянье для потреб.
Перед Царскими вратами
Пастырь возглас подаёт,
Руки люд сложив крестами,
Ко Причастию идёт.
Лихолетье
Помолились, причастились,
Да и к дому своему,
Только вдруг туда ввалились
Конвоиры ГПУ:
«Все на выход побыстрей-ка,
Ну, а поп где? Вот он! Вот!»
Где-то плакала жалейка,
Да молчал вокруг народ.
Руки батюшке связали
И нацелив дуло в бок,
Принародно затолкали
В подкативший «воронок».
— Больше ты служить не будешь!
А посмеешь, вот тогда
В лагерях свой срок отбудешь,
В них и сгинешь навсегда!
Батюшку предупредили:
Мол, про Бога ни гу-гу!
И пока что отпустили
Из застенок ГПУ
Во дни смут и нестроений,
Когда всюду шла борьба,
Под предлогом обновлений
В храмах началась татьба.
— Сколь ловки приспособленцы!
Тихо молвили уста.
В жизнь входили обновленцы,
Разодрав хитон Христа.
Знать бы, что же порождает
Эти обстоятельства,
Но всегда нас поражает
Подлость и предательство.
Меч, что подняли на Бога,
Он в монеты обратил.
И монет тех было много,
Но иудам свет не мил.
Потому что звоном злата
Не заменишь той любви,
Что живёт в христианах свято
Духом Спаса на Крови.
Видя мерзость запустенья,
Коль пробрался в церковь тать,
Патриарх дал порученье
Антиминсы все изъять.
Что бороться невозможно
Наш священник понимал,
Из церквей, хоть было сложно,
Антиминсы изымал.
Он теперь мог службу править
Вне поруганных церквей,
А народ Христа мог славить
Во дни смут, во дни скорбей.
В знак признанья, уваженья
К тем стараниям его
Награждён был за служенье
Грамотой Святейшего.
И хоть власти жизнь меняли,
Но вопрос звучал всегда:
— В обновленцах состояли?
Отвечал он: «Никогда!»
Богоборческая сила,
Будто брала на измор,
Град ударов наносила,
Начался голодомор.
Беды в каждый дом входили,
Все теперь их пленники,
Беды те не обходили
И семью священника.
Схоронил он двух сыночков.
Голод косит наповал.
Чудом выжили три дочки,
Вот невзгод тяжёлый шквал.
Шёл тридцатый год столетья,
Годы, словно дни войны.
Да лишился в лихолетье
Тот священник и жены.
Трое деток. Холод. Голод.
Как же всё переживут?
Дай властям ты только повод,
А нет повода — найдут.
Тайно под покровом ночи
Пастырь требы совершал,
Не пред Богом — это точно
Перед властью согрешал.
Обходил он лишь преграды,
Ну, а грешен в чём же был?
Что свершал тайком обряды
Здесь народ его любил.
Пастырь был им в утешенье
Средь разрухи, смут, скорбей
Он молился о спасеньи
Этих душ простых людей.
Власти повод всё искали,
Посадить его скорей,
Но к себе-то не снискали
Той любви простых людей.
Тем они и тяготились?
Злонамеренность ведёт,
Своего таки добились
И финал: «Встать. Суд идёт!»
Суд вершили тот предвзято,
Да и судьи были кто?
Лишь вопрос от адвоката:
«А судить его за что?»
Адвокатская подмога
Не спасла от тяжких бед,
Стала дальнею дорога,
Да на долгих десять лет.
Ссылка
Степи, нивы, косогорки,
Впереди нелёгкий труд…
Стук колёс быстрей с пригорка,
В Красноярск лежит маршрут.
Крайний Север — край суровый.
Надвигается зима.
Редко ходит здесь «почтовый»,
И дождёшься ли письма?
— Мавро, дщерь моя от Бога, —
Пишет пастырь из тех мест, —
Нет еды здесь, снега много,
Вот — голгофа и мой крест.
Буду ль жив? Про то не знаю,
Всё же лагерная доля,
Всех люблю вас, обнимаю,
Да на всё и Божья воля.
Вдруг приказ, а дело к ночи,
Отдал человек иль бес?
«Поп, не спи, а что есть мочи
Охраняй-ка этот лес».
— От кого же охранять мне?
Кто тайгу-то украдёт?
Это странное занятье!
— Выполняй! Шагай вперёд!
И давай-ка без комедий!
Лагерник стал у куста.
Подошли вдруг два медведя,
Он лишь поднял два креста.
Больше нечем защищаться,
Два креста в руках всего.
Оставалось удивляться
На смирение его.
И медведи присмирели,
Будто к старцу снизошли,
Порычали, посмотрели
И обратно в лес ушли.
Так он жил всегда в терпенье,
Отбывал смиренно срок,
И в итоге — поощренье
Отпустили на денёк.
Праздник Пасхи
В День Пасхальный, столь чудесный,
Будто кто-то старца вёл
К небольшой церквушке местной.
Вот в неё он и вошёл.
Несмотря на все запреты,
Стал в притворе и стоит.
Настоятель церкви этой
Подошёл и говорит:
— В алтаре я жду Вас, отче,
Не спросил: «Откуда, чей?»
— Видел сон я этой ночью
В нём в сиянии лучей
Был Господь и в сослуженье
Взять велел в притворе Вас.
В алтаре жду в облаченъе,
Будете служить сейчас.
Это чудо! Явь иль снится?
Старца взгляд от слёз дрожал!
Оставалось лишь дивиться,
Как в тот день он сослужал.
Разумел он голос Божий,
Глас Небесной высоты:
Я с тобою, Мой хороший,
Я терпел — терпи и ты.
Приговор теперь суровый
Обвинительных речей
Словно тяжкий крест дубовый
Пал со старческих плечей.
Вера в Бога укрепляла,
Старец дух стяжал в себе,
Ну, а власть окрас меняла
С ГПУ на МГБ.
Так прошло десятилетье
В этих северных краях.
К середине шло столетье,
Срок кончался в лагерях.
Мог бы выйти на рассвете
Выйти, ужас весь забыть,
Но не мог солгать в ответе
На вопрос: «Кем хочешь быть?»
— Я священник. Что иное?
Долг мой Богу угодить.
И ответ тот стал виною,
Чтобы снова посадить.
До двух тысяч заключённых
Умирало каждый год
Их в плененье измождённых —
Так вот нёс свой крест народ.
Ох, нелёгкая дорога
На пятнадцать долгих лет
От родимого порога
Увела, но был обет…
Тот, что дал когда-то Богу
Сердцем праведно служить,
Претерпел священник много,
Но сумел всё пережить.
Возвращение
Лагерник пришёл домой.
Где он дом? Затишье.
Да и церкви нет самой,
Выросли детишки.
Без прописки — вот беда!
Некуда деваться.
Вновь страданий череда
По свезу скитаться.
Власть безбожная окрепла
Под знамёнами побед,
И как будто бы ослепла,
Не предвидя новых бед.
А беда уже в преддверье —
Её поступь всё слышней.
Наказанье за безверье,
Может быть войны страшней
Шла разрух волна вторая,
Рушат церкви там и тут.
Но Господь сказал: «Врат рая
Силы ада не возьмут».
Как всегда в долготерпенье
На разбойной этой тризне,
Миру Бог послал знаменье
О застое самой жизни.
«Зоино стояние»
Неожиданно, как гром,
С грозовою тучей
Удивил вдруг каждый дом
Куйбышевский случай.
Там, на Чкаловской, девица,
В Новый год то было с ней,
В пост, решив повеселиться,
Собрала к себе гостей.
Новогодняя пирушка.
Под хмельное зелье.
Лишь вздохнула мать-старушка:
— В пост грешно веселье!
За окном метель кружила,
Слышался собачий лай,
И девица загрустила,
Не пришёл к ней Николай.
Враг вселился, будто искра,
Его действо — распознай!
На божницу глянув быстро,
Усмехнулась: «Николай!»
Там икона на божнице —
Чудотворец Николай.
У иконы бы молиться,
Зое пляску подавай.
Внемля стопочному звону,
Меж друзей она прошла
И сняла с угла икону,
С ней по кругу и пошла.
— Грех ли это? Кто мне скажет?
(Будоражит Зою спесь),
Пусть меня Бог и накажет,
Если Он конечно есть.
Не замедлил Бог явиться.
Свет погас. Безмолвие.
К полу приросла девица
И сверкнула молния.
Не сойти никак ей с круга,
Страх в распахнутых глазах.
Только крик на всю округу:
«Кайтесь, мир горит в грехах».
Погибаем все сгорая,
Крик её отчаянный.
Видя ад, не зная рая,
Стала Зоя каменной.
И друзья вдруг отрезвели,
Крики в доме, во дворе.
Протрезвев, и оробели
Этой ночью в январе.
Люд Руси не изменился,
Кто не ведает о том,
Чтоб мужик перекрестился,
Нужно чтобы грянул гром.
Вот и грянул, обратились
В мир послал Бог вестников
Покреститься все стремились,
Не хватало крестиков.
К дому тут же поспешили,
Под контроль власть всё взяла,
Но в Москву всё ж сообщили,
Мол, такие вот дела:
Что зовут девицу Зоя,
Что с иконою стоит,
Что явленье не простое
И не ясно, что таит.
Там в Москве уж это точно
Знают, как здесь поступить.
И в ответ с пометой «Срочно.
Дом охраной оцепить».
Дескать, нечему дивиться,
Прочь гоните свой испуг.
Постарайтесь у девицы
Взять икону ту из рук».
Как же взять? Не удаётся.
Мы пытались и не раз,
По стране молва несётся,
Что же делать нам сейчас?
Вновь идёт распоряженье,
И в канун Сочельника:
«К измененью положенья
Нужно взять священника».
Знал Всевышний, кто здесь н>жен,
Да берёг то знание,
Тот, кто духом был натружен,
Силу взял в стоянии.
Пламенел любовью к Богу,
Был спасён в темницах Им.
Он призвал его в дорогу,
Едет к Зое Серафим.
Взгляд охранников несмелых —
Неужели это тот,
Кто из рук окаменелых
Вдруг икону и возьмёт.
Старца в дом препроводили.
Расступились перед ним.
— Как Вас звать? — его спросили,
Он ответил: «Серафим».
Преподобного сердечно
Почитал он с детских лет,
С этим именем навечно
Богу даст святой обет.
Это будет много позже,
Далеко от этих мест?
Но и там, пред Богом тоже
Будет он нести свой крест.
Старец в дом вошёл неспешно,
Дух молитвенный хранит,
Глянул он на ту, что грешно
Здесь застыла и стоит.
Постепенно ночь входила,
Вот полночный час настал.
Зоя с места не сходила,
Он молитвы всё читал.
Его кроткий взгляд всё зорче,
Тайный дух витал над ним.
— Николае чудотворче,
Слёзно молит Серафим:
Помоги сию икону
Из рук грешницы мне взять!»
И в ответ подобно стону:
«А готов ли ты стоять?».
— Коль такая моя доля,
То, что должно совершу,
Да на всё и Божья воля,
Мира мирови прошу.
Пред иконой ночь молился,
Бог его молитвам внял,
И едва рассвет забился,
Он икону эту взял.
И поведал откровенье,
Слово — золото на вес:
«В День Великий в Воскресенье
Чуда ждать теперь с Небес».
Во свидетельство живущим
Он сумел здесь отстоять
И в слезах перед Словущим
Ту икону всё же взять.
Бог до срока укрывает
Имена святых таких
И не сразу открывает
Лики праведных Своих.
И они тем не кичатся,
Что достигли высоты,
В тайне предпочтут остаться,
Да стяжать дух чистоты.
Обретая кротость, святость —
Православия гранит,
Эту праведности радость,
Вот на них Бог мир хранит.
Так вопрос сей разрешился,
Взяв икону поутру,
Старец тихо удалился —
К патриаршему двору.
След его власть потеряла
Замешательством своим,
Но усиленно искала:
«Где же этот Серафим?»
Вновь готовили ему
Тюрьмы и гоненья.
По смиренью своему
Он ждал благословенья.
А на что благословить?
Церковь в поруганье.
Людям Бога б не гневить
После всех страданий.
Но век памяти короток,
Коли ей не дорожить,
Старец тот всегда был кроток,
Только где ему служить?
Дал Господь ему подмогу
В испытаниях ведёт,
Стук колёс и вновь в дорогу
Что же старца дальше ждёт?
И назначил архипастырь
На приход его в село,
То ль как рана, то л» как пластырь,
Это на душу легло.
Часть вторая
На приходе
«Ты моя крепость, Ты моя радость, Ты мой Бог…»
Серафим Тяпочкин
Дорога
На Руси что ни дорога,
Ямы как преграда.
Старец сердцем славит Бога,
«Стало быть, так надо».
Среднерусская равнина —
Место незавидное,
С гулом старенькой машины
Он въезжал в Ракитное.
Без величия, смиренно
К Храму пастырь наш идёт,
Вот видны ограды стены,
Что его за нею ждёт?
То ль терновник, то ли ива?
Где на то найти ответ?
То ль огни Иерусалима,
То ли это Назарет?
Проповедь в темноте
Тёмный храм, в нём снег не тает,
Что ни ночь — сильней мороз.
Пастырь проповедь читает
Для кого? Вот в чём вопрос!
Храм разрушен, нет в нём паствы,
И на стенах нет икон.
Проповедь читает пастырь,
Снег и ветер из окон.
Ночь взяла тот храм в объятья,
Нет в приделе ни души,
Лишь свеча, Крест и Распятье,
Только проповедь в тиши.
Пастырь проповедь читает,
Для кого она была?
Может быть, свеча лишь знает —
Она тихо плакала.
Место слёз — ракитное
В Украине плачет паства,
Пишет письма люд ему:
«Забери к себе нас, пастырь!»
А в ответ: «Куда возьму?»
— Сам едва здесь обитаю,
Слёз моих за всех не в меру!
Как и вы скорблю, страдаю,
Взять могу лишь только веру.
Словно символ веры личной
Той, в которой смысл и суть,
С верой в Бога безграничной
Он прошёл нелёгкий путь.
Миру было не до Бога,
Но служил Ему отец.
Ты, Ракитное — дорога,
Место слез, да и венец.
Постепенно по молитвам
Оживал Никольский храм,
Не поддавшийся ни битвам,
Ни кочевннкам-ветрам.
Бог привел иконописца
К написанию икон,
Уверенье очевидца:
«Так лишь мог отец Энной».
Расписал он по канону
Храм старинный и большой
За иконою икону
То ли кистью, то ль душой.
Старец слёзно всё молился,
Как на тверди здесь стоял,
«Лепота!», — народ дивился,
Когда купол засиял.
Храм возвёл в преображенье,
Пережив разрухи боль.
Власть вела ещё сраженье,
Но тихонько исподволь.
Да ничто уж не смущало
Ни селян, ни горожан,
И собрал тот храм немало
Из России прихожан.
Вера в Бога исцеляет
К старцу шли под окормленье,
Люд в Ракитное спешил:
Ждали люди исцеленья
Кто-то тела, кто — души.
Он в них веру укрепляет
И внушает лишь одно,
Что болезни исцеляет
Вера с малое зерно.
«Если зёрнышко посеешь,
Оно плод свой принесёт,
А коль веру ты имеешь,
То она тебя спасёт.
Нет, не я вас исцеляю,
Я молюсь, а вашу плоть,
Милосердие являя.
Исцеляет Сам Господь».
Серафимчик, вымоленый у Бога
Так бывало, что заочно
Приходилось исцелять
И просили старца: «Срочно
Надо что-то предпринять.
Женщина о сыне просит,
Помогите, — стонет мать,
Старец лишь вздохнёт и спросит:
— А сыночка-то как звать?
Серафимом мы назвали,
Ох, не выживет, боюсь.
Старец скажет, вняв печали:
— Я о сыне помолюсь.
И молился ежедневно
До тех пор молился он,
Пока мальчик совершенно
Всё же не был исцелён.
Годы быстро пролетели,
Вот уже подрос малыш.
С мамой он стоит у кельи,
Но не знает тот малыш,
Как спасал его от смерти
Этот добрый старичок,
Старец шёл уже к обедне,
Молвя: «Вырос мужичок».
И продолжил у порога
(Слёзы, слов не вымолвить)
«Серафимчика у Бога
Мы сумели вымолить».
Венец терновый
Принимал он всех с любовью,
Взглядом в душу проникал,
Не стремился к многословью,
А любовь людей снискал.
Старца нищий иль гость важной —
Всяк хотел благодарить.
И желал, конечно, каждый
Ему что-то подарить.
Всё он примет, всех приветит
Здесь в своей обители,
Но на нём подарков этих
Никогда не видели.
Приходил народ всё новый
И однажды привезли
В дар ему венец терновый
Из самой Святой Земли.
Пламенел закат багровый,
Холод шёл по январю.
Старец взял венец терновый
И вздохнул: «Благодарю!».
Но не зимней стужей жгучей
Обжигал его мороз,
А в шипах венец колючий
Душу старца сжал до слёз.
Обрамил закат в багрянец
Ветвь венца тугую плоть.
Но о чём же думал старец?
Знал о том один Господь.
Вот когда наш старец спал…
Пастырь рад всегда был люду.
Каждого понять умел,
Лишь предательство Иуды
Понимать он не хотел.
Мирный дух в нём, кроткий с вицу,
Всё он Господу вверял,
Ну, а жалобы, обиду
Никогда не поощрял.
Если вдруг с такою целью
Жалобщик и приезжал,
Удалялся старец в келью,
Разговор не продолжал.
Если ж в келью гость стремился,
Жалобами осыпал.
Старец на кровать ложился,
Тут он точно засыпал.
И вот этим отношеньем,
Молча, он давал совет:
Мол с таким-то прегрешеньем,
Богу дашь какой ответ?
Ты соломинку увидел
В глазу брата своего,
А в своём бревна не видел,
И не видишь всё его.
Искушение
На приходе что случалось
Всё с благословения,
Но однажды, так уж сталось,
Случай искушения.
В комнату, где деньги были,
Те, что собраны с трудом,
Двери запереть забыли,
И вошли цыгане в дом.
Они табором скитались,
У цыган свой вольный путь,
И в тот день не постеснялись
В дом церковный заглянуть.
Всё, что нужно им схватили,
(Это позже люд узнал),
Обокрав, н укатили,
А куда никто не знал.
Деньги на ремонт копили,
Храм то надо починить.
Лучше б что-нибудь купили,
Чем теперь цыган винить.
Старцу тут же сообщили:
Мол, нас табор обобрал
И цыгане утащили,
Всё, что наш приход собрал.
Старец выслушал смиренно
И с минуту помолчал,
А затем проникновенно
Глядя им в глаза, сказал:
Понимаю, вам тревожно,-
Все притихли и в тиши:
— Деньги выкрасть то не сложно,
Не украл бы кто души.
Если так уж получилось,
То нужна ли нам вражда?
Может быть, там что случилось,
Да была у них нужда.
Задержался у порога,
(Паства слушала его)
И добавил: «Слава Богу!
Не имею ничего».
Старец денег не касался,
Деньги шли всегда в совет.
От всего он отказался —
Ничего у старца нет.
С миром в келью удалился,
Здесь Устав свой исполнял,
И келейно ночь молился,
Средств иных не применял.
Разошлись в унынье люди,
Опечалился народ.
Утром, как пирог на блюде,
Поступил в храм перевод.
Эта сумма превышала
Ту украденную здесь,
Паству это восхищало
Значит, чудо Божье есть!
Открывал Бог старцу знанье:
Подождёт ремонтный фронт,
В искушенье — испытанье,
Нужен душ людских ремонт.
Разве мог бы он иначе,
Стремясь Богу угодить?
Он решал одну задачу —
К Нему паству приводить.
А в любви к Нему он пламени,
Сердцем Истину познал:
Искушенье лишь экзамен —
Это старец точно знал.
Высшая добродетель
Если что вам непосильно,
Не берите на себя,
Жизнь ведь радость, не унынье,
Паству он учил любя.
Камня в руку не кладите,
Если просят что у вас,
Не смущаясь, помогите,
Бог такой нам дал наказ.
Вы от чуждого бегите,
Старец повторял не раз,
Веру в Бога берегите,
Это главное для вас.
Без его благословенья
Если кто что совершал,
Зачастую вне сомненья
Всякий раз и согрешал.
Так пришёл один не стойкий,
А путь святости не прост,
И работая на стройке
Усугубил он вдруг пост.
Батюшка таких подвижек
Никогда не поощрял,
Потому иго тот подвижник
Здравие порой терял.
Что в итоге этой битвы?
В том ли благонравие?
И продолжил: «Для молитвы
Бог даёт нам здравие».
Вы в делах не горячитесь,
Спешкой человек грешит,
Но сначала помолитесь,
А уж там как Бог решит.
Не рывками дух проверьте,
Тщета в том излишняя,
Рассудительность, поверьте,
Добродетель высшая.
Сила благословения
Храм в Ракитном этот старец
Крайне редко покидал,
Мест святых с картинок глянец
Батюшку не привлекал.
А паломники в смятенье,
Можно ль в путь-дорогу им?
Он давал благословенье
Ездить по (местам святым.
— Помолиться поезжайте,
Полюбуйтесь виду,
И поклон мой передайте
Владыке Леониду.
А иным в другом смущенье,
И не раз бывало так,
Своего благословенье
Не давал он им никак.
Собираясь в путь-дорогу,
Путник к старцу подходил,
Объяснив свою тревогу,
Очень он его просил:
— Дайте мне благословенье,
На работу нужно в срок,
А у старца своё мненье:
— Нет, останьтесь на денёк.
— Не могy никак, простите,
Объясняет путник тот.
— Поступайте, как хотите, —
Скажет старец и уйдёт.
Путник вышел на дорогу,
Время к ночи уж идёт,
Да никак свою тревогу
Этот путник не уймёт.
Уж и время поджимало,
Он до ночи здесь стоял,
Ехало машин немало,
Но никто его не взял.
Так назад он и вернулся,
Всё же надо отдохнуть,
Утром старец улыбнулся:
«Вот теперь-то можно в путь».
Путник с батюшкой простился,
Да и с миром за порог,
Но немало удивился,
Когда прибыл в точный срок.
Вот так диво, что в смиренье
Божьей воли благодать,
Сила есть в благословенье.
Случай тот помог понять.
Важные гости
А властям всё в удивленье
Как привлечь народ он смог,
Старец лишь являл смиренье,
Зная — всё управит Бог.
Случай был такой однажды:
Власть имущие пришли,
Деловито и столь важно
К старцу с папками вошли.
Отругать его хотели,
Дескать, что же натворил,
Самовольно возле кельи
Он просфорню смастерил.
Старец будто хлебом-солью
Словом добрым их встречал,
И объяв своей любовью,
С миром он их привечал.
Вот и чай гостям подали,
И беседа за столом,
Этого ль те гости ждали,
Ведь пришли сюда со злом?
В удивленье им такое,
С миром гости и ушли,
Радость обрели в покое,
Позабыв, зачем пришли.
Вопреки запретам
Как-то раз его спросили
Про сибирские края:
— Там в тюрьме Вас тоже били?
— А других чем лучше я?
Краткий людям дал ответ:
— Скорби нёс я по острогам,
Не был в стороне от бед,
Да всегда спасаем Богом.
Милосердный Он нас любит,
Так бояться ли опять,
Тех, кто тело ваше губит,
Но не может душу взять?
Укрепляя слово делом,
Должно нам врагов любить.
Бойтесь лишь Того, Кто с телом
Может душу погубить.
Бог — любовь, и в этом сила —
Сила Нового Завета!
Мир она и победила
Вопреки любым запретам?!
Светоч веры
Край неброский, тихий, мирный
Курско-Белгородский,
Здесь святой родился — дивный
Серафим Саровский.
Это имя в малолетстве
Слышал старец и не раз,
Память сердца, память детства
В нём жила и по сей час.
Эта память как услада.
Словно давний чудный сон,
Паства слушать была рада
То, о чем поведал он.
Вспоминая про былое
Старец тихо говорил:
— Детство — время золотое, —
(Он его боготворил).
Мы вначале жили в Польше,
Помню детские года,
Но запомнил всего больше
Праздник тот, что был тогда.
Взгляд его исполнен света.
Словно память эта зрима!
Прославляли мы в то лето
Все святого Серафима.
Свет лампады у иконы
Лик святого озарял
И торжественно с шпона
Пастырь паству наставлял.
Хор красивым песнопеньем
Ко Всевышнему взывал,
И порыва вдохновенья
Пред отцом я не скрывал.
О святом не понаслышке
В раннем возрасте узнал,
А из той заветной книжки,
Что я в детстве прочитал.
То ли видел в том призванье,
Не могу вам объяснить,
Но сказал я о желанье,
Что хочу таким же быть.
В моём сердце умиленье
Его образ порождал
И немало удивленья
В жизни мне святой являл.
Видно так Господь и вёл,
Дал мне тропку узкую —
К вам в епархию привёл
Белгородско-Курскую.
Голос свяще пастырь слышит,
Сердцем Бога превозносит,
И прошение он пишет
Он об иночестве просит.
— Высокопреосвященство!
Вас смиреннейше пишу,
В юности желал священства
Нынче пострига прошу.
И по слову псалмопевца,
Что к Всевышнему взывал,
Да, «Готово моё сердце…»
Так в прошенья он писал.
«Коль не будет нарушеньем
Послушания за сим,
То прошу при пострижены!
Дать мне имя Серафим».
Слёзно пастырь Бога славил,
Осенил себя крестом
И в прошении добавил:
«Промысл Божий вижу в том».
Город Курск, собор Казанский,
В день апостола Луки
Батюшка наш Ракитянский
Принял постриг в иноки.
В городском соборе главном ,
Что курянами храним,
В постриге давно желанном
Имя принял Серафим.
Награда
Ты, Ракитное, — отрада.
И колёс вагонных стук
Приближает, как награду,
Встречу с внуком, едет внук.
Нелегко порой в ученье,
Овладеть попробуй им.
И берёт на попеченье
Внука старец Серафим.
— Не себе ты доверяйся,
Предоставь всё Небесам,
Да на Бога полагайся!
Что же всё ты: «Сам, да сам!»
Самому-то тяжело как
В самости безверия!»,-
И становится легко так
После наставления.
Говорил всегда не строго:
— Ко всему ты будь терпим,
Ведь мешаешь только Богу
Нетерпением своим.
Знай, Господь всё видит, явит,
Ну, задержит на денёк.
Что ж с того? Он всё управит,
Всё, что нужно в точный срок.
Начиная дня дорогу.
Внука пением будил.
Пел он: «Слава в вышних Богу»
И тихонько уходил.
В этих звуках песнопенья
Был покой и мир души,
Как исток благословенья,
Прозвучавшего в тиши.
Окормляя внука с детства,
Он без назидания
Находил простые средства
В мерах воспитания.
Сердцем внука он лелеял,
Внешне сдержанным с ним был,
Он покоя духом веял,
Внук всё это не забыл.
А иным казалось строго
Старец к внуку подходил.
И не столь ему уж много
Он вниманья уделил.
«Вы не очень к внуку строги?»
Вот такой вопрос звучал:
«С юности управь дороги», —
Старец людям отвечал:
— Коль на путь кого поставят,
Тот плохого не посмеет,
Если смолоду наставят,
Он о том не пожалеет.
Нет ни в чём случайного
— Велико все в мирозданье
На жучка не наступи
Тоже Божие созданье —
Путь ему ты уступи.
Им ли это не отрада —
Узенькая тропочка?!
Но случилась вдруг преграда —
На пути верёвочка.
— Может, это так, случайно?
Тротуар ведь здесь кладут,-
И продолжил внук печально:
«Иль забыли её тут?»
— Это слово ты забудь!
Нет ни в чём случайного!
И попита в обратный путь
От того — центрального.
Письмо
Был у старца внук и старше,
Реже здесь в гостях бывал,
Жил от дедушки он дальше,
Но о нём не забывал.
В институте он учился,
Всё науки постигал,
Дедушка о нём молился,
Внуку тем и помогал.
И умно и осторожно
Он заботу проявлял,
Речь проста, понять не сложно,
Но сколь мудро наставлял:
— Дорогой, ты мой, любимый,
Очень я тебя прошу,
Будь внимательным, мой милый,
К тем словам, что я пишу!
Пусть они падут на сердце,
Принесут плоды любви,
Будь к родителям, как в детстве,
С чувством долга к ним живи.
Приближается их старость,
Это — трудные года,
Им внимания, хоть малость,
Уделить умей всегда.
Помни, как тебя любили,
Ограждая от беды,
Как они тебя растили,
Приложив к тому труды.
И в сыновнем отношенье
Будь к ним полон доброты,
Скрась их старость утешеньем,
Будешь счастлив в жизни ты.
Этим кратким наставленьем
К сердцу путь он находил
Вот с таким благословеньем
Внук в жизнь взрослую входил.
Почести
И в Ракитное шли вести:
В день его рождения
Удостоен был он чести
Двух крестов ношения*.
С благодарностью как надо
Долг вниманью воздавал,
Но значения наградам
Никогда не придавал.
Внук и паства были рады,
Старец, сделав скромный жест,
Молвил: «Мне одна награда —
Мой священнический крест».
Милующее сердце
Сердце старца сострадало
Каждой твари на земле,
Чувство то не покидало
Никогда его нигде.
Не приветствуя веселий,
Знал немало он забот,
А у самой его кельи
Жил на кухне старый кот.
Он давно здесь жил наверно,
То ль устал, то ль занемог,
Но теперь как прежде верно
Он мышей ловить не мог.
За церковною оградой
Был заросший буерак
И додуматься ведь надо!
Отнесли кота в овраг.
Старец наш о том не ведал,
Но вниманье обратил.
После службы пред обедом
Он келейницу спросил:
Где наш кот? Ведь не случалось
Исчезать ему вот так.
И келейница призналась,
Что снесли кота в овраг.
Объясняла в оправданье,
Мол, плешив и стар он стал.
Старец выслушал признанье
И келейнице сказал:
Исключенья есть из правил,
Но сейчас я не о том,
И помедлив чуть, добавил:
— А кота верните в дом.
Без сомнения поверьте,
Мир добром изменится,
И кормить кота до смерти
Он велел келейнице.
Мать с детьми не разлучайте
Так и шло всё понемножку,
Скоротечны дни летят,
Но, забот прибавив, кошка
Родила себе котят.
— Ну, зачем нам столько кошек? —
Думала келейница.
— Это ж сколько нужно плошек?!
— Всё ворчит, да сердится.
Надо что-то с этим делать,
Нам приплод сей ни к чему,
Вот сейчас бы мае все сделать,
Да отдать бы их кому.
Старец умысел тот понял,
Но её не наказал,
А на руки кошку поднял
И келейнице сказал:
Мать с детьми не разлучайте,
Пусть что должно выполнит,
И котят не отдавайте,
Пусть их кошка выкормит.
Пусть себе живёт
Как-то муха в дом влетела,
Здесь понравилось видать,
Потому что не хотела
Эта муха вылетать
Как же это раздражает, —
Думала келейница, —
Знай себе, жужжит, летает,
В муху она целится.
Всё прогнать её спешила:
— В доме мух не потерплю.
И, в конце концов, решила:
— Я сейчас её прибью.
Приложив своё старанье,
Хлопнуть муху норовит,
Старец, видя то желанье,
Ей смиренно говорит:
— Отдохнуть бедняге дайте,
И она покоя ждёт.
Муху Вы не убивайте,
Пусть она себе живёт.
Под сенью сада
В летний зной под сенью сала
Старец в полдень отдыхал,
Пенье птиц, в тени прохлада,
Мир на время затихал.
Разноцветье пчёл манило,
Зной под тенью отступал,
Старца будто в сон клонило
И казалось, что он спал.
Прядью влас из-под намётки
Нежно ветерок играл,
Выдавали старца чётки,
Он их всё перебирал.
Дух молитвы сердцу сладкой
Он всегда в себе стяжал.
Оставалось лишь загадкой,
Ну, когда же старец спал?
Накануне всё молился
И в объявшей мир ночи
В келье до зари светился
Тусклый огонёк свечи.
Молитва духа
Литургия у монаха
Начинается в ночи,
С чувством трепетного страха,
Молится он у свечи.
Ко Всевышнему взывая,
Он не ждёт земных наград.
Эта келия ночная —
Гефсиманский его сад.
На Голгофу ли в дорогу,
Выйдет он, свой крест неся,
Одному известно Богу,
А иначе и нельзя.
До утра всю ночь молитва,
Дух Святой стяжает он,
Жизнь монаха — это битва,
Покаянный слёзный стон.
Лишь рассвет полоской ляжет
И ударит первый звон,
Пастырь поручи повяжет,
Облачится в ризу он.
По живому коридору
В облачении идёт,
Словно он восходит в гору,
Он сейчас в алтарь войдёт.
В алтаре Свитых Свитая
Ко престолу подошёл,
Дух Свитой над ним витая,
С мира Горнего сошёл.
Всю историю спасенья,
Все страдания Христа,
В тайне слёзного моленья
Испытает у Креста.
Здесь Церквей соединенье
И Небесной и земной,
Радость, слёзы и волненье
В сердце трепет и покой.
В тихом веяние Бога
Всё преображается,
Прочь уйдёт с души тревога,
Дух в нас пробуждается.
И таинственно незримы
В миг библейской тишины,
Снизошли в храм Херувимы,
С благодатной вышины.
Силы Вышнего созданья
С высоты сюда грядут.
Дискос, копие, Писание
В храмы Ангелы несут.
И незримый Ангел тенью
К той процессии примкнёт,
Храм замрёт, внимая пенью,
«Аллилуия», — хор поёт.
Облачённый в броню правды,
Возложив шлем на Себя,
В длани щит святой ограды*
Вот восшествие Царя.
Хор поёт благопристойно,
«Херувимскую» поёт
С сонмом Ангелов достойно
Сам Господь сюда грядёт.
«Не ослабьте златом силу,
С дерзостью возьмите щит»,-
Так сказал Ты, радость миру
И хвала Тебе звучит.
Силы, Власти и Начала
С ними войск святых оплот,
Песнопенье зазвучало —
Начался «Великий Вход».
Литургической молитвой —
Пастырь просто ею жил,
Со слезою здесь пролитой
Каждым словом дорожил.
И частички за всю паству
Пастырь лично вынимал,
Он творил такую Пасху
И Христос ему внимал.
Поминал всех поимённо,
Проскомидию верша,
В алтаре уединённо,
Но ведь чувствует душа
Силу старческой молитвы —
Это слёзное прошенье
Блага дать, убрать ловитвы
На пути и дать прощенье.
Службы длились все подолгу,
Он молился в алтаре.
Службой пастырского долга
Перед Богом на земле.
Освятив Дары по чину,
Призывая благодать,
Трепетно и благочинно
Начинал он причащать.
А затем и поученье —
К разуменью Истины
В проповеди — наставленье,
Были они жизненны.
Говорил он тихо, просто,
Так, что каждый разумел,
На вопрос и без вопроса
Старец отвечать умел.
Не слова касались слуха
Тех, кто слушал здесь его.
Веянье Святого Духа
Исходило от него.
Умиленье и отрада,
Нет чужих, здесь все свои,
Вот она Христа награда —
Отзвук «Вечери любви».
Все родными становились,
Не хотелось уходить,
Лица радостью светились,
Литургией надо жить.
Беседа в молчании
В Боге кто, тому молчанье —
Лучше суетных бесед.
Да вот как постичь то знанье
Было внуку с юных лет?
Но приехал к ним однажды
Старца давний верный друг.
Пребывал в молчанье каждый,
Не сказали слов-то двух.
Это странно даже очень
И загадка до сих пор:
«Проводите внука, отче,
И продолжим разговор».
Он покинул келью старца,
Следуя решению.
Оставалось удивляться
Этому общению.
Час разлуки
Час разлуки, час прощальный,
Внуку ехать в институт —
И тоска и взгляд печальный,
Слёзы градом, круг сомкнут:
— Никуда я не поеду,
Не поеду, нетушки! —
И пошёл назад по следу,
Что оставил дедушка.
Только, что его желанье?
«Ну, давай обнимемся, —
Обнялись и на прощанье, —
— Да когда ж то свидимся?»
Особый разговор
Шла весна — зиме замена,
И приехала весной,
К старцу в гости Ермогена,
Рад был старец встрече той.
Плакала весна капелью,
В ночь затих церковный двор.
Пригласил её он в келью
На особый разговор.
Шла неспешная беседа,
Обо всём он вспоминал
И тогда он ей поведал,
Как его Господь спасал
От голодной смерти лютой,
Да таёжного зверья
Шла минута за минутой,
Говорил про лагеря.
Дал ему Господь три меры,
Трое чад за ним пошли,
Вот она любовь и вера,
Взяли крест и рядом шли.
Двое там навек остались,
А хотели век с ним быть,
Никогда бы не расстались,
Это старцу не забыть.
Вспомнил первое служенье,
Мавру вспомнил н Такмак.
Будто связывал все звенья,
Рассказал, что было как.
В век безбожной круговерти
Что не так, приказ: «Стреляй!»,
Но его спасал от смерти
Чудотворец Николай.
Словно память постучала,
Вспомнил всё, что пережил,
Будто с самого начала
В эту ночь он жизнь прожил.
Книгу жизни он листает,
Слово скажет, помолчит…
Огонёк свечи всё тает,
А в окно рассвет стучит.
Вот и всё, пора прощаться,
Посмотрел в последний раз.
Больше им уж не встречаться,
Слёзы хлынули из глаз.
Юдоль плача
Келья старца — юдоль плача,
Тонкий огонёк свечи.
А могло ли быть иначе?
Старец молится в ночи:
— Алчущим дай хлеба, One,
Накорми их, пакорми! —
И тускнеют его очи:
«Я их вёл — они Твои».
Светел лик его, взор выше-
Час незабываемый,
Тихий голос еле слышен:
«Мой Неусыпаемый».
Взгляд его сосредоточен,
Он исполнен чистоты,
И в молитве старец точен,
Духом он у той черты,
За которой взор сомкнётся,
Жизнь земную завершит,
День уйдёт и не вернётся,
Время мерный круг вершит.
Стрелки пали до предела,
Полшестого на часах.
Паства плакала и пела,
Пела: «Господи, воззвах…»
Шла Пасхальная седмица,
Служба шла, как он учил.
Ввечеру, в семнадцать тридцать
Старец в Господе почил.
Он к Нему всегда стремился,
Вслед Ему пошёл, взяв крест.
Свет лампадки всё светился —
Свет любви из этих мест.
«Свете Тихий, Святый Отче,
Славы свет незаходимой
В этот час Пасхальной ночи
Принял старца Серафима.
Послесловие
Люд у старца окормлялся,
Памятью о нём живёт.
Кто от тех корней питался,
Тот и добрый плод даёт.
Старец нас не покидает,
Он средь нас всегда незримо.
Кто бывал в Ракитном, знает
Помощь старца Серафима.
С постоянством очевидным
Храм традицию хранит
И доныне! Там в Ракитном
Всё о старце говорит.
Лариса Самбурская, март 2010 год, город Москва
Поэт, авторисполнитель песен, член Союза писателей России. Родилась в году в семье военнослужащего в г. Констанца (Румыния). С 1954 по 1966 год она жила и училась в посёлке Пролетарский (станция Готня) вблизи Ракитного, где в тот период нёс крест подвижнической жизни архимандрит Серафим (Тяпочкин).
Стихи она начала писать еще школьные годы. Ее первый поэтический сборник «Золотая россыпь» вышел в 2009 году. Второй — «Остров фламинго» — в 2010 году. Стихи Ларисы Самбурской вошли в альманах «Москва поэтическая» и в сборник православной поэзии «Только бы свеча не погасла». В 2010 году она написала «Сказ о старце Серафиме (Тяпочкине)». Сказ — это не документальная поэзия, а поэтическая форма описания жития великого старца. Творчество Ларисы Петровны по достоинству оценили в Союзе писателей России. В 2011 году ее наградили дипломом Осипа Мандельштама и медалью «Александра Грибоедова». Она награждена дипломами: Федора Тютчева и Марины Цветаевой.
Стихи она пишет не ради наград и славы. Для нее это духовная потребность.
Архиерейские отзывы о «Сказе…»
Христос Воскресе!
Глубокоуважаемая Лариса Петровна! Сердечно благодарю Вас за чудесную поэму о старце Серафиме (Тяпочкине).
Высокий поэтический стиль, в котором написана поэма, весьма достоин сего праведника наших дней.
С удовольствием прочел Ваше произведение, которое откликнулось в сердце благодарностью. Желаю Вам дальнейших творческих успехов, для тела — здравия, а для души — спасения! Всемилостивый Господь пусть благословит все Ваши добрые дела и начинания!
С уважением
23.04.2010 г.
Митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский
Самбурской Ларисе Петровне 127322 г. Москва, Милашенкова, 17-6.
Канцелярия Митрополита Волгоградского и Камышинского ГЕРМАНА сообщает Вам резолюцию Его Высокопреосвященства, положенную на Ваше письмо от 07.04.2010 года: «Воистину Христос воскресе! Благодарю за сказ об отце Серафиме (Тяпочкине). Я его очень почитаю. Митрополит Герман».
20.04.2010 г.
Секретарь иеромонах Прохор (Куксенко)
Уважаемая Лариса Петровна!
Христос Воскресе!
В этот великий и светоносный День Христова Воскресения взаимно поздравляю Вас со спасительным праздником Пасхой Господней!
Молитвенно желаю Вам от Воскресшего и Собою всех нас Совоскресившего Христа Жизнодавца пребывать в духовной радости, добром здравии и долгоденствии.
Да соделает Спаситель мира всех нас причастниками Своей вечной славы.
Стихи о любимом мною архимандрите Серафиме, напомнили мне о том времени, когда приходилось мне его видеть и общаться в с. Ракитном.
С уважением,
Архиепископ Ростовский и Новочеркасский
Пасха Христова
2010 года г. Ростов-на-Дону
Возлюбленная о Господе Лариса! Благодарю Вас за проникновенный сказ о старце Серафиме и биографические сведения о нём, что для меня весьма полезно и назидательно, буду его поминать. Спаси Вас Господь!
01.05.2010 г.
Архиепископ Красноярский и Енисейский Антоний
Уважаемая Лариса Петровна!
Сердечно благодарю Вас за присланный сказ об отце архимандрите Серафиме (Тяпочкине).
Желаю вам помощи Божией и всяческого благополучия.
14.09.2010 г.
Здравствуйте, Лариса Петровна!
Тронут Вашим вниманием и ценным подарком — сказом об отце архимандрите Серафиме (Тяпочкине), за что искренне Вам признателен.
С почтением,
Епископ Читинский и Краснокаменский
Уважаемая Лариса Петровна!
Благодарим Вас за письмо с материалами о приснопамятном архимандрите Серафиме (Тяпочкине) и стихотворение о нем. Присланная Вами книга поступила в библиотеку.
С уважением
30.06.2010 г.
Епископ Брянский и Севский
Читательские отзывы о книге «Белгородский старец архимандрит Серафим (Тяпочкин)»
Евлогий (Смирнов), архиепископ Владимирский и Суздальский.
Спасибо Вам, дорогой отец иеродиакон Софроний, за ценную для меня бандероль, полученную мною с книгой, о дорогом батюшке отце архимандрите Серафиме, очерк о котором у Вас получился блестяще, с чем можно поздравить Вас как автора. Эта книга будет многим полезной. Царство ему Небесное и вечный покой. У Бога все живы, хотя и умерли телом, и это нас всех утешает, ибо мы живем молитвами таких подвижников, как приснопоминаемый батюшка Серафим.
Храни Вас Бог!
Архиепископ Владимирский и Суздальский.
г. Владимир, 2 июня 1998 г.
Прокл (Хазов), архиепископ Ульяновский и Мелекесский.
Книга об отце Серафиме является моей настольной книгой.
Троице-Сергиева лавра, 18 июля, 1999 г.
Иов (Смакоуз), епископ Сумской и Ахтырский.
С любовью и радостью прочел Вашу книгу, отец иеродиакон Софроний, о дорогом батюшке-старце архимандрите Серафиме.
С благословением, епископ (ныне архиепископ) Иов.
г. Сумы, 3 августа 1999 г.
Архимандрит Кирилл (Павлов).
Хорошая, очень нужная и полезная книга.
Сергиев Посад, 1998 г.
Протоиерей Николай Гурьянов.
Берегите эту драгоценную книгу.
Остров Залит, февраль 1995 г.
Николай Державин, кандидат богословия, референт Святейшего Патриарха, постоянный телеведущий трансляций патриарших богослужений на ОРТ.
Времени, как всегда, не хватает. Открыл подаренную мне книгу и подумал, что только полистаю ее, пробегу глазами. Но начал читать и не мог оторваться. Прочитал от начала и до конца, несмотря на то, что у нас в это время были ночные монтажи, программы на радио и телевидении, посвященные празднованию памяти Преподобного Сергия, Радонежского чудотворца. Хотелось бы выразить глубокую благодарность автору-составителю и всем тем, кто подъял весь этот колоссальный труд.
Все, что помещено в книге, собрано с огромной любовью к старцу, основано на личном переживании и опыте общения с батюшкой. Каждое живое свидетельство о таком человеке необычайно дорого и ценно. Особенно в наше время, когда люди стоят на распутье, когда много всяких сложностей в социальном и духовном плане. Многие не чувствуют твердой почвы под ногами, крепким. Книга воспоминаний — это ценнейший документ, открывающий перед нами, поколением молодых, неведомые страницы истории Русской Православной Церкви, в которой были стойкие исповедники веры. Они свидетельствовали о Боге, до мученичества.
Всякий, кто откроет эту книгу, не сможет остаться равнодушным. То, что здесь написано, войдет в его сердце и растворится в нем, ибо каждое слово дышит правдой и любовью к старцу.
г. Москва.
Андрей Христенко, предприниматель.
По прочтении книги батюшку Серафима воспринимаю как очень дорогого для меня человека. Я редко плачу, а тут читал и плакал, как ребенок. Старец Серафим подарил мне слезы, о которых я всегда просил любящего нас Господа. Батюшка размягчил мое сердце, что необходимо каждому человеку в наше нелегкое время. Захотелось побывать на могилке и поклониться ему. Велики наш Бог и Его угодники, одним из которых является батюшка Серафим… Я просто счастлив, что имею такую, я бы сказал, целительную книгу.
г. Волжский, Волгоградская область.
Раб Божий Виктор.
Книга удивительная. От нее исходит великая сила, исцеляющая и душу, и тело. Когда подступает уныние, я беру книгу, читаю — и все проходит.
Москва.
Из письма Евдокии Блиновой, студентки-заочницы Санкт-Петербургского университета.
«…Ваша книга перевернула и потрясла всю мою душу, а дивный старец отец Серафим стал для меня необычайно дорогим и каким-то необыкновенно близким и родным и такими же любимыми и дорогими стали для моей души и все духовные чада незабвенного батюшки, словно отсвет его духа лежит на всех них.
Я полюбила батюшку всей душой. Сердце мое загорелось желанием всецело служить Господу, стяжать смирение и любовь, стяжать Духа Святого и соединиться с Богом… Я хочу поблагодарить Вас за Вашу книгу, которая оживотворяет душу, вырывает из пучины отчаяния, смягчает и умиляет сердце!..
Книга во много раз увеличила круг духовных детей отца Серафима. Те, кто прочитал ее, стали с любовью и верой обращаться за молитвенной помощью к батюшке. Отец Серафим через книгу продолжает приводить к Богу все новых и новых людей… Вероятно, душа моя не выстрадала себе встречу с человеком, подобным отцу Серафиму… Теперь-то я понимаю, что Господь посылает встречи с такими дивными людьми, как отец Серафим, душам или изначально смиренным, Богом отмеченным, или пришедшим ко смирению в результате больших страданий и потрясений, ведь только смиренному дано почувствовать благодать Святого Духа в другом человеке и воспользоваться этой благодатью».
Игумен Сергий (Рыбко), духовное чадо отца Серафима
«…Батюшка, несомненно, преподобный отец, кстати, таковым его считает духовник Свято-Данилова монастыря архимандрит Даниил. Он говорит, что отец Серафим (Тяпочкин) — это последний русский святой. После него такой высоты никто не достиг, хотя, надеюсь, история Церкви в России пока еще не закончена, и были, и будут святые на нашей земле.
Преподобные подвизались в разных подвигах: были святые отшельники, молитвенники, были духовные писатели, например, преподобный Никодим Святогорец, были святые игумены, которые основывали и возрождали обители, были и старцы. И вот батюшка Серафим — это, несомненно, старец. Это особое служение, прежде всего, пророческое. Он окормлял народ, он был свидетелем веры, он был свидетелем любви Божией. Достаточно было увидеть его, чтобы что-то в тебе переменилось. Жизнеописатель пишет о святителе Николае, что порой язычники приезжали, и им достаточно было увидеть лицо великого угодника Божия, чтобы стать православными и принять Крещение. Также было и с отцом Серафимом: достаточно было его увидеть, чтобы понять, что он совершенно необычный человек, этого просто нельзя выразить словами. Особенно это ощущалось, когда батюшка начинал говорить, хотя речь его была тихой, очень скромной, наставления были кратенькие, 2–3 минуты, в особых случаях 10–15 минут, не больше — потому что его ждали люди. Это был, несомненно, старец».
Паломница Елена.
Когда я впервые открыла книгу об о. Серафиме (Тяпочкине) и увидела известную фотографию, где он смотрит, кажется, в самую душу, слезы полились градом. Мы с дочкой так полюбили эту книгу, что, засыпая, она просила что-нибудь пересказать. Я рассказывала, а она уточняла, поправляла.
Переснятое фото давно стоит среди домашних икон, и отец Серафим смотрит на меня то ласково, то строго. Чаще строго.
Валентина Галкина.
Когда я читала книгу об отце Серафиме, на душе было тихо, спокойно и легко. Я просто поражалась всему, что происходило с батюшкой, как он переносил скорби, любил и помогал людям. Когда я смотрю на его фотографию, мне становится легко и хорошо. От его фотографии исходит доброта, мне кажется, что он мне улыбается. Я стала обращаться к нему за помощью, и по его молитвам Господь мне помогает.
19 ноября 2005 г., г. Москва
Андрей Печерский, главный редактор газеты «Русь Державная».
Я считаю мое исцеление, которое произошло со мной по прочтении книги, маленьким чудом по молитвам батюшки Серафима. Книга очень достойная, удивительная. Спасибо всем за подвижнический труд, каким является собирание такого количества материалов о старце.
Москва.
Сергей, ФГУ ИК-5, 10 отр.
С Божией помощью приобрел книгу об отце Серафиме, читаю ее с большой любовью и радостью, слезы сами собой льются из глаз, осталось прочесть страниц сто, потом надо другим передать. Замечательная книга. Все в простоте и с такой любовью написано, что нет у меня слов выразить свою духовную радость… Молитва отца Серафима не прерывалась, он молился за всех, хочется подражать таким святым, которые своим благочестивым примером показали, как нужно свято жить по заповедям Божиим.
28 июня 2008 г., г. Коряжма, Архангельская область
Андрей, ФГУ ИК-5, 10отр.
Я благодарен за бесконечное сокровище — книгу об отце Серафиме, читая ее, проникаешься теплотой и укрепляешься в терпении, которое нужно особенно здесь, в заключении.
г. Каряжма, Архангельская область, 2008 г.
Сергей, Татиана и Даниил Левакины.
Для нашей семьи эта книга стала полным откровением. Прочитав ее, мы стали ближе к Богу, теперь мы чувствуем, что с воцерковлением нельзя медлить, стараемся как можно чаще бывать на службах. Отец Серафим не оставляет нас своей молитвенной помощью. Мы очень верим в силу его святых молитв.
г. Балабаново.
Мелитина Сибрикова, художница.
Читала эту книгу постоянно, и она меня утешала. Чувствовала, насколько это чтение целительно: не только моей душе становилось легче, но и физические недуги врачевались. Теперь, когда мне плохо, я кладу эту чудную книгу под подушку и засыпаю. А просыпаюсь новым человеком: усталость и подавленность как будто рукой снимает. Сердечные боли прошли, словно бы заново родилась. Это и есть чудо исцеления, по молитвам батюшки Серафима. Я давала читать эту книгу многим знакомым, друзьям — они испытывали то же ощущение от прочитанного. Сам Господь утешает нас, по молитвам старца.
Дорожу этим драгоценным подарком, по счастливой случайности пришедшим ко мне. Благодарю Господа, что и я не забыта, что и у меня есть такое утешение.
Держу в руках эту врачующую душу книгу и плачу от своего недостоинства. На меня смотрят ласковые глаза старца, он улыбается — и наступает успокоение. Было бы замечательно, если бы эта книга имелась в каждом доме, как аптечка с лекарствами для врачевания нас, грешных.
г. Минск.
Спартак Иванович Королев, кандидат педагогических наук, доцент психологических наук, профессор по преподаванию иностранных языков.
Друзья и близкие прочли это произведение на одном дыхании и сразу соучастно отозвались о старце.
Книга написана таким языком и стилем, что сразу проникаешься тем временем и тем духом, который тогда царил. Очень емко и правдиво описана жизнь отца Серафима… Его преданное служение было настоящим подвигом. Книга выдержана документально, видно, что автор строго отбирает факты и постепенно сознается образ, достойный подражания. Мы приветствуем появление книги и считаем, что она будет воспитывать целое поколение верующих людей.
г. Минск, 30 декабря, 1998 г.
Андрей, из ЗВШО (заочной воскресной школы для осужденных).
Книга произвела на меня сильное впечатление, читая ее я плакал, сггец Серафим близок мне смирением, кротостью, любовью к ближнему. Когда смотрю на его фотографию я как бы слышу его голос о любви ко всем людям. Любви мне не хватает, кого-то люблю, кого-то — нет. С фотографии отец Серафим призывает к смирению, а смирению мне учиться и учился. Коша я неправильно поступаю фото отца Серафима меня обличает, я иду на исповедь и каюсь в своих грехах. Я почувствовал, что покаяние очищает душу, Господь нас грешных любит и зовет к себе. Так думают и братья во Христе здесь, в заключении, с кем мы ходим в храм.
пос. Ошевенск, Архангельская область, 6 февраля 2007 г.
р. Б. Марина.
Досточтимый иеродиакон Софроний!
Мы, прихожане храма Архангела Михаила в городе Лос-Анджелес, выражаем Вам глубокую благодарность за Ваш просветительский труд. Благодаря Вашей книге многие православные в Америке открыли для себя великого молитвенника отца Серафима (Тяпочкина). Еще раз благодарим и ждем новых книг.
г. Лос-Анджелес, США
Каждая строчка омыта слезами
Светлый, словно прозрачный, акварельный храм. Фотография пожилого батюшки с проницательным взором. Пройти мимо этой книги нельзя. Кажется, что священник с обложки видит тебя насквозь и зовет за собой в мир добра и покоя. Полное название книги: «Белгородский старец архимандрит Серафим (Тяпочкин). Жизнеописание, воспоминания духовных чад, проповеди».
Отец Серафим — почти наш современник, годы его жизни: 1894–1982. Слава Богу, что в наше время жил такой духоносный старец с ласковым, проникающим в душу взглядом!
Общий тираж книги об отце Серафиме достиг 188 тысяч экземпляров, она выдержала десять изданий и для многих православных стала настольной. Некоторые читали ее больше десяти раз!
На православной выставке мне довелось побеседовать с автором-составителем книги об отце Серафиме (Тяпочкине) — иеродиаконом Софронием (Макрицким).
— Отец Софроний, Вы написали книги о священномученике Онуфрии (Гагалюке), духовнике архимандрита Серафима (Тяпочкина), и о самом старце Серафиме. Оба этих издания снискали поистине всероссийскую известность, а о Вас читателям практически ничего не известно. Не могли бы Вы рассказать немного о себе, о Вашем пути к Богу, о знакомстве с отцом Серафимом?
— Что я? Я на сей день пустота, ничего во мне нет. Искушений много, но я стараюсь бодрствовать и через исповедь, через покаяние очищаться. Если вода в сосуд падает по капле, она только сверху промывает его, а если льется сильная струя воды, она промывает весь сосуд сразу.
Когда я работал над книгой, у меня было желание как можно глубже раскрыть внутреннее состояние батюшки и его учеников. Ведь истинные духовные чада старца являются носителями духа своего наставника, пусть не в полной мере, этого трудно достичь, но вектор, направление те же. Прочитав книгу, можно отчасти понять и то, чем живу я. Жил и живу молитвами и наставлениями отца Серафима, душа и сейчас наполнена памятью о нем.
Родом я из города Борисова Минской области.
Бог сподобил меня родиться в верующей семье (8.XII.1943). Моя бабушка по отцу, Василиса, ходила пешком из Белоруссии в Киев на поклонение святыням. Моя тетя вспоминала, как я, будучи совсем маленьким, залезал под стол и там, в тишине, молился Богу.
7 мая 1945-го погиб мой отец, гвардии рядовой Макрицкий Андрей Антонович (1903–1945) при взятии Кенигсберга, за два дня до победы, ему было 42 года. У моей мамы, Марии Федоровны (1906–1978), инвалида первой группы, на руках осталось пятеро детей. Ей предложили всех детей сдать в детский дом. Как ей ни было тяжело, она отказалась и с Божией помощью всех воспитала. Я был младший. Я был пастушком, пас коров, коз. С 13 лет стал «сыном полка» военного оркестра танковой дивизии, расквартированной в г. Борисове Минской области. Днем занимался музыкой, спортивной гимнастикой, а вечером ходил в школу рабочей молодежи. В 1961 году при Хрущеве было сокращение вооруженных сил (1 млн. 200 тыс. человек). Полковой оркестр расформировали. Окончив 10 классов в 1961 году, я поступил в Минский политехникум. После окончания стал технологом по переработке нефти и газа. Работал на Краснокамском нефтеперерабатывающем заводе Пермской области оператором нефтеперерабатывающей установки. Служил в армии (капитан запаса). Жил в Белоруссии, в Ташкенте, приехал в Белгород, и Господь привел меня в село Ракитное к отцу Серафиму.
…Лет с шестнадцати стал верующим уже осмысленно, время детской веры прошло, прошло и время подросткового озорства. Тогда я как-то очень остро понял, осознал, что быть христианином — это подвиг. Это — борьба, борьба, борьба… До сих пор борюсь — падаю, поднимаюсь, но не унываю.
У меня нет высшего гуманитарного образования, да и в школе с русским языком я не очень ладил. Но, когда писал книги, чувствовал — святые помогают. Это не только мой опыт, подобными переживаниями со мной делились многие так называемые «непрофессионалы». Первое издание книги об отце Серафиме (Тяпочкине) вышло в 1998 году, работа над ним шла три года, каждая строчка была выстрадана, омыта слезами. Мне многие читатели рассказывают, что они плакали над этой книгой, я отвечаю: «Конечно, батюшка Серафим все время плакал, я плакал, когда писал, а почему вы не должны плакать?» Слезы омывают душу. Через сердце отца Серафима прошло столько людской боли и слез!
— Отец Софроний, а с чего начиналась книга о белгородском старце?
— В 1980 году исполнилось 60 лет со дня рукоположения батюшки в священный сан, и я попросил благословения написать о нем. Отец Серафим ничего не ответил, но я понял, что запрета нет. Написал на восьми страницах поздравление к юбилею рукоположения. Батюшка служил весь день, к вечеру в келье собрались гости, и я попросил прочитать поздравление вслух. Те восемь страниц включали в себя и первые записанные мной воспоминания и сведения о жизни отца Серафима. Позже, я чтобы собрать материал о батюшке, проезжал иногда по восемь часов в день на электричках. Случалось, ехал в Троице-Сергиеву лавру, где верстали макет книги, чтобы заменить или исправить только одно слово.
— Как Вы думаете, чем объясняется такая популярность Вашей книги?
— Если взять айсберг, то на поверхности мы видим только одну седьмую его часть, все остальное скрыто водой. Он гораздо больше, чем то, что мы можем видеть. Если говорить о Православии, которое мы видим сегодня, то это — лишь малая часть нашей русской духовности. Глубина у нас от святого равноапостольного великого князя Владимира, всю землю Российскую просветившего Крещением. В нас, в наших потомках заложено все православное от глубоко верующих предков, от поколений князя Владимира. Это надо развивать. Россия никогда не будет страной, где на первом месте богатство. Мы всегда говорим о Боге, думаем о Нем. Нашел кусочек хлеба, корочку — Господи, благодарю Тебя! Одно время я ничего не позволял себе есть по своей воле — только когда мне давали пищу, ел. Послал Господь — я этим напитался. Мы постоянно просим Бога: Господи, помоги, Господи, пошли. Мы умеем приобретать, теряя. Западу этого не понять. Потому и духовная литература у нас так востребована, что мы изголодались по ней за годы атеизма и гонений.
— Почему такой отклик получила именно книга об отце Серафиме?
Понимаете, все старцы — разные и неповторимые, как и мы, грешные, и каждому человеку ближе тот или другой батюшка. Возможно, и каждое время требует своего старца. Отец Серафим очень созвучен нашим дням. Он — подвижник, который плакал вместе с нами и за нас. Сейчас время страданий, вокруг много боли и горя, много истерзанных душ. Батюшка все принимал в себя, все оплакивал, всех утешал. Сейчас не до смеха, не до шуток — теракты, болезни, разгул стихии. Все мы нуждаемся в утешении, в любви. Отец Серафим любил всех. Можно воскрешать, можно сердце отдать на сожжение, но без любви ты ничто. Батюшка востребован нашим временем.
Воспоминания об отце Серафиме собираются, как нектар. Подлетает пчела к цветку, собирает нектар, а потом из него получается мед. Я был у отца Николая Гурьянова, он обнял книгу об отце Серафиме, вернее, рукопись, на тот момент был только первый типографский оттиск, потом прижал ее к сердцу и сказал: «Береги эту драгоценную книгу».
Книгу об отце Серафиме читаешь и с радостью, и со слезами. О ней хочется говорить непрестанно, показывать ее друзьям и знакомым, делиться ею, как великим сокровищем. Ее читаешь не разумом, а сердцем. Она вся пронизана светом, теплом и любовью, она очень искренняя. Об отце Серафиме вспоминают и миряне, и широко известные пастыри Русской Православной Церкви. Все с любовью и благоговением.
Московская городская организация Союза писателей России наградила члена Союза писателей России иеродиакона Софрония (Макрицкого) памятной медалью «А.П. Чехов 1860–1904» за литературную, общественную деятельность и издание книг: «Белгородский старец архимандрит Серафим (Тяпочкин)» — общий тираж 180 тыс. экз., «Священномученник Онуфрий (Гоголюк) — 13 тысяч экз., архиепископ Курский и Обоянский», «Старец Курско-Коренной пустыни схииеромонах Иоанн (Бузов)» — 10 тыс. экз., способствующих возрождению духовной жизни России. И выдвинула его книги на соискание Патриаршей литературной премии имени равноапостольных Мефодия и Кирилла учителей Словенских (издательский совет РПЦ вход. № 280 от 28. 02. 2011).
Республиканская общественная организация фонд «Искусство во имя Христа» (Крым, Украина) наградил в 2004 году иеродиакона Софрония благодарственной грамотой за книги: «Белгородский старец архимандрит Серафим (Тяпочкин)», «Священномученник Онуфрий (Гоголюк) , архиепископ Курский и Обоянский».
Международный фонд «Святого Всехвального апостола Андрея Первозванного» и «Центр Национальной Славы России» наградил иеродиакона Софрония почетной грамотой за активное участие во Всероссийском крестном ходе «Владивосток-Москва, за Веру и Верность» и руководство крестным ходом «Архангельск-Москва» (по Ярославской, Костромской и Ивановской епархиям). По благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, посвященных 2000-летию Рождества Христова.
[1] Составитель данного сборника иеродиакон Софроний (в миру Александр Макрицкий) в течение 9 лет был духовным чадом отца Серафима. Отец Софроний является также автором ряда воспоминаний, помещенных в сборнике.
[2] Дмитрий пишет, «…Узок и тернист путь к Богу. Не каждый идет им». Ему 25 лет, женат, имеет дочь, осужден на 22 года, отбыл в заключении 7 лет.
Виктор Куприянович — 56 лет. 30 лет провел в заключении. Последним судом в 1998 году приговорен к 12 годам лишения свободы. «12 апреля 2000 года в праздник Похвала Пресвятой Богородицы Господь постучал в дверь моего сердца. С того дня я начал новую жизнь: через оскорбления и унижения я приобрел смирение и терпение. Родился я 14 октября на Покров Пресвятой Богородицы. Господь на скрижалях моего сердца написал: «вера без дел мертва». Последние 4 года я тружусь в швейном цехе по 15 часов в день без выходных. Фото отца Серафима в рамочке я закрепил на своей швейной машинке, так что батюшка отец Серафим целый день рядом со мной. Когда мне тяжело, один мимолетный взгляд на батюшку успокаивает меня. До конца срока мне осталось меньше 3 лет. Освобожусь 7января 2010 г. на Рождество Христово. Господь печется обо мне здесь, верю, что Он и после освобождения направит мои стопы туда, где я должен быть». (6 марта 2008 года.)
[3] Варшавская губерния в тот период входила в состав царства Польского, которое по решению Венского конгресса 1815 года было присоединено к России, вплоть до августа 1816 года. Управленческий аппарат состоял, как из чиновников-поляков, так и из русских
[4] Холмская Духовная семинария (в Люблинской губернии царства Польского) была открыта в конце XIX в., после воссоединения части униатских приходов с Православной Церковью (1875 г.). Одним из первых ректоров семинарии был епископ Тихон (Белавин), будущий Святейший Патриарх Московский (†l925), его преемником был один из знаменитых в будущем деятелей Русской Церкви в эмиграции, митрополит Евлогий (Георгиевский; †1948). Инспектором семинарии был игумен Вениамин (Казанский), будущий митрополит Петроградский, священномученик, ныне прославленный в лике святых (1991 г.). Их стараниями Холмская семинария стала духовным центром Православия в западном регионе России. В семинарии Димитрий учился вместе с Антоном Гагалюком, (1889–1938), ныне прославленном как священномученик в лике святых (1993 г.) и Львом Стасиевичем (1884–1972), будущим архимандритом Леонтием, ныне прославленном в лике святых (2000 г.)
[5] Иеромонах Даниил (Троицкий; 1887–1935) в 1913 г. окончил СПб Духовную академию. В 1921 г. — хиротонисан во епископа Волховского, викария Орловской епархии. Арестован в апреле 1926 г. В 1928 г. освобожден без права жительства в 6 городах СССР. С 3 января 1934г. — архиепископ. Умер в 1935 г. в Брянской тюрьме от тифа.
[6] Архимандрит Иларион (в миру Владимир Троицкий; 1886–1929) — профессор; инспектор, и. о. ректора Московской Духовной академии; впоследствии архиепископ Крутицкий. В 1920 г. арестован, с 1922 по 1926 г. — в Соловецких лагерях. В 1929 г. переведен в Петербургскую пересыльную тюрьму, где скоропостижно скончался (ныне прославлен в лике святых).
[7] Архимандрит Серафим (Остроумов; 1880–1937) родился в семье псаломщика в Москве. В 1904 г. окончил МДА пострижен в монашество; с 1906 г. — наместник Яблочинского Св. Онуфриевского монастыря Холмской епархии. В 1914 г. назначен ректором Холмской семинарии, в 1916 г. рукоположен во епископа Белы Холмской, с 1917 по 1924 г. — епископ Орловский, а с 1927 г. — архиепископ Смоленский. Расстрелян 28 ноября 1937 г. Ныне прославлен в лике святых.
[8] Феодор (Поздеевский; 1876–1937), архиепископ Волоколамский, в 1909 г. — ректор Московской Духовной академии, с 1917 г. управлял Даниловым монастырем, где читал курс аскетики в Высшей богословской школе (после закрытия МДА). С 1925 г. — в ссылке, расстрелян в Ивановской тюрьме (ныне прославлен в лике святых).
[9] Архимандрит Иларион (в миру Владимир Троицкий; 18861929) —профессор, инспектор, и. о. ректора Московской Духовной академии, впоследствии архиепископ Крутицкий. В 1920 г. арестован, с 1922 по 1926 г. — в Соловецких лагерях. В 1929 г. переведен в Петербургскую пересыльную тюрьму, где скоропостижно скончался (ныне прославлен в лике святых).
[10] Справка: Дана протоиерею Тяпочкину Димитрию Александровичу в том, что он в 1917–1918 учебном году состоял студентом Московской Духовной академии (основание: Памятная книжка Московской Духовной академии на 1917–1819учебный год. Сергиев Посад. Типография И.И.Иванова. 1917, с. 47, п. 95).
Дана для представления по требованию.
[11] Епископ Евлампий (Краснокутский; 11922) пострижен в монашество из вдовых протоиереев и возведен в сан архимандрита в 1914 г., в 1917 г. рукоположен во епископа Александровского. Викарий Екатеринославской епархии до 1921 г.
[12] Митрополит Гурий (в миру Вячеслав Михайлович Егоров, 1891-1965). Родился в Новгородской губернии в городе Оноченский посад. В 1915 г. принял монашеский постриг. В 1916 году рукоположен в иеромонаха. В 1917 году окончил Петроградскую Духовную академию со степенью кандидата богословия. Иеромонах Александро-Невской лавры. В 1922 году возведен в сан архимандрита. С 1925 года — настоятель лаврской киновии и зав. Богословско- пастырского училища. С 1928 г. — настоятель Киевского подворья в Ленинграде. 1933-1944 — архимандрит Гурий находится на «покое». В 1943 году назначен настоятелем Самарского Покровского собора, а затем секретарем Ташкентской епархии. С 1945 по 1946 г. — наместник Троице-Сергиевой лавры. В августе 1946 года — хиротония во епископа Ташкентского и Среднеазиатского. В 1952 году — возведен в сан архиепископа… С 1959 года — митрополит. При вступлении на Ленинградскую кафедру — постоянный член Св. Синода. В 1961 г. переведен в Крым с поручением временно управлять Днепропетровской и Запорожской епархией.
[13] Живоцерковники — сторонники одного из обновленческих течений — члены так называемой «Живой Церкви».
[14] Архиепископ Онуфрий (Антон Максимович Гагалюк) род. 1889 г. в Люблинской губернии (Польша). Окончил Холмскую Духовную семинарию. В семинарии учился с Димитрием Тяпочкиным. В октябре 1913 г., учась в СПбДА, принял монашеский постриг и был рукоположен в иеродиакона, а в декабре в иеромонаха. 23 января 1923 г. хиротонисан во епископа Елисаветградского. 29 января арестован. С 1923 по 1926 г. в ссылке в г. Харькове. В 1926 г. вновь арестован и выслан в ссылку на Урал. С 1929 г. — епископ Старооскольский и Обоянский. В 1933 г. арестован. С 1933 г. по 1935 г. — архиепископ Курский и Рыльский. В 1935г. арестован и выслан в ссылку на Дальний Восток. 1 июня 1938 г. расстрелян в Благовещенской тюрьме.
(См. книгу «Священномученик Онуфрий (Гагалюк)», иеродиакон Софроний (Макрицкий). ООО «Техинвест-3», Мл 2003 г.
[15] Епископ Никодим (Александр Михайлович Кононов). Род.: 1871 г. в семье священника в Архангельской губернии. В 1892 г. окончил Духовную семинарию и поступил в СПб ДА. В феврале 1896 г. пострижен в монашество и рукоположен в сан иеродиакона, в апреле в сан иеромонаха. Кандидат богословия. С 1917 г. — магистр. С 17 августа 1896 г. смотритель СПб Александро-Невского Духовного училища. С 1901 г. — архимандрит. С 1904 г. — ректор Калужской духовной семинарии. С 1909 г. ректор Олонецкой Духовной семинарии. В 1911 г. хиротонисан во епископа Рыльского, 2-го викария Курской епархии. С 1913 г. — епископ Белгородский. Арестовано 1918 г. 10 января 1919 г. расстрелян. (Ныне прославлен в лике святых.)
[16] Епископ Антоний (Василий Александрович Панкеев). Род. в 1892 г. в Херсонской губернии в семье священника. В 1912 г. окончил Одесскую Духовную семинарию, а в 1917 г. СПбДА. В 1915 г. принял монашеский постриг и рукоположен в сан иеродиакона, затем иеромонаха. С 1917 г. — игумен и преподаватель Одесской Духовной семинарии. В 1926 г. арестован. С 1926 по 1933 г. в заключении в Соловецком лагере. С 1933 г. по 1935 г. — епископ Белгородский. 25 февраля 1935 г. вновь арестован и приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен в Дальневосточный лагерь Хабаровского края. 1 июня 1938 г. расстрелян в Благовещенской тюрьме. (Ныне прославлен в лике святых.)
[17] Казахстан в 30-х и 40-х годах нашего столетия сделался краем мучеников. Как на севере были Соловки, так на юге был Казахстан. Столица Казахстана город Верный, теперь переименованный в Алма-Ату, был пересыльным пунктом ГПУ, куда отправляли заключенных со всей страны. Кого гнали этапом по степям, кот привозили в поездах. Многие погибали от жары, зимой — от холода. Край с необъятными степями, безлесый и безводный, с морозами до 60 градусов был заселен с 1925, 1929, 1930 и 40-х годов ссыльными украинцами и жертвами «чисток». Наиболее тяжелой лагерной работой была добыча угля и руды в Караганде. Для каждого ссыльного это слово звучало угрозой — живыми оттуда не возвращались. Бесчисленные сонмы новомучеников Российских окончили там свой подвиг и получили мученические венцы. Земля Казахстана сделалась свидетельницей трагедии русского народа.
[18] В настоящее время причислен к лику святых Новомученников Российских.
[19] Письмо отца Серафима публикуется по рукописи. В некоторых местах карандаш стерся и строчки неразборчивы.
[20] Стефан Васильевич — староста церкви Великомученицы Варвары в Карноуховке, Анастасия Ивановна — его жена, Ольга — их дочь, просфорница храма, жила с родителями (ей сейчас более 90лет), Мавра — родная сестра Екатерины, проживала вместе с семьей сестры, в свое время она являлась духовной дочерью Иоанна Кронштадтского. Отец Димитрий снимал у них комнату.
[21] Епископ Иоасаф (Лелюхин Виталий Михайлович; 1903–1966) — сын священника, в 1942 г. рукоположен во иерея, служил в храмах г. Днепропетровска и области. С 1950 г. секретарь Днепропетровского епархиального управления, в 1958г. рукоположен во епископа Сумского, с 1959 по 1961 г. — епископ Днепропетровский, с 1964 г. — митрополит.
[22] Епископ Стефан (Никитин; 1895–1963) — по образованию врач, с 1927 г. — священник, в 1952 г. пострижен в монашество. В 1960–1962 гг. был епископом Можайским и председателем Хозяйственного управления Московской Патриархии.
[23] Со временем владыка Леонид (Поляков; 1913–1990) стал духовным чадом отца Серафима, их связывала двадцатидвухлетняя братская дружба. Родился он в Петербурге, до 1949 г. работал врачом, был на фронте. В 1949 г. рукоположен во диакона. В 1952 г. закончил Ленинградскую Духовную академию со степенью кандидата богословия и в Псково-Печерском монастыре принял постриг с именем Леонид. В 1955 г. рукоположен во пресвитера. Был доцентом Ленинградской и инспектором Московской Духовных академий. В1959 г. хиротонисан во епископа Курского и Белгородского. С 1966 г. — архиепископ Рижский и Латвийский. С 1979 г. — митрополит. Погребен в Рижской Спасо-Преображенской пустыни.
[24] Отец Геннадий (Давыдову в схиме Григорий; 1913–1987) более двадцати лет знал отца Серафима. Во время сталинских репрессий он был осужден на десять лет лагерей. Срок отбывал на Колыме. С 1957 г. до кончины служил в храме с. Покровка, что в шестидесяти километрах от Ракитного. См. кн.: прот. С. Клюйко «Белгородский старец схиархимандрит Григорий (Давыдов)». ТСЛ, 1997.
[25] Схиархимандрит Андроник (Лукаш). Род. в 1889 году в с. Лупа Лохвицкого уезда Полтавской губернии. В 1906 г. поступил в Глинскую пустынь. В 1915 г. призван в армию, был на фронте, попал в плен к австрийцам. В 1918 г. вернулся в обитель. В 1920 г. пострижен в рясофор, а в 1921 г. в мантию с именем Андроник. В 1922 г. рукоположен во иеродьякона. В 1923 г. арестован и сослан на Колыму на пять лет. Освобожден досрочно и вернулся к епископу Павлину, у которого был келейником. С 1926 г. иеромонах. В 1927 г. пострижен в схиму (в связи с серьезным заболеванием). В 1939 г. вторично осужден и сослан на Колыму. В 1948 г. вернулся в Глинскую пустынь. В 1961 г. после закрытия обители переехал в г. Тбилиси к митрополиту Зиновию (Мажуга). Служил в храме Александра Невского. Скончался в 1974 г., похоронен на Грмагельском городском кладбище в Тбилиси.
[26] Готня — ж/д станция в 8 км от Ракитного. Там был домик, где жила мать монахини Иоасафы Екатерина, который батюшка называл «наше подворье». Иногда отец Серафим там уединялся для молитвы, а иногда принимал кого-либо из приезжих.
[27] Николай (в миру Орест Николаевич Бычковский; 1893–1981) — духовный сын отца Серафима. С 1915 г. — иерей в г. Житомире. В 1971 г. пострижен в монашество и рукоположен во епископа Курского и Белгородского. С 1974 г. до кончины окормлял Пермскую епархию. Погребен в церковной ограде кафедрального собора г. Пермь.
[28] Иеросхимонах Сампсон (1898–1979) имеет в виду особенную проникновенность в служении подвижников и сугубую благодать Божию, даруемую им во время служения.
[29] Иеросхимонах Сампсон (Сивере). Беседы и поучения. М., 1995. Т. 2.
У старца Сампсона в келии рядом с иконостасом находилась фотография архимандрита Серафима.
[30] «Праведник наших дней». Белгородский старец архимандрит Серафим (Тяпочкин). ООО Изд. дом «Деловые страницы». Москва, 2003 г.
[31] Во время церковной смуты в 20-е годы отец Серафим, в отличие от раскольников, остался верен святителю Тихону, Патриарху Московскому и всея России.
[32] Архиепископ Хризостом (Мартышкин; род. в 1934 г.) рукоположен во епископа Зарайского в 1972 г., с 1976 г. — епископ Курский и Белгородский, с 1986г. — архиепископ Читинский, с 1990 г. и доныне — архиепископ Виленский. С 2000 г. — митрополит.
[33] «Праведник наших дней». Белгородский старец архимандрит Серафим (Тяпочким). ООО Изд. дом «Деловые страницы». Москва, 2003 г.
[34] Монах Леонид (Рыков; 1931–1985, в схиме Серафим) — духовный сын отца Серафима. В 50-е годы поступил в Киево-Печерскую лавру. После закрытия лавры в 1960 г. вместе с отцом Полихронием перешел в Почаевскую лавру, где архимандрит Полихроний принял схиму с именем Прохор. Монах Леонид был келейником старца Прохора до закрытия Почаевской лавры. Умер в Москве, погребен на Ваганьковском кладбище.
[35] Схиархимандрит Севастиан (Степан Васильевич Фомин; 1884–1966) родом из крестьянской семьи, в 1906 г. поступил в Оптину пустынь, был келейником старцев Иосифа и Нектария. В 1927 г. рукоположен во иеромонаха и служил в г. Мичуринске, а с 1944 г. — настоятель храма в г. Караганде, где и окончил свои дни. Известен своими старческими дарованиями, в том числе — прозорливостью (ныне прославленный в лике местночтимых святых Казахстанской епархии). См. о нем кн.: Подвижники благочестия XX столетия. М.: Трим, 1994. С. 505–586.
[36] Схиигумен Савва (в миру Николай Михайлович Остапенко; 1898–1980) — «старец-утешитель», инок Псково-Печерского монастыря. Выходец из крестьянской семьи, прошедший службу в Красной Армии, до войны был инженером-строителем. После войны окончил Московскую Духовную семинарию и был принят в братию Троице-Сергиевой лавры. В 1955 г. переведен в Псково-Печерский монастырь, где и скончался.
[37] Схиархимандрит Косма (Смирнов; 1885–1968) смолоду был послушником Валаамского монастыря. Монашеский постриг (с именем Кирилл) принял в 1923 г. Служил в храмах Олонецкой, Ленинградской и Рижской епархий. В 1953 г. назначен священником, а затем и духовником Спасо-Преображенской пустыни.
[38] Архимандрит Таврион (в миру Тихон Батозский; 1898— 1978) — известный старец и исповедник. Был пострижен в монашество в Глинской пустыни. В 1931 г. сослан на строительство Беломоро-Балтийского канала, затем на строительство Березниковского химкомбината под Соликамском Пермской области. Освобожден в 1935 г. Вновь арестован в 1940 г., приговорен к пятнадцати годам лишения свободы и сослан в Туринский лагерь Свердловской области. Освобожден, по одним источникам, в 1947 г., по другим — в 1953 г. и сослан в Казахстан. В 1956 г. реабилитирован. Скончался в Преображенской пустыни под Ригой. Об отце Таврионе см.: Свящ. А. Чесноков. Глинская пустынь и ее старцы. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1994., С. 126–135.
[39] Высокопреосвя1ценнейишй митрополит Харьковский и Богодуховский Никодим (в миру Николай Степанович Руснак) родился 18 апреля 1921 года С 1938 г послушник Свято-Иоанно-Богословского монастыря Черниговской области. 6 января 1945года принял монашеский постриг с именем Никодим. С 29 апреля 1945года иеродиакон. С 23 февраля 1946 г. иеромонах. С 1950–1955 гг. настоятель Свято-Иоанно-Богословского монастыря Окончил МДС и МДА Кандидат богословия С 1999г. — доктор богословия КДА С 23апреля 1958 года замначальника Русской Духовной миссии в Иерусалиме. С 15 ноября 1958 г. — архимандрит, исполняющей обязанности (до 9 февраля 1961 г. начальник духовной миссии в Иерусалиме). 10 августа 1961 г. хиротония во епископа Костромского и Галичского. На Костромской кафедре до 1964 года. С 21 апреля 1964 года епископ Аргентинский и Южноамериканский. С 25февраля 1968г — архиепископ. Экзарх Центральной и Южной Америки и Мексики. С 1 декабря 1970 г. архиепископ Харьковский и Богодуховский и исполняет обязанности Экзарха Центральной и Южной Америки и Мексики до октября 1977 г. С декабря 1983 г. — архиепископ Львовский и Тернопольский, одновременно управляющий Харьковской епархией до ноября 1984 г. С 9 апреля 1985 г. митрополит. С 15 сентября 1989 г. митрополит Харьковский и Богодуховский. С 1991 г. председатель комиссии по богослужебным текстам Московской Патриархии. С 27 декабря 1994 г. председатель комиссии по канонизации новопрославленных святых при Синоде УПЦ.
С 28 июля 1999 г. Митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром и Священным Синодам УПЦ удостоен права ношения двух панагий. Имеет богословские труды: послания, слова, речи в 3-х тт. (1995–1998 гг.), сборник служб и акафистов (изд. 1977–1997 гг., 1999 г.)
[40] Схиигумен Кукша (Величко, 1874-1964). В 20 лет совершил паломничество в Иерусалим. Возвращаясь, посетил Святую гору Афон, где пребывал с 1894 по 1912 гг. В 1912 г. принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре с именем Ксенофонт. В 40лет принял схиму в сане игумена. После закрытия в 30-х гг. лавры, служил в Киеве. В 1938 г. арестован и осужден на пять лет и выслан в Сибирь. В 1943 г. выслан в Смоленскую область. По окончании срока ссылки в 1948г. насельник Киево-Печерской лавры. В 1953г. переведи в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. В 1957 г. отправлен в с. Крещатик (260 км от Почаевской лавры) в Иоанно-Богословский монастырь (Черниговская обл.). В 1960 г. переведен в Свято-Успенский Одесский монастырь. Преподобный Кукша 70 лет проживал в монастырях. В 1994 г. причислен к лику святых УПЦ Московского Патриархата.
[41] Митрополит Тетрицкаройский Зиновий (в миру — Захарий Иоакимович Мажуга, в схиме Серафим; 14.09.1896–08.03.1985). Поступил в Глинскую пустынь в 1914 г., в 1920 г. пострижен в рясофор, в 1921 г. — в мантию. В 1922 г., после закрытия Глинской пустыни, поступил в Драндский Успенский монастырь Сухумской епархии. В 1924 г. рукоположен во иеродиакона, в 1926 г. — во иеромонаха. В 1930г. был арестован (служил в это время в Ростове-на-Дону), с 1942 по 1945 г. служил в Тбилисском Сионском Успенском соборе; с 1950 г. — архимандрит. В 1952 г. назначен членом Св. Синода Грузинской Православной Церкви. В 1956 г. рукоположен во епископа, в 1972 г. возведен в сан митрополита. Духовно окормлял русские приходы Грузии и Армении. Был наделен даром прозрения и духовного утешения. Похоронен в Тбилиси.
[42] Евлогий (Смирнов; род. в 1937г.) принял пострижение в Троице-Сергиевой лавре, до 1982 г. являлся ее экономом. В 1983–1984 гг. — наместник Данилова монастыря (его возобновителъ), в 1988–1990 гг. — настоятель Оптиной пустыни (возобновитель обители), с 1990г. — епископ Владимирский. Магистр богословия. Профессор МДА.
[43] См.: Кн. Ф. Юсупов. Перед изгнанием. 1887-1919. М.: Моек, центр искусств, 1993. С. 72, 254.
[44] У Юсупова: «Это одно из самых обширных наших имений включало сахарный завод, многочисленные лесопильни, кирпичные и шерстяные заводы…» Туда приезжала в гости будущая преподобномученица великая княгиня Елизавета Феодоровна с супругом. (Там же. С. 72.)
[45] В Великую субботу при служении православного патриарха, над Гробом Господним бывает схождение благодатного огня, от которого загораются свечи, лампады. Первое упоминание об этом величайшем чуде, поразительном доказательстве истинности Православия, известно с IV века. И каждый год на Пасху свидетелями этой милости Божией становятся тысячи паломников.
[46] Как-то я подарил своей крестной матери Анастасии Ивановне Цветаевой одну из лучших фотографий отца Серафима, сделанную Владимиром Пархоменко. Взглянув на нее, она сразу же приняла в сердце старца, он стал ей духовно родным своим страданием и любовью, которые она увидела в его лице. Эта фотография всегда находилась в ее рукописном молитвослове, а в Доме творчества писателей в Переделкино, куда Анастасия Ивановна иногда уединялась для работы, я увидел это фото на ее письменном столе. В жизни они не встретились, но Анастасии Ивановне оказалось достаточно смотреть на образ старца.
[47] «Праведник наших дней». Белгородский старец архимандрит Серафим (Тяпочкин). ООО Изд. дом «Деловые страницы». Москва, 2003 г.
[48] Насельница Иоанновского монастыря в Санкт-Петербурге, духовная дочь отца Серафима схимонахиня Ермогена показывала иеродиакону Софронию этот небольшой деревянный крест, которым благословил ее батюшка по возвращении из ссылки.
[49] Аарон и его сыновья быт призваны к священническому служению Самим Богом: ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый, для человеков поставляется на служение Богу… И никто сам собою не приемлют этой части, но призываемый Богом, как и Аарон (Евр. 5,1:4).
[50] В данный сборник вошли и другие воспоминания архимандрита Виктора (Мамонтова), опубликованные в «Белгородских епархиальных ведомостях» в 2001 году.
[51] Схимонахиня Анастасия (в миру Людмила Шведова; 1889–1991) — дворянского происхождения, закончила университет, в совершенстве владела шестью иностранными языками. В 1920-е годы подвергалась арестам, затем несла послушание у святителя Петра (Полянского; канонизован в 1996 г.) и владыки Николая (Ярушевича), митрополита Крутицкого. В 1932–1947 гг. была в заключении, затем до 1953 г. — в ссылке. После освобождения несла послушание у Ермогена, архиепископа Ташкентского. В преклонном возрасте приняла схиму с именем Анастасия, погребена в Спасо-Преображенской пустыни в Еггаве.
[52] Рижская Спасо-Преображенская пустынь основана сестрами Мансуровыми, Екатериной (в монашестве Сергия, первая игумения обители) и Наталией (в монашестве Иоанна), в 1899 г.
[53] Пантелеимон (в миру Павел Михайлович Романовский; род. в 1952 г.) — ныне епископ Кировоградской и Александрийской епархии. Рукоположен во епископа в 1992 г., на кафедре — с 2000 г.
[54] Иеросхимонах Иоанн (в миру Иоанн Бузов) — духовный сын и ученик отца Серафима. В 1978 г. рукоположен во диакона, служил в Ракитном с отцом Серафимом. После кончины старца принял монашество с именем Иона. В 1992 г. переведен в Курскую Коренную Рождества Пресвятой Богородицы пустынь и рукоположен во пресвитера. В 1996 г. принял схиму с именем Иоанн.
[55] Монахиня Екатерина (в миру Екатерина Васильевна Малкова-Панина; 1889-1968) — блаженная пюхтицкая старица, известная своей подвижнической жизнью и прозорливостью. За много лет вперед предсказала патриаршество Святейшим Патриархам Пимену и Алексию. См.: Блаженные старицы Пюхтицкого Успенского монастыря. ТСЛ, 1997. С. 63, 64.
[56] В книге «Одна ночь в пустыне Святой Горы» известного духовного писателя, архимандрита (ныне митрополит) Иерофея Влахоса приводится замечательный рассказ богоносного старца-исихаста — опытнейшего делателя Иисусовой молитвы: «Часто, когда подвижник сидит на скамеечке и повторяет Иисусову молитву, он чувствует две руки, готовые задушить его. Они крепко сжимают его шею и не позволяют продолжать молитву. Начав молитву, после слова «Господи» монах не может продолжить: ему трудно приступить к спасительному слову «Иисусе». Запинаясь, он повторяет: «И, И, И, Ии, Ии, Иис…» И лишь только с великим усилием проговаривает все слово, как диавол становится невидимым. Ко мне приходили монахи из других монастырей и рассказывали о групповых нападениях, имевших цель запугать и устрашить. Особенно в то время, когда монахи готовились к всенощному бдению…
В эти часы диавол нападает на 2, 5, 10 монахов и готов их задушить или сделать что-либо иное. Иной монах бывает столь сильно устрашен, что выбегает из келлии, и, напуганный и охваченный трепетом, находится подле келии старца, пока тот не проснется. Миряне не могут понять ценности бдения. Оно сжигает и уничтожает лукавого, который делает все возможное и невозможное, чтобы помешать ему, поскольку знает, что будет изгнан целонощными молитвами. И он внушает идеи журналистам и прочим с целью воспрепятствовать осуществлению всенощных бдений…» (с. 85). «Мужество и бесстрашие важнейшие, неотъемлемые качества истинного духовного воина, который боится только Бога, — т. е. относится к Творцу со священным трепетом и глубочайшей сыновней любовью. «Любовь изгоняет страх», — учат святые отцы. Но это удел совершенных. Остальные, по человеческой немощи, в той или иной мере испытывают чувство страха. Этим пользуются демоны. Бесовские страхования достигают иногда громадной силы. Парализуют волю, вселяя нечеловеческий, леденящий сердце ужас…»
[57] По Уставу Православной Церкви на Пасху и двунадесятые праздники, а также по воскресным дням коленопреклоненные молитвы не совершаются.
[58] Свт. Афанасий, Патриарх Цареградский, Лувенский чудотворец (1580-1654), с юных лет подвизался на Афоне. За свое благочестие и образованность был возведен в сан митрополита Фессалоникийского. Трижды избирался на патриарший престол и, в результате гонений и интриг магометан, трижды низводился с него. В 1653 г. прибыл с визитом в Мосту и, получив от царя щедрую милостыню, отправился на родину. Во время остановки в Лувенском монастыре (Полтава) заболел и скончался на молитве коленопреклоненный. Мощи его до сих пор нетленны и сохраняют сидячую позу (так погребают восточных патриархов). Прославлен в лике святых в 1662 г., память совершается 2/15 мая. Ныне мощи открыто почивают в харьковском Благовещенском соборе. (ЖМП. 1947. № 10. С. 25–27).
Мелетий (Леонтович), архиепископ Харьковский (06.11.1784–29.02.1840), в 1814 г. окончил СПб. духовную академию; с 1824 г. — ректор Киевской Духовной академии; с 1828 по 1835 г. был на сибирских кафедрах, просвещал язычников. С 1835 г. — архиепископ Харьковский. Оставил по себе светлую память благочестием, кротостью, нищелюбием, нестяжательностью. Был прославлен в лике местночтимых святых, с 1978 г. Определением Священного Синода РПЦ имя святителя внесено во всероссийские святцы. Мощи открыто почивают в харьковском Благовещенском соборе.
[59] Матушка прозорливо указала на будущее монашеское поприще Александра, названного в постриге, спустя 20 лет, Софронием — в честь иерусалимского святителя. — Ред.
[60] По словам матушки Наталии, в разное время ей являлся святитель Феодосий Черниговский и апостолы Петр и Павел вместе с Иоанном Богословом. — Автор.
[61] Протоиерей Петр Бахтин, 1920 года рождения, офицер запаса. Участник Финской и Отечественной войн. Награжден четырьмя боевыми орденами и восемью медалями. В 1949 году поступил в Московскую Духовную семинарию. В 1951 г. был арестован, осужден по cm. 58, ч. 2 УК РСФСР за религиозную пропаганду. Через пять лет из заключения освобожден. В 1958г. рукоположен во пресвитера. Воспитал троих сыновей: Алексей, Сергий — священники, Александр — диакон. Все служат в Москве.
[62] М.Д. Гребенкин (1923–1999) — духовный сын отца Серафима. Участник Великой Отечественной войны. Служил в десантных войсках (полковник). Совершил около 500 прыжков с парашютом.
[63] Готовность принять волю Божию, какова бы она ни была, не исключает возможности для верующего человека просить Господа о помиловании — вплоть до исцеления. Важно, чтобы просьба была смиренной и не перерастала в требовательность.
[64] Александр Андреевич Гадицкий родился в 1922 году в г. Львове Курской области. Участник Великой Отечественной войны. Окончил артиллерийские курсы и летное военное училище, служил в особом летном полку, в разведотделе фронта. Участник штурма Берлина, офицер запаса. После демобилизации из армии окончил пушной институт в Москве (1953 г.). Работал в Белгороде, с 1962 г. проживает в г. Симферополе.
[65] П. И. Мельник (1895–1997 г.) родился в многодетной крестьянской семье в Черниговской губернии. С 1914 г. работал на строительстве Амурской железной дороги, в 1940 г. был арестован, приговорен к восьми годам лишения свободы. За несогласие сотрудничать с лагерной администрацией ему продлили срок на пять лет. Реабилитирован в 1953 г.
[66] Колокольня будет построена лишь спустя десять лет, в начале 90-х гг. стараниями настоятеля отца Николая Германского.
[67] Серафим (Никитин), впоследствии митрополит.
[68] Леонид (Поляков; 1913–1990 г.), с 1979 г. митрополит Рижский и Латвийский.
[69] Николай (Бычковский; 1893–1981 г.), с 1974 г. архиепископ Пермский и Соликамский.
[70] Вадим (Лазебный; 1954 г.) — ныне архиепископ Иркутский и Ангарский.
[71] Никодим (Руснак; 1921) — ныне митрополит.
[72] Сергий (Петров; †l988 г.) — тогда митрополит Одесский.
[73] Евсевий (Саввин; 1939 г.) — ныне митрополит Псковский и Великолукский.
[74] Варнава (Кедров; 1931 г.) — ныне митрополит Чебоксарский и Чувашский.
[75] Мелитон (Соловьев) — тогда архиепископ Тихвинский, викарий Лениградской епархии.
[76] Хризостом (Мартышкин; 1934 г.) — ныне митрополит Виленский и Литовский.
[77] Антоний (Вакарик; 1926–2003 г.), с 1973 г. митрополит Черниговский и Нежинский.
[78] Макрицкий Александр — ныне иеродиакон Софроний.
[79] Ныне архиепископ Иркутский и Ангарский.
[80] Т. Черных. [Статья] // Альтаир: [белгородская молодежная газета]. 1996. 22 авг.
[81] Епископ Читинский и Забайкальский Иннокентий (Васильев; род. в 1947 г.) рукоположен во епископов 1992г., на кафедре с 1996 г. Ныне архиепископ Виленский и Литовский.
[82] Праведник наших дней. Белгородский старец архимандрит Серафим (Тяпочкин). Издание 2-е. Сост. прот. Николай Германский. Москва, ООО «ИКТЦ «ЛАДА».
[83] Газета «Свет Христов» Православного Молодежного миссионерского центра №7 (62) июль 2002 г.
[84] Газета «Свет Христов» Православного Молодежного миссионерского центра №7 (62) июль 2002 г. Записал М. Горожанкин.
[85] Белгородские епархиальные ведомости. № 8 (70), 2002.
[86] Козуб Валерия. И гнев на милость преклони. Сборник стихов. М., 2007. 192 с.
[87]Игумен Сергий (Рыбко), настоятель храма Сошествия Святого Духа на апостолов г. Москва.
[88] Более сорока пяти лет отец Серафим (тогда отец Димитрий) упоминается, как участник тех далеких событий.
[89] Комсомольская правда. 1997. 12 сентября.
[90] В Никольском храме в с. Ракитном Белгородской области отец Серафим служил с 1961 г. до своей конца жизни (19 апреля 1982 г.).
[91] Александра Ивановна Антонова — более двадцати лет проработала главным бухгалтером в издательстве Московской Патриархии.
[92] По Божиему Промыслу эти воспоминания были записаны мною на квартире у Александры Ивановны Антоновой через четырнадцать лет после кончины старца. Таким образом, было получено еще одно подтверждение тому, что отец Серафим (тогда еще Димитрий) был участником тех далеких событий. На пять лет раньше, чем мне, Александра Ивановна об этом рассказала духовной дочери отца Серафима — Татьяне Ивановне Снегиревой (†2002).
[93] Митрополит Николай (Ярушевич, 1891–1961) — воспитанник СПбДА, доктор богословия, известный проповедник. В 1914 г. пострижен в монашество и рукоположен во иеродиакона, с 1919 г. — архимандрит, настоятель Александро-Невской лавры. С 1922 г. — епископ, с 1941 г. — митрополит Киевский. С 1942г— управляющий делами Московской Патриархии. В 1944 г. назначен на Крутицкую кафедру, много сил отдал церковно-дипломатической работе. Погребён в Троице-Сергиевой лавре.
[94] Епископ Иероним (в миру Владимир Иванович Захаров; 1897–1966) пострижен в монашество в 1925 г. Рукоположен во епископа Кишиневского в 1944 г., с 1952 по 1956 гг. — епископ Куйбышевский.
[95] Волжский комсомолец. 1990. 2 сентября.
[96] Архиепископ Евсевий (в миру Николай Саввин; род. в 1939г.) в 1982–1984гг. — наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, с 1984 г. — епископ Алма-Атинский, с 1990 г. — епископ Куйбышевский (в 1991 г. городу было возвращено название Самара), ныне — митрополит Псковский.
[97] Благовест. (Самарская христианская газета). 1992. №1.
[98] Великдень (укр.) — Пасха.
[99] «Стояние Зои». Чудо Святителя Николая в Самаре. Самара. 2000. С. 9–10.
[100] Диктофонная запись разговора с владыкой Михеем.
[101] Известно, что игумен Серафим (Полоз) с 1964 по 1970 г. служил в г. Сыктывкаре (Коми). По состоянию здоровья переехал на Украину и проживал в г. Чернигове. Служил в г. Щорсе. Умер в 1987г. Однако за все это время ни он сам, ни его духовные чада в своих воспоминаниях не упоминают о том, что икону Святителя Николая у Зои взял игумен Серафим (Полоз).
[102] Монахиня Варвара (Вдовенко, †2002) в 1960-х годах четыре года была на послушании у отца Серафима и, с переводом владыки Леонида (Полякова) в Рижскую епархию, по благословению отца Серафима двадцать два года несла послушание у владыки митрополита.
[103] Глинская мозаика. Воспоминания паломников из Глинской пустыни (1942–1961). — М.: Паломник, 1997. — 224 с.
[104] См. обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II к председателю Совета по делам религии. Московский Церковный вестник № 20, сентябрь 1990, с. 2
[105] Схиархимандрит Феофил (Россоха) духовно окормлялся у архимандрита Серафима (Тяпочкина).
[106] Схиигумен Савва (Остапенко) — духовно окормлялся у архимандрита Серафима (Тяпочкина).
[107] Архимандрит Адриан (Кирсанов) — духовный сын архимандрита Серафима (Тяпочкина). 57 лет отец Адриан подвизается в монастырях, из них 21 год в Свято-Троицкой Сергиевой лавре и 36 — в Свято-Успенском Псково-Печорском монастыре.
[108]Среди современных материалистов признается аксиомой гипотеза о происхождении человека от обезьяны. Между тем, при близком знакомстве с этой теорией, она совершенно не выдерживает здравой критики: гипотеза может стать достоверным научным положением, если она оправдывается фактами, на опыте. Теория Дарвина опытом не проверена. Научными исследованиями не было зафиксировано решительно ни одного случая рождения человека от обезьяны.
Один православный апологет очень остроумно заявляет по этому поводу: «Предполагаемые дарвинской теорией родоначальники человеческого рода из животного царства существуют исключительно в сочинениях дарвинистов и нигде в природе не найдены» (Проф. Н. П. Рождественский).
Знаменитый немецкий ученый, естествоиспытатель Вирхов на Мюнхенском съезде естествоиспытателей в 1878 г. заявил, что до сих пор нет ни одного серьезного довода в пользу происхождения человека от обезьяны:
«Человек есть существо разумное и свободное, образ и подобие Божие. Это относится и к европейцу, и к австралийскому негру. И здесь — пропасть между человеком и обезьяной».
[109] ‘Гавриил (Стеблюченко), архиепископ Благовещенский и Тындинскй. Родился 30.06.1940. Тезоименитство 26 июля. Хиротония 23.07.1988. На кафедре с 21.04.1994.
[110] Митрополит Гедеон Ставропольский и Владикавказский, в миру Александр Николаевич Докукин (1929–2003 гг.). Родился в Краснодарском крае. В 1952году окончил Ставропольскую Духовную Семинарию. В 1955 году — Ленинградскую Духовную Академию.
С 1965 года служил приходским священником под руководством митрополита Ленинградского Никодима (Ротова). Им же пострижен в монашество в 1966 году, а в том же году возведён в сан архимандрита.
В 1967 году хиротонисан во епископа Смоленского и Вяземского.
В 1972 году переведён в Новосибирск, где оставался по 1990 год. Возведён в сан архиепископа, затем — митрополита.
В 1990 году переведён в Ставрополь, где и оставался до своей кончины.
[111] Архиепископ Мефодий (в миру Михаил Николаевич Мензак, 1914–1974 гг.)
По окончании 7 класса Румынской начальной школы поступил в 1930 году послушником в монастырь Буковинской Митрополии — в скит Кошно в Буковине. В 1942 году пострижен в монашество в честь равноапостольного Мефодия. 24 декабря 1942 года — иеродиакон. С 1955 года — иеромонах. В 1958 году окончил Московскую Духовную академию со степенью кандидата богословия за диссертацию «Любовь ко Христу как основа нравственности». Назначен помощником инспектора и преподавателем Церковного устава и Литургики Московской Духовной семинарии. С декабря 1959 года возведен в сан архимандрита — ректор Волынской Духовной семинарии. В 1962 году — епископ. С 1964 года — епископ Черновицкий и Буковинский. С 1967года — епископ Вологодский и Великоустюжский; с февраля 1972 года — архиепископ Омский и Тюменский. Официально было объявлено, что владыка Мефодий «скончался». Об убийстве ничего не сообщалось. (ЖМП 1974, № 12. с. 12–16.)
[112] Высокопреосвященный архиепископ Максим Могилевский и Мстиславский (в миру Борис Иванович Кроха). Родился 25 декабря 1928года в Башкирии, с. Черниговка, в семье благочестивых христиан, Иоанна и Татьяны (в монашестве Агнии). Семья рано осталась без отца, которого в годы коллективизации сослали на строительство Беломорканала, только за то, что он имел двух лошадей. Рано лишившись отца, который мученически погиб на Беломорканале, пятилетний отрок Борис вместе с матерью и братьями был сослан в Сибирь, г. Анжеро-Судженск Кемеровской области. В 1937 он учился в школе и прислуживал с братом в церкви, построенной сибиряками. В 1946 году Борис окончил среднюю школу и настоятель храма, иеромонах со св. горы Афон Петр (Сеньков), сосланный в Сибирь, отправил способного юношу с рекомендательным письмом в Ленинградскую семинарию. Борису не хватило 3-х месяцев до 18 лет и его не зачислили. Митрополит Григорий (Чуков, 1870-1955) Ленинградский и Новгородский взял юношу на послушание в митрополичий дом. В сентябре 1947 года Бориса зачислили в семинарию. Осенью 1947 года правительство СССР и Святейший Патриарх Алексий 1 (Симанекий, 1877–1970) пригласили митрополита Илию (Карама 1903–1969) Гор Ливанских в Москву.
Во время Великой Отечественной войны, когда наше положение было отчаянно-тяжелым, владыка Илия молился за Россию. Правительство и Патриарх преподнесли ему панагию с крестом, драгоценные камни для панагии собирали по всей России. В ноябре 1947 года митрополит Илия прибыл в Ленинград. Во Владимирском соборе хранилась Казанская икона Божией Матери, перед которой он горячо молился. Он привез венец. После совместной литургии митрополиты Григорий и Илия он возложили на икону Богоматери венец. Во время литургии митрополиту Илии был представлен семинарист Борис. Ему поручили держать блюдо, на которое возлагалась митра митрополита Илии. После окончания службы начали подходить люди и Бориса с блюдом и митрой оттеснили, он, как ни старался, не мог войти в алтарь. Когда вошел владыки Григория и Илии уже не было, они ушли в митрополичий дом. Тогда Борис в стихаре, держа митру на подносе, прошел весь Невский проспект к митрополичьему дому. Войдя в дом, земно поклонился митрополиту Илии и со слезами рассказал о случившемся. Митрополит Григорий тоже извинился перед высоким гостем. Владыка Илия добродушно призвал виновника Бориса к себе, взял митру и положил ее на угольник, снял с себя одну из панагий, благословил ею Бориса и надел на него. Владыка Илия сказал по-русски: «Храни, она тебе пригодится. Перекрестил Бориса и поцеловал его в голову».
В 1949 году Борис принял монашеский постриг с именем Максим в честь прп. Максима Исповедника. 17 апреля 1952 года рукоположен в иеродиаконы за одной Божественной литургии, когда был рукоположен во иеромонаха и Алексий (Ридигер), будущий патриарх Московский и всея Руси Алексий II. В 1954 году рукоположен во иеромонаха митрополитом Ленинградским и Новгородским Григорием (Чуковым, 1870–1955). В 1955 году иеромонах Максим окончил Ленинградскую Духовную академию со степенью кандидата богословия. С 1956 года служит в храмах Ярославской епархии (в Рыбинске и Ярославле). С 1958 года — преподаватель Минской Духовной семинарии и благочинный Жировицкого монастыря.
С 1965 г. по 1972 г. архимандрит Максим — председатель епархиального совета Минского епархиального управления. 26 марта 1972 года был хиротонисан во епископа Аргентинского и Южно-Американского. При хиротонии Святейший Патриарх Пимен (Извеков +1990), возложил на него панагию митрополита Илии Гор Ливанских. 22 октября 1972 года в Аргентине на епископа Максима было совершено покушение. Пуля пробила машину и попала в панагию на груди. Владыка был спасен от смерти. После этого события владыку освободили от Аргентинской и ЮжноАмериканской кафедры и отправили в Жировицкий монастырь. 23 октября 1974 года был злодейски убит архиепископ Омский и Тюменский Мефодий (Мензак 1914–1974). В январе 1975 года епископ Максим был назначен на вдовствующую Омскую кафедру.
С 1986 года назначен на Тульскую и Белевскую кафедру.
В 1989года владыка Максим был переведен из Тульской епархии в Белоруссию, на восстановление Могилевской епархии. Почил владыка 26 февраля 2002 года в день преставления сет. Георгия Конисского и погребен на территории Свято-Никольского монастыря.
[113] В 2010 году схиархимандриту Илию исполнилось 78 лет.
[114] С небольшим сокращением и редакторской правкой текст приводится по кн.: Православные чудеса. Век XX. — Одесса: Михайловский Богородичный монастырь, 1996. 109 с.
[115] Молитва Божией Матери «Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога Нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем».
[116] Отец Анатолий Шашко — духовный сын архимандрита Серафима (Тяпочкина).
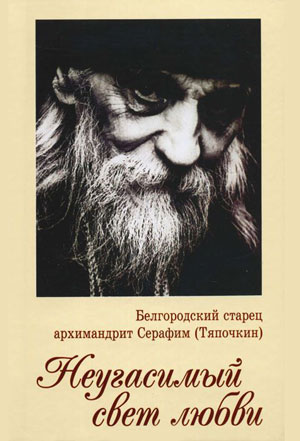
Комментировать