- Предисловие
- Пролог. Америка и я
- С чего все началось: старый журнальный текст
- Разъяснение
- Книга 1-я. В поисках свободы
- Город моей мечты
- Волосатые
- Я начинаю новую жизнь
- Работа
- Учитель
- Опять про работу
- Университет и учеба
- Про Нью-Йорк и его нравы
- Я переезжаю
- Жизнь в Гарлеме: у Оксаны
- Друзья-приятели
- Выбор
- Отец Иаков и еврейский вопрос
- Я попался
- Американская или Зарубежная?
- Новый переезд
- Новые и старые прихожане
- Крещение
- Начало новой жизни
- Эпилог 1
- Книга 2-я. Православная Америка
- Академия: история и внутренняя жизнь
- Гас-погорелец и другие
- Семинаристы
- Преподаватели
- Приходские истории
- Аляска
- Рожденные в России
- Американское гражданство
- Иезуитский университет
- Автостоп в Европе: как было
- Паломничества
- Турция
- Кого считать меньшинством и «мертвая пятница»
- «Иван Грозный как религиозный тип»
- Все дороги ведут в Рим
- По сербским монастырям
- О кроликах, котятах и кувшине с молоком
- Для чего нужен Руссикум
- Шотландец Маклаков, отец Гермоген, граф Джузеппе и благородные разбойники
- Монашество по-итальянски
- Жизнь в римо-католической семинарии
- В Москву, в Москву…
- Ехать или оставаться?
- Новая Москва
- Говорит «Голос Америки» из Вашингтона
- Стольный град и его обитатели
- Третий раз в России
- Новый выбор
- Мюнхен: последняя остановка
- Эпилог второй и окончательный, возвращающий к прологу
Книга 1-я. В поисках свободы
Неужели вон тот — это я?
Ходасевич
Город моей мечты
Какая страшная жара! Неужели это можно вынести? Ощущение, что живешь в бане: тяжелый, липкий жар. Ходишь все время мокрый от пота. Даже ночью не приходит облегчение: темно, солнца нет, но из открытого окна (хотел написать распахнутого, но вовремя остановился: тут окна не распахнуть — рамы на шарнирах поднимаются вверх и вниз, так что открыть можно лишь половину окна, верхнюю или нижнюю) по-прежнему пышет жаром. Днем я заходил в супермаркет за покупками. Там оказалось неожиданно прохладно, даже холодно — кондиционер! Я долго пробыл в магазине — гулял между полками, пока не продрог до костей, и уличная жара стала казаться даже желанной. Выкатился в нее — и через несколько минут опять стал стремиться обратно в супермаркетский холод.
Я уже сутки в Нью-Йорке, в городе, о котором я мечтал так долго и который заочно всегда казался мне самым лучшим, самым красивым и самым свободным городом мира. Прилетели мы вчера, 7 июля (7-го месяца) 1977 года. Все эмигранты в самолете радовались — говорили, что семерка счастливое число. А я еще и сидел в 17-м ряду. Сидел и сам не верил своему счастью. По прилете нас привезли в гостиницу под громким названием «Отель ”Люцерн“». Правда, она оказалась грязноватой и какой-то очень уж третьесортной. Зато в самой середине Манхэттена на 71-й улице между Седьмой авеню и Бродвеем (опять семерки!). И номер мне дали на 10 этаже — предпоследнем. Правда, вида особого нет — напротив тоже высокие дома, все загораживают.
В лобби возле стойки толпились эмигранты, встречавшие прибывших с нового рейса. Они немедленно и с видимым удовольствием сообщили, что гостиница в основном используется для свиданий с проститутками. Но зато тут дешево, так что наших селят сюда. А кроме того, тут можно жить долго, и цена лишь немного больше, чем квартиру снимать. Зато ни о чем думать не нужно – ни о мебели, ни о коммунальных платежах. Так что есть люди, которые задерживаются в «Люцерне» годами.
Завтра нужно съездить в организацию, отметиться, а они решат, что делать с каждым из новоприбывших: кого на курсы английского, а тех, кто умеет сам объясняться, можно сразу на работу устраивать. За гостиницу будут платить три месяца, и за это время нужно самому найти себе жилье. А дальше — живи уже как хочешь…
Утром, после бессонной жаркой ночи (еще и разница во времени с Европой — 6 часов — сказалась) я подошел к окну и увидел, как мимо пролетел человек с искаженным от ужаса серым лицом (мне кажется, что я успел поймать его остановившийся взгляд), а затем услышал глухой удар внизу, истошные вопли прохожих и вскоре трели разных сирен — полицейских, медицинских. Оказалось, сосед сверху, пуэрториканец, один из многолетних постояльцев гостиницы, решил свести счеты с жизнью.
А еще через день пропало электричество. Мне-то что, не привыкать, в России часто выключалось. Разве что жара усилилась — вентилятор, который я выпросил у портье, перестал работать. Да и на десятый этаж пешком бегать совсем запаришься. Но только вот вокруг что-то странное началось. Все магазины закрылись. Оказалось, во всем Нью-Йорке электричества нет. И не было целых три дня. Потом я узнал, что попал в знаменитый нью-йоркский «black out», навсегда вошедший в историю. Из-за аварии сократили подачу электроэнергии в город, и в разгар жары, на пике потребления, пошел эффект домино: стало вырубаться все подряд. Нью-Йорк парализовало. Начались повальные грабежи и мародерство.
Тогда я как-то не заметил бо́льшую часть этого. Хотя напротив на углу какой-то молодчик попытался ограбить аптеку, а аптекарь его застрелил. Из моего окна были видны распростертое тело на тротуаре, толпящийся вокруг народ и подъехавшие полицейские машины.
Масштабов происходившего я вовсе не понимал. Телевидение не работало, а портье на вопрос, когда включат энергию, лишь разводил руками. Гулять по городу поначалу было интересно, только опять же жарко, да и одиноко как-то. Все спешат, никто не остановится пообщаться. За четыре месяца ожидания американской визы в Италии я привык к легкому уличному общению, которое быстро переходит в приятельские отношения, а то и в дружбу. Задашь вопрос прохожему — он ответит, поинтересуется происхождением акцента, вот и завязался разговор. Или сядешь под фонтаном передохнуть, раскроешь русскую книгу, у тебя тут же спросят, что это за язык — и немедленно начинается обмен мнениями, знакомство с приятелями собеседника, приглашения в гости и так далее. В Нью-Йорке так не получалось. Акцентом не интересовался никто. За несколько дней прогулок я познакомился только с молодым греком, уличным торговцем хотдогами, который даже угостил меня своим товаром, но разговаривать особенно было не о чем, да и некогда ему было «при исполнении». Но я уже знал, что настоящая контркультурная молодежь тусуется в Гринвич-Виллидж, и на следующий день направился туда.
Район поначалу меня разочаровал. Дома невысокие, из почерневшего кирпича и, по большей части, без архитектурных излишеств (только позже я узнал, что такие домики, построенные в XIX веке, — самый ценный архитектурный фонд не древней Америки). Вездесущие железные пожарные лестницы, часто прикрученные прямо к фасадам зданий, придавали улицам какой-то промышленный вид. Когда мой взгляд притерся к типичному облику американского города, я перестал эти лестницы замечать.
Должен сказать, что поначалу, помимо уродливых пожарных лестниц, меня очень удивляло практически полное отсутствие дворов. Дома стоят сплошной стеной, а если с обратной стороны и есть двор, то он маленький, колодцеобразный и используется в сугубо утилитарных целях владельцами заведений (магазинов, ресторанов, мастерских), расположенных на нежилом первом этаже. Дети играют на узком тротуаре перед своим домом. От проезжей части их отделяет только ряд запаркованных машин. Поразила меня баскетбольная площадка в Гринвич-Виллидж, отгороженная от тротуара металлической сеткой-рабицей. Там, в метре от проезжей части, самозабвенно бились две команды из чернокожих игроков. Позже я узнал, что это самая престижная баскетбольная площадка в Нью-Йорке, куда съезжаются со всего города игроки почти профессионального уровня.
* * *
Как это было непохоже на мое московское детство! Рос я на Большой Никитской, тогда — улице Герцена. Флигель, на втором этаже которого размещалась наша квартира, стоял во дворе, со всех сторон окруженном невысокими хозяйственными постройками, в советское время ставшими жилыми. Самый большой отгораживавший нас от улицы дом (бывший барский) имел всего четыре этажа. Во дворе росли липы, обсаженные кустами крыжовника и смородины. Правда, мне никогда не доводилось попробовать ягоды: в конце августа, когда я возвращался после каникул, их уже не было — подъедали дочиста. Все дети играли во дворе, а за ними зорко присматривала чья-нибудь бабушка, вышедшая посидеть на лавочке. Любого зашедшего во двор чужого человека сразу примечали, так что детей можно было смело отпускать играть самих — им ничего не угрожало. Нам только строго-настрого воспрещалось выходить одним за пределы двора, на улицу.
Впрочем, когда перед первым мая и седьмым ноября по нашей улице каждый вечер в течение нескольких дней подряд, лязгая и грохоча, проходили танки, бронетранспортеры и тяжелые тягачи с ракетами (шли репетиции перед военными парадами на Красной площади), нам дозволялось выходить на улицу, махать солдатам и кричать «ура». Земля содрогалась, оконные стекла в домах дребезжали, воздух затягивало сизой дымкой вкусно пахнущего выхлопа, расчетные команды бронетехники на крышах своих машин улыбались и махали нам в ответ. Потом колонна проходила, оставляя цепь светлых вмятин и выщербин на опустевшем асфальте, и мы возвращались во двор с ощущением причастности к чему-то великому.
Сосед дядя Петя, работавший шофером на почте, приезжал домой на служебном транспорте — белом пикапчике. Иногда он предлагал прокатиться. Я садился рядом с ним на сиденье, и он вез меня через весь двор, за угол и через подворотню до самого выезда на улицу, после чего я, счастливый от полученного удовольствия, бежал назад.
Зимой все покрывалось сугробами, такими высокими, что мы прорывали в них пещеры и извилистые туннели. Как таинственно и уютно было сидеть в пещере с зажженной свечкой и воображать себя героем сказки!
От соседнего двора нас отделяла кирпичная стена. С нашей стороны она была по грудь, а с другой высилась в полтора роста, что давало нам ключевое преимущество в снежных боях против тамошних более многочисленных обитателей.
Постепенно наш двор, состоявший по большей части из коммунальных квартир, начали расселять. Самая кошмарная по условиям обитания коммуналка располагалась в подвале барского дома. Помню, как дворничиха-татарка баба Нюра, вернулась после просмотра новой квартиры в черемушкинской хрущевке и, окруженная внимающими соседками, с восторгом докладывала: «Захожу в фатеру. Направо комнатя, налево другая комнатя, как в киятре!»
Так постепенно и расселился наш уютный двор. Когда мне было пятнадцать лет, уехали и мы — в новостройку на Хорошевке. В громадной девятиэтажке было тринадцать подъездов и почти пятьсот квартир, так что такой единой семейной атмосферы, как в моем старом доме, уже не было. Но все равно был двор и достаточное игровое пространство для детей, так что гонять мяч на улице не приходило в голову никому.
* * *
Но вернемся в Нью-Йорк. Посреди Гринвич-Виллидж я обнаружил средних размеров сквер, в центре которого красовалась мраморная арка со скульптурным изображением двух Джорджей Вашингтонов: один был в военной форме и в треуголке, но с отбитым носом, другой — с целым носом, но в гражданском платье и с непокрытой головой. Пока я рассматривал этот необычный архитектурный памятник, мне успели несколько раз предложить самокрутки с «травкой». Все марихуанные разносчики были чернокожими. На газонах сквера сидели, лежали и общались между собой самые разношерстные люди, по большей части молодежь. Я погулял вокруг них, посидел рядом, но на меня даже никто не оглядывался.
Объект моих поисков — длинноволосые молодые люди в хипповых одеждах — попадались взгляду, но далеко не так часто, как в Италии. Знакомиться никто из них не подходил. Тогда я решил испробовать проверенный способ: уселся на скамеечку и раскрыл русскую книгу. Просидел целый час, но абсолютно безрезультатно: никому до меня и до моего экзотического языка совершенно не было дела.
Лишь через несколько дней таких одиноких хождений мне наконец-то удалось разговориться с одним чернокожим обитателем здешних мест. Волосы на его голове стояли громадным черным шаром. Он назвался свободным поэтом и философом, то есть явно был человеком привычного мне круга. Правда, первые минуты знакомства принесли серьезное разочарование. Тут нужно кое-что пояснить.
Дело в том, что к тому времени я уверился в своем весьма продвинутом знании местного наречия. Общаться на нем я начал неожиданно для себя самого. Разумеется, английский я учил в школе и в институте, даже занимался с репетитором, но языком не владел вовсе. В первый же день моей эмиграции в Вене со мной на улице заговорил какой-то местный хиппи, и я, удивившись, что понял его, ответил. Разговор получился, а вечером меня пригласили в гости в веселую компанию — ведь русский хиппи воспринимался весьма экзотической диковинкой на Западе, так что внимание мне было обеспечено. Я понял, что каким-то образом могу общаться, и с радостью предался этому занятию. Всякий раз, когда другие эмигранты слышали мои разговоры с аборигенами — в Вене, а затем в Риме, — они рассыпались в похвалах моему великолепному английскому. Впрочем, еще бы: они-то говорить вовсе не умели, так что на их фоне мое весьма убогое владение языком воспринималось как что-то близкое к совершенству. Но я воспринял их похвалы за абсолютную истину. Наверное, это мне помогло: я перестал бояться говорить, и от постоянной практики качество моего английского стало улучшаться с каждым днем. Новые итальянские приятели, знавшие английский куда хуже моего, также вовсю сыпали комплиментами. Впрочем, с ними мне пришлось начать говорить и на их родном языке, и после четырех месяцев непрерывного общения с носителями я продвинулся в нем довольно сильно.
Таким образом во мне развилось качество, которое я называю «лингвистической наглостью». В начале моей эмиграции оно проявилось впервые и осталось во мне навсегда. Я не боюсь говорить на языке, который очень плохо знаю. То есть я не боюсь делать ошибки и пытаюсь обходиться теми словами, которые могу вспомнить. В дальнейшем во всех языковых средах, где я оказывался, я тут же, приобретя минимум знаний, пытался начать говорить: пусть и с ошибками, поначалу коряво, но все же мне удавалось доносить свои мысли. Опыт показал, что именно так легче всего преодолевается языковый барьер.
Так вот, через несколько минут общения с чернокожим поэтом, когда я уже успел сообщить ему, что приехал из Москвы как беженец от коммунистического режима, он повел знакомить меня со своими приятелями, ошивавшимися тут же. «Вот мой новый знакомый — русский парень, — сказал он, — совсем паршиво говорит по– английски, но я все же научился его понимать».
Я встречался с этим философом и поэтом еще пару раз, прежде чем он совсем исчез с моего горизонта. На память о наших беседах у меня до сих пор осталась тоненькая брошюрка его творений довольно убогого, должен сказать, содержания и оформления, но с весьма кудрявым посвящением от автора.
Итак, контакта с американскими хиппи наладить пока не удавалось. А ведь в этом и была главная цель моего переезда из Москвы сюда, в Нью-Йорк. Началось же все гораздо раньше…
Волосатые
Как я не произнес речь с балкона
Уже написав значительную часть текста, я полез в старые бумаги и, к своему удивлению, вдруг отыскал дневниковые записи тех дней. Воспроизведу отрывок — он передает, как я, тогдашний, воспринимал себя и окружающий мир:
«…врубился в необходимость: забывать нельзя! Я оставил позади все, что я прожил — 21 год. Всю мою жизнь, страну, город, в котором я родился, друзей, маму, все мои чувства, привычки, привязанности. Теперь рождаюсь заново. Начинаю все сначала. ”Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног“.
Итак. Я, Александр Леонидович Дворкин, 21 года (ох, да, забыл, «Леонидович» осталось в Союзе), я, Александр Дворкин, 21 года, сижу за столом в комнате, которая находится в центре Рима. Как я раньше завидовал побывавшим за границей, относился к ним с каким-то подсознательным почтением. И вот — я сам в этой ожиданной и всю жизнь онеймечтаемой загранице. Вокруг сплошные фирмачи и сплошная фирма. Только все буднично, спокойно, люди как люди, города как города. В Союзе я здешнюю жизнь приблизительно так же себе и представлял. Но думал, что это из-за недостатка информации и бедности воображения, а прилечу — увижу фейерверк, карнавал, сказку. В общем-то, конечно, сказка: разные киевляне-одесситы (эмигранты) только об этом и твердят, но я, как я теперь понял, еще в Союзе максимально, насколько это возможно, приблизился к западному образу жизни, мышления, морали, поведения и т.п. Все эти местные свободы меня не удивляют и не поражают, как остальных. Я сразу воспринял их как должно быть, хотя и не видел никогда в жизни.
Итак, я, Александр Дворкин, сижу за столом в центре Рима и пишу дневник.
6 марта я вылетел из Москвы. Сегодня кончается 25-й день моей эмиграции. Все время ловлю себя на том, что примеряюсь ко всему, как я то или иное событие расскажу в Москве, как чем-то пережитым похвастаюсь. Невозможно, думаю, человеку примириться с тем, что произошло нечто необратимое, что нет пути назад, к прежнему, каким бы оно ни было.
От всего процесса отлета (или улета?) и нескольких предыдущих дней остались очень тяжелые воспоминания. Ну еще бы — бросок в неизвестность, в одиночество, слезы мамы, лица всех близких, ближайших и далеких, которых больше никогда не увижу, — это преобладало тогда. Я вообще очень сентиментален, хоть и постоянно стебаюсь над сантиментами, а тут, думаю, сентиментальность во мне круто усилится. Тяжелые у меня были проводы, но я держался, бегал, суетился, разрывался между всем обилием народа, прерывал на полуслове разговор с одним, бежал к другому, ничего не соображал, отгонял от себя все мысли. Когда они приходили, хотелось плакать, но я гнал их от себя и бегал опять, туповато улыбаясь. Обстановка стояла похоронная. Я был как в тумане. Потом — час сна, ночевала у нас куча народу, спали вповалку на полу. Утром такси, на ходу бросил монетку в Москва-реку (или в канал, не помню) — и в аэропорт Шереметьево-1. Ехали на трех тачках. В третьей я с матушкой, в первых двух все остальные. Приехали первые. Вскоре появился Фроська[5] с волосатой толпой, которая все увеличивалась, хотелось со всеми попрощаться, каждому что-то сказать. Помню испуганные глаза мамы: она все прижимала меня к себе — последние минуты. Против воли поднялось раздражение: почему она отрывает меня от моих. Но сразу стало стыдно. Потом шампанское — и таможня. Досмотрели мои вещи поверхностно, потом принялись за Лайми. Я стоял, ждал и мечтал, как мы помашем всем рукой с балкончика и какие слова я скажу на прощанье. Что-то долго Лешу шмонают. Ну, вроде все. Нет, опять нашли что-то. Потом у него куда-то запропастилась виза, и, когда он лихорадочно выворачивал карманы, пришел капитан-пограничник и сказал, что мы задержаны. Помню животный страх до дрожи в коленках, до обморочного состояния, до смерти… но тут виза нашлась. Ух, полегчало. Но он все равно приглашает следовать за собой — страх нахлынул опять. Он ведет нас какими-то окольными путями, мимо солдат– мордоворотов, через комнаты и подземные переходы с трубами над головой. Еле иду, подгибаются коленки. И вдруг — большой зал с обилием света и иностранцев. Тут я понял, что все-таки улечу, но что слов прощания не будет. Все. Потом — тщательнейший обыск (как он тут называется, «личный досмотр»), споры о том, пропускать ли мои старинные пуговицы на надетом на мне дореволюционном кителе, магнитное и рентгеновское просвечивание, автобус, подъем по трапу, последний взгляд из окна на кумачевый транспарант и — вперед. Сильнее всего — тоска: не попрощался. Навсегда уехал — и не попрощался! Леша сидит рядом. Достал тетрадь, хочет что-то рисовать. Я беру у него ручку и пишу на листке: «СВОБОДА». Потом мы оба расписываемся».
Выпасть из советской действительности
После получения в 1972 году аттестата зрелости, я сразу же поступил в институт — МГПИ им. Ленина, на факультет русского языка и литературы. В школе я учился весьма средне, с хорошими оценками только по гуманитарным предметам. Но по самому сильному моему предмету — литературе — выпускные экзамены прошли неудачно: мне достался единственный невыученный билет с вопросом про ленинскую статью «Партийная организация и партийная литература» (мне никогда не удавалось осилить ее дальше первого абзаца), и я едва вытянул экзамен на тройку. В результате в аттестат пошла четверка. А по истории я всегда спорил с учительницей-коммунисткой, задавая ей каверзные вопросы. Например, почему большевики издали Декрет о мире, а начали воевать в Гражданскую войну? Или почему предателей Каменева и Зиновьева, едва не сорвавших Великую Октябрьскую Социалистическую Революцию, сразу же допустили управлять молодым советским государством? И так далее, в таком же духе. В результате из троек я не вылезал и, получив на выпускном экзамене пятерку, смог повысить итоговый балл лишь до четверки. Но вступительные экзамены в институт я сдал на все пятерки, поверил в свои силы и резко повысил собственную самооценку.
Дело в том, что я был одним из самых непопулярных учеников в своем классе: физической силой и спортивностью не отличался, учился неважно, модными одежками и большим количеством карманных денег тоже не выделялся. Но теперь мне представилась возможность начать все с чистого листа. И я начал. Наш факультет был настоящей ярмаркой невест: девушки количественно превышали юношей раз в пятнадцать, так что нас ценили. Эрудиции мне хватало, и первую сессию я сдал на одни пятерки, что еще больше повысило меня в собственных глазах.
К тому моменту я уже хорошо знал про московскую «Систему» (так называли малюсенькое сообщество хиппи) и мечтал познакомиться с ней. Среди студентов ходили легенды об отважных хиппи, устроивших первую мирную манифестацию 1 июня[6] 1971 года в скверике перед университетом на Моховой. И хотя манифестация никаких антисоветских лозунгов не выдвигала, но призывала лишь к миру («Make love not war!») и защите детей («Save the children!»), через несколько минут милиция скрутила экзотичных манифестантов и увезла на разбирательство, а затем часть отсидела пятнадцать суток за хулиганство, а других отвезли в психбольницу на освидетельствование. Общепризнанного главу Системы звали Юра Солнце. Иногда я видел его на Стриту (так мы называли улицу Горького). Его светлые прямые волосы невиданной длины, ниже плеч, вдохновенно развевались на ветру. Расклешенные джинсы были расшиты яркими узорами. Юра шел в окружении поклонников и приближенных к нему лиц, сопровождаемый почтительным шепотом: «Смотри, сам Солнышко идет!» Но главный хиппи страны не обращал внимания на серую комсомольскую массу и общался только со своими.
Хиппи смотрелись замечательным ярким пятном на фоне всеобщей советский затхлости, серости и скуки. Среди одинаковых прохожих в одинаковых одеждах с одинаковыми прическами и весьма одинаковым поведением длинноволосые, разноцветные, вызывающе разнообразные хиппи воспринимались как весть об ином, запредельном существовании. Их раскрепощенное поведение казалось небывалым проявлением свободы. Эта маленькая группка виделась мне (да и не только мне) каким-то полубожественным орденом — братством любви и свободы среди мертвящей коммунистической идеологии, тупости и доносительства.
Сами себя советские хиппи называли просто: «волосатые». Самообозначение «хиппи» среди своих считалось неприличным — нескромным, заносчивым бахвальством. Такое звание следовало еще заслужить. Это было все равно что аттестовать себя героем или гением. Настоящие хиппи жили на Западе — наши лишь стремились им подражать, но только весьма немногие из них дотягивали до столь недостижимого идеала. О ком-нибудь можно было сказать в виде высшей похвалы: он настоящий хиппи.
Итак, едва ли не главным критерием принадлежности к Братству была длина волос, ведь требовалось их отращивать не меньше года, преодолевая сопротивление окружающей среды: родителей, деканата и милиции, главным аргументом которой в борьбе против такой вызывающе несоветской внешности были ножницы. В итоге приходилось выбирать между волосами и институтом, между волосами и комсомолом, между волосами и работой, в конце концов, между волосами и легальным способом существования. Только самые отважные решались променять все обозримое будущее в СССР на подпольную свободу, которую давали эти самые длинные волосы. Оттого хиппи и были окружены подспудным уважением, а то и почитанием многих моих ровесников, которые сами никогда не отваживались на столь радикальный шаг, но завидовали тем, кто все же решился.
А ведь я хорошо был знаком с одним из членов Системы. Когда мы перешли в девятый класс, нам представили нового ученика — Толю Вайнберга. Его черные, прямые, блестящие волосы, почти закрывавшие уши (что виделось неслыханной длиной), и смуглая кожа делали его похожим на индейца в исполнении популярного югославского актера Гойко Митича. Джинсы с небольшим клешем, стоившие по тем временам баснословных денег, сразу же поставили его на небывалую высоту среди моих одноклассников. Говорил Толик мало, предпочитая гордое молчание, прерываемое отрывочными лаконичными фразами, которые он ронял лишь в случаях самой острой необходимости. Общаться с нами он явно не желал, но делал это с таким достоинством, что все восприняли это как должное.
Дальше последовала долгая история: учителя заставляли его стричься и переодеваться — он этого не делал; его не пускали на занятия, вызывали в школу его мать, она плакала, что сын совсем от рук отбился, и т.д. В конце концов его выгнали из нашей образцово-показательной школы, и мать устроила его в ШРМ[7]. Но за это время я успел с ним подружиться. Он-то впервые и рассказал мне о хиппи и по секрету сообщил, что он — один из их числа. Я ходил к нему в гости и слушал на магнитофоне «Смена» записи тогдашних рок-групп: в первую очередь, конечно, Beatles и Rolling Stones, но также и Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath и Uriah Heep. Все эти названия звучали музыкой для моих ушей, и я жадно впитывал новые ритмы и новое звучание.
После отчисления Толика из школы я потерял его из вида, но сейчас вновь стал встречать на Стриту. Он обычно шел среди спутников Солнышка, его уже по-настоящему длинные черные волосы были перехвачены на лбу алой ленточкой, что делало его сходство с Гойко Митичем почти абсолютным. Теперь его так и звали — Виннету. Толик познакомил меня с Солнцем, и я удостоился вялого рукопожатия великого человека. Я был почему-то представлен ему как Шурик (меня никогда ранее не звали таким именем), но, как оказалось, Юра меня так и запомнил.
* * *
К тому времени волосы у меня самого заметно отросли. Правда, одет я был вполне по-советски: семья наша жила весьма скромно, в магазине ничего модного не продавалось, о джинсах я не мог и мечтать, а шить на заказ было не на что. Весь семестр я экономил на своей стипендии и вот весной, купив по случаю отрез вельвета салатного цвета, заказал у левого портного Ивана Семеныча широко расклешенные брюки и короткую курточку в обтяжку. Вскоре я смог красоваться в обновке. Ходить в расклешенных (50 сантиметров) штанах было непривычно, пришлось вырабатывать новую походку и шагать, широко расставляя ноги. Вельвет оказался паршивым и через несколько дней вытерся на коленях, но это сделало мой вид еще более хипповским. Я стал отращивать свою первую бородку, поначалу еще весьма жиденькую.
Теперь на студенческих «рок-сейшенах» я выглядел одним из самых продвинутых посетителей. Про «сейшены» стоит сказать особо. Так назывались выступления самодеятельных рок-групп. Как правило, они проводились в вузовских домах культуры или в студенческих общежитиях. Официально группы оформлялись как ВИА[8] или как фольклорные ансамбли. Названия у них были весьма экзотическими: «Черные вороны», «Завтрашнее железо», «Араке», «Стертая ржавчина», «Сломанный воздух», «Високосное лето», «Рубиновая атака» и так далее[9]. Такие названия, как «Оловянные солдатики», «Машина времени» и «Удачное приобретение», числились среди самых заурядных. Полуофициальная группа «Цветы», возглавляемая Стасом Наминым, внуком бессменного члена Политбюро Анастаса Микояна, популярностью не пользовалась. Инструменты ограничивались парой-тройкой электрических гитар (поначалу часто самодельных), ударной установкой и у самых богатых еще и синтезатором. Главным достоинством подобных коллективов считалось умение исполнять песни западных рок-групп на английском языке «один к одному». Собственное творчество, да еще и на отечественном языке, категорически не приветствовалось. Для начала (и успокоения совести организаторов студенческого досуга) полагалось сыграть пару-тройку песен из тогдашнего эстрадного репертуара, а далее следовал западный рок, под который все «отрывались» и плясали до упаду. Танцы были двух типов: быстрый и медленный. В первом больше всего ценилось умение выделывать акробатические коленца, а во втором, во время которого обычно приглушался свет, полагалось как можно теснее прижаться к своей партнерше, слегка покачиваясь с ней в такт музыке. Дело это было несложное, и очень скоро я научился преуспевать в обоих видах.
«Сейшены» проходили относительно редко. О них нигде не объявлялось. Главное было узнать о месте и времени, а затем прорваться сквозь заслоны. Если это удавалось сделать слишком большому количеству «чужих», «сейшен» могли отменить, равно как его могли прервать в любой момент, если выступление группы казалось организаторам слишком диким, чересчур уж перехлестывающим через границы дозволенного для морального облика советского студента поведения. Но опять же, и они выглядели островками свободы — опыта переживания столь желанной западной жизни. Более того, на них появлялись люди из Системы, и я потихоньку делал все новые и новые знакомства.
* * *
Этой же весной 1973 года состоялась одна чрезвычайно важная для меня встреча. В Москве, на ВДНХ проходила выставка «Туризм и отдых в США». Отстояв длинную очередь, можно было попасть внутрь павильона, завистливо повздыхать над невиданными по красоте и удобству спальными мешками и палатками, посмотреть слайд-шоу с разными туристическими маршрутами и самое главное — пообщаться с настоящими американцами, веселыми, разговорчивыми молодыми людьми и девушками, довольно прилично говорившими по-русски. Набравшись наглости, я спросил у одной из них: «What do you think of free love?»[10], на что она вполне корректно ответила на моем родном языке: «Все зависит от того, что вы называете свободой и что — любовью». В конце беседы она подарила мне настоящую драгоценность — большую карту автодорог США, на которой по моей просьбе прочертила фломастером путь из Нью-Йорка в Сан-Франциско. Карту я разместил на стене своей комнаты и часами путешествовал по ней. На выставку я приходил еще несколько раз и подружился с гидами, а в одну из них — невысокую блондинку по имени Лори — даже влюбился, правда платонически и втайне от нее. Несколько раз, соблюдая все правила конспирации, я встречался в городе со своими новыми друзьями. Они подарили мне несколько значков, пару ручек и даже образцы американских монеток. Когда мой дед, в свое время отсидевший приличный срок в сталинском лагере, увидел в нашем доме эти деньги, он остолбенел от ужаса и потребовал, чтобы я незамедлительно, пока всех не арестовали за валютные махинации, выкинул их куда-нибудь подальше. Не помню уже, чем разрешился этот конфликт.
А в июне, за несколько дней до отъезда, двое гидов решили пожениться и организовать экзотическую свадьбу — в советском ЗАГСе. Меня с одним моим сокурсником пригласили в качестве местных гостей. Мы вдоволь потешались над застегнутой на все пуговицы сотрудницей ЗАГСа, каменным голосом и едва двигая губами произносившей казенные формулы. Какой контраст с нашими живыми, свободными, раскованными, естественно себя ведущими друзьями! А затем нас пригласили на брачный прием, который проводился не в каком-нибудь скучном ресторане, а в виде пикника на берегу Москвы-реки, в Серебряном Бору. На кострах жарились хот-доги, которые подавали с невиданной мною ранее ярко-желтой сладкой горчицей, закусывать можно было картофельными чипсами с разными вкусовыми добавками, а запивались эти заморские яства оранжевой фантой с настоящим апельсиновым вкусом из индивидуальных жестяных банок. Все это кошмарное химическое угощение показалось мне тогда райской едой — нектаром и амброзией. Никто не перепился, как на знакомых мне свадьбах. Гости весело играли в волейбол и впервые увиденные мною фрисби и бейсбол и танцевали под музыку из портативного магнитофона. Всех фотографировали при помощи еще одного небывалого чуда — полароида, который выдавал небольшие черно-белые фотографии практически мгновенно. Я как будто попал заграницу и был там своим среди своих, вдалеке от обрыдшего советского быта, от серых людей, от мертвящей идеологии и страха вездесущих стукачей. Впрочем, стукачи были и там: автобус с американцами сопровождал советский гид при галстуке и в пиджаке. Он взялся было поиграть в бейсбол, но почти сразу получил тяжелым мячиком в глаз и, прижав к нему мокрый носовой платок, удалился в автобус беседовать с шофером. Без его всевидящего ока всем стало еще веселее.
Но все хорошее рано или поздно кончается, кончилась и эта «химическая» свадьба. Нас погрузили в автобус, меня довезли до метро и высадили там. Автобус с американцами поехал дальше, а я остался один среди до смерти надоевшего и ненавистного советского быта — всего того, что казалось мне совершенно чужим. Вот впервые в жизни я ощутил себя свободным, но после нескольких часов этого райского существования был вновь выброшен в толпу рабов к своему прежнему рабскому прозябанию. Я испытал настоящий и жестокий культурный шок.
Кстати, после этого события обо мне впервые заговорил «Голос Америки», правда без упоминания имени. В новостях рассказали об этой столь важной для «политики разрядки» свадьбе и сообщили, что среди гостей на ней присутствовали «двое московских студентов». Передачу услышал дед и сообщил, что теперь-то меня наверняка арестуют. Не арестовали.
* * *
Подошла вторая сессия, которую я сдал вполне прилично, но уже далеко не так блестяще, как первую. После нее передо мной встала задача, как раздобыть денег на отпуск. Через знакомых узнал, что на «Мосфильме» можно неплохо заработать, снимаясь в массовке, и отправился на киностудию. Оказалось, я попал ровно куда надо: режиссер Щукин снимал сатирический фильм о западном обществе под названием «Райские яблочки», и в массовку срочно требовались длинноволосые молодые люди, так что меня взяли сразу. Платили целых три рубля в день, а на первой же пробе режиссер Щукин заявил, что я отличаюсь киногеничной внешностью и поставил меня на первый план, за что платили уже и вовсе запредельную сумму: семь с половиной рублей. На три недели съемочная площадка «Райских яблочек» сделалась центром хипповой жизни Москвы: узнав о такой халяве, многие системные потянулись туда. Еще бы! Все, за что их гоняла милиция, теперь поощрялось. На Мосфильме выдавали дополнительные реквизитные фенечки и требовали максимально раскрепощенного поведения. Милиция, видя такое безобразие, щелкала зубами от злости, но сделать ничего не могла: трогать «артистов» было нельзя. Так я завел новые знакомства и стал восприниматься своим в Системе.
Вспоминаю забавный эпизод, связанный со съемками этого фильма. Разыгрывалась сцена забастовки в каком-то капиталистическом государстве. Массовка изображала бастующих и публику, а сверху раскидывали чистые бумажки, изображавшие прокламации. Дело происходило возле тогда только что построенного здания МХАТа на Тверском бульваре. С Пушкинской площади было видно, что вдали летят какие-то листовки, но подробностей разглядеть не удавалось. Именно там разместился член Системы по прозвищу Майкл Красноштанник и просил у прохожих подать на нужды оппозиции. Удивительно, что ему подавали и никто не донес в милицию!
После «Райских яблочек» мы перешли в другой фильм. То был приобретший впоследствии некоторую известность «Бегство мистера МакКинли» с Банионисом и Высоцким. Мы, как всегда, изображали западных хиппи, живших лагерем на окраине какого-то западного капиталистического города. Весь смысл нашего существования был в оттенении Высоцкого, который по сюжету был лидером этих хиппи и пел свои песни. Когда знаменитость появилась на площадке, мы расхохотались. На лидера хиппи этот аккуратно подстриженный и гладко выбритый в новеньких джинсах «СуперРайфл» человек не походил никак. По сюжету мы приветствовали его дикими криками и воплями, а затем понесли на плечах. Последнее довелось делать мне в паре с еще одним волосатым. После нескольких дублей Высоцкий вытащил из кармана плоскую флягу с коньяком и предложил нам подкрепиться. Мы высокомерно отказались: певец в нашем кругу считался слишком «урловым», и относились к нему мы весьма прохладно.
В конце концов эпизод с лагерем хиппи в окончательную версию фильма не попал.
Потом было еще несколько съемочных площадок, и к началу августа я заработал уже вполне приличную сумму, с которой рванул в Пярну.
По сравнению с зажатой Москвой, провинциальный эстонский городок выглядел настоящей западной вольницей. Мои длинные волосы и весь вид говорили о моем явно несоветском образе жизни. Я выучил два слова «Vapa Eesti» (Свободная Эстония), которыми сразу же завоевывал доверие аборигенов, что помогло мне быстро сойтись с местной альтернативной молодежью и стать для них совсем своим. Когда мы заходили в ресторан на ужин, музыканты объявляли: «А теперь для нашего гостя, московского хиппи, мы сыграем…» — и как могли исполняли что-нибудь из репертуара западных рок-групп.
Почти одновременно со мной в город приехало трое питерцев — таких же, как и я, околохипповых студентов, которые почти сразу стали моими лучшими друзьями. Позже они познакомили меня с кругом питерских волосатых, одним из самых известных членов которого был начинающий поэт по имени Боб Гребенщиков (тогда он только-только еще приступал к занятиям музыкой и гораздо более был известен своим неподцензурным поэтическим творчеством). Впрочем, на питерскую Систему у меня были и другие выходы — через однокурсницу, выросшую в городе на Неве и близко знакомую с тем же Гребенщиковым и всем его окружением.
В Москву я вернулся уже бывалым путешественником. Московская Система начинала признавать меня за своего. В своих обтрепанных расклешенных брюках и с лежащими на плечах волосами я выглядел настоящим хиппи, что позволяло мне наслаждаться заслуженным вниманием: как восторженным — со стороны студенческой молодежи, так и резко враждебным — со стороны советского мэйнстрима. В вагоне метро или в троллейбусе я неизбежно делался предметом громкого и оживленного обсуждения окружающих меня пассажиров. На меня орали, мне грозили, милиция проверяла документы, уличные хулиганы пинали, заушали и таскали за волосы. Но благодаря этому я ощущал себя героем-одиночкой, отважно противостоящим бездушной машине подавления. Нарциссизм и гордыня полностью овладели мной. В школе я ощущал себя гадким утенком. Теперь я стал — нет, конечно, не лебедем, но, наверное, павлином. Глупым, тщеславным, самовлюбленным павлином. Я наслаждался собою и своей новообретенной популярностью.
* * *
Но тут грянула катастрофа: военная кафедра. Пожилой и корпулентный подполковник Нечипоренко, увидев меня, остолбенел и потребовал, чтобы к следующему разу я пришел на занятия «по полной форме». «Я научу тебя Родину любить! — рявкнул он. — Может, твой папаша и главк какой-нибудь, но неуставного вида я не позволю! Пидарасов нам тут не нужно! Вольно!»
Человек он был простой и глубоко презирал нашу хилую команду, состоявшую из филологов и историков. Называл он всех нас курсантами и выражался примерно так: «А остальные пять дней в неделю, товарищи курсанты, вы будете проходить службу по наряду русский язык и литература».
Отец мой, вопреки уверенности подполковника, «главком» не был, и стричься мне пришлось. По мере того как под рукой парикмахера падали на пол мои локоны, я ощущал вытекающую из меня силу. Из парикмахерской я вышел разжалованным из генералов в рядовые. Теперь я опять сливался с толпой и ничем не выделялся из нее. На меня никто больше не пялил глаза и не оглядывался. Даже знакомые на Стриту перестали узнавать. Я доставал свою фотографию с волосами, лежащими на плечах, показывал ее всем, говорил, что это вынужденная мера. Знакомые вежливо мне сочувствовали и шли дальше. Я сам отторг себя от хиппового братства!
Я суетился, оправдывался и в совершенно безумном тщеславии дошел до того, что прикрепил к груди самодельный значок с собственным волосато-бородатым изображением, чтобы все видели, каким я был. Однако это не помогало. Не успев по-настоящему стать хиппи, я утратил это высокое для меня звание. Нужно было что-то решать.
Я вспомнил о перенесенном в детстве сотрясении мозга, собрал справки и пошел по врачам. Удивительно, но это сработало: я получил белый билет и освобождение от военной кафедры. Можно было отращивание волос начинать сначала. За всеми этими переживаниями я запустил учебу и третью сессию сдал уже с тройками, что лишило меня стипендии. Но зато мне наконец удалось приобрести свои первые джинсы — ношеные, сильно вытертые, но все же настоящие американские, и я щеголял теперь в них, постепенно закрывая появляющиеся дыры вышитыми гладью узорами.
В институте я числился уже на весьма нелестном счету. Однажды с приятелем мы прочитали, как нью-йоркские хиппи прервали на несколько часов работу центральной биржи на Уолл-Стрит, раскидав с галереи несколько сотен однодолларовых бумажек, что заставило клерков внизу ловить их, отпихивая друг друга. Долларов у нас, разумеется, не было, но зато в нашем институте также были галереи, выходящие в центральный холл с большой гипсовой статуей вождя мирового пролетариата. Мы разменяли два рубля по копейке и швырнули две горсти мелочи вниз. Как красиво звенели копейки, отскакивая от вымощенного плиткой пола! К счастью, нас не поймали, но, думаю, все догадались, чьих рук это было дело. Комсомольские собрания я откровенно прогуливал, общественными работами демонстративно манкировал. На проводимых в нашем общежитии сейшенах шокировал окружающих неудержимыми танцами и знакомством с совсем уже несоветского вида личностями.
В институтской многотиражке появилась статья о моральном облике студента Дворкина, которого неоднократно вызывали на проработку, но который так и не думает исправляться. «О чем он думает — неизвестно» — так завершалась статья. «Знали бы они, о чем я думаю на самом деле», — с ехидной улыбкой говорил я, показывая газету своим приятелям.
Тем не менее четвертую сессию я сдал. Вновь с тройками, но все же далеко не самым худшим образом. Институт отправлял нас в стройотряд в Казахстан. Я, разумеется, заявил, что ни за какие коврижки не поеду, но все же, поддавшись настойчивым уговорам мамы, которой сообщили, что моя неявка в стройотряд приведет к немедленному отчислению, скрепя сердце, согласился. Себя я утешал тем, что стипендии мне не положено, а деньги все же нужны. В стройотряде можно было заработать даже побольше, чем на «Мосфильме». В общем, я отбыл в Кокчетавскую область со стройотрядом какого-то инженерного вуза, к которому прикрепили нескольких наших филологов.
Работать на стройке оказалось тяжело и скучно. Приходилось терпеть и смиряться. Попутно в выходные пару раз удалось подработать организатором вечеров молодежи в местных селах, тогда еще заселенных большим количеством русских немцев. В первой части я, пользуясь неведением местных цензоров, декламировал со сцены стихи декадентских поэтов Серебряного века, при этом до слез смущая местных красавиц долгими взглядами в упор во время чтения любовной лирики. Во второй половине запускались привезенные мною магнитофонные записи, и я, подобно актеру Моргунову из «Кавказской пленницы», демонстрировал, как сейчас в Москве принято танцевать. За один такой вечер платили целых пятнадцать рублей.
Осенью я вернулся в Москву, изрядно подзаработав, и смог обзавестись полным комплектом необходимого для хиппи обмундирования. Из старых джинсов сшил себе вместительную сумку через плечо. По мере отрастания волос я ощущал себя все более и более в силе и, предаваясь свободной богемной жизни, вновь обретал необходимые в Системе связи.
* * *
Чем дальше, тем больше я перекочевывал в интеллектуальный андеграунд. Любые виды неподконтрольной жизни принимали тогда причудливые подпольные формы. Хипповое существование подразумевало сочетание подпольной жизнедеятельности с сознательным эпатажем внешнего мира. Разумеется, мы уверяли себя и друг друга, что внешний мир нам безразличен, что мы живем свободно и естественно, невзирая на окружающих. На самом деле, еще как взирали! Мы жили этим эпатажем и во многом ради него.
Но все же больше всего меня удручала ложь, пронизывавшая все стороны советской действительности. Примерно тогда я прочитал в самиздате статью Солженицына «Жить не по лжи» и нашел его идеи удивительно созвучными со своими. Напомню, основная мысль писателя была в том, что в советскую систему все равно никто давно уже не верит. Люди притворяются ради работы, ради привилегий, ради карьеры, ради status quo. Коммунистическую идеологию во всей ее полноте никто всерьез не воспринимает, но все делают вид, что верят, и ведут себя соответственно. Отсиживают комсомольские или партсобрания (стараясь сесть на задний ряд, чтобы можно было порешать кроссворды), клеймят кого надо, голосуют как положено, шепотком рассказывая друг другу анекдоты и мечтая втридорога купить западные шмотки. Где надо, заявляют о новой советской морали, при этом в реальной жизни не ощущают себя стесненными никакими нравственными правилами. В общем, ведут обычную советскую жизнь. Вот если бы все честно признались в этом и перестали лгать, тогда система изменилась бы. Идея отказаться от внешней лжи постепенно начала вызревать во мне. Хипповое бытие казалось способом вести такую честную и непритворную жизнь. Однако на ложь своего внутреннего существа, на глубокую безнравственность собственных поступков внимания я не обращал, да и не думал обращать. Внутрь себя я не заглядывал. Все враждебное сосредоточивалось снаружи, и мое противостояние выражалось тоже почти исключительно во внешних формах.
В то время я был стихийным атеистом. Вольная жизнь и погоня за наслаждениями почти полностью заглушили во мне подсознательное стремление к Богу, которое я ощущал в детстве.
Приведу тут несколько историй из моего детства. Мне кажется, что без них честный рассказ о моем сложном, запутанном пути был бы неполным.
Творение КПСС
Как тяжело ребенку не верить в Бога! Как мучительно для детской души не знать опыта молитвы и не иметь в жизни никакого вертикального измерения! Помню, как ночью в своей кровати я мечтал о том, что было бы, если бы Бог существовал, как я беседовал бы с Ним, рассказывал Ему о своих делах, просил бы Его о помощи девочке на костылях или слепому дяденьке, которых я видел на улице, и почувствовал, как острая жалость сдавливает мое сердце. А недавно мамина подруга потеряла сына: мальчик утонул. С тех пор меня от нее прятали, чтобы не напоминать ей о сыне и не усугублять горя. Как я боялся момента появления ее высокой, грузной фигуры в дальнем конце коридора маминой работы, когда мне приходилось сворачивать в ближайшую комнату и прятаться там за шкафом! Я точно попросил бы Бога вернуть ей сына, чтобы они опять жили вместе. А как страшна смерть! С мыслью об этом ужасе невозможно примириться: ты есть, живешь, думаешь, двигаешься, любишь, переживаешь, а потом раз — и тебя больше нет. Совсем нет. И все было напрасно и ненужно. Вот если бы Бог существовал, то после смерти можно было бы встретить всех, кто жил до тебя, общаться с ними, радоваться, благодарить Бога…
Но Бога нет, и ничего этого не будет. Не будет жизни, не будет радости, не будет ничего. Вообще ничего. Есть только абсолютно пустое небо над головой. Это доказано. Ведь космонавты Бога не видели.
Уже одно то, что коммунисты лишали детей веры, заслуживает самого сурового осуждения. Думаю, это одно из их самых тяжких преступлений.
Впрочем, совсем веры лишить они не могли. Они лишь подменяли веру в живого Бога своей верой — верой в их мертвую и мертвящую все вокруг идеологию. И эта чудовищно абсурдная вера зачастую весьма гротескно претворялась в детской душе.
Уже когда я вырос, мать напомнила мне один эпизод моего раннего детства. Мне было года четыре. Придя из детского сада, я спросил:
— Мам, а кто такой Бог?
— Видишь ли, сынок, — начала моя тогда еще неверующая мама, — в древности наука была еще неразвита. Люди были не такими образованными, как сейчас. Они не знали, откуда происходит все вокруг: леса, поля, деревья, горы, небо, Земля, Солнце, звезды. И они думали, что все это сотворил Бог.
— Раньше люди были глупые, — перебил ее я. — Вот они и думали, что все сотворил Бог. Теперь они поумнели и знают, что на самом деле все — леса, поля, деревья, горы, небо, Землю, Солнце, звезды — сотворила Коммунистическая партия!
Первый урок
Вспоминаю одну давнюю историю из моего детства, когда я учился в первом или втором классе (не помню), ничего не знал о Боге и, как каждый советский школьник, считал себя атеистом. И вот в один день (как я теперь знаю, 14 октября) наша учительница, Анна Ивановна, начала очередной урок примерно со следующих слов: «Дети, сегодня православные отмечают праздник Покров. Смысл этого праздника в том, что в этот день первый снег якобы покрывает землю (?! — А. Д.). На самом же деле, как вы видите, все это глупости. Посмотрите в окно, как ярко светит октябрьское солнышко, как ласково оно пригревает землю, и вы видите, как далеко в этом году до первого снега. Все это опровергает глупые суеверия наших предков и означает, что никакого Бога нет».
Мы посмотрели в окно: стояла теплая и ясная осенняя погода, на голубом небе не было видно ни облачка, и аргумент нашей строгой пожилой учительницы показался нам чрезвычайно убедительным. Первый урок пошел своим чередом.
Но представьте себе, что в ходе урока небо вдруг потемнело, подул сильный холодный ветер, солнце исчезло за серыми облаками и внезапно повалил густой-густой снег! Учительница изменилась в лице и, выдавив из себя кривую усмешку, сказала: «Что же, всякие бывают совпадения», а я впервые подумал…
Нет, не помню, что я тогда подумал. Помню только чувство изумления, которое я испытал, глядя на густой, мохнатый, валящий плотной стеной снег. Собственно, и вспомнил я об этом эпизоде много лет спустя, когда стал православным христианином и уже давным-давно знал, что на самом деле праздник Покрова Божией Матери ни к какому снегу отношения не имеет.
В храме
Как-то ребенком я зашел в православный храм. Не помню, где это было. Наверное, в Москве. Шла служба, народу внутри было много. Но я начал протискиваться вперед, к алтарю, и через несколько минут уже стоял перед иконостасом, как завороженный глядя на мерные, неторопливые движения священника и слушая протяжное пение хора. Старушки, стоящие вокруг, одобрительно поглядывали на меня и гладили по головке. Мне было хорошо и спокойно.
Но вдруг в голове возникла и стала нарастать паническая мысль о похищающих детей сектантах, о которых нам рассказывали в школе. А я ведь стоял в самой глубине церкви, отделенный от входа плотной толпой. Вот теперь меня похитят, внесут в эти разукрашенные ворота впереди, и больше никто никогда Саши Дворкина не найдет!
Когда эта мысль обрела отчетливые очертания в моей бедной голове, паника охватила все мое существо и я, расталкивая народ, ринулся к выходу. Без оглядки выбежал я из храма на яркий солнечный свет и некоторое время потом боялся заходить в церкви в одиночку.
Впрочем, еще лучше я запомнил тусклое золото иконостаса, священника, совершающего непонятные, но столь прекрасные действия и тихое пение, пронизывающее все мое существо…
Больше не студент
Вернемся к моей хипповой юности. Да, я по-прежнему выискивал в любой литературе отрывки из недоступной мне Библии и по-прежнему любил заходить в храмы, если они попадались мне по пути, где удивлял старушек знанием иконописных сюжетов. Но все это было не более чем хобби, далекое от моей жизни, ее событий и моих поступков, часто подлых и гадких. В ответ на призывы мамы, деда, бабушки, которые указывали мне на это, я вполне логично говорил: «А в чем дело? Ведь Бога нет — соответственно, все позволено. С чего вы взяли, что нельзя то, нельзя это?» Пожалуй, единственное, что я, к нынешнему своему удивлению, признавал, — что нельзя предавать. Хотя, конечно, это было нелогичным с моей стороны. Почему нельзя, если Бога нет? Все равно, когда все умрут, ничего не будет. И какая в посмертном небытии разница между предателем и героем? Правда, этой нелогичности я тогда не видел. Более того, под предательством я понимал только нечто, ну, скажем, политическое. Например, не выдать друзей милиции. Предательства в личных отношениях, которые я совершал тогда налево и направо, для меня виделись чем-то совершенно естественным. Но все остальное, кроме такого весьма специфического понимания предательства (ну и причинения физического вреда другому человеку — я ведь называл себя пацифистом), я считал вполне нормальным и допустимым. Мои неверующие родные не могли меня убедить, почему нельзя совершать те или иные поступки. Мои ответы ставили их в тупик. Аморально, безнравственно? А откуда тогда берутся мораль и нравственность и что это такое вообще? А если для меня естественна совсем другая модель поведения, то чем она безнравственнее предпочитаемой ими модели? При этом я даже не задумывался над тем, что моя «модель поведения», то есть мой образ жизни, причинял тяжелые страдания моей семье, моим близким. Напротив, я обижался на них и скандалил с ними, обвиняя их во вмешательстве в мою жизнь, так как они не позволяют мне делать все, что я хочу. Но брать у них деньги не стыдился и считал это нормой.
В такой тяжелой и постыдной слепоте я пребывал все дольше и дольше и увязал в ней все глубже и глубже. Ту неизбывную внутреннюю неудовлетворенность собой, которую не мог не ощущать, я списывал на внешнюю среду, на обрыдший советский строй и все советское общество. Страна моей мечты — Америка, в которой царят свобода и счастье для всех и каждого, – недостижима. Безжалостная судьба забросила меня в совдепию, для которой я абсолютно чуждый элемент. Значит нужно из нее уйти во внутреннюю эмиграцию и жить, как будто этой совдепии не существует. Для этого требуется перестать лицемерить и начать, по совету Солженицына, жить не по лжи. Поэтому чем дальше, тем меньше я соблюдал обычную для советского человека осторожность: я разговаривал со всеми и обо всем, не опасаясь высказывать свое мнение. Антисоветской агитацией я не занимался, но открытое пренебрежение тем, что составляло общепринятый образ жизни, не могло не бросаться в глаза. Это тоже была идеологическая позиция. Разумеется, в институте дела мои шли все хуже. Мое демонстративно вызывающее поведение никто не собирался терпеть бесконечно, тем более что исправляться я не собирался.
* * *
Удивительно, что я еще так долго продержался в институте, прежде чем меня выгнали, как «не соответствующего моральному облику советского студента». Формально мне были инкриминированы неуспеваемость и непосещаемость: количество моих прогулов вполне позволяло применить ко мне санкции по этой линии. И хотя были студенты, не появлявшиеся на занятиях куда больше моего, к пятой сессии меня не допустили. Так к непосещаемости добавилась неуспеваемость, что и создало все предпосылки для законного отчисления.
Почти вся наша состоявшая из женского пола группа пришла просить за меня в деканат. Там им сообщили, что ко мне применяется педагогическая мера: я не ценю высокой привилегии быть советским студентом. Пускай я поработаю на тяжелой работе («а не каким-нибудь лаборантом, просиживающим штаны за шкафом»), пойму что почем, и тогда, при наличии хорошей характеристики, меня, конечно, восстановят.
Мне уже было все равно, но ради мамы, у которой очередной виток моих приключений вызвал тяжелый сердечный приступ, я обещался сделать все как надо. На работу я устроился сразу же. Забрав документы из института, я зашел навестить знакомую, работавшую лаборанткой в кардиологическом институте на Пироговке. На всякий случай решил зайти в отдел кадров. Там сказали, что срочно нужен рентгентехник в отдел реанимации. Я, не раздумывая, попросился на эту должность. За несколько дней меня обучили обращению с аппаратами, и я приступил к работе.
Новое дело мне нравилось: я чувствовал себя полезным и при этом находился вне всякой идеологии. Но, как оказалось, не совсем: директором института был академик Петровский, тот самый, именем которого сейчас названа улица в Москве. Тогда он еще здравствовал и даже служил министром здравоохранения СССР, хотя, наверное, уже перешагнул восьмидесятилетний рубеж. Он приезжал в институт раз в неделю, делал операцию и уезжал руководить советской медициной. Врачи поговаривали, что из-за возраста он оперировал уже плохо, и обычно ему подсовывали безнадежных больных. Как-то, это было уже в начале лета, он случайно столкнулся в коридоре со мной. Я отработал смену и шел по коридору, стянув с головы медицинскую шапочку. Длинные волосы висели в художественном беспорядке. Увидев меня, академик побагровел и осведомился у своей свиты, откуда я такой взялся. Ему доложили. Тогда светило науки обратился непосредственно ко мне, сказав буквально следующее: «Ну, ты, Иисус Христос, немедленно марш в парикмахерскую!» Я очень спокойно ответил ему, что мы на брудершафт с ним не пили, что обращаться ко мне на «ты» он не имеет права. Академик еще больше побагровел и сообщил, что я ему во внуки гожусь, поэтому он может ко мне обращаться как хочет. Я тихим голосом возразил, что все же не являюсь его внуком, а взрослые и ответственные люди обращаются друг к другу на «Вы», и поскольку, надеюсь, мы с ним оба взрослые люди, то я вправе ожидать от него обращения на «Вы». Министр рявкнул: «Вон!», и вместе со своей свитой удалился. Я сразу же пошел в отдел кадров и написал заявление об уходе по собственному желанию. Врачи, под началом которых я трудился, жалели меня — работал я хорошо, но сделать ничего не могли. Впрочем, характеристику для восстановления в институте мне дали отличную — точнее, поручили написать ее мне самому.
Но, разумеется, восстанавливать меня никто не собирался. Я вздохнул с облечением: я сделал все, что мог, и теперь имел полное право уже более ни от чего не зависеть. Последнее, что тяготило мою совесть — это членство (хоть и формальное, но все же членство) в комсомоле. Я пошел в райком и сдал изумленным инструкторам свои билет и учетную карточку.
* * *
Теперь я наконец-то был совершенно свободен — настолько, насколько можно быть свободным в моей стране. Одна моя знакомая тогда собиралась в Одессу, и я поехал вслед за ней автостопом. До этого таким способом я ездил только в Питер; доехать до Одессы было куда дальше и интереснее.
Автостоп вышел отличным — с приключениями, интересными попутчиками и с милицейским задержанием между Киевом и Москвой на обратном пути. Представители законности даже делали поползновения нас (я путешествовал с приятелем) постричь, но мы стойко отстояли наши права на альтернативную внешность и достойно вернулись в Москву, обогащенные новым опытом, о котором можно было повествовать восхищенным слушателям.
Теперь я заслуженно ощущал себя самым настоящим хиппи и мог вести такой образ жизни, к которому давно стремился.
В Системе
К 1975 году Система стала уже другой. Первая Система — та самая, с Юрой Солнцем во главе — уже не казалась самой продвинутой. На Стриту появились новые действующие лица, в основном мои сверстники. Юру постепенно забывали. Ныне его часто можно было увидеть одного, в состоянии сильного подпития, все еще не верившего, что так быстро минула его земная слава. Теперь он сам приветствовал давних знакомых, неизбежно прося у них денег на очередную бутылку. По старой памяти ему еще давали, но все реже и реже…
Для нас, называвшихся Второй Системой, те, первые, воспринимались слишком грубыми, вульгарными, примитивными. Мы-то видели себя гораздо более утонченными, причастными искусству и настоящему западному образу жизни. Можно сказать, мы были самыми последовательными западниками Советского Союза. Америку мы воспринимали нашей Землей Обетованной, символом подлинной и безграничной свободы. Сделать что-то «как в Штатах» виделось высшей целью. Какой-нибудь слух о новом «штатском» обычае (часто, как оказывалось потом, совершенно фантастический) заставлял нас перекраивать все наши привычки.
Но главной пружиной нашей жизни, конечно, был рок. Английский и американский. Песни на русском языке отметались сразу. Диски были неподъемно дорогими для наших пустых карманов (цены на них у фарцовщиков начинались от тридцати рублей за подержанную виниловую пластинку и доходили до ста и больше за новую). Мы доставали магнитофонные записи и собирались для прослушивания, переписывая их друг у друга. Эта музыка не просто оправдывала наше существование. В ней мы видели смысл жизни, придавая року высшее религиозное значение. Эти сакральные для нас вибрации полагалось слушать молча, в темноте, полностью отдаваясь их звучанию. Сейшены с танцами считались уже слишком вульгарными, не подобающими для священных звуков. Несмотря на большое количество русифицированных английских слов, которыми мы уснащали свою речь, английский все знали плохо или не знали вовсе, поэтому о содержании песен представление у нас было, в лучшем случае, самое приблизительное. Но это не мешало воспринимать, за редкими исключениями, весьма примитивные рифмовки как наилучшую поэзию и глубочайшие по смыслу философские тексты. Западные рок-музыканты, служители нашей священной музыки, виделись пророками, героями, почти что небожителями и, конечно, учителями жизни и высшими образцами для подражания. Апокрифические истории о них благоговейно передавались из уст в уста.
Но они-то были далеко, в США. А в нашей стране? Теперь я вижу, что тут высшей кастой мы считали самих себя. Трудно было найти больших снобов, чем наше тогдашнее сообщество. Окружающий нас мир состоял в основном из «коммунистов» и «пролетариев». Достойными общения признавались только люди с западными интересами, да и то лишь отчасти, с известной долей снисхождения. Диссидентов мы, скорее, уважали, но считали чересчур узколобыми, зацикленными на своей политике. Нашими антагонистами была «урла» (они же «морлоки») — хулиганствующая алкоголизированная молодежь, считающая своим гражданским долгом отлупить попавшегося ей в руки хилого «хиппаря»-пацифиста.
Единомысленную нам часть студенчества мы милостиво признавали (тем более что через нее мы получали новые записи любимых рок-групп), называя при этом таких доброхотов «пионерами». Так же именовались и «начинающие» хиппи, которым нужно было пройти некий испытательный срок и совершить определенное количество «подвигов» (поездок автостопом, милицейских задержаний и тому подобное), чтобы добиться почетного права называться человеком (точнее, «мэном») Системы.
Среди тех и других «пионеров» мы пожинали почет и уважение. Я уже говорил, что в своей родной школе был одним из самых малопопулярных учеников. Теперь настало время реванша. Как-то я встретил нашего классного лидера и заводилу, героя школьных романов, силача и спортсмена Васю Губина. В годы нашей учебы я практически не попадал в поле его снисходительного внимания. Теперь он первым заметил меня на улице и подбежал ко мне, издали протягивая руку: «Здорово, Санек! Помнишь меня? Я ведь вместе с тобой в одном классе учился!»
Я удостоил его легкого кивка головы, вяло пожал услужливо протянутую мне руку и даже сказал несколько приветливых слов его девушке, которую он тут же мне и представил, после чего оба они ушли счастливые. Другой одноклассник — умница и отличник Сережа Фаворский, также встреченный мною на улице, выразил все одной фразой: «Разве мы бы относились к тебе так, если бы знали, каким человеком ты станешь?»
Мое честолюбие было удовлетворено, а тщеславие возрастало с каждым днем. Помню еще такой эпизод. Как-то я шел по Стриту и увидел симпатичную девушку, шедшую в компании молодого человека весьма грозного вида. Улучив момент, когда юноша отошел в сторону, я перекинулся с девушкой несколькими словами, мы обменялись телефонами, и вот через пару дней я уже гулял с ней по центру. И вдруг мы увидели ее бывшего парня, приближающегося к нам быстрыми шагами. Я замер. Предстояла крайне неприятная сцена, по всему обещавшая закончиться для меня побоями. Но подошедший грозный мститель вдруг льстиво склонился ко мне и, протянув для пожатия ладонь, робко сказал: «Чувак, ты меня помнишь? Ты меня раньше с ней видел. Меня Дима зовут. Тебе нужна какая-нибудь помощь? Может, обижает кто?»
* * *
Одеваться мы также стали несколько по-другому. Импортная джинса была по большей части недоступна для нас. Но зато наши «герлы» к тому времени научились отлично шить и мастерили для нас изумительные доспехи из подручного материала. Можно сказать, что теперь мы носили модельную одежду. Мне соорудили широченные (60 см) брюки («трузера») из палаточного брезента, выкрашенного вручную в кислотно-яркие цвета. Доставшуюся мне от кого-то самодельную черную куртку расшили узорами. На капюшоне с двух сторон нитками телесного цвета были вышиты уши в натуральную величину, в которые мы вставили настоящие сережки весьма крупного размера, что, разумеется, чрезвычайно шокировало окружающих «пролетариев». Впрочем, эпатаж окружающего мира оставался одним из наших главных подвигов, об отдельных, наиболее изобретательных эпизодах которого мы с восторгом рассказывали друг другу. Как-то, например, несколько человек, нарисовав себе на верхних веках открытые глаза, уселись рядком на сиденье метро. Разумеется, сидящие напротив пассажиры стали наперебой громко возмущаться их внешностью. Тогда они все одновременно закрыли глаза, чем вызвали шок у своих визави. Впрочем, на следующей остановке им пришлось спасаться бегством от накинувшихся на них разъяренных пассажиров.
* * *
В отличие от первой, вторая Система не имела единого лидера. Она, хотя и небольшая по численности, имела структуру движения, то есть состояла из групп и отдельных людей. В Москве таких групп было три-четыре, а общая численность московских хиппи (вместе с приезжающими из Подмосковья) составляла около двухсот человек, а вместе с «пионерами», возможно, доходила и до пятисот. Всего же по СССР, по моей оценке, эти цифры составляли пятьсот и тысяча соответственно. Это и было все наше братство. Дополнительным кругом общения для нас стала артистическая и интеллектуальная богема: авангардные художники и писатели, непризнанные философы, рок-музыканты — в общем, то самое «поколение дворников и сторожей».
Одной из самых известных среди хипповых компаний стала группа, называвшая себя просто: «Волосы». Я часто встречался с ними, но от более тесных отношений меня удерживала неприемлемая для меня, да и нетипичная для хиппи, организованность и подчинение своему лидеру — довольно некрасивой девушке по кличке Офелия. С эстетической точки зрения «Волосы» выделялись на фоне остальных хиппи: их одежки были расшиты самыми затейливыми узорами, а места обитания по живописности опережали другие жилища. Офелия была старше остальных лет на шесть-семь и пользовалась среди них непререкаемым авторитетом. Ей все время приходили на ум всевозможные идеи, которые она отрабатывала на своих последователях. То она объявляла, что язык нужно освобождать от всех слов-паразитов, например: «здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», то настаивала на том, что вообще говорить можно лишь в случае самой крайней необходимости. Вся ее группа (человек около десяти) с восхищением смотрела ей в рот и подхватывала каждую ее новую идею. Из всех «Волос» больше всех я дружил, пожалуй, с юношей, первоначальное прозвище которого звучало как Фроська, но в группе Офелии ему поменяли столь неблагородное имя на неизвестно что значащее, но звучное Лайми. Просто Офелия как-то прочитала трактат Хлебникова о красоте звука «л» и тут же переназвала двух новичков в своей группе в Лайми и Лой. Мужа Офелии звали Шаман. Он слыл одним из лучших рок-гитаристов Москвы, а возможно, и всей страны. В 1975 году милиция обнаружила в рояле у Шамана сверток с опием-сырцом и его посадили.
Вскоре Офелия завела себе нового друга жизни по кличке Азазелло. Этот высокий светловолосый длиннолицый парень с шишкой на скуле не отличался особым интеллектом. По слухам, он происходил из полуурловых кругов, в которых он назывался Толя Кирпич. Иногда в центре он наталкивался на приехавших туда погулять старых знакомых, которые весело кричали ему:
— Толян, старина, айда к нам, по портвешку врежем!
Бывший Кирпич заливался краской и тягуче, в нос произносил:
— Не в кайф, чувак, меня Азазелло зовут.
Была своя, куда менее формальная, группа вокруг волосатого, которого все звали Корок, и у нескольких других. Но эти объединения не были столь жесткими, как «Волосы», и напоминали, скорее, дружеские тусовки. Изредка появлялись на свет остатки старой, первой Системы во главе с Юрой Солнцем. Правда, они все менее общались с новыми лицами, замыкаясь в своей компании, в основном вокруг бутылки с портвейном (наши, как правило, алкоголя не потребляли, считая его принадлежностью презираемого пролетарского мира). Многие недавно появившиеся на Стриту пионеры даже уже не знали этих легендарных фигур прошлого.
Самым близким нам человеком из старой Системы был неунывающий весельчак Сеня Скорпион, плавно перетекший в новые компании. Он повсюду ходил со своей подругой цыганкой Замирой, с которой они часто бурно при всех ссорились (иной раз дело доходило до взаимных побоев), а потом столь же бурно мирились. Несмотря на разницу в возрасте (он был старше меня лет на 7), мы с ним сдружились. Нас сблизила страсть к каламбурам, которыми мы с ним обменивались при каждой встрече.
Среди заметных одиночек самым колоритным, пожалуй, был Юра Диверсант. Он ходил во всем черном, что выгодно оттеняло его длинные, почти до пояса, светлые волосы. В своей комнате Юра выкрасил в черное все: пол, стены, потолок и даже простыни. В отличие от нас, Диверсант не был пацифистом, на стене напротив кровати он повесил самодельный плакат «Дай работу пулемету» и любил порассуждать о военной истории Третьего Рейха. При этом держался строгого вегетарианства и даже свою черную кошку кормил растительной пищей, изредка балуя ее молоком. Как-то Юра изготовил несколько листовок безумно-анархистского содержания и темной ночью вдвоем с приятелем пошел клеить их на стены домов. Постовые, стоящие возле индийского посольства, заметили их и погнались за ними по пустынному переулку, громко топоча тяжелыми ботинками. Неожиданно Юра крикнул: «Петька, отстреливайся!»
Милиционеры попадали на асфальт, достали свое табельное оружие и сделали по предупредительному выстрелу. Теперь падать пришлось Диверсанту с Петькой. Их связали и сильно побили. Разумеется, никакого оружия при них не нашли. После разбирательства обоих отправили на принудительное лечение в психушку.
* * *
Так вышло, что я не влился ни в одну из существующих групп (отношения между которыми скоро стали, мягко говоря, не идеальными), но с удовольствием общался со всеми. Наверное, я ощущал себя слишком неисправимым индивидуалистом, да и каждая из них чем-то до конца меня не устраивала, хотя жизненный опыт я черпал отовсюду. Даже решил увековечить наше движение, составив словарь сленга советских хиппи. Общаясь со всеми, я постоянно записывал на карточки новые слова. Впоследствии мне удалось переправить картотеку в США и ее приняло в печать издательство «Ардис» в Анн– Арборе. Однако вскоре после этого главный редактор издательства профессор Карл Проффер скоропостижно скончался, а его вдове было уже не до издательства. Так мой первый (и единственный) лингвистический труд не был опубликован. Теперь я, скорее, этому рад.
Что меня определенно огорчало — это полная безыдейность большинства моих собратьев. Они просто жили своей хипповой жизнью, в некоторых случаях эстетизируя ее, как «Волосы», в других — вообще не задумываясь о главном. Мне же хотелось сформулировать смысл нашего жизненного выбора и, соответственно, его оправдание. Для этого я стал писать «Петицию свободной молодежи» к советскому правительству. Главная идея ее была заимствована у Солженицына: жить не по лжи. Точных слов я теперь, конечно, уже не помню. Примерный смысл был таков: мы, свободная молодежь, не играем в ваши игры, не нуждаемся в вашей карьере, не хотим занимать место в вашем обществе. Но мы не враги вам и не угроза: мы аполитичны, власть нам не нужна, мы готовы сохранять внешнюю лояльность и не будем устраивать каких-либо открытых выступлений против вас. Мы не отказываемся честно зарабатывать свой хлеб: мы живем и работаем на самых простых работах, принося непосредственную пользу людям. Мы можем прожить без вас, проживите же и вы без нас. Мы просим от вас только одного: оставьте нас в покое и не заставляйте участвовать во всех ваших идеологических играх, в которые мы не верим.
К счастью, адресату я все это не отправил и немедленных последствий моя дерзкая выходка не имела.
Но декларации декларациями, а жить не по лжи оказалось куда сложнее, чем просто перестать участвовать в советских мероприятиях: ложь гнездилась в отношениях между нами, поедая остатки наших идеалистических мечтаний. Да и какая «жизнь не по лжи» возможна без Бога и Его Церкви? Замена одной лжи на другую, да еще с гордыней в придачу? Впрочем, все это тема для отдельного повествования.
В любом случае, наш изначальный праздник скоро выродился в мучительные будни. Сейчас я понимаю, что, несмотря на горделивое ощущение себя избранными одиночками, «элитой», посмевшей бросить вызов «гегемонам» и начать новую, отдельную от всех жизнь в своего рода «внутренней эмиграции», подспудно зрело желание принадлежности к чему-то большему, единому, правильному. Ничто так не утомляет и не разочаровывает еще не совсем испорченного и не совсем тупого человека, как роль гордого одиночки в компании таких же гордых одиночек. Мы притворялись, что все остается по-старому, но не могли не видеть, что забрели в еще худший тупик.
Но все же мы ждали перемен. Это ожидание прекрасно выразил в своей более поздней (написанной во второй половине 80-х годов) песне неизвестный тогда нам Виктор Цой. Но в наше безнадежное время подспудно все начинало бурлить перед переменами. Нам в глухой середине 70-х перемен ждать было неоткуда. Но все же, вопреки всем здравым смыслам, вопреки логике и окружавшей нас очевидности, нереальные, но упорные мечты о переменах возникали вновь и вновь.
И вот представьте себе мое изумление, когда однажды, проходя мимо памятника Пушкину на Тверской (тогдашней улице Горького), я увидел там демонстрацию. Причем демонстрацию явно не советскую! Куча возбужденных людей — весь сквер вокруг памятника был запружен — толпа выливалась на проезжую часть с неизвестными мне сине-белыми (не красными!) знаменами.
Сладкая мысль «Вот оно! Началось!!!» пронзила мое сознание. В крови забурлил адреналин, сердце забилось учащенно. Более ничего не видя и не слыша, я ножом врезался в толпу размахивавших знаменами людей.
— Ребята, что это, демонстрация?
— Да, — отвечают мне.
— А куда идем?
— К Кремлю!
Сердце, ухнув, сладостно провалилось в самый низ живота, а затем ликующей птицей поднялось в заоблачные выси. Наконец-то! Дождался! Дожил!
— Здорово! А можно я с вами!
— Конечно!
— А что, с какой платформой выступаем?
— Ты о чем, парень?
— Ну, как, чего мы требуем?
— Зачем требовать, ничего не требуем, ты че, ненормальный?
Теперь уже я перестал что-либо понимать.
— А зачем тогда все это? — растерянно обвел я вокруг рукой.
— Ты че, пацан, с луны, что ли, свалился? Ведь «Динамо» — чемпион! Ура!!! — собеседники стал усердно размахивать своим сине-белым флагом, на котором я только теперь разглядел букву «Д».
Низкое, серое осеннее небо придавило меня свинцовой тяжестью. Я тихонечко вышел из толпы и поплелся своей дорогой.
— Уу, битлис волосатый! — привычно зашипел какой-то пожилой динамовский болельщик, вливавшийся в толпу во главе группки своих содоминошников. Впрочем, мне было все равно. Вокруг царил беспросветный мрак. Я ощущал себя ограбленным: у меня только что отняли лучший момент жизни. Это оказался не мой день.
Что делать?
К тому времени я работал санитаром в отделе травматической реанимации 67-й горбольницы, недалеко от моего тогдашнего дома на Хорошевке. Туда я устроился сразу же по возвращении из автостопного путешествия в Одессу. Работа была весьма напряженной, но приносила мне удовлетворение, так как я видел, что помогаю людям в самом беспомощном состоянии и тем самым приношу пользу. В отличие от клиники сердца, где мой контакт с больными был эпизодическим (сделал рентгеновский снимок и укатил), тут я был при пациентах постоянно. Люди к нам поступали сильно искалеченные, после аварий и катастроф. Я старался исполнять свои нехитрые обязанности не за страх, а за совесть: подавал больным утку и судно, перестилал им постели, подкладывал подушки, приносил еду и питье. Даже уколы научился делать и делал их, по словам больных, хорошо: они часто просили, чтобы уколол их именно я. Напарником моим по отделению оказался Женя Маргулис — бас-гитарист из той самой «Машины времени», которая постепенно выдвигалась на лидирующее место среди московских групп. Тогда она, как и все самые лучшие из них, играла английскую музыку. Мы с Женей перекладывали больных на каталки и везли их на операции, потом назад. Больных, которым делалось лучше, мы с радостью катили наверх, в терапевтическое или хирургическое отделение, умерших же покрывали простыней и отвозили вниз — в морг. Помню, как я плакал, столкнувшись с первой смертью одного из наших пациентов. И хотя потом, как и у всех медицинских работников, душа моя огрубела, я все же сильно переживал по поводу каждой из весьма частых в нашем отделении смертей.
В свободное время я несколько раз ездил в ближайшие города: в Питер и в Киев, где останавливался у знакомых «волосатых». Если что-то не получалось, всегда можно было перекантоваться ночь-другую в подъезде. Отправиться зимой в автостопные путешествия мало кто рисковал, так что я приспособился ездить зайцем на поездах: из-за холода проверяющие билеты проводники обычно стояли в вагоне, возле своего купе, так что можно было зайти и тут же перескочить в задний тамбур соседнего вагона, изображая на минутку вышедшего покурить пассажира. Когда проверка билетов заканчивалась, оставалось пройти в плацкартный вагон и тихонько занять свободное место. На худой конец годилась и верхняя багажная полка.
* * *
Еще одно общественное событие, которое тогда привлекало внимание многих, — это выставки неподцензурного искусства, проходившие в то время в Москве. Первая — весной 1974 года — была раздавлена бульдозерами. Но из-за поднявшегося международного шума советское правительство пошло на попятный и позволило провести новую выставку. Она состоялась осенью того же 1974 года в Измайловском парке, где на зеленой лужайке выставлялись все, кто хотел. Люди просто приносили свои картины или скульптуры и ставили их на всеобщее обозрение. Зрителей собралось очень много, у экспонатов шло живое обсуждение. Несмотря на обычно ненастный октябрь, погода в тот день выдалась небывало теплая и солнечная. Воспоминания об этом дне еще долго жили в моей памяти — таковым было ощущение любви, братства и, главное, свободы, царившее на зеленой лужайке в московском парке.
Следующие выставки, в которых от всех московских хиппи приняли участие «Волосы», прошли зимой 1975 года в павильоне «Пчеловодство» на ВДНХ и осенью того же года в ДК там же. Это были уже гораздо более формальные мероприятия с оргкомитетом, отбиравшим картины (площадь экспозиции была весьма ограничена) и с длинными очередями у входа. Из экспонатов «волосатых» прошло вышитое Офелией с помощницами знамя московских хиппи с большими цветными лозунгами «Make Hair Everywhere»[11] и «Страна без границ» (последнее в каком-то частном разговоре посоветовал Офелии я) и с полным набором хипповой символики (сейчас не припомню, на которой из двух выставок оно появилось), а также несколько картин хипповых художников, в частности Гарика (Игоря) Каменева по прозвищу Стрелец.
После выставки о группе «Волосы» появилась небольшая заметка в журнале «Тайм», что еще более привлекло внимание властей к московским хиппи. Несколько человек из них уехали в Коктебель, где прятались всю зиму на даче безногого диссидента Юрия Киселева[12], кстати жившего в Москве в одном доме со мной и часто помогавшего мне юридическими советами, которые к тому времени стали мне весьма полезны: моя петиция, ушедшая в самиздат, получила некоторое распространение и даже пару раз попадалась мне в разных городах. Наверное, примерно тогда она была замечена компетентными органами, и авторство ее было «вычислено»: во всяком случае, с осени 1975 года задерживать меня стали намного чаще. Обычно задержания происходили так: на улице к нам подходил наряд милиции и просил документы для проверки. Получив наши паспорта, милиционеры клали их в нагрудный карман и приказывали пройти с ними. В отделении заполнялись подробные протоколы, а дальше начиналась беседа о необходимости вести советский образ жизни. Часто от нас требовали написать те или иные доносы на своих же (нужно было сообщить данные «организаторов антисоветских притонов», участников антисоветской деятельности, писать списки имен «неблагонадежных элементов» и т.д.), а при отказе начинали орать, запугивать, а иногда и бить нас. Такое задержание могло продлиться до пяти-шести часов, но в конце концов, ничего не добившись, милиционеры нас отпускали. Главное было не иметь при себе ничего инкриминирующего, так как обыскивали при каждом задержании нас весьма тщательно. Милиционеры даже целенаправленно копировали телефоны из записных книжек. Поэтому от телефонных книжек приходилось либо отказываться, либо зашифровывать номера. Жизнь все более усложнялась.
* * *
И тут я встретил Толика-Виннету, давно уже не появлявшегося на моем горизонте. Он сообщил, что уезжает в Америку по израильской визе, и спросил, не прислать ли мне приглашение. Даже не думая, я согласился — почему бы и нет, тем более что звучало это предложение более чем абстрактно.
Но вдруг через пару месяцев я извлек из почтового ящика вызывающе иностранный, длинный белый конверт с прозрачным окошечком, открывающим мой адрес. Приглашение пришло. Меня вызывал на постоянное место жительства в Израиль некто называвшийся моим родственником. Имя было не похоже ни на что, даже не было понятно, кто отправитель: мужчина или женщина. На бумаге была выдавлена печать, а к ней приклеена красная ленточка. Раньше таких документов и конвертов я не видывал. Я показал диковинную вещь родственникам и приятелям и задвинул письмо в дальний ящик.
Было это в начале весны 1976 года. Вскоре мне пришлось идти в логово врага — в местное отделение милиции. Я потерял паспорт и должен был получить новый. Мне велели зайти в кабинет следователя, где началось жестокое издевательство: меня били, швыряли из угла в угол, надевали мою же сумку мне на голову и таскали за бороду по всей комнате, подставляя ноги, так что я падал на пол. Милиционеры даже не требовали от меня ничего подписывать: они просто развлекались и, как выяснилось позже, тянули время. Потом меня подержали пару часов в обезьяннике и наконец полусогнутого от боли в отбитой спине (дома начались почечные кровотечения) провели в комнату, где сидели двое очень серьезных мужчин в штатском. Они-то и сообщили мне, что знают о полученном мною приглашении и предлагают серьезно подумать о моем будущем. Они, дескать, лично не видят, как я смогу реализовать его в нашей стране, хотя готовы попробовать перевоспитать меня в лучшей в мире советской пенитенциарной системе. Но они считают, что, оказавшись в жестоком капиталистическом мире, я, возможно, пойму все преимущества социализма, от которых столь высокомерно отказываюсь, и тогда из меня может что-то получиться. Впрочем, думать и выбирать мне. С этим меня проводили до выхода.
Предложение было серьезным. Я решил скрыться из Москвы и поразмыслить о своем будущем на досуге. Уволившись с работы, я стал собираться в большое автостопное путешествие по всей стране, которую я знал еще весьма мало.
Накануне увольнения я дежурил в больнице последнюю смену. Поздно ночью я зашел в актовый зал и написал-нацарапал неприличное слово на гипсовом лбу белого бюста Вождя всех трудящихся. Такие изображения Ульянова были непременным атрибутом всех публичных мест. Ситуация усугублялась еще и тем, что на завтрашнее утро, как я знал, было назначено всебольничное партийное собрание, которое теперь окажется в весьма забавном положении — глубоко процарапанное матерное слово просто так смыть будет невозможно. Я понимал, что за подобное преступление можно получить лет десять, но, увидев такую возможность, удержаться не смог.
Теперь с Москвой меня больше ничего не связывало. Мой тогдашний неразлучный друг Дима Степанов легко согласился составить мне компанию, и мы, собрав вещички (все они умещались в матерчатых наплечных сумках, к которым снаружи были приторочены легкие одеяла), двинулись в путь.
Автостопом вокруг России
Все путешествие заняло около четырех месяцев: мы выехали в середине мая, а вернулись домой в середине сентября. Я был абсолютно городским жителем, из интеллигентской семьи, с очень малым опытом общения вне своего круга — интеллигентских посиделок, богемной среды и контркультурных молодежных группировок. Понятно, что все они были очень замкнутыми. Мы гордились нашей элитарностью, «продвинутостью» и считали себя сливками общества. Всех, кто не дотягивал до наших стандартов, придуманных нами же, мы презирали или боялись. Это путешествие стало для меня возможностью впервые получить настоящий, большой опыт, что было очень познавательно и полезно во всех отношениях.
Тогда про автостоп в Советском Союзе почти никто не слышал, все думали, что «голосующий» добирается до ближайшего населенного пункта и должен что-то дать шоферу. Но мы рассчитывали на бесплатный проезд. Поэтому, только садясь в машину, начинали объяснять, что мы бедные и денег у нас нет. Как правило, водители это понимали и вопросов больше не возникало, за какими-то редкими исключениями. К тому же мы всегда говорили, что если они хотят, то могут нас высадить. Но такого не случалось почти никогда: обычно людям за рулем было интересно узнать, кто мы такие, почему выглядим так необычно и отчего путешествуем таким странным способом: ведь обычно «голосующие» просили подбросить их не далее чем до соседней деревни. Мы начинали рассказывать о себе, о своем образе жизни и так развлекали водителей в течение всего долгого пути.
Первоначально мы направились в Тбилиси, где жили двое моих приятелей-грузин. Я подружился с ними два года назад в Пярну, и они приглашали в гости. Ехать предстояло через Восточную Украину, Ростов и далее Ставропольский край.
Помню краткую остановку в Харькове, куда нас завез очередной попутчик и где мы решили пообедать. Первое, что меня поразило в столовой, — это «рыбный день», как оказалось, давно действующий в Харькове. Я долго не мог поверить, что во всем общепите города не подают по вторникам и четвергам ничего мясного. Убедившись наконец, что это действительно так, я в шутку предположил совершенную невероятность: вдруг к нашему возвращению и в Москве введут «рыбные дни»? Забегая вперед, должен сказать, что так оно и случилось: к сентябрю в столице уже вовсю действовало это новшество. Когда в конце концов мы сели обедать, к нам за столик подсел какой-то человек неопределенного вида. Он стал нас довольно дружелюбно расспрашивать, кто мы такие, отчего так выглядим и какой жизнью живем. После наших подробных ответов он, неожиданно резко переменив тон, прошипел: «Я — интеллигентный бандит! Даю вам полчаса. Если через это время я встречу вас в Харькове, обещаю, что вам не жить!»
Мы благоразумно решили не проверять, насколько серьезно его обещание, и поскорее удалились из неприветливого города. Уже на Украине мы начали ночевать на природе, завернувшись в одеяло и подложив сумки под голову. Пару раз нас приглашали на ночлег случайные попутчики. В ту пору автостоп был весьма малоизвестным способом передвижения, и, когда мы в очередной раз объясняли, что едем не в ближайшее село, а на другой конец страны, многие проникались к нам сочувствием и старались помочь чем могли. Шоферы-дальнобойщики охотно угощали нас своими дорожными припасами. Конечно, особую роль играла и наша почти невиданная в провинции внешность. В ответ на расспросы я охотно пропагандировал хипповый образ жизни. Вряд ли мне удавалось кого-нибудь в него обратить, но на многих мои объяснения производили, в общем, благоприятное впечатление. Наверное, нас считали слегка (а может, и не слегка) тронутыми.
* * *
Кавказский хребет стал первыми горами, которые я увидел в своей жизни, — вначале в виде дымки на горизонте, которая все росла и уплотнялась, пока не загородила весь вид, да так, что дух захватывало. Помню Военногрузинскую дорогу, по сторонам которой еще лежал снег, продуваемый всеми ветрами перевал и спуск в заполненную густой зеленью долину, выглядевшую настоящим раем. А вскоре перед нами открылся вид на невиданной мною ранее красоты город Тбилиси. Мои друзья-грузины, к которым мы нагрянули как снег на голову, встретили нас по-царски. Такого гостеприимства мне ни разу еще не приходилось испытывать. Они едва не поссорились, обсуждая, у кого мы будем ночевать, так что пришлось ежевечерне переезжать на новое место. Пиры следовали за пирами, приемы за приемами. Об одном только я жалею сейчас: каким-то образом тогда я совершенно не заметил грузинского православия. Даже ни одного храма не запомнил, как будто бы их там вовсе не было.
Отдохнув в Тбилиси целую неделю, мы тронулись на Черноморское побережье. Планировали проехать через Абхазию и Новороссийск, а затем добраться до Крыма, где нас под Судаком должна была поджидать группа московских «волосатых». Доехать автостопом удалось только до Сухуми. Толком ознакомиться с этим городом мы не успели — через несколько часов нас задержала местная милиция. Курортных стражей порядка нельзя было удивить или испугать столичными паспортами — они их видывали в изобилии каждый сезон. После недолгого разбирательства нас под конвоем отвезли к московскому поезду и посадили на него.
Автостопить имело смысл только на федеральных трассах, а поезд безнадежно увозил нас от них. Дружелюбный проводник сообщил, что в донбасском городе с диковинным названием Ясиноватая мы можем пересесть на крымский поезд. Поскольку мы хотели продолжить путешествие, то выбора не оставалось. В Ясиноватой мы оказались около двух часов пополудни, а симферопольский состав по расписанию отходил в восемь с чем-то. Предстояло просидеть тут всего-навсего шесть часов. Мы направились было к кассе, но нас ткнули носом в объявление, что билетов нет вообще — ни на какой поезд. Значит, нужно проникнуть в вагон зайцем. Оставалось только его дождаться.
Шахтерский городок утопал в тишине и спокойствии. Состоял он по большей части из одноэтажного «частного сектора» с палисадниками, за которыми виднелись белые хаты и огороды. Мы отправились гулять по безлюдным улицам и зашли довольно далеко. Однако ближе к пяти отовсюду стали раздаваться пьяные крики и звон бьющегося стекла. Трудовой день кончался, и рабочий народ начинал «отдыхать». А ведь где пьют, там и бьют, и чаще всего друг друга. От греха подальше мы решили поскорее вернуться в центр. По пути нам несколько раз приходилось переступать через лужи крови, но, к счастью, тех, кто их оставил, на месте уже не было. Такого я нигде больше не видел. На привокзальной площади мы уселись на скамейке и, стараясь выглядеть как можно более незаметно, тихонечко стали ждать. Вдруг к нам подошла подвыпившая компания довольно агрессивного вида.
— Кто такие? — поинтересовался покрытый наколками верзила в кепке, видимо, главный из них.
— Туристы из Москвы, — уклончиво ответил я.
— Лет сколько? — неожиданно спросил татуированный.
— Мне? Двадцать. Ему девятнадцать.
— Из них?
— Что — из них? — не понял я.
— Из них?
— Если сколько из них я учился, то двенадцать с половиной. Десять в школе и…
— Из них?
Я решительно не мог его понять. А между тем компания проявляла все большую агрессивность. Дело начинало принимать совсем нехороший оборот. Но на наше счастье, рядом остановился милицейский уазик, и наши собеседники быстро отошли в сторону. Милиция, не обращая внимания на нас, последовала за ними, и мы вздохнули с облегчением.
Между тем приблизилось наше время, и мы отправились на перрон. Он был запружен народом. Подошедший поезд толпа брала штурмом. Никаких проводников даже видно не было: они благоразумно сидели в своих купе и даже не пытались как-либо регулировать посадку пассажиров. К счастью, нам, не обремененным тяжелыми чемоданами, удалось прорваться внутрь одними из первых, и мы быстро залезли на третьи — багажные — полки напротив друг друга. Как оказалось, это был самый разумный выбор. На вторых — спальных — полках люди сидели по трое, свесив ноги вниз. Сидели они и в проходах на полу, и на столиках, и всюду, где только удавалось примоститься. Мы-то хоть могли лежать, вытянув ноги. Правда, спуститься за какой-нибудь надобностью оказалось совершенно невозможно: во-первых, пройти до туалета не удалось бы, а во-вторых, и в туалете размещалось несколько пассажиров. Так и пришлось терпеть до следующего утра, когда наш поезд прибыл в Симферополь.
* * *
Под Судаком нас поджидала теплая компания из своих. Всего собралось человек десять-двенадцать. Мы жили под открытым небом на берегу, ночуя под своими одеялами. Было это совершенно противозаконным, так как побережье считалось пограничной зоной и находиться у воды после наступления темноты строго запрещалось. Деньги к тому моменту у всех уже почти кончились, так что существовали мы на голодном пайке. Днем ходили в поселок раздобыть пищу, потом варили общий обед из всего принесенного (костры зажигать позволялось только днем — по вечерам побережье обходили пограничные патрули), затем купались и долго беседовали в темноте перед сном — в общем, вели жизнь Тома Сойера и его друзей на необитаемом острове. Через пару дней мы завели знакомство с местной молодежью, и ребята начали исправно снабжать нас тушенкой и макаронами, а некоторые из них даже вполне всерьез спрашивали, в каком месте в Москве можно записаться в хиппи.
Но все хорошее рано или поздно кончается: наше райское существование продлилось немногим более недели. Наверное, конец был неизбежным: с одной стороны, мы не могли прожить без визитов в поселок, но с другой — неизбежно привлекли к себе внимание, и кто-то донес пограничникам, что на территории их ответственности поселились весьма подозрительные люди, совсем несоветской внешности. Ночью началась облава. Почти всем нашим каким-то чудом удалось отсидеться за кустами и остаться незамеченными. Поймали только меня и Мишу Тамарина, не ведавших ни о чем и возвращавшихся из поселка после позднего амурного визита. У нас проверили документы и отвезли в местную милицию. Ночь мы провели в обезьяннике, а утром милиционеры, скрутив нам руки и ноги, большими овечьими ножницами постригли нам волосы под корень.
Мы шли назад по залитой солнечными лучами пыльной дороге и плакали. Ощущение было такое, как будто нас изнасиловали. «Миша, теперь я понял, я уеду из этой страны, — говорил я. — Жить тут я не могу. Когда выеду, я тебе пришлю вызов. Хочешь?»
Миша согласно кивал. Пока мы шагали до места, наши теперь непокрытые волосами головы обгорели на солнце. После долгих поисков своих мы отыскали в укрытии. Нас ждали, чтобы совместно отправиться в путь. Разбившись на пары, мы выехали в Симферополь. Там во время ночевки в доме своих собратьев-хиппи у меня украли джинсовую куртку — последний остаток прежней одежды. Увы, и местные волосатые оказались совсем другими.
* * *
Следующим пунктом нашего с Димой маршрута значилась Одесса. Но доехать до нее оказалось не так-то просто: в Херсоне бдительный водитель автобуса обратил на нас внимание и, не открывая дверей на остановках, довез до отделения милиции, где и передал с рук на руки стражам порядка. Те объявили, что наши паспорта поддельные и что нас задерживают до выяснения обстоятельств. По тогдашнему закону подозрительное лицо без предъявления обвинений можно было задерживать на срок до двух недель. Эти четырнадцать дней нас и продержали в спецприемнике.
Должен сказать, что, вопреки ожиданиям, пребывание в заключении не оставило у меня травматических впечатлений. Учитывая все обстоятельства, мы совсем неплохо провели две недели в тюремной камере и даже приобрели весьма важный опыт.
Наши соседи по нарам были довольно разношерстными и не слишком криминальными: по большей части, это были бродяги (тогда их называли «бичами») и прочие не вписавшиеся в советскую систему человеки. Меня поразило то, что они оказались совершенно обычными людьми, такими же, как все. Единственное, что их отличало, — это сложившиеся обстоятельства, по которым они оказались на обочине советской жизни, а потом и вовсе выпали из нее, став «деклассированными элементами» (то есть бездомными), и начали свое странствие по спрецприемникам. Сложись обстоятельства иначе, они работали бы на заводах, сидели бы в конторах, а может, даже преподавали бы в школах. Они не производили впечатления страшных изгоев, отверженных. Да, некоторые из них промышляли мелким жульничеством, но кто из жителей Советского Союза не был мелким жуликом, не таскал у государства, не выносил чего-либо со своего места работы? Воспринималось это как нечто естественное: жалованье платилось минимальное, людям нужно было как-то выживать, а для этого приходилось где-то что-то нарушить, где-то что-то утащить. Просто один на этом попадался, а другой нет. Кто не попадался, считал себя честным и порядочным, хотя был ничуть не честнее и не порядочнее тех, кого за то же самое упекли за решетку.
Относились к нам в камере, скорее, хорошо, разве что слегка иронично. Никаких притеснений мы не испытывали, а вот помощи — в виде добрых советов и даже еды — мы получали предостаточно.
Это оказалось чрезвычайно важным, так как с пищей ситуация была самой напряженной. Спецприемник жил по советскому (несколько переиначенному апостольскому) принципу: кто не работает, тот не ест. То есть теоретически нас работать не заставляли, но нетрудящегося не кормили. В воскресенье работы не было, а значит и пищи, если не считать утреннего и вечернего «чая» (слегка подслащенной мутной воды) с куском хлеба. Работать приходилось тут же, во внутреннем дворе спецприемника. Туда привозили с местной швейной фабрики большие коробки с металлическими катушками, на которых оставалось немного ниток. Катушки нужно было очистить, срезав нитки острым ножом. За один ящик давали котлету, за другой — картошку, за третий — компот, за четвертый — суп и так далее. К концу первого дня наши пальцы были исполосованы, а катушки закапаны кровью, но полный обед мы себе так и не заработали. Так продолжалось изо дня в день, и на волю мы вышли изрядно похудевшими, но зато и волосы мои в неволе чуть-чуть подросли, и оставленные ножницами проплешины более не бросались в глаза.
* * *
Отдохнув пару дней у Диминых родственников в Одессе, мы перебрались в Кишинев, где натолкнулись на четырех московских хиппи, приехавших туда несколькими днями раньше. Мы погостили у молдавских собратьев (вся кишиневская Система вряд ли превышала полтора десятка человек) и направились на север — через Бельцы и Единцы — в Западную Украину.
Помню красивый старый монастырь в городе Могилеве-Подольском, на границе Молдавии и Украины. Приблизившись к нему, мы обнаружили, что он находится в полуразрушенном состоянии. Тем не менее в его осыпающихся корпусах размещался интернат для детей с задержками развития. Мы зашли на никем не охраняемую территорию, где нас немедленно облепила кучка маленьких маугли — шустрых подростков в оборванных и обтрепанных сиротских униформах. Все они, и мальчики и девочки, были стрижены «под ноль». Выглядели эти маленькие и щуплые дети лет на восемь-десять. Каково же было наше удивление, когда они, в ответ на вопрос, стали называть свой возраст: как правило, тринадцать-четырнадцать лет! Мы дружелюбно поговорили с ними — как мы обычно говорили со всеми, кто нам встречался. И этих нескольких слов оказалось достаточно, чтобы стать лучшими друзьями заброшенных и затравленных детей, видимо чрезвычайно редко встречавших простое, неагрессивное отношение со стороны взрослых. Они стали приносить нам еду (отрывая ее от себя — ведь вряд ли их очень сытно кормили) и даже отдавать какие-то безделушки, видно главные свои сокровища. Мы отказались от всего, забрав только сигареты (они-то, рассудили мы, детям совсем ни к чему). «Возьмите нас с собой, — просили мальчишки. — Мы хотим поехать с вами. Мы будем делать все, что вы скажете, будем все время вас слушаться, только возьмите нас!»
Как нам ни было мучительно жалко этих несчастных детей, мы отказались. Да и что бы мы могли сделать?
«Мы все равно убежим отсюда», — говорили дети.
Мы настоятельно посоветовали им все же дождаться шестнадцати лет и получить паспорта, а до того не предпринимать никаких решительных действий, чтобы не попасть в куда худшее место, чем их детский дом. Не знаю, послушались ли они нас…
Дальше были Черновцы, где мне впервые удалось увидеть «Райские яблочки» (фильм получил «категорию 2», то есть его можно было демонстрировать всюду, кроме Москвы) и лицезреть себя в этом на редкость плохом фильме. Теперь перед нами лежали Карпаты. Тут нам довелось испытать подлинную советскую бдительность, воспитанную десятилетиями пропаганды, которой подвергались жители приграничных районов.
В одном селе мы (в тот момент нас было четверо) подошли к колодцу, чтобы наполнить дорожную фляжку. Остатки старой воды выплеснули в траву рядом. Не успели мы опомниться, как нас окружила толпа селян и, крепко взяв под руки, препроводила к сельсовету. Вскоре прибыла местная милиция, и после долгих допросов нас заставили написать объяснительные записки, в которых мы ручались, что не являемся засланными иностранными диверсантами, пытавшимися отравить сельский колодец.
Мы клялись и божились, и каждый выпил не меньше чем по литру колодезной воды, чтобы доказать невиновность. «А вдруг вы подлили туда такой яд, который сейчас не действует, а заработает через год?» — торжествующе утверждали бдительные жители окраины Советской страны.
Наикратчайшая дорога в Ужгород, выбранная нами по карте, проходила в непосредственной близости от румынской границы. Шофер остановленного грузовика позволил нам ехать в кузове. В середине пути машина остановилась: «Тут погранзастава, нужно предъявлять документы», — пояснил водитель.
Постовой офицер, забрав наши паспорта, объявил, что дальше ехать мы не можем, и стал крутить ручку полевой рации: «Товарищ полковник, говорит лейтенант Голубев. Те четверо, которые были замечены вчера на бензоколонке в ста километрах отсюда, уже прибыли. Как прикажете поступать?»
Видимо, полковник приказал отправить нас восвояси, так как лейтенант, объяснив, что в погранзоне нельзя находиться без специального пропуска, посадил нас на встречную машину и отправил откуда приехали. Пришлось нам пробираться в Ужгород долгим кружным путем, в том числе, и на тормозной площадке груженного углем товарняка. Отмывались мы потом очень долго.
* * *
Впрочем, помимо всех историй о наших злоключениях, я мог бы рассказать гораздо больше других о тех добрых людях, которых мы встречали. Мы столкнулись с удивительной человеческой добротой — когда незнакомый человек совершенно иного социального круга, к которому в обычной жизни скорее всего побоишься просто так подойти, вдруг оказывает тебе неожиданную милость, неожиданную любовь, нежданное гостеприимство.
Помню, в Молдавии в городе Бельцы первый прохожий, у которого мы спросили, где можно бесплатно переночевать, предложил привести нас в дом к своему брату, который, как оказалось, жил в маленьком однокомнатном домике. Мы узнали, что он неделю назад освободился с зоны, а два дня назад женился. Очевидно, что четверо незваных гостей пришлись ему совсем некстати. Тем не менее он оказался чрезвычайно радушным, я бы даже сказал — жертвенным хозяином. После роскошного ужина он предложил нам две имеющиеся в домике кровати, причем нам с Димой, совершенно незнакомым ему людям, он уступил свое супружеское ложе, а сам с молодой женой разместился в углу на коротком и узком даже для одного человека сундуке. Я до сих пор не встречал других людей, способных так принять незваных и совершенно чужих гостей.
Мы успели немного пообщаться с хозяином: вечером, потом утром, за предложенным им обильным завтраком. Он оказался хорошим, простым и радушным человеком. Это было для меня тогдашнего чрезвычайно странным открытием, потому что выходцев с зоны я привык воспринимать как отъявленных злодеев — «морлоков», «урлу». Но передо мною сидел обычный человек, искренний и открытый. Единственный из всего города, кто предложил кров и пищу незнакомым странникам.
Денег у нас не оставалось совсем, но кормиться надо было. Стоило зайти в обычную столовую небольших украинских городков и сказать, что мы туристы, отставшие от группы, и не ели двое суток (что было недалеко от правды), как сердобольные сотрудницы общепита усаживали нас за стол и кормили лучшим, что у них было припасено для себя.
В романтичном Ужгороде на ночлег нас пригласила многодетная вдова, недавно оставшаяся без мужа. В ее тесном и беспорядочном, но очень гостеприимном доме мы прожили несколько дней. Стоит ли говорить, что сделала она это абсолютно безвозмездно.
Из Ужгорода дорога лежала через Мукачево во Львов. Тамошние хиппи были довольно политизированы (тот самый «западенский» национализм не обошел их стороной), но нас приняли как родных. Помню, какой-то львовский прохожий возмутился нашим русским языком, но сопровождавший нас местный «волосатый» заступился за нас, объяснив, что такие люди, как мы, имеют право говорить на родном языке.
Помню и другой эпизод. Мы с Димой поднялись на горку ко входу к величественном собору святого Юра (сейчас, к сожалению, он передан униатам). Храм был действующим, в ворота все время входили верующие. И вдруг одна из сидевших тут же нищенок, заметив нас, заголосила: «Братья и сестры! Смотрите, в наш город вернулись Божии странники! Господь заметил нас! Он ответил на наши молитвы! Вот они! Дайте им все, что они попросят!»
Вокруг нас мгновенно собралась толпа. Смущенные, мы стали объяснять, что мы совсем не те, за кого нас приняли. Но народ стоял непоколебимо: раз блаженненькая сказала, значит, так оно и есть. Нас отпустили, лишь нагрузив пищевыми запасами и снабдив несколькими десятками рублей.
* * *
Из Львова через Западную Украину, а затем Белоруссию мы направились в Минск. Где-то в Ровенской области, проходя вдоль дороги, мы услышали странные звуки: если это и была музыка, то какая-то уж очень авангардная. Поднявшись по откосу, мы увидели двух хиппи в одинаковых широкополых шляпах, сидевших плечом к плечу и игравших один на скрипке, а другой на флейте. Оказалось, оба они глухие, точнее, слабослышащие, но настолько слабо, что официально считались глухими. Они отлично понимали собеседника, читая по его губам, и говорили весьма сносно, правда с довольно своеобразным выговором, напоминавшим иностранный акцент. Жили оба в Минске и очень любили музыку, которую воспринимали не через уши, а всем телом впитывая вибрации. Поэтому-то им необходимо было прижиматься друг к другу во время музицирования. Один из них рассказал, что как-то получил передовой слуховой аппарат, который дал ему возможность слышать. Он походил с ним несколько дней, а потом выбросил на помойку: слишком уж много беспорядочных и неуправляемых звуков на него обрушилось. «Мне намного привычнее и спокойнее жить в тишине», — завершил он.
Новые друзья сопроводили нас в Минск и передали с рук на руки тамошним хиппи. Через несколько дней мы отправились в Каунас и Вильнюс, где пробыли сутки в каждом городе, после чего отбыли в Ригу. Там мы остановились в доме местного хиппи Миши Бомбина, обладателя самых длинных волос в городе, а возможно, и во всей Прибалтике. Когда он прятал их за ворот, они мохнатым хвостом свисали из-под пол его куртки. И наконец мы отправились в эстонский Вильянди, где должен был состояться ежегодный рок-фестиваль и куда постепенно подтягивались хиппи со всей нашей огромной страны. К огромному сожалению, в этом году местные власти, напуганные невиданным ранее «нашествием иноплеменных» (не менее двухсот хиппи буквально заполонили маленький сонный эстонский городок), отменили запланированное мероприятие.
Делать было нечего — пришлось разъезжаться. Я решил навестить знакомый мне Пярну. Хозяин, у которого я снимал комнату два года назад, принял нас с Димой как родных, бесплатно поселил у себя, истопил нам сауну и приложил все усилия, чтобы за эти пару дней мы прибавили бы немного веса после дорожных злоключений. Отдохнув на море, мы прибыли в Таллинн и провели блаженную неделю в этом самом западном (по мироощущению) городе Советского Союза. Милиция нас практически не гоняла. Мы валялись на траве в Кадриорге и общались с собратьями из самых различных городов. Принимал нас старый приятель — эстонский хиппи Рейн Мицниин по прозвищу Мичурин. Хотя чаще его звали по имени — уж очень англоязычно оно звучало. Позже я узнал, что он стал кришнаитом, но в конце концов вышел из секты.
Хотя шевелюра моя к тому времени несколько отросла и живописно торчала во все стороны, мне все же еще было далеко до моих длинноволосых собратьев. Однако отношение ко мне оставалось самым теплым и сочувствующим: то, что меня насильно постригли милиционеры, стало известно всем и, вкупе с двухнедельным пребыванием за решеткой, подняло мой авторитет на неслыханную высоту.
После Таллинна мы направились в Питер и оттуда в середине сентября прибыли в Москву — после четырехмесячного анабазиса. Штаны мои были изорваны в клочья, ботинки, купленные перед путешествием, просили каши, от носков осталась только верхняя часть вокруг лодыжек. Было холодно, шел мелкий дождь, и через дырки в подошвах я ощущал все неровности мокрого асфальта.
Я уезжаю
Решение было принято: я решил эмигрировать. Конечно, насильственная стрижка в милиции не была главной причиной моего выбора. Все виделось сложнее.
Мой тогдашний круг общения был очень узок. Мы вращались в среде полуартистической, полудиссидентской, полубогемной молодежи — той, что составляла советский андеграунд. Художники, как правило, были не слишком талантливые, но свободомыслящие, музыканты — не слишком умелые, но зато роковые, писатели — доморощенные, но антисоветские, философы — примитивноватые, но зато ориентированные на Запад. По-настоящему талантливые люди встречались, но довольно редко, да и они все были с какими-то заскоками и вывертами.
Слово «андеграунд» означает «подполье», «подвал», а все время в подвале жить невозможно. Подвальная жизнь калечит людей: из них получаются только чахоточные дети подземелья. Совсем не случайно, возможно, самый принципиальный среди диссидентов человек — генерал Петр Григоренко — назвал книгу своих мемуаров «В подполье можно встретить только крыс».
Тут необходимо сказать кое-что о диссидентах. В те годы я довольно много общался с ними и они составляли для меня некий периферийный круг общения. Хотя я принципиально не занимался политической деятельностью (считал себя выше этого), но многие из них были мне интересны, я считал их героями и априорно неподдельно уважал. Это общение продолжилось в эмиграции, так что, думаю, диссидентский менталитет я понял хорошо. Так вот, в конце концов мне стало ясно, что диссидентство — тупиковый путь. Тупиковый в том смысле, что на одном отрицании ничего не построишь. Логика постоянной борьбы, постоянного сопротивления, постоянного обличения в конечном итоге занимает все в жизни человека, и он перестает видеть в мире что-либо хорошее, что-либо ценное. Перманентная борьба, как кислотой, разъедает душу, и нет ничего более печального на свете, чем профессиональный диссидент, ничего, кроме тотального обличительства, не умеющий. Это человек, который настолько привык к подпольной жизни, что, выходя из этого подполья, теряется, ничего не понимает и в результате сам быстро создает себе новое подполье, которое бывает еще страшнее прежнего.
Но мы также обитали в подполье, и это роднило нас с диссидентами, а значит, подпольная жизнь калечила и хиппи, даже самых сильных и выносливых из нас. Она калечила диссидентов, она калечила и артистическую богему — свободолюбивую и раскрепощенную молодежь, и, разумеется, мой непосредственный круг не был исключением. И это я начал понимать ко времени возвращения из своей поездки. Именно осознание тупиковости нашей жизни сыграло ключевую роль в том, что я все-таки отважился на эмиграцию. Меня привели к моему решению не только страх перед репрессивными органами и не только обида за насильственную стрижку. Я понял, что как бы хорошо и интересно ни было чувствовать себя героем из Системы, жить не как все, гордиться вниманием окружающих, из тщеславия придумывать все новые и новые формы эпатажа, но в конце концов это неминуемо приведет к распаду личности. Существовать от лета до психбольницы, а затем опять от психбольницы до лета… Слава Богу, меня это пока коснулось меньше, моих друзей — гораздо больше, но в этом чередовании периодов вольной жизни с психиатрическими застенками была роковая неизбежность, которая стоила слишком дорого.
Кроме того, имелась и еще одна крайне важная проблема: наркотики. Постепенно они проникли в нашу среду и, как яд, отравляли ее. Я не говорю о неотвратимом распаде личности, к которому они приводили. Но они разлагали и все наше братство. Собственно, с распространением наркотиков оно перестало существовать; остались лишь изолированные одиночки, каждый из которых был заинтересован только тем, где раздобыть новую дозу. Постепенно доза начала заменять все: идеи, друзей, любовь, да и жизнь, наконец. Все чаще мы сталкивались с торговлей между своими, с воровством, с предательством друзей, с отказом от самых близких людей. Участились и аресты: теперь у властей нарисовался абсолютно безупречной повод борьбы с нами. Появились и первые среди нас погибшие от передозировок и других связанных с наркотиками причин.
Выхода для себя я больше не видел. Вопрос можно было решить только хирургическим путем — через отъезд.
Как и все мои собратья, я считал себя лишь жалким эпигоном настоящих хиппи — тех, которые основали движение на Западе и прежде всего в США. Если в СССР хипповая Система гибла, так и не состоявшись, значит, требовалось отыскать подлинник, проникнуть в самую суть и поучиться ей у тех, кому мы стремились подражать. Чтобы отыскать их, оставалось ехать на Запад.
И наконец, постепенно вызревала еще одна важная причина: я понял, что хотя советским студентом мне быть категорически не нравится, однако учиться я хочу. Но в СССР это было нереально: от всех мостов давно оставались руины, уже даже не дымящиеся. В этом смысле эмиграция давала перспективу, потому что она предоставляла возможность начать все с чистого листа и продолжить образование.
* * *
Я приступил к сбору документов. Дело это оказалось сложным и хлопотным, так что устроиться на прежнюю работу было невозможно — требовалось занятие со свободным графиком. Друзья предложили труд натурщика в Художественном училище имени 1905 года — еще одна распространенная среди хиппи профессия. Платили целый рубль в час, так что в день можно было собрать рублей пять-шесть. Заработок давался нелегко — по сорок пять минут нельзя было шевелиться, но поскольку тогда во всем училище работало всего двое молодых натурщиков (вторым был сын еврейского диссидента Слипака), я мог выбирать позы и соглашался только на сидячие постановки. В училище у меня появилось много новых друзей среди начинающих художников.
Когда я писал заявление в ОВИР о разрешении мне эмигрировать, возникла неожиданная сложность. Как я уже говорил, по имени человека, вызывавшего меня, не было понятно, мужчина это или женщина. Так что писать: дядя меня вызывает или тетя? В конце концов я решил, что если не могу решить, кто это, то чиновники и подавно не будут знать, и написал, что приглашает меня к себе горячо любимый дядя, который не может без меня жить и хочет, чтобы я скрасил ему одинокую старость. В начале ноября я наконец подал документы в ОВИР и стал ждать ответа. Почти одновременно со мной, хотя мы и не сговаривались, подал документы Алеша Лайми (бывший Фроська): ему тоже кто-то прислал приглашение.
* * *
Похоже, мы сделали это вовремя. Места хипповых тусовок опустели, все компании разваливались. Моего друга Диму Степанова арестовали и упрятали на принудительное лечение в психушку. И он был далеко не единственной жертвой. На Стриту поселились страх и одиночество. Как-то я встретил Юру Солнце. Он шел совсем один, какой-то потрепанный и грязноватый, кровоточащей рукой время от времени вправляя себе, видимо, кем– то поврежденную нижнюю челюсть.
Увидев меня, обрадовался: «Здорово, Шурик, как живешь? Пойдем, портвяшку выпьем. У меня деньги есть, угощаю».
Я присел с ним на скамеечку во дворе и из вежливости отпил несколько глотков тошнотворного сладкого пойла.
Юра изливал мне душу. Он говорил, что жизнь потеряна, что лучшие годы прошли, что лишь немногие знают его, Юрия Юрьевича Буракова, по-настоящему. «Знаешь ли ты, что я — великий поэт? Ты ведь даже не видел моих стихов. А еще я пишу роман, который станет лучшим романом нашего века. „Мастер и Маргарита” отдыхает! — заверял меня Юра. — В следующий раз я дам его тебе почитать».
Мы прообщались более часа. На прощанье я пожал жесткую, широкую ладонь «отца-основателя». Он опять пощупал свою пострадавшую челюсть и спросил: «Может, тебя кто-то обижает? Ты скажи, я его сразу урою!»
* * *
Вернувшись домой, я обнаружил в почтовом ящике повестку с Петровки, 38. Поскольку на ней не было указано ни номера дела, ни в каком качестве меня вызывали (обвиняемого, свидетеля), я не пошел (юридическая школа соседа-диссидента Киселева не прошла даром). Потом оказалось, что вызывают всех тех, кто был с нами во Львове. Одного из вызываемых как-то задержали на улице и доставили на Петровку приводом. Так мы узнали, что наши львовские хозяева были арестованы за какие-то листовки, которые они расклеивали, и теперь им пытаются инкриминировать создание антисоветского притона. Мы были нужны как свидетели, а заодно и как потенциальные обвиняемые. Пришлось лечь на дно. Пару месяцев я жил у Корока (тоже побывавшего во Львове), счастливого обладателя свободной трехкомнатной квартиры. Вместе со мной скрывались от властей мой друг Дима, Валя Белый Негр, Ира Крокодильчик, Илья Кожаный Плащ, девушка по прозвищу Меланья и еще несколько человек. Тут подбор кличек был куда менее благозвучен, чем у эстетствующих «Волос». Но зато и свободы в отношениях было куда больше.
Мы соблюдали строгие правила конспирации: в квартиру заходили поодиночке, на телефонные звонки отвечали только после нескольких условленной длительности прозвонов, а дверь открывали лишь после сложных условных сигналов. В темное время суток электричества не зажигали: жили при свете включенного, но неработающего телевизора: звук был перекрыт, а по рябому экрану бродили какие-то тени. Впрочем, этого хватало, чтобы не врезаться в мебель и друг в друга.
Тем не менее в конце концов милиция к нам ворвалась: кто-то выдал наши условные сигналы, и мы открыли дверь, за которой стоял наряд милиции. Всех разделили по кабинетам, и началось обычное чередование добрых и злых следователей: один орал и дрался, а другой уговаривал не злить нервного коллегу и подписать все по-хорошему. Взяли нас утром, и в отделении мы просидели до вечера, когда совершенно неожиданно всех нас отпустили. Про Петровку и про львовское дело никто так и не упомянул. Я до сих пор не знаю, чем все это было вызвано: то ли нас просто решили постращать, то ли местная милиция оказалась неинформированной о расследовании МУРа, а МУР, в свою очередь, — о том разговоре, который у меня был с кагебешниками. А может, те самые мои собеседники сообщили милиции, что я и так уезжаю, так что раскручивать дело не было смысла.
* * *
В начале февраля нового, 1977 года я встретил Женю Маргулиса, и он пригласил меня на сольный концерт Макаревича. Это казалось чем-то новым, и я пошел. Мероприятие, на которое я попал, совсем не было похоже на привычный сейшен. Во-первых, никто не плясал, все чинно сидели в зале. Во-вторых, Макаревич был один и с акустической гитарой. В-третьих, и это было самое невероятное, он пел по-русски, свои собственные песни.
Попутно он инструктировал собравшихся, что прихлопывать ему нужно не в такт, как принято у нас, а против такта, как это делают в Америке. Мы поверили ему и старательно хлопали против такта. Таким образом я успел поприсутствовать при зарождении русского рока.
В середине февраля я нашел в почтовом ящике открытку — вызов из ОВИРа. Там сообщили, что разрешение на эмиграцию мне выдано. До отъезда оставалось менее месяца. За это время требовалось совершить массу хлопотных (и весьма дорогостоящих) дел: оплатить отказ от советского гражданства, приобрести дозволенные к вывозу 150 долларов, купить авиабилет до Вены, получить визу в ОВИРе, запросить академическую выписку в моем бывшем институте, перевести все документы на английский (с официальным заверением) и так далее. Побегать предстояло изрядно. Так что даже остановиться и немного призадуматься времени не оставалось. Алеша получил разрешение на выезд через неделю после меня. Мы решили лететь вместе, так что сроки у него оказались еще более сжатыми. Тем не менее мы успели. Виза моя была открыта до 8 марта 1977 года. Чтобы не рисковать, мы купили билеты на 6 марта. Пошел обратный отсчет времени.
* * *
В предотъездной суете у меня произошла одна встреча, которую я потом вспоминал много раз. Это случилось в моем институте, где я за два дня до отъезда сидел в деканате и ждал академической справки. На соседнем стуле я заметил относительно молодого человека с темной бородкой, лет на пятнадцать постарше меня. Наши взгляды встретились, я кивнул ему, и он, улыбаясь, спросил, что я тут делаю. Я ответил, что жду справки, поскольку уезжаю в Америку.
Тут нужно кое-что пояснить. Во-первых, я старался никому не говорить, что уезжаю: продолжали приходить повестки с Петровки и можно было ожидать, что если в МУРе узнают про мой отъезд, они могут все поменять. Любой человек мог оказаться стукачом, так что спокойнее было молчать. Во-вторых, моя чрезмерная откровенность могла поставить моего собеседника в неудобное положение: он-то не знал, кто я такой. Я мог оказаться провокатором, следящим за тем, как он отреагирует на «изменника Родины». Тем не менее я почувствовал, что этому человеку можно довериться. Он, действительно, совсем не испугался, посмотрел на меня и произнес: «Вам предстоит страшное испытание. Выдержите ли вы его?»
Я ответил, что все уже решено и пути назад нет.
На это незнакомец сказал, что я непременно, всенепременнейше, должен съездить в Сергиев Посад, в Лавру, и поговорить там с отцом … и тут он назвал какое-то совсем простое имя. Наверное, это был отец Кирилл, но тогда названное имя я довольно быстро забыл. Я ответил, что уже никак не могу успеть, но он настаивал и даже просил обещать, что я это сделаю. Я обещал постараться. Конечно, я не поехал: возможности у меня такой не было, потому что время до отъезда было расписано. Да и, честно говоря, я тогда не понимал, зачем мне это нужно. Наверное, будь у меня желание, нашел бы время. Многие годы после той встречи я вспоминал об этом и очень жалел, что не поехал тогда в Лавру.
Выйдя из деканата, я подошел к своим однокурсницам и спросил, кто это такой. Они сказали, что это новый преподаватель по фамилии Мамонтов. Потом в Америке я все мечтал, что как-нибудь отыщу его и расскажу, что я все-таки стал верующим, хотя и не поехал тогда в Лавру. Уже вернувшись, я узнал, что он принял монашеский постриг и был рукоположен в священный сан. Сейчас он архимандрит и служит где-то в небольшом городке в Латвии. Так я с ним и не встретился. В любом случае, вряд ли он меня помнит. Но я запомнил его хорошо.
Впрочем, это была не единственная встреча с верующим человеком в моей сознательной жизни. За пару лет до этого, в разгар моего хипповства, я познакомился с девушкой, которая очень отличалась от всего моего окружения. И за эту инаковость я сразу же влюбился в нее. К моему большому недоумению, она оказалась верующей, причем крестилась сама, сознательно, в 16 лет. Я не понимал, как это так, и долго у нее допытывался, зачем она это сделала. Однако убедительного ответа, с моей точки зрения, она не дала. Просто потому что это нужно, и ты должен понять это сам. Подобных эпизодов в те годы у меня было несколько.
Но, может быть, главным путеводителем ко Христу для меня стала русская классическая литература. Достоевского я начал читать довольно поздно, в девятом классе, и он был, наверное, первым верующим человеком, с которым я всерьез столкнулся. Именно у Достоевского я услышал первые аргументы в защиту веры. Хотя сначала я их не очень воспринял, но они жили во мне и постепенно созревали, на что, наверное, требовалось время. Удивительный, странный процесс! Читаешь какие-то произведения или отрывки из них — и не замечаешь совершенно. Много позже, в Духовной академии, я стал перечитывать русскую литературу и увидел такие вещи, которые ранее пролетали мимо меня незамеченными. При первом, втором, третьем прочтении все они как-то пролистывались, казалось, не вызывая никаких откликов в уме или в сердце, — я просто читал дальше. А потом с большим удивлением обнаруживал их и спрашивал себя, как же я мог тогда их не заметить. Лишь став верующим человеком, я смог прочитать все старые, давно знакомые книги так, чтобы все стало на свои места. Наконец-то я гораздо лучше понял их смысл. Но я убежден, что эти идеи, аргументы и смыслы жили во мне и в свое время сыграли решающую роль на моем пути к вере. Но это движение для меня началось уже потом, в эмиграции, когда многие оставшиеся на родине вещи и даже реалии сделались недоступными, и, как тогда казалось, возможно, даже навсегда…
Теперь, ретроспективно глядя на свою тогдашнюю жизнь, я понимаю, что Господь постоянно отворял передо мною двери, но я гордо прошагивал мимо них. Он стучался в мое сердце, но я, оглушенный громом музыки своей самости, опьяненный свободой и вседозволенностью, шальной от тщеславного любования своей «широкой известностью в узких кругах», не слышал Его тихого голоса и бежал дальше по своим «неотложным» делам, все более погрязая в пучине греха. Чтобы вырваться из этого порочного круга, мне нужна была капитальная встряска. Ее дала эмиграция.
* * *
Однако вернемся к событиям тех суматошных предотъездных дней.
Получив требуемую справку из института, я направился на Стрит, где в подземном переходе под Манежной площадью встретил Макаревича и, сообщив ему, что через день уезжаю, спросил, передать ли что-нибудь каким-то его друзьям или знакомым, «Передай Америке привет от меня! — сказал он картинно. — Скажи ей, что она еще услышит Андрея Макаревича!»
Я обещал сделать это, хотя не совсем понимал, как именно такое пожелание можно исполнить.
На следующее утро в Москву приехал мой киевский дядя, чтобы проводить меня и поддержать маму. Я вышел к двери встречать его. Дядя посмотрел на мои широченные брезентовые штаны, составленные из клиньев палаточного брезента, крашенного в разные оттенки синего цвета и покрытого пятнами сиреневой нитрокраски.
— Что это на тебе надето? — поморщившись, спросил он.
— Брюки, а что?
— И ты собираешься в них завтра ехать?
— Ну да.
— А других штанов у тебя нет?
— Есть, новые.
— Слушай, Саша! — сказал дядя проникновенно. — Я уже пожилой человек. Возможно, я больше тебя никогда не увижу. Ради меня, пожалуйста, надень завтра эти новые штаны! Там уже ходи, как хочешь, но в последний день уважь брата твоей матери.
— Разумеется, дядя! В чем проблема? Я прямо сейчас их и переодену!
Через минуту я вышел в роскошных новых штанах. Незадолго перед этим мама наконец-то разрешила мне использовать по усмотрению гобеленовое покрывало с кровати сестры, к которому я давно примерялся. Одна из наших мастериц сшила мне из него штаны, которые я сам долго продумывал. На широкий клеш сверху были нашиты фигурные карманы. Другие карманы — потайные — скрывались в двух узорных лямках.
Дядя посмотрел на меня с ужасом.
— Так это и есть новые штаны?
— Ага!
— Знаешь что, Саша, — вздохнул дядя, — езжай-ка, пожалуй, в старых.
А под вечер этого же дня меня наконец-то застал дома участковый капитан Кузякин. Он давно охотился за мною, но обнаружить меня дома было не так-то просто. Капитан ненавидел меня лютой ненавистью: я был единственной «паршивой овцой» на его участке. С остальными было проще: набедокурил, попался и отправился в тюрьму. Участок опять чистый. А меня никак не удавалось отправить с подведомственной ему территории, и я продолжал портить статистику, из-за чего ему никак не давали майора.
Досаждал он мне изрядно. Помню даже однажды приснившийся мне сон, в котором я убегал по каким-то буеракам от преследовавшего меня по пятам доблестного капитана. Несмотря на все мои уловки, он никак не отставал. Наконец мне удалось подстроить так, что он свалился в яму. Я засыпал ее тяжелейшими валунами и только успел вздохнуть с облегчением, как увидел выползающего из-под камней милиционера, задорно кричащего: «Врешь, паскуда, не возьмешь! Кузякин бессмертен!»
Проснулся я в холодном поту.
И вот он стоит передо мной и грозно смотрит на меня:
— Ага, нашелся! Жалуются на тебя, что тунеядствуешь, не работаешь. Ведь мы тебя за тунеядку посадим. Когда на работу устроишься?
— Никогда! — дерзко ответил я.
— Как? — обомлел участковый, не ожидавший от меня такой наглости.
— А я завтра с утра пораньше уезжаю за границу! Насовсем!
— Знаешь, ты ври, да не завирайся! Какая-такая заграница? Таких, как ты, за границу не пускают. Вы — позор нашего советского государства. Говори, что ты на самом деле затеял?
— Вот то и затеял — настоящий отъезд! От вас и всех ваших подальше. Что, не видите — вон чемоданы пакуются. А вот моя виза и билет!
И тут я впервые увидел на лице Кузякина доброе, человеческое выражение. Он просто расцвел в улыбке.
— Неужели? Насовсем! Вот молодец! Езжай, то есть езжайте, устраивайтесь там получше, чтобы все хорошо было, чтобы назад не хотелось. Ну, в общем, как говорится, с Богом!
Думаю, он был единственный, кто проводил меня такими словами. Наверное, вскоре после моего отъезда ему наконец дали майора.
* * *
Уже с вечера к нам приехало много народа — родственники, подруги мамы и мои «легальные» друзья. Открыто провожать изгоя в аэропорт решились только самые отважные. Благоразумный киевский дядя остался дома. Интересно, что теперь я помню эти события иначе, чем тогда, когда я «по свежим следам» записал их в дневнике. Попробую изложить их заново.
Мама все время плакала. Когда я вошел в Шереметьево, я обомлел. Казалось, вся Система собралась там, чтобы проводить нас с Алешей. Всего в тесном старом аэропорту скопилось не менее пятидесяти наших собратьев. Там были люди, которых я не видал уже очень давно, но все же они прибыли, чтобы проститься с нами. Казенное советское здание расцветилось невиданными ранее оттенками.
Мама обомлела.
— Кто это? — дрожащим голосом спросила она.
— Мои друзья!
— Какой ужас! — И тут слезы мамы наконец высохли. — Знаешь, теперь я окончательно поняла, что тебе действительно нужно уезжать как можно скорее.
Но тут, завидев такой контингент, перепугалось и начальство аэропорта. Может быть, оно решило, что грозит демонстрация или еще какая-нибудь антисоветская акция на глазах у иностранцев.
Я заметил, что после паспортного контроля и таможенного досмотра отъезжающих уводили в глубь здания, а потом они на секунду выныривали на балкончике над общим залом, чтобы скрыться уже навсегда. Я решил, что, когда выйду на балкончик, непременно что-нибудь такое монументальное скажу. Но, наверное, пограничники догадались, что от нас можно ожидать всего и решили предотвратить такую вероятность.
Таможенники взялись за нас по-настоящему. Чемоданы наши распаковали и все вещи перерыли с максимальной доскональностью. Они все не могли поверить, что за скудностью нашего багажа ничего не скрывается, и, очевидно, пытались обнаружить что-нибудь очень ценное.
Осмотрев вещи, они не успокоились. Нас отвели в маленькие будки и, заставив раздеться, прощупали нашу одежду. Вот тут Алеше было чего бояться. Дело в том, что за несколько дней до того ему кто-то подарил старинные епитрахиль и поручи. Разумеется, для нас эти предметы мало что значили, мы лишь знали, что они из церкви. Вывезти их явно не позволили бы, и Алеша просто нашил их себе на рубаху. Получилось роскошное одеяние: рубашка с гобеленовыми манишкой и манжетами. Уловка прошла, и таможенники ничего не заметили.
На этом наши злоключения не закончились. Несколько рослых, вооруженных автоматами пограничников, окружив нас, повели через низкие, темные казематы с протянутыми по потолку трубами. Тут я по-настоящему испугался. Ведь они запросто могут нас увезти куда-нибудь отсюда или просто расстрелять — и поминай, как звали. Скажут, сам пропал где-нибудь на Западе. Никто и следов не отыщет!
Но все оказалось не так страшно. Нас просто провели другим путем, в обход балкончика, и наконец выпустили в ярко освещенный накопитель. От своих нас отделяла стена. Меня лишили последнего прощания с родными и друзьями. А ведь я больше никогда не смогу их увидеть!
Осознание этой финальности давило почти физически. Уже потом я понял, что сам отъезд в эмиграцию был прообразом переживания опыта умирания. Уезжать предстояло туда, откуда не было возврата. Мы уходили навсегда, зная, что реальных шансов на возвращение, на встречу с единственно знакомой нам средой, нашими друзьями, нашими близкими не будет никогда. Перемещались в некий призрачный мир. Да, мы верили в его существование, но законы тамошней жизни были нам практически неизвестны. По каким-то рассказам знакомых иностранцев я мог себе приблизительно кое-что представить. Но, с другой стороны, при всем неприятии нами советской пропаганды она все же подспудно оказывала на нас влияние: кто знает, а может, действительно, выжить там окажется невозможным?
Для этого мира — единственного знакомого нам — для всего нашего окружения, для всей нашей жизни мы умирали. Мы переходили в иное бытие.
Римские каникулы
Ощущение инаковости заграничного существования подтвердилось сразу же по прилете в Вену. В самолете было около пятнадцати эмигрантов — через Москву улетали люди со всего СССР. Прямо у трапа нас встретили представители еврейского агентства «Сохнут» и спросили, кто направляется сразу в Израиль. Откликнулась примерно половина, и их сразу увели. Оставшиеся прошли в здание Венского аэропорта. И вот передо мною сами собой открылись стеклянные двери! Такое невероятное для жителя Советского Союза зрелище в реальной жизни мне довелось увидеть впервые. В детстве в «Кинотеатре повторного фильма», куда я ходил на утренние воскресные сеансы, в отечественных фантастических фильмах показывали космические дома будущего: там ходили люди в белых комбинезонах по длинным белым коридорам, и перед ними сами собой раскрывались двери. И вдруг я попал в это самое светлое будущее. Я вернулся назад, чтобы еще раз посмотреть на чудо. Двери послушно открылись опять. На этом я перестал чему бы то ни было удивляться.
В аэропорту нас встретили другие сохнутовцы и сказали, что отвезут в гостиницу, но назавтра мы должны явиться к ним и пройти повторное собеседование. Если после него мы вновь откажемся лететь в Израиль, нас передадут в ведение других агентств, заведующих расселением эмигрантов по всему остальному миру.
Гостиница оказалась маленькой, темной и грязноватой. Даже с нашей тогдашней неприхотливостью мы поняли, что поместили нас во что-то весьма третьесортное. Ночью мы с Алешей долго не могли заснуть. Сидели у окна, думали и ощущали себя невероятно одинокими посреди этого чужого и совершенно незнакомого мира. И тогда мы поклялись: что бы с нами ни случилось, мы не должны расставаться — поодиночке мы сразу погибнем. Нужно держаться друг друга. Тогда у нас еще останется шанс.
Утром, правда, все стало видеться немного по-другому. Уезжали мы из зимы, а в Вене в начале марта уже царила весна. Деревья покрывались небольшими листиками, светило яркое солнце. Зимнюю одежду мы сразу же сняли и постарались принарядиться. Я надел свои новые брюки и ту самую куртку с вышитыми ушами. На левом кармане ее было написано: «The Pocket Full of Love», а на правом: «The Pocket Full of Hate».
По пути в агентство с нами заговорили на улице местные хиппи и пришли в восторг, узнав, что мы их собратья из далекой России. На вечер нас пригласили в гости, и мы, окрыленные новым знакомством, проследовали в контору «Сохнута», чтобы отбиваться от Израиля. Это оказалось довольно легко, но все же этот визит принес неприятности: мне сказали, что я должен завтра же выехать на поезде в Рим, где буду ждать визу в Америку, а Алеше придется остаться в Вене еще на несколько дней, пока не наберется народ на новый поезд. Как мы ни умоляли не разлучать нас, наши новые доброхоты были непреклонны: в отходящем поезде оставалось одно место, и, кроме меня, заполнить его было некем. Пришлось подчиниться, и на следующее утро после веселого вечера у наших новых австрийских друзей я уже катил по направлению к Италии в компании совершенно чужих мне эмигрантов самого что ни на есть советского вида и мироощущения.
* * *
Рим с первого взгляда поразил меня своей красотой и на всю жизнь стал самым любимым городом. Его дома разных оттенков охры, оливково-зеленые запыленные ставни, резкий контраст света и тени, крутые холмы с храмами на вершинах, неожиданно открывающиеся взору пьяццы — небольшие, построенные как театральные сцены в окружении декораций и огромные, с мастерски продуманными открытыми пространствами; palazzi (дворцы), рынки и руины, памятники и фонтаны, звуки и краски потрясли мое воображение и навсегда покорили сердце. Поражало в Риме органическое сочетание старого и нового, древнего и современного. Все было живым и теплым. К руинам были пристроены средневековые дома, возрожденческие дворцы плавно переходили в барочные и завершались античными фрагментами. И так повсюду! Должен сказать, что с тех пор я побывал в очень многих городах и многих странах, но нигде более я не видел города со столь ярко выраженной исторической преемственностью и непрерывностью существования — от древних античных времен через все эпохи до наших дней. Каждая эпоха оставила свой след, и это были не музейные кварталы, а неотъемлемые живые части живого города!
Даже знаменитые римские барочные фонтаны не просто служили украшением города. Из каждого фонтана можно было пить прохладную чистейшую воду. К каждому памятнику были пристроены ступеньки, чтобы посидеть и отдохнуть на нагретом солнцем камне. И все городское пространство было наполнено людьми — разговаривающими, спорящими, кричащими, целующимися, едящими, лежащими, бегущими, иными словами — живущими самой свободной жизнью, именно той, которой мне так не хватало в родной стране.
Меня и группу других эмигрантов поселили в пансионе с трехразовой кормежкой. За неделю предстояло найти квартиру на несколько месяцев ожидания. Нам выплатили пособие 150 тысяч лир (по тогдашнему курсу около 180 долларов). На эти деньги предполагалось кормиться и снимать жилье целый месяц. В те годы при режиме разумной экономии это было вполне возможно.
Помню, как в первый вечер, только положив вещи в комнату, я вышел из своего пансиона. Он был расположен в обычном доме, построенном, наверное, в 20-е годы XX века. Рядом стояли такие же дома. Первые этажи занимали кафе под полотняными тентами. Вроде ничего особенного. Но напротив, через дорогу, тянулась древняя крепостная стена. Я пошел вдоль нее и вскоре дошел до ворот, ведущих в старый город. На небольшой площади перед ними возвышалась статуя бегущего в атаку солдата-берсальера с петушиными перьями на широкополой шляпе. Помню, как у меня захватило дух от ощущения небывалой новизны, красоты и какого-то волшебства этого места. С замиранием сердца я почувствовал, что стою на пороге невероятного приключения, которое приведет меня к совершенно не ожидаемым мною целям и результатам.
* * *
Поначалу казалось, что мы с Алешей, который присоединился ко мне через три дня, нашли именно то, к чему стремились. В Европе движение хиппи, хотя уже и начинало выдыхаться, но было еще весьма заметным. Мы пребывали в эйфорическом состоянии, которое ничто не могло испортить. Серьезные размышления появились потом, в Америке. В Риме все воспринималось совсем по-другому. Прибавим еще веселость и общительность итальянского характера, теплый климат, красоту городов и средиземноморской природы. Все это создавало ощущение праздника, раздолья, торжества радости, свободы и сбывшейся мечты. И, несмотря на затруднения из-за чужой языковой среды, многие жизненные реалии были вполне узнаваемыми. Мы могли вести тот же образ жизни, что и в Союзе, только легче и свободней: и климат теплее, и милиция не преследует. Прибавим еще очень доброе отношение к нам окружающих, во многом, конечно, за счет нашей экзотичности: большинство новых друзей впервые в жизни видели настоящих русских, а уж тем паче хиппи из России. В общем, примерно через месяц мы сделались едва ли не самыми популярными персонажами в римской хипповой тусовке. Я целиком окунулся в бурный водоворот встреч, знакомств и новых ощущений и жил лишь текущим моментом. Я впитывал в себя все новое и настолько был поглощен этим процессом, что мне было не до серьезных мыслей и размышлений о смысле жизни.
Случались в нашем новом свободном бытии и неприятности, но и они, как оказывалось, в результате приносили добрые плоды.
Через три дня после того, как мы сняли комнату (в самом центре Рима), мы познакомились с двумя бродячими аргентинцами, которые напросились к нам переночевать. До кучи мы пригласили еще трех знакомых итальянок. Началась веселая вечеринка с гитарами и пением, в середине которой пришел хозяин и выгнал нас всех на улицу, сказав, что не планировал превращать комнату в притон. Пока мы, оставив аргентинцев сторожить наши вещи, искали, куда переселиться, они забрали все ценное и скрылись. Каким-то образом им удалось унести и только что выданное на двоих месячное пособие, и даже те доллары, которые мы вывезли из СССР. В общей сложности, жулики за наш счет разжились суммой долларов в 700, что по тем временам было весьма внушительными деньгами, и это не считая фотоаппаратов, новых спальных мешков, часов (прощальный подарок киевского дяди) и еще какой-то мелочовки.
Остаток ночи мы проспали в парке, а с утра направились в агентство. Сотрудницы поохали, но сказали, что бюджет строгий и помочь нам ничем не могут. Мы оказались на улице, да еще и без гроша в кармане, в прямом смысле этого слова. Однако буквально через несколько часов мы познакомились с веселой компанией околохипповой итальянской молодежи, которая на весь месяц взяла нас на содержание: мы ночевали в разных квартирах, ежедневно нас кормили и развлекали. Научились мы и подрабатывать: один уезжавший в Америку эмигрант оставил в наследство несколько десятков расписных хохломских ложек, которые ему не удалось продать на римском блошином рынке Порта Портезе. Рынок был перенасыщен русским товаром, и стоило все очень дешево: десяток ложек отдавался за тысячу лир, то есть немногим более доллара. Мы же начали продавать ложки на одной из центральных и красивейших римских площадей — Пьяцца Навона, где и так проводили значительную часть дня, общаясь с новыми друзьями, многие из которых также торговали какими-то своими поделками. Причем, рассудив, что те, кто ходит сюда, вряд ли бывают на Порта Портезе, мы выставили цену за каждую ложку в две тысячи. Иногда удавалось продать две-три ложки в день, так что маленький приработок у нас появился.
* * *
Рим тогда был центром, в который стекались хиппи со всей Европы, и у нас появилась возможность активного международного общения. Попадались и весьма колоритные типы. Некоторых я помню до сих пор.
На Пьяцце Навона мы подружились с англичанином Питом. Белокурый, голубоглазый, с волнистыми локонами ниже плеч, в костюме то ли мушкетера короля, то ли гвардейца кардинала, он в течение всего дня принципиально не выходил за пределы Пьяццы, только ночевать удалялся в парк. С утра Пит являлся на площадь, как на работу, и до позднего вечера прохаживался по ее овальному пространству, попивая дешевое вино. Помню, меня поразил контраст между его кротким ангельским лицом и обнажавшимися в улыбке чудовищной величины лошадиными зубами. Контраст, впрочем, для англичанина типичный. Дружили мы и с немцами, и с голландцами, и с французами, не говоря уже про местных жителей.
Помню одного француза, с которым мы познакомились в автобусе. Загорелый дочерна европеец в традиционных индийских одеждах привлек к себе наше внимание, тем более что каждую минуту поглядывал на часы, а потом доставал какой-то пузырек и мазал себе виски, за ним другой — и мазал шею, потом — третий и так далее. Оказалось, он провел несколько месяцев в Индии, вернулся только что и едет из аэропорта. Мы пригласили его к себе (тогда мы еще жили в нашей комнате) и предложили накормить. Он сразу же удалился в уборную и вернулся оттуда лишь минут через двадцать, неся в руках четыре резиновые колбаски, набитые какой-то темной субстанцией. Оказалось, он вывез внутри своего тела индийский гашиш, для чего не ел три дня. Мы стали его откармливать, а он в благодарность предложил оставить нам гостинца из его внутрикишечной контрабанды.
Да, мы общались с самыми различными людьми…
Через месяц, получив новое пособие, мы автостопом уехали в Неаполь, где побывали в Помпеях, проникнув туда через дырку в заборе. В Неаполе мы жили в коммуне анархистов, состоявшей из нескольких человек. С пребыванием в этом городе связан один смешной эпизод. Дело в том, что Алеша, заработав на ложках немного денег, сразу же купил себе новые кеды. Однако чуть позже выяснилось, что, ошеломленный разнообразием выбора, он взял их без должной примерки, и они ему чудовищно жали. Ничтоже сумняшеся, Алеша отрезал у кедов носки, сказав, что теперь это будут сандалии, и стал ходить так — с торчащими пальцами, черными от грязи. Примерно тогда же мы познакомились с молодым неаполитанцем, который, с ужасом поглядывая на Алешины ноги, пригласил, если мы окажемся в его городе, заходить в гости. Прибыв в Неаполь, мы позвонили ему и договорились о встрече. Он жил в верхней — самой богатой — части города. Узких, извилистых живописных улочек, приводивших нас в восторг, там не было. Все было довольно скучно: виллы, сады, цветы, деревья. Наш новый знакомый накормил нас роскошным обедом, а в конце его вынес целый мешок одежды и обуви. Мы, пыхтя, отнесли его нашим друзьям-анархистам, с которыми по-братски поделились содержимым.
Вернувшись в Рим и передохнув там несколько дней, мы вновь отправились в путешествие, на этот раз на север, и побывали во Флоренции, Сиене, Милане и Венеции, не считая попадавшихся нам по пути массы мелких городков.
* * *
К сожалению, посмотреть Флоренцию нам почти что не удалось. Виной тому стала секта кришнаитов. Вот что произошло с нами в этом городе.
Добрались мы туда поздно вечером. Было зябко, моросил мелкий дождик. Центральные площади, где обычно собиралась молодежь, блестели мокрой пустотой. Справиться о бесплатной ночевке было решительно не у кого. Мы уныло брели куда глаза глядят. Время близилось к полуночи. Одежда постепенно намокала. И вдруг на окраине города перед нами вырос из тумана громадный шатер. Мы зашли: на полу на поролоновых матрасиках повсюду спали люди. В углу виднелась стопка свободных матрасов. Мы вытянули себе по одному, бросили их на пол, упали на них и мгновенно заснули. Однако долго спать нам не пришлось. Задолго до рассвета нас разбудили отвратительно хриплые, но тем не менее очень громкие звуки какого-то музыкального инструмента (оказалось, большой раковины, в которую дул один из обитателей шатра). Мы открыли глаза: в полумраке бродили тощие голые фигуры с бритыми, кроме пучка волос на затылке, головами и тряпками, обмотанными вокруг бедер. Зрелище было, что называется, не для слабонервных — пострашнее нечисти из «Вия» — первого фильма ужасов советского проката и единственного, который я на тот момент видел.
Оказалось, мы попали в передвижной ашрам кришнаитов, о которых в ту пору слышали разве что краем уха. Впрочем, к нам отнеслись благосклонно и позволили на время утренней молитвы залезть вместе с матрасами на крышу кабины грузовика, стоявшего тут же, и доспать свое. Последнего сделать не удалось: несколько десятков человек, ходящих кругами и беспрерывно на разные лады бормочущих «Харе Кришна», производят такой шум, что спать совершенно невозможно. Понаблюдав за всем этим бедламом с часок, мы оставили попытки заснуть и слезли со своего возвышения. Как только закончилось мантрование, нас стали обрабатывать, но тут во многом помогло недостаточное владение языком: что-что, а к восприятию кришнаитского трансцендентного жаргона мой английский был совсем не приспособлен. Да и курить очень хотелось. Мы вышли из шатра, тактично спрятались за угол и зажгли наши сигареты. Тут к нам приблизился замотанный в оранжевую тряпку кришнаит. Пугливо озираясь, он спросил, нет ли у нас лишней сигаретки, и, получив ее, с жадностью втянул в себя табачный дым.
После нескольких затяжек его затуманенный взгляд прояснился.
— Долго говорить не могу, — скороговоркой пробормотал он, — хочу сбежать отсюда. Можно с вами?
— Разумеется, — не задумываясь, ответили мы.
— Тогда вот что. Сейчас будут кормить. После еды уходите. Обещайте прийти вечером. Скажите, вас очень заинтересовал Кришна. Мы пойдем на санкиртану.
— На что?
— Ну, деньги клянчить у прохожих. В полдень ждите меня под статуей Давида у галереи Уффици. У любого спросите, вам покажут.
Так мы и сделали. Майкл (так звали нашего нового знакомого) появился в условленном месте около часа.
— Идем медленно, — прошептал он. — Делаем вид, что увлечены беседой.
Через пару улиц Майкл (мы уже знали, что он англичанин и что провел в секте почти полгода) резко нырнул в подворотню. Извлек из-под своих оранжевых простыней джинсы и рубаху и мгновенно переоделся. Вышли мы через другую подворотню на параллельную улицу.
— Теперь срочно бежим из города, — проговорил он.
— Как, да мы его совсем не видели! Давай останемся на пару дней, погуляем, посмотрим.
— Это невозможно! Кришнаиты меня найдут.
— Ну и что? Ты же свободный человек. Скажешь им, что не хочешь больше у них оставаться.
— Неужели вы такие наивные? Это же страшная секта! Вы даже не представляете себе насколько! Они убьют и меня и вас. Бежим, скорее бежим!
Так мы удрали из Флоренции. Майкл перестал нервничать лишь тогда, когда мы отъехали от города на порядочное расстояние. Ночевали мы в очаровательной средневековой Сиене. Вечером, несмотря на наши уговоры, Майкл отстриг с затылка длинный клок волос и остался с совершенно лысой головой. По-нашему, первоначально было куда круче, но Майкл сказал, что не желает оставлять на себе воспоминания о страшном кришнаизме. Рассказывать о секте что-либо он отказывался, но только повторял, что безмерно счастлив унести оттуда ноги и никогда не забудет нашей роли в его спасении.
Вместе с ним мы побывали в Милане, где я увидел первый в жизни готический собор и был им совершенно очарован, и в Венеции, где местные хиппи научили нас спать в пустых вагонах, стоящих в железнодорожном депо.
Погуляв три дня по каналам и улочкам Венеции, мы повернули назад в Рим (подходило время выплаты нашего пособия, и пропускать этот день мы не могли), а Майкл, по-прежнему боявшийся мести кришнаитов, направился на север — в Австрию.
* * *
По пути в Рим мы познакомились с молодым длинноволосым немецким автостопщиком Андерсом и пригласили его погостить у нас (по прошествии первого месяца и получении пособия мы сняли новую комнату). Он собирался на Сицилию. Алеше поездки надоели, а я решил отправиться в путь с новым знакомым. В Неаполе мы переночевали у наших друзей-анархистов, а затем через Калабрию и Мессинский пролив прибыли в Мессину и далее в Палермо. В теплой международной компании мы прожили несколько дней на клумбе в парке, а затем мой друг Андерс собрался в Грецию (появилась возможность бесплатно проехать на пароме), а мне, беспаспортному «лицу без гражданства», пришлось одному возвращаться в Рим.
Дома ждал Алеша с неожиданным подарком. Пока я отсутствовал, он познакомился с русскими баптистами, которые подарили ему две Библии (одну он взял для меня). Так я впервые по-настоящему открыл эту Книгу, прочитать которую мечтал очень давно. До этого мне удавалось лишь несколько раз подержать ее в руках, читать же возможности не было. Листая страницы, я заметил вложенную между ними бумажку, на которой было написано, что если я, читающий Библию, не верую в Бога, но хочу поверить, то должен попросить Его о даровании мне веры. Простенький текст молитвы прилагался тут же. Я решил, что терять мне нечего: почему бы нет, посмотрим, что будет, — и обратился к неведомому мне тогда Господу с просьбой помочь мне, неверующему, поверить в Него. Произнес эти слова и тут же забыл о них. Я и не подозревал, что молитва моя будет услышана. Правда, осознание этого пришло ко мне много позже. Пока же жизнь моя продолжалась без каких-либо изменений.
Остаток времени в Италии мы с Алешей провели, став уже совсем своими среди итальянских хиппи. Нас узнавали на улицах, приглашали на разные тусовки, кормили, затевали жаркие дискуссии. Из эмигрантских мероприятий мы лишь однажды посетили концерт Александра Галича, незадолго до своей трагической кончины приехавшего на гастроли в Рим. Концерт, в общем, понравился: в отличие от — в моем тогдашнем восприятии — слишком «урлового» Высоцкого и слишком «манерного» Окуджавы, Галича я всемерно уважал. Странное впечатление произвели только комментарии. Галич рассказывал об ужасах советской жизни, но главным примером в его устах стал эпизод, как прозаик Гладилин не мог купить курицу для больной дочки и как эту курицу помог ему достать академик Сахаров, воспользовавшийся закрытым распределителем.
— Вот представьте себе, — обратился Галич к итальянской аудитории, — как если бы Галилею пришлось доставать курицу для Боккаччо!
При том, что перед Галичем в те годы я благоговел, некая несоразмерность этого сравнения, да и мелочность всего эпизода больно резанула ухо.
В продолжение всего концерта мы с Алешей, демонстрируя полное презрение к условностям, сидели на полу перед первым рядом, и Галич бросал на нас опасливые взгляды. Заметила нас и местная пресса, так что мы были удостоены упоминаний в статьях о концерте в итальянской периодике.
Вскоре нас вызвали на собеседование в какую-то контору, где болезненно грузная русскоязычная дама с тройным подбородком, тяжко вздыхая, задавала нам вопросы, а затем записывала подробные ответы о том, кто такие советские хиппи и чем они живут. Нам она представилась секретарем Солженицына. Позже я узнал, что звали ее Ирина Иловайская-Альберти и что у Солженицына она проработала три года. В эмигрантском сообществе ходили слухи, что она тесно связана с ЦРУ, которое, по всей видимости, ее к писателю и приставило. Прощаясь с нами, она обещала вскоре связаться вновь, но более в жизни моей, к счастью, физически не появлялась (хотя в качестве многолетнего редактора парижской эмигрантской газеты «Русская мысль» время от времени оказывалась причастной к каким-то периферийным для меня событиям). Очевидно, у ее работодателей интереса мы не вызвали.
А вскоре меня пригласили в Фонд и сообщили, что визу мне выдали и через несколько дней я вылетаю в Нью-Йорк. Алеша пока задерживался — его рейс в Сан-Франциско намечался лишь недели через две. Он вызвался ехать в этот город, так как там проживала одна супружеская «системная» пара, уехавшая года за два до нас. Я же никогда с ними не был близок и решил, что мне больше подходит город, располагающийся поближе к Европе. Да и вообще, Нью-Йорк (точнее, его мысленный образ) воплощал для меня ту Америку, к которой я столь стремился. Эти последние дни я провел в прощальных гулянках с итальянскими друзьями. Все как один уговаривали меня остаться. «Зачем тебе эта Америка? — говорили они. — Там все другое, там все совсем не наши. И наших ты там не найдешь. Плюнь ты на нее и будем тут жить, как жили».
Но разве мог я отказаться от земли своей мечты? Да, я провел четыре праздничных месяца в Италии, но теперь за океаном меня должны ждать еще большие радости. Несмотря на свою мнимую свободу, я был насквозь идеологизирован, а поскольку моя идеология родилась в Америке, стремился туда, мечтал припасть к своим истокам и отказаться от выстраданной мечты не мог. Да, я ехал в новую страну совсем один, но я чувствовал себя уже вполне приспособленным для той жизни. Время, когда мне казалось, что, расставшись с Алешей, мы пропадем поодиночке, осталось далеко позади.
* * *
Впрочем, Нью-Йорк был городом мечты не только для одного меня. Среди эмигрантов бытовала история про весьма пожилую еврейскую пару, заявлявшую всем подряд, что поедут они только в Нью-Йорк.
— Ведь мы не откуда-нибудь, а, между прочим, из Бердичева, — напыщенно прибавляли они.
— Но почему бы вам не поехать в Израиль? Там развитые социальные программы, да и земляков ваших сможете найти, — уговаривали их сотрудники агентства.
— Нет, в Израиле мою Басю в армию заберут, — говорил муж. — Да и вообще, мы не какие-нибудь проходимцы неизвестно откуда. Мы, бердичевские, едем в Нью-Йорк.
Положение усугублялось тем, что, в отличие от граждан трудоспособного возраста, пенсионеров должна была взять на содержание какая-нибудь община. Нью-Йоркская еврейская община категорически отказывалась от этого, да и другие не слишком хотели. Но старики тоже не соглашались ни на что другое.
Но тут случилось чудо: женевская еврейская община изъявила желание взять на полное обеспечение пожилую пару не моложе шестидесятитрехлетнего возраста (чтобы срок содержания был обозримым) и без тяжелых болезней, требующих дорогостоящего лечения. Бердичевская пара подходила по всем параметрам. Но они отказывались:
— Какая такая Женева! Наверное, настоящая дыра? Как мы можем ехать туда после Бердичева? Хотим в Нью-Йорк!
С большим трудом их уговорили, и они, со вздохами и охами, поплелись в свою Женеву, ругая жуликов из агентства, не пустивших их в Нью-Йорк — второй достойный город мира (разумеется, после Бердичева).
И вот теперь я тут…
Я начинаю новую жизнь
Еще одна дневниковая запись, теперь уже нью-йоркская, хорошо передает мое тогдашнее настроение:
«За что боролись, на то и напоролись! Ха-ха-ха! Был вчера на Typical American Party[13]. …Вот что общество волосатых значит! В другом непривычно, скучно, неинтересно. Они кажутся глупыми и ограниченными, и со всеми их благими намерениями и предложениями помочь хочется назвать их ублюдками и послать подальше. Все одетые, стриженые, вежливые до безобразия, ужасно сдержанные и выдержанные. Джефф[14] особенно. Тоже мне, Форсайт нашелся!..
Потом пойду в Виллидж, если своего круга общения не найду, заностальгирую по Европе… И какого хрена я там не остался! Искать волосатых, искать волосатых, искать! Иначе в этой пуританской стране не проживешь. И ведь, пока я тут, волосатых куда меньше, чем в Европе, видел. Может, в Калифорнии иначе? А еще сегодня какой-то еврей, работающий в гостинице, с длинными предисловиями и извинениями начал советовать постричься, дескать, для моей же пользы (на работу устроиться и т.д.) А позавчера в агентстве ведущий посоветовал мне то же самое. Вот она, свобода, к которой я стремился! Союз, да и только! Вот что значит, пошел я искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок! Где же она, моя свобода?»
* * *
Но хиппи я все не мог найти. Оставалось разве что наблюдать эмигрантов вокруг себя. Русскоязычные поселенцы в нашем отеле «Люцерн» создали атмосферу большой коммунальной квартиры.
Пожилой гомельский еврей Шломо Болтер жил в комнате возле коридорного санузла. Целыми днями он в майке и длинных «семейных» трусах сидел на стуле за приоткрытой дверью и зорко смотрел в щель: кто в него заходит. Минут через пять начинал барабанить в стену: «Ты не один! Санузел общий! Давай, не задерживай!»
Дверь отворялась, и оттуда выходил препоясанный махровым полотенцем Ленчик — харьковский авторитет, умудрившийся убедить американских чиновников, что его пять ходок на зону были политическими преследованиями, вызванными антисемитизмом советских властей. Накачанный ленчиковый торс украшали кресты, профили вождей и портреты красоток. На одном жилистом колене было написано «Спаси господи», а на другом «от прокурора». Не успевал он сделать и шага по направлению к комнате Болтера, как тот захлопывал дверь и визгливо кричал из-за нее:
— Уголовник! Бандит! Сейчас милицию вызову!
Ленчик в ответ цедил сквозь золотые фиксы:
— Только попадись мне, старый хрен! Бошку отвинчу! — и возвращался завершать свой туалет. В отличие от его земляка, встреченного мною в давнишнем автостопном путешествии, этот харьковский бандит не стремился выглядеть интеллигентом.
Когда завозили из аэропорта новую партию эмигрантов, многие поджидали их внизу: все-таки интересно — новые люди, а вдруг кто знакомый попадется.
Как-то один из новоприбывших — миниатюрный человечек с аккуратненькой бородкой — подошел ко мне.
— Давайте познакомимся, — произнес он, протягивая руку, — Иван Тургенев. Слышали обо мне?
Я, знавший тогда только одного человека с таким именем — знаменитого писателя, был ошеломлен.
— А разве вы не…
Тут я хотел сказать: «умерли», но на ходу прервал нетактичный вопрос. Тем не менее начатую фразу нужно было заканчивать, и поэтому я произнес первое, что пришло мне в голову:
— …не, э-э-э, выше ростом?
И последнее, разумеется, вышло горше первого.
Тургенев со своей женой Марией Пуговкиной числились заурядными советскими журналистами, состоявшими в штате газеты третьего эшелона — какого-нибудь «Ленинского знамени» или «Советского рабочего». Как-то поссорились с главным редактором, обиделись и, чтобы насолить ему, подали документы на эмиграцию. Почему-то им отказали. Терять супругам было уже нечего, и они объявили об открытии «Независимого информационного агентства». Разумеется, об этом событии сразу же сообщили все западные «голоса». Не успело новоиспеченное агентство выпустить три-четыре самиздатовских бюллетеня, как власти передумали и выдали его основателям выездные визы. Так предприимчивые супруги оказались на Западе.
Они аттестовали себя экспертами-советологами, да еще и создателями первого и единственного независимого информационного агентства в Советском Союзе. Через несколько лет выпустили аналитическую книгу об СССР, которая начиналась примерно такими словами: «15 ноября 1976 года Леонид Брежнев проснулся в очень мрачном расположении духа…» Дальше читать я не стал.
* * *
Познакомился я с Моисеем Зайцевым. Ныне он известный музыкальный критик, составитель и публикатор мемуаров самого знаменитого советского композитора. Зайцев был последним секретарем музыкального гения и уверял, что тот оставил ему свои записки, которые он вывез с собою в Америку и, литературно обработав, издал. Действительно ли это так, до сих пор никто не знает (подлинность этих мемуаров оспаривают ведущие музыковеды мира), но с той поры дела Моисея Зайцева резко пошли в гору. Но когда я разговорился в нашей гостинице с сутуловатым курчавым брюнетом с небольшой бородкой, все это было далеко впереди. Оказалось, что они с женой приехали в Нью-Йорк год назад и с тех пор так и живут в гостинице — не хотят никуда уезжать из такого удобного места, а платить получается не на много дороже, чем за квартиру в какой-нибудь дыре типа дальнего района Бруклина. Я стал жадно расспрашивать такого бывалого человека про местную жизнь, а он, глянув на меня испытующим взором, пригласил завтра пойти с ним и женой на берег реки позагорать. Разумеется, я с радостью согласился.
На следующее утро мы встретились в холле гостиницы и тронулись в путь. Впереди плелась жена, загруженная свертками («Моисей играет на скрипке, — пояснила она, — и ему нельзя перетруждать руки».), за ней Моисей, который торжественно нес перед собой свои небольшие сухонькие белые ручки, и я, внимавший его поучениям. Пройдя несколько кварталов, мы уперлись в парапет.
— Вот мы и пришли! — объявил мой новый знакомый.
— А где же река? — поинтересовался я.
— Да вон же она!
Я заглянул за парапет. За ним был крутой поросший кустарником спуск, завершавшийся скоростной автострадой, после которой шел новый спуск, потом новая автострада, пролегавшая над доками, уставленными старыми ржавыми судами. Дальше наконец виднелась вода.
— А что, поближе к реке подойти нельзя?
— Нет, сами видите.
— А как же искупаться? — Мой вопрос прозвучал очень жалобно.
— Купаться тут ездят на океан. Но там шумно и жарко, да и, честно говоря, не очень чисто. А тут тихо и безлюдно, к тому же свежий воздух. Так что располагайтесь! — широким жестом пригласил меня Моисей.
К тому времени его жена расстелила прямо на асфальте цветные коврики, и музыкальный критик, сняв рубашку и оставшись в клетчатых и длинных (до колен) шортах, с удовольствием разлегся на нем, подставив солнцу поросший черными волосами дряблый животик…
Прерву ненадолго свое повествование и поясню, что в Нью-Йорке все совсем не так плохо. И пляжи далеко не так отвратительны, разве что ехать до них на метро не меньше часа. Есть там и парки: например, в географическом центре Манхэттена расположен громадный Центральный парк. Там можно и лежать на траве, и устраивать пикники под раскидистым деревом. Но отсутствие набережных — характерная черта американских городов. Если в европейских городах, где есть хоть какая-то вода, пространство рядом с ней максимально используется для жизни горожан, то в Америке к водной стихии сугубо утилитарный подход. Лишь в последние годы американцы стали обустраивать небольшие отрезки набережных для прогулок…
Итак, я расположился на коврике рядом с Зайцевым.
— Чем вы намерены тут заниматься? — поинтересовался он.
— Хочу продолжить свое образование. В Москве меня выгнали с третьего курса, так что, надеюсь, мне что-нибудь из этого тут засчитают.
— Может быть, может быть… А, простите за нескромный вопрос, вы не гомосексуалист?
— Это как? — не понял я.
— Ну, вы не испытываете гомосексуальных наклонностей?
— Да как вы могли про меня такое подумать!
— Я не подумал, а только спросил. И могу сказать: вам очень не повезло, что вы не относитесь к числу таких людей. Вы ведь не негр и не индеец — этих вне конкурса продвигают. Кстати, негров следует бояться — они ни одному белому никогда не прощают его цвета кожи и при возможности стремятся отомстить. А гомосексуализм тут очень распространен в академической среде и вам было бы легче всего сделать хорошую карьеру через подобные связи. Может быть, все же попробуете?
Я возмущенно ответил, что лучше буду всю жизнь посудомойкой, чем пробовать эту мерзость.
— Жаль, жаль, я ведь из лучших побуждений вам посоветовал, — заключил мой собеседник.
Больше я с ним не общался, но разговор этот, как оказалось, меня изрядно напугал: всю ночь мне снились чернокожие гомосексуалисты, которые гонялись за мною по городским улицам.
* * *
Впрочем, вскоре с этой проблемой мне пришлось столкнуться уже непосредственно. Дело в том, что в Нью-Йорке у меня был один знакомый — местный житель Джеффри Кассел, с которым я как-то встретился в Москве у общих друзей. Он оставил свой адрес и телефон, так что, приехав в город, я связался с ним. Джеффри охотно вызвался пообщаться и, забрав меня из гостиницы, повел на новый фильм «Звездные войны», а потом в китайский ресторан (в Нью-Йорке они самые дешевые). После ужина мы пошли гулять в Гринвич-Виллидж. Джеффри показывал мне достопримечательности.
— А вот в этом квартале, — вдруг сказал он, — собираются геи.
— Ага, — на всякий случай сказал я, не поняв этого слова, но не желая постоянно переспрашивать.
— А ты знаешь, кто такие геи? — спросил мой знакомый, внимательно глядя на меня.
— Честно говоря, нет.
— Так у нас называют гомосексуалистов.
— А… Ну к этой публике я отношусь спокойно, только если они держатся от меня подальше. А поблизости от себя я их на дух не переношу.
— Все ясно, — сухо ответил Джеффри, и мы пошли гулять дальше.
Потом он пригласил меня на вечеринку в доме своих родителей, с которыми тогда проживал, ту самую typical American party, о которой уже шла речь в моем дневнике. Приглашение пришло в гостиницу по почте. Не знал я, что в Америке так зовут в гости. Помню, меня поразила приписка в конце: «Bring your own bottle»[15]. Мне показалось, это как-то по-жмотски. Выяснилось, что это обычная американская практика. Правда, Джеффри, позвонив чуть позже, пояснил, что ко мне это не относится.
Семья моего приятеля жила в одном из многочисленных еврейских кварталов Бруклина. Друзья Джеффри были в основном белыми и выглядели вполне аккуратно. Но, в духе зарождавшейся тогда политкорректности, присутствовало два-три негра, а кроме того, один из гостей пришел с девушкой-китаянкой. Лиц мужского пола, к моему огорчению, было заметно больше, чем женского. Зато все были дружелюбны и общительны. Я довольно быстро напробовался из тех самых принесенных гостями собственных бутылок и веселился вовсю. Там и заночевал, одетый, на диване.
На другую вечеринку, на этот раз в дом своего приятеля, Джеффри пригласил меня несколько месяцев спустя. Дело происходило на севере Манхэттена. Компания была примерно та же, только особ мужского пола еще больше. По комнатам бесприютно бродила некрасивая девушка с ярко выраженной еврейской внешностью — в прошлый раз мне представили ее одноклассницей Джеффри. Опыта американской жизни у меня накопилось уже чуть больше, и я почувствовал, что компания эта какая-то не такая. Понять, в чем дело, я некоторое время не мог, пока не натолкнулся в дверном проеме на двух целующихся взасос парней. Наконец-то мне все стало ясно, и я рванул к выходу. Джеффрина одноклассница вышла вместе со мной.
— Неужели Джеффри — гей? — спросил я ее, как только мы оказались снаружи.
— А разве ты этого не знал? — удивилась она.
— Даже и не подозревал. Просто в голову такое не могло прийти. И давно он так?
— Уже несколько лет. Он ведь был моим женихом. Но потом сообщил, что у него другая направленность, и отказался.
Мне стало ее ужасно жалко.
— Бедная ты, бедная! Неужели ничего нельзя изменить?
— Нет. И поэтому мне уже 27 лет, и я до сих пор не замужем…
К сожалению, оказалось, что в Америке (во всяком случае в Нью-Йорке) обойти стороной эту крайне неприятную тему практически невозможно…
* * *
Но это произойдет потом. Вернемся к тому жаркому душному лету — моему первому лету в Америке. Как-то мне все же удалось завязать знакомство на улице с вроде бы подходящим типажом. Но волосато-бородатый человек в потертых джинсах, с которым мне удалось разговориться, оказался вовсе не хиппи, а фермером из Пенсильвании, где он жил с женой и пятью детьми: старшие из них были подростками, а младшие — еще младенческого возраста. В Нью-Йорк вся большая семья приехала на экскурсию. Я провел с ними несколько часов, мы вместе пообедали, а потом они, погрузившись в старую разбитую машину, поехали домой, предварительно взяв с меня обещание, что я их непременно навещу.
А однажды мои шатания по улице в поиске единомышленников-хиппи привлекли внимание каких-то сектантских проповедников, пригласивших меня в свою коммуну. Не знаю, кем они были. Возможно, из местной общины «Детей Божьих» — одной из самых гнусных сект. Впрочем, посидев у них совсем недолго, я послал их подальше и сбежал — уж очень коммунистическим духом повеяло от их собрания. Хоть и говорили они не о прибавочной стоимости, а о любви Иисуса и рождении свыше.
Однажды я оказался в гостях у восемнадцатилетней девушки, которая приехала в Америку из Питера всего за несколько месяцев до меня. Она успела уже арендовать квартиру где-то в дальнем квартале Бруклина и оформить себе вспомоществование от города, которое полагалось ей как несовершеннолетней (в США совершеннолетие наступает в 21 год). Вскоре она страшно затосковала в своей двухкомнатной (как говорили эмигранты, «однобедренной»[16]) квартире и начала звонить в Петербург друзьям и родственникам, в первую очередь, маме. Звонила она постоянно, часами не слезая с телефона. Через месяц пришел счет больше чем на тысячу долларов — абсолютно неподъемную для нее сумму. Девушка (по-моему, звали ее Маша) этот счет проигнорировала и продолжала свои переговоры. Потом пришел второй счет, третий и, наконец, извещение, что если она к такому-то числу не заплатит, то телефон у нее отключат. Маша набрала питерский номер и стала говорить в режиме нон-стоп.
Когда я пришел к ней, трубка лежала на столе, а Маша жарила на кухне картошку. «Не клади трубку, — крикнула она мне, — там мама ждет».
Действительно, терять ей, живущей на вэлфер и даже не имеющей банковского счета, было нечего. Правда, телефонная компания предупредила, что после отключения телефон на ее имя не поставят уже никогда, но кто в восемнадцать лет думает о столь отдаленных последствиях? В общем, Маше было все равно.
Она предложила и мне позвонить в Москву, все равно до послезавтра телефон еще работает, ведь при долге в несколько тысяч долларов лишние тридцать или сорок будут вообще незаметны. Я позвонил маме и нескольким друзьям. Напоследок я связался со своей близкой подругой Катей Гвоздикиной по прозвищу Гвоздика. В Москве была глубокая ночь. С Катей мы проболтали около получаса, как вдруг из ее рук вырвал трубку проснувшийся отец, глубоко засекреченный профессор-ракетчик. Он понял, с кем говорит его дочь, и от ужаса совсем потерял голову.
— Это провокация ЦРУ! — закричал он в трубку. — Официально заявляю перед всем миром, что я не знаю человека, который мне позвонил, и не имею отношения к этому звонку! Я верен Коммунистической партии и не допущу, чтобы мою телефонную трубку оскверняли гнусные предложения от матерых антисоветчиков!
— Помилуйте, Борис Ефимович, — попытался усовестить я его. — Я Саша Дворкин, вы меня прекрасно знаете. Никаких провокаций нет, я просто звоню Кате. Можно мы с ней продолжим разговор?
— Нет!!! — завопил он еще громче. — Я не знаю тебя! Я никогда не слышал твоего имени! Постыдные провокаторы из ЦРУ, вам никогда не удастся подловить честного советского ученого!
Мне стало противно, и я повесил трубку. Маша опять набрала номер своей мамы. Я прогостил у нее до поздней ночи. На душе было тоскливо и тревожно. Отказавшись от предложения переночевать, я отправился домой. Решил пойти пешком. Рассвет встретил на знаменитом Бруклинском мосту, до которого добирался часа четыре, и еще через пару часов дошел до своей гостиницы.
Наверное, я засиделся в Нью-Йорке, решил я. Поэтому все и не складывается. Покуда есть возможность, нужно хоть немного поездить по Америке и навестить знакомых. Решено — сделано, и через день я отправился в свое первое путешествие по дорогам США, то самое, о котором я так долго мечтал дома, в Москве.
Чтобы выйти на трассу и поймать машину, нужно было перейти мост Джорджа Вашингтона — величественное подвесное сооружение, переброшенное через Гудзон от верхней части Манхэттена в соседний штат Нью-Джерси. Где-то там была пешеходная дорожка, но я на нее не попал и оказался на трапе, протянутом по внешней стороне моста. Сквозь решетку под ногами далеко внизу была видна река, внешнего ограждения не было, и, когда по мосту проезжали большегрузы, моя спасительная тропка предательски сотрясалась. В ушах свистел сильный ветер, грозя снести меня в реку. Я шел на ватных ногах, стараясь не смотреть вниз, и, чем дальше удавалось пройти, тем больше я проникался гордостью за свою смелость. Но аккурат на середине моста я увидел чернокожих ремонтных рабочих, которые умудрились поставить на шаткую дорожку высокую стремянку и закусывали, болтая ногами, на самом верху ее. Увидели меня, обрадовались: «Эй, парень, может, косячком угостишь?»
Протиснувшись под их стремянкой, я поспешил к спасительному концу бесконечно длинного моста. На той стороне мне пришлось довольно долго идти по боковой дорожке, прежде чем удалось выбраться к нужной трассе. По другую сторону реки открывался вид на футуристический пейзаж Манхэттена. Я шел и думал: вот она, мечта, еще год назад казавшаяся абсолютно нереальной! Она исполнилась, но где же радость и удовлетворенность достигнутым? Радости не было. Вот если бы сюда перенести моих московских друзей, чтобы я мог им все это показать и рассказать! Переживания и впечатления в одиночку словно уничтожали реальность происходящего. Все: и жизнь моя, да и я сам — стало чем-то ненастоящим, призрачным, нереальным. Я был совершенно один, а значит, по большому счету, меня не было…
Автостоп в новой стране пошел на удивление быстро, и уже через несколько часов я добрался до Нью-Хейвена — города, где располагался знаменитый Йельский университет.
В нем теперь преподавал Виталий Шеворошкин — бывший мамин коллега, изгнанный с работы, а затем вытесненный из страны усилиями представителей коммунистического надзора за языкознанием, которые проводили зачистки в двух крамольных институтах: русского языка и языкознания. В мамином институте карательные меры тесно связывались с именем нового партийного секретаря Льва Скворцова. Именно тогда, как неблагонадежные, из двух институтов были изгнаны великие лингвисты, цвет отечественной науки: Виктор Панов, Игорь Мельчук, Шеворошкин и многие другие ученые. Ветеран войны, кавалер многих боевых орденов профессор Панов, к счастью, нашел другую работу в Москве, а вот более молодые по возрасту профессора Мельчук и Шеворошкин вынуждены были эмигрировать. Оба они в конце концов обосновались в престижных университетах США и Канады. В один из них я и приехал.
Знаменитый Йель, занимавший громадную территорию, на которой располагались выстроенные в неоготическом стиле корпуса, увитые густым плющом и разделенные зелеными лужайками, мне очень понравился, но с Шеворошкиным постигло разочарование. Оказалось, он уехал из города на летние каникулы. За поисками и расспросами день незаметно прошел. Уезжать было уже поздно, и я стал устраиваться на ночлег: расстелил свой сделанный из одеяла спальный мешок на окруженном готическими корпусами громадном зеленом газоне, на котором весь день отдыхала самая разношерстная публика. Однако вскоре ко мне стали подходить люди и дружески предупреждать, что ночевать здесь не положено. «Но почему же? — искренне удивлялся я. — Ведь это Америка, свободная страна. Можно делать что хочешь».
Оказалось, все же нельзя, во всяком случае в Йельском университете. Но один из доброжелателей (как оказалось, местный студент), видя мое недоумение, сжалился и пригласил переночевать у себя. Дома он накормил меня ужином, предупредил, что уйдет очень рано, и предложил мне самому позавтракать и захлопнуть за собой дверь. Спать он уложил меня в гостиной на толстом мягком ковре. Проснулся я от глухого удара об пол. Что-то весьма увесистое упало прямо рядом с моей головой и обдало меня холодными брызгами. Открыв глаза, я увидел, что в окно светит яркое утреннее солнце, а на ковре лежит тяжелый горшок с большим зеленым растением, каким-то чудом меня не задевший. На потолке, где он висел ранее, теперь зияла дыра, а ковер и мои волосы засыпаны мокрой черной землей.
Хозяина уже не было, и мне пришлось начать уборку. Не слишком преуспев в выковыривании комков грязи из толстого ворса, я поставил треснутый горшок на подоконник и пошел умываться. Наверное, нужно было поскорее уходить, чтобы меня не обвинили в сотворенном погроме. Но, на свою беду, я решил все же воспользоваться гостеприимством сердобольного хозяина и позавтракать. В холодильнике я нашел сосиски и решил было их пожарить, тем более что на плите стояла невиданная мною раньше диковинка — стеклянная прозрачная сковородка. Новинку, конечно, стоило испробовать, и я, налив в нее масло, включил газовую горелку. Ба-бах! «Сковородка» разлетелась на тысячи мелких кусочков. Наверное, она все же не предназначалась для жарки. Я постарался побыстрее собрать осколки, запихнул в себя две противные сырые сосиски с отменно невкусным белым квадратным хлебом и, оставив на окне рядом с разбитым горшком записку хозяину, что я не виноват, поскорее бежал из гостеприимного дома. Не знаю только, понял ли приютивший меня студент что-нибудь из этой записки — ведь с английской грамотностью у меня тогда было весьма туго.
* * *
Теперь мне предстояла поездка в Пенсильванию — к моему новому знакомому Тиму, тому самому фермеру с пятью детьми. Поначалу путешествие пошло не шатко не валко, но все же за день я проехал около пятисот миль. Ночь застала меня в Пенсильвании, но довольно далеко от места моего назначения. Последний подобравший меня водитель — бородатый и волосатый толстяк на маленьком грузовичке (вообще, в сельской местности, как я заметил, этот вид транспорта преобладал), узнав, что я русский хиппи, присвистнул от удивления и зазвал к себе на ночевку. Оказалось, он тоже бывший хиппи и даже участник знаменитого и уникального рок-фестиваля в Вудстоке. Дома гостеприимный хозяин усадил меня на мягкое кресло и врубил рок-музыку через квадрофоническую систему, о которой я ранее только слышал. В общем, мечты вроде бы начинали сбываться: вот он, один из тех хиппи, которых я ищу. Но с другой стороны, неужели этот благодушный толстяк, живущий в большом благоустроенном доме, — один из них, тех самых бунтарей и революционеров, к общению с которыми я так стремился? Какие ответы он мог бы дать на мои жизненно важные вопросы? Он и его столь же толстая жена были милейшими, радушнейшими людьми, но они, со своим домом и работой, всецело принадлежали к тому миру, против которого столь ярко, красиво и убедительно восставали хиппи.
Мои размышления были прерваны хозяином, оторвавшимся от телевизора. «Элвис умер, — сказал он, указывая рукой на экран, — вот это да! Завершилась целая эпоха… А ведь как раньше мы рвались на его концерты!»
Этим высказыванием сей бывший хиппи, участник высшего таинства единения в Вудстоке и, значит, причастный к духу высшей силы и высшей мудрости, окончательно утратил авторитет в моих глазах. Мы ведь считали Элвиса Пресли презренным попсовиком, представителем того самого истеблишмента, против которого мы восставали. И вот тебе, пожалуйста!
Наутро толстяк довез меня до дороги, и вскоре я стучался в дверь фермера Тима. На несколько дней я окунулся в радости буколической жизни в сельской местности с большим гостеприимным семейством, предпочитающим здоровый образ жизни. Семья старалась жить здоро́во, питаться натурально, но, что оказалось совершенно новым для меня, все они были верующими (и практикующими) католиками. В воскресенье семья приоделась и отправилась в ближайший городок на мессу. Меня, разумеется, взяли с собой. Я вежливо просидел всю службу на скамейке рядом с моими хозяевами, а когда подошло время причастия, Тим потянул меня за собой. — А что, неверующим разве можно? — удивился я.
— Можно, — ответил он.
— А некрещеным?
— Все равно можно!
Я послушно вышел в проход и, когда до меня дошла очередь, получил в рот круглую, абсолютно безвкусную облатку. Так впервые в жизни я приобщился тому, что окружавшие меня люди считали высшим христианским таинством. Не могу сказать, что это вызвало у меня какие-то особые переживания. Но о чем-то задуматься заставило.
Через несколько дней я отправился назад в Нью-Йорк. Каникулы заканчивались, наступала пора приступать к трудовой жизни. Эмиграция завершилась, начиналась иммиграция.
Работа
Вскоре я нашел первую работу. Мне предложили место компаньона у пожилого миллионера российско-еврейского происхождения. По достижении весьма преклонного возраста он продал свой бизнес, но дома чувствовал себя одиноким. Партнеры его по висту постепенно отходили в мир иной, и проводить время ему было не с кем. Вот родные и решили нанять молодого человека, который общался бы с ним на языке его детства.
Миллионер, Григорий Осипович, оказался весьма милым старичком. Мы гуляли с ним в Центральном парке, на краю которого стоял его дом, беседовали о жизни, ходили в кино на премьеры. Он даже по-своему меня утешал и обнадеживал: дескать, не стоит беспокоиться, он почти шестьдесят лет назад тоже приехал в Нью-Йорк без гроша, жил на чердаке и питался селедкой, но потом открыл собственное дело и теперь богатый человек и сам себе хозяин.
Я, не желая разочаровывать его, не говорил, что у меня другие цели в жизни и что материальное меня привлекает меньше всего. Так я думал, точнее, хотел думать. Правда, неожиданно для себя я стал осознавать, что материальная жизнь постепенно затягивает в свои сети и меня. Во-первых, на Западе я приоделся во все те вещи, которые мечтал иметь в России. И, облачаясь в них, я невольно оценивал свой вид как бы со стороны: если бы меня увидели на улицах Москвы! Но жил-то я не в Москве, а в Нью-Йорке, где всем этим великолепием (джинсами, настоящей американской военной камуфляжной курткой и прочими вещами) некого было удивлять. Получалось, к одежде нужно было относиться просто как к одежде, а не как к чему-то невероятно дорогому, труднодоступному и выделяющему тебя из серого внешнего мира. На осознание этого требовалось время. Но окончательно «подкосил» меня один краткий эпизод.
Получив первое жалование у своего миллионера, я шел домой, в гостиницу, и вдруг в витрине обувного магазина увидел дивные светло-коричневые сапоги. Высокие — до колена, на шнуровке и на толстом кожаном каблуке. Стоили они по моим возможностям очень дорого, но я все же не удержался и купил их. Придя в свой номер, надел сапоги (уже наступила осень), закатал джинсы, чтобы обновка была всем видна, и отправился в продуктовый супермаркет. По пути встретил Лешку Вербова, простодушного и совершенно безбытового толстяка, подрабатывавшего грузчиком при переездах и всегда ходившего в мятых штанах с пузырями на коленях и в сильно стоптанных на одну сторону башмаках, порыжевших от времени.
— Ого, — говорит Лешка, — вот это обновочка! Да они же, небось, жутко дорогие?
— Знаешь, — ответил я, любовно оглядывая сапоги, — как изрек один мудрец, я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи.
— Сказал настоящий хиппи Александр Дворкин, — закончил за меня мой собеседник.
Когда до меня дошел смысл сказанного им, я чуть не сгорел от стыда.
Долго у Григория Осиповича я не проработал. Меня наняла его дочь, милейшая дама средних лет, но, оказалось, у него имелся и сын, о котором мне рассказывали только в превосходной степени. Он был профессором (не помню чего) в Колумбийском университете. Григорий Осипович сообщил, что сын много лет назад развелся с женой и дети у него уже взрослые. А сейчас он опекает юношу-пуэрториканца, которого вытащил из наркомании, перевоспитал, и тот даже учится в университете. Месяца через полтора я застал сына у отца. Он был худ, подтянут, носил дизайнерские джинсы и черную водолазку, длинные густые темные волосы с проседью на висках затянуты в косичку, лицо гладко выбрито.
Я подумал, что мужик, видно, действительно передовой. Ведь он уже в возрасте моего отца, а так круто выглядит! Мы мило пообщались, а потом сын пригласил меня к себе в гости.
Он арендовал большую квартиру в университетском районе на Аппер[17]-Вест-Сайде. Дверь мне открыл бывший пуэрториканский наркоман — смазливый смуглый парень с манерными движениями. Я спросил, чему он учится в университете. Парень очень удивился и сказал, что учиться пока не думал. «Видно, что-то перепутал Григорий Осипович», — решил я.
Меня пригласили за стол. Все было приятно, но что-то меня настораживало. Мне усердно подливали спиртного, а на десерт предложили толстую самокрутку с марихуаной. Встав из-за стола, я подошел к окну, и вдруг сын моего работодателя полез на меня с объятиями. Лжестудент перегородил путь к отступлению. Пришлось лягнуть его промеж ног и спасаться бегством. Вот, оказывается, как профессор «перевоспитывал» пуэрториканских наркоманов…
На следующий день добрейший Григорий Осипович, чуть не плача, сообщил, что сын приказал меня уволить, а то ноги его не будет в отцовском доме. Расстались мы хорошо: отставной миллионер заплатил мне за месяц вперед и подарил новый очень дорогой плащ известной фирмы, который, правда, после беседы с Лешкой я не рисковал часто надевать. Да и стиль у плаща был слишком уж буржуазным…
* * *
Итак, я стал нью-йоркским безработным. Нужно было что-то искать. Новое занятие нашлось буквально через день. Выглянув из окна гостиницы, я заметил новую вывеску над полуподвальным помещением здания напротив. Вывеска гласила: «Restaurant Jerusalem Gardens» (ресторан «Иерусалимские сады»). А выйдя на улицу, я увидел объявление о наличии рабочих мест и решил наведаться. Внутри меня встретил чрезвычайно дружелюбный и разговорчивый молодой человек в вытертых джинсах и цветастой рубахе, но при этом с длинной всклокоченной бородой и кудрявыми пейсами, доходящими до середины груди. Голову его украшала широкополая шляпа. Выглядел он хиппово, и я решил познакомиться с ним поближе. Он назвался Ицеком и сообщил, что исповедует хасидизм. Тем не менее на вопрос, считает ли он себя хиппи, новый знакомый, внимательно посмотрев на меня, ответил утвердительно. Хасидский хиппи? Интересно! Это меня обрадовало, как и возможность занятости в хипповом месте.
Подробно расспросив о моей жизни, Ицек сообщил, что не прочь взять меня на работу в новый ресторан. Заведение было полубыстрого обслуживания, а точнее говоря — забегаловка (хотя и на полступеньки выше, чем обычный фаст-фуд). Пищу подавали вегетарианскую, хотя сам Ицек вегетарианства не придерживался. Но, поскольку ресторан объявлялся кошерным, а правила кошерности предполагают строгий запрет на соприкосновение мясного с молочным (даже посуда должна быть разной и хранить ее нужно на определенном расстоянии друг от друга), то проще было вовсе мясо отменить. Тем более что, как объяснил Ицек, вегетарианство ассоциируется с натуральным питанием и здоровым образом жизни, а это сейчас модно. В меню входила выпекаемая тут же пицца и различные ближневосточные блюда, которые можно было приобрести на вынос в виде горячего сандвича в пите, а можно было съесть тут же из одноразовой тарелки. Мой новый знакомый сообщил, что ресторан просто обречен на успех: другой кошерной точки общепита в непосредственной близости нет, а вокруг полно офисных зданий, где работает множество евреев (евреи составляют не менее трети населения Нью-Йорка), которые захотят поддержать единоверца. Я для него, как он заверил меня, был находкой: часто рестораны со здоровой пищей открывали именно хиппи, и волосатый-бородатый за прилавком для имиджа заведения был то, что надо. Жалование он положил мне невысокое (по-моему, три доллара в час), но сказал, что питаться я смогу бесплатно.
Я подумал-подумал и согласился. На следующее утро Ицек познакомил меня со своим партнером Майклом – вполне цивильно одетым светловолосым, коротко стриженным молодым человеком в маленькой ермолке. Кроме него, в ресторане работал повар, тут же на глазах у всех лепивший и формировавший пиццу, а начинку каждый клиент заказывал сам. Я встал за прилавок, и ресторан открылся.
Первые несколько дней все шло хорошо: новые клиенты приходили, хвалили Ицека за догадливость и с удовольствием поедали нехитрую снедь. Повар готовил, я принимал заказы и убирал за посетителями, а Ицек сидел в углу с бутылочкой сладкой водки и развлекал их разговорами о еврейском житье-бытье. Иногда выходил с кем-то из них на короткое время, но быстро возвращался. Майкл заглядывал после обеда (с утра он занимался каким-то другим бизнесом) и помогал мне с уборкой перед ужином. Закрывались мы поздно вечером. Расплачивались со мною честно — в конце каждого рабочего дня, а поскольку он продолжался не менее двенадцати часов, то сумма выходила неплохая. В первый же день, после вручения заработка, Ицек предложил тут же купить у него «самую лучшую марихуану». Вот это да! Я спросил:
— Ты вроде набожный человек. Почему ты занимаешься этим делом — торговлей наркотиками?
Мой хозяин спокойно ответил:
— Во-первых, в Торе не написано, что этого нельзя делать. Там вообще ничего не говорится о курении травы. А во-вторых, я все соблюдаю и не торгую в субботу. Я уже не говорю про то, что марихуана дает радость, чтобы славить Господа.
Через несколько дней в нашей работе начались сбои. Как-то, придя к назначенным десяти часам к ресторану, я обнаружил, что дверь еще заперта. Просидев на ступеньках час в ожидании хозяина, я отправился искать его обиталище. Жил он тут же — снимал квартиру в доме над рестораном. Заспанный Ицек пригласил меня внутрь. Комната, пропитанная тяжелым запахом канабиса, выглядела, как будто она пережила кишиневский погром. Ицек протянул мне ключи: «Иди, отпирай ресторан и наводи порядок. Я подойду попозже».
Открываться мы должны были в одиннадцать, но сегодня все было готово лишь к двенадцати. Многие посетители, пришедшие к раннему ланчу, уходили несолоно хлебавши. Ицек появился лишь к трем и сказал, что плохо себя чувствует — голова болит. К вечеру он вполне поправился и повеселел. Закончили работу мы, как всегда, после десяти. Уходя, я спросил, в котором часу утром мы открываемся. Ицек заволновался: «В ресторанном бизнесе главное — начинать пораньше, чтобы не терять клиентов. Завтра чтобы в десять ты как штык был на рабочем месте! Я уже открою ресторан и буду тебя ждать!»
На следующее утро я не стал спускаться на работу: просто посматривал из окна, когда хозяин откроет дверь. Прождав два часа, я отправился будить Ицека. Дверь в квартиру была не заперта. Пробившись через густое облако марихуанного дыма, я увидел хасида, спящего в картинной позе на диване. Растолкал его и сообщил, что жду уже два часа. «Ладно-ладно, бери ключи, иди, открывай», — непослушным языком произнес он.
Я отправился расставлять стулья, подметать… Но уже начинали подходить потенциальные клиенты на ланч и спрашивали, когда будет еда. Я сообщил им, что сегодня ланча не будет, потому что ресторан только что открылся. Они, ворча, удалялись и говорили, что больше не придут. Я извинялся, но это, разумеется, дела не меняло. В конце концов подошел повар, приплелся Ицек, и вновь началась какая-то жизнь, которая длилась до вечера. Однако клиентов стало уже заметно меньше.
Следующие недели две этот сценарий повторялся ежедневно почти один в один, только что торговля шла все хуже и хуже.
Партнер Ицека Майкл начал волноваться. Он приходил лишь после обеда, когда все уже работало, и не понимал, в чем дело. Однажды он привел с собой какого-то специалиста по маркетингу, которого нанял за очень большие деньги. Тот, осмотрев помещение и продегустировав наши блюда, дал ряд чрезвычайно ценных указаний: прилавок нужно переставить в другой угол, стены покрасить в теплые тона, стулья купить другие, а этого (он указал на меня) постричь… Все было сказано с очень умным видом, после чего специалист важно удалился.
Я сказал, что стричься не буду, так что пусть меня увольняют. Сошлись на компромиссе: я стал завязывать волосы в косичку. Впрочем, другие рекомендации специалиста никто выполнять тоже не стал. Да и дело было не в них. «Иерусалимские сады» стремительно приближались к разорению. Единственное, чему я был рад, — что платили мне каждый вечер, поэтому в конце концов, когда ресторан закрылся, денег я не потерял. Ежедневно (кроме субботы) с 12 часов (а считалось, что с 10) и до позднего вечера я пребывал на работе, питался там же и денег скопил довольно много, поскольку тратить мне их было некогда и не на что.
А закрылось наше заведение так: однажды Майкл все-таки пришел раньше обычного. Как всегда, его партнера не было, я подметал пол в пустом помещении. Майкл потребовал немедленно привести хасида к нему. Пришлось преждевременно вытаскивать Ицека из постели. Когда тот, опухший и помятый, приполз в ресторан, Майкл накинулся на него. Ругались они на идише, которого я не понимал, долго друг на друга вопили, кричали, стучали ногами, размахивали руками. После очередной реплики Ицека партнер полез в подвал, очевидно, чтобы проверить наличие там каких-то продуктов. Стоило ему начать спускаться по лестнице, Ицек захлопнул дверь и два раза повернул ключ в замке, а потом для надежности еще и припер вход столом. Запертый Майкл вопил, ругался и орал: «Саша, немедленно открой дверь». Ицек не подпускал меня к замку: «Саша, я запрещаю тебе это делать, я тебя нанимал, и ты обязан слушаться меня». Я стоял в сторонке и наблюдал за развитием событий. Хасид подбежал к телефону и стал кому-то звонить.
Вдруг Майкл, перемазанный, поцарапанный и с распоротой штаниной, ворвался в ресторан с улицы: ему удалось выбраться через узкое подвальное окошко. Он снял пиджак, бросил его на стол и завопил: «Саша, немедленно уходи отсюда, мне не нужны свидетели, сейчас здесь будет море крови!» Ицек прыгнул за прилавок, схватил самый большой кухонный нож и, размахивая им, закричал: «Не уходи, мне нужны свидетели, чтобы ты подтвердил, кто первый начал!» Я понял, что крови не будет, сел за столик и стал ждать развязки. Через несколько минут дверь распахнулась и в помещение зашло несколько мощных громил весьма внушительного вида. Майкл, оглянувшись на них, поперхнулся и замолчал на полуслове. Они взяли его за руки и за ноги и вынесли на улицу, где аккуратно положили на тротуар. Вслед за ним полетел его пиджак. Теперь уже я сам решил поскорее уйти подобру-поздорову.
На следующее утро я увидел большой замок на двери ресторана. Квартира Ицека тоже была пуста. Ее хозяин исчез. Так я опять стал безработным. Правда, теперь у меня имелась довольно большая для меня сумма денег, скопившаяся за последний месяц, так что я мог спокойно искать новое место. Но главным наследием, оставшимся после «Иерусалимских садов», стал пушистый трехцветный котенок, названный мною Муркой. Кто-то подбросил в ресторан трех малюсеньких котят. Двух к вечеру разобрали, а оставшегося третьего (как выяснилось потом, кошечку) пришлось взять мне. Я контрабандой принес ее в гостиницу и несколько дней, пока она не научилась лакать сама, кормил молоком из соски. Потом Мурка путешествовала со мною по всем моим квартирам и стала самым моим верным другом.
Через какое-то время, уже когда я готовился к крещению, я встретил Ицека на улице. Вид у него был весьма потрепанный. Он сразу узнал меня и пригласил в синагогу.
— Я не пойду в синагогу, — отвечаю. — Я не хочу ходить в синагогу. И вообще, я христианин.
Ицек ничуть не смутился: — Ну, хорошо, хорошо, без проблем. Тогда купи у меня травки. Или кокаина хочешь? Можно и ЛСД достать.
— Спасибо, не требуется.
— Ну ладно. Если что-то будет нужно, звони. Только не в субботу.
И мы разошлись. Больше его я не видел.
Второго хозяина я тоже как-то потом встретил на улице. Тогда я уже учился в Духовной академии. Майкл был без ермолки, и я даже сразу его не узнал. На вопрос, почему он так изменился, он ответил, что тогда, в ресторане, носить ермолку требовал бизнес. А теперь бизнес другой и вид другой.
Итак, я вновь пребывал в безработном состоянии, но теперь у меня был один иждивенец: маленький котенок Мурка, которую я шутливо представлял своим друзьям как жертву сионизма.
* * *
Новое место опять нашлось быстро: я устроился курьером в бюро путешествий и проработал там несколько месяцев — до середины зимы (попутно очень хорошо изучив Нью-Йорк). Но вдруг меня продуло, и я слег с межреберной невралгией. Пока болел, оказалось, что на мое место нашли другого человека.
К тому времени я уже познакомился с молодой американкой (звали ее почему-то мужским именем, но с женским окончанием — Bobbie) и стал встречаться с ней. Еще раньше я отыскал в Нью-Йорке Толика-Виннету. Самый первый хиппи в моей жизни, как оказалось, закончил компьютерные курсы, устроился на работу и стал полноценным членом общества. Он жил в тесной и душной квартире (но зато в престижном Аппер-Ист-Сайде, чем очень гордился) с женой Венерой (она была татаркой) и трехлетним сыном. Волосы, черные как смоль и прямые, у него по-прежнему были длинные, но одевался он уже не по-хипповому: нужно было ежедневно ходить в офис. Как и раньше, говорил Толик редко, отрывисто и очень краткими фразами, что придавало его речи особую глубокомысленность. Эмоций почти не выражал, лишь улыбался иронически почти постоянно. Толик познакомил меня со своим другом, киевским хиппи Мариком, с которым они постоянно проводили время вместе. Марик, проживавший в Гринвич-Виллидж со своей американской подругой (увидев их, я решил, что и мне необходимо обзавестись приятельницей из местных), был долговязым малым с длинными всклокоченными каштановыми волосами, выдающимся кадыком и большими бакенбардами, весьма словоохотливым и эмоциональным. Общались они друг с другом чрезвычайно смешно. Скажем, за кружкой пива Толик вдруг изрекал:
— Нельзя называть интеллигентным человека, который не читал Пруста.
Марик начинал ерзать на месте:
— Ну, Толик, а если у него пока еще не было такой возможности?
— Значит, он не интеллигент. — Толик был непреклонен.
— Ну а если просто жизнь такой возможности не дала? Как же ему быть? — кипятился Марик.
— Не интеллигент!
И такой диалог мог продолжаться часами, по-видимому, доставляя обоим собеседникам некое странное удовольствие.
Через полгода нашего знакомства Марик сбрил бакенбарды, коротко постриг волосы, покрасив их в черный цвет, переоделся в черное и узкое и объявил нам, что стал панком.
— Понимаете, чуваки, хиппи — это уже не модно. Это уже полный отстой. Ваши длинные волосы и клеши — все равно что в совдепии пузатые дядьки в шляпах и в клетчатых байковых рубашках под пиджаками. Сейчас круто быть панком. Идите тоже со мной в панки!
В панки я не хотел, а Толик давно уже перестал быть хиппи. Но зато он сказал мне, что крестился и стал православным. Подробностей не сообщал, несмотря на все мои упорные расспросы. В церковь Толик не ходил, да и в жизни его я не видел никаких проявлений религиозности. Но сам факт, что человек, которого я знал еще со школы и который впервые познакомил меня с Системой, идентифицирует себя с христианством и Церковью, произвел на меня сильное, хоть и не слишком осознанное впечатление.
Но пока я искал работу и вроде бы мало задумывался о Боге. Я продолжал по инерции считать себя неверующим, хотя… Хотя как-то вдруг я неожиданно понял, что верую в Бога. И не просто верую, а воспринимаю свою веру абсолютно свободно и естественно, как будто был верующим всегда. Я даже не мог назвать момент, когда именно это произошло: вот до него я был атеистом, а потом уверовал. Нет, вера, как евангельское зерно, тихо и незаметно проросла во мне. Лишь много позднее я припомнил молитву, наспех прочитанную с листочка в тесной римской комнатушке, и понял, что получил на нее ответ и что ни одно наше слово, обращенное к Богу, не остается неуслышанным. Как и все настоящие чудеса, это произошло совсем незаметно. Но моя новообретенная вера, как я понимаю теперь, была абсолютно умозрительной, даже абстрактной. Я не знал и ничего не стремился узнать о Боге, в Которого веровал, Библию читал лишь в небольших отрывках, о Церкви даже и не помышлял и совершенно не подозревал, что настоящая вера подразумевает полное изменение жизни. Я барахтался в своей пучине греха и не хотел никаких перемен. Я даже не подозревал, что нужно (и можно) такому человеку, как я, жить по-другому.
Бобби — единственная дочь в семье либеральных нью-йоркских евреев, которая специализировалась в колледже по русскому языку, восприняла мою появившуюся веру весьма неодобрительно, сказав, что не подозревала о моей склонности к средневековому мракобесию. Но я сослался на свободу мнения, и она вынуждена была смириться. Впрочем, смиряться ей особенно было не с чем, ведь, как я уже сказал, в жизни моей не изменилось ровно ничего. Впрочем, и к моему хипповству она относилась весьма иронически: рассказывала, что сама была хиппи, пока училась в колледже (!), но потом бросила. Меня, в свою очередь, такие заявления шокировали. Как можно совмещать высокое звание хиппи с учебой в колледже, да еще и относиться к нему как к временному явлению? Так что же значит «быть хиппи» для тех, кого мы считали своими недостижимыми для подражания образцами?
* * *
А тут мои хипповые позиции укрепились: в Америку приехал Костя — однокашник Димы Степанова, моего московского лучшего друга. Костя появился в жизни Системы сравнительно недавно: он пришел из армии примерно за полгода до моего отъезда и сразу включился в нашу тусовку. Мы относились к нему немного свысока, считая его пионером — не имелось у него еще выслуги лет. Да и не был он похож на нас: все-таки отслужил в армии (для системных это было большой редкостью) и, в отличие от декадентствующих хипповых хлюпиков, выделялся весьма крепким спортивным сложением и вполне мог постоять за себя. Но в наше времяпрепровождение он включился с пылом неофита и, что называется, пустился во все тяжкие, ничего не пропуская. Да, в Москве Костя был пионером, но в Нью-Йорке я воспринял его как самого родного человека, прибывшего в наше загробие из мира живых с почти теплыми приветами. Встречались мы почти ежедневно. Познакомил я его и с Бобби. Повторялась ситуация полугодичной давности: тогда, увидев американскую подругу Марика, я решил, что и мне следует обзавестись такой же, а теперь Костя говорил мне, что единственный путь для интеграции в новое общество — это близкое знакомство с какой-нибудь аборигенкой. Но он пока совсем не владел английским и не мог преуспеть в этом.
* * *
Через некоторое время после Кости меня разыскал еще один старый знакомый по Системе. Звали его Сергей Растопцев, и знал я его довольно мало. Он появлялся на московских тусовках изредка, потом надолго исчезал, затем выныривал откуда-то на короткое время и пропадал вновь. Обычно при наших (бывало, бурных) обсуждениях Сергей отмалчивался, лишь изредка произнося отрывистые фразы. Мы считали это признаком глубокой мудрости, а то, что его реплики далеко не всегда попадали в тему разговора, делало его еще более глубокомысленным в наших глазах. Сережа отличался недюжинной физической силой, правда, учиться нигде не смог, даже восьмилетку не закончил. Мы воспринимали это как еще одно доказательство неординарности его мышления.
В Америку Сережа попал совершенно случайно — через фиктивный брак. Как-то он познакомился в Москве с еврейской девушкой из далекого провинциального городка. Она рвалась в Израиль, но для эмиграции требовалось согласие родителей, а те, боясь окружения (в маленьких городах все про всех знают), сказали, что подпишут бумаги, только если она подаст документы на выезд в другом месте. Но для этого требовалась прописка. Сережа согласился жениться и прописать жену у себя в обмен на совместный выезд. Его родители были приятно поражены, что их охламон женился на чистенькой девочке, и без лишних вопросов прописали ее себе в коммуналку.
Вскоре Сережа объявил им, что едет с женой на работу в Иран: «Вы разве не слышали? Все евреи в Иран едут!»
Те подписали разрешение, и вскоре Сережа с «женой», которая оплатила все его эмиграционные расходы, долетел до Вены. Оттуда она укатила в Израиль, а Сережа, дождавшись визы, прибыл в Нью-Йорк.
Бедный, он совсем не понимал, где он и что с ним происходит. Мы пообщались день-другой, и я наконец-то понял, что его немногословность и отрывистость выражений были вызваны отнюдь не особой мудростью, а скорее тяжелой отсталостью.
Сережа планировал разбить палатку в Центральном парке и жить там. Мне стоило немалого труда отговорить его делать это. Учить английский у него тоже не получалось. Я спросил его о причине.
— Дурацкий язык, — буркнул Сережа.
— Почему?
— А вот как, к примеру, по-английски «нет»?
— No.
— Вот именно, а как будет «знать»?
— Know.
— Видишь, — торжествующе заметил мой приятель, — дурацкий язык, невозможно его выучить[18].
Через какое-то время он исчез с моего горизонта и долго потом не появлялся. Интересно, что и в Америке он не оставил этой своей московской привычки.
* * *
Тем временем я наконец нашел работу — оператор ксероксной машины в копировальном центре. Правда, мне сказали, что берут меня всего на пару месяцев — пока не поправится мой предшественник, сломавший ногу. Но других вариантов не подворачивалось, так что я согласился. Много позже я узнал, что здание, нижний этаж которого занимало новое место работы, в пятидесятые годы было первым адресом моей будущей alma mater — Свято-Владимирской академии, так что и этот эпизод моей жизни оказался провиденциальным.
Учитель
Подошла весна. Как-то Толик сказал мне, что сегодня пасхальная ночь и он собирается пойти на службу в церковь. Я вызвался сходить с ним. Храм выглядел как обычное здание, лишь козырек над входом украшал маленький проволочный куполок. Мы подошли к нему уже за полночь, крестный ход закончился, и служба шла внутри. Народу в небольшом помещении храма набралось довольно много, но стояли все свободно. Мы прошли в уголок и встали там. Что произошло дальше, сказать не могу. Я забыл, где я и что со мной. Знал только, что не хочу отсюда уходить. Я не понимал ничего, что происходило вокруг, но мне это было совершенно неважно. Наверное, это и было ощущение присутствия Божьего, даваемое Им по Его неизреченной милости новоначальным. Толик дергал меня за руку и говорил, что пора домой. Я лишь ответил ему, что, если он хочет, пусть уходит, я же отсюда не уйду. В какой момент он исчез, я не заметил и оставался в храме до конца службы, а на улицу вышел, лишь когда все стихло. Первое, что я сделал, дойдя до автомата, — набрал номер своего друга и сказал: «Толик, я хочу креститься! Скажи мне, куда нужно за этим идти?»
Он весьма раздраженно ответил, что нечего из-за пустяков будить людей по ночам. Впрочем, мне было все равно. Счастье и радость настолько переполняли меня, что я не захотел спускаться в метро (в Нью-Йорке оно работает круглые сутки) и отправился домой пешком на другую сторону Манхэттена и долго обходил по периметру опасный в ночное время Центральный парк (по нему категорически не рекомендовалось ходить после наступления темноты). Дошел лишь к 6 утра. Несмотря на бессонную ночь, спать не хотелось совсем.
Интересно, что я совсем не запомнил служившего священника. А ведь вероятнее всего, в ту ночь в храме служил отец Иоанн Мейендорф, всего через несколько лет ставший моим духовным отцом.
* * *
Впрочем, уже потом я заметил, что, стоит человеку решить креститься, тут же начинают происходить неожиданные события, препятствующие этому шагу. Так вышло и со мною. В понедельник после пасхального воскресенья я встретил человека, который на ближайший год стал моим учителем жизни. Случилось это так.
На работе мне дали отксерить несколько книг, оставленных заказчиком на ночь. Это были русские дореволюционные тома с какими-то религиозными текстами. Подробнее я рассмотреть их не мог, но решил, что надо бы познакомиться с их владельцем. Он оказался пухловатым брюнетом лет на пятнадцать старше меня, в больших очках на вздернутом носу, под которым красовались квадратные гитлеровские усики. Небольшой подбородок прятался между немного вислыми, как у хомяка, щечками. Но карие глаза смотрели на собеседника сквозь толстые стекла внимательно и сосредоточенно.
Я спросил его по-русски, православный ли он.
В ответ незнакомец задумался. «Хороший вопрос, — в конце концов произнес он. — Впрочем (тут он написал что-то на бумажке), впрочем — вот мои имя и телефон. Позвоните мне, и мы сможем его обсудить».
Так я познакомился с Аркадием Гроднером — московским эзотериком, эмигрировавшим в Нью-Йорк за несколько лет до меня. Тогда он учился в магистратуре епископальной семинарии при Колумбийском университете. Жил с женой и шестилетним сыном в просторной трехкомнатной квартире, располагавшейся в общежитии семинарии в престижном районе города, но при этом постоянно жаловался на тяжелые жилищные условия и стесненные обстоятельства. Мне он объяснил, что изучает духовные традиции разных стран, что пишет книги и издает эзотерический журнал «Гносис». Расспросив подробно о моей жизни, он сказал, что видит во мне большое будущее: я должен стать, как и он, писателем и помогать ему издавать журнал, что и является главным делом сегодня на земле. Аркадий подарил мне книгу своих рассказов и первый номер журнала. Над вторым он как раз работал. Я был польщен его вниманием и счастлив, что обрел такого продвинутого нового знакомого — настоящего писателя, а когда узнал, что магистерскую диссертацию он готовит по патрологии о проблемах теосиса у Евагрия Понтийского, то и вовсе лишился дара речи. Все эти малознакомые мне слова звучали райской музыкой для моих ушей.
Так завязалось наше знакомство. Я познакомил Аркадия со своими друзьями: с Толиком, Мариком и Костей и, разумеется, с Бобби. К ним он отнесся довольно скептически, впрочем, сказал, что простоватого Костю можно использовать в качестве помощника. Бобби же не понравилась ему больше всех. Он изрек, что поражен, как я, духовный человек, смог избрать себе столь плотский объект для воздыханий. Я сухо заверил его, что он не понял Бобби, и разговор на этом прекратился. Впрочем, и она весьма нелицеприятно высказалась о моем новом знакомце.
У Аркадия, казалось, имелись ответы на все вопросы о главном. Общение с ним обогащало мою жизнь новыми смыслами. Даже семья его виделась мне идеальной: тихая и кроткая жена, к тому же чрезвычайно ученая, сын-вундеркинд, и, главное, они уже давно вели религиозную жизнь, которую я только-только открывал для себя. Так я стал воспринимать Гроднера своим Учителем и Наставником. Единственное, чего я не мог понять, почему мой учитель до сих пор не крещен.
Когда я говорил ему, что хочу креститься, он отвечал, что креститься, может, и нужно, но лишь у достойного человека, однако он такого пока не нашел. Вот, посмотрите, Саша, на этого священника, какой он нехороший человек: он точно агент КГБ. А вот другой. Он пьяница. Этот третий — отъявленный антисемит, с четвертым тоже какие-то серьезные проблемы — в общем, все не подходили. «Вот, если бы найти достойного человека, — завершал он, — я готов идти к нему креститься хоть куда, хоть в подвал. Как найду – непременно вам скажу».
Время от времени я спрашивал, не нашел ли он уже такого праведника, на что он неизменно отвечал, что пока еще нет, но поиск продолжается.
Впрочем, искал достойного человека и я. Кто-то упомянул при мне имя отца Александра Шмемана. Я спросил Аркадия о нем. Это пришлось совершенно не к месту: как я потом узнал, Гроднер только что прослушал лекционный курс отца Александра, который тот прочел в его семинарии. По окончании семестра Аркадий написал итоговую работу, и — небывалый случай — отец Александр, обычно очень милостиво раздававший хорошие отметки, влепил ему тройку с минусом. Видно, совсем у Гроднера плохо получилось. В ответ на мой вопрос учитель невероятно разозлился и заявил, что у Шмемана страшное волчье лицо и оно полностью его характеризует.
Но однажды он пришел на встречу со мной очень воодушевленным и сказал, что наконец-то нашел «правильного» священника — действительно светлого человека, который объездил мир, обладает тайными знаниями и даже, возможно, готов их передать достойным и так далее. Гроднер с ним еще раз поговорит, познакомится поближе и, возможно, решит, что креститься нужно у него. Я с нетерпением чаял встречи с этим замечательным человеком. Через несколько дней Аркадий сказал, что собирается к нему ехать. Я ждал его возвращения и звонка от него. Однако звонка не было. Через несколько дней я, не выдержав молчания, аккуратно спросил своего учителя о результатах визита. Тот визгливо ответил, что ошибся: поп этот оказался выжившим из ума старым хрычом, недостойным даже пальцем коснуться таких духовных людей, как мы. Лишь позже я понял, что речь шла об отце Георгии Флоровском, который в то время был уже глубоким стариком. Но характер у отца Георгия был крутоват, так что теперь могу представить себе, как он спустил моего учителя с лестницы, когда тот начал излагать ему свои эзотерические теории.
Уже тогда я узнал, что православных русских Церквей в Америке три (о том, что есть православные нерусские Церкви, я пока еще не знал): Зарубежная («Синодальная»), которую Гроднер объявил мракобесной и фашистской; Московская — разумеется, кагэбэшная; и, наконец, Американская автокефальная, которая, во-первых, находилась под влиянием Москвы, а во-вторых, была не русской и вовсю уступала американизации. Как-то получалось, что ни одна из них не подходила под наши строгие критерии. Но других-то не было…
* * *
Мы собирались у Гроднера, обсуждали эзотерические проблемы и слушали его проспекты о том, как найти денег на достойную жизнь тех, кто по праву является цветом общества. К нему приходили какие-то непризнанные композиторы, неизвестные поэты, спивающиеся журналисты. Аркадий объяснял, что нужно создать среду, что без среды не бывает гениев, что даже Пушкин не состоялся бы без его круга. Помню постоянного автора газеты «Новое русское слово» Вячеслава Завалишина. Гроднер приглашал его на свои посиделки, так как много лет назад Завалишин стихотворно перевел Нострадамуса. Теперь это был грузный, неряшливый, плохо выбритый старик с прилипшей к рубашке вчерашней макарониной в томатном соусе и стойким запахом водочного перегара. Впрочем, надолго он на нашем обсуждении не задержался: жадно выпил принесенную с собою бутылку пива и, когда убедился, что спиртное ему подавать не собираются, тут же под благовидным предлогом отбыл восвояси.
Американцы бывали реже. Помню курчавого раджнишиста в оранжевой рубахе с портретом его бородатого гуру на груди (Аркадий сообщил мне, что по приказу своего учителя Том всегда ходит в оранжевых одеждах) и каких-то мутных гурджиевцев с обреченностью во взоре.
Гроднер принимал гостей льстиво, расписывая каждому, как он велик, но стоило перехваленному деятелю удалиться, хозяин тут же сообщал мне, что ушедший — полное ничтожество, незаслуженно получающий те или иные блага, в то время как настоящие духовные люди, вроде него, вынуждены ютиться в убогих общежитиях и перебиваться с хлеба на картошку. Последнее было таким же риторическим преувеличением, как и первое, но тем не менее я ему верил. По просьбе учителя в выходные я ходил в специальный архив, где искал для него гранты, а он занимался моим оккультным образованием, подсовывая мне книги Штайнера, которые я читал с большим удовольствием. Впрочем, тогда я воспринимал их больше как полемику против атеизма, с которым я сам лишь недавно расстался. Так я начинал обнаруживать рациональное объяснение веры в Бога, которое и излагал все более киснущей подруге.
* * *
И тут неожиданно мне позвонил Алеша Лайми. Он сказал, что находится недалеко от Нью-Йорка и ему нужно приехать в город на несколько дней для оформления каких-то бумаг, так что можно ли у меня остановиться. Разумеется, я согласился. Перемены, происшедшие с моим другом, превзошли все мои ожидания. Прожив несколько месяцев в Сан-Франциско, где он по старой памяти подрабатывал натурщиком в художественном училище, Алеша пришел в православный храм и крестился. Но этого было мало: еще через несколько месяцев он решил поступать в русскую православную семинарию, которая находилась в монастыре близ городка Джорданвилль на севере штата Нью-Йорк. Трое суток он ехал на автобусе через всю страну, пока не прибыл на место. Как он рассказывал, двое семинаристов на машине встретили его в Джорданвилле, чтобы отвезти оттуда в монастырь. Но, видимо, они не часто выбирались в город, так как предложили ему перед выездом угоститься с ними мороженым в местном заведении. Усевшись за стол, Алеша вытащил сигарету и закурил. Семинаристы посмотрели на него округлившимися от удивления глазами и сообщили, что у них это делать категорически запрещено. «Ну ладно, — согласился Алеша, — значит, не буду этого делать. Закончу эту сигарету — и все».
Так он бросил курить.
Я никак не мог понять, что же все-таки произошло с моим совершенно неуправляемым и недисциплинированным другом и как он мог так внезапно отказаться от всей хипповой вольницы, поместив себя в сверхжесткую систему, да еще в той самой «Синодальной» Церкви, которая, насколько я представлял себе, отстояла дальше всего от нашего хиппового вольномыслия. Более того, Алеша сообщил, что думает о принятии монашества, чем просто выбил всякую почву у меня из-под ног. Он действительно стал совсем другим: если раньше на правах старшего, более образованного и более опытного я частенько поучал его и командовал им, то теперь он вел себя со мною как старший и умудрённый человек. Он действительно знал что-то такое, чего не знал я. На многие мои вопросы он просто не отвечал, лишь улыбался и говорил, что потом я сам пойму. И это при том, что он все еще с большим трудом говорил по-английски (я-то общался уже совсем бегло) и был абсолютно неустроен. Хотя я считал, что мне весьма везет и жизнь моя складывается более чем удачно, впервые задумался, так ли все благополучно со мною, как мне казалось.
Два дня прошли быстро, Алеша уехал в свой монастырь, а я вновь погрузился в свою столь благополучную и обустроенную жизнь.
Опять про работу
Впрочем, обустроенность скоро кончилась. Весна уже подходила к концу, когда я вновь лишился работы: человек, которого я замещал, выздоровел и вернулся к своим обязанностям. А мне предстояли новые поиски заработка.
Но найти его оказалось делом совсем непростым. Стояло уже лето, мое второе невыносимо жаркое нью-йоркское лето. А летом искать работу — дело совсем гиблое. Да еще к тому же, как оказалось, многим работодателям не нравились мои длинные волосы. Но ведь не затем же я уехал из тоталитарного СССР, чтобы поддаваться на экономическое давление! Я гордо отказывался стричься. Но это все менее нравилось Бобби, которую страшно пугала перспектива стать содержательницей советского тунеядца. Напряжение в наших отношениях возрастало, и дело начинало попахивать разрывом.
Через некоторое время мне удалось устроиться кассиром в столовую. Но оказалось, я совсем не умел быстро считать деньги, все время ошибался и к концу дня со сдачей переплатил клиентам несколько долларов. Должен сказать, что некоторые возвращались и говорили, что я дал им слишком много. Но, очевидно, кто-то решил не возвращаться или просто не заметил лишних денег. Когда это повторилось несколько дней подряд, менеджер предприятия вежливо сообщил, что в моих услугах более не нуждается.
Какое-то время я, ко все большему неудовольствию весьма озабоченной моим положением подруги, пребывал безработным, пока наконец не устроился в ресторан посудомойкой. Нужно сказать, что посудомойка — самая низовая работа в Америке. Ниже ее ничего нет… Жалование минимальное: два с половиной доллара в час. Так я оказался на нулевой ступеньке социальной лестницы. Тут мои волосы никого не интересовали. Я имел полную свободу выглядеть, как я хотел. Если на это оставались силы…
В первый же день работы у меня создалось непоколебимое ощущение, что я попал в ад. Маленькая, жаркая, дымящаяся от переизбытка влаги комната без окон. В ней суетятся несколько человек. Все время приносят новые кастрюли, металлические жаровни, противни, раздаточные ложки, половники. Мы должны очень быстро их мыть и относить поварам. Но, сколько ни мой, гора посуды не уменьшается: приносят все новые и новые груды. На полу лужи: вытирать их некогда. Приходится перетаскивать в соседнее помещение громадные кастрюли с кипятком. Перед проходом сыпешь на пол соль, чтобы не поскользнуться. Несешь кипяток и думаешь: вот поедет нога – и все, прощай навеки. Первый день я проработал двенадцать часов подряд с единственным пятнадцатиминутным перерывом на обед. Домой вернулся на дрожащих ногах и сразу упал. С утра опять нужно идти на работу. Мой второй рабочий день продолжался пятнадцать часов вовсе без перерыва. Времени на обед, да что на обед — даже на перекур, не было вовсе. Стоя у раковины рядом с напарником-пуэрториканцем, я спросил его, часто ли бывают такие авралы.
— Каждый день, — ответил он.
— Ну, ничего, — говорю, — мне бы до конца лета продержаться. В сентябре начну учиться в университете и найду себе что-нибудь получше.
Через несколько минут пуэрториканец вышел, сказав, что ему надо в туалет. А по окончании рабочего дня менеджер посудомоечного цеха вручил мне несколько заработанных бумажек и сообщил, что завтра приходить уже не требуется, так как студенты тут не нужны.
Я ехал на метро домой и плакал от радости, что мне не нужно возвращаться в этот ад. Но когда я сообщил об этом Бобби, она взорвалась: «Нет у меня для тебя терпения! Если к концу недели не найдешь новую работу, не возьмешься за ум, не сможешь зарабатывать, как положено, то ты мне больше не нужен!»
* * *
Я страшно обиделся, но работу-то искать все равно было необходимо. А она не находилась. Положение делалось совсем критическим. Деньги уже подходили к концу. И тут Бобби предложила мне уехать в детский лагерь вожатым. Это был тот самый лагерь, куда она ездила в детстве и о котором у нее остались самые нежные воспоминания. Правда, как оказалось, вожатым там платили очень мало: двести пятьдесят долларов за два месяца. Может быть, поэтому оставались незамещенные вакансии, а руководство согласилось меня взять, хотя я явно им не подходил. Должен сказать, что я с детства терпеть не мог лагерей, коллективизма, отрядов и жизнь под звуки барабана и горна. Единственный раз в детстве я был в пионерском лагере, но через две недели перелез через забор и сбежал. До сих пор я с трудом выношу всевозможные коллективные мероприятия — не люблю турпоходов, совместных поездок, слетов на природе, КСП[19] и т.д. А тут мне предлагали не какую-то групповую экскурсию, но самый настоящий лагерь! Но, похоже, выбора у меня больше не оставалось, и я пошел сдаваться.
Все оказалось куда хуже, чем я думал. Лагерь был еврейским и социалистическим. Костяк его руководства составляли бывшие коммунисты, изгнанные из компартии США за критику антисемитизма в СССР. Но тем не менее отношение к моей социалистической родине у них оставалось самое трепетное. Начальница, весьма потрепанная жизнью некрасивая дама лет за сорок, сразу же заявила мне, что запрещает говорить детям что-либо плохое про Советский Союз.
— Это что — цензура? — удивился я. — Мы же вроде живем в свободной стране?
— Нет, не цензура! Просто разумное ограничение нежелательной для детей информации. Мы не хотим, чтобы у них возникло неприязненное чувство по отношению к СССР.
— Но я же могу рассказать им только правду! Мой собственный опыт. Ничего другого!
— Неважно! Это нежелательная правда. Вы считаете себя пострадавшим от советской власти, значит ваша позиция необъективна. Объективно же Советский Союз играет позитивную роль в мире, значит мы должны его поддерживать. Несмотря на мелкие недочеты, которые там есть. Но нашим детям вредно все это знать. И мы не позволим вам распространять среди неподготовленных детей антисоветские взгляды.
Вот это да! Вот это попал! К каким-то реликтовым уродам! Я хотел было развернуться и уйти, но, поймав на себе напряженный взгляд Бобби, вздохнул… и от полной безысходности остался. По крайней мере, эти ничего не говорили о необходимости стричься.
Через несколько дней я наконец-то выписался из гостиницы, где проживал с самого моего приезда в Нью– Йорк, отвез свои пожитки в подвал к Гроднеру, а Мурку к знакомым. После всех этих дел у меня оставался один доллар тридцать семь центов. С ними я и выехал в лагерь — весьма живописное место на берегу озера в трех часах к северу от города. Должен сказать, что во всех моих самых мрачных ожиданиях я не подозревал, насколько мерзкой оказалась эта клоака. Единственным нормальным человеком на весь лагерь оказался мой напарник по руководству отрядом 12-13-летних мальчиков — чернокожий студент из Берега Слоновой Кости, получивший эту работу по молодежному обмену.
Нанявшая меня на работу директриса, как выяснилось, сожительствовала с пожилым физруком. В середине лета ее муж, маленького роста курчавый еврей, заставший парочку вдвоем, тряс дюжего, дородного физкультурника за грудки посреди лагеря, а тот плаксивым голосом кричал: «Ударь меня по лицу! Я это заслужил! Я даже не дам сдачи!»
Заведующая эстетическим воспитанием детей, безобразно толстая женщина среднего возраста, сразу же после знакомства заявила мне, что она лесбиянка и находится в интимных отношениях с худосочной прыщавой поварихой. Я так и не понял, зачем она решила загрузить меня этой информацией.
Зайдя после вечерней летучки в барак, где спали мои мальчики, я застал старшую группу за сеансом коллективного рукоблудия, а на мое требование немедленно прекратить мерзость, услышал, что родители им это позволяют и даже поощряют. Я сказал, что тогда пусть делают это так, чтобы я ничего не видел, но при мне ничего подобного не будет. Еще через пару недель самый старший мальчик в группе похвастался своими родителями, которые сочли, что ему пора становиться мужчиной, и дали деньги на оплату сексуальных услуг лагерной посудомойки.
Вот и получилось, что общался я почти исключительно с Сэмом-африканцем, также постоянно дивившимся, куда он попал и как такое может быть. Он подарил мне изделие со своей родины — большой кожаный крест, который я тогда же стал носить сверху одежды. У руководства лагеря это вызвало шок, но я заявил, что они не имеют права преследовать меня за выражение моей веры, которую я лично исповедую и никому не навязываю. Почему-то это подействовало. Может быть, они ощущали некоторые угрызения совести из-за запрета на разговоры об СССР и им неудобно было показывать себя полными держимордами. Но, скорее всего, заменить меня им было некем, ведь по нормативам в каждой группе полагалось иметь двоих вожатых.
Но зато со мной стали проводить идеологическую работу, разъясняя, что Бога нет и я неправ. Но я-то уже поднатаскался, набрав много аргументов из книг Штайнера, и легко ставил своих собеседников в тупик, рассказывая им о разных необъяснимых природных феноменах. Они только и могли отвечать, что, дескать, наука этого пока объяснить не может, но рано или поздно все же ответит на эти вопросы. В конце концов на помощь был призван зам. начальницы лагеря, преподававший философию в каком-то университете.
— Как ты можешь верить в библейского Бога, — начал он, — когда авторы Библии были настолько примитивны, что считали Бога полной копией человека — с телом, руками, ногами, волосами, бородой и прочими атрибутами?
— Чушь, — ответил я. — Это ваши расхожие атеистические штампы. Все знают, что Бог — это не дедушка с бородой на ватных облаках, но Дух вездесущий, невидимый и непостижимый.
— Никакая не чушь, — обиделся мой собеседник. — В Библии написано, что Бог создал человека по Своему образу и подобию. Значит, автор Библии верил в человекоподобного Бога.
Теперь уже обиделся я.
— Нечего фантазировать! Нет там таких слов! Нет и не может быть никогда!
— А ты посмотри, — вкрадчиво предложил мой собеседник. — Вот пойди и посмотри. В самом начале Книги Бытия. А завтра мы продолжим наш разговор.
К моему изумлению, такие слова в Библии действительно оказались. Я их как-то не заметил, когда еще в Италии впервые прочитал эти страницы.
— Ладно, ваша правда, — признался я своему оппоненту. — Так действительно написано. Как это объяснить, я пока не знаю. Но точно знаю, что тот библейский Бог, в которого я верю, Бог, сотворивший этот мир и человека, не человекообразен. Я еще буду учиться и узнавать, и тогда я пойму, что значат эти слова. И тогда объясню вам!
Как же плохо было мне в этом лагере! Я был один, во враждебном окружении, среди чужих людей, чужого языка и избалованных, развратных детей! Я должен был постоянно защищаться и никогда не мог расслабиться. Тут я впервые затосковал по России и по родному языку.
Как-то дети начали спрашивать у меня и у Сэма про наши родные языки. Сэм объяснил, что его родной язык — французский. Есть еще и совсем родной, материнский язык, но он не письменный, а только устный.
— А как насчет твоего родного языка, Саша? — обратился он ко мне. — Твой русский язык письменный или тоже только устный?
— Ты знаешь, для меня он стал только письменным, — поразмыслив, ответил я. — Устный у меня теперь английский.
Но больше всего меня утешало то, что дома, в Нью– Йорке, меня ждут самые близкие мне люди: девушка, которую я почти что считал своей невестой, мой лучший друг Костя и мой самый мудрый учитель Аркадий. И я ждал своего единственного выходного, чтобы навестить их всех.
* * *
В субботу вечером я выехал автостопом в город. Когда после сложной дороги поздним вечером я позвонил в дверь квартиры Бобби и с распростертыми объятьями бросился к ней, она, оттолкнув меня, раздраженно спросила, почему я не предупредил ее о своем приезде. Я совсем потерялся, не понимая причины ее плохого настроения. Но тут в дверь позвонили, и вошел Костя. К тому времени он также подружился с Бобби (ведь она говорила по-русски), так что я даже обрадовался его приходу, который, как мне казалось, поможет снять возникшее напряжение. Но и Костя почему-то был сумрачным и уклонялся от разговора, ссылаясь на головную боль. По странному совпадению, голова болела и у Бобби. Вечернего общения не вышло, а вот утром на меня, все еще ничего не подозревавшего, обрушился тяжелый разговор. В мое отсутствие Костя сошелся с той, которая, как мне казалось, обменялась со мною хоть и не высказанным, но очевидным обещанием верности.
Я взял свою сумку и вышел на улицу. Оказалось, в Нью-Йорке делать мне больше нечего. У меня не было ни возлюбленной, ни друга, ни даже дома (туда, где я жил перед лагерем, возвращаться было нельзя). Оставался только один учитель. В ближайшем автомате я набрал его номер, но трубку никто не брал. В конце концов телефонистка общежития сообщила, что он вместе с семьей на две недели уехал на океан. Что же, пора было возвращаться в лагерь: ведь нужно было заработать хоть немного денег, чтобы осенью попытаться начать новую жизнь.
Я был один во всем мире. Все близкие мне люди находились вне пределов досягаемости — за железным занавесом в СССР. Но именно теперь я, как никогда, почувствовал, что есть Бог, который любит меня и никогда меня не оставит и не предаст. В тот день я впервые начал молиться перед сном. Это была краткая молитва: уже лежа в постели я читал «Отче наш» и налагал на себя крестное знамение.
В следующее воскресенье в лагерь неожиданно приехала Бобби. Она плакала, просила прощения, уверяла, что на нее что-то нашло из-за депрессии от одиночества, умоляла меня не порывать с ней и клялась, что с Костей покончено. Уже потом я узнал, что вслед за мною хлопнул дверью раскаявшийся Костя и она просто побоялась остаться совсем одна. Но я все простил и обещал вернуться.
Вот краткая запись того времени:
Мне приснился сон — я под Москвой… Почему-то мне снилось, что уже конец августа. Такое счастье почувствовал: Подмосковье, цветы, все друзья тут — даже не знаю, чему больше радоваться. Целый букет цветов собрал, красивых, разноцветных — маков, васильков, ромашек…
Проснулся я с радостью, вначале не понимал почему, а потом обломался. Это был так называемый sleep-out[20] с детьми. Противными, избалованными, жадными, развратными, богатыми, наглыми и жестокими американскими детьми.
* * *
В середине августа лагерь закончился. В сентябре мне предстояло начать учебу в университете, куда меня приняли еще весной и дали стипендию, покрывающую все расходы на обучение. Это был весьма известный в стране Хантер-колледж Нью-Йоркского городского университета. С учетом обучения в Москве меня приняли туда сразу на третий курс, правда обязав дополнительно заниматься английским, против чего я ничуть не возражал. Я решил закончить начатое образование и специализироваться по русской литературе.
Но предстояло еще найти какую-нибудь работу, чтобы иметь средства к существованию. И тут темная полоса моей жизни, похоже, начинала сменяться на светлую. Неожиданно позвонил Марик и предложил устроиться на его место, так как он нашел себе что-то другое. Марик трудился в клубе филателистов и уверял, что там мне понравится. Он работал на полставки — 20 часов в неделю, а платили по тем временам более чем прилично: целых пять долларов в час. Итого выходило четыреста долларов в месяц, что должно было с лихвой хватать на мою жизнь.
Мы пошли знакомиться. Клуб филателистов располагался в небольшом пятиэтажном доме в престижном районе на юго-восточной стороне Манхэттена. Дом был построен в 20-е годы знаменитым архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом и считался памятником архитектуры. В клубе работало два человека: секретарь и библиотекарь. Я должен был исполнять все остальные обязанности: уборщика, мастера-ремонтера, завхоза, курьера, дворника и гардеробщика. Впрочем, работа не была обременительной: после того как я привел весьма запущенное здание в порядок, на поддержание его требовалось не более полутора-двух часов в день. Закончив все дела, я поднимался на четвертый этаж и, сидя за антикварным столом, готовился там к университетским занятиям, а иногда даже спал на толстом ковре.
На пятом этаже располагалась квартира библиотекаря — худенькой старушки миссис Элдридж. Она работала в клубе уже почти шестьдесят лет и знала все о ценной филателистической библиотеке, которая занимала второй этаж дома. Я рассказывал приятелям, что шестьдесят лет назад филателисты выменяли миссис Элдридж на марку стоимостью в десять центов, а теперь, дескать, конкурирующий клуб предлагал за нее марку в пять миллионов долларов, но наши гордо отказались.
Филателисты собирались на свои тусовки вечерами, с утра я вытряхивал пепельницы и пылесосил ковры, а затем шел подметать улицу перед домом. Как-то к бордюру причалил роскошный белый роллс-ройс. Дверца отворилась, и из него вышел высокий статный негр в белом костюме.
— Сколько стоит этот дом? — обратился он ко мне с королевским британским акцентом.
— Не продается, — нагло ответил я ему.
— Вы для начала поинтересуйтесь, сколько я вам за него предложу, — настаивал мой собеседник.
— А я его не продам ни за какие деньги!
— Вы уверены?
— На все сто!
— Что же, ваше право, — вздохнул негр, сел в свою машину и плавно отъехал от тротуара.
Потом приятели ругали меня и уверяли, что нужно было все же продать ему дом и уехать подальше с полученными деньгами.
Несколько раз в году в клубе проходили филателистические вечеринки. Секретарь, миссис Дьюкас, заказывала еду и напитки, и мы расставляли их на третьем и четвертом этажах. В эти дни я должен был работать вечерами, за что мне доплачивали отдельно. Более того, любители марок обычно щедро одаривали меня чаевыми, а потом мы с миссис Дьюкас уносили домой остатки основательных филателистических трапез.
Университет и учеба
В общем, работа мне нравилась и почти не обременяла меня. Я ходил туда четыре раза в неделю и проводил в здании пять часов, а потом направлялся в университет, до которого было около получаса ходьбы. Учиться тоже было не слишком сложно и довольно интересно. Во всяком случае, на лекциях по русской литературе я имел возможность познакомиться с другими точками зрения, отличными от тех «единственно верных», которые навязывались нам в СССР. Я читал много эмигрантской литературы и капитально прорабатывал авторов Серебряного века, многие из которых были совершенно недоступны в Союзе. Настоящим открытием для меня стал Набоков, и в течение долгого времени я был под обаянием его отточенной филигранной прозы. Постепенно начал читать и английскую литературу, вначале современную, а потом и классику XIX века.
Одним из моих профессоров, проводивших семинары по русской религиозной мысли от средневековья до наших дней был Эндрю Блэйн, официальный биограф отца Георгия Флоровского. Мы приходили на семинары к нему домой — в одноэтажный особнячок, спрятанный в незаметном дворике между двумя массивными зданиями в модном районе Гринвич-Виллидж. Жить в таком месте мог позволить себе лишь очень состоятельный человек. Домик профессор Блэйн делил с соседом. Каждому из них принадлежало по квартире комнат на пять с отдельным входом. Как-то мы столкнулись с этим соседом во дворе. «Познакомьтесь, это Иосиф», — сказал мне преподаватель.
Я пожал руку невысокому сутуловатому человеку со смутно знакомым лицом. Так единственный раз в жизни я встретился с Бродским.
* * *
Наверное, стоит сказать несколько слов об американской системе образования. В те годы бытовал такой стереотип (да и сейчас он никуда не делся), что среднее образование в Америке намного слабее, нежели в СССР (теперь в России). Те, кто верили в него, очень любили сравнивать американских школьников и школьников российских. Из этого вырастает представление о среднестатистическом американце: мол, сама система образования в Америке такова, что, являясь специалистом в одной области, американец дальше этого своего круга выходить не хочет и не может.
Однако в жизни все несколько сложнее. Во-первых, потому что американское образование в разных местах очень разное. Во-вторых, потому что и наше тоже. Одно дело, если мы говорим о московской спецшколе, и совсем другое – если речь о школе, скажем, села Дубки Талдомского района. Честно говоря, я не уверен, что школьник села Дубки Талдомского района (если, конечно, такое село в Талдомском районе есть) покажет более высокие результаты в сравнении с выпускником американской школы из какой-нибудь равнозначной глубинки. Конечно, если только он не Ломоносов. Да и в Америке в глубинке школы гораздо лучше, чем где-нибудь в нью-йоркском Гарлеме. В том-то и дело, что американские школы очень сильно отличаются друг от друга. Есть государственные, есть частные. На падении качества первых сильно сказывается введенная в 70-80-х годах система автобусных перевозок. Традиционно в районе, где живут белые, школы лучше, а в районах проживания чернокожих[21] школы хуже. Теперь же, чтобы уравнять всех в возможностях, одних возят туда, других сюда. В результате получается хуже и там и тут. Что касается частных школ, то они, как правило, очень дорогие, и образование в них весьма и весьма сильное. Но опять-таки, и эти школы также все разные. В России, мне кажется, с развалом советской системы образования ситуация приближается к американской. Другое дело, что при нашей системе образования ученик средней советской школы традиционно получал больше знаний (особенно в точных науках и технических дисциплинах), чем ученик средней американской. Но, при всех своих недостатках, американская школа учила самостоятельному мышлению, то есть тому, что совершенно отсутствовало в насквозь заидеологизированной советской школе.
Высшие учебные заведения в Америке тоже очень разные. Есть элитные университеты. Образование там очень хорошее, но система обучения крайне жесткая, потогонная и с сильной конкуренцией. Поэтому учиться в хорошем учебном заведении чрезвычайно сложно.
Совмещать учебу с работой еще сложнее, хотя часто приходится это делать. Как правило, во время длинных летних каникул (три полных месяца) все американские студенты (даже из состоятельных семей) работают: образование очень дорогое, и платят за него родители, но при этом считается, что сам студент должен внести свой посильный вклад и почувствовать цену заработанной копейки. К примеру, труд официанта считается типичной студенческой работой: нестандартные часы и гибкий график идеально подходят к университетской жизни.
Как я уже сказал, американская система обучения по природе своей конкурентная, особенно в хороших университетах, так что у студентов здесь гораздо меньше шансов бездельничать весь семестр и садиться за учебники только перед сессией. Во-первых, экзамены есть и между сессиями. Во-вторых, к каждому занятию приходится готовиться. Если вы этого не делаете, то очень скоро это станет заметно. В-третьих, за образование вы платите деньги, а за свои деньги всегда стараешься получить тот максимум, который только возможен.
Однако стандартной системы высшего образования как таковой в Америке нет. Все университеты отличаются друг от друга, и подавляющее большинство из них — частные. Что-то более или менее общепринятое, конечно, есть, но совершенно не обязательно, что в том или ином вузе это «общепринятое» не будет выглядеть иначе.
Как правило, каждый студент сам составляет программу своего обучения, что для сознательного и целеустремленного человека может быть очень хорошо. Но большинство зачастую не в состоянии понять, что им нужно для всестороннего и более насыщенного образования. Факультетов в университетах нет. Студенты поступают просто в университет и могут записываться на курсы, предлагаемые любым отделением или любой кафедрой (исключение составляют лишь, пожалуй, медицинские и юридические школы, где бо́льшая часть изучаемых предметов — обязательная). Система такова, что за годы обучения вам нужно набрать определенное количество «кредитов», то есть баллов. Чаще всего это число составляет 120 или 140 баллов. Каждый курс оценивается отдельно, в зависимости от сложности, и напротив каждого курса всегда указано соответствующее число баллов. В большинстве университетов баллы необходимо набирать в разных областях знаний: столько-то в точных науках, столько-то в естественных, в социальных, в языках и т.д. В каждой области есть большой список курсов, на которые можно записаться, — это уже по выбору. Главное — набрать установленное число кредитов в каждом разделе.
В целом же университетское образование рассчитано на четыре года. Можно учиться и дольше, можно и быстрее, но это уже сложно: работать приходится очень много. Обычно первые два года считают базовым образованием: получая его, студент может принимать решение о своей будущей специальности — кредиты набираются в различных сферах знаний. К моменту окончания второго курса необходимо определиться: какой предмет будет главным, а какой побочным. По главному предмету нужно набрать, скажем, сорок кредитов и еще двадцать по побочному. Этим студент и занимается оставшиеся два года. На первый взгляд, все вполне приемлемо. Но хороший результат бывает не всегда. Например, я знал студента, который из разных областей знаний выбрал себе вышивание, народные танцы, рисование, «науку о человеке» и так далее, то есть в каждой области набирал что-нибудь попроще. Чему он в итоге научился за это время?
* * *
Но даже для выпускников хороших университетов характерна такая особенность: приобретая свою специальность, студент настолько выкладывается, что на другое у него не хватает времени. Вспомним молодого человека, о котором я писал в начале книги. За три года до встречи со мной он окончил очень престижный университет по специальности «журналистика». И был так счастлив, что с тех пор не прочел ни одной книжки. Его можно понять: действительно, по каждому курсу ему приходилось прочитывать огромное число книг, в неделю по несколько тысяч страниц. Но все же, чтобы чтение настолько надоело, нужно очень сильно постараться. Конечно, в России такое тоже может произойти, но человек это, скорее, скрывал бы. А американец честно похвастался.
В Советском Союзе моего детства было особое отношение к книге: было принято читать и предполагалось, что любой человек, считающий себя интеллигентом, имеет дома хорошую библиотеку и всегда в курсе всех новинок. В Америке отношение к книге совсем другое, и надо сказать, что наши эмигранты тоже постепенно отходили от привезенных из отечества устоев.
Эмиграция — это своего рода момент истины. Человек сталкивается со сложным испытанием: разваливается семья, расстраивается жизнь… Все буквально начинается заново. Человек с высшим образованием приезжает в Америку, но ему приходится работать на простой, низкооплачиваемой работе. Постепенно он выучивает язык, обрастает связями, приспосабливается к новой жизни и наконец получает должность инженера. И тут он вдруг обнаруживает, что в среде инженеров никто особенно книг не читает и совсем не страдает от этого. Каждый занимается тем, что ему больше по душе: садоводство, рыбалка и т.д. У каждого свое хобби. Может, у кого-то и обнаруживается такое хобби — читать книжки. Но это именно хобби, наравне со всеми остальными занятиями, и ничего более. И тут человек говорит себе: а зачем, собственно, читать? Зачем мучиться? В компанию и без этого принимают, ущербным тоже никто не назовет… В России — другое дело: круг обязывает, положение обязывает. В Америке никто не обязывает, поэтому там читают только те, кто действительно хочет читать. В некотором смысле, наверное, это хорошо: по крайней мере, человек чувствует себя свободным н не лицемерит, занимаясь тем, к чему у него совершенно не лежит душа.
На книжной полке у читающего американца, скорее всего, вы найдете стандартный набор мировой литературы. Это, конечно, и его любимые книги, но Достоевский там будет непременно. А вообще серьезные книги в Америке издаются сравнительно небольшим тиражом — для тех, кто их действительно купит, чтобы прочесть, а не просто поставить на полку. Правда, есть и те, кто украшает книгами свой интерьер. Но такие приобретают толстые тома в кожаных переплетах, особо не вникая в содержание этих книг. Я даже видел в богатых домах потертые кожаные тома «под старину», на самом деле пустые внутри, которые используются для хранения бутылок с любимыми (иногда тоже старинными) напитками.
Книжные магазины в Америке бывают и большими и не слишком, но всегда очень интересными. Есть такие, которые выглядят, как целый город, необъятный, где можно ходить-бродить, отыскивать самые разные, самые интересные книги. В больших магазинах, как правило, можно найти даже те книги, что были изданы очень маленьким тиражом. Вообще, Америку можно назвать книжным раем, потому что здесь можно купить даже весьма редкую книгу, причем в ближайшем к вам магазине. Обычно я регулярно наведывался в несколько книжных магазинов: смотрел, искал и находил то, что нужно. А ведь есть еще букинистические магазины, секонд хэнд, где всегда можно найти что-то интересное по бросовым ценам. Часто это книги отличного издания, в хороших переплетах, красивые: они просто залежались на полках и потому уценены. Если часто ходить в магазины, то в течение года можно в конце концов найти любую книгу. Так постепенно удавалось собрать хорошую библиотеку. То есть достать любое издание — это не проблема, вопрос только в цене и во времени. Чем быстрее вы хотите получить книгу, тем дороже это будет стоить.
В хороших магазинах продавцы, как правило, сведущие, начитанные — интеллектуалы, с которыми можно подробно поговорить о достоинствах того или иного издания. И эти роскошные книжные магазины — неотъемлемая часть любого большого американского города, но особенно Нью-Йорка.
Про Нью-Йорк и его нравы
К тому времени я полюбил Нью-Йорк. Еще начиная с моего курьерского бытия я много ходил по городу пешком, и мне открывались самые неожиданные его уголки, незаметные беглому взгляду. Удивительно, но постепенно он все больше казался мне похожим на Москву. Например, многоквартирные дома, построенные в начале века в стиле модерн, хотя в Нью-Йорке их возводили значительно более высокими, чем в Москве. Есть в городе и свои укромные садики, и роскошные парки, и неожиданно интересные здания, и уютные уголки. И чем дальше, тем больше мне открывалось непривычных черт этого удивительного, ни на что не похожего города.
* * *
Тут нужно пояснить, что Нью-Йорк состоит из пяти громадных районов, каждый из которых имеет свое самостоятельное управление: Манхэттен, Бруклин, Квинс, Бронкс и Статен-Айленд (первые четыре русские эмигранты уютно обозначили как Мохнатан, Брюквинск, Квинск и Брянск). Бронкс расположен на материке, остальные четыре района — на островах. Из них, строго говоря, Нью-Йорком является только Манхэттен, который и в почтовом адресе обозначается как Нью-Йорк, Нью-Йорк (N. Y., N. Y.) или просто Нью-Йорк-Сити (N. Y. С.). Он вполне самодостаточен, и если вам посчастливилось там поселиться, то выезжать оттуда никакой необходимости нет – это целый мир в себе, в котором есть все, что необходимо для жизни, и все, что только можно пожелать. Манхэттен — длинный и узкий остров, южный конец которого омывается Верхней бухтой океана, а в нее впадает река Гудзон, отделяющая его от материка с запада. На другом берегу — соседний штат Нью-Джерси. На северо-востоке Манхэттен отделен от материка (район Бронкс) рекой Харлем. На востоке и юго-востоке его отделяет от острова Лонг-Айленд (в его ближайшей к Манхэттену части расположены Бруклин и Квинс) пролив Ист-Ривер. Длина Манхэттена — 21 км, а ширина — от 3,7 км до нескольких сотен метров. Остров небольшой, а население его очень плотное (чуть ли не самое плотное в мире). Вот он и растет ввысь. Этому способствует и то, что весь Манхэттен — гранитный, лишь слегка присыпанный землей. Во многих местах порода выходит на поверхность. Поэтому громадные здания можно ставить на совсем неглубокие фундаменты. В центре острова — огромный прямоугольник Центрального парка, чуть ли не самого большого городского парка в мире, на территории которого, как говорят, могут разместиться два княжества Монако.
Кроме самой южной и самой северной частей острова, на большей его части все проезды и проходы нарезаны сеткой с юга на север и с запада на восток. Вертикальные артерии называются авеню (расстояние между ними — одна десятая мили, то есть 160 метров), а горизонтальные — улицы (расстояние между ними одна двадцатая мили, то есть 80 метров). Единственное исключение составляет Бродвей, пересекающий всю длину острова по диагонали. Все, что к востоку от Пятой авеню называется Восточной частью, а к западу — соответственно, Западной. По нумерации домов легко определить их расположение. И улицы, и авеню пронумерованы: улицы с юга на север, а авеню — с востока на запад. Впрочем, у некоторых авеню числовые обозначения с течением времени были заменены на названия, но общий принцип остается тем же.
Нью-йоркское метро, наверное, самое большое в мире. Оно сложилось из трех независимых транспортных систем и поэтому может показаться довольно запутанным, особенно сначала. Но зато оно работает 24 часа в сутки и, несмотря на довольно утилитарный (абсолютный минимум декора), а местами и весьма мрачный вид, обладает своим особым шармом и даже романтикой.
Характерная особенность Манхэттена, да и всего Нью-Йорка — отсутствие у него центра. Обычно американцы называют центр города даунтауном[22], но в Манхэттене это слово понимается буквально: оно означает нижнюю — южную часть острова, в то время как аптаун[23] означает северную часть. Кроме того, оба слова обозначают направление движения: с севера на юг или с юга на север. Но что можно назвать центром? В географическом центре острова — прямоугольник Центрального парка. Если, как в европейских городах, под центром подразумевать самую древнюю часть города, то это южная оконечность острова, так называемый финансовый район, целиком застроенный небоскребами. Именно в нем находится знаменитая Уолл-Стрит и центральная биржа на ней. От старых времен там осталось только две небольших церквушки: епископальная и католическая. В первой обозначена скамья, на которой сидел и молился Джордж Вашингтон. Днем этот район кишит многочисленными толпами, а вечером поражает абсолютной пустотой: здесь не живет никто, люди приезжают только на работу. После шести-семи вечера тут закрывается все, и улицы превращаются в мертвую зону с немногочисленными группками туристов, сиротливо жмущихся друг к другу.
Выше находится артистический район Сохо, где в 70-е годы не слишком богатые художники и альтернативные галерейщики стали осваивать заброшенные фабричные помещения. Теперь это богемный район с высокими ценами на недвижимость. Еще выше — Гринвич-Виллидж, некогда оплот битников и хиппи, а ныне один из наиболее роскошных районов города. В нем находится бо́льшая часть зданий Нью-Йоркского университета. Двадцатые-тридцатые улицы заняты одежной промышленностью и залами для показа мод. В районе сорок второй улицы, на пересечении ее с Бродвеем, — театральный район. В мое время сорок вторая улица, точнее, отрезок ее в восточной части острова, была самым злачным местом города, пестревшим порномагазинами и соответствующими «заведениями» и отличавшимся высоким уровнем преступности. Теперь, правда, это сильно изменилось, все «заведения» были вытеснены оттуда, и район облагородился. В районе 80-х улиц на тянущейся вдоль парка Пятой авеню находится музей Метрополитен, сравнительно небольшой, но с исключительно богатой коллекцией, музей Frick Collection, Музей современного искусства Гуггенхайма и еще несколько важных музеев — так называемая «музейная миля». Напротив, на западной стороне — мечта любого ребенка: громадный Музей естественной истории со скелетами бронтозавров и массой прочих экспонатов. Выше — в районе сто десятых улиц — расположился Колумбийский университет, один из лучших в стране. К востоку и к северу от него находится знаменитый негритянский район Гарлем, куда, как сразу меня предупредили, белому нельзя и носа казать. Еще севернее Гарлема — солидный буржуазный район Вашингтон Хайтс. Ну и где тут, скажите на милость, центр? А я ведь не перечислил еще этнические районы — китайский, итальянский, еврейский, немецкий и т.д., каждый из которых является центром в себе!
* * *
Вообще, национальные общины до сих пор весьма сильны в этом городе. У каждой из них свои сферы влияния, которые делают город похожим на огромный слоеный пирог. Скажем, полицейские — это в основном ирландцы, которые в начале XX века стали допускать к себе итальянцев (для работы с мафией), а теперь и чернокожих с латиноамериканцами для патрулирования соответствующих кварталов. Но ключевые полицейские должности ирландцы до сих пор удерживают за собой. Мусорщики (очень денежная профессия) — итальянцы. Ювелирка и индустрия мод — евреи (правда, последнее время их довольно сильно там теснят индусы). Евреям также принадлежит большая часть развлекательного бизнеса. Почти все крупные банки в руках «васпов»[24] — коренной нации, и т.д.
* * *
Каждый из остальных районов — также мир в себе, со своими архитектурными достопримечательностями, парками, музеями, дорогими районами и трущобами. Из всего нью-йоркского конгломерата самый малозначащий район — Статен-Айленд. Этот остров расположен на отшибе, на выходе из бухты в океан. Метро туда не ходит и добраться до него можно только на пароме. Это почти целиком спальный район, его бо́льшая часть застроена скромными односемейными домиками. Зато все остальные районы тесно связаны между собой транспортными артериями, которые проходят как по мостам, так и по туннелям под реками. В советское время бытовало газетное клише: «Нью-Йорк — город контрастов». Как оказалось, оно очень точно передает впечатление от города, в котором самые дорогие, купающиеся в роскоши районы буквально через квартал сменяются трущобами и наоборот, как будто где-то были прочерчены невидимые границы. Эти границы с течением времени могли перемещаться в ту или иную сторону, но контрастность подобных перепадов оставалась всегда. Например, богемный Гринвич-Виллидж резко переходит в полутрущобный Ист-Виллидж с высоким уровнем преступности; улица бомжей и пьяниц Боуэри упирается в артистическое Сохо, а сверхблагополучный Аппер-Ист-Сайд (Верхняя Восточная сторона) отделяется 96-й улицей от Восточного (испанского) Гарлема, куда белым заходить считалось самоубийственным.
* * *
В 70-е годы в городе еще очень бросались в глаза остатки этническо-профессиональных кварталов. Есть они и сейчас, но выражены менее резко. Скажем, Лоуэр-Ист-Сайд (Нижняя Восточная сторона) делили между собой евреи-ортодоксы и украинцы. Чуть выше — китайский и итальянский кварталы. Про Сохо и Гринвич-Виллидж я уже писал. На роскошной Пятой авеню, в той части ее, которая примыкает к Центральному парку, располагались квартиры англо-саксонских миллионеров (например, семья Холдена Колфилда из «Над пропастью во ржи» жила именно там), а напротив, на Сентрал-Парк-Уэст — миллионеров еврейских (там находилась квартира моего Григория Осиповича). На Аппер-Вест-Сайде (Верхняя Западная сторона) селились профессора, писатели, журналисты и прочая интеллектуальная элита, а на еще более дорогом Аппер-Ист-Сайде —преуспевающие банковские и офисные работники. Гарлем был поделен на негритянскую и испанскую (латиноамериканскую) половины. На севере, в Вашингтон-Хайтс, жили немецко-скандинавские эмигранты и секулярные евреи. Еще более заметно были поделены по этническо-профессиональному признаку другие четыре района Нью-Йорка.
* * *
Я записал тут всего несколько примет этого города — самого необычного города мира, центра вселенной, который не является столицей не только страны, но и даже штата Нью-Йорк, самого «неамериканского» из всех американских городов (более половины его жителей говорят по-английски с акцентом), и тем не менее символа Америки для всего мира. Город, в котором никого ничем невозможно удивить. Как-то по улице с интервалом примерно в минуту мимо меня прошли сикх в тюрбане, православный священник в рясе, хасид в лапсердаке, панталонах до колена и шапке-колесе с меховой опушкой, полуголый йог в набедренной повязке, клоун в цветном балахоне и с красным носом, кришнаит в дхоти и наконец шаман в перьях и мехах. Прохожие даже не оборачивались. Нью-йоркцы привыкли ко всему — ходи как хочешь, дело хозяйское! Такой вот город…
Вся остальная Америка по сравнению с ним кажется дремучей провинцией: и университетский Бостон, и столичный Вашингтон, и промышленный Чикаго, и богемный Сан-Франциско, и целлулоидно-киношный Лос-Анджелес. И несомненно, среди всех американских городов Нью-Йорк, будучи совсем не европейским — его даже трудно назвать городом в европейском смысле этого слова, — ближе всего к Европе. И главное, ты можешь жить в нем, оставаясь самим собой, и никто не будет воспринимать тебя чужаком. Да и как, если каждый второй сам говорит с акцентом! Мне рассказывали про старого китайца, встреченного в китайском квартале (Чайна-Таун)[25] группой эмигрантов из СССР. Он всю жизнь прожил в Нью-Йорке и при этом ни слова не говорил по-английски. Но зато бегло болтал на идише и был уверен, что это и есть английский!
Я гордился своим знанием города и его обитателей. В метро я почти безошибочно мог вычислить, кто из пассажиров будет выходить на следующей остановке и, соответственно, чье сидячее место освободится.
Я совсем свыкся с разнообразием лиц, типажей, рас, народов и даже переставал его замечать. Едешь в вагоне подземки, рассматриваешь пассажиров напротив и думаешь, например, как эти американские уставшие рабочие женщины с бессильно лежащими на коленях натруженными руками похожи на таких же женщин в московском метро… И лишь потом замечаешь, что они негритянки или пуэрториканки.
* * *
Самое неприятное, что есть в Нью-Йорке, — это его климат. Лето там невыносимо жаркое и влажное. Неделями температура держится вокруг отметки сорок градусов при влажности более 98 процентов. Эта влага, вкупе с нагретым асфальтом и выхлопами от кондиционеров, не дает жаре спасть ночью, так что прохладных передышек не бывает вовсе. Частые ливни не приносят облегчения, но лишь усиливают эффект парилки. Выносить все это крайне сложно, и при малейшей возможности я стремился летом сбежать из города.
Помню, в какой-то невозможно жаркий и душный летний день мы с приятелем поняли, что если срочно не отправимся на пляж, то растворимся в собственном поту. Добирались на метро часа полтора и, в конце концов, приехали. С океана дул освежающий ветерок, температура ощущалась на несколько градусов ниже. Мы искупались и ожили. Но тут небо резко затянуло черными тучами, и стеной хлынул тропический ливень. Мы мгновенно промокли насквозь и отчаянно замерзли, так что я даже с тоской стал вспоминать манхэттенскую жару. В кондиционированном вагоне метро нам в мокрых шортах и футболках согреться не удалось. Я стучал зубами и искренне не понимал, как же это можно было устать от жары. И вот, наконец, мы дома. Пять минут я согревался, а затем с тоской стал вспоминать блаженный холод.
Зима — холодная и ветреная. Температура, как правило, не слишком низкая (во всяком случае, по московским меркам), но влажность и ветры делают холод пронизывающим, так что коченеешь мгновенно. В прогнозах погоды обычно указывают две цифры: температура по градуснику и (с учетом ветра и влажности) — по ощущениям. Последняя цифра часто может колебаться между тридцати– и сорокаградусной отметкой (разумеется, со знаком минус).
Ровные улицы с высокими домами по сторонам создают аэродинамический эффект, многократно увеличивающий силу ветра, так что иной раз сквозняк даже сбивает с ног прохожих. На южной оконечности Манхэттена раньше каждую зиму протягивали канаты, чтобы пешеходы могли держаться за них.
Снег лежит недолго, потом тает, потом выпадает опять. В середине зимы может резко потеплеть градусов до пятнадцати или даже двадцати, а затем вновь все занести бураном.
Весны практически нет. Так погода и скачет: тепло-холод — до мая (даже в конце апреля может все засыпать снегом), а там резко наступает палящая жара.
Единственный комфортный сезон в Нью-Йорке — осень. Во второй половине сентября жара начинает спадать и устанавливается теплая, ясная и сухая погода, которая может продлиться до конца ноября или даже до середины декабря. Ночи делаются прохладными, но дневное солнце хорошо прогревает воздух. После середины октября леса и парки расцвечиваются фантастически яркими, люминесцентными красками, несопоставимыми со скромным осенним увяданием родной мне среднерусской природы. Это колористическое буйство длится до середины ноября, пока деревья полностью не обнажаются. Первый снег обычно выпадает в конце декабря, а то и в январе.
* * *
Когда я водил по Нью-Йорку приехавших в гости друзей, то начинал знакомство с городом в Бруклин-Хайтс — ближайшей к Манхэттену части Бруклина. Один из самых дорогих районов города, он сохранил историческую застройку конца XVIII – начала XIX века. Тихие улочки, усаженные древними вязами, буками, кленами, платанами и каштанами, обрамлены рядами «браунстоунов»[26] — облицованных большими коричневыми камнями трех-, пятиэтажных домов с наружными ступенями на бельэтаж. Я показывал своим гостям главную торговую улицу района Montague Street (улица Монтекки) и расположенное на ней кафе «Капулетти» и опять углублялся в тихие улочки старой колониальной Америки. И когда мои гости привыкали к этой неброской провинциальной атмосфере, я неожиданно выводил их на Променад — просторный деревянный настил вдоль реки. По ту сторону горизонт заслонял футуристический пейзаж южной оконечности Манхэттена с двумя торчащими вверх белыми башнями-близнецами Центра всемирной торговли, окруженными целым лесом меньших небоскребов. Слева простиралась расширяющаяся водная гладь бухты со статуей Свободы, навеки задравшей руку с факелом, и низким Статен-Айлендом за ней, а направо, за ажурной вязью тросов Бруклинского моста, сколько видел глаз, шла высотная застройка Манхэттена. Потом мы шли по пешеходной дорожке этого удивительно красивого моста с его готическими арками, к которым крепилась паутина стальных канатов. Под нами оставались уродливые сторожевые башенки иеговистов, а впереди постепенно приближался Манхэттен. На переднем плане возвышались небоскребы, возведенные в 20-х годах прошлого века, во многом ставшие прототипом для сталинских высоток, построенных двумя десятилетиями позже. Именно этим мостом столь восторгался Маяковский, который при этом внес в свой восторг необходимую нотку классовой трагедии, заявив, что «отсюда безработные в Гудзон бросались вниз головой». Вообще-то, Бруклинский мост перекинут через Ист-Ривер, и чтобы попасть в Гудзон, безработным пришлось бы пролететь через весь Манхэттен в самой широкой его части… Затем прогулка продолжалась по узким темным улочкам между заслоняющими свет небоскребами в финансовом центре, откуда можно было выйти на самый кончик острова и всего за двадцать пять центов съездить на пароме до Статен-Айленда и обратно. Удивительное дело — паром все отдалялся от Манхэттена, а небоскребы не уменьшались, продолжая нависать над тобой. Было в этом величественном рукотворном пейзаже что-то нереальное, искусственное, как в театральной декорации. Но все равно он не мог не поражать воображения. Паром проходил мимо Либерти-Айленда со статуей Свободы (поездка на экскурсионном катере до него стоила долларов десять) и в конце концов причаливал к пункту назначения. Поездка в обратный конец не стоила ничего. Я весьма гордился, что знаю этот дешевый способ полюбоваться всеми достопримечательностями.
И потом уже, вернувшись на берег, можно было вести гостей на север, показывая интересные здания и рассказывая о районах, по которым пролегает маршрут. Были и другие прогулки — по иным частям города. Самых стойких я провозил на метро по Южному Бронксу. Там, как и во многих других местах, линия метро проходила над городом — по специально построенному виадуку, и поезда шли на открытом воздухе. С обеих сторон, остановка за остановкой, обгоревшие остовы многоэтажных домов перемежались с заросшими травой пустырями. Мы с приятелями называли этот район Сталинградом. А на севере того же Бронкса привольно раскинулись дорогие пригородные кварталы, а чуть южнее их — живой и интересный итальянский район, куда менее туристический и, значит, куда более аутентичный, чем «Маленькая Италия» на юге Манхэттена.
* * *
В самом дальнем углу Бруклина, на берегу океана, рядом с развлекательным комплексом Кони-Айленд постепенно начинал заселяться и обустраиваться «русский» район Брайтон-Бич. Поскольку селились там в первую очередь одесские евреи, через несколько лет он получит второе название: «Маленькая Одесса».
Помню, как мы с группой американских приятелей впервые приехали на экскурсию на Брайтон-Бич. Главная улица этого района проходила под метроэстакадой, что не добавляло ей привлекательности. Зато ровно в квартале от нее находится просторный песчаный пляж, отгороженный от жилых домов широким деревянным настилом для прогулок, тянущимся в бесконечную даль. Тогда на весь район, еще весьма запущенный и заселенный в основном пуэрториканцами, было всего два-три начинающих русских магазина и ресторана. В один из них мы и отправились пообедать.
Темный зал был весь задрапирован красным плюшем, отчего он напоминал нечто среднее между борделем и президиумом партийного собрания. Мы сели за столик. Через некоторое время к нам растерянно вышла средних лет толстая официантка со сверкающим между густо напомаженных губ золотым зубом. По-английски она не говорила. Пришлось мне переводить. Кто-то попросил пива. «Пиво у нас есть двух сортов, — поведала дама. — Один в баночках, другой в бутылочках».
Мы заказали бутылочки.
Когда их принесли, одна оказалась полной лишь наполовину. Мы указали на это официантке. «Ах, извините, — смутилась она, — я думаю, из этой бутылочки просто уже кто-то попил…»
Такие тогда там были простые нравы.
* * *
Вообще, русские в многоязычном Нью-Йорке встречались тогда довольно редко. С моими длинными волосами и нестандартной одеждой я не выглядел типичным эмигрантом из СССР, и те немногие соотечественники, которые мне встречались, не признавали во мне земляка. Помню, как в метро двое русских, сидящих напротив, подробно обсуждали мою внешность. На мне был старинный китель, на котором все пуговицы были разными, в их числе и несколько антикварных. Но их больше всего интересовало, откуда я достал солдатскую пуговицу с пятиконечной звездой, также пришитую к моему кителю. В конце концов они сошлись во мнении, что я купил ее за громадные деньги на черном рынке, сочтя, что иметь такой раритет очень модно.
Весьма забавная встреча случилась у меня как-то зимой. Меня остановил прохожий с отчаянной решимостью во взоре. На его голове красовалась ушанка, а зубы были прорежены золотыми «фиксами», так что происхождение его угадывалось с первого взгляда.
— Мэдисон авеню, — заорал он мне с ярко выраженным русским акцентом, — вер[27]?
— В ту сторону, — ответил я ему по-русски.
Однако он был настолько напряжен необходимостью общаться с аборигеном на почти незнакомом ему языке, что не заметил родной речи, наверное, впрочем, подсознательно порадовавшись, что так хорошо понимает по-местному.
— Лонг? Лонг? [28] — повторил он несколько раз.
Я понял его.
— Нет, совсем рядом. Всего четыре квартала.
— Сенькю,[29] — вздохнул он с облегчением.
— Не стоит благодарности, — широко улыбаясь, проговорил я.
И только тут до моего собеседника, что называется, дошло.
— Вы говорите по-русски? — ошеломленно выговорил он.
* * *
В те далекие годы встретить за границей граждан СССР было большой редкостью. К тому же, все они ходили группами и панически боялись заговаривать с местными жителями. А услышав русский язык, выездные соотечественники обычно еще более стремительно убегали, боясь, что сейчас начнется страшная антисоветская провокация, о которых их предупреждали на предварительных беседах в парткоме, блестяще спародированных Высоцким: «Там шпионки с крепким телом, ты их — в дверь, они — в окно…»
В качестве примера не могу не вспомнить две хулиганские истории из моей жизни, связанные со встречами с советскими туристами за границей. Одна из них произошла в Нью-Йорке году в 1978-м, когда я прожил в Америке еще совсем недолго. Со своими волосами до середины спины, камуфляжной курткой и уже упомянутыми высокими сапогами я полностью вписывался в локальный городской пейзаж. Заподозрить во мне советское происхождение было крайне сложно.
И вот на улице города я заметил группу советских туристов — явление тогда и в том месте крайне редкое. Даже в Болгарию было достаточно сложно попасть, а в какую-нибудь Венгрию — и подавно. Далее в этой номенклатуре следовала Югославия, затем, если я не ошибаюсь, «развивающиеся страны», потом государства Западной Европы, а уж в США пускали только самых проверенных и заслуженных товарищей.
А тут целая группа! Состояла она сплошь из коренастых дядек средних лет весьма обкомовского вида. Их куда-то вели, а поскольку мне было в ту же сторону, я шел за ними несколько поодаль. И вдруг я заметил, что двое отстали. Загляделись на какую-то витрину и не заметили, что группа уже ушла вперед. Я поравнялся с ними и по какому-то наитию (еще несколько секунд назад я ничего такого не планировал) строго произнес: «Товарищи, почему вы отстали от остальных? Вы что, не знаете, в какой стране находитесь? Кучнее держитесь, кучнее! Немедленно присоединитесь к группе!»
Не знаю даже, откуда в моей памяти всплыло уродливое слово «кучнее», но бедолаг как током передернуло. Они покраснели, побелели, встали навытяжку и хором сказали: «Извините, пожалуйста, товарищ! Обещаем, что больше такого не повторится». И бегом, несмотря на свои обширные габариты, припустили к своим.
Наверное, если они еще живы, до сих пор рассказывают домашним об эффективности бывшего КГБ, агенты которого в самом сердце США под видом местных хиппи «пасли» советские группы.
* * *
Другая встреча произошла много позже, в 1982 году, в июне, когда мы с другом путешествовали автостопом из Лондона на Афон. Нагруженные своими рюкзаками, мы выбирались из Амстердама. Чтобы начать ловить машину, необходимо выйти за границы города, к выезду на автостраду, и там можно уже поднимать палец. Было раннее утро. На самой окраине мы увидели группу людей в красных спортивных костюмах, которые, стоя широким кругом, делали утреннюю зарядку. На их груди и спине белели буквы, складывающиеся в английскую аббревиатуру Си-Си-Си-Пи, что-то смутно мне напоминавшую. Подойдя поближе, мы услышали слова одного из них, явно старшего: «Ноги на ширине плеч, руки в стороны…» и тому подобное. И вдруг я сообразил, что слова произносились по-русски! Тут же разрешилась и загадка странной аббревиатуры: она состояла не из латинских, а из русских букв и значила, конечно, СССР! Видно, это была советская спортивная команда, приехавшая в Голландию на соревнования.
И опять, проходя мимо, я совершенно без какого-либо предварительного плана, что называется, на автомате, выдал дикторским голосом: «С добрым утром, дорогие товарищи! Московское время семь часов тридцать минут. Начинаем утреннюю гимнастику!»
Вся группа застыла в немой сцене ровно в той позе, в которой застали каждого мои слова. Лишь один из спортсменов ответил было (видно, тоже на автомате): «С добрым утром…», но тренер на него свирепо шикнул, и все продолжали стоять без движения, провожая нас взглядом, покуда мы не скрылись за углом.
Я переезжаю
Однако пора вернуться к моей тогдашней жизни. Учеба шла хорошо, работа мне нравилась, встречи с Аркадием возобновились. Он по-прежнему подсовывал мне эзотерическую литературу, а я исполнял его поручения, главным образом заполнял бесконечные анкеты для получения им грантов или развозил по адресатам какие-то посылки и передачи. Он продолжал авансом уверять меня, что я талантливый писатель, и уговаривал начать писать прозу и стихи. Некоторые из этих опусов сохранились до сих пор. Подавляющее большинство из них я предпочитаю никому не показывать. Гроднер также подробно расспрашивал меня о хипповой жизни и делал заметки, как он говорил, для своей новой книги. Почему-то больше всего его интересовала сексуальная сторона: об этом он допытывался особенно дотошно. При всем моем тогдашнем благоговении перед учителем, я не мог не вспомнить, что тем же самым в первую очередь интересовались подвозившие нас в России шоферы-дальнобойщики и люмпенизированные соседи по камере предварительного заключения в Херсоне. Но я гнал от себя эти мысли, не позволяя им развиваться в выводы.
Одновременно с чтением эзотерической литературы я открыл для себя русскую религиозную философию и погрузился в нее. Больше всего я читал Розанова и Шестова. Эти два совсем разных автора очень увлекли и вдохновили меня. Но все же, как я постепенно стал ощущать, оставались вопросы, наверное, даже самые важные, на которые они не могли дать ответа. Его еще предстояло найти.
С крещением дело тоже никак не продвигалось. Я встретился еще с одним священником и поговорил с ним. Однако Гроднер сообщил мне, что принимавший меня старец — власовец и антисемит, а значит, не годится совершенно. Хотя мне очень понравился этот седобородый батюшка с добрым внимательным взглядом, я и на этот раз послушался своего учителя.
* * *
Хуже всего обстояли мои дела с Бобби. Летом наши отношения дали трещину, и склеить ее, как оказалось, было невозможно. Потом выяснилось, что за время моего отсутствия, уже после Кости, она, не разрывая со мной, продолжала амурные эксперименты с другими общими знакомыми. Но тогда я этого еще не знал.
Хотя у меня все складывалось наилучшим образом, Бобби это почему-то совсем не радовало. Может быть, потому что я все крепче становился на ноги и все меньше зависел от нее. Я изредка продолжал встречаться с ней, хотя уже и не понимал зачем. Каждая встреча превращалась в долгое и мучительное выяснение отношений. Гроднер меня утешал, говоря, что все духовные люди должны страдать, хотя и советовал прекращать общение. Я колебался, как вдруг выяснилось, что у Бобби прямо на моих глазах начинает разворачиваться еще один роман, и тут я понял, что продолжать все это больше не имеет никакого смысла. Хотя, конечно, как я вижу сейчас, смысл в происходившем все же был: я на себе ощутил, что такое измена, и понял, как тяжело она переносится. Значит, правы были мои неверующие родители, когда призывали меня жить по-другому? Значит, предательством может быть не только донос на друга в КГБ, но и нечто совсем другое — то, что я сам ранее позволял себе неоднократно? Я впервые стал задумываться над этими вопросами. Постепенный процесс смены моих убеждений приобрел дополнительный динамизм.
В моем альбоме сохранилась фотография, сделанная в те дни на площадке пожарной лестницы за окном одной американской квартиры. Поздняя осень, серый, пасмурный день, смазанные краски. Но я ощущал этот момент как новое начало и новую надежду. Столь долго зревший нарыв был вскрыт. Беспросветный кошмар последних недель завершился. Начиналась новая и, кстати, впервые в Америке, совершенно независимая жизнь.
Жизнь в Гарлеме: у Оксаны
Примерно в тот же период я наконец смог оставить свое тогдашнее место обитания (я временно жил у одних приятелей) и сам платить за свое собственное жилье. После недолгих поисков мне сообщили, что одна знакомая чьих-то знакомых, пожилая украинка, живущая в очень большой квартире на севере Гарлема, сдает комнату. Условия, в общем, меня устраивали. Правда, немного смущал адрес — все же Гарлем пользовался, мягко говоря, не самой лучшей репутацией. Но особенно выбирать не приходилось. Упаковав свои вещи и забрав Мурку, я выехал немедленно. Панк Марик, который к тому времени обзавелся большой старой черной машиной, согласился меня перевезти.
Так я оказался жильцом Гарлема, точнее, его северо-западной части. Район, в котором находилось мое будущее жилье, пару десятилетий назад был весьма престижным, но постепенно пришел в запустение. Прежние жильцы выезжали, и квартиры заселялись другой публикой. Дома ветшали, приобретая все более трущобный вид. Улицы постепенно грязнели. Так расширялся Гарлем. Но зато тут кипела жизнь: у дешевых магазинчиков толпился народ, овощные лавки пестрели буйством красок, забегаловки и ресторанчики испускали соблазнительные запахи, соседствовавшие, впрочем, с вонью гниющего мусора и дешевыми ароматами из парфюмерных заведений, столь любимых здешними обитателями.
Дом, где мне предстояло поселиться, имел четырнадцать этажей (последние два назывались четырнадцатым и пятнадцатым, так как тринадцатых этажей в США предпочитают не делать — там никто не захочет поселиться) и занимал полквартала. Внизу размещались прачечная самообслуживания, магазин подержанной одежды и музыкальный салон. Когда-то дом был роскошным и к моменту моего заселения еще сохранил некоторые следы былого великолепия: внизу, в просторном холле, всю стену занимало громадное, размером пять на десять метров, зеркало. Я выгрузил в квартире вещи, запустил в свою комнату — светлую и просторную, с отдельными душевой и туалетом — Мурку и тут же убежал в университет. Когда вечером я вернулся, стена зияла пустотой: зеркала уже не было. Не оставалось даже осколков на полу. Восстановить его на прежнем месте никто не пытался.
* * *
Квартира, как и дом, тоже когда-то блистала роскошью. Она располагалась на 10-м этаже, и в ней было восемь комнат, громадная кухня, два коридора, два санузла с ваннами и один с душевой, три просторных кладовки и несколько стенных шкафов. Комнаты были большими и светлыми, однако все свободное пространство между ними занимали кучи всевозможного скарба, так что в просторном коридоре пройти было можно лишь по стеночке. В квартире арендовали комнаты еще два человека, так что вместе с хозяйкой у нас получилась настоящая американская коммуналка.
Но, конечно, наибольший интерес в этом жилище представляла сама хозяйка — Оксана Прихватько. Родилась она на Украине, в западной ее части, бывшей в составе Польши. В 1939 году, когда началась война, ей не было еще и десяти лет. Жила она в оккупированной Варшаве, где погибли ее родители, пережила Варшавское восстание и чистки после него. Все это время ей приходилось отчаянно бороться за существование, и в конце концов она стала тем, кто по-английски называется survivor, то есть человеком, для которого эта борьба составляет цель и смысл жизни и который всегда может выжить, даже в самых сложных условиях. Это свойство она сохранила до самой смерти. После войны Оксана оказалась в лагерях для перемещенных лиц в Германии, потом ее носило по всему свету, пока в конце концов она не осела в Нью– Йорке.
В результате всех своих странствий Оксана Прихватько научилась говорить на шести или семи языках, но при этом ни одного не знала по-настоящему. Иными словами, у нее не было родного языка. На всех языках она говорила с акцентом и не чувствовала себя дома ни в одной культуре. Потом я встречал еще нескольких таких несчастных «граждан мира», а по сути онтологически бездомных людей без родного языка, и мне всегда было их бесконечно жаль.
В детстве Оксана, разумеется, говорила по-украински, но не успела на нем и школу закончить, так что владела им далеко не совершенно. Потом его вытеснил польский, затем она как-то выучила русский, потом еще наслоился немецкий, испанский, французский и английский — языки всех стран, где ей доводилось жить.
Характер у Оксаны был чрезвычайно тяжелым. Правда, ко мне поначалу она отнеслась весьма радушно. Но знакомые сразу предупредили, что вызвать ее раздражение очень легко, а обиды, по большей части воображаемые, Оксана не прощала никому и никогда. Комнаты в своей квартире она сдавала за сумму по тем временам и для наших карманов весьма значительную: 150 долларов в месяц. К тому же брала задаток — тоже 150 долларов в качестве платы за последний месяц, когда жилец собирался съезжать. Практически же деньги всегда пропадали, потому что спустя некоторое время Оксана неизбежно ссорилась с жильцом и, когда он уходил по делам, меняла замок на двери. Человек просто оказывался на улице. Вещи потом приходилось доставать с полицией и вывозить: въезжать она уже никому не позволяла и задаток оставался у нее. Через месяц после того, как я поселился в квартире, это произошло с одним из жильцов почти на моих глазах: Оксана выдала мне новый ключ, а когда через несколько дней я спросил, куда делся жилец, другой сосед тихонечко поведал об этом.
Но пока Оксана благоволила ко мне и ничто не предвещало грядущих бурь.
Хозяйка моей новой квартиры прожила бурную жизнь, но все же так и не смогла (или не захотела) задуматься о вечном: Оксана была воинствующей атеисткой, даже, скорее, антитеисткой — богоборцем, находящимся в состоянии перманентного восстания против своего Творца. Она видела себя бойцом-одиночкой, воюющей против всех и вся: стран, режимов, правительств, враждебных обстоятельств, окружающих людей и в конечном счете Бога. При этом она была человеком совершенно безнравственным. Я вдруг понял, что значат в реальности слова Достоевского: «Если Бога нет, то все позволено». Когда я их повторял раньше, то все-таки считал, что какие-то ограничения есть. В бытность мою атеистом я сам устанавливал для себя некие, пусть воображаемые, но все же границы. Однако Оксана действительно считала, что позволено абсолютно все, и жила согласно этому принципу. В этом смысле она была, наверное, самым последовательным и бескомпромиссным атеистом из всех, кого я встречал до сих пор. Главным критерием и мерилом всего существующего для Оксаны была она сама: ее желания, потребности, удовольствия, капризы. Исходя из этого она и действовала. Для удовлетворения желаний и потребностей годились все средства. И горе тому, кто становился на ее пути!
* * *
Когда мы с Оксаной познакомились, она была смертельно больна. У нее развилась четвертая стадия рака. Сначала опухоль нашли в груди, была проведена ампутация, но через некоторое время метастазы обнаружились в костях. Бог, в Которого Оксана не верила, избавил ее от мучений: каким-то образом она практически не ощущала боли и в общем-то чувствовала себя неплохо. Но это было временной передышкой: процесс необратимо развивался, и в любой момент у нее могло все сразу отказать. Пожалуй, единственным ощутимым последствием болезни было то, что Оксана не чувствовала запахов — у нее полностью отбило обоняние.
Уже давным-давно она жила на вэлфере и дополнительно подрабатывала сдачей комнат, так что более или менее стабильный доход у нее набирался. За свою роскошную квартиру, как мы вычислили, она должна была платить довольно мало: в США существует такое понятие, как rent control, то есть хозяева не могут поднимать ренту произвольно и даже при въезде новых жильцов должны не выходить за определенные рамки. А пока в квартире остается старый жилец, хозяева могут повышать плату за жилье лишь раз в несколько лет, да и то весьма символически. Таким образом, если человек арендовал помещение лет двадцать-тридцать назад, то и плата с годами становилась смехотворно мала. А, как мы узнали, Оксана жила в этой квартире не меньше двадцати лет. Значит, благодаря аренде, она не только расплачивалась с домовладельцами, но и покрывала многие свои другие расходы.
А жить наша хозяйка умела очень экономно: сказывался ее опыт выживания в самых экстремальных условиях. По ночам она отправлялась на улицу на промысел. Вначале она обходила закрывающиеся рестораны и продуктовые лавки, где с ней делились невостребованными и просроченными продуктами. Далее начинался обход всех окрестных помоек и сбор всего, что когда-либо может ей понадобиться.
* * *
Следует, однако, иметь в виду, что помойка в Америке — совсем не то, что помойка в России. На американских помойках иной раз можно найти весьма добротные вещи: и антикварную мебель, и бытовые приборы, и посуду, и много чего другого. Но если увлечься такой помоечной охотой и войти в азарт, она может привести к весьма плачевным последствиям.
Я вспоминаю трагическую историю В.С. — очень известного в 70-е годы в СССР художника-авангардиста, который участвовал во многих неподцензурных выставках, подвергался гонениям и в конце концов эмигрировал в Америку. Он действительно был талантливым мастером, картины его стали хорошо продаваться, но тут начались проблемы. В.С. не мог пройти мимо выкинутых на помойку роскошных вещей: то увидит замечательную антикварную швейную машинку Зингер, которая, если поменять одно колесико, может заработать как новая, то роскошный стул середины XIX века — его ошкурить, отлакировать, и получится завидное приобретение, то настоящий пиратский сундук, то какую-то удивительную лампу, в которой недостает только нескольких стеклышек, и т.д. Все это он тащил домой на свою съемную квартиру. Остановиться В.С. не мог, вскоре жилище его переполнилось этими вещами, они перестали там помещаться, а он все приносил новые ценные находки, стараясь разместить все наиболее экономичным образом. В конце концов он даже разработал хитрый способ пролезать в свою квартиру: немножко приоткрыть дверь (больше чем на пятнадцать сантиметров она не открывалась), просунуть в щель руку, что-то вытащить, затем протиснуться внутрь, задвинуть этот предмет назад и закрыть дверь. Как-то ночью он умер во сне, задохнулся от обилия вещей, не оставивших ему кислорода. Когда его стали разыскивать, дверь пришлось вырезать автогеном, а затем прожигать им путь сквозь спрессованную массу помоечных артефактов, чтобы добраться до тела несчастного накопителя.
* * *
Судя по всему, у Оксаны была похожая ситуация, только жилплощадь позволяла куда больший размах мшелоимства. Правда, когда я вселился, квартира, хоть и перегруженная рухлядью, все же была освобождена от большего количества хлама: проживающая в Техасе дочь предложила матери переехать к ней — слечь Оксана могла в любой момент, а в Нью-Йорке ухаживать за больной было некому. Но Оксана хоть уже и отправила вещи, никак не могла решиться на переезд: для нее он означал бы, что она сдалась перед враждебной жизнью и что та борьба, которую она с детства вела одна против всех, завершилась ее поражением. А признать это и принять милость от дочери ей не позволяла гордость. Все-таки в Нью-Йорке она оставалась сама себе хозяйка и жила привычной, хоть и весьма странной, жизнью.
Отоспавшись после ночной охоты, Оксана начинала сортировать добычу. Помню, как-то она притащила ящик основательно подгнившей картошки. Поскольку обоняния у нее не было, запах ее не тревожил. Как сейчас вижу картинку: Оксана чистит эту картошку, тут же в сковородке шкворчит просроченное масло, я, стараясь не морщиться, прохожу мимо, в то время как она любезно приглашает меня к столу откушать вместе с ней. А вот желудок у нее все еще оставался железным: от такой диеты мог бы слечь любой, но она на пищеварение не жаловалась никогда.
Не чуралась она и наркотиков: марихуану, во всяком случае, частенько покуривала. Более того, эта пожилая, смертельно больная женщина с ампутированной грудью и полностью сбитой лечением гормональной системой — у нее росла густая борода, и говорила она басом — встречалась с любовником, двадцатилетним слепым негром. В такой противоестественной связи был заложен весьма нечистоплотный обман: незрячий парень вряд ли представлял себе в полной мере, с кем именно он встречается.
* * *
Таковы были обстоятельства моей гарлемской жизни. Когда я, бравируя, сообщал своим университетским приятелям (и особенно приятельницам), что живу в Гарлеме, на меня смотрели как на героя или (гораздо чаще) как на сумасшедшего: ведь считалось, что белому человеку там небезопасно появляться даже средь бела дня и даже на короткое время: сразу ограбят, изнасилуют, убьют. Хотя Оксанин дом находился близ северной границы Гарлема (кварталов через семь начинался приличный район, но ведь их надо было еще пройти!), въезжал туда я с серьезными опасениями. Но, правда, быстро привык, поскольку ничего особенно плохого там не видел. Наша сторона Бродвея считалась пуэрториканской, противоположная — негритянской, но деление это было весьма условным, может быть, более оно сказывалось на меню ресторанчиков и ассортименте торговых лавок. Меня никто не трогал ни здесь ни там, по улицам я ходил свободно в любое время дня и ночи. Вскоре соседи начали меня узнавать, здороваться, угощать сигаретами или леденцами — в общем, вели себя более чем дружелюбно.
Правда, когда я сказал одной своей знакомой, что Гарлем — совершенно безопасное место, она ответила, что для кого как. Я в ту пору носил камуфляжную куртку и сапоги на шнуровке (те самые, дорогие), волосы струились по груди, на плече висела военная сумка от противогаза. «Скорее всего, тебя принимают за чокнутого вьетнамского ветерана с гранатой в кармане. Вот они к тебе и подлизываются», — едко заметила моя приятельница.
Может быть, она была и права, хотя некоторые последующие события не вполне сообразовались с ее наблюдением. Хотя кто знает…
* * *
Вообще, мой район неожиданно вызвал у меня довольно много ассоциаций с советской действительностью. Разве что все было куда более ярким. Дома потрепанные, запущенные, подъезды грязные, лифт все время ломается, мусоропровод засорен, ничего не работает… Но на улицах магазины ломятся от товаров, в лавках невероятные тропические фрукты-овощи, масса рекламы, половина из которой на испанском языке, раздающаяся отовсюду музыка… Именно тогда появилась мода гулять по улицам с громадным радиоприемником на плече, включенным на всю мощность (он так, весьма неполиткорректно, и назывался: ghetto box[30]). Однажды я даже видел трех вышедших на прогулку темнокожих подростков, один из которых нес радиоприемник, а два его приятеля справа и слева — большие колонки, сотрясающиеся от бьющего из них мощнейшего звука. Здешние обитатели предпочитали ездить на больших машинах ярких — иной раз даже радужных — расцветок. Пускай частенько их автомобили бывали помятыми, ржавыми или у них не хватало деталей корпуса, но зато по размерам они приближались к семьсот тридцать седьмому Боингу, самому крупному тогдашнему авиалайнеру.
Больше всего раздражало взгляд обилие мусора. Он был повсюду — и в виде хлама под ногами, и в виде больших и маленьких пластиковых мешков на каждом углу, у каждой витрины или двери. Но постепенно глаз «замылился», и я перестал все это замечать, как я давно уже «не замечал» обязательных в Нью-Йорке уродливых железных пожарных лестниц, прикрученных к каждому дому.
Когда ломался лифт, приходилось подниматься наверх пешком. Помню, как я бегу через ступеньку на свой десятый этаж мимо завистливо на меня посматривающих коротконогих пуэрториканцев, выгнанных женами на лестничные клетки с сигаретой в одной руке и жестяной консервной банкой — в другой. Если бы не цвет кожи, эти работяги ничем не отличались бы от моих бывших московских соседей…
Самый странный вид открывался из окна моей комнаты на рассвете, когда с высоты десятого этажа смотришь на пустые гарлемские улицы: серая предрассветная дымка, серо-коричневые дома с наглухо задраенными железными жалюзи на первых — торговых — этажах; ветер гоняет старые газеты, обрывки бумаги и другой мусор по мостовым и тротуару… Людей нет, разве что изредка кто-то пройдет скукожившись. Машины, хотя и стоят у тротуаров, как-то не бросаются в глаза, как будто их и нет вовсе. Казалось, что находишься в Риме времен глубокого упадка и вот-вот из-за горизонта покажутся передовые отряды варварских армий, которые наконец займут этот город. Хотя, конечно, в Римской империи бумаги не было и газеты по улицам не летали…
* * *
Но, должен сказать, район мой был известен многими достопримечательностями. Рядом высилась изящная неоготическая церковь середины XIX века с сохранившимся старинным кладбищем прямо за ней. Я часто ходил туда гулять среди заметно тронутых временем могильных памятников, некоторые из которых были настоящими произведениями искусства.
А еще через квартал находился изумительный музей испанского искусства, в котором хранились подлинники Веласкеса, Гойи, Мурильо, Сурбарана и других великих пиренейских живописцев. Но, поскольку этот музей располагался в Гарлеме, про него мало кто знал, и он лежал вдалеке от протоптанных туристских троп. В одном дворе с ним был интереснейший этнографический музей культуры латиноамериканских индейцев, который я также любил посещать. В общем, чем дальше, тем больше мне нравился Гарлем и его окрестности.
Я наслаждался своей новообретенной свободой и вел весьма вольную жизнь. В университете мои сокурсники, особенно женского пола, воспринимали меня как эксцентричное украшение жизни, и по-своему я был весьма популярен. Но чем моя тогдашняя жизнь отличалась от Оксаниной, к которой я относился со все возрастающими ужасом и брезгливостью? Тем, что я пока еще был молод и здоров? Я считал себя верующим, друзьям представлялся как православный, носил большой крест поверх рубахи… А жил? А жил ничуть не лучше честно аттестующей себя атеисткой и богоборцем Оксаны. Ведь, если отбросить все прикрытия, главным для меня было одно — мои собственные удовольствия. И понятно, что мою проповедь — а я активно доказывал ей существование и благость Бога — Оксана воспринимала как глупость и блажь и значит еще более утверждалась в своем отрицании Господа. Как слеп я был тогда! Но пока я этого не понимал вовсе, тем более что вокруг меня постепенно стал складываться кружок друзей, общение с которыми занимало мое свободное время и не давало оглядеться и серьезно задуматься о том, как мне жить дальше.
Друзья-приятели
Первым появился петербуржец Игорь Школьник. В самом начале эмиграции наши номера в отеле «Люцерн» соседствовали друг с другом. Потом он уехал в Калифорнию — поступил в компьютерную магистратуру и теперь, закончив ее, вернулся в Нью-Йорк и по моей рекомендации снял комнату у Оксаны. Нас объединяла любовь к литературе и кино. В Гринвич-Виллидж мы открыли для себя кинотеатр повторного фильма, где ежедневно менялся репертуар и крутили в основном мировую классику. Мы приобрели абонементы и ходили в кино, по крайней мере, дважды в неделю, отсмотрев таким образом все то, что не показывалось в советском открытом прокате.
Вновь на короткое время выплыл из небытия Сережа Ростопцев и побывал у меня несколько раз. Английского он по-прежнему не знал. Помню, как-то за обедом он попросил добавить масла себе в картошку.
— Открой холодильник, достань масло и клади в тарелку, — предложил я.
— А почем я узнаю, что это масло?
— На нем написано «butter», прочитай.
— Это я-то «прочитай»? — даже как-то ехидно захохотал в ответ Сергей.
Он рассказал, что работает на фабрике, на конвейере, и исполняет чрезвычайно однообразную работу: нагибается, берет деталь, потом распрямляется и кладет ее в другое место.
«Работа настолько однообразная, что через год можно стать идиотом», — пожаловался он.
Правда, на это Игорь ответил, что у Сережи, видно, очень крепкая голова — самому Игорю хватило бы месяца.
Через некоторое время Сергей, по своему обыкновению, исчез, на этот раз уже насовсем. По слухам, он поселился в Финляндии, а в перестроечное время вернулся в Москву. Больше я его не видал, хотя не исключаю, что когда-нибудь он появится вновь на моем горизонте.
* * *
Часто посещал нас в Гарлеме Тарас Кордубский, чтобы поплакаться на свою жизнь. Тарас был «лабухом» — ресторанным музыкантом. В Москве эта профессия считалась очень денежной. Но как-то он поссорился с руководителем своей группы, решил, что его недостаточно ценят, и, чтобы отомстить всем, подал документы на выезд. Жена его в последний момент уезжать отказалась, но это не остановило моего приятеля. Однако в Нью-Йорке найти работу по своей музыкальной специальности оказалось куда сложнее, чем думалось Тарасу в Москве. В конце концов он устроился ночным сторожем в консерваторию. Но то, что казалось вполне нормальным в Москве («поколение дворников и сторожей», среди которых один был гениальным художником, другой гениальным философом, третий гениальным писателем, а четвертый тоже гениальным, только пока еще неизвестно кем), в Нью-Йорке выглядело по-другому: окружавшие Тараса сторожа были всего лишь сторожами. В отличие от покинутой родины, спать на работе запрещалось (каждый час требовалось обходить всю территорию, нажимая на контрольные кнопки), отвлекаться на свои дела — тоже. Оставалось одно — думать. Но поскольку Тарас дожил до тридцати лет и ни разу не пробовал приступить к этому занятию, то попытка впервые задуматься надолго вывела его ум из равновесия. Тарас переосмыслил все свое прошлое и стал убежденным коммунистом, решив, что в СССР создано идеальное общество, настоящий рай на земле, чего он, поддавшись хитрой вражеской пропаганде, не заметил и, таким образом, совершил подлое предательство.
Бывший ресторанный музыкант люто возненавидел Америку и видел в ней только плохое. Если плохого было мало, он сам его создавал, чтобы, оглядевшись, удовлетворенно вздохнуть, как все действительно ужасно. После долгих поисков он отыскал для себя малюсенькую однокомнатную квартирку в полуподвале многоэтажного дома. Единственное окно выходило на расположенную в пятидесяти сантиметрах глухую кирпичную стену. Там мой приятель и жил, категорически отказываясь переехать в другое место. Курил он одну сигарету за другой, так что при таком скудном воздухообмене войти в его жилище без противогаза было весьма затруднительно. Но зато теперь он мог с чистой совестью всем говорить о реальных страданиях рабочего человека в США. На самом почетном месте своей каморки Тарас повесил портрет Брежнева. Сейчас он совершенно серьезно отзывался о нем как о мудрейшем правителе и добрейшей души человеке. Книг Тарас не читал и интересовался только жизнью в СССР, о которой узнавал из советских газет и журналов, выписываемых из русского книжного магазина. Английский не учил принципиально и обходился скудным набором фраз, которых нахватался еще в московских ресторанах. Большую часть заработка он тратил на посылки со шмотками, которые отправлял жене, по всей видимости весьма довольной таким поворотом дела.
Периодически Тарас ездил в Вашингтон в советское посольство, подавал прошения о возвращении на Родину и наговаривал интервью для отечественного агитпропа про роковую ошибку, которую он совершил, о том, что ему нет прощения, и о том, что он просит только одного — чтобы ему позволили умереть на родной земле. Измученным бытом советским читателям гражданин Кордубский сообщал, что хоть в американских магазинах пятьдесят сортов колбасы, но все они химические, а вот в советских — пусть два, но зато натуральные (на самом деле за пределами Москвы и этих двух не было, да и химию в советские продукты сыпали обильно, просто не писали состава на обертках); о том, что хоть американцы получают и больше, но зато цены куда выше; что в США, в отличие от СССР, нет никакой свободы и, конечно, что простому американскому труженику приходится ютиться в тесной и темной каморке в соседстве с тараканами и крысами. Но разрешать вернуться ему не спешили, говорили, что не заслужил еще.
Мы жалели Тараса и пытались как-то его утешить. Вообще-то он был мягким, незлобивым и наивным человеком, сломанным жизнью. Сердиться на него казалось невозможным. Даже Оксана неожиданно прониклась к нему чувствами и с удовольствием с ним беседовала. Возможно, их сближал атеизм, который Тарас проповедовал со всем жаром неофита. Ведь единственно возможным раем на земле был Советский Союз, что бы ни говорили враждебные ему религиозники. Со всеми старыми знакомыми он давно разругался, и из всего его круга у него теперь оставались только мы.
Вечерами он приходил в гости.
«Ну, что, антисоветчики, не раскаялись еще? Не поняли, что пора возвращаться на Родину?» — начинал он разговор.
Но потом быстро мягчел и с восторгом рассказывал о встрече с очередным посольским чиновником из Вашингтона. Судя по его рассказам, там работали заправские садисты.
«Такой хороший человек Петр Степанович, — вздыхал Тарас, и глаза его наполнялись слезами. — ”Ну что, товарищ Кордубский, говорит он мне, пока ничем не можем вас обрадовать. Надо еще подождать. Сейчас я съезжу в отпуск в Москву, может, мне там что-то новое скажут. На какой улице, говорите, вы жили? На Новослободской? Пойду, погуляю там, подышу свежим московским воздухом, пройдусь мимо вашего дома, погляжу на ваши окошки. Интересно, что ваша жена там делает? Может, и нашла себе кого нового, хе-хе? В общем, приезжайте опять месяца через два, расскажу вам, как я по Москве погулял”. Видите, какой добрый, сердечный человек!»
А мне очень хотелось врезать в лоб этому «сердечному товарищу», с таким цинизмом измывавшемуся над бедным, повредившимся умом человеком.
Как-то Тарас привел с собой Клариссу — красивую и обаятельную негритянку, студентку консерватории по классу скрипки. Она обратила внимание на необычного сторожа, узнала, что он русский, и разговорилась с ним. Кларисса обожала русскую музыку, Ростропович был ее кумиром, так что мой друг не мог ее не заинтересовать. Она чуть-чуть говорила по-русски, Тарас — чуть-чуть по-английски, а при таком почти тотальном лексическом дефиците и заведомо добром отношении самые банальные фразы некоторым образом приобретают неожиданно глубокий смысл. Тарас стал казаться скрипачке проповедником дзенской мудрости, аскетом и подвижником. Вскоре она в него влюбилась, прямо как у Шекспира: « Она его за муки полюбила…» Однако Тарас сразу же объявил ей, что не может разделить ее любовь, так как не имеет права наслаждаться личным счастьем вне Родины. Не знаю, насколько она смогла понять его мотивацию, но такой непонятный отказ привязал идеалистически настроенную девушку к «русскому мудрецу» еще больше. С нами Кларисса разговаривала на своем родном языке, и вскоре мы стали большими друзьями. Через некоторое время она решила, что ей лучше переехать в Оксанину квартиру, что и было сделано. Так нас стало трое. Прежние жильцы к тому моменту все расточились.
* * *
Незадолго до этого Оксана как-то подозвала меня к телефону.
«Саша, привет! — услышал я в трубке. — Это Рич Ржевский. Помнишь меня?»
С Ричардом Ржевским мы вместе учились в художественной школе на Пречистенке. Он был одним из лучших учеников нашего класса. К сожалению, школу я не закончил. Сделать это мне помешала драка с одноклассником по фамилии Рабинович. Он, будучи намного крупнее, постоянно задирал и пихал меня. В какой-то момент, поняв, что терять мне все равно нечего, я бросился на него с отчаянием обреченного и несколькими нанесенными вслепую ударами неожиданно для самого себя поверг обидчика на землю. По закону подлости, в этот момент в класс зашел директор. В школу вызвали маму. Заплакав, она сказала, что, видно, мало ей неприятностей в обычной школе и я решил добавить к ним проблемы в художественной, где я вроде бы должен учиться по призванию. Я обиделся и перестал ездить на Пречистенку. Так прервались связи с моими одноклассниками. Ричик завершил обучение в школе, потом поступил в какой-то художественный вуз, закончил и его, а вот теперь с родителями и старшей сестрой Ровенной приехал в Нью-Йорк.
Ричард привел в Оксанину квартиру и своего друга Юру Богословского, веселого, разбитного парня, авантюриста с сильной предпринимательской жилкой. Они были почти неразлучны — невысокий, плотный брюнет Ричик и длинный, нескладный, с короткими каштановыми волосами, очкарик Юра. Обычно они приходили с грузом спиртного. Так что почти ежевечерне у нас собиралась веселая компания. Пока хозяйка не возражала. Пока.
Именно с Ричем и с Юрой и произошла история, которая доказала нам, что слухи об опасности для белого человека появиться в Гарлеме по меньшей мере сильно преувеличены. Началось все со свадьбы красавицы Ровенны, сестры Ричика. Она вышла замуж за профессора социологии Колумбийского университета. Прием после бракосочетания проходил в преподавательском ресторане на месте работы новоиспеченного мужа. Присутствовали на нем и оба моих друга, одетые по такому поводу в арендованные смокинги, как то и полагается на американских свадьбах. Уже поздно ночью, изрядно навеселившись, они решили навестить меня и, прихватив с праздничного стола четыре бутылки французского коньяка — по одной в каждую руку, вышли на темную улицу. Погода стояла прекрасная, и гуляки решили дойти до моего дома пешком. Колумбийский университет находится за несколько кварталов от южной границы Гарлема, а я жил близ северной. Путь им предстоял не такой большой — около пяти километров, но зато через всю протяженность опасного района. Оба были пьяны и весьма вызывающе одеты: в смокинги с видневшейся издали белой грудью. Да и время было самое разбойничье — часа два ночи. Тем не менее дошли они без каких-либо приключений. Шагали не спеша, частенько отпивая из коньячной бутылки. Когда добрались до моего дома, из четырех сосудов оставалось уже три.
Комнаты жильцов находились дальше всего от входных дверей, так что тихого сигнала домофона никто из нас не услышал. Оксана все еще не вернулась со своей ночной охоты, так что отпереть дверь приятелям было некому. Часы показывали полчетвертого утра.
После недолгого размышления Ричик решил залезть ко мне в окно по пожарной лестнице. Юра подсадил его (нижняя перекладина не доставала до земли метра два) и остался ждать внизу, охраняя коньячное сокровище.
Где-то на середине подъема Рич нос к носу столкнулся с пуэрториканцем, который как раз подошел к окну и удивленно застыл на месте при виде столь странного альпиниста. Напомним, мой друг был в смокинге, лакированных туфлях и в белом галстуке-бабочке.
Ричард почувствовал, что объяснений не избежать. Но английского тогда он почти не знал, да и хмель не способствовал лингвистическому творчеству. После некоторого раздумья Ричик решил сказать, что у него сломалась дверь, но слово это, как назло, забыл и заменил его ближайшим по смыслу. Вот что у него получилось: «Искюз ми, сомсинг хеппен виз май виндов[31]».
На его счастье, пуэрториканец оказался спокойным, нескандальным человеком. Кивнув ему головой и улыбнувшись, он отошел от окна и лег в свою постель. Впрочем, может, он решил, что все это ему снится.
Рич беспрепятственно докарабкался до десятого этажа, влез в мое открытое окно, отворил дверь Юре, но после такого подвига оба приятеля настолько утомились, что повалились на мою весьма широкую кровать и заснули. Когда я пробудился от яркого утреннего солнца, то обнаружил по обе стороны от себя двух громко сопящих человек в смокингах. Рядом с ними лежали три початые бутылки французского коньяка.
Выбор
Все это время я продолжал тесно общаться с Гроднером и вяло занимался поисками священника, который мог бы меня крестить. Подошло время Великого поста, и я, к удивлению всех своих приятелей, решил его соблюдать. Как по-настоящему нужно держать пост, я, конечно, не знал. В церковь не то что не ходил, но даже и не заглядывал. Зато полностью исключил из своего рациона мясное, молочное и яичное. Рыбы мой самозапрет не коснулся — я где-то слышал, что постом ее можно есть. Аркадий, которому я поспешил сообщить о своем намерении, только плечами пожал и сказал, что хотя попоститься, конечно, неплохо, но ведь все телесное вторично, а главное — духовное. Когда-нибудь я должен прийти к этой ступени понимания, но пока, если хочу все еще оставаться на низшем уровне, могу пособлюдать этот примитивный обычай.
«И вообще, Саша, то, что вы своим умом дошли до Православия, — это хорошо и похвально. Но нельзя же вечно задерживаться на христианстве! Нужно духовно развиваться и расти. Так что шагайте же дальше!»
Но дальше шагать как-то не хотелось, скепсис его меня не остановил, и я продолжил свое пищевое воздержание. Всем — знакомым и не очень знакомым — с гордостью сообщал, что теперь у нас, православных, Великий пост, так что вот как я пощусь. Собеседники вежливо удивлялись строгости православных правил и моей решимости, приятели посмеивались и пытались соблазнить меня кусками жареного мяса, но чем дольше я держался, тем больше преисполнялся гордости за себя.
Лишь ближе к концу поста стали появляться сомнения, правильно ли я делаю и для чего нужны все мои усилия. Понемножечку до меня стало доходить, что постом, наверное, следует хоть иногда ходить в церковь. Но с этим все как-то не складывалось. И вот уже в последние дни перед Пасхой я размышлял на эту тему, идя с работы в университет. Вдруг мне стало так стыдно, что я решил немедленно зайти в церковь и помолиться. Неважно в какую — в первую же церковь, которая только встретится на моем пути.
То, что произошло дальше, рационально объяснить не могу. Я проделывал этот путь ежедневно уже больше года, знал каждое здание, мимо которого проходил, и каждую рытвину на асфальте. Но тут почему-то знакомство с местностью не помогло. Очнувшись от своих размышлений, я увидел перед собой похожее на церковь здание и сразу же шагнул в него, откинул капюшон, размашисто перекрестился и между двух рядов стандартных скамеек направился вперед, туда, где у каждой христианской церкви должен быть престол или то, что его заменяет. Остановили меня взгляды окружающих — от недоуменных до явно враждебных. Я резко затормозил, огляделся и вспомнил! Я зашел в Центральную синагогу. Ведь каждый день я проходил мимо нее и прекрасно знал, где она находится. Но сегодня произошло какое-то затмение. Развернувшись, я бросился прочь. Что же случилось? Как я мог так ошибиться? Значит, без Божией помощи я не могу ничего, даже прийти в церковь. Это мне было ясно продемонстрировано. Я понял, что креститься нужно, и чем раньше, тем лучше; больше ждать нельзя.
* * *
Но уже приближалась Пасха, и я решил отправиться на службу в тот самый храм, где год назад я почувствовал присутствие Бога. Почему-то мне показалось, что Великая Суббота должна быть самым строгим постным днем и, хорошенько наевшись рыбными бутербродами в Великую Пятницу, весь субботний день я провел без еды и без питья. Аркадий еще раз высказал недоумение, подчеркнув, что увлечение телесной аскезой — удел несовершенных людей, далеких от подлинного понимания духовности, но я все же поступил по-своему.
Вечером мой учитель сказал, что у него болит голова, и мы отправились в церковь с его женой, которая, в отличие от него, все же была крещена в детстве. Не могу сказать, что на этой второй Пасхе моей жизни я пережил то же самое, что и на первой. Да, конечно, я ощущал подъем и радость праздника, но все же много отвлекался, местами мне было тяжело, и к середине службы я довольно сильно устал, но все же понудил себя достоять до конца.
Когда я довел жену своего учителя до дома, Аркадий еще не спал, но вид у него был весьма кислым. Мы сели было за стол, но он почти сразу же ушел к себе в спальню, сказав, что не видит повода для веселья, особенно так поздно ночью, и вообще считает пасхальную трапезу чрезвычайно вульгарным обычаем, придуманным для профанов. Настроение у всех, разумеется, испортилось, и я отправился к себе в Гарлем на ночном метро. Оксана еще не вернулась с помоечной охоты, остальные спали. Пришлось и мне ложиться.
* * *
Утром я проснулся с той же мыслью, что и вечером предыдущего дня: нужно креститься, и чем скорее, тем лучше. Но где? До этого момента я спрашивал у Аркадия о четырех или пяти священниках, но он забраковывал каждого из них, приводя причины весьма для меня убедительные. Подумав, я дал себе слово, что крещусь у первого встретившегося мне православного священника, не важно, понравится он мне или нет. После этого я позвонил своей православной знакомой, послевоенной эмигрантке, и попросил ее рекомендовать мне какого-нибудь батюшку. Через несколько дней она посоветовала мне обратиться к отцу Иакову из храма Христа Спасителя на восточной стороне 71-й улицы, между Первой и Второй авеню, фамилия у священника была диковинной — Филиппов-Мендельсон, и, как мне сказали, он тоже недавно приехал из СССР.
Удивительно, но меня направили в тот самый храм, в котором я уже дважды отстоял пасхальную службу. Позже я узнал, что община была основана русскими эмигрантами в ответ на взрыв храма Христа Спасителя в Москве. В 30-е годы им даже удалось приобрести на аукционе напрестольное Евангелие из взорванного московского храма. Первоначально новосозданная община переоборудовала под православное богослужение здание бывшего костела в районе сотых улиц на востоке Манхэттена, но потом район испортился и стал частью Восточного Гарлема. Здание пришлось продать задешево и купить маленький двухэтажный дом на тридцать улиц южнее. Там и был оборудован новый храм.
Выбрав свободное время, я отправился туда. Лысоватый и полноватый, несмотря на сравнительно молодой возраст, священник энергично потер руки.
«Ну-с, — совсем как доктор, спросил он. — Чем я могу быть вам полезен?»
Я ответил, что хотел бы креститься.
Расспросив меня о причинах моего решения и моей биографии, священник сказал, что перед крещением он будет со мною заниматься, чтобы подготовить меня к таинству, а пока я должен начинать ходить в церковь. Отец Иаков резко мне не понравился. Идея ходить в храм воскресным утром, в которое я привык отсыпаться за всю неделю, понравилась еще меньше, и хотя служба начиналась в десять утра, это значило, что вставать мне придется в невозможное время — без двадцати девять! Если, конечно, являться туда вовремя. И вообще, я не рассчитывал на еженедельное хождение на долгие, скучные службы. Я думал, что священник, узнав о моем желании, просияет от радости, немедленно крестит меня и, наверное, даже торжественно вручит мне какой-нибудь очень ценный подарок. Вместо этого он, оказывается, захотел меня эксплуатировать: надо ходить к нему на занятия и, что еще хуже, тратить время самого сладкого и самого драгоценного воскресного утреннего сна на походы в его храм!
Но ведь я уже пообещал себе, что от следующего священника не уйду, так что оставалось только держать слово. Я решил, что придется мне принести такую жертву и походить к нему на службы, а вот после крещения — только он меня и видел!
Разумеется, первым делом я сообщил Аркадию о своем новом знакомом и связанном с ним решении. Оказалось, мой учитель знал и этого священника и не думал о нем ничего хорошего. Выслушав аргументы, я сказал, что хотя полностью разделяю его мнение об этом человеке, который, как я уже говорил, мне тоже не понравился, решения своего не изменю.
«Хорошо, — сказал Гроднер, — тогда вам придется сделать выбор: либо я, либо церковь. Если вы будете ходить в церковь, то не сможете больше видеться со мной».
Выбор казался тяжелым и жестоким. Аркадий значил для меня чрезвычайно много. Я очень был к нему привязан и считал его не только своим учителем, но и самым лучшим другом. Его дом стал для меня почти родным, а семья — образцом и идеалом личной жизни. В самые трудные минуты прошедшего года он поддерживал меня, давал читать мудрые книги и обещал блестящее будущее среди элиты человечества. Со всем этим мне предстояло проститься и опять остаться одному. Но инстинктивно я чувствовал, что есть более важные вещи, чем дружба, учеба, карьера, семья и все, что с этим связано. По всей видимости, крещение и было как раз такой самой важной вещью. И поэтому я сказал Аркадию, что выбираю крещение.
«Ну что же, — холодно ответил мой учитель, — значит, вы приняли решение. Оно несовместимо с моим жизненным направлением: наши поезда разошлись и отправились по разным путям. Теперь каждый пойдет своим курсом. Прощайте!»
Я вышел из его дома и побрел к метро. Вечерело. Сгущались сумерки. Я чувствовал себя одиноким и потерянным. Но не совершенно. В каком-то смысле я также ощущал облегчение и свободу. Старое было отсечено и осталось позади. Внутри зарождалось и крепло ощущение, что начинается новый, самый важный этап моей жизни.
Отец Иаков и еврейский вопрос
Так начались мои воскресные мучения. Я просыпал, опаздывал, пропускал воскресные литургии. Но все же Церковь не бросал: необъяснимым внутренним чувством я понимал, что должен креститься во что бы то ни стало.
Занятия с отцом Иаковом нравились мне больше церковных служб. Мы разбирали Символ веры, который мне было задано выучить наизусть. Вначале я возмутился: ведь невозможно запомнить такой длинный прозаический текст, да еще и на славянском языке, но он на удивление просто и без усилий лег в мою память.
На этих занятиях я легко и безболезненно расстался с теми немногими оккультными представлениями, которые почерпнул за год общения с Гроднером. Отец Иаков убедительно объяснил некорректность кажущихся ссылок на реинкарнацию в Священном Писании, абсолютную историческую несостоятельность теософских баек о путешествии Христа в Индию и прочих оккультных представлений. Помню, как он одной фразой наповал опрокинул расхожую оккультную фальшивку о том, что, дескать, Священное Писание признает переселение душ, так как называет Иоанна Крестителя пророком Ильей, то есть его реинкарнацией.
«Так ведь пророк Илья не умирал, а был в своем теле взят на небо в огненной колеснице! — воскликнул отец Иаков. — Его душа не покидала тела, а значит, и не могла переселяться. Новым Ильей Иоанна называли «в духе» и ни в каком другом смысле. Идея реинкарнации была абсолютно чуждой в контексте религии иудеев!»
Во многом мне помогли определиться книги отца Александра Меня (его пятитомник по истории религии): отец Иаков был духовным чадом и горячим поклонником известного протоиерея. Хотя, должен сказать, что и тогда, будучи даже еще не новоначальным, я ощущал в книгах подмосковного священника какие-то моменты, которые никак не мог принять, пока еще только на инстинктивном уровне. Но, несомненно, вся его антипозитивистская аргументация, сейчас уже безнадежно устаревшая, в те годы могла оказаться чрезвычайно полезной для человека, получившего советское атеистическое воспитание. Впрочем, на таковых она и была рассчитана.
Но зато совсем по-другому я воспринял книгу дневниковых записей отца Александра Ельчанинова, которую тоже мне дал отец Иаков. Как-то я спросил его о книге со странным названием «Добротолюбие», о которой сообщил мне уже ставший послушником Алеша: я с ним изредка общался по телефону. Священник сказал, что «Добротолюбие» читать мне, пожалуй, рановато, а вот записки отца Александра смогут подготовить меня к грядущему знакомству с этим трудом. Небольшую книгу парижского пастыря я читал и перечитывал. Ее искренность, мудрость и глубина, при кажущейся простоте и безыскусности, совершенно покорили мое сердце. С ее страниц я впитывал чистое золото Православия, православной веры, православной духовной жизни. В каком-то смысле записки отца Александра Ельчанинова были продолжением тех трудов Розанова и Шестова, которые я читал ранее. Но, в отличие от них, «Дневник» давал ответы на все вопросы, над которыми бились философы. И ответы не теоретические, а пропущенные через разум, душу и сердце отца Александра — их современника, ставшего православным священником и реализовавшего их в своей жизни.
* * *
Постепенно я сблизился с отцом Иаковом и его женой — молодой (года на четыре моложе меня) и весьма эксцентричной матушкой Аней. Несмотря на свою юность (ей тогда было не больше двадцати лет), к себе она относилась чрезвычайно серьезно и всегда представлялась только как «матушка Анна», даже если собеседник годился ей в деды. Полноватая и неуклюжая, она сохранила повадки экзальтированной московской девицы, но при этом считала себя большим экспертом в Православии и постоянно учила окружающих, как следует поступать в том или ином случае. Поначалу я доверял ее опыту и, хотя со многими изреченными ею указаниями не был согласен, все же учитывал ее советы. Ведь она была крещена целых четыре года назад, а теперь даже пела на клиросе! Однако мне инстинктивно многое не нравилось, в первую очередь ее иудеохристианские идеи. Аня с семьей эмигрировала из Москвы в Израиль, будучи еще младшеклассницей, и в этой стране прониклась еврейским национализмом (кстати, это один из тех моментов, которые я не мог принять в творчестве протоиерея Александра Меня). Отец Иаков познакомился с будущей женой в Иерусалиме. Она согласилась выйти за него замуж и поехать в Америку только с тем, чтобы его там рукоположили, а затем они должны были вернуться в Израиль и создать там самобытную еврейскую церковь. Нужно сказать, что сам отец Иаков относился к идеям своей жены без ярко выраженного энтузиазма, но открыто с ней не спорил. Внешне он старался во всем ей уступать. Помню такой пример: сидя в зале, где прихожане пили кофе после литургии, она зачастую громогласно приветствовала отца Иакова, входящего после потребления Даров, словами: «Мендельсон, принеси-ка мне чашку кофе, и побыстрее!»
И священник смиренно исполнял приказание своей жены.
Старше меня лет на десять, он эмигрировал в Америку из Москвы за несколько лет до меня. Учился в Свято– Владимирской академии, потом, не закончив ее, уехал учить иврит в Израиль, откуда вернулся в Нью-Йорк с молодой женой. Религиозный диссидент, он сохранил всю горячность и бескомпромиссность московских полунощных кухонных споров. Часто это отражалось в его проповедях. Как сейчас помню его слово в день апостола Фомы, начало которого звучало примерно так: «Апостолы пришли к Фоме со словами: ”Мы видели воскресшего Господа, Он явился нам!“ — ”Нет уж, дудки!» — ответил им Фома».
В другой проповеди, описывая то, что Спаситель все время был окружен народом, священник выразился весьма неожиданно: «Вот если взглянуть на передвижение Христа по местности с вертолета, мы увидим Его в клубке из человеческих тел…»
О хиппи, к которым я все еще причислял себя (впрочем, скорее по привычке), отец Иаков имел весьма приблизительное представление, однако со мною он избрал самую правильную тактику: дисциплина и ожидание. Я же, полный решимости дождаться крещения во что бы то ни стало, готов был терпеть и подчиняться. Должен сказать, что политизированные диссидентские манеры священника продолжали отпугивать меня, и наши приятельские отношения так и не переросли в близкую дружбу или в отношения учитель – ученик, которые сложились у меня с Аркадием Гроднером. Но тем не менее постепенно я проникся уважением к его знаниям и авторитету. Рукоположен он был совсем недавно, и я оказался первым взрослым человеком, обратившимся к нему с просьбой о крещении. И он решил сделать все правильно. Несомненно, в этом мне повезло, или, вернее, так через него действовал неисповедимый Промысл Божий, направленный ко благу каждого из нас.
* * *
Однако еврейский вопрос был тем пунктом преткновения, который с самого начала разделял меня с отцом Иаковом и особенно с его женой. К тому моменту я уже разрешил его для себя и совершенно не желал к нему возвращаться.
Еще в начальных классах школы я узнал, что чем-то отличаюсь от окружающих меня одноклассников: они были русские, а я еврей. В чем это отличие, я долго не мог понять: мы говорили на одном языке, читали одни и те же книги, росли в одном городе, считали своей родиной одну и ту же страну… И все же они были свои, а я отчасти чужой. Позже я понял, что этот водораздел между «своим» и «чужим» проходит по пресловутой графе «национальность» в паспорте. Я принял это мнение на веру и действительно стал считать, что чем-то отличаюсь от своего окружения. Таким образом, еще с детства я привык воспринимать себя частью инородного меньшинства. Хотя единственным языком, звучащим в моей семье, был русский, предки мои отошли от своих еврейских корней три поколения назад, а я до юношеских лет не встречал ни одного носителя еврейских языка и культуры, не говоря уже про верующих иудеев.
Впервые задумался на эту тему я только в США. Тут меня все считали русским, а знакомство с нью-йоркскими евреями мгновенно доказало, что я не имею с ними ничего общего. Так что же во мне было еврейского? Этническое происхождение? Но в той же Америке жили люди самого разного этнического происхождения, и это не мешало им считать себя полноправными американцами, преданными своей стране. А ведь так было и в дореволюционной России! Туда приезжали выходцы из самых разных стран, и уже через поколение совершенно обрусевали, чувствовали себя и воспринимались своим окружением как русские. Ведь сколько мы знаем русских дворян, купцов, мещан с иностранными фамилиями и иностранными корнями! Почему же Россия — точно так же, как она усыновила немцев и французов, татар и китайцев, итальянцев и финнов, поляков и шведов, шотландцев и испанцев, башкир и коми-пермяков и многих других, — не может усыновить и евреев?
По естественному человеческому закону усыновленный ребенок вписывается во всю историю семьи, воспринимает ее предков от начала как своих и все события ее жизни — как имеющие непосредственное отношение к нему лично. Новый член семьи, даже инородческого происхождения, делается в ней родным. Мы знаем это из библейской истории: праматерь Христа по плоти Руфь была моавитянского происхождения, но после сознательного решения влилась в новый для нее народ и была воспринята им как своя настолько, что даже вошла в родословную Спасителя.
Русский народ всегда отличался неслыханной для Европы открытостью и с самого своего начала принимал и вбирал в себя всех желающих разделить его судьбу, ассимилируя их и создавая с ними единый язык, единую культуру, единую государственность и единое самосознание.
А из чего оно состоит, это национальное самосознание? Из чувства малой родины. Из языка и культуры. Из религиозной принадлежности. До революции так и было: когда инородец принимал Православие, его начинали считать русским. Даже первый словарь русского языка был написан Владимиром Далем — датчанином по происхождению и лютеранином по рождению, лишь на склоне своих лет принявшим Православие.
Графу о религиозной принадлежности в СССР убрали. А именно она значилась в дореволюционном российском паспорте. Вместо нее ввели графу «национальность». Мне кажется, это было не менее страшным большевистским преступлением против российской государственности, чем разделение унитарной Российской империи на новоизобретенные «союзные республики», с роковой неизбежностью приведшее к распаду единой и уникальной державы. Пресловутая «пятая графа» в паспорте еще усугубила это размежевание. Теперь, вместо единой — российской (вне зависимости от этнического происхождения) — принадлежности, люди оказались разделены на национальности. Если раньше в каждой семье люди просто знали историю своих корней, то теперь разделение по национальному признаку стало официальным.
И оно сформировало чувство национальной принадлежности, присущее теперь каждому жителю СССР и, чуть ли не в большей степени, тем русским, которых по старой памяти продолжали отмечать в паспортах как евреев, сознательно культивируя в них инородческое сознание. И даже когда путем разных ухищрений в «пятой графе» в конце концов удавалось написать что-либо другое, это привитое сверху самосознание не исчезало. Интересно, что те люди, которые сегодня требуют вернуть отметку о национальности в паспорта, вольно или невольно работают на разделение нашего народа: ведь им важно не только и не столько, чтобы все видели их русскость, как то, чтобы русскими не назывались те, кто, по их мнению, этого из-за своего происхождения не заслужил.
Отвергая большевизм, я должен был отказаться и от этого его ядовитого пережитка. Я, русский по языку, культуре и самосознанию и православный по исповеданию, отвергал ложь пятой графы и, несмотря на то, что отец Иаков с матушкой Аней, к сожалению, ее разделяли, не собирался возвращаться к ней. И этот выбор я уже сделал раз и навсегда.
Я попался
Впрочем, тогда это было моим единственным серьезным расхождением с отцом Иаковом. И, должен повторить, в отличие от своей молодой и фанатичной жены, он эту тему не слишком педалировал. Во всяком случае, со мною. Позже у нас стали выявляться и другие разногласия. Но об этом — в свое время.
Пока же моя подготовка к крещению шла своим чередом. В неофитском увлечении я все еще пытался убедить Оксану в необходимости уверовать в Бога. Разговаривала со мною она с удовольствием (она любила поболтать), но аргументов не слушала совершенно. Теперь я понимаю, что, если бы она увидела, что моя жизнь хоть чуть-чуть отличается от ее, может быть, у нее появился бы повод задуматься. Но этого повода я ей не предоставил. Я решил пригласить отца Иакова с супругой в свое жилище, к Оксане, но, несмотря на долгий разговор, даже священнику не удалось ее переубедить. Она оставалась упертой в своем антиморальном богоборчестве. Мы беседовали, сидя на полу, на мягком ковре. Отцу Иакову это явно было не слишком удобно, но он по-пастырски терпел, как терпел (хотя и морщился) мою рок-музыку (к тому моменту у меня собралась уже довольно большая коллекция дисков) и сигаретный дым.
Но как все же приучить меня не пропускать воскресную службу? И тут священник сделал гениальный ход: он предложил мне преподавать русский язык приходским детям — ведь я как-никак студент-филолог? Так, хитрым образом, он заставил меня приходить каждое воскресенье. Я почувствовал ответственность: дети меня ждали, и я вынужден был, несмотря на желание поспать, сползать с постели и являться в храм. А для надежности отец Иаков дал объявление об уроках для детей в «Новое русское слово»[32] — нью-йоркскую русскоязычную газету. В том числе там упомянули и мою фамилию как преподавателя. Деваться теперь мне было некуда. Занятия начались.
* * *
Однако приближалось лето, короткая сессия (в американских университетах все экзамены длятся не более недели; иной раз даже сдаешь по два экзамена в день: утром и вечером) и долгожданный отпуск. Напомню, что он в Америке очень короткий. Ежегодный отпуск длиной в неделю или в десять дней — в порядке вещей. Две недели — стандартный размер отпуска. Ну а три недели — это уже роскошь. Помню, как-то я видел футболку с характерной надписью: «Three reasons to be a teacher: 1 June; 2 July; 3 August»[33].
Мой первый отпуск составлял две недели. Я решил провести его у старого знакомого фермера Тима в Пенсильвании. Он с радостью согласился принять меня после двухлетнего отсутствия. Общаться с ним и с его подросшими детьми теперь мне было намного легче: все же по-английски я уже говорил совсем свободно. Тим обрадовался, что я теперь верующий и собираюсь креститься, а я с неофитским жаром докладывал ему, чем Православие лучше католичества. Он слушал внимательно и не возражал. Но вот наступило воскресенье, и я знал, что теперь у меня есть сверхуважительная причина не ходить в церковь в этот день: до Нью-Йорка было не добраться, а найти в Пенсильвании другой православный храм в голову не приходило. Я долго спал, а потом, проснувшись, не спеша пошел завтракать. По какой-то причине Тим в свою католическую церковь тоже не пошел. Но вот что странно: уже во время завтрака я стал ощущать какое-то внутреннее беспокойство. Что-то было не так. День казался неполным, чего-то в нем не хватало. Очень скоро стало ясно: не хватало церкви. Осознав это, я понял, что попался. Церковь успела стать неотъемлемой частью моей жизни. И с этим уже ничего нельзя было поделать.
В понедельник Тим повез все семейство и меня на Чесапикский залив: незадолго до этого он купил и почти закончил ремонтировать старый парусный корабль. Согласно его плану, мы, закончив ремонтные работы за два дня, сможем пройти под парусом весь залив и выйти в открытый океан, где ходят огромные лайнеры. Но для начала требовалось еще потрудиться.
Корабельная романтика мне не понравилась. При покраске корабля мы все вымазались краской и с большим трудом отмывающейся водонепроницаемой смолой, которой покрывали судно, и обгорели на солнце до пузырей.
Спать в каюте было жарко, душно и жестко, болела обгоревшая кожа, зверски кусали неистребимые комары. Мне страшно захотелось домой, но деваться было некуда. Правда, Тим уверял, что, когда корабль будет на ходу, станет прохладнее, а комары исчезнут. И вот мы наконец подняли паруса и отправились в плавание. Но оказалось, что вести судно не умеет никто. Все знания нашего капитана Тима пока что были чисто теоретическими. Паруса хлопали, корабль угрожающе раскачивался, и неизвестно, чем бы это все кончилось, если бы мы не сели на мель. Впрочем, это оказалось еще хуже: до позднего вечера пришлось торчать на солнцепеке, дожидаясь прилива. С мели мы смогли сняться только поздно ночью, так что спать пришлось мало. Управляться с парусами оказалось очень тяжелой работой. Руки я ободрал до крови, но хватать канаты приходилось все равно.
Тут я понял всю абсурдность нашей затеи: зачем выходить в открытый океан и смотреть на большие корабли? Мы их и так видели сколько угодно у пристани! Просто, чтобы помахать рукой? Но разве такой мизерный результат стоит всех усилий, которые мы положили? Но как я ни уговаривал моих спутников поскорее вернуться назад и поехать домой, меня не послушал никто.
На пенсильванскую ферму Тима мы вернулись только через два дня, смертельно уставшие. Впереди было воскресенье и возможность наконец-то выспаться перед возвращением домой и началом рабочей недели — долгожданный двухнедельный отпуск заканчивался.
Но это значило в еще одно воскресенье пропустить службу, что казалось невыносимым. Я простился с Тимом и его семьей и выехал домой сразу же. В субботу вечером я добрался до своей гарлемской квартиры, а в воскресенье, к великому удивлению отца Иакова, прибыл в храм за десять минут до начала службы.
* * *
Так случилось, что до конца лета я почти ни с кем не общался: Игорь только что обзавелся новой польской подругой и все время проводил с ней, Ричик уехал на летние подработки, Тарас перешел к совершенно уединенному образу жизни, практически разорвав все внешние контакты, Кларисса на каникулах гостила у матери, Юра устроился таксистом и сутками крутил баранку. Я решил, что должен наконец-то прочесть всю Библию, от начала и до конца (хотя отец Иаков настоятельно советовал начинать с Нового Завета). Мир, открывшийся передо мной, был прекрасным и удивительным. Никакие оккультные сочинения, которые я получал от Гроднера, никакие Штайнер и Блаватская, никакой П.Д. Успенский, пишущий о своих встречах с загадочным Гурджиевым, не предлагали такого удивительного парения духа и просторов мысли. Все, что я раньше чувствовал инстинктивно, получало обоснованное и серьезное подтверждение. Никогда до этого я не подозревал, что моя вера настолько исторична и настолько документирована. Я столкнулся с вереницей свидетелей — реальных, куда более живых, чем герои любого, даже самого лучшего романа. Их жизнью, их упованием, их страданиями, падениями и невероятными взлетами пренебречь было нельзя. Это была сама истина, которая разворачивалась предо мною и находила свое воплощение в Личности Христа — Истине, пришедшей на землю и жившей среди людей. Людей, отказавшихся ее признать и подвергших ее мучительной смерти. Но она восторжествовала над смертью и над тлением. Иначе и быть не могло. Все остальное по сравнению с этим было вторичным и производным. Тот библейский август по-настоящему перевернул мою жизнь.
И все же. Удивительное дело, но при этом подъеме и вдохновении, я тем не менее не думал о моральной составляющей христианства. По всем внешним показателям жизнь моя продолжалась по-прежнему. Я во всеуслышание называл себя православным, носил крест, по воскресеньям ходил в церковь, но жил в пучине греха, по инерции считая это нормой. Хотя, конечно, сказать, что я совсем об этом не думал, было бы неправдой. Опять же инстинктивно я ощущал, что, наверное, что-то менять придется, и очень боялся этого. Но ведь жизнь тех немногих крещеных людей из моего прежнего окружения, с которыми я общался, ничем не отличалась от моей? Значит, я могу оставаться тем же? Поэтому я ни о чем не спрашивал у отца Иакова, а он сам не начинал разговора на эту тему, тактично ожидая инициативы с моей стороны.
* * *
В самом начале августа — душного и жаркого нью-йоркского августа — произошла моя встреча с Флоровским. Его я уже знал заочно, но не как знаменитого богослова, а как священника, год назад спустившего Гроднера с лестницы. Придя одним воскресным утром в церковь, я увидел очень худого согбенного священника с редкой седой бородой. Он был настолько слаб, что с трудом стоял.
— Кто это? — спросил я.
— Ты что, это великий богослов, отец Георгий Флоровский, — ответила Аня.
Отец Георгий служил литургию вместе с отцом Иаковом. После евангельского чтения он вышел на амвон для проповеди. Говорил старый священник очень тихо, так что все подошли поближе. Тем не менее почти ничего разобрать я не смог. Помню только, что самым повторяющимся словом в проповеди великого богослова было слово «любовь». После службы его вывели в зал, где все пили кофе, и посадили на стул. Меня подвели к нему и представили, сообщив, что я готовлюсь к крещению. Он сказал что-то ободряющее, осенил меня крестным знамением, а я поцеловал его узкую худую руку.
Через две недели отец Георгий скончался. Литургия в храме Христа Спасителя оказалась последней, которую он служил.
* * *
Тем временем лето подошло к концу. Вернулся с заработков Рич и также поселился у Оксаны. Теперь у нее обитали только четверо наших. Других жильцов не оставалось. Тогда мы уже выяснили, что арендная плата за квартиру составляла всего триста долларов в месяц (напомню, что каждую комнату наша хозяйка сдавала за половину этой суммы). Выяснили мы и то, что сама Оксана не была квартиросъемщиком, а переснимала жилье у какой-то безногой лесбиянки, проживавшей со своей «подругой» в Нью-Джерси. Поскольку наша хозяйка продолжала собираться к дочери в Техас, то дело было за малым: дождаться ее отъезда, выяснить адрес квартиросъемщицы, связаться с ней, договориться и остаться жить веселой коммуной в самой роскошной квартире нашей жизни. Главное, необходимо было оставаться в ней. Как только квартира освободилась бы от жильцов, она бы исчезла: поскольку сдать такую большую площадь за соответствующую ей цену в Гарлеме было нереально (да и закон не позволял многократное повышение арендной платы), хозяин просто разделил бы ее на две или три и сдал бы каждую — уже как новое жилье по рыночным расценкам. Поэтому выезжать мы не собирались ни при каких обстоятельствах.
План был всем хорош, но жизнь стала вносить свои коррективы. К сожалению, неизбежно повторился сценарий отношений Оксаны с другими жильцами: она за что-то на нас обиделась и потребовала выселения. Оставить у себя она соглашалась только Клариссу, к которой пока еще благоволила. Наученные горьким опытом, мы стали держать круговую оборону: как минимум, кто-то один из четырех постоянно дежурил дома, благо наши графики позволяли это делать. Иногда помогал Юра, приходивший в комнату Ричика отсыпаться после своих таксистских смен. Таким образом, менять замок Оксане не имело смысла: все равно один из нас открыл бы другим дверь изнутри. Но постепенно такая оборона делалась все обременительнее. Потом Игорь нашел новую компьютерную работу в Бостоне и уехал туда. Нас осталось только трое. Тарас, единственный человек, который мог как-то утихомирить Оксану, почти совсем перестал появляться: он делался все менее вменяемым.
* * *
И тут я вновь встретился с Тасей. Так звали болезненно полную и чрезвычайно словоохотливую натурщицу, которую я знал по прежней работе в московском Училище имени 1905 года. Говорила она без умолку, в основном жалуясь на жизнь, поэтому обычно под вежливым предлогом я старался побыстрее от нее сбежать. Бывало и так, что она загораживала выход своим массивным телом — деваться было некуда, и я вынужден был выслушивать ее бесконечные путаные истории. И вдруг в одно из воскресений я увидел ее в храме. Тася сказала, что недавно приехала в Нью-Йорк, прочитала мое имя в газетном объявлении об уроках русского языка, которые я вел в церкви, и пришла пообщаться со мною. Я беспокойно заерзал, но увернуться не удалось: долгий и занудный разговор начался. Тася опять жаловалась на жизнь и хотела знать, могут ли ей в храме выделить пособие на проживание: ведь она мать-одиночка, растящая шестнадцатилетнего сына, между прочим, талантливого резчика по дереву. Впрочем, определенную пользу из этого разговора я вынес: Тася упомянула, что снимает квартиру в Вашингтон-Хайте, на самом севере Манхэттена (еще выше Гарлема), и что в ее доме есть свободное жилье. Посоветовавшись с Ричиком, мы решили, что, если положение с Оксаной не изменится, мы рассмотрим эту возможность.
Но зато мы познакомились с Тасиным сыном Пашей. Высокий, худощавый и немногословный, он совсем не походил на свою мать. Вырезал он действительно здорово и, несмотря на еще подростковый возраст, мог сделать из дерева все — от мебели до художественных панелей. Паша зачастил к нам в гости и сразу же заинтересовался моим движением к Православию, хотя, как сам он тогда говорил, чисто теоретически. Но все же для такого «чисто теоретического» интереса он проявлял слишком много внимания. Он начал иногда заглядывать в церковь. Уже позже, когда Паша стал чаще ходить в храм, отец Иаков предложил ему заниматься резьбой с малышами. Но пока до этого было еще далеко…
Тем временем матушка Аня категорически заявила, что раз теперь я хожу в церковь сознательно, то, будучи оглашенным, должен покидать храм при возгласе «Оглашенные, изыдите!»
Тут я в первый раз запротестовал, сказав, что шататься сорок минут по улице глупо, а уходить домой я не могу, так как после службы у меня занятия с детьми. Отец Иаков поддержал меня. Ане пришлось признать бессмысленность своего требования и отступить.
А я все же наконец-то дозрел, чтобы задать отцу Иакову главный для меня на тот момент вопрос: может ли православный христианин вступать в плотские отношения с женщинами? Ответ, как я и подозревал, был весьма неутешительным для меня: вне брака не может.
«Но ведь это невозможно? — недоумевал я. — Неизвестно, когда я смогу жениться, может быть, еще через несколько лет, а ведь полный сил мужчина вообще такое длительное время не может воздерживаться. И для здоровья это вредно!»
Отец Иаков заверил меня, что это не так, и добавил, что если я хочу быть христианином, то должен стремиться исполнять заповеди. А они именно таковы. Длинный и подробный разговор оставил меня совершенно неудовлетворенным, но делать было нечего. Оказалось, условия для крещения не ограничивались еженедельными походами в церковь. Их было гораздо больше! Но, раз я уже это узнал, приходилось подчиняться новому правилу.
Эх, лучше бы я задал свой вопрос хоть чуть-чуть попозже! Буквально через несколько дней после этого Тарас объявил, что более не желает со всем нами, предателями Родины, общаться и разрывает отношения. Каким-то образом в число предателей Родины попала даже американка Кларисса. На красавицу-креолку я давно уже заглядывался. Теперь она стала официально свободной и я мог бы приударить за ней, не отбивая ее у приятеля. Но зато несвободным стал я! И хотя Кларисса посылала мне некоторые знаки заинтересованности, мне приходилось скрепя сердце их «не замечать».
Американская или Зарубежная?
Приблизительно в это время неожиданно позвонил Костя, с которым я не виделся после болезненного разрыва из-за моей (нашей?) бывшей подруги Бобби. Он рассказал, что недавно крестился в Православной Церкви, хочет попросить у меня прощения и восстановить нашу дружбу. Каково же было его удивление, когда я сообщил ему, что и сам готовлюсь к крещению! Но была одна загвоздка, и очень серьезная: Костя стал членом Синодальной (или Зарубежной Церкви), а я ходил в так называемую «Американскую» (ОСА[34] (ПЦА) — Православная Церковь в Америке). А ведь между этими Церквами в тот момент не было никаких отношений, не говоря уже о духовном общении! Мой бывший учитель Аркадий Гроднер называл первую из них «фашистской», а вторую «советской». Таково было расхожее мнение, конечно, совсем не соответствовавшее действительности.
* * *
Моя Церковь была основана на Аляске в конце XVIII века русскими миссионерами с Валаама. Постепенно она распространилась на всю территорию США и Канады. В начале XX века ее возглавлял архиепископ Тихон (Беллавин) — будущий исповедник, патриарх Московский и всея Руси. Тогда она объединяла все православные приходы этих двух стран: русские, греческие, сербские, арабские, румынские, болгарские и другие. После революции, лишившись поддержки империи, Церковь попала в очень тяжелое материальное положение и национальные приходы стали разбегаться по своим «юрисдикциям». Начало процессу положил Константинопольский Патриархат, который давно мечтал о расширении своего влияния за пределы турецкой территории и, в нарушение всех правил, послал в Америку епископа для окормления грекоязычных приходов, изначально входивших в русскую Архиепископию (затем Митрополию). За ним последовали остальные диаспоры. Вскоре русская Митрополия стала распространяться только на русскоязычные приходы, состоявшие по большей части из прибывших из Австро-Венгрии в конце XIX века карпатороссов (русинов) и немногочисленных русских белоэмигрантов. После Второй Мировой войны в США стали приезжать большие партии DP[35] (Ди-Пи). Так называли советских граждан, в ходе войны оставшихся на Западе и отказавшихся возвращаться в сталинский СССР. Некоторые из них действительно сотрудничали с нацистами (например, состояли в армии Власова), но большинство были простыми людьми, угнанными на работу в Германию и теперь опасавшимися стать «врагами народа» на своей родине. В лагерях для «перемещенных лиц» их окормляла Зарубежная Церковь (Русская Православная Церковь за рубежом — РПЦЗ), которая по распоряжению Гитлера стала единственной православной юрисдикцией на территории Третьего рейха и сохранила приходы в Германии после войны. Переезжая в США, эти люди брали с собой священников, а затем и епископов. Уже тогда отношения между Американской Митрополией и Парижским экзархатом, с одной стороны, и Зарубежной Церковью — с другой, были далеко не лучшими, и «синодалы», прибывая в США, не влились в существующую Русскую Церковь, а основали свою «юрисдикцию». Таким образом, в Америке оказалось целых три русских Церкви: ПЦА (самая многочисленная), Зарубежная Церковь и небольшое количество приходов, находящихся под прямым управлением РПЦ.
В 1970 году Митрополия получила автокефалию (церковную независимость) от РПЦ. Ключевую роль в этом процессе сыграли два протопресвитера: отец Александр Шмеман и отец Иоанн Мейендорф, пытавшиеся покончить со скандалом православного разделения в США. Действительно, в Церкви действует древнее апостольское правило: в одном городе может быть только один епископ. Иными словами, принцип устройства Церкви — территориальный, а не какой-либо другой (например, точно не национальный). Общее количество православных в США превышает шесть миллионов человек, а если добавить и Канаду, то наберется еще миллион. Итого — семь. Вполне достаточное количество для создания Поместной Православной Церкви: во многих Поместных Церквах (таких, например, как Иерусалимская, Кипрская, Александрийская) паствы куда меньше. Русская Мать-Церковь согласилась с этой идеей и даровала автокефалию своей американской митрополии. Так появилась ПЦА (ОСА). К ней присоединились албанцы, часть болгар и часть румын. Но это было все. Остальные американские православные юрисдикции отказались признавать Церковь в новом качестве (ведь тогда их патриархи утратили бы значительную часть доходов от своих диаспор и, что еще важнее, политическое влияние). Резче всех о новом качестве ПЦА отозвалась Зарубежная Церковь. Она заявила, что Митрополия пошла на сговор с Советами, была ими порабощена и теперь выполняет их политический заказ.
Отношения, и так далеко не безоблачные, испортились совсем. Евхаристическое общение, и без того практически отмененное, теперь было разорвано окончательно. Но если раньше Митрополию обвиняли в экуменизме, то теперь — в предательстве и капитуляции перед советской Церковью, то есть в конечном счете перед правительством СССР.
* * *
Так что Костя, горевший желанием неофита привести меня в свою Церковь, был разочарован. Наша принадлежность к разным юрисдикциям могла серьезно осложнить еще не успевшие полностью восстановиться отношения. Сразу возникла некая взаимная неловкость. Однако мы оба понимали, что это неправильно, и старались не показывать ее.
При следующей встрече Костя сообщил, что в ближайшие субботу-воскресенье хочет съездить в Джорданвилльский монастырь, для чего уже раздобыл машину, и предложил мне отправиться туда вместе с ним. Я сразу согласился — ведь в Джорданнвилле жил мой старый друг Алеша. Нужно было только позвонить отцу Иакову и сообщить, что в следующее воскресенье я буду отсутствовать по уважительной причине. Трубку взяла матушка Аня. Узнав о поводе моего звонка, она забеспокоилась. «Зачем тебе туда ехать? — начала допрашивать меня она. — Все равно ничего интересного там нет. Там одни мракобесы, фанатики и антисемиты».
Этот допрос с элементами психологического давления тянулся довольно долго, пока я не сказал, что не вижу смысла в ее попытке ограничить свободу моего передвижения и не позволить навестить друга. Тогда она замолкла, но все же попросила пообещать, что я не перейду к «синодалам».
Я ответил, что решений своих не меняю, но обещаний по такому странному поводу точно давать не буду и, кроме того, если синодалы хотя бы вполовину такие плохие, как она говорит, то почему она так боится, что я сбегу к ним? Я ведь не мазохист.
Аня с раздражением бросила трубку.
* * *
В субботу утром мы с Костей выехали из Нью-Йорка на север. Приближался конец ноября, но в городе погода была еще вполне теплой. По мере нашего продвижения (и удаления от океана) заметно холодало. В Нью-Йорке на деревьях еще оставалось довольно много разноцветной листвы, но километров через пятьдесят лес стоял уже совсем голый. После обеда мы подъехали к монастырю, располагавшемуся в сельской местности, среди распаханных полей, в нескольких милях от крохотного городка Джорданвилль, в центральной части обширного штата Нью-Йорк (одноименный штату город находится в самой южной его части, клином сходящейся к Атлантическому океану и к острову Лонг-Айленд, а на севере он доходит до Ниагарского водопада и граничит с Канадой). Температура была близка к отрицательной. В воздухе кружились первые редкие снежинки.
Золотые луковичные купола на зеленом шатре храма были заметны издали. Впрочем, на Россию аккуратные монастырские корпуса не походили вовсе. Скорее, они напоминали декорацию из голливудского фильма. Зато настоящим был Алеша: спокойный, умиротворенный, приветливый, но чуть-чуть снисходительный. Еще бы: ведь он теперь был уже послушником, ходил в подряснике и скуфейке и учился в семинарии. Он также несколько сник, когда узнал, что я попал «не в ту Церковь», но попытался не выдать перемены своего настроения, хотя и сказал, что в ПЦА Православие, конечно, не то чтобы ненастоящее, но все же не совсем то, что надо. И вообще, в Свято-Владимирской академии ПЦА все изучают высокое богословие по книгам, а вот в его Троицком монастыре пойдешь в храм, увидишь, как монах заплакал, и сразу поймешь куда больше. Этот аргумент я и потом слышал неоднократно, только никак не понимал, чем один способ познания мешает другому, да и вообще, не значит ли он, что учиться не стоит вовсе, только знай себе разглядывай плачущих монахов!
Алеша устроил нас на ночь в кельи и предупредил, что я могу столкнуться с не очень дружелюбным приемом — ПЦА тут не любят. Все это мне мало нравилось, но что было делать? Пришлось на двое суток смириться и влезть в шкуру гражданина второго сорта. Но во всяком случае, опасения матушки Ани, что я вдруг захочу перейти к синодалам, оказались явно беспочвенными. Те миссионерские усилия, которые они направляли на меня, явно были контрпродуктивными. Про мою принадлежность к «неправильной» Церкви сразу же узнавали все люди, с которыми мне пришлось общаться, и каждый из них так или иначе высказывал что-нибудь неодобрительное. Отношение ко мне было сдержанно-вежливое, но при этом напряженно-снисходительное, даже несколько насмешливое.
Но перемены, происшедшие с Алешей, были разительны. Куда девался прежний расхлябанный и неуправляемый хиппи? Тогда, в Италии, мне порой даже казалось, что у него развился своего рода паралич воли, из-за которого он стал неспособным к каким-либо осмысленным усилиям. За что бы он ни брался, он бросал на половине. Во время наших приключений в Италии мне с трудом удавалось заставить его даже помыть почерневшие от грязи ноги (все-таки мы жили в одной комнате) или немного прибрать в его углу. Теперь он являл собою верх дисциплинированности и организованности. Алеша учился, и вроде вполне успешно. В его аскетически холодной келье царил идеальный порядок. Спал он на доске, застеленной серым солдатским одеялом, и, по его словам, сам отключил отопление, так как ему нравится свежесть. И это в центре штата Нью-Йорк с суровыми зимами! Все это не могло не впечатлять. Но в остальном монастырь, да и синодалы в целом, не выглядели для меня сколько-нибудь вдохновляющими. Во-первых, весь антураж оставлял впечатление искусственности. Стилизованные постройки посреди какого-то очень нерусского пейзажа, яркие акриловые росписи внутри храма, с трудом говорящие по-русски семинаристы[36] да и вся, в общем, не слишком дружелюбная атмосфера скорее отталкивали, чем привлекали. Самым подлинным в этом месте мне показался Алеша и та перемена, которая с ним произошла. Но все же, вместо разговоров о Христе и христианской жизни, за которыми я ехал в монастырь, мой друг и его окружение почти все время прямо или косвенно обсуждали со мною вопрос «юрисдикций». Матушке Ане нечего было бояться: переходить к синодалам я не захотел.
Новый переезд
Дома я застал открыто враждебную Оксану, встретившую меня грязными ругательствами. Я закрылся в своей комнате и достал книги. Хозяйка ходила под дверью, высказывая все, что она про меня думает. Дальше так продолжаться не могло. Гори они синим пламенем, все мои надежды на большую квартиру! Утром я вышел из дому и, сев в метро, поехал к жилищу Таси. Находилось оно всего в милях полутора от моего нынешнего района. При желании можно было легко дойти пешком. Четырехэтажный кирпичный дом южной стороной выходил на маленький дворик, а северной — на высокий обрыв. Свободная двухкомнатная квартира на втором этаже тоже выходила на две стороны: маленькая комната и кухня — на юг, а большая комната с двумя окнами — на север. Вид на северный конец острова и далее на Бронкс простирался до самого горизонта. За окном была площадка пожарной лестницы, которую можно было использовать под балкон. Ричику, как художнику, больше подходила северная сторона с ровным светом и видом вдаль, а я вполне удовлетворился маленькой комнатой. Арендная плата составляла всего двести долларов в месяц, то есть за отдельную квартиру с нас причиталось в полтора раза дешевле, чем за комнаты в Оксаниной коммуналке!
Мы подписали договор и через сутки въехали в новое жилище. Единственной Оксаниной квартиранткой осталась Кларисса. На следующий день после нашего переезда Ричик уехал в загородный отель, куда он устроился работать официантом. В течение следующих трех месяцев он будет приезжать только на уикенды, да и то далеко не каждую неделю.
Так, впервые за все время заграничной жизни, я стал жить в собственном жилье. В кухне стоял холодильник, стол и две табуретки. Больше мебели в квартире не было. Мы раздобыли у знакомых два матраса и немного кухонной посуды. Для начала этого было достаточно. Мурка сразу же обжилась в новом месте и почувствовала себя как дома. Гулять она ходила на наш импровизированный балкон и готова была часами сидеть там и созерцать далекий вид. На свое имя она откликалась сразу и, стоило мне позвать ее, бежала ко мне из самого дальнего угла квартиры. Таинственным образом она умела распознавать звон моих ключей, и когда я, подходя к подъезду, доставал связку, она вспрыгивала на окно моей комнаты и смотрела вниз, а затем встречала меня возле дверей квартиры. Я много раз проверял: когда другие люди, подходя к дверям дома, звенели ключами, Мурки в окне не появлялось.
* * *
Итак, я начал обживаться на новом месте. Через два дня после нашего переезда со мною связалась Кларисса и сообщила, что Оксана неожиданно уехала в Техас к дочери и она осталась к большой квартире одна. Теперь предстояло выяснить адрес реальной съемщицы и договориться с ней. Я, грешным делом, позавидовал Клариссе: вот уж повезло так повезло! В какой квартире жить будет!
Но еще через день Кларисса позвонила мне опять: ей срочно требовалась помощь. Оказалось, Оксана все-таки подложила всем прощальную свинью. Дата ее отъезда была выбрана далеко не случайно: теперь в квартиру явились маршалы (так в США называются судебные исполнители) и сообщили ничего не подозревающей скрипачке, что за квартиру не платили уже три года и что по судебному ордеру она должна за сутки освободить помещение. И это накануне ответственной зимней сессии! Но переезжать ей было некуда.
Поскольку Ричард все равно был в отъезде, я предложил Клариссе пока пожить у меня и поехал помогать ей паковаться. Она арендовала целый крытый фургон, а так как вещей у нее было мало, то я, воспользовавшись случаем, собрал в Оксаниной квартире необходимую для новой жизни мебель и утварь: все равно завтра все это будет выкинуто на улицу, а Оксана так и не вернула ни мне, ни Ричику (ни, разумеется, Клариссе) наши задатки. Так наша новая квартира сразу стала обжитой и уютной: у нас появились кровати, столы и стулья, книжные шкафы, тумбочки и кухонная посуда.
…Много позже я узнал, что Оксанина жизнь закончилась трагически. Она добралась до Техаса и поселилась у дочери. Однако ужиться с ней она, разумеется, не смогла. Скандал следовал за скандалом. Потом болезнь все же взяла свое и наша бывшая хозяйка слегла: от рака кости ее стали чрезвычайно хрупкими и все время ломались, так что ходить она более не могла. Синдром развивался, и вскоре кости стали ломаться под тяжестью ее собственного тела, даже когда она просто лежала. Дочь приводила к ней священника, но Оксана отказалась даже впустить его к себе. В конце концов она покончила с собой, выпив несколько пузырьков со снотворными и болеутоляющими таблетками. Страшный конец страшной жизни!
Кларисса прожила у меня три недели и съехала перед западным Рождеством (25 декабря), которое она отмечала, как и все американцы, с родителями и всей большой семьей. Хотя я воспринимал Клариссу как приятельницу и старался не переходить черту (к некоторому недоумению моей гостьи), все же за это время пришлось пережить несколько весьма искусительных моментов. Но я держался. В самые напряженные минуты уходил в свою комнату и начинал читать Библию. Строчки прыгали у меня перед глазами, буквы расплывались, но, с Божьей помощью, мне удавалось справиться с искушением. Да, я принял решение о воздержании, не очень пока еще понимая его смысл и рассматривая его лишь как послушание. С другой стороны, я чувствовал, что не имею морального права проявлять к Клариссе знаки внимания, пользуясь ее зависимым положением, ведь я оказывал ей услугу, она чувствовала себя обязанной и была некоторым образом в моей власти (жить-то ей пока было негде).
Когда Кларисса наконец съехала, а Ричик явился на новогодние праздники, он потребовал от меня подробного отчета о том, как мы с красоткой-гостьей весело проводили время. Поначалу он просто не поверил, что я отказался воспользоваться такой возможностью. Помню, как Рич в лицах изображал соблазняющую меня Клариссу и мою оборону с Евангелием в руках. Делал он это очень смешно, и я хохотал вместе с остальными, пришедшими к нам в гости приятелями.
Я понимал, что, с точки зрения всей моей предыдущей жизни, отказ воспользоваться такой возможностью выглядел несусветной глупостью. Но в моей жизни уже появилось что-то иное, гораздо более важное, чем все правила моего тогдашнего окружения, да и всего внехристианского мира. И за это новое не жалко было стать посмешищем. За него не жалко было и умереть.
26 декабря мы пошли за елкой. Американцы покупают Christmas Tree[37] на Рождество, а на следующий день елочные базары сворачиваются, но еще пару дней стоят открытыми, и можно выбирать любой образец. Мы нашли себе роскошное дерево и потащили его домой. С наряженной елкой квартира приобрела совсем уже обжитой и уютный вид.
Рождественский пост я пока еще не соблюдал, а отец Иаков предпочитал не форсировать события. Мы весело отметили Новый год, и я стал готовиться к Рождеству.
Новые и старые прихожане
Староста храма — старый казак, участник Белого движения Борис Григорьевич — привлек меня и еще нескольких русских прихожан к предпраздничному оформлению храма. Теперь я в приходе уже не чувствовал себя одиноким и перезнакомился почти со всеми. Борис Григорьевич всей душой радовался появлению в храме русской молодежи, пусть пока еще и немногочисленной. Он приехал в Америку совсем еще молодым человеком в начале 20-х годов и был в числе основателей нашего храма. В те годы он оставался последним его стражем и очень горевал, что жизнь русского прихода подходила к концу. В нас он увидел новую надежду и теперь сознавал, что сможет спокойно умереть, зная, что славянское богослужение в его родном храме продолжится.
* * *
Как оказалось, несколько наших прихожан жили в моем новом районе, и мы стали ходить друг к другу в гости. Старого поэта Глеба Глинку я как-то видел у Гроднера. Впрочем, посиделки у эзотерика он посетил всего один раз и больше к нему не являлся. Зато очень обрадовался, увидев меня в храме, к прихожанам которого причислял себя. Глинка, потомок великого композитора, начинал как поэт еще в довоенном СССР, где опубликовал один или два сборника. С началом войны был отправлен на фронт офицером, попал в плен, прошел концлагеря и в конце концов оказался в США. Поначалу работал на фабриках, потом пристроился на четверть ставки в Нью-Йоркский университет, где благополучно преподавал до пенсии русскую литературу. Основной доход в семью приносила его жена. Глеб Александрович писал стихи, участвовал в эмигрантских литературных посиделках и заседаниях, входил в редколлегию двух русскоязычных журналов. Английскому он так никогда хорошо и не научился. Американские студентки-славистки его обожали, и он всегда был окружен их щебечущей стайкой. В эмиграции Глеб Глинка, несомненно, считался мэтром. Конечно, он был вполне профессиональным поэтом, но, увы, не слишком выдающимся. Однако пара-тройка его стихотворений все же затрагивала душу.
Благородной внешности, с холеными усами и белоснежной профессорской бородкой, Глеб Александрович был завидным украшением любых заседаний и банкетов. Теперь я понимаю, что он так и не стал по-настоящему церковным человеком, да и личная жизнь его была далеко не безупречной, но ко мне он отнесся очень сердечно и помог мне сделать первые шаги в Церкви. Ведь тогда я воспринимал его как настоящего учителя веры: в отличие от претендовавшей на эту роль Ани, он был весьма сведущим носителем бытового Православия — гораздо в большей степени, чем отец Иаков и тем более его молодая матушка. Того самого бытового Православия, которого мы были напрочь лишены в СССР. Так что мне многое удалось от него почерпнуть. После моего поступления в Свято-Владимирскую академию Глинка сделал мне очень дорогой подарок: свою старую русскоязычную печатную машинку, которую он приобрел еще в конце сороковых. «Стихов я больше не пишу, — вздохнув, сказал он, — и вам она теперь будет куда нужнее, чем мне. Берите!»
Тяжелая и громоздкая, эта машинка прожила со мною всю докомпьютерную эпоху. На ней я написал многие курсовики, кандидатскую работу и бесчисленное количество писем маме и разным моим друзьям. Расстался с машинкой я только перед возвращением в Москву, куда ехал со своим первым компьютером.
До сих пор на моей книжной полке стоят два поэтических сборника давно уже покойного Глеба Александровича, которые он подарил на мое крещение, с теплой надписью: «Новоявленному братишке во Христе». Как поэт он давно уже забыт, но я стараюсь ежедневно поминать его в своих молитвах.
* * *
Было в приходе и несколько художников. Московский абстракционист Игорь Синявин казался мне эталоном Православия. Он носил окладистую русую бороду и стриженные в кружок волосы. Мне очень нравилась его семья — жена и сын. Жена была настоящей русской красавицей, а сын-подросток выглядел копией отрока Варфоломея с картины Нестерова. Они были очень правильными православными: носили правильную одежду, правильно крестились, правильно ставили свечи. Я бывал у них в гостях. Синявин много рассказывал об отце Димитрии Дудко, чадом которого он себя называл, и даже подарил мне изданный им в Нью-Йорке сборник проповедей московского пастыря.
Петербургский художник Юра Терлецкий появился в храме несколькими месяцами позже меня и тоже начал готовиться к крещению. Его положение осложнялось тем, что жена его резко выступала против крещения и не позволяла крестить их маленького сына. Поэтому Юриной задачей было не только подготовиться самому, но и убедить жену.
В СССР Юра считался авангардистом. Так называли художников, не входящих в официальные союзы и работающих вне единственного признанного стиля — соцреализма. Юра был настоящим художником и работал на высоком профессиональном уровне. Еще один из «поколения дворников и сторожей», он в конце концов решил эмигрировать, чтобы беспрепятственно заниматься искусством. Но, несмотря на то, что в новой стране он не испытывал каких-либо гонений, зарабатывать искусством без известного имени и сложившейся репутации оказалось весьма сложно. Да и жена, хорошенькая молодая женщина, вышедшая в Питере замуж за известного в определенных кругах художника, окутанного романтическим флером, в Нью-Йорке оказалась женой неудачника, едва сводящего концы с концами. К тому же соблазнов (то есть всего, что можно приобрести за деньги) тут было несравненно больше, чем дома. Галина обучилась на курсах бухгалтеров, устроилась в фирму и сразу стала зарабатывать куда больше, чем ее муж. Кроме того, неизбежно возникала мысль, что с ее внешними данными она могла бы куда удачнее выйти замуж, оставить скучную работу, не ютиться в тесной квартирке, лучше одеваться, не заниматься домашним хозяйством и т.д. В общем, семейная жизнь Терлецких трещала по швам.
Должен сказать, что Юрина ситуация была типичной для многих эмигрантов «третьей волны». У новоприехавших в США быстро происходила переоценка ценностей, и часто она оказывалась роковой для их семей. Дело в том, что в новой стране ценились совсем иные качества, чем на Родине. Скажем, как я уже писал, обязательным свойством советского интеллигента (а большинство эмиграции составляла научно-техническая интеллигенция) считалась любовь к чтению. Полагалось быть в курсе книжных новинок, доставать и прочитывать дефицитные издания, которые потом жарко обсуждались дома на кухнях и за рабочим кульманом. Полагалось пренебрегать материальным (поскольку покупательные возможности были весьма ограничены и жили все примерно одинаково, то и пренебрегать бытом было легко). Даже и меню на торжествах у всех всегда было одно и то же: салат «оливье», винегрет, колбаса (предел мечтаний — сырокопченая), российский или голландский сыр, латвийские шпроты (или эстонские кильки), на горячее — мясо с картошкой и чай с кремовым тортом. Различались только частности. Запивать это разнообразие можно было советским шампанским (для дам) и водкой (для сильной половины человечества). Самые успешные заменяли водку армянским коньяком. Пили тоже все организованно, только под тосты.
Даже одевались все одинаково — в зависимости от скудного ассортимента местных магазинов или ограниченного запаса выкроек в портняжных ателье. Когда появились джинсы, все стали копить на них деньги, и постепенно вся советская интеллигенция поголовно стала джинсовой. Это был знак статуса (и качества).
В общем, и внешний облик, и стиль жизни, и манера поведения были изначально заданы. В Америке же все оказалось наоборот. Обилие стилей, разнообразие кухонь, величина жилья, престижность районов и многое другое — все поражало почти что бесконечным количеством вариантов. В СССР большинство населения знало, что есть некая социальная крыша, выше которой, при всем старании, прыгнуть невозможно. В Америке она отсутствовала: хотя бы теоретически добиться можно было чего угодно. Но для достижения любой цели нужны были деньги! И больше всего стали цениться именно те качества, которые эти деньги приносили, а вовсе не умение красиво рассуждать на кухне, писать никому не нужные стихи или рисовать непродающиеся картины. Многие впервые обнаруживали, что их совсем не интересует литература, и с радостью переставали читать. Никакого давления среды больше не существовало. Дефицитных выставок и концертов тоже не было: при наличии денег билет можно было приобрести на любое мероприятие. Если, конечно, оно тебя интересовало. Люди изменялись очень быстро, впервые становясь тем, кем они были на самом деле. То социальное давление, которое, разумеется, тоже существовало в американском обществе (и не менее жестко, чем в советском), их пока не затрагивало, и большинство эмигрантов начинали вести себя, повинуясь лишь своим глубинным инстинктам. Я имел возможность наблюдать это в кружке литераторов, живших в моем районе, полностью окунувшихся в гастрономическое и сексуальное изобретательство. Лидерами этого «экспериментаторского» кружка стали два известных публициста, приехавших в Нью-Йорк из Риги. Казалось, они поставили себе целью «отработать» на себе все то, что в их прежней стране считалось непристойным или неприличным. Другие индивидуумы находили другие увлечения.
Для многих семей это становилось непосильным испытанием, которого они не выдерживали. В первую очередь, это коснулось жен представителей артистической, богемной среды. Ведь годы шли, а женский век короток: еще несколько лет, и уже никогда не сможешь урвать от жизни массу недоданных мужем-неудачником удовольствий и развлечений. Жены бросали своих не приносящих достаточного дохода мужей, либо начиная зарабатывать самостоятельно и тем самым становясь независимыми, либо уходя к более денежным соперникам (например, к ранее презираемым «технарям» или «фарцовщикам»). Высшей удачей считалось найти себе состоятельного американца.
* * *
В качестве примера приведу историю одного моего дальнего знакомца. Назовем его Вениамин Шифрин. Вначале он приехал в Нью-Йорк один, но вскоре выписал невесту —молоденькую, модельной внешности девушку из Москвы по имени Нина. Сам он был опытным человеком, лет под тридцать, и считал, что хорошо знает жизнь. Свадьбу решил устраивать в синагоге, сказавшись верующим евреем, бежавшим от советского антисемитизма. Для этого заставил Нину официально принять иудаизм. Расчет был на то, что он получит много подарков (по преимуществу в долларовом эквиваленте), которые помогут ему безбедно начать семейную жизнь. Подарки ему вручили, но довольно однообразные: сердобольные прихожане синагоги подходили по одному и вручали пострадавшему от гонений собрату аккуратно завернутые коробочки. Когда Вениамин дома открыл их, то оказался счастливым обладателем восемнадцати тостеров (в ближайшем к синагоге магазине шла распродажа этих агрегатов). На этом его контакт с иудаизмом завершился. Потом Веня долго ходил по всем знакомым и предлагал купить тостер по дешевке. Молодая жена смотрела ему в рот и исполняла каждую его прихоть. Однако постоянного источника дохода у них так и не появилось, и Вениамин решил послать ее на компьютерные курсы.
Уже когда я поступил в академию, Веня появился в храме отца Иакова и заявил, что хочет принять крещение. Крестили его через несколько лет после меня. К тому времени жена его, проявив небывалые способности в компьютерном деле, уже успела сделать карьеру и получала высокое жалование. Шифрин жил припеваючи. Он подружился почти со всеми прихожанами и, как выяснилось позже, одолжил у многих из них значительные суммы денег, после чего уехал с Ниной в Японию, куда ее послали представлять интересы фирмы. Одолженные деньги улетели вместе с Веней.
Вернулся в Нью-Йорк он несколько лет спустя. Нина стала уже владелицей фирмы. Состояние ее исчислялось десятками миллионов долларов. Семья Шифриных вселилась в новую громадную квартиру в престижном Аппер-Ист-Сайде, куда Веня любил приглашать знакомых и рассказывать про японскую жизнь. Нина в это время ездила по командировкам, развивая обороты своей фирмы. Шифрин так и не начал работать и чем дальше, тем больше опускался. Кончилось все плачевно: все еще молодая и привлекательная Нина влюбилась в какого-то американского компьютерщика и исчезла из Вениной жизни, оставив ему, правда, ту самую роскошную квартиру, которой он столь гордился. В конце концов ее пришлось продать. Вениамин исчез с нашего горизонта вместе с ней.
Впрочем, многие подобные истории блестяще отражены в произведениях Довлатова, детально описавшего жизнь «новых американцев». Многих из героев его повестей и рассказов я знал лично.
Наверное, эмиграция сбрасывала все условные ограничения и выявляла подлинную сущность человека, наконец-то начинавшего жить той жизнью, к которой подсознательно стремился всегда. Забегая вперед, можно сказать, что этот феномен объясняет и ту перемену, которая произошла с жителями одной шестой части суши после падения СССР. Своего рода вынужденную эмиграцию прошел весь советский народ, который заснул в одной стране, а проснулся в другой. Точнее даже — в других. Все старые сдерживающие факторы обрушились (к тому же в последние годы СССР они существовали не более чем условно), остался один инстинкт выживания. Отсюда тот «дикий капитализм» девяностых с его преступностью, моральным распадом и общим одичанием, последствия которого мы еще долго будем ощущать.
* * *
Семья Терлецких пока держалась, но с трудом. Мы общались с Юрой в храме. Потом сын его оставался на мои занятия, после которых мы вместе ехали домой. Вечерами Юра часто приходил ко мне, мы зажигали свечи, читали Евангелие и молились. Теплым желтым огнем свечи освещали висевшие в моей комнате иконы и придавали особую значимость взгляду Христа, Его Матери и святых, взирающих на нас. Очень хорошо помню тогдашнее неповторимое ощущение от вечерней молитвы, от совершенно особых евангельских слов, которые мы читали по очереди, и от чувства приближающегося таинственного события Рождества Христова, праздника явления в мир Бога Слова. Ведь это станет первым Рождеством, которое я буду отмечать сознательно. Первая моя рождественская елка мигала разноцветными огоньками. Проводящий каникулы дома Ричик посмеивался над нами, но все же часто заходил ко мне в комнату, чтобы задать тот или иной вопрос. Похоже, он начал серьезно задумываться.
Приезжал на наши вечерние посиделки и Сергей — еще один художник-нонконформист, бывший москвич. Сергей был воцерковленным человеком и алтарничал в православном храме в Бруклине, о чем с удовольствием и многими живописными подробностями рассказывал. Именно от него я получил начальные знания о богослужении.
Спускался в нашу квартиру и Паша, сын Таси с четвертого этажа, к тому времени с нами подружившийся. Именно тогда он начал изредка заходить в храм, как он говорил, лишь из чисто культурного интереса. Ну что же, пусть так. Я не форсировал события…
Крещение
После праздника отец Иаков велел мне готовиться к крещению: наконец мое время пришло. Самое важное событие моей жизни назначили на праздник Крещения Господня, 19 января 1980 года. Предстояло выбрать крестных. Я хотел было попросить стать своей восприемницей одну пожилую, но весьма энергичную эмигрантку еще из первой, послереволюционной волны, княгиню Екатерину Аполлинарьевну Львову. Высокая, сутуловатая и худая, тетя Катя (она предпочитала, чтобы ее называли именно так), при внешней резкости и даже некой нарочитой грубости, была очень сердечной и самоотверженной женщиной. У меня (да и не только у меня) она вызывала восхищение. Но, как только отец Иаков сказал мне о дате крещения, матушка Аня безапелляционно заявила, что моей крестной будет она сама. Я вновь решил смириться и не возражать. Крестным попросили стать прихожанина по имени Николай — из нашей, третьей волны эмиграции. Уже потом я узнал, что при крещении взрослого человека требуется всего один восприемник того же пола, что он сам. Так что Аня на моих крестинах играла не более чем декоративную роль и моей крестной матерью называться никак не могла.
На вечер накануне крещения была назначена генеральная исповедь за всю мою жизнь. К ней я хотел подготовиться заранее, чтобы не забыть ничего из того множества грехов, которые я успел совершить за свои двадцать четыре года. Бог послал мне такую возможность: я подхватил какой-то очень зловредный вирус и на неделю слег в постель. Я молился, читал Писание и вспоминал свои грехи. И вдруг именно в эти дни мне пришло большое (страниц на пятнадцать) письмо от моего дедушки, который выражал беспокойство тем, что я решил креститься, и уговаривал меня отказаться от этого шага. Письмо было написано с позиций атеизма. Дед приводил расхожие доказательства ненаучности веры в Бога, противоречий в Библии и прочее, а в конце с горечью заявлял, что, как он надеялся, его внук, которого он воспитывал в свободомыслии и независимости и который, как ему казалось, реализовал мечту всей его жизни и выбрал свободу, теперь отдает себя в рабство, делается верующим и готовится к крещению, отказываясь от свободы ради тотального религиозного порабощения.
Тут же, лежа в постели, я начал писать ответ. Он вышел большим: на восемнадцать страниц. Я легко опровергал аргументы своего деда и приводил свои, куда более логичные и стройные. Бедный дедушка: такие простые ответы были закрыты от него — настолько он был загипнотизирован, позитивистской пропагандой начала XX века, под влиянием которой сложились его убеждения. Но, с другой стороны, каким образом в условиях советского диктата он мог познакомиться с ними? Но главное, я объяснял, что без Бога истинная, подлинная свобода невозможна. Крещение, писал я, — это продуманный шаг, и я выбираю именно свободу, ведь к вере и Богу я пришел благодаря воспитанию в свободолюбии. Поэтому мое обращение к Богу и Его Церкви и есть реализация стремления моего деда к свободе, даже если он сам и не понимает этого. Дедушку мои аргументы, к сожалению, не убедили, но произвели на него впечатление, и он смирился с моим выбором. Но, возможно, они убедили кого-то другого: когда письмо дошло до Москвы, мама дала его почитать своим подругам, а те перепечатали текст и запустили его в самиздат. Так появилась на свет моя первая апологетическая публикация.
Я много думал о прожитых годах своей запутанной и грешной жизни и о самом движении хиппи, к которому, как мне казалось, я принадлежал. Начиная с семнадцати лет это слово стало моей главной самоидентификацией. Теперь мне уже двадцать четыре. Целых семь лет. Практически вся моя взрослая жизнь… Главным смыслом отъезда в эмиграцию для меня виделось соединение со своими хипповыми братьями. Но их в Америке уже почти не оставалось, а те, кто все же встречались мне, никак не выглядели сколько-нибудь привлекательными или интересными. Нет более грустного зрелища, чем постаревший хиппи, стремящийся изображать детскую непосредственность и отказывающийся нести ответственность за что-либо. В России мы стеснялись вслух называть себя хиппи: это высокое звание еще следовало заслужить. Себя мы считали жалкими эпигонами тех настоящих хиппи, которые, как мы думали, проживают на Западе. Теперь я понял, что, возможно, мы и были единственными настоящими хиппи. Да, на Западе к этому движению принадлежали очень многие. Но большинство хипповали пару месяцев (или лет), а потом шли дальше учиться в университеты. Никакого влияния на их дальнейшую жизнь этот поступок не оказывал. Мы же, как и положено русским мальчикам, о которых писал еще Достоевский, ко всему относились слишком серьезно и, вступив в эту игру, рисковали многим — куда большим, чем наши западные единомышленники. Однажды принятое участие в протестном движении означало клеймо на всю жизнь, конец любой карьеры, угрозу психушки, тюремного заключения, а может быть даже, и преждевременную смерть. Лишь немногим из нас удалось уехать за границу и начать все сначала. Из тех, кто остался, большая часть уже давно в могиле. Живы за несколькими исключениями только те, кто обратился к Богу и стал православным, начав таким образом новую жизнь.
Но если мы и были практически единственными настоящими хиппи и я тем не менее глубоко разочаровался в этом образе жизни и в той идеологии, которая за ним стояла, если я увидел всю ее тщетность и в конечном итоге гибельность, то имело ли смысл мне по-прежнему причислять себя к этому движению? Свобода, которую оно обещало, оказалась не меньшим порабощением, чем то, которого мы стремились избежать. И вот наконец Бог привел меня к настоящей свободе, единственно возможной в этом мире. Привел, несмотря на все мои страшные грехи! Да еще и дарует мне возможность навсегда изгладить их… Привел не по моим заслугам, но по Своей неизреченной милости. Теперь главная моя задача — удержаться в этой свободе, оказаться хоть иногда, хоть отчасти достойным ее.
Я сознательно перестал быть хиппи и готовился стать христианином. Мое время пришло
* * *
Но это — теоретически. Практически же я был настолько болен, что не представлял себе, как я смогу встать, выйти из дома, ехать на метро, не говоря уже о самом крещении. Температура не спадала, сил не было совершенно. Вечером накануне я все же доплелся до храма и исповедался за всю жизнь. Отец Иаков сказал, что разрешительную молитву он пока прочесть не может, но что все мои грехи будут смыты с меня водами крещения.
Дома мне стало еще хуже. Ночь я не спал: кости ломило, из носа текло, грудь была заложена. Впору было отменять крещение. Но уж слишком долго я ждал этого дня, чтобы вновь его откладывать! Я выполз из постели и поковылял в храм.
Крещение было назначено на утро перед литургией. Купели для взрослых в храме тогда не было, и отец Иаков изобрел оригинальный способ сотворить одноразовый баптистерий. Из маленького церковного садика, находящегося за домом, были взяты четыре дощатые загородки высотой примерно в метр двадцать и поставлены посреди трапезной квадратом. Углы надежно закрепили. Внутри это сооружение выстлали большим (четыре на четыре) пластиковым полотном. Купель была готова – можно было заливать воду!
В храме собрались мои друзья, даже Ричик с Юрой пришли. Я по лесенке перелез в купель и, присев, три раза погрузился в крещальные воды. Когда я восстал, то почувствовал себя совершенно новым человеком. Как будто бы кто-то снял пелену со всех моих органов чувств, и я увидел весь мир заново. Я ощущал свое тело абсолютно прозрачным: мне казалось, я видел, как кровь струится по моим жилам, как бьется сердце, как дышат легкие. После миропомазания я пережил невероятную радость духа. Потом началась литургия. Всю службу я стоял в белой рубахе новокрещеного и снял ее только после своего первого Причастия.
Кстати сказать, о моей болезни я вспомнил только вечером. Она ушла, как будто ее не было вовсе.
После литургии все сели за праздничную трапезу в той самой комнате, где меня только что крестили и откуда уже успели вынести мою купель. Начиная с десятого класса я был заядлым курильщиком. Последнее время я бросил курить покупные сигареты и перешел на самокрутки, для которых специально покупал табак и особую бумагу. Так выходило дешевле, а кроме того, курить я стал меньше: одно дело доставать готовую сигарету, а другое — скручивать ее. Это делаешь только тогда, когда по-настоящему захочешь покурить. Но покупной табак мне и нравился больше. Вскоре я уже не мог выносить запаха сигарет и недоумевал, как мог так долго потреблять столь вонючий продукт. Но о том, чтобы бросить курить совсем, вопрос не стоял. Я даже не думал про это.
И вот теперь я изготовил самокрутку и вышел на улицу покурить. Я даже щелкнул было зажигалкой, поднес ее к сигарете… и вдруг практически явственно увидел, сколько копоти теперь осядет на мою новообретенную прозрачность. Я достал самокрутку изо рта, бросил ее в урну и спрятал зажигалку в карман. Так я бросил курить. К удивлению, это оказалось совсем не сложным делом — к сему занятию меня больше совсем не тянуло. Может, конечно, тут сыграло роль и то, что, как я уже писал, дым сигарет, обильно распространяемый моими приятелями, не привлекал меня совершенно, а людей, курящих самокрутки, встретить можно было весьма и весьма редко. Но, наверное, главным все же была Божия благодать, дарованная новокрещеному.
И, как я вижу теперь, мои первоначальные ожидания ценного подарка, который мог бы в честь крещения мне дать отец Иаков, оказались не совсем беспочвенными. Просто этот подарок был намного ценнее, чем все, что я мог себе представить: им стала церковная жизнь, к которой он меня приучил и которой я живу вот уже более тридцати лет. И в этом, конечно, тоже действие Промысла Божьего.
Разумеется, те первые ощущения благодатной новой жизни скоро ушли — так бывает всегда. Господь приучает человека к самостоятельности. Так мы и живем: методом проб и ошибок, падений и подъемов, провалов и новых стартов…
Было бы вопиющей неправдой сказать, что после крещения я стал совершенно другим человеком, безгрешным и святым. Да, я заново родился во Христе, но мой ветхий человек пока еще никуда не делся, а новая жизнь лишь начала пробиваться тоненьким ростком. За ее выживание пришлось вступить в борьбу, в которой, увы, бывают не только победы, но и поражения. Но, по крайней мере, я знал, куда иду, и имел хоть немного мужества и терпения (наверное, прежде всего упрямства) подниматься после каждого падения и провала. Наверное, из этих подъемов и с помощью Божьей возобновлений прерванного пути и состоит христианская жизнь.
Начало новой жизни
Вскоре после крещения отец Иаков ввел меня в алтарь и стал приучать к прислуживанию и чтению в храме. У нас в штате состояло два священника, но каждый был ответственен за свою общину: отец Иаков — за русскоязычную, а отец Стивен Пламли — за американскую. По воскресеньям служилось две литургии: ранняя (на приставном престоле) — по-английски и поздняя — по-славянски. Всенощная была одна — на двух языках. Большие праздники тоже совершались совместно и двуязычно. Так постепенно я знакомился с английским богослужением. Но в целом американцы держались обособленно, и большинство из них я знал только в лицо. Многие казались мне довольно странными и желания общаться не вызывали. Впоследствии эта странность нашла объяснение. Но пока мне было непонятно несколько даже заискивающее отношение отца Иакова и Ани к американцам. Аня эмоционально восторгалась какой-то толстой, неповоротливой и весьма неприветливой Сарой и при встрече, картинно распростерши руки, бежала ее лобызать. Сара, глядя сквозь толстенные стекла очков, что-то буркала в ответ. Познакомили меня и с Сариным женихом Стивеном — неряшливо одетым, взлохмаченным очкариком, как казалось, с постоянно рассеянным вниманием. В общем, поначалу мое впечатление от американского Православия оставляло желать лучшего. Даже отец Стивен Пламли и его жена Каролина — пожилая американская пара с намертво приклеенными к лицу фальшивыми улыбками — не вызывали особого доверия. Однако, когда я поделился этим своим наблюдением с отцом Иаковом, он страшно рассердился и накричал на меня, обвинив в снобизме. Я со стыдом повинился, но, как ни старался пересилить себя, так и не смог установить более близкие отношения ни с кем из приходских американцев.
* * *
Впрочем, и среди тех, кто имел отношение к русской общине, попадались весьма странные люди. Помню супружескую чету заслуженных московских диссидентов Бориса Шпагина и его супругу Наталью с диковинной фамилией Гоморрская. Аня звала их «Борька» и «Наташка» и нахваливала как очень хороших людей. Странновато было слышать такие обращения из уст двадцатилетней особы, да еще по отношению к весьма пожилому низенькому толстячку с ореолом рыжеватых волос вокруг розовой лысины и крупной, рыхлой даме лет за пятьдесят с неряшливо подведенными губами и растрепанными волосами, крашенными в какой-то невообразимый медный цвет. «Наташка» считалась православной и даже изредка приходила на службы, а «Борька», несмотря на свою давнюю дружбу с отцом Иаковом, оставался непримиримым воинствующим атеистом. В храм он не заходил никогда, но появлялся после окончания службы и встречал жену в комнате, где мы пили кофе после литургии. Однажды он явился пораньше. Мы вышли из храма и застали его тихо сидящим в уголке. Как и положено, перед началом трапезы начали петь «Отче наш». Вдруг я услышал грохот падающего стула и, обернувшись, успел заметить Шпагина, пулей вылетающего на улицу. Допев молитву, я вышел за ним. «Борька» нервно курил сигарету.
— Что-то случилось? — спросил я его.
— Не могу слышать этих слов, — надрывно прохрипел диссидент. — Почему вы, верующие, всегда меня ими мучаете?
Я не знал, что ответить на такую странную претензию, и вернулся в трапезную пить кофе. «Борька» со своими сигаретами и оскорбленными чувствами остался на улице.
* * *
В университете начался последний семестр учебы. Нужно было думать о том, что делать дальше. Несколько моих профессоров рекомендовали меня в магистратуру Колумбийского университета, и я подал документы на кафедру классической русской литературы: я собирался специализироваться по Серебряному веку, вероятнее всего по Владиславу Ходасевичу, которым тогда зачитывался. Но тут в моей жизни произошла еще одна важная встреча.
Дело было Великим постом. Отец Иаков позвонил мне и сообщил, что завтра на всенощной в храме будет присутствовать очень известный человек — выдающийся историк, диссидент и исповедник Анатолий Краснов-Левитин. Тогда я этого имени ни разу не слышал и для меня оно ничего не значило, но авторитет пострадавшего за веру христианина из России, да еще с таким стажем, не мог не вызывать трепетного уважения. Позже я узнал, что Краснов-Левитин в 30-е годы уклонялся в обновленческий раскол, был очень близок к лидеру обновленцев Александру Введенскому и даже служил у него диаконом. Потом он покаялся, занимался диссидентской деятельностью и написал весьма объемную, хотя и сильно беллетризированную «Историю обновленческого раскола». Это сочинение, в большей степени мемуарного, чем исторического, характера, тем не менее представляет собой чрезвычайно интересный и часто незаменимый документ. Но, как и к любому личному свидетельству, к ней нужно относиться с определенной осторожностью.
В тот вечер что-то меня задержало и я немного опоздал к началу богослужения. Первое, что я заметил, войдя в храм, — это чрезвычайно странное чтение. Не могу даже воспроизвести его, но никогда более за всю свою церковную жизнь такого чтения я не слышал. Чтеца не было видно. Я вошел в алтарь и выглянул на клирос. Там с книгой стоял маленький, толстенький, стриженный «под бобрик» человечек со смешными чертами лица и носом картошкой. Это и был великий церковный деятель.
После всенощной отец Иаков подвел меня к нему. «Как вас зовут? — высоким резким голосом спросил меня старик. — Александр? А почему вы до сих пор не учитесь в Свято-Владимирской академии?»
Вопрос меня потряс. Вообще-то, я несколько раз думал об учебе в академии, но чисто теоретически. Этими своими мыслями я не делился даже с отцом Иаковом. Мне казалось, что для меня еще рано даже мечтать об изучении богословия: ведь я только что крестился и был еще совсем новичком в Церкви.
Но то, что Краснов-Левитин с первого взгляда угадал мои сокровенные мысли, очевидно, было неспроста. Я воспринял его слова как указание свыше, и в следующий же уикенд, испросив благословение у отца Иакова, отправился в академию для первого знакомства.
* * *
Православное учебное заведение располагалось за городом, в северном предместье Нью-Йорка, застроенном дорогими особняками, стоявшими на больших ухоженных участках земли. От станции до места я прошел минут за пятнадцать. На сравнительно небольшой территории, занимавшей покатую сторону холма с озерцом на вершине, просторно размещалось несколько зданий. Одно из них было крошечным академическим храмом (уже при мне его снесут и построят большой храм, сразу бросающийся в глаза). Через всю территорию протекал ручей, который водопадом скатывался из озера, образуя небольшую заводь. Все было компактно, уютно и красиво. Я провел в академии целый день, общался со студентами, пообедал с ними и остался на всенощную. К сожалению, ректор, отец Александр Шмеман, был в отъезде, и мне не удалось тогда познакомиться с ним. Зато я впервые встретился с отцом Иоанном Мейендорфом, который после всенощной пригласил меня к себе на чай: он жил в пяти минутах ходьбы от академии. Принимала нас его жена Мария Алексеевна. По-моему, на чаепитии присутствовали и две его дочери, но их в тот вечер я совсем не запомнил. В общем, домой я ехал с твердым намерением поступать в академию.
Но были два обстоятельства, смущавших меня. Одно из них — боязнь общежитской жизни, которая выработалась у меня еще с отрочества. Ничего общинного я на дух не выносил. Как я переживу отсутствие личного пространства, я себе даже представить не мог. Да и что было делать с моей Муркой? Но учеба в академии другого выбора не предполагала, так что приходилось смиряться и думать, как приспособиться.
Если, конечно, я поеду в академию. Повод для сомнений появился почти сразу. В понедельник в почтовом ящике я нашел письмо из Колумбийского университета, в котором сообщалось, что меня принимают в магистратуру на весьма выгодных условиях и предоставляют вполне приличную стипендию. О Колумбийском университете я давно мечтал: серые, увитые плющом неоготические корпуса, зеленые лужайки, на которых с книгами лежали учащиеся там счастливчики, громадная солнечная библиотека — все это представляло для меня образ идеального учебного заведения. По моей специальности кафедра, на которую меня принимали, была одной из лучших в США. Я остался бы в почти ставшем мне родным городе, жил бы в своей старой квартире с Муркой, среди старых друзей. А в академию можно поступить и попозже. После магистратуры. Это всего два года. Академия ведь никуда не убежит?
К тому времени я уже привык к своему новому району. В нем оказалось много преимуществ. Расположенный на самом севере Манхэттена, в самой высокой его части (в небольшом парке через дорогу от моего дома возвышался камень, к которому была прикручена медная табличка с обозначением, что это вершина острова), он был и самым экологически чистым. Население было смешанное, скандинавско-немецко-еврейское, и даже архитектура отчасти напоминала среднеевропейскую.
На севере района, в десяти минутах ходьбы от моего дома, располагался прекрасный парк, а в глубине его — музей средневекового искусства Клойстерс, филиал знаменитого Метрополитена. Когда-то парк принадлежал Рокфеллеру, но в 20-е годы миллиардер передал его вместе со своим личным музеем в дар городу. Клойстерс размещался в здании, почти целиком построенном из привезенных из Европы камней: еще в начале XX века Рокфеллер купил три или четыре средневековых монастыря (во Франции, Испании, Англии и Италии), разобрав, вывез их в Нью-Йорк, где восстановил здания, соединив в единую структуру. Получилось сооружение с четырьмя крыльями вокруг центральной башни и множеством внутренних двориков, окруженных крытыми галереями, — собственно клойстеров, что и дало название всему музею[38]. Их заполнили предметами средневекового искусства, зады обставили мебелью, похожей на ту, что изображена на картинах, а в садах посеяли соответствующие той эпохе цветы, ароматные травы и деревья. В помещениях музея приглушенно играет средневековая музыка.
В общем, Клойстерс стал одним из моих самых любимых музеев города. Я часто посещал его, а после зимы, когда открыли внутренние дворики, стал приходить в музей с книгами и проводить там часы, готовясь к занятиям в тихой, располагающей атмосфере. За вход в музей Метрополитен (а Клойстерс был его филиалом) не было фиксированной платы — требовалось передать кассиру любое пожертвование. Я давал обычно десять-двадцать центов и получал жетон на вход, годный целый день. Расположенный на холмах парк вокруг музея был чрезвычайно живописен и по будням практически безлюден. По дорожкам гуляли немногочисленные мамаши с колясками, а обширные зеленые газоны и рощицы совсем пустовали. Мы часто проводили там время с друзьями.
Стоило ли оставлять все это ради академии?
Было и еще второе, наверное, самое уязвимое для меня, обстоятельство. В правилах, обязательных для студентов академии, выданных мне для ознакомления, я прочел, что длинные волосы для студентов не допускаются. Отец Иаков пояснил, что это правило было введено в начале 70-х годов чтобы семинаристов не принимали за хиппи и не относились бы к ним соответственно. Мои волосы в то время отросли уже до середины спины и давно стали частью моего имиджа. Отрезать их было чрезвычайно жалко. В Колумбийском университете, разумеется, такого правила не было.
И тут я опять вспомнил данное себе слово и решил, что надо быть верным ему. Да и коль скоро я осознал, что более не считаю себя хиппи, значит, и отращивание волос утратило всякий смысл. Оставалось только доказать это самому себе. Я принял решение.
Как ни сложно было отказаться от заманчивого предложения Колумбийского университета, но я написал им письмо с сообщением о том, что у меня изменились жизненные обстоятельства и я забираю свои документы. Так я поступил в Православную Свято-Владимирскую богословскую академию (таково ее официальное название) и до сих пор не жалею об этом. Благодаря своему решению я успел поучиться у отца Александра Шмемана и застать лучшие годы этого уникального учебного заведения.
* * *
Но пока до отъезда было еще далеко. Моя обычная жизнь продолжалась. Работа — университет, университет — работа. Ричард окончательно вернулся в Нью-Йорк и тоже поступил учиться — в Художественную академию. Хотя в Москве он закончил Полиграфический институт по специальности книжная графика, он понял, что для карьеры в этой области необходимы связи, а их можно обрести, только покрутившись в профессиональных кругах. Подрабатывать он устроился помощником официанта в один из самых роскошных ресторанов Нью-Йорка — Russian Tea Room[39]. По словам моего друга, там не было ничего особенно русского, но название осталось от 20-х годов, когда заведение было основано белыми эмигрантами.
В марте разразилась забастовка метро. Город встал. Я добирался до работы автостопом (в эти дни нью-йоркские автомобилисты проявляли чувство братского локтя и охотно подвозили незнакомцев), а Ричик купил велосипед и решил тряхнуть стариной. В первый же вечер он вернулся едва дыша и, заявив, что не подозревал о том, насколько сигареты уже покалечили его, с того самого дня бросил курить. Так наша квартира превратилась в некурящую.
А еще через пару недель Ричик сказал, что хочет пойти со мною на воскресную службу, а потом поговорить с отцом Иаковом. Так он тоже стал оглашенным и начал посещать беседы вместе с Юрой Терлецким, жена которого все еще не давала разрешения на крещение сына. Паша тоже регулярно ходил в храм, хотя и говорил, что делает это исключительно из познавательных интересов. Из всей нашей компании совершенно вне церковной жизни оставался лишь Юра Богословский. Пока он держался в стороне и, приходя, мог довольно язвительно над нами подшучивать. При всем его устроении, нацеленном прежде всего на предпринимательскую деятельность, казалось, что религиозные чувства вряд ли когда-нибудь проснутся в нем.
Но, оказалось, мы ошибались. Как-то поздно вечером к нам заявился Юра, сильно «под градусом». Поговорив о том о сем, он неожиданно заявил: «Думаешь, я пьяный? Может, я и пьяный, но скажу тебе такую вещь, какую трезвый я, может быть, не сказал бы ни за что. Не исключено, что я как-нибудь приду трезвый и попрошу, чтобы ты меня отвел к отцу Иакову! Вот увидишь!»
Мы стали ждать. Несколько недель Юра не возобновлял разговора о Церкви, разве что продолжал подшучивать над нашим «фанатизмом». Вернулся он к этой теме после очередных активных посиделок за столом. Я уже стал бояться, что мы получим повторение истории забывчивого богача из классического фильма Чарли Чаплина, который узнавал спасшего его бродягу лишь будучи пьяным, а протрезвев, выпихивал его из дома. Но в конце концов оказалось, что Юра все же помнил о Церкви и в нормальном состоянии, так как однажды действительно попросился пойти с нами в храм. Так количество оглашенных в общине храма Христа Спасителя прибавилось.
* * *
В скором времени я получил официальный ответ из академии о том, что меня приняли на первый курс. Среди бумаг, которые необходимо было собрать перед началом учебы, числилась справка от врача, что я здоров и гожусь для жизни в общежитии. Бланк для нее с шапкой академии тут же прилагался.
Мне сказали, что в нашем районе есть очень старый доктор, еврей (впрочем, в Нью-Йорке «доктор» и «еврей» — почти что синонимы), очень хороший человек. Эмигрантов он принимает бесплатно либо почти бесплатно — за минимальную цену. Так что за справкой лучше идти к нему. Я так и сделал.
В прихожей у доктора сидела секретарша — совсем еще молодая черноволосая девушка в белом халате. Я особенно не обратил на нее внимания, просто подал ей бумаги из Духовной академии, а она попросила меня подождать. Через несколько минут девушка вызвала меня к доктору, который, задав несколько дежурных вопросов, заполнил анкету, сказал, какие анализы мне нужно сдать, и выписал направления. Плату за посещение он с меня не взял, нужно было только оплатить анализы. Когда я выходил из офиса, секретарша вдруг сунула мне в руку записку, в которой по-русски были написаны ее телефон и имя — Римма, а также просьба связаться с ней. В тот же вечер я позвонил. Оказалось, что Римма родом из Киева, эмигрантка, верующая иудейка. Начинала учиться в иешиве, но разочаровалась и стала задумываться о Православии. Когда она, прочитав запрос, увидела, что я будущий семинарист, то сразу усмотрела в моем появлении знак свыше. Так к нашему христианскому кружку добавился еще один человек. Вскоре Римма тоже стала ходить в церковь и готовиться к крещению.
Этим же летом я познакомился с девушкой Катей из Питера, которая согласилась взять к себе мою Мурку. Жила она в Квинсе с родителями. Катя также стала посещать наши вечерние посиделки, а потом и ходить в храм.
Так что, уезжая в академию, я оставлял в своей квартире сплоченный православный кружок, к которому подтягивались все новые члены.
* * *
Весной мне удалось поближе пообщаться с несколькими семинаристами: в одну из суббот в мае 1980 года проводилась акция христианской солидарности в связи с арестом Александра Огородникова в СССР. Это была суточная голодовка и молитвенное стояние возле здания ООН. На ней я вновь встретился с семинаристом Грегори Тетфордом — техасским православным, изучавшим русский язык и увлекавшимся всем русским. Он даже предпочитал, чтобы его называли Гришей. Все мои годы в академии мы с ним дружили. Правда, потом он увлекся Грецией и всем греческим, перестал изучать русский язык и «усыновился» в элладскую культуру, но наши теплые отношения сохранились надолго. Кончив академию, Грегори женился на дочери отца Фомы Хопко (внучке отца Александра Шмемана), уехал в Огайо и приобрел там светскую профессию. Кроме него, в нашей акции принимали участие еще двое-трое студентов академии. Разумеется, присутствовали несколько русских диссидентов, перебравшихся в США. Подтянулись и мои друзья. Мы читали акафисты и раздавали немногочисленным прохожим листовки с молитвой о гонимых христианах СССР. На ночь нас осталось всего человек восемь. Мы пили воду и болтали на разные темы. Иногда вспоминали о молитве, но вскоре снова возвращались к обычному общению. Подходил отец Иаков, но потом уехал — готовиться к литургии. Мы разошлись утром; каждый направился в свой храм на службу.
Должен сказать, что эта акция оставила у меня некоторое чувство разочарования: уж слишком несоизмеримо было заточение в лагерь, с одной стороны, и наша игрушечная голодовка — с другой. Да и уж как-то совсем незамеченным прошло наше мероприятие. Но все же оно рождало чувство причастности к чему-то большему.
* * *
За это лето я успел съездить и в Бостон, где навестил старого друга Игоря, увы, пока не поддававшегося моей христианской проповеди, а потом отбыл в Мичиган, в Анн-Арборский университет, где теперь преподавал прославленный профессор сравнительного языкознания Шеворошкин, жена которого, Галина Баринова, была старинной подругой моей мамы. Она интересовалась христианством и воспринимала мою неофитскую проповедь с большим вниманием. Сам Виталий Шеворошкин, читавший в университете курс хеттоведения, был слишком погружен в свои лингвистические штудии, чтобы интересоваться еще чем-нибудь, кроме них. Высокий, седобородый, с белоснежной гривой волос, он знал не менее двух десятков языков и все время учил новые. Помню, какой-то мой вопрос по языкознанию он воспринял с искренним недоумением: «Ведь ответ же очевиден! Возьмите грузинско-амхарский словарь и сравните значение этого слова по тайско-португальскому словарю. Видите, как просто!»
Шеворошкин буквально жил в этих языках и все время раскладывал по полу своего кабинета карточки со словами. Тогда он занимался языками индейцев Северной Америки и с энтузиазмом рассказывал мне про разработанную им систему доказательств того, что они также восходят к единому праязыку, от которого и произошло все наше лингвистическое разнообразие. Меня же его открытие даже особенно не удивило: я и так знал это из Библии.
* * *
В конце августа я уволился с работы. На мое место наняли настоящего завхоза — очень профессионально выглядящего пожилого человека в синем комбинезоне с торчащей из кармана рулеткой. Я простился с секретарем и старушкой-библиотекарем и пожелал удачи своему преемнику.
Потом я отвез Мурку в Квинс, где ее, как дорогую гостью, встречала вся Катина семья, вернулся в опустевшую квартиру, упаковал вещи и поехал в академию. Вез меня Юра на своем такси, куда едва влезли все мои пожитки. Ведь, в отличие от других студентов, приезжавших из дома, у меня своего родового гнезда, где можно было бы оставить большую часть имущества, не было. Все ненужное я попросту выкинул. В том числе и мою старую московскую хипповую одежду. Мне она больше не была нужна. Начинался новый этап моей жизни.
Эпилог 1
Бес в храме
Прежде чем переходить к новому периоду моей жизни, осталось только рассказать, что случилось с моими друзьями.
Юра Терлецкий в конце концов крестился вместе со своим сыном. Но семья его, к сожалению, распалась. Он уехал из Нью-Йорка, и я потерял его из виду. Слышал, что он отошел от светской живописи, пишет иконы. Впрочем, иконы он начал писать еще при мне, и я даже, чтобы поддержать друга, купил у него за сто долларов первую написанную им икону. Она до сих пор висит в моем доме в красном углу. Недавно я узнал, что Юра тоже вернулся в Россию. Судя по интернетным сообщениям, сейчас он опять занимается живописью. Живет в Петербурге, часто выставляется.
У Ричарда тоже начались свои сложности. Родители неожиданно выразили категорический протест против его крещения. Скандалы следовали за скандалами. Впрочем, это, можно сказать, «нормальная» ситуация. Обычно почти у каждого человека перед крещением возникают страшные искушения, как кажется в тот момент, делающие совершение таинства невозможным. Тут главное сжать зубы и перетерпеть. После крещения обычно все сразу проходит. Но Ричику его путь в Церковь достался особенно тяжело. Родители вдруг вспомнили о своих еврейских корнях и вообразили, что теперь они навсегда потеряют единственного сына. Никакие рациональные аргументы не действовали.
* * *
При любом подозрении, что их сын идет в храм, у них начиналась истерика, переходящая в сердечный приступ и предынфарктное состояние. Каждое воскресное утро мать Ричарда телефонным звонком проверяла, дома ли он, и со скандалом требовала, чтобы он навещал родителей именно в это время. Чтобы избежать непрерывных скандалов, моему другу приходилось хитрить, изворачиваться. Несколько воскресений он провел с родителями, и, когда давление несколько ослабело, возобновил посещения храма. К счастью, никто из его семьи не знал ни названия храма, ни его адреса.
Отец Иаков назначил день крещения Ричику и Юре на октябрь, но решил заранее провести чин оглашения, чтобы они пожили некоторое время в качестве катехуменов[40]. Служба, на которую я прибыл из академии, проходила ранним вечером. Когда короткий чин уже завершался, я боковым зрением заметил, что в храм зашла какая-то женщина.
Как оказалось, то была сестра Ричарда Ровенна. Но она стояла сзади, и никто не обратил на нее внимания. И вдруг, когда отец Иаков поднял руку, чтобы в последний раз благословить новых оглашенных, эта молодая и привлекательная женщина завопила страшным, совсем не своим, низким и хриплым голосом и упала на пол, изрыгая страшные матерные проклятия. Ее корчило, а губы покрылись обильной белой пеной. Мы все бросились к ней.
В храме она оказалась вроде бы совершенно случайно. Но, как мы знаем, для верующего человека случайностей не бывает. Ровенна, направляясь по каким-то своим делам, проезжала 71-ю улицу на машине и вдруг увидела наш храм. Вообще-то заметить его было весьма затруднительно: обычное двухэтажное здание, зажатое между двумя другими. Единственное, что выдает церковь — это козырек над входом с проволочным куполком и небольшая табличка с надписью возле двери «Храм Христа Спасителя» по-русски и по-английски. Однако, проезжая мимо на машине, прочитать надпись почти невозможно. Но Ровенне каким-то образом это удалось, и она, вспомнив, что брат ходит в какую-то церковь в Манхэттене, решила зайти и посмотреть. Еще одно чудо, для Нью-Йорка невероятное: рядом с храмом зияло свободное место для парковки. Ровенна поставила машину, зашла внутрь и вдруг… увидела своего брата, над которым совершался какой-то странный и, наверное, страшный обряд!
До сих пор вспоминаю этот момент с ужасом: Ровенна была красивой женщиной, томной, тихой и благовоспитанной. В тот же момент черты ее лица исказились до неузнаваемости, хрупкая и деликатная дама билась о пол так, что мы все вместе не могли ее удержать, вопила совершенно не своим голосом, причем такие страшные проклятия и ругательства, которые вряд ли можно представить себе в устах даже какого-нибудь матерого уголовника, но уж точно не женщины из интеллигентной московской семьи. Так я впервые лицом к лицу столкнулся с реальностью существования диавола. В том, что все это было подстроено и срежиссировано им, сомнений ни у кого из присутствующих не возникало.
Но все же, как и планировалось, в октябре состоялось крещение Ричарда и Юры, первого — с именем Матфея, а второго — Иуды (в честь брата Господня). Я стал их восприемником, и они оказались моими первыми крестниками. Крестной у них вызвалась быть, разумеется, вездесущая матушка Аня. И, как и следовало ожидать, сразу же после крещения родители Ричарда совершенно успокоились. В семье царили мир и согласие, и даже Ровенна не понимала, что с ней тогда произошло. Впрочем, все старались этого больше не вспоминать.
Как я поссорился с Довлатовым
Фотографировал таинство Паша, который тогда уже подружился с моим новым знакомым по академии, отцом Андреем Трегубовым. Отец Андрей, эмигрант из Москвы, недавно рукоположенный во иерея, служил на приходе в штате Нью-Хемпшир. Его храм находился на самой границе со штатом Вермонт, недалеко от городка, близ которого проживал со своей семьей Александр Солженицын. Вот так и получилось, что отец Андрей стал приходским священником современного классика. Батюшка увлекался резьбой по дереву, и с Пашей они быстро нашли общий язык: парень стал ездить к нему и работать в его мастерской. Вот тут и произошла новая история, для меня связанная с именем отца Александра Шмемана.
Как-то отец Александр, вернувшись с Радио «Свобода», где он еженедельно начитывал свои религиозные передачи, вызвал меня, тогда еще первокурсника, к себе в кабинет и вручил мне номер недавно появившейся русскоязычной газеты «Новый американец». Главным редактором издания значился писатель Сергей Довлатов. Тогда я был совершенно не знаком с его творчеством и знал только, что о его приезде в США не так давно писала вся русскоязычная пресса. Газета имела ярко выраженную еврейскую направленность и показалась мне малоинтересной. Я с удивлением взял номер из рук отца Александра. «Садитесь и почитайте, — предложил он мне, — тут статья про вас». Тогда я, мягко говоря, не был избалован вниманием прессы (свое имя я видел в печати всего пару раз), а статей про меня вообще еще не писали. То, что я увидел, было зубодробительным разносом. В статье в лучших традициях газеты «Правда» живописалось обо мне как о главе православной секты, занимающейся насильственным крещением евреев. Мне приписывались похищения еврейских детей, избиения до полусмерти их матерей и прочая чушь.
В частности, рассказывалось, что в редакцию явилась несчастная мать по имени Таисия и рассказала, что живущие в ее доме миссионеры похитили ее единственного сына, талантливого резчика по дереву. Паша стал пропадать в квартире Дворкина, мать как-то спустилась за ним — и что она увидела? В полумраке горели свечи, повсюду висели кресты и иконы, на стенах приклеены фотографии обряда крещения евреев (интересно, чем евреи при крещении отличаются от других людей?). Таисия якобы пришла в ужас и потребовала вернуть ей сына. В ответ на законную просьбу матери новоиспеченные христианские братья накинулись на нее, избили до крови и выкинули на улицу, откуда ее забрала «скорая». После этого Пашу увезли в Вермонт, где держат взаперти и не возвращают матери, умоляющей вернуть ей сына. В настоящее время, писала газета, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, с тем чтобы насильники были призваны к ответу.
А заканчивалась статья призывом «крепко дать по кровавым рукам платным эмиссарам антисемитской клики в их многовековой борьбе против еврейского народа».
На самом деле, Тася просто побаивалась, что если о Пашиных походах в храм узнают, ее лишат какого-то еврейского пособия. Она поделилась опасениями со своими знакомыми, а те распространили известия так, что в конце концов они докатились до хозяев «Нового американца» — ортодоксальных американских иудеев. Те потребовали принять меры — так Пашина история претворилась в столь кровавый триллер.
Я взялся было объяснять своему ректору и духовнику, что все это неправда, но он решительно прервал меня. «Я и сам вижу, что все это откровенный и злобный бред, — сказал он, — но, думаю, вы должны радоваться. Это первая высокая награда в вашем послужном списке. И, как мне кажется, далеко не последняя». Когда сегодня в СМИ появляются все новые и новые клеветнические материалы в мой адрес, я часто вспоминаю оказавшиеся пророческими слова отца Александра.
Необходимо завершить эту историю. После публикации статьи Паша пришел в редакцию «Нового американца» и предъявил себя, доказав, что его не похищали, а маму не избивали и, окровавленную, на улицу не выбрасывали, не говоря уже о том, что во время описываемых «событий» меня вообще не было в Нью-Йорке. Высказав все это «новым американцам», юноша потребовал опубликовать опровержение. Но его просто прогнали вон. Ни опровержения, ни извинений мы не дождались.
После этой истории я долго из принципа не читал Довлатова. Впервые познакомился с его книгами я уже по возвращении в Россию и пожалел, что не читал их раньше. Так я простил ему ту позорную историю с неприличной газетой «Новый американец», которая, кстати говоря, просуществовала недолго. Вырезка из того самого номера у меня до сих пор где-то хранится.
Паша же крестился примерно через полгода после этих событий, когда ему исполнилось восемнадцать лет. Сейчас он известный в православной Америке церковный резчик. Тася стала счастливой бабушкой нескольких внуков.
Судьбы скрещенья
Римма крестилась зимой, а летом вышла замуж за Ричарда. Сейчас Ричард весьма успешный художник, книжный иллюстратор, отец большого семейства.
Игоря Синявина за годы учебы в академии я потерял из виду. Много лет спустя, уже живя в Москве, я узнал, что он тоже вернулся в Россию, где отпал от Православия и стал одним из лидеров небольшой неоязыческой нативистской секты. Недавно он скончался. Что сталось с его женой и сыном — не знаю.
Тарасу Кордубскому все же позволили вернуться в СССР за несколько лет до начала перестройки. То ли в «Правде», то ли в «Известиях» опубликовали интервью с ним. Говорил он свои обычные вещи: о том, как плохо в Америке и как хорошо в СССР — стране свободы и изобилия. После этого он совершенно исчез с горизонта. Говорили, что жена, которой он все время посылал из Нью-Йорка шмотки и деньги, прогнала его, сказав, что в Америке он был ей нужнее, — на них она могла безбедно жить и не стеснять себя супружеской верностью. Где он сейчас и что с ним происходит — не знаю.
Гроднер вернулся в Москву в конце 90-х. Мой бывший учитель так и не крестился. Сейчас он широко известен в узких оккультных кругах и считается уважаемым мэтром эзотерики. Он преподает в одном из либеральных гуманитарных вузов Москвы что-то вроде раннехристианской письменности (!) и, конечно, введение в эзотерическую мысль. Жена его умерла, и он сочетался новым браком с молодой некрасивой восторженной оккультисткой. Выглядит он сильно постаревшим. Один раз я, столкнувшись с ним в парке и поздоровавшись, сказал, что наши с ним занятия все же пригодились мне: сейчас в основанном мною Центре св. Иринея Лионского мы противостоим сектам и оккультным учениям. «Да, помню Иринея Лионского, — злобно произнес Гроднер, — был такой еретик». Теперь, завидев меня на улице (такое случалось раза три), он спешит перейти на другую сторону.
Костя вскоре после моего поступления в академию женился, но что-то произошло между ним и его женой, и буквально через несколько дней после венчания он исчез. Обнаружился лишь год спустя на Афоне, куда уехал вдвоем с иеромонахом Давидом, американцем русского происхождения, исполнявшим обязанности повара в трапезной Зарубежного Синода. Был этот иеромонах лет на восемь старше нас, то есть тогда ему лишь немного перевалило за тридцать. Вскоре он постриг Костю в малую схиму с именем Иосиф (подозреваю, что в честь Иосифа Прекрасного, бежавшего от женских прелестей). С тех пор оба они живут на Афоне в маленьком скиту, где я их в свое время навещал.
Алешина история закончилась полной противоположностью. Он долго жил в Джорданвилльском монастыре, принял постриг, закончил семинарию и даже начал преподавать там церковную историю. Однако несколько лет назад он позвонил мне в Москву. Сообщил, что понял свое несоответствие монашескому идеалу и посему покинул монастырь и женился. Теперь они с женой начинают новую жизнь в одном из штатов на севере США. Надеюсь, у них все сложится хорошо.
Психоанализ в церкви
Последнее, о чем осталось здесь рассказать — это о некрасивой истории, уже после моего отъезда случившейся в нашем приходе в храме Христа Спасителя. Как я узнал уже в академии, настоятелем храма официально считался отец Иоанн Мейендорф. Но он в храме появлялся весьма редко, и я его ни разу там не встречал. Настоятелем его назначили в виде компромисса: отец Стивен (Стефан) Пламли был старше отца Иакова по возрасту и по хиротонии, но приходской совет, целиком состоявший из старых эмигрантов, был категорически против настоятеля-американца. Так было принято соломоново решение: настоятелем назначили отца Иоанна Мейендорфа, но роль его ограничивалась председательством на ежегодном приходском совете. Служил в храме Христа Спасителя он не чаще двух-трех раз в год.
Но именно ему как настоятелю пришлось разруливать разразившийся скандал. Случился он примерно год спустя после начала моей учебы в академии. Дело в том, что отец Стивен был профессиональным психотерапевтом, сохранившим свою практику и после рукоположения. Личные психотерапевты (или «шринки»[41]) — это неотъемлемая составляющая американского общества. Можно сказать, что интеллигентским семьям положено иметь своего «шринка», который фактически играет роль духовного отца. Психотерапия не только заменяет для многих американцев религию, но и, на мой взгляд, сама является своего рода религией. Разумеется, совершенно несовместимой с Православием.
Однако священник Стивен Пламли все же в своей голове (и в своей пастырской деятельности) эти две религии совмещал. Выглядело это так. Часто во время исповеди он говорил кающемуся: «В этом деле в качестве священника помочь вам я не могу. Но могу – в качестве психотерапевта. Я принимаю по такому-то адресу в такие-то часы. Для прихожан нашего храма предоставляется скидка. Платить можно кредитной картой и в рассрочку».
Так как большая часть членов американской общины состояла из его клиентов, долгое время об этой особенности пастырской деятельности Стивена Пламли никто не знал. Лишь через несколько лет факты стали выплывать наружу. Началось разбирательство, на время которого священника отстранили от служения. Но это вызвало еще бо́льшие проблемы. Группа прихожан написала открытое письмо митрополиту с требованием немедленно вернуть их духовного отца в храм, а заодно пересмотреть положение геев в Церкви, признать гомосексуальную любовь нормой и начать регистрировать однополые браки! Оказалось, что у американской части нашего прихода уже давно была репутация известного гомосексуального сообщества. Протоиерей Стивен все это поощрял и поддерживал, а нью-йоркские геи очень любили захаживать к нему на службу, петь «мистические мелодии» на клиросе и даже подходить к Чаше с Причастием!
Тут уже ждать было невозможно. Священника– психотерапевта почислили за штат и отправили на покой, а американскую общину сильно почистили. Уже в обновленном составе она переехала в арендованное помещение близ Колумбийского университета и получила статус миссионерской. Возглавил ее Стивен Моррис — тезка священника-психотерапевта и муж той самой хмурой, некрасивой Сары. Он поступил в академию через год после меня и еще через год был рукоположен во иерея. Выглядел он по-прежнему растерянным интеллигентом, всклокоченным и неопрятным, взирающим на мир через толстые стекла очков. Тем не менее брак их с Сарой оказался весьма плодородным, и за несколько лет они стали многодетными родителями.
Но, увы, и эта история имеет весьма грустное продолжение: года через четыре после начала своего священнического служения Стивен вдруг исчез. Несколько месяцев спустя на имя митрополита пришло письмо от Морриса, в котором он сообщал, что давно уже осознал себя гомосексуалистом и честно пытался бороться со своим влечением. Теперь он понял, что больше не в силах этого делать, так как именно в таком образе жизни заключается его счастье и призвание. Посему он слагает с себя сан, исчезает и просит более его не искать. Вместе с ним расточилось более половины той общины.
Сейчас ее остатки возглавляет другой священник. Но она все еще остается крайне малочисленной. Трудно вести миссию в Нью-Йорке.
[5] Он же Лайми — московский хиппи Алексей Ф., с которым мы вместе эмигрировали.
[6] Международный день защиты детей.
[7] Школа рабочей молодежи.
[8] Вокально-инструментальные ансамбли — официально действующие эстрадные коллективы. Любителями рок-музыки аббревиатура ВИА употреблялась как уничижительное прозвище.
[9] Названия групп приводятся по памяти. Возможны некоторые несовпадения.
[10] Что вы думаете о свободной любви? (англ.).
[11] Буквально «Делайте волосы повсюду». Правильнее было бы «Grow hair everywhere» — «Растите волосы повсюду».
[12] Киселев рассказывал, что ноги ему отрезало трамваем, когда в молодости он шел на комсомольское собрание. С этого, по его словам, начался его антисоветизм.
[13] Типичная американская вечеринка (англ.).
[14] Джеффри Кассел — житель Нью-Йорка, с которым я случайно познакомился в Москве и которого потом отыскал в Нью-Йорке (см. ниже).
[15] Приносите свою бутылку (англ.).
[16] Правильнее было бы «однобедрумной» от «one bedroom» — одна спальня (и одна гостиная).
[17] Upper — верхний (англ.).
[18] Эти два слова по-английски произносятся одинаково.
[19] «Клуб самодеятельной песни» — так назывались популярные одно время слеты на природе, где по вечерам вокруг костра всевозможные полупрофессиональные (а часто и совсем не профессиональные) барды исполняли под гитару свои произведения.
[20] Ночевка под открытым небом (англ.).
[21]Почему-то в отечественной публицистике в последнее время стал употребляться термин «афроамериканцы». На самом деле политкорректный американский термин «African-American», т.е. «африкано-американцы». «Афро» — это такая прическа, когда длинные курчавые волосы стоят шаром вокруг головы.
[22] От англ. Downtown — букв. «нижний город».
[23] От англ. Uptown — букв. «верхний город».
[24] От англ. WASP (White Anglo-Saxon Protestant) — белый англосаксонский протестант, т.н. «настоящий американец».
[25] От англ. China Town — букв.: китайский городок.
[26] От англ. brownstone — коричневый камень.
[27] Искаж. англ, от where — где.
[28] Искаж. англ, от long — длинный. Очевидно, мой собеседник хотел спросить, далеко (т.е. far) ли ему идти.
[29] Искаж. англ, от thank you — спасибо.
[30] Ящик для гетто (англ.).
[31] Извините, что-то случилось с моим окном (искаж. англ.).
[32] Американцы, не читавшие на кириллице, но замечавшие эту газету в киосках, называли ее «Hoboe News», т.е. «Бомжовые новости».
[33] Три причины быть учителем: 1. Июнь. 2. Июль. 3. Август (англ.).
[34] Orthodox Church in America – Православная Церковь в Америке (англ.).
[35] От англ. Displaced Persons — перемещенные лица.
[36] Как-то я услышал от них некоторые странные слова и поинтересовался этим у Алеши. В ответ он пояснил, что для скорейшего обрусения они договорились ругаться по-русски. Правда, они употребляли различные русские непечатные слова неправильно, не к месту и с неверными ударениями, но зато часто и громко.
[37] Рождественское дерево (англ.).
[38] Английское слово cloister означает и монастырь, и крытую аркаду вокруг внутреннего дворика — типичную архитектурную деталь средневековых западноевропейских монастырей.
[39] Русская чайная комната (англ.).
[40] Оглашенных, т. е. людей, получивших благословение на крещение и усиленно готовящихся к таинству.
[41] От англ. shrink — сжимать.
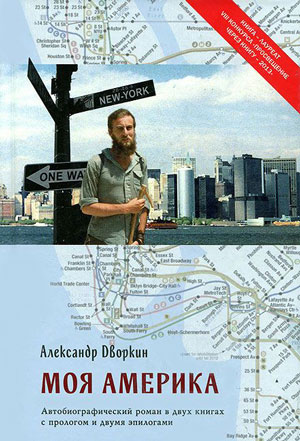
Комментировать