- Вместо предисловия
- Неведомый миру подвижник
- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- Истинный пастырь Божий
- Петропавловский диакон
- Многолетний страдалец Михаил Иванович Безруков
- Матрона Наумовна (г. Задонск)
- Раб Божий Иоанн
- Георгий, затворник Задонский
- I
- II
- Жизнь блаженного старца, монаха отца Никиты
- Не от мира сего
- Обещания Богу исполняй
- Евфимия Григорьевна Попова
- Старец, достойный подражания
- У «Ивана Ивановича»
- Блаженный
- Андрей, юродствовавший в городе Мещевске
- Раба Божия Ксения
- Добрые подвиги
- В святую ночь
- Где Бог да любовь – там сила
- Поразительный пример верности
- Старец Даниил
- Признание разбойника
- Дед Лука
- Светлая кончина
- Слепая паломница
- Отец Марк
- Святое дитя (Очерк-быль)
- Из рассказов Ивана Петровича
- Честный извозчик
- Рассказ рудокопа
- Алексий, человек Божий, как образец самоотвержения для сонма русских подвижников
- Доброе сердце
- Яркий пример истинно христианской жизни в миру
- Кто мой ближний?
- Редкая семья (Из воспоминаний В. Л.)
- Замечательный благотворитель
- Замечательная кончина крестьянки (Из дневника сельского священника)
- Схимник
- Это—он!!!
- Красные яблоки
- Странник
- «По слову твоему» (Лк.5:5.)
- I
- II
- III
- IV
- Доброе дело
- Николай Матфеевич Рынин
- Христианская месть врагу
- Пример добродетели (Из наблюдений сельского священника)
- Коломенский Данилушка
- Петрович
- Мирская черница
- За чужие грехи
- Священник Иоанн (города Ельца)
- Незабвенный благотворитель
- Примечания
Истинный пастырь Божий
Бог нам прибежище и сила
Велика рать Христовых верных служителей. Большая часть их, как пчелки Божии, незаметно для мира трудятся на ниве Господней, но есть и такие, которые, как звезды небесные, ярко сияют благодатью Христовой. Благодарное потомство свято хранит память о таких подвижниках евангельской любви. В назидание нам вот что передается об одном истинном пастыре, священнике села Спас-Чекряк, Орловской губ., Волховского уезда, отце Георгии Косове. Поступив в Чекрякский приход, отец Георгий нашел здесь такую бедность и запущенность, что совсем собрался было уходить отсюда, чтобы не умереть с голоду, и особенно потому, что здоровье его было так плохо, что он кашлял кровью, но остался лишь потому, что отец Амвросий Оптинский удержал его от перехода. Повинуясь совету великого старца, о. Георгий остался в Спас-Чекряке, и с тех пор чрез него великая сила Божия совершается здесь: устроен великолепный каменный храм, трехэтажный дом трудолюбия, школа и дом странноприимный; толпы богомольцев текут отовсюду в дотоле безвестное село Чекряк. Как же все это совершилось? Вот что рассказал об этом сам отец Георгий.
— Когда я приехал сюда — меня оторопь взяла: что мне тут делать? Жить не в чем, служить не в чем, дом старый-престарый. Церковь, пойдешь служить, того и гляди самого задавит. Доходов почти никаких. Безнадежное всегда было это место. Прихожане удалены от храма и от причта. Народ бедный — самим впору еле кормиться. Что мне тут было делать?! Священник я в то время был еще молодой, неопытный, к тому же здоровьем был очень слаб — кровью кашлял. Матушка моя была сирота бедная. Поддержки, стало быть, ни оттуда, ни отсюда не было, а на моих руках были еще младшие мои братья.
Оставалось бежать. Так я и замыслил.
На ту пору велика была слава отца Амвросия. Оптина от нас верстах в шестнадцати. Как-то по лету ночь бессонная от думушек-тο, взгомозился я ни свет ни заря к батюшке.
Собрался, вмиг котомку за плечи и пошел к нему за благословением уйти из прихода. Часа в четыре дня я уже был в Оптиной. Батюшка меня не знал. Прихожу в хибарку его, а уж там народу тьма — дожидают выхода батюшки. Стал и я в сторонке дожидаться. О приходе своем, о цели своего прихода я никому не сказывал. Смотрю — он выходит, да прямо меня и манит к себе:
— Ты, иерей, что там такое задумал? Приход бросить? А? Ты знаешь, кто иереев ставит? А ты бросать?! Храм, вишь, у него стар, заваливаться стал! А ты строй новый, да большой, каменный, да теплый, да полы чтобы в нем были деревянные: больных привозить будут, так им чтобы тепло было. Ступай, ступай домой, дурь из головы выкинь, да храм-то, храм-то строй, как я тебе сказываю. Ступай — Бог благословит! — сказал и пошел с другими беседовать. Я слова не мог вымолвить. Пошел домой я тут же. Иду как пришибленный. Что же это такое? Каменный храм строить мне? Я с голоду, почитай, умираю, а тут храм строить! Ловко утешил, нечего сказать! Домой пришел, отделался от вопросов уж не помню как. Сказал только, что не благословил старец просить перевода. Что у меня тогда в душе происходило, кажется и не передать. Напала на меня тоска неотвязная. Молиться хочу, молитва на ум нейдет. С людьми, с женой не разговариваю. Задумываться стал. И стал я голоса какие-то слышать и ночью, и днем, больше ночью: «Уходи скорее! Ты один, а нас много! Где тебе с нами бороться? Мы тебя совсем со свету сживем!» Галлюцинации, должно быть.
Дело дошло до того, что не только молитвы не было во мне, мысли богохульные стали лезть в голову, а придет ночь, сна нет и какая-то сила прямо с постели на пол сбрасывает, да не в мыслях, а на деле, прямо так-таки поднимает да и швырнет с постели на пол. А голоса-то все страшнее, все грознее, все настойчивее: «Ступай, ступай вон от нас!..»
Я опять в ужасе, почти полупомешанный от перенесенных страхов, бросился к отцу Амвросию. Отец Амвросий как увидал меня, да прямо с места, ни о чем меня не расспрашивая, и говорит мне:
— Ну, иерей, чего испугался-то? Он — один, а вас двое?
— Как же это так, — говорю, — батюшка?
— Христос Бог да ты — вот и выходит двое, а враг то, он один. Ступай, — говорит, — домой, ничего впредь не бойся, да храм-то, храм-то большой, каменный, да чтобы теплый, не забудь строить, Бог тебя благословит.
С тем я и ушел. Прихожу домой — с сердца точно гора свалилась. И отпали от меня все страхи. Стал я и молиться: поставишь себе в церкви аналойчик за левым клиросом перед иконой Царицы Небесной, да и начнешь в одиночку, в пустой церкви, канон Ей читать, тот, что теперь читаю. Кое-что из других молитв стал добавлять. Смотрю — так, через неделю-другую — один пришел в церковь, стал в уголку, да со мной вместе молится Богу, другой, третий, а там и вся церковь полна стала набираться. А как помер батюшка Амвросий, народ начал весь к Чекряку прибиваться: советов от меня ищут — без отца Амвросия-то жутко стало жить на своей-то волюшке, трудно человеку стало в наше время без слова утешения. Ну, да я какой утешитель! Вот отец Амвросий, тот и впрямь был всяких недугов душевных и телесных, по великой милости Божией, врачеватель. Впрочем, по вере ищущего, Господь ему не отказывает в его прошении и чрез недостойных пастырей, Им поставленных.
Как проходит день о. Георгия, вот рассказ посетителя села Чекряк, духовного писателя С. А. Нилуса.
«Маленькая, тесная церковка, вида весьма древнего, уже была переполнена народом, когда я, запыхавшись, взбежал по ветхим ступеням ее убогого крыльца. Народ стоял все более простой — мужики да бабы: было больше баб.
Кое-где темным пятном на красневшем фоне разноцветных платков и желтых нагольных полушубков выделялись шубы городского купеческого покроя. Таких было немного.
Я подошел к свечному ящику.
Нестарая, повязанная черным платочком женщина продавала свечи. Я заметил, что все выложенные на ящике свечи были двухкопеечные. Народ подходил, брал свечи, клал деньги, но сдачи не требовал: клали и пятаки, и двугривенные, прозвенел чей-то полтинник… Я тоже положил не то рубль, не то полтинник.
Народу было много, но стояла тишина, полная сосредоточенного благоговения. Я взял три свечи и, пробираясь через толпу, пошел их ставить к «местным» образам в иконостасе. За левым клиросом какого-то образа уже теплилось множество свечей и было заметно, что вся масса народа ютилась и жалась к этому образу. Батюшки в храме не было видно. Положив поклон, я поставил свечку святителю Николаю. Несмотря на тесноту в церкви в ней было холоднее, чем на открытом воздухе.
От холода восковая свеча ломалась в руках при постановке в подсвечник.
Перед образом Богоматери свеча моя, уже поставленная, свалилась и зажженным концом упала на шитое полотенце, украшавшее Лик Пречистой.
Из-за плеча моего порывисто протянулась чья-то рука, успевшая вовремя подхватить свечу…
Я оглянулся и… обомлел: вполоборота от меня стоял батюшка. Привычною, твердою рукой он поставил мою свечу и, не глядя на меня, не глядя ни на кого, пошел оправлять и зажигать сам лампадки перед образами. Вовек не забыть мне того впечатления, какое оставила в моей душе эта первая моя с ним встреча. Я был потрясен, даже испуган, как если бы из образа Иоанна Крестителя, каким его обыкновенно пишут, вдруг вышел сам Предтеча Господень и стал зажигать на моих глазах лампадки.
Облик отца Георгия в старой, заношенной ризе, обвисшей на его высокой сухощавой фигуре мягкими складками, из потертой от времени и долгого употребления парчи, его темные, с большой проседью волосы, закинутые со лба назад непослушными, мелко вьющимися прядями с одной прядкой, непокорно сбившеюся на дивный высокий лоб, реденькая бородка, небольшие усы, открывающие характерный сильный рот, в котором так и отпечатлелся характер стойкий, точно выкованный из железа; глаза небольшие, горящие каким-то особенно ярким внутренним огнем, со взором, глубоко-глубоко устремленным внутрь себя из-под глубоких, резких складок между бровями, — вся фигура отца Георгия поражала сходством с тем, кто по преданию рисуется нашему верующему представлению, как «Глас вопиющего в пустыне». И обстановка, окружавшая отца Георгия, так напоминала пустыню, только не ту знойную в Иордане, а нашу, холодную, снежную.
Пока батюшка оправлял лампады, я стал у правого клироса, где было немного посвободнее от толпы, собравшейся ближе к левому. Глаз не мог я оторвать от отца Георгия. Вихрем в голове моей проносилась вся история Христовой Церкви на земле, вся история ее младшей дочери, православной Русской Церкви, исполненная дивных образов верных ее воинов, несших ей победные венцы в борьбе с внутренними и внешними врагами, с врагами земными и врагами злобы поднебесной — бесчисленною ратью князя мира сего, князя века сего. Передо мной, очевидно было, предстоял один из таких воинов.
Порывистою, быстрою походкой отец Георгий вошел в алтарь. Через минуту он вышел оттуда, неся в руках аналой и толстую книгу в старинном кожаном переплете. Толпа почтительно и бесшумно подалась назад и открыла доступ батюшке к левому клиросу, сзади которого уже, как я говорил, теплились бесчисленные свечи. Все молящиеся какого насторожились в благоговейном молчании… Тихо, проникновенно и вместе властно раздался призыв о. Георгия:
«Три поклона Божией Матери!» И вся толпа, как один человек, во главе с батюшкой, разом опустилась троекратно на колени. В отдаленном углу церкви раздалось чье-то тихое всхлипывание… Многие, как опустились на колени, так и остались в этом положении…
«К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии, и припадем в покаянии, зовуще из глубины души: Владычице, помози, на ны милосердовавши, потщися — погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину надежду имамы!» И опять «К Богородице прилежно ныне притецем…» раздались слова искомого молебного канона к Пречистой, «поемаго во всякой скорби душевной и обстоянии». Какой проникновенный, исполненный беспредельной веры голос читал эти дивные, покаянныеслова!
Толпа замерла. Казалось, вся ее бесчисленная скорбь слилась в одно общее молитвенное напряжение, и голос о. Георгия уже не был его голосом, а голосом всей этой народной груди, захлебывающейся от едва сдерживаемых затаенных рыданий. И слезы, бесшумные, тихие слезы текли из глаз многих.
«Моление теплое, и стено необоримая, милости источниче, мирови прибежище, прилежно вопием Ти: Богородице Владычице предвари, и от бед избави нас, едина вскоре предстательствующая».
Это была теплая, неотступная просьба. Чудилось, что Та, к Кому относилась эта просьба, была тут, с нами, что Она слышала нас, слушала благосклонно Своего верного служителя, скорбела с нами нашими скорбями. Веровалось, что Она нас, рабов Своих, «не отвратит тщи», что не тщетны нами возлагаемые на Нее надежды.
Прочел батюшка часть канона, взошел на солею, снял стаканчик лампады от образа Святителя Николая и с лампадой этой в руках, не глядя ни на кого, все с тем же устремленным вглубь себя взором, пошел по народу, знаменуя маслом из лампады на челе и руках молящихся крест Господень.
— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Как звать?
— Андреем, батюшка!
— Фекла, батюшка!
Отец Георгий близко, не дойдя до меня, пошел в сторону. Неужели я такой грешник? Мне жутко стало. Отец Георгий внезапно очутился около меня:
— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Как звать?
— Сергий!
Я было от неожиданности забыл свое имя. Батюшка помазал мне крестообразно лоб.
Я подал ему свои руки. Он сам перевернул их ладонями кверху, на ладонях сделал тот же знак креста и пошел дальше. Масло потекло у меня по лбу.
Мне стало как будто неприятно.
«Зачем он это делает? — подумалось мне, — Ведь не всякому может нравиться и запах лампадного масла, и это ощущение на лице чего-то жирного, липкого».
Посмотрел я на соседей, у всех на лицах было одно выражение серьезного, сосредоточенного благоговения.
Мне стало до боли за себя стыдно: или веруй по заповеди Христовой, как младенцы, или не место тебе здесь — здесь одни чистые сердцем, верующие своему, Богом поставленному, пастырю.
Я почувствовал себя виноватым и перед совестью своею, и перед этими окружающими меня «младенцами», ангелы которых всегда видят Лице Отца их Небесного. Среди все той же благоговейной тишины в храме опять стали звучать слова канона.
«Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду, Дево, и напастей решащу молвы, и налоги бесов отгоняющу: и молюся всегда от тли страстей моих избави мя».
Батюшка еще три раза прерывал чтение канона, обходя молящихся с лампадами от образа Царицы Небесной, Спасителя и с Евангелием, которым он благословлял каждого с какою-то особою проникновенностью, давая его целовать и затем возлагая Его на голову богомольца.
Благословив по окончании чтения канона молящихся крестом, так же как и с Евангелием подходя к каждому богомольцу, о. Георгий прочитал молитвы на освящение воды, снес аналой на солею, из алтаря вынес копие, употребляемое при проскомидии, небольшую луженую кастрюлечку, взял их в обе руки и сам стал перед аналоем. Народ столпился перед ним. У каждого в руке была какая-нибудь посуда, наполненная водой. Степенно, без толкотни и давки, богомольцы подходили к батюшке и подавали ему свою посудинку. Батюшка брал ее, наливал воду в свою кастрюлечку, погружал в нее копие, делая им в воде троекратно крестное знамение…
— Во имя Отца, и Сына, и Св. Духа! На что берешь воду? — при этом батюшка освященную воду через леечку выливал обратно в поданную посуду.
— Девочка моя вот уже третий годик от Покрова с печки не подымается; как захворала — все лежит: вся уже иссохла, бедная. Помолитесь, батюшка!
— Как звать твою девочку? Каких лет?
— Пятнадцать годочков. С Великого поста шестнадцатый пошел. Помолитесь, батюшка! Парашей зовут.
— Параскевой? Помолюсь — Бог поможет: у Бога милости много. Не грешна ли чем? Господь иногда в детях за нераскаянный грех родительский наказывает.
— Всем грешны, окаянные! Благословите, батюшка, у вас поисповедаться!
— Бог благословит! Останься, пока народ схлынет.
Какая-то молодая бабенка сует батюшке в руку целую четвертную бутыль.
— На что берешь воду? Куда столько?
— Батюшка! Я дальняя. Себе беру, да соседи просили. Твоя водица-то скольким от болезней помогает. Беспременно наказывали воды твоей хоть по чуточке принести.
— Во имя Отца, и Сына, и Св. Духа! Не моя водица, а святая, Самим Богом освященная, через меня грешного освященная, эта-то вода, а не моя вода, и помогает по вере от болезней!
— Простите, батюшка!
— Бог простит!
— Батюшка! Муж со мной больно плохо живет.
— Батюшка, сын ушел. Пятый годик не шлет весточки! Батюшка! Благословите мне лавку открыть. Батюшка!..
И на все запросы, на всякий крик сердечный давно и наболевшего горя у о. Георгия находилось слово привета, утешения. В каждом его совете, в каждом слове его чувствовалось такое знание сердца человеческого, такое проникновение в самую глубь народного быта, душевной жизни народа, что ни один подходивший, иногда приступавший к нему с глазами, красными от невысохших слез, не уходил от него с лицом непросветленным. Чувствовалось, что каждый получал свое утешение и именно то, которого жаждала и без о. Георгия не находила его скорбная, измученная душа. Говорят, о. Амвросий обладал именно этим свыше ниспосланным даром.
Около часа простоял я в своем уголке, с невыразимым вниманием наблюдая эту удивительную, никогда не виданную картину. Я чувствовал, что утомился от долгого стояния, а батюшка, казалось, не чувствовал усталости, все тот же бодрый, участливый голос его раздавался по церкви. Что за удивительная сила духа!
И этот человек «уж больно хвор был — кровью кашлял». Волне чающих совета и утешения все отлива не было. Между ними были и желающие исповедоваться, так что о. Георгию труда оставалось еще часа на два, на три. Я пошел в «странную», чтобы дождаться выхода отца Георгия из церкви.
«Странная» отца Георгия — длинное одноэтажное деревянное здание — вся была переполнена народом. Нам был отведен номерок — маленькая, тесная комнатка в одно окно, с убогою мебелью. Вся постройка выглядывала довольно ветхою. Пахло сыростью, испарениями человека… Не за житейским комфортом ездят к отцу Георгию!
Часа два стоял я на церковном крыльце, дожидаясь выхода батюшки из церкви. Исповедники его задерживали. От начала канона уже прошло часов пять. Наступали ранние зимние сумерки. Прошли из церкви мимо меня две прилично одетые женщины.
— Скоро батюшка выйдет?
— Должно быть, сейчас, — в церкви, кажется, больше никого нет.
Я остался один. Начинало понемногу темнеть… Весь народ попрятался от крепчавшего мороза по теплым уголкам, где кто мог найти себе местечко. Батюшка все еще не выходил.
Наконец, взвизгнула на застывших тяжелых железных петлях дверь и отец Георгий вышел из церкви, разговаривая с каким-то человеком. Он сам запер церковные двери, попробовал замок, хорошо ли заперт, и, заметив, вероятно, мое ожидание, стал прощаться со своим собеседником.
— Бог благословит!.. Поезжайте с Господом!.. Пошли вам Господь милость Божию! — говорил батюшка, пока тот принимал его напутственное благословение. Я тоже подошел под благословение. Как-то особенно, с каким-то особым, если можно так выразиться, дерзновением, широким иерейским крестом он благословил меня. Мы вдвоем пошли рядом. Легонькая, потертая ряска на вытертых от времени простых овчинах, старый вязаный шарф на шее, на голове облезлая меховая шапка меха совершенно неопределенного, — совсем бедный дьячок из беднейшего прихода. И рядом с этим трехэтажный дом трудолюбия, новый трех-престольный каменный храм. Этот человек не «своих си» ищет.
— Батюшка, я издалека приехал, — можно к вам зайти в дом? мне очень нужно с вами поговорить.
— Милости просим, пожалуйте! Пошли Господь милость Божию, — поговоримте, поговоримте!
По дороге к дому отца Георгия навстречу нам подбегали богомольцы, — кто принять благословение, кто с вопросом, за советом. Точно чутьем каким учуяли, что идет батюшка: выползли из теплых закоулков, где сидели спрятанными.
Господи, как же это сил хватает у этого человека?! Какое чисто ангельское терпение!.. Только у самого дома его оставили в покое.
С отцом Георгием мы вошли в дом через заднее крыльцо, через кухню. Обстановка в доме старенькая, вполне подходящая к батюшкиному одеянию. За стеной, в соседней комнате, слышна возня — должно быть, дети возятся. На столе приготовлена скромная трапеза: в обливной глиняной полумиске лежит нарезанная крупными кусками вареная, уже остывшая, говядина, «христославная черствая лепешка» из простой ржаной муки, видимо даже плохо пропеченная — дар прихожан своему пастырю, банка из-под французской горчицы с простою горчицей. Других «разносолов» что-то не было заметно.
— Погрейтесь, пока я переоденусь, у печки, а то вы, я вижу, застыли!
У меня от холода, действительно, зуб на зуб не попадал.
В кухню кто-то вошел. Послышался разговор. Чей-то недовольный голос раздался довольно громко:
— Да дайте же вы, наконец, хоть поесть батюшке!
— Да как же? Покойничка-то? Ведь его проводить надо же?
— Не уйдет ваш покойник! Надо ж жалость иметь к живому-то человеку — ведь не железный! — долетали до меня негодующие восклицания.
В эту минуту прошел мимо меня отец Георгий, направляясь в кухню, откуда слышалась эта не вполне мирная беседа.
Я стоял и грелся около печки. В комнате было довольно холодно. Пробежал карапузик, мальчик лет двух. Все личико замазано кашей. Посмотрел на меня удивленно, не то испуганно и затопал еще неверными ножками обратно. Возня в соседней комнате между ребятишками продолжалась… В кухне неприятные разговоры замолкли. Вошел батюшка.
— Вот дело-то какое! Надо ехать в село поднимать покойника, пока еще вовсе не стемнело. Вы уж меня простите. Зайдите вечерком, часов в восемь.
О духовной мудрости и прозорливости отца Георгия ходит много рассказов. Вот что слышал один наблюдатель от своего знакомого. «Есть у нас в Волхове купец богатый. Народу он на своем веку обидел без конца. Чего говорить! И своим родным не давал пощады: только попадись, — давил да гнул всех, кто только ни попадал к нему в руки. Нищих немало поделал. Под старость богомолен стал: жертвователем сделался, на церкви да на монастыри кушами стал отваливать. Прослышал он, что отцу Егору из денег тесненько: зачал свой храм строить, что теперь каменный в Чекряке, а на достройку выходит недохватка. Поехал к нему наш богатей да и говорит батюшке-то: «Наслышаны мы, мол, что деньгами вы нуждаетесь, так пожалуйте вам от меня на построение храма двадцать тысяч от нашего усердия». А батюшка ему: «Храмы Бог строит, а мы — люди, у него приказчики: по людскому, по прикащичьему, спасибо тебе на жертве, ну а Хозяин твоих денег брать не велит. Как так? Да очень просто: деньги ваши больно человеческими слезами подмочены, а такие Богу не угодны. Родные твои кровные от тебя по миру гуляют, а ты думаешь у Бога от их слез деньгами откупиться: не возьму от тебя и миллиона. Возьму, когда ублаготворишь тобою обиженных». Что ж бы вы думали? Ведь привел в совесть богатея-то нашего: теперь всех своих родных, кого обидел, на ноги ставит — дворы им строит, деньгами оделяет. Сторонних-то, им обиженных, и тех разыскивает, чтобы обиды свои выправить. Вот как наш батюшка людей на путь наставляет! Всего, что слышишь или сам, бывает, видишь из дел батюшкиных, не соберешь и не расскажешь. Одно слово, истинный пастырь Божий!»
(«Кормчий», 1904 г., № 58)
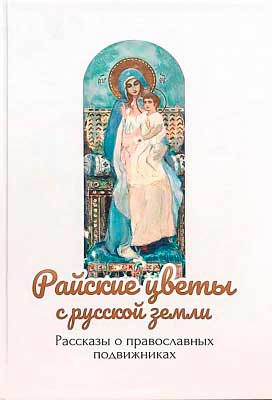
Комментировать