- Вместо предисловия
- Неведомый миру подвижник
- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- Истинный пастырь Божий
- Петропавловский диакон
- Многолетний страдалец Михаил Иванович Безруков
- Матрона Наумовна (г. Задонск)
- Раб Божий Иоанн
- Георгий, затворник Задонский
- I
- II
- Жизнь блаженного старца, монаха отца Никиты
- Не от мира сего
- Обещания Богу исполняй
- Евфимия Григорьевна Попова
- Старец, достойный подражания
- У «Ивана Ивановича»
- Блаженный
- Андрей, юродствовавший в городе Мещевске
- Раба Божия Ксения
- Добрые подвиги
- В святую ночь
- Где Бог да любовь – там сила
- Поразительный пример верности
- Старец Даниил
- Признание разбойника
- Дед Лука
- Светлая кончина
- Слепая паломница
- Отец Марк
- Святое дитя (Очерк-быль)
- Из рассказов Ивана Петровича
- Честный извозчик
- Рассказ рудокопа
- Алексий, человек Божий, как образец самоотвержения для сонма русских подвижников
- Доброе сердце
- Яркий пример истинно христианской жизни в миру
- Кто мой ближний?
- Редкая семья (Из воспоминаний В. Л.)
- Замечательный благотворитель
- Замечательная кончина крестьянки (Из дневника сельского священника)
- Схимник
- Это—он!!!
- Красные яблоки
- Странник
- «По слову твоему» (Лк.5:5.)
- I
- II
- III
- IV
- Доброе дело
- Николай Матфеевич Рынин
- Христианская месть врагу
- Пример добродетели (Из наблюдений сельского священника)
- Коломенский Данилушка
- Петрович
- Мирская черница
- За чужие грехи
- Священник Иоанн (города Ельца)
- Незабвенный благотворитель
- Примечания
Петропавловский диакон
До половины 70-х годов жители г. Вологды привыкли видеть на улицах своего города одного странного по виду человека, который привлекал внимание всех. Он был среднего роста, неизменно зимой и летом одевался в длинную серого цвета одежду — не то подрясник, не то балахон, — никогда притом не подпоясанный, на голове носил круглую мягкую шляпу, из-под которой выбивались пряди недлинных русых волос; изжелта бледное лицо старца отличалось подвижностью, а светлые голубые глаза его нередко озарялись особенным блеском.
Его звали петропавловским диаконом, потому что он в молодых годах служил диаконом у церкви свв. апостолов Петра и Павла, находящейся на окраине города, и уже давно вышел за штат.
Прошло около 30 лет, как не стало о. диакона.
Не славный, ни положением, ни званием, петропавловский диакон жив в памяти не тесного, но обширного кружка вологжан, даже таких, которые волею судьбы закинуты на далекие расстояния. Личность дивного старца, его жизнь оставили глубокий след в душах людей, знавших его. И теперь, как только некоторые из них услышат что-нибудь о петропавловском диаконе, даже одно имя его, как тотчас в сознании их предстает кроткий лик служителя Христова с его блестящим взором, то нежно любящим, то строго внушительным. В памяти воскресают его голос, его слова, его указания. Сколько раз они поднимали падавший дух, направляли на путь правды Божией, возбуждая в душе забытые порывы к добру. С особенною яркостью, как будто они вот тут сейчас сказаны, припоминаются его слова, намеки, его прикровенные указания, которые сделались совершенно понятными потом, исполнившись в точности в каких-нибудь событиях жизни. Эти случаи удивительны. Отцы передают детям про события из своей жизни, ясно провиденные о. диаконом. Оттого-то диакона знает много лиц, не видавших его, не слышавших рассказы о его жизни.
Что же за сила была в этом слабом человеке, которая влекла к нему и великих мира, и худородных? Та же духовная мощь, которая в высокой степени таилась в юродивых, прославленных Церковью, — в московском — Василии, устюжских — Прокопии, Иоанне, и др.
Юродивые добровольно отказывались от разума, от дара Божия, которым и отличается человек — венец творения — от других тварей, отказывались от той стороны ума, под влиянием которой устраивается деятельность человека, как существа чувственного, чтобы чрез прекращение своих отношений к миру более расширять свою деятельность для Бога. Они жили на земле, но как бы не принадлежали земле. Поэтому все, что льстит и манит человека, богатство, слава, удовольствия им были чужды, все мирские привязанности они ставили ни во что, считая их препятствием к воспитанию в себе внутреннего человека. Пред их духовным взором предносилась только мысль о Царстве Божием, к которому они шли прямым путем, умерщвляя греховные влечения, отвергая суеты мирские, обыкновенно увлекаясь которыми люди забывают о небе, о своем вечном предназначении. Углубившись в свой духовный мир, не связанные попечениями житейскими, юродивые являлись прекрасными учителями людей, своим примером резко оттенявшими то, что едино на потребу, забытое чрез привязанность к временным благам высшее назначение; словами, иногда резкими, они вразумляли своих ближних — братьев во Христе, наставляли заблудших, утешали скорбящих, обличали сильных земли, ибо они не боялись никого; их страшило одно лишь нарушение правды Божией. Отрешившись от тех интересов, которыми живет обыкновенный человек, от мирских привязанностей, часто даже от родственных уз, юродивые не знали, где главу подклонити; бездомные, они терпели все — насмешки, огорчения, обиды и притеснения, которые в их душе не возбуждали неприязненных чувств, равно и противоположные сим действия людей, похвалы и благоговение, не оставляли следа в их душе, которая ограждалась от честолюбивых помышлений и желаний смирением. Смирение, радостная доброта являлись отличительными чертами юродивых. Вот в чем заключается духовная красота блаженных, которая привлекает к ним сердца даже враждебно настроенных против них людей. К числу таких рабов Божиих, юродивых, принадлежит и петропавловский о. диакон. Личность и жизнь его оставили весьма сильное впечатление во многих, и, между прочим, в отзывчивых тогда юношах, сделавшихся впоследствии известными писателями — Круглове и Пантелееве. Десятки лет, в которые ими было переиспытано, пережито увлечение антирелигиозными идеями, как сознается Круглов, не могли изгладить впечатления, произведенного на них во дни их юности личностью о. диакона, которому они посвятили свои живые воспоминания: первый—в журнале «Приходская Жизнь» (дек. 1901 г., стр. 494–504), второй — в «Русских Ведомостях».
Настоящее имя петропавловского диакона — Александр Васильевич Воскресенский. Он родился в 1803 году, был сын причетника. Учился Александр Васильевич недолго: он уволился из высшего отделения вологодского духовного училища и поступил в писцы духовной консистории. Двадцати лет от роду, именно 2 декабря 1823 г., Александр Васильевич посвящен был в сан диакона Петропавловской церкви, находящейся на южной окраине г. Вологды. Здесь он служил 21 год, до 1 ноября 1844 года, когда по болезни вышел за штат. Вот и все, о чем говорит его формуляр, помещавшийся в клировых ведомостях. О жизни Александра Васильевича, во дни его служения диаконом у Петра и Павла, никто не знает, да никто ею и не интересовался. Он сделался известен, сделался предметом внимания и уважения только тогда, когда стал жить не так, как другие люди. Случилось это, так сказать, его духовное возрождение после болезни, когда он принял подвиг юродства и стал казаться безумным. Многие, действительно, считали его сумасшедшим. На некоторое время о. диакон помещен был в дом умалишенных. Но он не был на самом деле умалишенным: он углубился в свой внутренний мир, и свободный, как будто отрешенный от всего телесного дух его витал в высших сферах. — Бывало, придет к нам о. диакон, — рассказывает одна ныне уже пожилая женщина, — сядет куда-нибудь в угол и глубоко-глубоко задумается. Мы выходили из комнаты, оставляя о. диакона в покое. И вдруг он очнется; добрый, радостный… «У тебя, мати, хоть подумать можно, — скажет он, — душой отдохнешь». Помолится, простится и быстро-быстро пойдет. Куда? Бог весть.
Отец диакон не расставался с мыслию о Боге. Молитвенное настроение было в его душе господствующим. Верный сын и служитель Церкви, он жил ее жизнью. Песнопения праздника, тропари, стихиры в честь святых того или другого дня теснились в его сознании; он их напевал своим тоненьким, чистым голосом и часто заносил на бумагу. Сохранилась кипа листов синей и белой толстой бумаги. Крупным, красивым почерком о. диакона на них написаны церковные молитвы: «Христос воскресе из мертвых», «Рождество твое, Богородице Дево», тропари святым, напр.: Иоакиму и Анне, преп. Ксенофонту, Николаю Чудотворцу и др. Особенно же любимою его молитвою была: «Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим». На нескольких листах вслед за церковными песнопениями проставляется число, год, из других сделаны пометки: «Велик день у Господа» или: «Велик день у Царицы Небесной, только у меня мал», иногда: «Надо отслужить молебен». Эти листы тщательно хранятся его почитателями. Передавая листы с молитвами благочестивым людям, о. диакон присоединял к ним разные благопожелания, тоже письменные. Вот листок в четверку желтой бумаги: вверху поставлен крест, за ним четко написана молитва Господня и внизу: «Ангел Господень да сохранит Вас и все Ваше семейство», или: «Сохранит вхождение ваше и исхождение отныне и до века». Случалось, что он дарил своим знакомым рукописи с такими молитвословиями, которые им были особенно потребны в известную минуту, и даже во всей последующей жизни, принося им успокоение и духовную поддержку. Приходит о. диакон однажды в дом к одной старушке и говорит ей:
— Дай, мати, бумажки.
Она с удовольствием вручает ему чистый листок. Он написал: «Да будет воля Твоя», подал, помолился и ушел. Старушка скоро ослепла и в великом своем горе утешалась верою в премудрый Промысл Божий, постоянно с покорностью взывая ко Господу:
— Да будет воля Твоя!
Порывы молитвенные захватывали о. диакона на разных местах. Войдет он во храм, здесь изольет свою мольбу. Любил старец псалмы Давида, которые так трогают душу, залечивают раны душевные, утишают страсти. Так как в городских храмах иногда пропускалось чтение псалмов на кафизмах, особенно в будни, то о. диакон, бывало, встретится со священником и как бы мимоходом заметит:
— Давида-то забываете.
То вдруг он остановится посреди улицы и начнет молиться коленопреклоненный.
«В первый раз я увидел петропавловского диакона, — рассказывает Круглов, — при следующей обстановке. Он сидел на берегу реки, окруженный ребятами и взрослыми. Я подошел и спросил: «Что тут такое?» Мне ответил какой-то мужик: «А это Божий человек молится о нас, грешных».
Я протискался чрез толпу и увидел диакона, стоявшего на коленях и молящегося вслух. По временам он брал в руки камешки, песок и бросал в сторону. Многие, видимо, были довольны, если бросаемое попадало на них. Вдруг диакон вскочил и побежал быстро-быстро. Некоторые кинулись за ним».
«Как горячо молился он, — рассказывала жена священника По-ва. — Я видела о. диакона в Ярославле, куда он приезжал с одним подгородним вологодским священником. Лицо его дышало умилением, озарялось неземной радостью. Надо было видеть его усердие. Горячая молитва старца, верим, доходила до Бога».
«Двенадцатилетней девочкой я заболела тифом, — говорит г. А-ва, — мать отчаивалась в моем выздоровлении и плакала; о. диакон утешал и говорил матери: «Пойдем, помолимся вместе». Помолились пред иконой, — и я выздоровела».
Другая почитательница петропавловского диакона, Грачева, в тоне рассказа которой слышится глубокая вера в молитвы старца, сообщила: «12 лет у меня не было детей. Только бездетная мать может понять остроту моего горя. Приходит однажды к нам о. диакон и, ударяя меня по плечу, говорит: «Детей-то у тебя нет?» — «Какие же у меня дети: вот уже 12 лет я замужем, а Господь меня не благословил», — ответила я с печалью. О. диакон ушел в другую комнату и долго там молился пред Царицей небесной. Потом подходит ко мне, ударяет опять по плечу и с горящим взором говорит: «По вере твоей дано будет». Вскоре я отправилась к родным в Кадников и там передала слова о. диакона. Никто не придал словам его особенного значения. Но я стала беременной. Была масленица. Приходит опять к нам о. диакон. Я предложила ему покушать блинов. «Славные у тебя блины-то». — «Кушай, о. диакон, на здоровье», — усердно угощала я. «А как звать-то будешь — Федором или Петром?» — «Как Бог даст», — сказала я, поняв, что он говорит о будущем ребенке. Я подумала, что у меня родится сын или пред памятью Феодора Стратилата, или Петровым днем: соответственно с этим дано будет младенцу имя. Накануне праздника первоверховных апостолов у меня родился сын. Назвали его Петром». Г. Г-ва вполне верит в силу молитв старца.
Поставляя молитву выше всего в жизни, петропавловский диакон настойчиво убеждал понуждать себя к молитве, чтобы достигнуть дара умиления.
— Часто говорил он мне: «Молись, молись, и ты будешь счастлива», — сообщает жена диакона К.
К Богу за помощью, под кров Царицы Небесной советовал он прибегать в скорбях и несчастиях. В Вологде совершался крестный ход. О. диакон подбегает к одному из участвовавших в нем священников, о. А-му, и подает ему какую-то записочку. Тот, не обращая внимания на врученную ему бумажку, бросает ее на землю. О. диакон не огорчается таким невниманием священника, но несколько раз громко произносит: «Помолись Царице-то Небесной». Вскоре в доме о. А. случилось горе: его жена мучилась в трудных родах. В постигшей скорби батюшка вспомнил наставление юродивого, отслужил молебен Божией Матери, и жена его благополучно разрешилась от бремени».
Петропавловский диакон любил людей, жил всегда с ними. Как дитя протягивает руки ко всякому, в ком видит ласку и доброту, так и о. диакон без всяких расчетов, по влечению сердца, тянулся со своею любовью ко всем, кто им не гнушался. Замечали, что он иногда ходил сторонкой, чтобы не показаться навстречу тем, кои его чуждались, покате не становились в ряды глубоких почитателей старца. Детская простота о. диакона влекла к нему горожан, даже высокопоставленных лиц. Круглов рассказывает, что одно административное лицо в городе очень благоволило к диакону, посылало ему подарки, давало деньги и, когда юродивый приходил к нему, угощало с выражением полного почтения. Местный владыка с улыбкой выслушивал ту резкую правду, какую иногда говорил ему о. диакон в лицо. Юродивый был всюду вхож, и это не считалось странным.
Вон он «в семинарии, в старшем классе. Семинаристы окружили его», — рассказывает очевидец Г- ский. «Я вам тему дам, — сказал с. диакон. — С небесных кругов слетел Гавриил. Славная тема…» Он был дорогим гостем во многих богатых и роскошных домах, у интеллигентных лиц, и в убогой хате горожанина, у простых и нищих. Для него везде были открыты двери… И везде он один и тот же, не изменяющий своего поведения раб Божий.
Весьма просвещенный человек П-тов с одушевлением свидетельствовал: «О. диакона считали сумасшедшим, он казался таковым по поступкам, но взгляд его был глубокий и умный, а сердце — прямо золотое. Он искренне утешал впадавших в несчастие, подкреплял их посильным словом надежды на помощь Божию. Все ему открывали свои горести и печали».
«Это была натура кроткая и участливая к обывательскому горю», — пишет А. Пантелеев.
Сердечное участие приносило скорбящим утешение и усладу. Сколько сердечных ран залечил он своею отзывчивостью! В скольких людях поддержал дух для новой борьбы! Скорбящие верили, что о. диакон поможет им своею молитвою и словом. Они просили о. диакона помолиться за них. Вот, например, маленький лоскуток бумаги, в нем карандашом печатными буквами написано: «О. диакон! помолись за меня; я скучаю, глаза болят, помолись Богу о мне, грешной Анфисе». О. диакон чувствовал, где особенно нужна его помощь духовная. Является там, где гнетущее сознание одиночества, где чувствуется потребность посоветоваться: он вдруг тут, словно вырастает. Приведем здесь рассказ женщины Л-вой, свидетельствующий о любвеобильном сердце о. диакона.
«В один год у меня умерли мать и муж. Я осталась вдовой 24 лет. Чувствовались томление духа и страх пред будущим. О. диакон явился истинным помощником в моей скорби. И ранее нередко бывавший у нас, он теперь стал неизменным посетителем. Идешь, бывало, с кладбища, он уж тут: или дожидается на крыльце, или сидит за самоваром… Тяжело положение молодой вдовы, особенно таково оно было в прежнее время, — слышишь только пересуды да разговоры. Хотелось самостоятельно добывать себе средства к жизни, и я избрала было труд акушерский, думала учиться. Но это намерение подверглось осмеянию злоязычных людей, возбудивших много тревожных для меня толков. О. диакон поддерживал мой дух. Когда чувствовалась потребность поговорить и угнетало меня одиночество, — является о. диакон, как будто вырастает. Он утешал, ободрял, и острота горечи полученных обид пропадала. Часто твердил он мне с силою в голосе: «Не унывай, не падай духом». Он ласкал меня с отеческою нежностью, заботился обо мне, как о дочери, и называл себя моим попечителем. В первый раз он наименовал себя так при следующих обстоятельствах.
Я жила в маленькой квартирке; за стеной помещалась другая квартирантка; по свойственному женщинам любопытству, она следила за мной, за моей жизнью, за знакомыми, наблюдая, кто бывал у меня и что говорил. Однажды как-то она пропустила, не заметила, кто вошел в мою комнату, и, услышав мужской голос, загорелась любопытством. Войти в комнату соседка постеснялась, а потому она послала детей своих подсмотреть. Произошло необычайное. Всегда мягкий и кроткий о. диакон, увидев детей, взволновался, закричал на детей, забранил их. Все случилось так неожиданно, что меня забила нервная дрожь, и я прислонилась к косяку двери. «Ей бы самой за собой смотреть, — кричал он, возмущенный подсматриванием, — а не за ней. Я буду твоим поручителем…» О. диакону открывали то, что было на душе, прямо и не обинуясь, чистосердечно исповедовались в своих грехопадениях, делились радостями, намерениями, желаниями. Почитатели верили, что раб Божий укажет средство избавиться от гнета страстей, по крайней мере скажет свое откровенное и меткое слово.
В судьбе некоторых лиц о. диакон принимал горячее участие, так что без совета его те не предпринимали ничего важного в своей жизни. Благословенье старца являлось мотивом к решительному их шагу. С благоговением, бесконечною благодарностью вспоминает о петропавловском диаконе нынешняя игуменья Успенского монастыря С-я. Дом их, — она из рода дворян Кубенских, — был в приходе Петра и Павла.
«Еще маленькой девочкой, — сообщает нам матушка, — я чувствовала душевное влечение к о. диакону, который служил в приходе, где жили мои родители. Когда о. диакон (в 40 годах) находился в доме умалишенных, отец мой собрался однажды навестить больного. Не удержалась, не устрашилась и я, пошла с отцом. О. диакон все время разговаривал с нами вполне здраво: он не был сумасшедшим. Вид его хорошо запечатлелся в памяти. 20-ти лет я поступила в монастырь. Жила я в нижнем этаже игуменского корпуса. Замечательно, что о. диакон с самого начала моего поступления в монастырь стал звать меня «игуменьей», предрекая мою будущую должность. «Откуда ты это, о. диакон?» — встречает келейница тогдашней игуменьи неожиданно появившегося в ее покоях гостя. «От игуменьи (подразумевается будущей) к игуменье» (настоящей). Являясь ко мне, он утешал, ободрял меня, был мне незаменимым мудрым советником. По некоторым обстоятельствам мне пришлось перейти из Вологды в Ярославский Казанский монастырь. Там прожила я семь лет. В одно лето о. диакон приезжает в Ярославль. «Царица небесная! Обрящи мне Раису», — громко говорит он, идя по двору монастыря, где жила я. Необыкновенный вид старца, его блестящий взор, его вопль: «Царица небесная! Обрящи мне Раису (мирское мое имя), невольно обратили на него внимание сестер. Многие из них вышли и окружили юродивого. Заметив в монастыре необыкновенное оживление, я взглянула в окно и вижу: отец диакон из Вологды. Как? Какими судьбами? — «Вот Царица небесная обрела мне Раису!» — радостно воскликнул он. Прощаясь с нами (в монастыре были и другие сестры из Вологды), он говорил: «Скоро приедете, вологжанки». Эти слова нам тогда казались странными, потому что мы не имели намерения оставить Ярославль. Но о. диакон говорил ясно. По возвращении из Ярославля он и моей матери подтвердил, что я вернусь сюда, что в Успенском монастыре я уже записана. Действительно, по неисповедимым судьбам Промысла на следующее лето я перебралась вновь в обитель, где положено было начало моей иноческой жизни. Перед пострижением в мантию иногда чувствуется томление духа, внутренняя борьба, открывается величие подвига и слабость сил для несения его, страх пред будущим. Когда настоятельница монастыря предложила мне готовиться к пострижению в мантию, это томление испытывала и я. Не решалась я принести обеты Господу. Матушка игуменья несколько раз повторяла свое предложение. «Спрошу у о. диакона, — отвечала я, — что он скажет, без его благословения не могу решиться». О. диакон, как нарочно, не показывался в монастыре. Но вот он пришел. Я передала ему свои думы. Вскипятился о. диакон, таким я не видела его никогда. «Из стен монастыря тебя гнать надо! — горячился он. — Если предлагают, значит, воля Божия». Решительное слово прекратило все мои сомнения. Легко жилось при таком добром человеке.
Особенно сильною любовью о. диакона пользовались сироты. Он частенько являлся даже в совершенно незнакомые семьи, чтобы и тут пролить теплый луч своей ласки: хоть на минуты забудет семья о гнетущем ее горе; а где может, он позаботится, попросит о сиротах об улучшении их участи.
«У Пятницкой церкви в Вологде, — рассказывает о. диакон П., — был дом сирот диакона Ермолова. В соседнем доме загорелось. Пожар угрожал дому Ермоловых так сильно, что, казалось, дом неминуемо должен был сгореть. Но подходит петропавловский диакон. «Надо, — говорит, — отстоять сиротский дом», — и удаляется на дорогу, начиная молиться. Чрез несколько минут является к пожарным какой-то господин и убедительно просит отстоять дом. На дом натянули паруса, и дом уцелел». Послушаем рассказ одной дамы В-ной, живо вспоминающей свое детство и неразрывно с ним образ о. петропавловского диакона.
«После отца нас осталось шесть сестер. О. диакон любил всех сирот. И нас часто навещал. Войдет в комнату и усердно помолится, иногда споет какое-нибудь церковное песнопение, потом начинает порывисто вынимать из карманов своего балахона булки (плюшки), конфеты. Положит свои гостинцы на стол, соберет нас, детей, вокруг себя. «Садитесь, садитесь, сиротки», — скажет он и наделит нас булками и конфектами. Мы сначала побаивались о. диакона, а потом полюбили и с радостью встречали его. Посидит он у нас иногда и долго. Перед уходом опять помолится. Дом наш стоял на углу улицы. Мы наблюдали, что когда о. диакон проходит мимо нашего дома, то возьмет что-нибудь с земли и все покидает на дом, как бы от чего-то ограждает его».
Петропавловский о. диакон весь превращался в нежность, когда подводили к нему детей. Он крестил их, ласково гладил по голове. Действительно, с детьми он имел много общего: открытость, простоту, незлобие. Он не мог смотреть на них без умиления, он дарил им булки, гостинцы. Иногда испорченные дети наносили о. диакону немало обид и оскорблений, гонялись за ним с комьями грязи и камешками. Делали они это то по неблаговоспитанности, то по подстрекательству взрослых, считавших о. диакона сумасшедшим и не понимавших истинного смысла его жизни и действий. Раб Божий к обидам относился равнодушно, он был точно мертвый, потому что смирил себя, зная, что смирение есть верный путь к очищению сердца, а чистых сердцем ублажает Господь, обещая, что они Бога узрят. О. диакона нередко окружали нищие. «На, отец диакон, возьми пирог, покушай», — предлагала ему добрая женщина. «Не могу». Однако взял и ушел. Смотрят — попадается диакону какой-то нищий, ему в руки и сунул он пирог. Нищие толпой бросались в ту сторону, где видели спешно идущего о. диакона, готового усладить хотя сколько-нибудь судьбу собирающей милостыню братии чрез раздачу им подарков. О. диакон прекрасно понимал, что самый бедный не тот, который протягивает руку за копейкой, а тот, кто, живя в ужасной обстановке, не может просить подаяний. Ему известны были чердаки, где царила вопиющая бедность. Туда старец спешил с помощью; для таких он, вопреки обыкновению, даже просил денег у благодетелей, иногда по нескольку рублей. И скольких, должно быть, подобно св. милостивому Николаю, спас он от разврата чрез благовременную помощь. Кстати сказать, он болел душой за тех, которые помрачали свое нравственное чувство удовлетворением низших влечений своей плоти. Нередко видали его около «веселых» домов умоляющим входящих туда оставить свое намерение. Бывало, что за добрый совет ему платили руганью и побоями.
Веря, что деньги будут унесены туда, где они нужны до крайности, добрые люди давали ему свои лепты. Юродивый любил дарить своим знакомым св. иконы, при этом замечали дивное. Попадается однажды петропавловский о. диакон матери купеческой жены К-вой и вручает ей икону Николая Чудотворца со словами: «Возьми, мати, да только смотри не наряжай», т. е. не делай на икону дорогой ризы. Родители подаренной иконой благословили сына. Сын пил вино. Бывали такие ужасные моменты, что организм требовал водки, а денег не было, и пьяница решался идти продавать икону — родительское благословение. Но без ризы она не имела цены: никто ее не покупал. Так благословение матери и сохранилось у жалкого сына.
Сам себе о. диакон не угождал. Что ему надо было? До конца жизни юродивый жил в своем маленьком, низеньком, с окнами, вросшими в землю, домике, находившемся за городом, за тюрьмой. Приобретения для о. диакона не имели никакого смысла. Он явил себя настоящим бессребренником.
Не затемненные пристрастием к земным выгодам, не помраченные самолюбием, злобой духовные очи его не только видели ближайшее, но проникали вдаль, в глубину людских сердец. Случаев, в которых ясно открывается дар прозорливости этого старца и когда вполне исполнялись сказанные им слова в жизни разных лиц, его знакомых, так много, что перечислить эти случаи, собрать их нет возможности. Вот некоторые из них. Писатель Круглов в своем сочинении «На ниве жизни» («Приходская Жизнь», 1901 г., с. 495–499), рассказывает следующее:
«У одной женщины, жившей на набережной в своем маленьком, дряхлом домике, собрались гости по случаю дня рождения хозяйки. Стояли июльские жары. Гости сидели и пили чай. Вдруг вбегает в комнату петропавловский о. диакон. «А, гости, гости, — говорит он, — ну, и я пришел к тебе в гости, угощай, угощай… Что у тебя есть-то?» Хозяйка очень уважала «Божьего человека» и потому очень обрадовалась его приходу. Она засуетилась, угощая диакона и чаем, и пирогом, предложила и наливки. «А и выпью, выпью; ты думаешь, не выпью? А выпью, я ведь люблю выпить, ей как люблю…» Он захохотал, принимая рюмку из рук хозяйки. «Кушайте во здравие, батюшка», — от души промолвила женщина. Но о. диакон вдруг словно чего испугался и, вылив вино на стену, воскликнул: «Ай, и жарко же, ой, как жарко». Он даже закрыл лицо руками. Все были изумлены словами юродивого и, не понимая их смысла, молча, глядели на него. А он постоял так с закрытым лицом и обратился к хозяйке: «А поди, хотела бы, чтобы я тебе подарочек дал?» Хозяйка ответила ему: «Батюшка, какой мне от тебя подарок, и то подарок, что пришел ко мне в такой день… за то благодарю…» — «А я тебе все-таки подарю, подарю… и знаешь, что подарю?» Женщина молчала. «Ты вот меня угостила, а я не подарю, как можно… Я тебе дом подарю, маленький, а все же дом». — «Батюшка, это как же так: значит, я помру скоро?» — спросила женщина, понимая под словами «маленький дом» гроб. «Поживешь, поживешь, — ответил о. диакон, — я тебе вот этот подарю, в котором ты живешь». Женщина подумала: «Этот дом и так мой, зачем его еще мне дарить», — но она не посмела сказать этого о. диакону, а поклонилась и промолвила: «Благодарю на подарке, батюшка». О. диакон засмеялся и сказал: «За твою доброту ко мне дарю… а ты не думай, что если твой, так и дарить нечего…» Он вынул две копейки, бросил их на стол и выбежал из комнаты. Что это значит, никто из гостей не мог пояснить, путаясь в догадке. Первая же ночь все объяснила. В 12 часов ночи в той слободе, где стоял дом женщины, произошел пожар, истребивший кряду 20 домов, но дряхлый домишко бедной почитательницы юродивого остался цел, хотя на него пожарные меньше всего обращали внимания, занятые спасением домов богачей. Юродивый, действительно, подарил женщине дом, который, хотя и был ее, но которого она могла лишиться, и, наверное бы, лишилась. Вот еще два факта, которые говорят о прозорливости старца. Это уже случилось со мною. Я шел куда-то с товарищем-гимназистом. Нам попался навстречу о. диакон. Товарищ издалека увидел юродивого и сказал мне: «Вот и сумасшедший святоша бежит». — «Почему ты так его называешь?» — спросил я. «А что же, не святой ли, по-твоему? Ах ты, кумушка-голубушка». Я еще не успел ничего ответить товарищу, как о. диакон был уже пред нами. Он снял шляпу, поклонился низко мне и сказал: «Поздравляю, поздравляю с царскою милостию; тебе радость и матери помощь». Я удивленно посмотрел на юродивого. «Не понимаю я вас», — сказал я. «И я не понимаю, — ответил о. диакон. — Нам, дурачкам и кумушкам, где же понять… спроси у него, умника (о. диакон ткнул пальцем на товарища), он все объяснит, а ты помолись за него, когда он в тьму сядет». С этими словами он побежал от нас, помахивая по обыкновению обеими руками. Я был озадачен словами о. диакона, хотя и не понял их. Меня удивило одно: он повторил слова товарища: «Дурачок и кумушка». Как он мог это узнать? Затем он, очевидно, в насмешку назвал товарища умником; но какая царская милость, в какую тьму идет мой товарищ? Не знаю, как подействовали слова о. диакона на товарища, но он не желал обнаружить своего смущения и повторил резко: «Воистину сумасшедший… что нагородил: «Царская милость». Но все слова о. диакона скоро объяснились. Чрез месяц я получил казенную стипендию, которая была, конечно, моей матушке помощью. Понял я потом и предсказание относительно товарища, но уже много лет спустя: он сначала ослеп, а затем сошел с ума. После этого случая со мною — прошло два года. Дело было пред экзаменами. Я сильно боялся математики, в которой я всегда мало успевал. Рано утром шел я в гимназию со страхом и трепетом. У Красного моста попадается мне о. диакон. «Бог в помощь, — проговорил он. — Не бойся холода, не бойся… надень штаны теплые и хорошо будет… И лихорадка пройдет». Я не понял совета, но помня прошлое, решил, что это слово что-нибудь означает. Между тем о. диакон убежал.
Пришедши в гимназию, я передал слова о. диакона одному своему приятелю. «Знаешь, что это значит?» — сказал приятель, веривший в праведность о. диакона. — «Не знаю. А ты как думаешь?» — «Может быть, ошибаюсь, но, должно быть, тебя спросят Пифагорову теорему, что мы зовем пифагоровыми штанами». Мне показалось такое объяснение невероятным, откуда юродивый это знает, и будет ли он повторять наши шутки? Однако я просмотрел хорошенько эту теорему. И что же? Приятель оказался прав в своем объяснении. Меня спросили именно эту теорему. Я ответил хорошо и получил переводный балл. Вот еще один факт. У одной старухи был огород. Им она только и жила: сама кормилась и двух внучек содержала. Однажды она сидит в огороде и раздумывает, как все Бог уродит. И вот в огород прибегает юродивый о. диакон. «Что пригорюнилась? — говорит он. — Нечего кручиниться, надо капусту спасать». — «От кого, батюшка?» — «От врагов, от губителей». — «Да как спасать-то и что за враги?» О. диакон начал бегать по бороздам и плевать на гряды. «Батюшка, да что же ты делаешь — обиженно воскликнула старуха. — Я трудилась, трудилась, а ты нако, всю капусту мою заплевал». — «Врагов надо прогнать, вон их сколько». И он опять начал плевать на гряды. Тогда старуха осердилась и прогнала юродивого из огорода. «Вишь, что выдумал, — говорила она, — начал мою капусту оплевывать, а еще, говорят, праведник. Хорош праведник — просто блажной какой-то». И что же? Появился червь на огородах, который все овощи поел. У старухи погибла вся капуста, исключая только тех гряд, которые оплевал о. диакон: на тех не было червя, и на них капуста уродилась на диво. Поняла теперь уже все старуха, да было поздно. «Если бы я тогда догадалась, грешная дура, так не то, чтобы гнать Божьего человека, а просила бы его, хоть на меня плюй, да сохрани капусту». Над старухой смеялись. А она после этого стала большой почитательницей о. диакона».
Л. Пантелеев в своих «Ранних воспоминаниях» пишет о петропавловском о. диаконе:
«Он не ходил в рубищах, не произносил грозных речей о грехах мира сего, не творил чудес, не исцелял больных. Его слава держалась в том, что он — прозорливец, и эту славу он сохранил до конца дней своих. Стучались у матушки тяжелые недели, что не было никакого заработка; тогда хлеб да горячая вода с солью заменяли наш обед. Но вот однажды матушка приходит с рынка в заметно приподнятом настроении. Она встретила в рядах петропавловского о. диакона. «Сам ведь меня остановил, дал вот эту просвирку, да и говорит: «Трудишься, вдовица? Трудись, Бог любит труд и сторицею воздаст за него», — говорила тогда матушка. И вспоминаются эти слова матушке, когда почему-нибудь дела ее поправятся. В другой раз калачник неудачно простоял на рынке. Ничего почти он не продал и с огорчения хотел уже идти в трактир. О. диакон как раз ему дорогу переходит. «Отец диакон! Мое почтение», — спешит проговорить калачник. А тот ему в ответ: «Везде благодать Божия, везде Его попечение о трудящихся и обремененных». — «Хорошо сказано», — подумал калачник и вместо трактира направился домой, и в этот же вечер наловил почти полное ведро рыбы. «Прозорливец, одно слово; непременно, как попадется, на свечку ему подам: угодный Богу человек», — говорил после этого калачник. Один торговец, человек степенный, вдруг ни с того, ни с другого затосковал, начал пить и в короткое время пропил весь товар, а потом стал нищенствовать. Словом, совсем опустился человек. Жена его, испробовав все способы помочь горю, осаждала отца диакона просьбами помолиться за ее мужа. «Молюсь, — отвечал о. диакон, — молюсь в храме Божием, молюсь на распутьи, но мера взыскания Господня еще не исполнилась». Бедная женщина еще пуще загоревала, думая, уж не ждать ли ей чего-нибудь еще худшего. Между тем муж ее вдруг исчез из города и ни слуху, ни духу о нем не было. Стали думать, не ушел ли он к староверам, в какой-нибудь дальний скит. А уж если туда ушел, так оттуда люди уж не возвращаются домой. Прошло более двух лет. Жена уж не знала, молиться ли ей о здравии или за упокой раба Божия Петра. Но вот однажды она встретила отца диакона. «Взглянул на меня, — рассказывала она, — таково ласково, да и проговорил: «Годна Богу сердца сокрушенного молитва, и в раны его влагает Он Свой перст животворящий». А потом вынул из платочка просвирку и дает мне. Заздравная часть вынута из нее за раба Божия Петра. И сделалось мне какого легко. Значит, жив еще мой Петр, если прозорливец за здравие его молится. Было это вскоре после Ильина дня, не выходят у меня из головы слова о. диакона, и просвирку его берегу, поставила к образам. Вот в Успеньев день встала я рано, тороплюсь до начала поздней обедни все управить. Только что я успела пирог вынуть из печи, как в соборе ударили к обедне. Стала я одеваться; вдруг слышу, кто-то вошел в кухню… Оглянулась я, да уж и сама не знаю, как у меня ноги не подкосились, вижу — Петр крестится на икону».
Выше приведен был рассказ Гр-вой о рождении ею сына после 12-летнего замужества. О. диакон, молившийся о даровании детей благочестивой женщине, предсказал и смерть малютке. Последнего он очень любил. Являясь в дом Гр-вых, он брал его на руки, ласкал. Однажды пришел он и увидел, что у мальчика новая няня. По обыкновению, он взял малютку к себе на руки, перекрестил его и спросил у окружающих: «Где же прежняя нянька?» Ему ответили, что она ушла домой. «Недолго не дожила-то», — сказал он, как бы про себя. Чрез неделю мальчик, будучи 9 месяцев, умер. «И родным моим, — прибавляет Гр-ва, — о. диакон говорил, что мальчик не заживется, хотя вид малютки не подавал к такому заключению никаких поводов».
Купеческая жена Ко-ва передает много случаев прозорливости старца. Когда она была еще девицей, о. диакон часто посещал дом ее матери — вдовы, где всегда был встречаем с большим радушием.
«Месяца за два до выхода моего в замужество в наш дом вдруг приносят два приказчика деревянный диван, за ними следом идет о. диакон. «Мати, пусти меня, я отдохну здесь, немного и места-то мне надо», — говорит он. После того он стал ходить к нам каждый день. Придет и прутиком все меряет диван, меряет и говорит задумчиво: «Никак не приходится, как не померяю». Меня тогда засватали, но дело что-то не слаживалось. Однажды о. диакон является к нам в сопровождении двух приказчиков из мучной лавки. «Несите диван», — распорядился о. диакон. На наше же недоумение отвечал: «Не тоскуй, мати, в купеческий дом пойдет». Скоро я вышла замуж за торговца мучными товарами».
«Во время холеры, — рассказывает та же Ко-ва, — ранним утром подошел о. диакон к нашему дому, взял с земли камешек и зарыл его под тумбочку. В верхнем этаже дома тогда жил портной, арендатор дома, который, войдя в доверие одного из главных наследников, притеснял мою мать вдову. О. диакон встал под окном верхнего этажа и поколачивает палочкой: «Шей, голубчик, завтра некогда будет; да надо, голубчик, жить по-Божески — набежит погодка-то сверху да и стряхнет…» К вечеру неожиданно заболел один из мастеровых; портному, который принужден был хлопотать около больного, на другой день, действительно, некогда было шить. Исполнились слова петропавловского о. диакона и о погоде. Скоро умер главный наследник дома; половина дома, по завещанию, перешла в церковь, и «портного стряхнули сверху», т.е. отказали от занимаемой им квартиры. От арендаторов моя мать, скромная женщина, вынесла немало горя в жизни. Один арендатор попал такой, что не хотел исполнить данных им условий, — поправить дом. Полы испортились, дом пришел в упадок. Чтобы отказать недобросовестному арендатору, мать несколько раз обращалась к архитектору, просила его освидетельствовать дом. Тщетны были ее просьбы. Приходит однажды к матери о. диакон и приводит с собою большую собаку. «Смотри, мать, — обращается он к моей матери, — вот дашь кусок собаке и идет за мной, а не дашь — облает». В руке о. диакона находился кусок булки. Говорит он эти слова, а сам посматривает то на мать, то на кусок. «Надо, видно, дать архитектору-то», — сообразила вдова. Было у нее три рубля, снесла их, и архитектор приехал вслед за просительницей. В молодости мать моя была крепостная, ее выкупила на волю тетка и держала у себя в услужении. Тетка занималась приготовлением можжевельного квасу (напиток тогда распространенный) и торговала им. Молодой девушке — племяннице — тяжело жилось, трудов было много, да и обращение тетки было совсем не родственное. Видел это о. диакон. Однажды приходит и говорит тетке: «Опросил, Опросил (ее звали Евфросинией), пора худые дела бросить, пора Богу молиться. Пойдем-ка на улицу, — позвал он ее. — Посмотри, на восток-то свет, а найдет темное облачко, свет-то и загородит. Пора бросить греховные дела». Чрез неделю тетка умерла».
У игуменьи Успенского монастыря Смарагды (недавно скончавшейся глубокой старицей в Иерусалиме) была любимая послушница-келейница, по имени Руфина. Эту Руфину за некоторые черты ее характера в монастыре недолюбливали. В один из будничных дней о. диакон приходит в келию матушки Назареты (теперь покойной), которая в то время пекла хлебы и уже вынимала их из печи. Не успела она положить горячий хлеб на стол, о. диакон вдруг схватил его. «Отдай мне, — почти повелительно воскликнул он. — Да на что тебе хлеб-то, о. диакон?» — возразила монахиня. «Руфине на дорогу, Руфине на дорогу, — несколько раз повторил старец. — Руфине не отдам, — отрезала Назарета. — Да и зачем ей хлеб-то. Руфину матушка-игуменья любит, пирогов ей напечь прикажет, да и не отпустит ее она никогда от себя». О. диакон стоял на своем. «Сама уйдет, никто и не увидит, только Александр знать будет», — быстро говорил он. И что же? Руфина, действительно, вскоре ушла из монастыря без спроса настоятельницы. Тогда в обители порядки были строгие: без разрешения игуменьи никто из сестер не мог выходить из стен обители; если бы кто решился сделать это, непослушную задерживали бы в воротах особо приставленные для того сестры. Чтобы убежать из монастыря, Руфина прибегла к хитрости. Она упросила или подкупила монастырского кучера, которого звали Александром, увезти ее из ограды обители в большом чане, когда он утром поедет на реку за водой. Никто не знал, кроме Александра, как Руфина уехала на родину. Этот случай прозорливости петропавловского о. диакона в свое время произвел сильное впечатление на обитательниц Успенского монастыря.
В жизни упомянутой Назареты был такой случай. Однажды о. диакон пришел к ней с толстой палкой. Посидел, поговорил. Простившись, он пошел, оставив палку в углу келии. Предполагая, что о. диакон забыл ее, монахиня закричала ему вслед: «О. диакон! Палку-тο оставил. — А вот тебе пригодится», — ответил он и торопливо удалился. Действительно, палка монахине скоро понадобилась; у нее заболели ноги, и она могла ходить по келии, только опираясь на палку. Ныне здравствующей монахине З-вии петропавловской о. диакон предсказал поступление в Успенский монастырь. «Родители мои, — рассказывает монахиня, — жили в подгородной деревне, приписанной в Таврило-Архангельской, города Вологды, церкви, находящейся вблизи женского монастыря. От юности я не чувствовала влечения к мирской жизни. Когда мне было лет 20, сговорились мы, несколько девиц, сходить к киевским угодникам. Ранним утром отправились мы из деревни. Вдруг откуда ни возьмись о. диакон. Подбегает ко мне и спрашивает: «Куда собрались? — В Киеве помолиться, — отвечала я. — Доброе, великое дело, — похвалил он так наше намерение. — Счастливого пути, — повторил он несколько раз. Сходили мы в Киев благополучно. Паломничество укрепило во мне желание поступить в монастырь. Мать и желала бы отпустить меня, да дома я ей нужна была. Не знала мать, на что решиться. Идет она однажды из города, видит, у церкви Гавриила-Архангела, что очень усердно молится петропавловский о. диакон. Слыхала она много рассказов о живущем в нем даре прозрения. «Спросить бы, что делать с дочерью», — подумала мать, но оробела, не смела подойти к о. диакону и, остановившись, издали смотрела на него. Вдруг о. диакон повернулся лицом к монастырю и стал молиться на его храмы. На улице в то время лежало несколько куч с каменьями, привезенными для поправки дороги. Вдруг о. диакон схватил один камешек из кучи, находящейся у крыльца Гаврилоархангельского храма, и бросил его в кучу по направлению к монастырю; потом перекрестился на икону преп. Сергия (монастырский храм), взглянул на мать и убежал. Мать уразумела, что надо отдать дочь в «монастырскую кучу», в число сестер. И я живу в обители давно и благодарю Бога за Его милость», — заключила монахиня свой рассказ.
«Петропавловского о. диакона, — передает дворянка П-ва, — очень почитал мой муж. В его жизни немало было случаев, предуказанных юродивым. Особенно замечателен такой. За два года до нашей свадьбы муж мой заболел, и доктора приготовили его едва не к смерти; да и действительно, он был настолько слаб, что не мог встать с постели. Приходит навестить его о. диакон и говорит: «Вставай, А., будет лежать-то. — Тот отвечает: — Рад бы, но слаб, не могу. — Полно, будешь ходить, дай мне вот твои сапоги». Прислуга подала старцу сапоги, и на второй же день после этого муж поднялся с постели и стал быстро поправляться. Я была знакома с о. диаконом недолго. В первый раз я увидала его дня чрез три после моей свадьбы. Это было в июле 1871 года. Старец любил моего мужа и пришел нас поздравить. Поговорив с нами, он вдруг обратился к моей девятилетней племяннице со словами: «Скажи от меня поклон твоей бабушке». Но девочка даже и не знала бабушки, так как та очень давно умерла. Потом о. диакон обратился с просьбой к моей сестре, матери той девочки: «Дай мне, мати, носовой платочек». И, когда я было хотела предложить свой, он отказался. «Я хочу взять от нее», — сказал он. Тогда для нас это было непонятно. Чрез 11 месяцев после тяжкой болезни умерла девочка; тут мы поняли смысл слов: «Передай поклон бабушке» и «дай мне носовой платочек», и мать горько оплакивала свою дочь. Помню еще. Мы жили против Духова монастыря. Однажды приходит к нам о. диакон, что-то шепчет; слышно, что молитву, но какую — не разберешь; и все изображает кресты на стене напротив монастыря. Мы не понимали, что это значит. Но, как только он от нас вышел, сейчас же в монастыре загорелась баня, стоявшая как раз напротив, где он оградил крестом. Нас Господь сохранил.
Дворянка Ис-ва рассказывает:
«В 1862 году в Вологде свирепствовала тифозная горячка, которой были поражены нередко целые семьи, причем большинство больных умирало. В одном семействе девушка 16-17 лет лежала на одре болезни без всякой надежды на выздоровление; лекарства не только не помогали, а как будто ухудшали болезненное состояние больной и приближали ее к роковой развязке — смерти. Петропавловский о. диакон прибегает (он ходил всегда быстро, как бы в припляску) в дом, где жила больная, схватывает находившийся на столе стакан с лекарством и бросает его в окошко, затем обратился он к больной с такими словами: «Вот теперь ты воскресла, хорошо, что не выпила этого лекарства, а то бы умерла», — а потом быстро убегает в другой дом; к родной сестре больной, стучит снаружи в окно и говорит: «Ну, ваша сестра воскресла и сидит в креслах». Больная чрез неделю стала поправляться и скоро совершенно выздоровела.
Отец упомянутой больной, дворянин, живший в Тотьме и занимавший должность дворянского заседателя при уездном съезде, получив пенсион, переехал со своей семьей в Вологду для постоянного жительства. В 1866 году, в августе месяце, старец чувствовал себя совершенно здоровым, ни на что не жаловался. Но, к удивлению его и его семейных, о. диакон два дня ходил около дома, где жили они, вырывал в полисаднике репейник и все кадил и кланялся на дом, а потом убегал, несмотря на усиленные приглашения зайти в дом. Что же? Через 12 дней со стариком случился припадок, имевший смертельный исход».
Нередко петропавловский о. диакон предвещал печаль и несчастия. Недаром иные и избегали его, опасаясь выслушать что-нибудь неприятное для себя. О. диакон любил бывать в женском монастыре.
— Помнится, — сообщила нам монахиня А-на, — это было в день посвящения в сан игумений покойной Арсении, к матушке Ал-не, ризничей, у которой тогда я жила, приходит о. диакон. У матушки сильно болела голова, и она стала жаловаться на это своему гостю. О. диакон открыл и показал хозяйке нижнюю часть ноги: она была вся в струпьях. «О. диакон! Ногу-то надо спуском (спуск — это деревянное масло, в которое спускается воск с горящей свечи) помазать, — встревожилась матушка. — Тогда болезнь-то и пройдет. — Нет, в могилу скорее спустят, — а вот землицей с могилы Николая Матвеевича Рынина (юродивого, известного в Вологде) надо полечить», — сказал о. диакон. Вскоре у м. Ал-ны сильно заболели ноги. Спуск не помогал. «Были мы с ней, — говорит бывшая ее келейница, — на могиле Николая Матвеевича, пели здесь панихиду, брали песочку, больная лечила им ноги и чувствовала облегчение». Но нажила она не долго; от этой болезни ее и в могилу спустили».
«Давненько это было, — передает благочестивая женщина Б-кая.
— Сидел о. диакон у Ба-на, торговца; с ним вместе в гостях был теперь уже покойный священник о. К-ков. Гости кушали пирог. О. диакон быстро поворачивается к о. Андрею и говорит: «Будет, батюшка, пироги-то есть, пора бы блины». В скором времени у о. Андрея умерла жена.
Некий ΙΊρ-шев выстроил новый дом и пригласил на новоселье о. диакона, которого он очень почитал за высокую жизнь. О. диакон хвалил постройку. «Хороший дом, хороший: кто-то жить-то будет», — загадочно прибавил он. Пр-шев помер, а за ним и семейство его скоро перевелось.
Матери нотариуса П-ва о. диакон за неделю предвозвестил ее кончину. Пришел он навестить больную. «Скоро, мати, увидишь Царицу Небесную», — сказал он, простился и вышел, не затворив двери в комнату. Печальных случаев он предсказал множество.
Раз попадается он навстречу девице, дочери почтового чиновника Г-ва, и подает ей большую обгорелую корку со словами: «На, возьми, может, и пригодится». Действительно, она по выходе замуж всю жизнь провела в нужде.
Если поставит о. диакон крестик из лучиночек около какого-нибудь дома или начертит крест углем на дверях, то умирал кто-нибудь в этом доме. Если же бросит палочки, комочки снега во двор, то скарлатина похищала детей. Идет он однажды мимо церкви Всемилостивого Спаса и, закрыв одной рукой лицо, громко повторяет: «Ой, жарко, ой, жарко». В той стороне, откуда закрывался о. диакон, ночью сгорела кузница.
Рассказывают, что однажды он обрил себе бороду и голову. Не знали, к чему это. Оказалось, — пред наступлением Крымской войны. Во время холерной эпидемии он осенью, несмотря на холодную воду, бросился в реку и выкупался. Болезнь стала ослабевать.
Интересный случай был в доме почтового чиновника Г-ва. У него на квартире в комнатке жил почтальон. Однажды петропавловский о. диакон пришел к Г-вым. Его пригласили пить чай. «Нет, нет», — отказывался о. диакон и направился к той комнатке, где жил квартирант. Дома его в то время не было. «Это что за комната? Кто в ней живет?» — спросил юродивый. Ему сказали. Входит он комнату и молится: «Царство ему небесное, хороший был человек», — говорит он. Скоро хозяева узнали, что квартирант их в дороге в Архангельск умер.
Не раз юродивый предупреждал несчастия, хотя, непонятый, иногда и не достигал своей цели. В летние дни окна в квартире П-го на ночь не закрывались. В одно утро хозяин, к удивлению своему, заметил, что на окне лежат камни. Он сбросил их. На другое утро нашел то же. «Надо последить», — подумал Ц-кий. На следующую ночь он долго не спал. И вдруг видит: подходит к окну петропавловский о. диакон и кладет на окно камешки. «Отец диакон! Что это ты делаешь? — спросил Ц- кий. — Крепче держать надо, крепче». Но хозяин не обратил внимания на слова юродивого. На следующую ночь из квартиры Ц-го много имущества было унесено ворами, вошедшими в комнату чрез раскрытые окна.
У одной подгородной женщины из слободского прихода захворал ребенок. Печальная она идет по городу. «Не плачь о маленьком, плачь о большом», — слышит она сзади себя голос. Это говорил петропавловский о. диакон. Ребенок остался жив, а пришла весть, что муж женщины, находившийся на заработках, умер.
Предвещал о. диакон и радостные события. Однажды он сидел у почитающей его вдовы Б-ой, жившей у церкви Ильи Пророка. У нее в то время назначенный во священника сын уехал сватать себе невесту. Хозяйка угощает юродивого пирогом, тот, отрезав края пирога, складывает их на средину, но не ест. «Дело слажено», — говорит он. В то время жених с невестой молились Богу. А епископу К-ну Са-му о. диакон предсказал архиерейство, когда тот учился в пятом классе В-ой гимназии. Идет он из гимназии чрез плац-парад, попадается петропавловский о. диакон, сложив руки для принятия благословения, говорит: «Благослови, преосвященный владыко. — Я — гимназист», — возражает изумленный. — Все равно, будешь архиереем», — ответил старец.
Отцу архимандриту Заоникиевской пустыни Серафиму старец предсказал о пожертвовании в обитель иконы со святой горы Афон и радостной встрече ее: «Ты-тο встретишь Царицу Небесную, — говорит он отцу Серафиму и запел с умилением: «Достойно есть». — А мне не видать», — с печалью заключил он. Действительно, вскоре после смерти о. диакона в Заоникиевскую пустынь пожертвована была икона Божией Матери, писанная на Афоне и торжественно принесенная в обитель.
«Когда я кончила Ярославское духовное училище, — передавала нам жена священника П-ва, — о. диакон подарил мне поясок с изображением семи архангелов. Муж мой служил священником у церкви собора Архангела Михаила».
«Однажды мне сильно хотелось сходить на концерт, дававшийся в Дворянском собрании, — рассказывает Л-ва, которой поручителем считался петропавловский о. диакон. — Жила я, вдова, у бабушки, своих денег у меня не было, просить не могла. По каким-то делам в тот день ходила я в город. «Каково, мати, живешь? — спросил попавшийся мне о. диакон. — Хорошо, — ответила я. — Вот на концерт хочется сходить, да денег нет. — От отца диакона я не привыкла ничего скрывать. — На, возьми, да не распаковывай до дому», — наказывает он, передавая мне в руки маленький сверток. Я думала, что это деньги, и стала отказываться, но о. диакон настаивал, чтоб я взяла подарок. Разбирало любопытство, что находится в свертке, но все-таки я удержалась, распечатала его во дворе. Оказалось много сложенных цветных бумажек от грошовых конфет, а внутри узенькая бумажка-билетик со словами: «Вас для любви природа создала». О концерте было забыто. Что за смысл поступка о. диакона, рассказчица не может объяснить себе. Мы думаем, что прозорливый о. диакон указал ей на будущее: не развлечения и удовольствия, не материальное достоинство ожидало ее в жизни, но заботы о многочисленных детях в приюте, в воспитание, уход за которыми она вложила свое сердце, заменив каждому из них родную, добрую мать».
Крестьянин одной подгородней деревни не любил подавать милостыню бедным и сильно бранил своего брата, жившего вместе с ним, за его помощь просившим подаяния. Однажды он сильно поругал брата за то, что добрый брат дал бедняку пятачок. Случилось вскоре после того скупому брату быть в Вологде с продажей муки. К нему подходит о. диакон и говорит: «Ты ведь только братними пятачками живешь». Крестьянин остолбенел. О. диакон никак не мог знать о ссоре с братом из-за пятачка.
О. диакон, почувствовав приближение кончины, многим открывал о том. Одному нищему отдал свои сапоги. «На, возьми, мне их более не надо», — сказал он. У небогатого горожанина просил купить ему дом. — «Денег у меня таких нет», — извинялся тот в невозможности при всем своем желании удовлетворить просьбу уважаемого о. диакона. «Маленький мне и дом-то надо», — таинственно замечал юродивый. За несколько дней до смерти петропавловский о. диакон приходит к настоятельнице Успенского монастыря Арсении и просит игуменью пустить его в обитель пожить. Удивилась матушка. «Какой ты, право, о. диакон: знаешь ведь, что по иноческим уставам мужчине в женском монастыре нельзя жить. — Ты, мати, не смущайся; я буду спокоен. Да и места мне немного надо: встать да лечь». После визита к игуменье он отправился к алтарю теплого храма и у могил упал на землю, пролежав тут несколько минут. На том месте его потом и похоронили.
Умер о. диакон 24 октября 1876 года. Весть о смерти раба Божия быстро разнеслась по городу. Немало горячих и чистых слезинок скатилось с ресниц добрых людей. К маленькому домику потянулся народ. Погребение о. диакона совершалось весьма торжественно, целым собором духовенства во главе с преосвященным Феодосием. Гроб сопровождали массы народа, которые увеличивались на продолжительном пути от Петропавловской церкви до женского монастыря. Тело о. диакона, по свидетельству очевидцев, было как восковое; лицо как у мирно спящего. На месте погребения юродивого поставлен скромный крест.Пред ним горит неугасимая лампада, устроенная усердием его почитателей.
И преклоняются знающие и слышащие о петропавловском о. диаконе перед могилою этого истинного учителя жизни, искавшего не прав, а правды Божией, которая как бы сквозила чрез телесный покров его, проникая, как светлый луч, в души людей, зажигая в них искры добра. Некоторые вологжане, закинутые далеко от родины, бывая по временам здесь, служат на могиле юродивого панихиды, вспоминая о нем с самым теплым чувством. Приходят к могиле о. диакона помолиться из глухих мест такие, которые не знали погребенного здесь старца, но слышали о нем дивные повествования…
(«Воскресный день», 1906 г. №32–33, 37–38, 40–43)
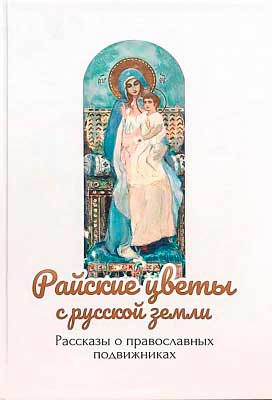
Комментировать