- Турист
- Казнь
- Бессмертники
- Сюжет для рассказа
- Свадьба
- Перед жизнью
- Юбилей
- На зимней даче
- Мгновение
- Учительница
- Мужики
- Архимед
- На кладбище
- Песня
- Лиза
- Ученый
- Проповедь
- В ссылке
- Несчастье
- Рахиль
- В Татьянину ночь
На зимней даче
Анна Александровна Гоммер, жена нотариуса, возвращалась из театра на свою зимнюю дачу под впечатлением пьесы — взволнованная и растроганная. В ушах еще звенели голоса, виделись лица, вставала удивительная последняя сцена, во время которой в зале слышался в разных местах плач. За ней шагал по узенькому обмерзшему тротуару молодой человек, известный в городе под странным именем «И-Еще-Ха».
— Кончено! — думала Гоммер. — Сегодня же переговорю с Иосифом. Мы любим друг друга, — зачем же нам скрываться? Это оскорбительно. Нужно уйти от мужа и начать жить открыто, не считаясь с тем, что подумают знакомые. Нужно быть гордыми. Да, да, — гордыми!
— И-Еще-Ха, не шмурыгайте так калошами. Выше поднимайте ноги!
— Хорошо, — покорно отозвался назади И-Еще-Ха.
— Наконец, если здесь будет тяжело жить, уедем. Мир велик! Можно уехать в Канаду, — про нее недавно писали в газетах. Иосиф будет ходить на охоту, а я заниматься хозяйством.
Последний домик, с единственным окошком, занавешенным красным платком, с собакой, которая тяжело бегала взад и вперед внутри двора, около забора, звеня цепью, остался назади. Кругом стояли, точно завороженные, старые березы.
Пройдя в молчании с полверсты — под низко наклонившимися ветвями, с которых осыпался тихий иней, свернули с дороги на тропинку, перебрались через канаву, и впереди обозначилась дача — будка дворника, ворота и в глубине дом. Окна дома были ярко освещены.
— Гости, — воздохнула Гоммер. — Вечно гости!
В прихожей, пока И-Еще-Ха снимал с нее ботики, она старалась по голосам узнать — кто у них. Некоторые голоса были знакомы, — вот захохотал толстый Иван Прокопьевич, председатель уездного суда, точно пробку выбило из бутылки. Нехотя рассмеялся Иосиф, — он смеется вообще редко. Фисиков, старший кандидат на судебные должности, рассказывает что-то, скрипя и задыхаясь от злости.
Толстый Иван Прокопьевич первый увидел ее в дверях и запел: «какое чудное виденье»! Фисиков сердито посмотрел в ее сторону — недовольный за то, что его прервали. Гоммер с милой улыбкой поздоровалась со всеми и извинилась, что запоздала — ей хотелось пройтись после спектакля.
— Вы, господа, играли сегодня, как боги! — сказала она двум актерам, которых привез на дачу Иван Прокопьевич. — Я вышла из театра, точно пьяная.
— И-Еще-Ха, любитель драматического искусства, — представил Фисиков актерам спутника Гоммер.
— Как? — переспросил один актер.
— И-Еще-Ха.
— Очень приятно.
Гоммер села в тени пальмы, на софе, не спуская глаз с Иосифа, и думала одно: милое солнце! милое солнце мое!
— Вообще нужно сказать, — скрипел опять Фисиков, — хотя наша хозяйка председательница местного драматического кружка, но здешние любители — народ курьезный. В прошлом году у нас одна любительница ушла со сцены в камин вместо двери, — факт! Толстый Иван Прокопьевич, сидящий рядом со мною, громко сказал на сцене неприличное слово.
— Это я по ошибке, — суфлера не расслышал, — отозвался Иван Прокопьевич.
— И-Еще-Ха получил свое имя от того, что на одном спектакле смеялся так:
Рассказчик, не меняя сердитого выражения на лице, встал и, помогая себе руками, губами и даже усом, продолжал:
— Суфлер (секретарь суда, человек пунктуальный): «ха-ха-ха». Сей муж: «ха-ха». Суфлер (следя по книжке, очень строго): «и еще ха». Сей муж (покорно); «и еще ха»!
В зал вошла горничная и доложила, что подано на стол.
— Господа, пожалуйте, — встала Гоммер из своей тени. — А меня извините, — голова немного болит. После ужина, кому угодно, прошу ко мне.
Ее комната сейчас помещалась в проходной — между залом и красной гостиной. У Гоммер была странность: она постоянно передвигалась из одной комнаты в другую. Почти каждую неделю она расставляла заново мебель, цветы, аквариумы и террариумы, вешала клетки с птицами и любимые фотографии. В своей комнате днем она сидела с ногами на диване, закрыв глаза, а вечерами лежала на большой медвежьей шкуре у камина и смотрела на огонь.
Войдя в проходную комнату, еще вся под впечатлением своего решения, она зажгла камин и села на медвежью шкуру, — хотелось побыть одной. Этот момент, когда она, как с высокого холма, видит всю свою жизнь — ее грехи и ошибки, и знает, как ее искупить и исправить, так редок и так дорог!.. Какая это была жизнь! В то время, как земля носилась вокруг солнца, странники с котомками за плечами ходили по дальним дорогам, ища правды, птицы летали в поднебесье, она, как потерявший голову зверок, металась по этой даче из комнаты в комнату, стараясь заглушить в себе инстинкт большой, разумной и красивой жизни. Но убежать было некуда, так как всюду за нею шла маленькая комнатная жизнь, созданная ею, где вместо солнца и звезд горели матовые электрические фонари, вместо лесов стояли чахлые цветы в кадках, где птицы пели в клетках, а рыбы плавали в стеклянных банках, где фотографические карточки великих людей давно покрылись налетом пыли. В городе ее считали передовой, читающей, интересующейся, — посидеть у ее камина часто приезжает городская молодежь, но она сама смутно чувствовала, что среди комнатных огней, комнатных пальм и фикусов, поблекших фотографий, приученных птиц она сама постепенно делается комнатной душой….
Тихонько открылась дверь и вошел Иосиф, — она сразу почувствовала, что это — он. Он на цыпочках подошел к ней, нагнулся и обнял сзади, за плечи.
— Моя рыбка, ты больна на самом деле? — спросил он с печалью в голосе.
— Сядь, Иосиф… — Она повернула голову и смотрела, как он усаживается на шкуре, рядом с нею. Сердце ее начинало сильно биться.
— Иосиф… Я решила уйти отсюда… Я не содержанка!
Иосиф видел, как один уголек навис над краем камина и мог выпасть на медвежью шкуру, и это его очень беспокоило.
— Ты слушаешь? — спросила Гоммер, настораживаясь.
— Слушаю, — тотчас ответил он и носком сапога ловко продвинул уголь обратно за решетку. — Слушаю, моя рыбка. Но куда же ты уйдешь?
— К тебе, конечно.
Настала долгая пауза.
— Ну же, мой рыцарь?.. — с робкой улыбкой посмотрела Гоммер ему в лицо, чувствуя, что ее сердце сжалось в комочек.
— Это невозможно, — изменившимся голосом, откуда-то издалека, ответил, наконец, Иосиф.
— Почему же, милый? — она уже не была уверена, что ее решение, действительно, разумно.
— Это совершенно невозможно, — повторил Иосиф. — Ты забываешь, что я товарищ прокурора.
Тра-та-та… Тра-та-та… как поезд на рельсах, сам увлекаясь и воодушевляясь, он заговорил о грехе соблазна малых сих, о долге, о бедном муже, которого уход ее, несомненно, убьет… Гоммер слушала и ничего не понимала, — у нее было такое чувство, что она вся мерзнет, точно на берегу холодного моря…
Около двери послышались шаги. Товарищ прокурора вскочил и сел на кушетку. В комнату вошли гости и муж.
— Прелестница, — сказал тоненьким блаженным голосом пьяный Иван Прокопьевич. — Разрешите полежать на диванчике… Можно, прелестница?
— Ложитесь, — ответила Гоммер.
— Господа, поздравьте, — мрачно сказал Фисиков, усевшись в темном углу, по обыкновению — вдали от всех. — Я научился порядочно лаять по собачьи. Когда ехали сюда, я своим искусством взбудоражил всех собак в городе. Игра натуральная.
Ему никто не ответил. Было слышно, как огоньки перебегают с одного угля на другой. Гоммер приподнялась, достала с этажерки газету и бросила в камин. Пламя зашуршало, осветило неподвижно сидящих людей и быстро померкло. На диване сладко всхрапнул толстый Иван Прокопьевич.
И вдруг из дальнего угла раздался вой — безнадежный, унылый, почти спокойный. Так воют волки в пустой степи, зимою, когда на сотни верст видны лишь небо да белая равнина, вой ненужный, никого не зовущий, ни о чем не просящий.
— Оставьте, Фисиков. Скучно, — сказала Гоммер.
Вой прекратился. На диване громко храпел пьяный Иван Прокопьевич. Последние угольки в камине погасли.
— Пора по домам, четвертый час, — сказал Фисиков, вставая и гремя креслом. — Будите Ивана Прокопьевича!..
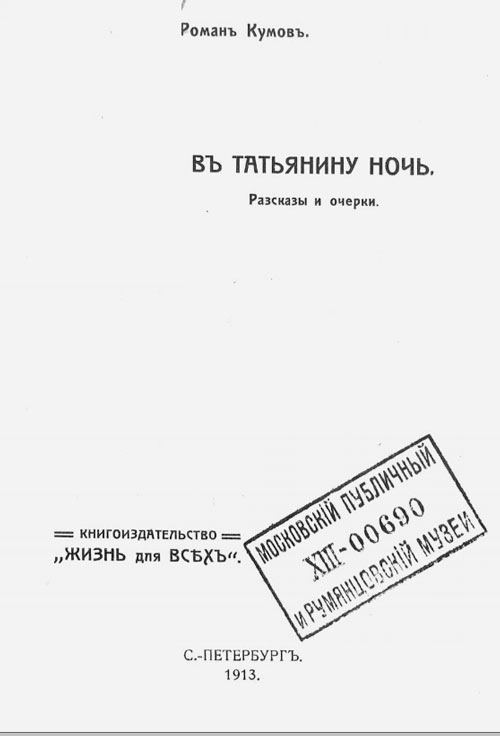
Комментировать