- Турист
- Казнь
- Бессмертники
- Сюжет для рассказа
- Свадьба
- Перед жизнью
- Юбилей
- На зимней даче
- Мгновение
- Учительница
- Мужики
- Архимед
- На кладбище
- Песня
- Лиза
- Ученый
- Проповедь
- В ссылке
- Несчастье
- Рахиль
- В Татьянину ночь
Свадьба
Очерк
— Тише, тише, голуби! — говорит ямщик и осторожно направляет лошадей прямо в закрытые ворота. Ворота не заперты, лошади мордами раскрывают их, и мы въезжаем на постоялый двор.
Знаете ли вы эти провинциальные постоялые дворы — где-нибудь в глухом селении, заброшенном среди степей? В них есть что-то старое, заветное, и когда вы въезжаете через высокие темные ворота с большим подгнившим навесом, вам чудится, что вы уже видели когда-то этот громадный пустырь, поросший лебедой и лопухами, навесы у забора для лошадей, кухненку с белою покачнувшеюся трубою и длинный нескладный дом, разделенный на две половины: хозяйская и гостевая. Кажется, пройдут века, пролягут железные дороги, а где-то в глуши, в сердце земли, останутся эти гостеприимные постоялые дворы с веселым ночным огоньком, как символ великой безысходной власти земли.
Тарантас остановился около крыльца. Мы вылазим, и пока ямщик сносит вещи в комнату, стоим на ступеньках. Тихий благодатный вечер захолустья покоится над двором. Скрипит журавель у колодца, блеют коровы, недавно вернувшиеся со степи, где-то на улице, наверно, у лавочки со спичками, грязными старыми конфектами и дегтем, наигрывает гармоника. Из дома выходит хозяин, пожилой казак в широких штанах с красными лампасами. Здоровается, спрашивает, откуда мы.
— А у нас веселье сегодня! — говорит он. — Брат женит сына.
Вещи внесены в комнату. Мы тоже прошли в дом и попросили самовар. Комната была большая, с огромными окнами. В переднем углу перед темными иконами мерцала голубая лампадка. Мебель была топорная, солидная, дедовская, и, кажется, должна была пережить еще несколько поколений этого дома. На стенах висели лубочные олеографии, изображавшие войну русских с турками.
— Вот, и у ночлега! — с наслаждением потянулся мой Иван Иванович. — Теперь чайку, а потом бай бай… Вы как?
— Любопытно бы взглянуть, как у них справляется свадьба.
— Очень просто. Перепьются, как скоты, и заснут. Только и всего.
— Нет, я хотел бы посмотреть, — упорствую я.
— Ну, что же, смотрите. А я лягу спать.
Но после чая он делается милостивее, и когда к нам приходит хозяин и от имени брата просит пожаловать на свадебку, он скоро дает свое согласие. Мы умылись, надели чистое платье и отправились. Прежде чем попасть на свадебное пиршество, мы обошли площадь, на которой стоял постоялый двор. Площадь большая, пустынная, — по-видимому, когда занимали ее, мало думали о тесноте. Посередине ее поднималась церковь. Белая, высокая, она была единственным сооружением в станице, над которым работали любовно, сообща, и в которое вложили необычную возвышенную мысль — о любви и правде. Когда-то, лет двести назад, запала в души станичников эта светлая мысль о большом белом храме, объединила их и воздвигла высокую стройную церковь. Но, очевидно, это была вспышка, и дальнейшие поколения забыли грезу предков о светлом белом храме, обратили церковь в обыденное здание, куда заходили только по привычке. И высокая белая церковь потускнела, золото чернело, как гниль на белом прозрачном яблоке, штукатурка осыпалась. Древняя церковь стояла на огромной площади станицы, как поруганная и забытая сказка прошлого.
Станица была небольшая. Отсюда, с площади, было видно, как со всех сторон надвинулись на нее высокие меловые горы. Станица лежала в провале между гор и казалась большим темным гнездом, запрятанным от людей неведомой огромной птицей.
Мы вошли в дом, где справлялась свадьба, в самый разгар веселья. Посреди огромной комнаты, очень напоминавшей ту, в которой мы остановились, ходили взад и вперед, взявшись за руки пары. Плясали ли они или гуляли, — сразу нельзя было разобрать. Но они пели. Пели какую-то старинную песню про невесту, которая ждет своего жениха из похода. Начиналась она одиноким запевом — тонким и жалобным, как крик птицы, у которой отняли родное гнездо, запев подхватывали все присутствовавшие и в комнате висла старая, подернутая грустью песня. Певшие, в такт песне, ходили взад и вперед по комнате, словно живописуя грустный мотив, и оттого казалось, что видишь глазами какую-то старую, как степной курган, картину…
В углу, под иконами, нам указали жениха, и невесту. Жених казался мальчиком — худеньким, бледным, с несуразными белыми усами. Было что-то наполовину отжившее в его серых мутных глазах и старческой манере сидеть сгорбившись. Невеста была полною противоположностью: рослая, косая сажень в плечах, сильная, — она была бы красива, если бы не нижняя часть лица — длинная и узкая, как у лошади. Но в ней было много молодости, свежести, и это окутывало ее, как самая дорогая одежда. Оба молодые сидели неподвижно на своем почетном месте, и по улыбке, застывшей у обоих на губах, улыбке приличия, было заметно, что они порядочно утомлены. Мне хотелось заметить у молодого сознание настоящего момента, веселое сознание, что эти яркие огни, гости, песни — для него. Ведь больше в жизни он уже никогда не взойдет на эту нарядную высоту и никогда на него не будут устремлены любопытные взоры людей. Но ничего сознательного не виднелось в его больших рано выцветших глазах. Кажется, ему хотелось бы прогнать гостей и затушить огни. А она? Она была чужая в этой толпе. Кажется, почувствуй она себя дома, померкли бы грустные старинные песни, и безудержная радость молодости и силы запела бы веселую счастливую песню.
Но в этом свадебном пиршестве безусловно была жизнь. Кто-то давал ему душу, правда, своеобразную, может быть, не совсем подходившую к веселому празднику, но живую и искреннюю. Кто же? Это стало понятно через некоторое время — после небольшого перерыва между танцами, когда гостей угощали чаем. Характер танцев переменился. В углу, около молодых, заиграла гармоника, и гости, один за другим, важно и таинственно выплывали на середину комнаты, на мгновение замирали и вдруг тонули в бешенном жгучем танце. Ах, как плясали они! Дрожал пол, мелькали платья и что-то увлекающее, как пламя, захватывало душу и гнало на середину в веселый пляс. И здесь, в этом веселом священнодействии в честь и славу молодых, выделялась женщина — уже не молодая, в белом простом наряде, с трогательно кротким и милым лицом. Мне сказали, что это мать молодого. В ней чудился большой трогательный талант — талант женственности, — настолько большой, что его не могли уничтожить станичная грубость, обыденщина, женские слезы. В ее синих небольших глазах можно было заметить, что она способна порой помечтать, потосковать увлечься, как только может увлекаться святое женское сердце. И теперь, в этом веселом брачном празднике, она была душой, и под ее невидимым влиянием праздник переливался всеми цветами — то грустный, как тоска матери, у которой навсегда отобрали сына, то веселый и бешеный, как короткое дорогое счастье…
Гости куда-то уходили из зала, наверно, в комнату, где была приготовлена закуска, а в зале все время, не переставая, стоял пляс. Мы отказались от всякого угощения, поместились в уголке — в тени и смотрели на веселую нарядную толпу. Здесь были военные старый есаул с большими нашивками на рукавах и молодой сотник, жгучий и стройный, как тополь. Старик сидел около молодых и, кажется, весь был занят высоким достоинством своего положения. Иногда, когда ему особенно нравился какой-нибудь необычно смелый размах в танце, он вскрякивал и махал рукой. Сотник стоял около двери рядом с бледной худенькой девушкой и что-то говорил ей. Быть может, под веселый пляс он шептал ей про любовь, про то, что жизнь хороша и долга, и что как бы прекрасно было идти с ней вместе, рука об руку. Остальные гости были не ярки. В нарядных одеждах, от которых пахло старыми сундуками, они сливались в одну массу — живую, праздничную, но безличную. И на фоне их, как царевна среди подруг, ходила кроткая милая женственно изящная мать молодого.
А пляс рос. По мере того, как заходили гости в буфет, оживление поднималось и скоро должно было достигнуть своего венца. И вот точно ветер подул откуда-то, вдруг страшно быстро заходили по зале танцующие, Бешенным вихрем промчались впереди всех молодой сотник с бледною хрупкою девушкой. Оба порозовели, заблестели глаза, и казалось, их кружит сама жизнь — кипучая и огромная. За ними, махая руками, с какою-то старухою в белом чепце, пошел старый есаул. Двинулись следом остальные гости — шумно и быстро, как осенние листья под ветром. И все закружилось. Где-то в углу играла музыка, но она отставала от быстрого темпа танца. Пляс рос ежесекундно, и казалось, вот-вот не выдержат тонкие деревянные стены и расползутся врозь, и шумный вихрь прольется на улицу, как искристое вино, переполнившее чашу. Из буфета вышел священник и — не устоял: взмахнул руками, и его черная ряса смешалась с цветными платьями и синими мундирами. Раз, два, три, — выкрикивал кто-то воздух густел, свечи горели тускло, а бешеный веселый танец не утихал. Подбоченившись, гордая, как лебедь, кружилась мать молодого. Порой она наклонялась к полу, стучала рукой по доскам и кричала: «наша взяла, наша взяла!». Потом поднималась и снова замирала в бешеном вихре.
К концу танец ослабел и прекратился незаметно, точно растаял. Опять запели грустные песни — про невесту, которая ищет своего жениха из похода. Заводила песни старуха, бабка молодого. Она уже не могла плясать и только ударяла в такт песне костылем о пол, а гости ходили по залу тихо и задумчиво, как сама песня. И было странно это грустное раздумье на веселом свадебном пиру. Откуда оно, что знаменовало? Мне кажется, это знала лучше всех невеста. По ее девичьему лицу, сквозь веселую улыбку, проплывали порой грустные далекие тени…
— Догорай, моя лучина,
Догорю с тобою я, —
пели гости и тихо, словно задумавшись, живописали песню в плясе….
— Кажется, они уже отпевают молодых, — заметил Иван Иванович, — Пойдемте спать.
Мы незаметно проходим в сени, оттуда на крыльцо…
Утром мы просыпаемся рано, приказываем запрягать и потихоньку уезжаем. В доме все спят после ночного разгула. Нас провожает только хозяин.
— Ну, как понравилось вам вчера? Только почему же вы не остались до конца? Вас везде искали, искали… — он задумывается и вздыхает, — Только теперь уже не то, что раньше. Раньше целую неделю свадьбу играли и ничего, никто не уставал. А теперь ночку попировали, а уж дальше не можем. Сил не хватает. Вот и у меня голова кружится. Стар стал. Как-никак, а года берут свое…
Мы усаживаемся и прощаемся.
Когда лошади медленно поднимаются на гору, мы слазим и идем пешком. Позади уменьшается станица, ширится горизонт, и нам теперь видны река, лес на том берегу, какое-то строение на воде, вероятно, мельница. На самом гребне мы останавливаемся. Под нами бездна, в которой засела станица. Отдельных домов не разберешь, все слилось в одну кучу серого камыша, которым накрыты крыши. Только церковь высится — белая, стройная, и отсюда она уже не кажется облезлой, позабытой. Она — точно ангел, поднявшийся над маленькой станицей. Мы стоим над самым обрывом, и жуткое странное чувство охватывает нас: нам кажется, что мы — орлы, в поднебесье, широко распластали свои крылья. И видно нам, как глубоко внизу упала станица, белеет церковь, где-то в стороне дымится река. А за нею, по полугоре, обнявшись, как две сестры, бегут куда-то рядом две дороги…
Лошади вздохнули, мы садимся опять. Теперь перед нами степь — далекая, ровная, синяя. Посреди бежит наша дорога — молчаливая и одинокая, и нам вдруг делается грустно. Чего-то не хватает, что-то осталось там — позади. Кажется, не хватает вчерашних огней, веселого пляса и того незримого, трогательного, прекрасно-грустного, которое чудилось нам на пиру.
Всходит солнце.
Экипаж постукивает в рытвинах, колокольчики звенят под дугой. И в серебряном перезвоне их чудится вчерашняя музыка, вчерашние лица, веселый праздник. А степь молчит и, безответные, одиноко звенят колокольчики. И рои милых далеких лиц сходят из звона, окружают, вьются, и ах, как страстно, как мучительно хочется счастья!.. Где оно, когда окончится эта дорога, и что там — впереди?..
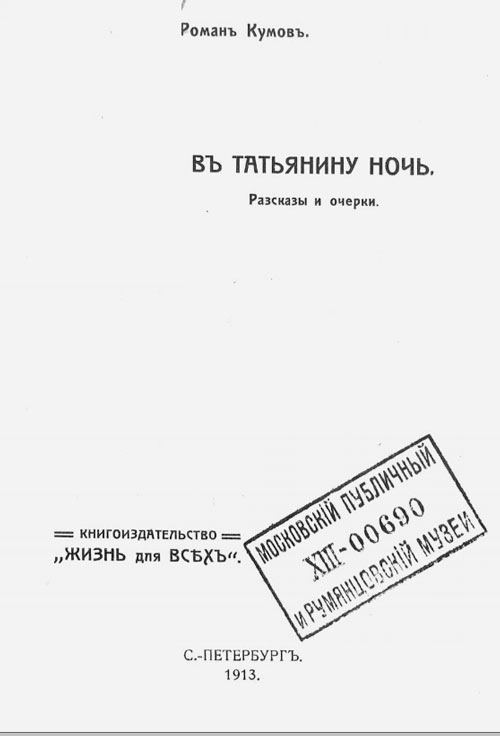
Комментировать