- Турист
- Казнь
- Бессмертники
- Сюжет для рассказа
- Свадьба
- Перед жизнью
- Юбилей
- На зимней даче
- Мгновение
- Учительница
- Мужики
- Архимед
- На кладбище
- Песня
- Лиза
- Ученый
- Проповедь
- В ссылке
- Несчастье
- Рахиль
- В Татьянину ночь
Юбилей
Рассказ
Гости разошлись перед рассветом. О. Варнава, юбиляр, провожавший с фонарем гостей через темный мокрый сад, вернулся в дом, постоял с женой около стола, где были разложены подношения, почесал больной бок и сказал жене:
— Да, мать, юбилей! Завтра о. Митрофан утром придет писать в «епархиальные ведомости» описание торжества. Ты его угости получше.
Поговорили еще немного и разошлись спать. О. Варнава, не раздеваясь, прилег на кровать немного отдохнуть и задремал. Когда он проснулся, через раскрытое окно светило солнце, в саду звенели чайной посудой, и был слышен тонкий сладкий мужской тенорок.
— О. Митрофан! Биограф!
Когда о. Варнава, умывшийся, в белой свежевыглаженной рясе, вышел в сад, жмурясь от солнца, все были в сборе, за столом, под грушей: жена, свояченица, два сына семинариста, о. Митрофан. При его приближении все почтительно встали.
— Как спали, дорогой юбиляр? — тоненько спросил о. Митрофан, — А мы здесь, грешным делом, чаюем.
— Дело доброе, — ласково сказал о. Варнава.
— О. Иван уехал уже. И о. Тит тоже, — рассказывал за чаем о. Митрофан — тоненько, точно пел. — О. дьякон Семен Гаврилович тоже уехал… Ах!
В стакан рассказчика упала с дерева большая тяжелая желтая Груша.
— Плод! — сказал о. Митрофан.
После чая о. Варнава таинственно подмигивает гостю и оба встают.
— Ну, мы пойдем с о. Митрофаном, у нас важное дело… Чтобы было тихо, ни-ни!
Все молча принимают приказ и делают вид, что ничего не знают.
О. Митрофан располагается в кабинете. На столе перья, карандаши, флакон чернил. Сам юбиляр тщательно закрывает все двери.
— Ну, пиши! Сообразуйся, как учили нас в семинарии, и пиши. Я не буду тебе мешать.
Он уходит в зал и здесь начинает ходить из угла в угол. Приятное волнение мало-помалу овладевает им. Вот здесь, за дверью сидит человек и пишет о нем. Статью напечатают и все в епархии прочтут. Лестно!
Он подходит к двери и стучит двумя пальцами.
— Пишешь? Ты изобрази точно: от прихожан икона св. апостола Варнавы, на кипарисовой доске, с металлическими украшениями.
— Хорошо.
Он опять ходит из угла в угол и снова подходит к двери.
— Не забудь: две телеграммы. От генерал-майора и кавалера Беликова, бывшего здешнего помещика. Ее содержание: «поздравляю». И от священника о. Хрисанфа Попова, бывшего сослуживца: «дорогого сослужителя братски приветствую» …
Через две минуты он стоит в кабинете, около стола.
— Ты не торопись. Над нами не каплет, слава Богу. Пропустил: учитель церковноприходской школы читал стихи своего сочинения?
— Пропустил, — сконфуженно говорит о. Митрофан.
— Вот видишь!
Он снова в зале. Конечно, описание вчерашнего торжества лестно, но ведь и взять во внимание — за что это торжество! Шутка сказать — 50 лет! Пятьдесят лет прослужить в глухой деревушке… Вон в Прохвицах, соседнем селе, не держатся священники: прослужит год и уходит — «жить не на что, врачебной помощи нет, от города далеко» … А у него отцовские наследственные капиталы, что ли, есть? А он, семидесятилетний старик, с старухой женой, не болеет? А он детей не учит в городе? Если принять во внимание все это…
— О. Митрофан, ты пиши, за что вчерашнее торжество было… Врачебной помощи нет, жить не на что, детей учить далеко…
— Хорошо, хорошо…
Мысли у о. Варнавы, разгораются. Конечно, описать одно вчерашнее торжество мало. Если писать, так писать. Вот он прослужил здесь пятьдесят лет, и ему — торжество. А отец тут служил в псаломщиках семьдесят лет, как один денек, и ему ничего, медной медали не дали. Сколько вынесено голода, холода, страшно сказать!
— О. Митрофан, ты и про отца напиши. О нем никто не писал… Пусть знают!..
— Пожалуй, длинно будет. Описание юбилейных торжеств бывает кратко: какие речи, какие подношения…
Ничего, о. Митрофан! Ведь все святая правда!
О. Митрофан пишет, а о. Варнава ходит по залу из угла в угол. В мыслях его пожар. Если писать, так писать! Вот эта деревушка, в которой он служит, — темная, как осеннее почерневшее поле, — разве она была описана? Разве знают на свете, как здешний мужик страшно голодает страшно пьянствует, какой он круглый невежда, как он беспомощен во всем, как ребенок, и как мягок и добр, несмотря на нужду и болезни? Нет, если писать, так писать!
— О. Митрофан! Ты и о приходе напиши. И подробно.
— Пусть знают! — продолжает он размышлять в зале. — А то: «поп, хи-хи да хо-хо»… Вот прочти, небось не засмеешься!
— О. Митрофан, напиши, что тридцать лет назад, на Успенье, утром, сгорел мой дом, а я из алтаря в окошко смотрел, а выйти не смел, — литургию совершал…
— Напиши, что осенью от голодухи и огненной лихорадки в нашем приходе мрет до 200 человек, а всего у нас около четырех тысяч…
— Напиши, что службу мы совершаем холстинных крашенных ризах, а обедню в голодные года служим раз в два месяца за неимением просфор.
— О. Варнава, не напечатают! — пашет рукой в отчаянии о. Митрофан. — Усмотрят ропот.
— Да ведь правда! — горячо восклицает о. Варнава. — От точки до точки святая правда.
— Варнава Филатич, на стол подано, — докладывает жена через дверь, не входя в зал.
— Уходи, уходи. Не до обеда теперь!
Но окончить сегодня не удается. О. Варнава только что скажет, что надо писать, как следом выплывает другое — такое же острое, больное, как заноза, о котором непременно нужно рассказать… О. Митрофан, мокрый и красный, давно снял рясу и подрясник.
— О. Варнава, может, мы до завтра отложим? Ведь, должно быть, еще много писать? — говорит он безнадежно.
— Много, — тяжело вздыхает хозяин. — Что ж, до завтра, так до завтра. Пойдем обедать!
Писали на другой день, на третий, на четвертый. О. Варнава уже не ходил по залу, а стоял у двери и диктовал.
На пятый день о. Митрофан дописал последнюю строчку и спросил:
— Все?
О. Варнава подумал и ответил:
— Все.
— Целая книжечка! — сказал о. Митрофан, сложив вместе исписанные листы и подписываясь под рукописью:
— Сослужитель, младший священник Митрофан Предтеченский.
— Да. Пусть знают!
Переписали, сдали в волостное правление и стали ждать.
О. Варнава думал, что из редакции ему тотчас пришлют письмо, в котором редактор выскажет ему удивление, как это он, почтенный старец, терпит такие страшные лишения, как несчастны и бедны мужики, — вообще хорошее, ласковое, сочувственное письмо. Прошло два месяца, а письма не было. Очевидно, в редакции не было обычая писать такие письма… Стали ждать, когда статья будет напечатана.
Прошла осень, зима. Весною, по совету о. Митрофана, о. Варнава написал старшему сыну, чтоб он справился в редакции относительно рукописи. Сын справился и написал, что рукопись не будет напечатана.
— Вот оно, какое дело! — сказал о. Митрофан, выслушав письмо.
— Я знаю, почему не напечатали, — сказал о. Варнава. — У меня в консистории есть враг. Он вредит.
— Как же теперь быть… Разве пошлем в светский журнал?
— А напечатают?
— Кто знает. Попробуем.
— Погоди, я подумаю.
Через день о. Варнава решил:
— Что ж, в светский, так в светский… Я так рассуждаю, о. Митрофан: и среди светских господ журналистов, несомненно, есть люди, служащие истине…
Опять переписывали, сдали в волостное правление и стали ждать. Ровно через месяц получился ответ:
«К сожалению, редакция не может воспользоваться присланным материалом. Рукопись при сем прилагается» …
— Я знаю, почему не напечатали, — сумрачно сказал о. Варнава. — Цензура! Им «хи-хи, да хо-хо» про попов писать можно, а за правду — в Сибирь!
— Разве за границу послать? Там все печатают, — сказал о. Митрофан.
— На нашем языке?
— Язык, конечно, перевести нужно.
В глазах о. Варнавы забегали огоньки тоски, отчаяния и упрямства. Он ударил кулаком по столу.
— Что ж, за границу, так за границу. Пусть знают!
На другой день он, не доверяя дела сыновьям, поехал в город искать переводчика.
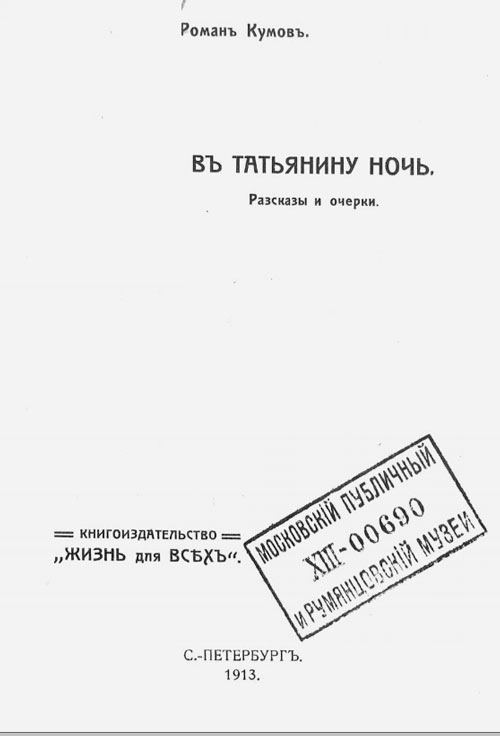
Комментировать